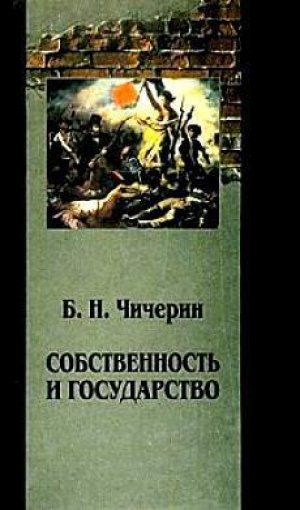
Книга I.Право
От автора
Посвящается русскому юношеству
Вам, молодые силы, готовящиеся принести свою дань историческим судьбам отечества, посвящаю я эту книгу. Много лет своей жизни положил я на служение умственным интересам молодого поколения, и, может быть, не без некоторой пользы. Во мне живы еще воспоминания о тех выражениях сочувствия и благодарности, которые довелось слышать при прощании с студентами и которые и впоследствии доставляли отраду при случайной встрече с бывшими слушателями. Судя по ним, я могу думать, что брошенное семя не пропало даром, и это дает мне решимость снова, хотя уже не с кафедры, послать это слово русской молодежи.
Ныне это нужнее, нежели когда-либо, ибо настали тяжелые времена. Страшные злодеяния потрясли всю русскую землю и заставили содрогнуться всякого, в ком не исчезло нравственное чувство. Они раскрыли перед нами ужасающую бездну зла, которое вселилось в наше общество, грозя ему разрушением. Врачевание этого недуга составляет самую настоятельную нашу потребность.
Но излечить нравственную болезнь можно только понявши, откуда она происходит. В чем же кроется ее источник?
Он лежит в извращенных понятиях, из которых рождаются извращенные идеалы. Задача науки — рассеять этот мрак, и она одна в состоянии это сделать. Полицейские меры охраняют порядок на улицах, порядок в умах может водворить только свет разума.
Но где искать этого света? К нему стремится юношество, его оно жаждет. Чем утолить его жажду?
Многие указывают вам на передовые идеи, составляющие будто бы задачу будущего, последнее слово науки. Юношество всегда падко на новое слово; оно считает себя носителем будущего. Но где ручательство, что это новое слово есть истина? В погоне за новизною легко принять за высокую идею обманчивый призрак и за последнее слово науки одностороннее увлечение легкомыслия. История учит нас, что нередко то, что вчера возвеличивалось до небес, сегодня отвергается с презрением, а завтра, может быть, опять получит власть над умами. Вспомним то обаяние, которое имели над современниками различные философские системы, из которых каждая думала новыми, неожиданными взглядами разрешить все задачи человеческого ума. Те, которые не поддаются всякому дуновению ветра и зарево пожара не принимают за сияние солнца, знают, что так называемое ныне новое слово не что иное, как старый бред, который приобрел только новую силу, потому что попал в более взволнованную и менее просвещенную среду. Переменчивые направления общества не могут служить мерилом истины; в них временное перемешивается с постоянным, и внушения страстей слишком часто заступают место трезвого взгляда. Особенно во времена брожения обыкновенно всплывает наверх именно наиболее легковесное. Чтобы отличить истину от лжи и прочное от преходящего, надобно в себе самом носить мерило истины. Оно должно стоять выше борьбы страстей и односторонних увлечений, озаряя ровным светом всякое жизненное явление и тем давая нам возможность уразуметь его смысл. Именно к этому ведет нас строгая наука, и к этому должно стремиться юношество, серьезно понимающее свое призвание. Погоню же за новейшим и передовым словом следует предоставить ветреным поклонникам моды, вечно приноравливающим свои мнения к общему потоку. Ничто так не оправдывает упрека в легкомысленном подражании чужому, который столь часто делается поверхностному русскому образованию.
Другие говорят вам: обратитесь к своему народу, берите у него уроки, проникайтесь его идеалами! Уважение к своему народу, к его преданиям и привязанностям, бесспорно, высокое и святое чувство. Оно бесконечно выше легкомысленной погони за новизною. Каждый гражданин не иначе как с трепетом должен касаться народной святыни; посягать на нес есть преступление против отечества. Но и народные воззрения изменчивы: прошедшее не может служить мерилом будущего. В особенности не в понятиях простонародья, которые так часто выдают вам за народную мудрость, может образованный человек найти мерило истины и идеалы общественной жизни. Кто вкусил плодов науки, для того мерилом истины может быть только то, что покоится не на темных инстинктах, а на разумном убеждении; для него общественным идеалом может представиться лишь такой быт, который вмещает в себе начало свободы. Русский человек не может забыть, что народ наш не далее как вчера вышел из крепостного состояния, тяготевшего над ним в течение веков. У него ли искать идеалов для свободного человека? Они вырабатываются единственно свободною жизнью. Для нас они лежат не в прошедшем, а в будущем.
Станем познавать себя и свой народ; таково первое требование разумной человечности. Но вспомним при этом, что чем более народ живет своею особою жизнью, чем более он отворачивается от других, тем менее он способен познать и других и себя. Как человек, по выражению поэта, познает себя только в человеке, так и народ познает себя только в других народах. Чтобы достигнуть истинного самопознания, надобно выйти из узкой народной среды, надобно выступить на то широкое поприще, где свое и чужое сливаются в одно торжественное шествие всемирной истории, изображающей развитие единого Духа, проявляющегося в различных народностях. Именно этот путь указывается нам наукою, и здесь только мы можем обрести и мерило истины, и идеалы общественной жизни.
Мерило истины есть сам Разум, познаваемый в его существе и в его проявлениях. Первое дается нам философиею, второе — историею, которая служит подтверждением и поверкою философии. Отсюда же почерпается и истинное понимание общественных идеалов. Только тот идеал может быть целью стремлений образованного общества, который прошел через это двоякое испытание: он должен быть проверен разумом и приготовлен жизнью. То, что есть, не может быть мерилом того, что должно быть; но то, что должно быть, опирается на то, что есть. Будущее осуществимо, только когда оно основано на прошедшем. Истинный идеал, заключающий в себе жизненную силу, развивается исторически: иначе он не что иное, как праздная мечта.
Что же скажут нам философия и история относительно истины и относительно вытекающих из нее общественных идеалов?
Первая, неизгладимая черта человеческой природы, о которой одинаково свидетельствуют и философия, и история, есть стремление человека к познанию абсолютного, все равно, проявляется ли это стремление в форме религии или в форме философии. Связывая человека со всем мирозданием и возводя его к верховному источнику всего сущего, оно ставит его на ту высоту, которая одна совместна с его человеческим призванием. Когда в настоящее время, под влиянием далеко распространившегося скептицизма, вам торжественно объявляют, что абсолютное непознаваемо, когда с каким-то злорадством стараются доказать, что человек не более как усовершенствованный потомок обезьяны, подобно животным не способный подняться выше относительного, не верьте этим лжеучениям, лишающим человека благороднейшей части его естества. Это голос не науки, а одностороннего и ограниченного ума, который, постоянно роясь в частностях, потерял способность возвыситься к созерцанию общего. Истинная наука есть явление Разума во всей его полноте, а Разум, по существу своему, есть отражение божественной истины, познание вечных, абсолютных начал, управляющих вселенною. Только возвышаясь к этой точке зрения человек становится истинно разумным существом, и только эту точку зрения можно назвать в собственном смысле научною. Она-то и раскрывается нам философиею и обнаруживается в историческом движении человеческой мысли. В ней только мы найдем искомое мерило истины и ключ к пониманию всех человеческих отношений. Философия и история раскрывают нам и другое, неотъемлемо присущее человеку стремление, — стремление к свободе. И оно вытекает из самой глубины Духа, составляя лучшее его достояние и высшее достоинство человеческой природы. Как носитель абсолютного, человек сам себе начало, сам — абсолютный источник своих действий. Этим он возвышается над остальным творением, и только в силу этого свойства он должен быть признан свободным лицом, имеющим права; только по этому с ним непозволительно обращаться как с простым орудием. История живыми чертами свидетельствует об этом начале, как о неискоренимой потребности человека и высшей цели его исторической деятельности. Отсюда то обаяние, которое имеет свобода для молодых умов. Юношество всегда готово увлекаться ею даже через меру. И не одни юноши воспламеняются ею; и для зрелого гражданина нет высшего счастия, как видеть свое отечество свободным, нет краше призвания, как содействовать, по мере сил, утверждению в нем свободы. В последние годы в русском обществе явилось стремление обращаться к людям сороковых годов, узнавать, каковы были их идеалы, в чем состояли их цели и надежды. Все это сосредоточивается в одном слове: свобода! Мы, воспитанные этим благородным поколением, которое является светлою точкою в истории русского просвещения, мы получили от него один урок, один священный завет: насаждение свободы в нашем отечестве. Отсюда та беспредельная благодарность, которая наполнила наши сердца, когда эти заветные мечты стали сбываться, когда свобода державною рукою была посеяна на русской земле и миллионы рабов, по мановению Царя. получили вольность. Отсюда тот ужас, который объял всех верных сынов России при виде того воздаяния, которое довелось стяжать Совершителю этого великого дела. Казалось, вес нравственные понятия рушились, всякая историческая справедливость исчезла. Вместе с народною святынею, вместе с отечеством, которого знамя было Ему вверено, была оскорблена и поругана и вызванная Им к жизни свобода. Ей нанесена рана, от которой она не скоро оправится. Нам, ныне действующим, и вам, служителям будущего, предстоит загладить этот позор, искоренить плевелы, заглушающие доброе семя, и приготовить для свободы почву, где она могла бы пустить прочные корни. Этим мы исполним завет наших предшественников. Этого требует от нас отечество, задержанное возникшею в нем смутою в своем правильном гражданском развитии.
Не думайте, чтоб возлагаемое на вас дело было бременем легким. Водворить и упрочить свободу в обществе, привыкшем единственно к власти, составляет одну из самых трудных исторических задач. Недостаточно постоянно носить имя свободы на устах. У недостойных ее поклонников это имя кощунственно обращается в пустой звук или, что еще хуже, в орудие разрушения. Всего оскорбительнее звучит оно в устах социалистов, которых все учение не что иное, как отрицание свободы и порабощение лица чудовищному деспотизму созданного их фантазиею общества. Кто хочет быть истинным служителем свободы, тот должен знать, в чем состоит ее сущность, откуда она истекает, каковы ее требования и условия, каким образом она сочетается с другими вечными началами общественной жизни, с порядком, с собственностью, с наследством, с правом, с нравственностью, с государством. Нужно наконец и умение прилагать ее к жизни: свобода не приобретается даром; ее надобно заслужить. Как все человеческое, даже как все органическое, она составляет плод долговременного и многотрудного внутреннего процесса, и если человек, в своем невежестве и в своем нетерпении, забегает вперед и хочет установить то, что не приготовлено развитием жизни, неумолимый закон природы и истории возвращает его назад, как бы в наказание за его дерзость.
В обществе, где свобода еще не успела окрепнуть, осторожное с нею обращение вдвойне необходимо. То, что могут выносить народы, созревшие в политической борьбе, то не под силу обществам, у которых она проявляется еще своим первым младенческим лепетом и совершает свои первоначальные робкие шаги.
В таком именно положении находится наше отечество. Свобода зародилась у нас со вчерашнего дня; мы все присутствовали при ее появлении в свет. Поэтому у нас менее, нежели где-либо, позволительно забегать вперед, предъявлять неумеренные требования, дерзновенною рукою касаться оснований общественной жизни, стремиться все к новым и новым переменам. Для всего есть свое время, и каждый новый шаг должен опираться на предшествующий. Чем громаднее совершившийся на наших глазах переворот, чем быстрее исчезнувший порядок заменился новым, дотоле у нас невиданным, тем более Россия нуждается в спокойствии, чтобы усесться на своих обретенных недавно основах, а потому тем преступнее всякая попытка внести в нее смуту и разлад. Только упрочив приобретенное, можно смело идти к будущему. Такова настоящая наша задача.
Молодое поколение в особенности, которого ожидает еще будущая деятельность, обязано перед отечеством в смирении и тишине готовить себя к этому великому служению. И чем дороже ему имя свободы, чем пламеннее оно к ней стремится, чем более оно готово все за нее отдать, тем более от него требуется, чтобы оно за свободу не принимало легкомысленное буйство и не нарушало закономерного развития, которое одно может привести народ к желанной цели. Ваша дань свободе — серьезный труд. Прежде нежели действовать от ее имени, надобно ее познать, а для этого необходимы обширные сведения, упорное напряжение ума, постижение высших задач человеческой жизни, восхождение в область метафизических идей и нисхождение в мир кропотливого опыта. Это — труд тяжелый, но он составляет священный долг юношества перед отечеством и перед свободою.
На нас же, созревшем уже поколении, лежит обязанность руководить, по мере сил, русскую молодежь на этом пути. Мы знали Россию старую и видим ее обновленную. Мы в состоянии постигнуть тот неизмеримый шаг, который совершен в столь короткое время, и можем, как очевидцы и деятели, сказать, что не легкомысленными увлечениями и не разрушительными теориями подвигается вперед дело свободы, а созревшею мыслью и самоотверженным служением отечеству, на каком бы поприще мы ни находились. Этому же нас учит и наука. Предложить русскому юношеству совместный плод научной работы и жизненного опыта, для руководства в будущей общественной деятельности — такова цель настоящей книги. Насколько мне удалось исполнить эту задачу, не мне судить. Я отвечаю за одно: за искреннее отношение к делу, а многолетний опыт убедил меня, что искреннее слово, обращенное к молодым сердцам, никогда не пропадет даром.
Село Караул. 15 сентября 1881 г.
ВСТУПЛЕНИЕ
Современное человечество стоит перед роковым вопросом. Тысячи голосов с фанатическим одушевлением повторяют на разные лады, что весь существующий общественный строй основан на неправде, а потому должен рушиться. Те начала, которыми человеческие общества жили в течение тысячелетий, которые они завоевали и упрочили своею деятельностью и своею кровью, признаются только временными историческими явлениями, долженствующими уступить место иному, лучшему будущему. Обделенные доселе массы требуют себе участия в жизненных благах, и это участие, по уверению их сторонников, может быть дано им лишь путем глубокого, коренного переустройства всех основ общественного быта. Смелые умы громко провозглашают эти учения, иные в виде страстной проповеди, другие в более или менее научной форме, и за ними, дружными полчищами, идут рабочие массы, грозя ниспровержением всему, что с таким трудом было воздвигнуто человечеством. С самых университетских кафедр раздаются голоса, которые вторят этому направлению. Слабодушные считают нужным входить с ним в сделку; более решительные прямо переходят на его сторону и создают целые научные системы, основанные на новых началах.
Современный человек стоит в раздумье. Сомнение охватывает его относительно настоящего, трепет и страх насчет будущего. Все, что ему дорого, колеблется в самых основах. Он спрашивает себя: не нарушает ли он первых начал справедливости и самых священных своих обязанностей, когда он указанными законом путями приобретает себе материальный достаток, когда он украшает свою жизнь и старается упрочить благосостояние своих детей? Перед картиною бедствий, постигающих низшие классы, ввиду беспрестанно раздающегося хора проклятий, он готов сознаться, что воздвигнутое веками здание достроено на неправде; он почти уверен, что оно должно рушиться. А между тем он не видит ничего, чем бы оно могло быть заменено. Если разрушительная деятельность выступает с неимоверною отвагою, то созидающие начала представляются лишь в самых смутных очертаниях. Существующее не дает им ни малейшей точки опоры, и строй будущего общества, который с таким фанатизмом проповедуется массам, является пока не более как мечтою, не имеющею никакого отношения к действительности. Сами предводители нового движения не обманывают себя на этот счет. Они громогласно взывают к своим последователям: "разрушайте, а там уже что-нибудь создастся само собою!" Современное человечество стоит как бы перед глубокою пропастью, в которую оно ежеминутно готово опрокинуться; но дна этой пропасти никто не видит, и какая участь может постигнуть нас при этом падении, никому неизвестно. Мрак в настоящем и еще больший мрак в будущем, таково положение нынешнего поколения.
Дело науки — внести свет в эти вопросы. Сомнения могут быть рассеяны и изуверство может быть побеждено только исследованием законов, которыми управляются человеческие общества. И для этого наука должна употребить все свои средства и орудия. ибо задача касается всех сторон человеческого существования.
Возбужденный ныне социальный вопрос был приготовлен теми политическими переворотами, которые изменили весь строй старой Европы. Средневековой порядок, основанный на привилегиях, рушился; провозглашены были начала всеобщей свободы и равенства. Скоро, однако, оказалось, что юридическая свобода и равенство не обеспечивают благосостояния масс. Миллионы пролетариев, при полной свободе, все-таки остаются без куска хлеба или пользуются самым скудным пропитанием. Прежний антагонизм между привилегированными и непривилегированными сословиями заменился антагонизмом между богатыми и бедными, между капиталистами и рабочими. С политической почвы борьба перешла на почву экономическую. Но в свою очередь, экономическая наука не в состоянии одна разрешить эту задачу, ибо экономический порядок тесно связан с юридическими началами. Пока существуют признанные всеми основания собственности, договора, наследства, до тех пор бесполезно говорить о какой бы то ни было коренной перемене существующих экономических отношений; последние неизбежно вытекают из первых. Вследствие этого экономическая наука при обсуждении социальных вопросов необходимо вступает в область права. Новейшие учебники политической экономии содержат в себе целые трактаты о чисто юридических учреждениях. С другой стороны, вопрос социальный является по преимуществу вопросом нравственным, ибо забота о благосостоянии низших классов представляется нравственным требованием. Отсюда обнаруживающееся в настоящее время стремление переделать всю политическую экономию на основании нравственных начал. Наконец, всего важнее в этом деле вопрос о значении и целях государства. Иные ожидают от него водворения всеобщего благоденствия; другие, напротив, совершенно его отрицают и только в его разрушении видят исходную точку нового, лучшего порядка вещей. Одним словом, задача требует всестороннего исследования общественных отношений, а из этого, в свою очередь, рождается стремление к объединению различных общественных наук.
Очевидно, однако, что одна опытная наука не в состоянии достигнуть этой цели. Опыт дает нам только то, что есть, а здесь вопрос идет о том, что должно быть. Сколько бы мы ни изучали народное хозяйство, право и государство в их проявлениях, мы из этого не поймем, соответствуют ли эти проявления тем высшим началам правды и добра, которые лежат в душе человека и которые он стремится осуществить в своей жизни. Эти начала могут быть выяснены единственно философиею, которая вследствие того становится высшим мерилом всех общественных отношений. Это признается и теми современными экономистами, которые, не ограничиваясь чисто промышленного областью, пытаются разрешить общественные вопросы в их совокупности. "Необходимость принципиальных исследований о правильном распределении народного дохода, — говорит Адольф Вагнер, — и потребность установить, по крайней мере для каждого века и народа, идеальную цель этого распределения, при постоянной оценке его действия на совокупную народную жизнь, может служить доказательством, что политическая экономия должна заниматься не только вопросом о том: что есть? но и вопросом о том: что должно быть? а потому должна не только изображать известные формы развития, но и требовать известных форм развития, воззрение, которое в дальнейших своих последствиях ведет к отрицанию различия между теориею народного хозяйства и хозяйственною политикою, а равно несовместно с исключительным признанием методы наведения в политической экономии"[1]. Вагнер тут же указывает на внутреннюю связь вопроса о распределении богатства с философиею права и политикою и увещевает исследователей не пугаться предостережений от идеологии, хотя бы они исходили от такого человека, как Рошер. В другом месте он говорит, что "политическая экономия и философия права должны смотреть друга на друга как на вспомогательные науки. Мы нуждаемся в философии права, продолжает он, особенно в вопросах о принципиальной необходимости государства для человеческого сожительства, о ведомстве государства, или о его целях, а также о границах его деятельности в отношении к области, присвоенной отдельному лицу и частным союзам, о правомерности принуждения в приложении к личной воле, об устроении государством личной свободы и собственности, о проведении начала распределяющей правды в распределении народного дохода и в податях" (ibid. Grundlegung, стр. 243).
Та же потребность в философии чувствуется и юристами, посвящающими свою жизнь изучению положительного права и его истории. Издавая свое философское исследование о "Цели в праве", Иеринг говорит: "Задача этой первой части перенесла меня в такую область, где я не более как дилетант. Если я когда-либо сожалел о том, что пора моего развития пала в период, когда философия была в загоне, так это именно при написании настоящего сочинения. Что тогда, под неблагоприятным влиянием господствующего направления, было упущено молодым человеком, того созревший не мог уже нагнать"[2]. И точно, читая книгу Иеринга, нельзя не пожалеть об этом упущении. Она служит поучительным примером того, как может заблуждаться даже значительный талант, при громадных сведениях, когда ему недостает философской подготовки. Мы это увидим впоследствии.
Чистые социалисты, в этом отношении, имеют преимущество перед своими противниками. Светила новейшего социализма, Лассаль и Карл Маркс, вышли из философской школы, и если они, извращая начала Гегеля, употребляют их как средства для вовсе не научных целей, то опровергнуть их опять же возможно только с помощью философии, которая одна способна обнаружить несостоятельность их доводов. Без основательного философского образования едва ли даже возможно понять надлежащим образом их аргументацию. Этим в значительной степени объясняется то влияние, которое они имеют на неподготовленные умы.
Таким образом, со всех сторон пробуждается потребность в философии. И политико-экономы и юристы взывают к ней, требуя от нее руководящих начал, ожидая от нее света для выяснения высших вопросов человеческого общежития. Но в состоянии ли современная философия удовлетворить этим требованиям?
Известно, в каком положении она находится в настоящее время. После периода неимоверного умственного движения наступила та пора упадка, о которой говорит Иеринг. Человеческий ум, неудовлетворенный результатами чистой метафизики, кинулся на другую дорогу и начал исследование с противоположного конца. Увлечение опытным знанием заменило увлечение философскими теориями. Потребность в объединении познаваемых явлений не иссякла в человеке; но думали удовлетворить этой потребности, не прибегая к метафизике или ставя ее в служебное отношение к опыту. Одни отправлялись от внутреннего опыта, другие от внешнего, и на этих основаниях строили системы, имевшие претензию объяснить явления природы и духа. Все это, однако, не могло привести ни к чему, ибо опыт не в состоянии заменить философии. В отчаянии стали отрывать из старого арсенала давно заржавевшие оружия. Начали выдвигать забытых, второстепенных и даже третьестепенных философов, провозглашая их светилами первой величины. Так внезапно получили огромную репутацию Краузе, Гербарт, Шопенгауэр, тогда как величайшие мыслители, менее доступные неискусившимся в философии умам, оставались в пренебрежении. Но конечно, этот товар второй руки не мог удовлетворить ученых исследователей. Так например, Ад. Вагнер, несмотря на свое увлечение школою Краузе, соблазнившею его пустым словом органический, которым злоупотребляют философы этого направления, сознается, что эта школа остается при неопределенных общих местах и что она не только не разрешает настоящих трудностей, но даже не понимает и не формулирует их[3]. Иеринг с своей стороны, развивая начало цели, указывает на исследования Тренделенбурга как на лучшее, что ему удавалось встретить об этом предмете; однако и тут, по собственному его сознанию, он не нашел ничего, что бы выяснило ему значение цели для человеческой воли[4]. Нередко встречаются и такие ученые, которые, как Шеффле, черпая отовсюду, стараются сочетать самые разнообразные современные воззрения, поставляя рядом Лотце, Спенсера, Дарвина; но из этого выходит уже такой хаос, в котором человек, привыкший к последовательности мыслей, не в состоянии найти никакой связи.
Наконец, многие доселе еще не понимают необходимости философии для объединения знания или принимают за философию се отрицание. Сюда принадлежит большинство так называемых социологов, а также социалистов и социал-политиков, наводняющих современную литературу массою не переваренных сочинений, которые свидетельствуют только о печальном умственном состоянии современных обществ. Цель этих писателей состоит в сведении к общим началам всех общественных явлений. К этому можно идти двояким путем: начиная сверху или начиная снизу. В первом случае надобно искать твердых философских начал, и к этому, рано иди поздно, приходит всякий серьезный исследователь, откуда бы он ни отправлялся. Во втором случае надобно сначала утвердить на прочных основаниях отдельные науки и затем уже восходить выше, стараясь восполнять одни другими. Но ни того, ни другого мы не видим в современной социологии. О философии нет речи, отдельные же науки оставляются в стороне. Не утруждая себя изучением частностей, исследователь прямо, одним скачком, приступает к рассмотрению общества как совокупного целого. Таким образом создается синтез помимо анализа, и даже помимо всяких начал, способных дать синтезу надлежащее основание. Очевидно, что из такого приема может выйти лишь здание, построенное на воздухе и разлетающееся при первом дуновении ветра.
К довершению нелепости, хотят из чистого опыта вывести идеал для будущего. Когда естествоиспытатели исследуют явления, опираясь исключительно на опыт, они не осуждают природы, не изобретают для нее новых путей, а признают раскрываемые опытом законы как нечто необходимое и неизменное. Только в силу этого предположения они достигают твердого знания. В области же общественных наук приверженцы опытного знания считают возможным отрицать как заблуждение все настоящее и прошедшее, то есть единственное, что может дать им точку опоры, и рисовать картину будущего, не имеющую никакого основания в опыте, и еще меньшее в философии. Кроме пустой фантазии, из этого, разумеется, ничего не может выйти. Идеал без философии и без опыта не что иное, как утопия. Тут остается только спросить: кто одержим безумием, человечество ли, которое, повинуясь законам своей природы, идет по известному пути, или мыслитель, осуждающий этот путь? Ответ не может быть сомнителен.
При таком состоянии науки что же остается делать исследователю? Европейский ученый знает, что ему в этом случае надобно делать: он сам предпринимает исследования и представляет результаты своего труда на суд современников. Для нас, Русских, при нашей малой научной подготовке, дело представляется гораздо более затруднительным. Мы привыкли выбирать себе какой-нибудь современный кумир и затем уже слепо идти за ним, не разбирая, куда он нас ведет. Чем новее и чем одностороннее воззрения этого кумира, тем более мы склонны ему повиноваться. К сожалению, таких божков, с утвердившеюся репутациею, в настоящее время не обретается, и те, которые всего более находят себе поклонников, всего менее имеют значении для науки. Даже ученых, прославившихся своими исследованиями в специальных частях, приходится остерегаться, когда дело идет об общих вопросах, ибо как 'только они выходят из своей специальности, так они, лишившись твердой точки опоры, теряют равновесие и совершают самые фантастические скачки. Кто хочет составить себе общий взгляд на вещи, тому, волею или неволею, приходится исследовать самому. Предаться внешнему течению значит погрузиться в хаос.
Современный исследователь не лишен, однако, всякого руководства. Несмотря на шаткость господствующих направлений, он не принужден начинать все сызнова, отправляясь чисто от самого себя. Если в мутных водах современного потока он нигде не найдет твердой земли, то захватывая глубже, он обретет незыблемую почву, на которой он может утвердиться. Человечество недаром работало в течение тысячелетий. Оно многое выяснило и установило, как относительно формы, так и относительно содержания науки. Оно выяснило те приемы, которым надобно следовать, и результаты, которые достигаются тем или другим путем. В искании философских начал мы, конечно, не можем уже довольствоваться тою или другою готовою системою: в настоящее время нет системы, которая могла бы иметь притязание на мировое значение. Но все прошедшие и настоящие философские системы связываются в одну историю философии, которая раскрывает нам законы развития человеческой мысли и тем самым дает нам твердую точку опоры для познания мысли в ее существе и в ее проявлениях.
С другой стороны, философские начала должны найти подтверждение в жизни; умозрение должно оправдываться опытом. И тут мы для общественных наук можем обрести прочное основание. Всемирная история представляет нам самое обширное поле для изучения, и если мы не будем увлекаться предвзятым направлением и все судить с точки зрения любимой своей мечты, то и здесь мы найдем непреложные законы, которые осветят нам путь и укажут цель, к которой следует идти.
Философия и история, умозрение и опыт — таковы орудия и пути, которые представляются исследователю человеческого общежития, когда он пытается объединить все относящиеся к этой области явления. Задача, без сомнения, громадная, требующая весьма значительной работы. Можно даже сомневаться, возможна ли она в настоящее время. Но если окончательное решение общественных вопросов, при современном состоянии науки, едва ли достижимо, то можно, по крайней мере, свести к общему итогу то, что выработано доселе. А в этом именно состоит насущная потребность современного человечества. Материала собрано много, но он представляется в хаотическом беспорядке. Нужно озарить его светом мысли, устранить воззрения, не имеющие научного значения и утвердить то, что уже добыто наукою, на незыблемых основах умозрения и опыта. Такая задача потребует работы более нежели одного поколения; но она достойна занять лучшие умы современности.
Устанавливая свою точку зрения на почве всемирного развития философии и истории, развития, совмещающего в себе всю совокупность элементов человеческого духа, как метафизических, так и опытных, исследователь неизбежно принужден ратовать против односторонних направлений, в какую бы сторону они ни проявлялись. В человеческих обществах противоположные течения мысли последовательно сменяют друг друга наподобие моды. Так, двадцать пять лет тому назад, в России и на Западе, общее направление умов было враждебно государству. Все должно было исходить из свободного движения общественных сил. Всякое вмешательство государства отвергалось как беззаконие и тирания. О централизации, даже в самых умеренных размерах, не смели и заикнуться; регламентация считалась преступлением. В значительных журналах ученые люди серьезно утверждали, что государство имеет право сказать: не трогай, но не имеет права сказать: давай. В то время, о котором нынешнее молодое поколение уже не помнит, приходилось доказывать, что государство есть что-нибудь; надобно было восставать против безграничного развития индивидуализма. И на это, по крайней мере в России, требовалась некоторая доля смелости: надобно было идти на то, чтобы прослыть государственником, казенным публицистом, отсталым человеком. В настоящее время движение пошло вспять; теперь приходится, наоборот, доказывать, что государство не все, и что индивидуализм имеет свою, законно принадлежащую ему сферу, в которую государство не вправе вторгаться; приходится бороться с обратным течением, опять же под опасением прослыть за отсталого человека. Ныне над самым государством воздвиглось новое чудовище, общество, которое прежде считалось совокупностью свободных сил, но теперь является каким-то таинственным лицом, поглощающим в себе не только государство, но и частную сферу, лицом, все направляющим к своим собственным целям и не допускающим никакого самостоятельного проявления жизни. В сущности, это — то же государство, только под другим названием и с гораздо более обширным ведомством. От этого молоха, которому так называемые передовые мыслители готовы все принести в жертву, приходится оберегать самое драгоценное достояние человечества — свободу и все, что связано с свободою. Рассеять туман, которым облекаются эти вопросы, обнаружить ту пустоту, которая скрывается под пышными фразами. составляет существенную задачу современной науки.
Нет сомнения, что наука исполнит эту задачу. Не пройдет двадцати пяти лет, и снова мы увидим поворот общественного мнения. Опять те, которые плывут с современным течением, забывши о прошлом, будут ратовать против государства, видеть в нем величайшего врага общественной свободы и стараться всеми мерами ограничить его деятельность. И тогда, как теперь, люди, твердо стоящие на научной почве, будут тщетно стараться воздержать современное увлечение, подвергаясь за то всевозможным нареканиям и озлоблению. Но научное сознание носит в себе и свое утешение. Оно вселяет твердую уверенность, что точка зрения, остающаяся незыблемою среди противоположных крайностей, непременно восторжествует, ибо она одна согласна с законами человеческого духа и с порядком и преуспеянием человеческих обществ. Истинная задача науки состоит именно в том, чтобы, при колебании умов в противоположные стороны, указать место и значение каждого элемента в совокупности общественной жизни.
При таких условиях сочинение, которое имеет в виду разъяснить важнейшие общественные вопросы, неизбежно должно получить характер в значительной степени полемический. Чем большему сомнению подвергаются самые, по-видимому, твердые основы общественного порядка, тем необходимее обличить несостоятельность всех направляемых против него возражений, ибо только через это истинные начала выставляются в настоящем свете и обнаруживается согласие их с законами разума и жизни. Дело идет не о том, чтобы воздвигнуть новое здание, а о том, чтобы созидаемое веками здание защитить от безумных нападок. Мы живем в эпоху софистики, а потому, волею или неволею, мы принуждены на каждом шагу ратовать против софистики. В этом отношении настоящее время представляет значительное сходство таковым же явлением в древней Греции. И там, между двумя философскими периодами, было переходное время, в котором софистика, наука относительного, господствовала безгранично. И тогда мыслителям, понимавшим истинные потребности знания, приходилось вести горячие споры. Платон, в своих разговорах, оставил нам бессмертные образцы подобной полемики. Но тогда задача была проще: нужно было только выяснять понятия. Теперь же накопился громадный материал, который необходимо осилить. Когда противники ссылаются на опыт, то надобно показать, что всесторонний опыт вовсе не оправдывает тех выводов, которые стараются из него извлечь, а, напротив, ведет к совершенно противоположным заключениям. Но через это, сочинение, которое полагает себе целью всестороннее разъяснение вопросов, по необходимости получает груз, не всегда удобоваримый. Нужен некоторый умственный труд, чтобы пробиться сквозь ту сеть софистических уловок и ложного толкования фактов, которыми опутана современная мысль. Читатель извинит это неизбежное посягательство на его терпение. Истина не дается человеку даром; так же, как хлеб насущный, он добывает ее в поте лица, и только упорно работающий достоин вкусить ее плоды.
Глава I. СВОБОДА
Человек — существо общежительное: таков первый, несомненный всеобщий факт, от которого отправляется всякое исследование общественных отношений. В животном царстве, ближайшем к человеку, мы находим множество пород, живущих одиноко; человек живет не иначе как в обществе, ибо только в обществе могут проявляться и развиваться собственно человеческие способности.
Однако и в животном царстве мы встречаем общества, даже с весьма сложным устройством, доходящим до постоянного разделения занятий. Отсюда необходимость сравнения, ибо только этим путем можно выяснить особенности человеческого общежития.
Существенное, кидающееся в глаза различие между обществами животных и союзами людей, заключается в том, что первые, в каждой отдельной породе, имеют всегда одинаковое устройство и управляются одними и теми же законами. Эти законы установлены не ими, а самою природою, которая вложила в животных известные инстинкты, неизменно направляющие их к предуставленной цели. В силу этих прирожденных инстинктов, которые составляют для них внутренний, непреложный закон, животные всегда действуют одинаковым способом. В их обществах, поэтому, не замечается развитие. Взявши всю совокупность животного царства, мы скорее найдем даже попятный ход. Самые сложные и совершенные общества встречаются у животных низшего разряда, у пчел, у муравьев; напротив, млекопитающие, ближе всего стоящие к человеку, живут или стадами, без всякой определенной организации, или даже в одиночку. Звери, занимающие, если не высшую, то во всяком случае весьма высокую ступень в животном царстве, как то львы, тигры, лисицы, живут одиноко. Объяснения этого явления следует, по-видимому, искать в том, что с высшим развитием сила инстинкта слабеет. Животное освобождается из под его власти; оно индивидуализируется, а с тем вместе слабеет и связь, соединяющая его с другими. Чтобы воссоздать эту связь путем сознания, нужно высшее, духовное развитие, которого мы не находим в животном царстве.
Это высшее начало дано в удел человеку. В противоположность животным, человеческие общества по существу своему изменчивы.
Не только каждое отдельное общество имеет свой тип и свои законы, но одно и то же общество с течением времени проходит через совершенно различные формы общежития. Причина та, что человек сам себе дает закон и меняет этот закон по своему произволу.
Это не значит, однако, что устройство человеческих обществ и управляющие ими нормы являются делом случайной прихоти людей. Природа не лишила человека руководящих начал для его жизни. И в нем есть вложенный в его душу естественный закон, который должен служить ему нормою для деятельности; но этот закон не налагает на него непреложного образа действий, которому он необходимо следует; человек может от него уклоняться. Исполнение естественного закона вверено не слепому инстинкту, всегда действующему одинаковым образом, а сознанию и свободе. Человек настолько исполняет естественный закон, насколько он его сознает и насколько он хочет его исполнять. А так как сознание и воля подлежат изменению и развитию, то и законы, управляющие человеческими обществами, изменяются и совершенствуются.
Итак, коренной признак человеческого общежития, полагающий глубокую пропасть между царством животных и царством духа, есть свобода. Человек сам себе дает закон, и по своему произволу исполняет его или не исполняет. Отсюда ясно, что всякое учение о человеческом общежитии должно начать с исследования свободы. Что такое свобода? где се корень? где ее границы? какие вытекают из нее последствия? Таковы вопросы, которые возникают перед нами, как только мы приступаем к исследованию общественных отношений, вопросы, которые имеют решающее значение для всего нашего воззрения на человеческое общежитие.
Эти вопросы носят на себе чисто философский характер. С одним опытом тут далеко не уйдешь. Опыт представляет нам одинаково и свободу, и рабство. В истории мы видим даже высоко просвещенные народы, которым человечество обязано лучшим своим достоянием и у которых, однако, все общественное устройство покоилось на рабстве. Которое же из этих двух начал согласно с природою человека? К чему мы должны стремиться? И если человеческая природа требует свободы, то откуда явление рабства и чем оно оправдывается?
Ясно, что мы от жизненных явлений должны взойти к исследованию внутренней природы человека. Чем же мы будем руководствоваться в этом изучении? Покинутые внешним опытом, который представляет нам противоречащие явления, станем ли мы опираться на внутренний опыт? Но сами приверженцы опытной методы скажут нам, что внутренний опыт в этом случае более нежели когда-либо может быть обманчив. Если мы сошлемся на то, что каждый внутри себя сознает себя свободным, то нам ответят, что это сознание происходит оттого, что мы часто не сознаем внутренних побуждений своих действий, которые влекут нас в ту или в другую сторону по законам естественной необходимости. Внутренний опыт, так же как и внешний, дает нам одни явления; он не раскрывает нам внутренних их причин; а в вопросе о свободе требуется именно постижение внутренней причины действий. Надобно понять самую сущность свободы и ее связь с сокровенною природою человека, без этого мы не в состоянии будем определить ни ее требований, ни ее границ.
Для решения этого вопроса необходимо, следовательно, возвыситься в сверхопытный мир, перейти в область метафизики, которая одна в состоянии уяснить нам нашу задачу. Если же этот мир для нас закрыт, если метафизика не что иное, как пустой бред человеческого ума, то и вопрос о свободе должен вечно оставаться для нас неразрешимым; но тогда и самое исследование человеческого общежития лишается всякого руководящего начала. Наука об обществе превращается в хаос противоречащих друг другу явлений. Именно это мы видим в современной литературе. С упадком философии устранился вопрос о существе и об источнике свободы. Одни признают ее как факт и на этом факте строят свое учение; но так как факт не исследован в своем существе и не утвержден на надлежащих основаниях, то очевидно, что и вытекающие из него последствия лишены прочного фундамента. Это — здание, построенное на совершенно произвольном предположении. Другие исследуют свободу только в ее внешних проявлениях: но так как внутренняя ее природа остается нераскрытою, то ясно, что отсюда нельзя вывести никаких руководящих начал: все ограничивается туманными представлениями, которые не выдерживают критики. Третьи, не пытаясь даже вникнуть в существо предмета, просто отвергают внутреннюю свободу на основании чисто логических соображений, и при этом, к удивлению, крепко стоят за свободу внешнюю, как будто последняя не почерпает свою силу и значение единственно из первой. Четвертые, наконец, держась чисто опытного пути, совершенно устраняют вопрос о свободе и при этом воображают, что они в состоянии сказать путное слово о человеческом общежитии. Можно встретить обширные социологические и даже юридические трактаты, в которых о свободе нет даже речи, или она упоминается вскользь, как предмет несущественный. Читатель, раскрывающий подобную книгу, может быть уверен, что он не найдет в ней ни единого слова, которое имело бы серьезное научное значение.
Итак, в исследовании законов человеческого общежития мы без философии не обойдемся. На самом пороге возникает перед нами вопрос о свободе, который должен быть решен на основании философских доказательств. Как же мы к этому приступим? Прежде всего необходимо установить самое понятие.
Свобода понимается в двояком значении: как внешняя и как внутренняя, как свобода действий и как свобода воли. Первая состоит в независимости действий от чужой воли, или в определении их собственною волею лица, короче, в возможности делать что хочешь; вторая состоит в независимости воли от внешних побуждений, или в существующей для нее возможности определяться чисто из себя самой.
Некоторые философы отвергают самое понятие о внутренней свободе, признавая существование исключительно свободы внешней. Сюда принадлежит главный представитель сенсуализма нового времени, Локк. Он утверждает, что свободою можно назвать единственно способность делать или не делать что хочешь, то есть сообразовать свои действия с определениями разума; но нелепо говорить о свободе хотеть или не хотеть, как будто воля может определяться еще новою волею. Локк уверяет даже, что возбуждать вопрос о свободе воли все равно что спрашивать: может ли сон быть быстрым или добродетель квадратною? Свобода, по его мнению, принадлежит не способности, а деятелю, то есть разумному существу, которое свободно, насколько его действия согласуются с его хотением, и несвободно, насколько эти действия вынуждены внешнею силою[5].
В дальнейших своих объяснениях Локк. однако же. сам доказывает, что воля человека, в низших своих проявлениях, то есть в слепых влечениях, может воздерживаться и направляться высшею волею, то есть разумным началом. Через это он явно впадает в противоречие с самим собою. Посмотрим на его доводы; они дадут нам ключ к уразумению явлений.
Локк основывает свое мнение на анализе хотения. Хотение есть движение воли, направленное на известное действие. Оно отличается от желания, ибо человек может добровольно делать противное тому, чего желает. Чем же определяется хотение? Самим деятелем, то есть разумом. А чем определяется разум в своем решении? Чувством удовлетворения или неудовлетворения: первое побуждает его оставаться в том же состоянии, второе побуждает его переменить свое состояние. Последнее Локк называет также желанием, причем он доказывает, что оно составляет единственное побуждение к деятельности, ибо желание не что иное, как стремление к счастью, а счастье составляет конечную цель всякого живого существа. Таким образом, отличивши желание от воли, Локк опять их смешивает. Однако и тут является оговорка, которая дает делу иной оборот. Сильнейшее желание движет волю; однако не всегда. Ибо разум, как известно из опыта, имеет способность воздерживать желания и взвешивать различные полагаемые ими цели. "Есть, — говорит Локк, — один случай, когда человек свободен в отношении к хотению, а именно, в выборе отдаленного блага как цели стремлений. Здесь человек может воздерживать свое действие от всякого определения за или против предположенной цели, пока он не рассмотрел, действительно ли оно таково, что оно само или в своих последствиях может сделать его счастливым". Это последнее, высшее решение разума, обсуждающего добро и зло, по признанию Локка, и есть источник всякой свободы; это именно то, что неправильно называется свободою воли. Человек свободен, потому что' он может определяться решениями собственного разума, ибо цель свободы состоит в достижении того добра, которое мы сами для себя выбираем[6].
Оказывается, следовательно, что существует воля над волею. Действия направляются желаниями, но над желаниями есть еще высшая власть, которой принадлежит окончательное решение. Таким образом, свобода состоит не только в направлении действий согласно с желаниями, но и в направлении желаний согласно с высшими решениями разума. Человек может не только воздерживать желания, но и изменять их. "Во власти ли человека, — спрашивает Локк, — изменять приятность или неприятность, сопровождающие известного рода действия? Что касается до этого. — отвечает он, — то ясно, что во многих случаях он может это сделать… Ошибочно думать, что люди не в состоянии превратить неприятность или безразличие, присущие действиям, в удовольствие и желание, если они только хотят делать то, что в их власти. Надлежащее размышление сделает это в некоторых случаях; практика, прилежание и привычка в большинстве случаев"[7].
Таким образом, самые очевидные факты сознания показывают нам, что человек не только, подобно животным, имеет власть над своими действиями, но как разумное существо он имеет и власть над собою. Первая составляет внешнюю свободу, вторая свободу внутреннюю. И только последняя дает истинное значение первой: из простого факта она делает ее принципом, или требованием. Как факт, внешняя свобода существует и для животных, точно так же как и для человека. Есть животные, живущие на свободе, и есть другие, даже той же породы, которые находятся в клетках, в стойлах, в упряжи. Но здесь о принципе нет речи. Мы не считаем такого различия в положении несправедливостью относительно порабощенных, так же как мы не считаем несправедливостью, что одни животные убиваются для еды, а другие продолжают пользоваться жизнью. Нельзя сказать, что последнее одно согласно с природою живых существ, ибо, если бы цель природы состояла в том, чтобы каждое живое существо жило и пользовалось жизнью, то она не создала бы одних животных, пожирающих других, и не сделала бы из этого пожирания непременное условие существования не только самих хищников, но и породы их жертв, которые без того умножились бы безмерно.
В человеке, напротив, внешняя свобода является не фактом, а требованием. Факт может ему противоречить; с самого начала истории и до наших дней мы видим миллионы людей, которые находятся в рабстве. Если бы мы руководствовались одними фактическими данными, мы должны бы были сказать, что свобода и неволя одинаково лежат в природе человека. Но несмотря на такой всемирный факт, мы утверждаем, что человек должен быть свободен, и это требование мы ставим целью развития человеческих обществ.
На чем же основано подобное требование? Локк, ратующий за естественную свободу людей, говорит, что "ничто не может быть очевиднее, как то, что творения одной и той же породы и чина, одинаково рожденные для пользования одними и теми же благами природы и для употребления одних и тех же способностей, должны быть равны между собою, без всякого подчинения или подданства одних другим"[8]. Но такого же рода рассуждение одинаково прилагается и к животным, а между тем мы для животных не требуем всеобщей свободы. Сам Локк признает далее, что это начало не прилагается к детям, которые находятся в естественном подчинении у родителей. Причину этого исключения он видит в том, что они не обладают еще разумом, который один может руководить их в правильном употреблении свободы. Отсюда он заключает, что "вольность человека и свобода действовать сообразно с своею собственною волею основаны на том, что человек одарен разумом, способным научить его тому закону, которым он должен управляться, и указать ему, насколько он предоставлен свободе своей собственной воли"[9].
Следовательно, требование внешней свободы основано на свободе внутренней. Источник последней есть разум, воздерживающий слепые влечения и указывающий человеку закон, которым он должен управляться, и цели, которые он должен иметь в виду. Только об человеке мы можем сказать, что он по природе свободен, ибо он один, в отличие от животных, представляется нам как разумное существо, способное определяться на основании внутренних, разумных решений.
В чем же состоит этот закон и что такое разумное решение воли в противоположность влечениям? Это тот закон, который делает действия человека независимыми от каких бы то ни было частных целей и желаний, но подчиняет их высшему началу, истекающему из чистого разума, а потому имеющему характер абсолютной истины, — сознанию долга, закон нравственный, который для Локка и вообще для опытной школы, несмотря на все старания его уловить, остается вечною загадкою, но который во всей своей глубине был раскрыт отцом новейшей метафизики, Кантом. Разум потому только способен владычествовать над влечениями, что он составляет самостоятельную силу, имеющую свой собственный закон, и притом высший, абсолютно предписывающий и абсолютно воспрещающий. Этот закон неразрывно связан с свободою. Он предполагает возможность отрешиться от всякого частного побуждения и определяться чисто на основании разумного сознания долга. Только при этом условии он может являться абсолютным требованием для всякого разумного существа. Самое нравственное достоинство действий заключается единственно в том, что они совершаются свободно: действие вынужденное не есть действие нравственное. Отсюда вытекают и понятия об ответственности за свои действия, о вменении, о заслуге и вине, понятия, на которых основаны все наши нравственные суждения и на которых зиждутся все законодательства в мире. Сознание внутренней свободы, раскрытое метафизикою, есть вместе с тем и мировой факт. Им держатся все человеческие общества, и без него они бы разлетелись в прах. Возможна ли, однако, подобная свобода? Не есть ли это самообольщение?
Многие это утверждают; но отвергая внутреннюю свободу, как призрак, противники ее ссылаются уже не на указания опыта, которые, как сказано выше, не идут далее явлений и не в состоянии открыть нам внутренних оснований решений воли, а на закон необходимости, которому подлежат все явления мира. Между тем закон необходимости, который сам проистекает из умозрения[10], относится к явлениям, а не к сущности вещей. Он гласит, что всякое явление имеет свою причину, именно: действие известной силы; но чем определяется самое действие этой силы? почему она действует так, а не иначе? Об этом закон причинности не говорит; опытная же наука довольствуется положением, что таково свойство предмета. Таким образом, все сводится к природе действующей силы. Эта природа может быть различна: есть силы слепые, и есть силы разумные. Первые, именно потому что они слепы, не могут действовать иначе как по закону необходимости, внутренней или внешней; вторые же действуют по закону разумного сознания, а закон разума есть закон свободы. Поэтому мы и говорим, что человек, по своей природе, есть существо свободное. На него не простирается господствующий в физическом мире закон необходимости. Все почерпаемые отсюда аналогии не выдерживают критики.
Защитники необходимости указывают на то, что разум и воля всегда действуют под влиянием известных побуждений, из которых сильнейшее неизбежно получает перевес. Но сильнейшее побуждение есть то, которому разум и воля дают предпочтение. По признанию самих противников внутренней свободы, сила мотивов зависит не столько от внешнего действия, сколько от восприимчивости к действию. Невозможно ссылаться и на то, что эта восприимчивость определяется особенным характером каждого лица, характером, действующим в каждом случае по законам необходимости: характер разумного существа не есть нечто неизменное и непреложное, всегда проявляющееся одинаковым способом. Человек, как мы уже видели, имеет способность воздерживать свои влечения, наклонности, страсти; он может даже изменять их силою воли или новою привычкою. Если характер влечет его к злу, то нравственный закон, по общему признанию человечества, обращается к нему с требованием, чтобы он изменил свой характер. Это требование имеет смысл единственно потому, что оно обращается к существу свободному, располагающему своими действиями и своими побуждениями. Иначе оно было бы нелепо.
Все эти возражения против свободы воли основаны на том, что на разумное существо переносятся признаки, принадлежащие неразумной природе, между тем как разумное существо, начало духовного мира, имеет свою собственную, исключительно ему принадлежащую природу и свои собственные, управляющие им законы. Оно относится к неразумной природе как общее к частному или как бесконечно к конечному. Все частное, дробное, имеет определенные свойства и определенную сферу деятельности, из которых оно не может выйти. Поэтому оно и подчиняется законам необходимости. Разум же есть сознание безусловно-общих начал и законов, и как таковой он содержит в себе бесконечное. Поэтому он не связан никакими частными побуждениями; каждому побуждению он может противопоставить не только бесконечное множество других, но и безусловно-общий закон, господствующий над всеми. Точно так же он не связан никакими частными свойствами ограниченного существа; как бесконечное начало он возвышается над всеми частными определениями и способен отрешаться безусловно от всего. Но так как, с другой стороны, человек не есть только разумное существо, а вместе и чувственное, так как в нем бесконечное соединяется с конечным, то эта вторая, неразумная сторона его природы управляется законами естественной необходимости и нередко вступает в борьбу с первой. Поэтому разумно-нравственный закон не господствует в нем нераздельно, а является только как вечно присущее ему требование, которое всегда в большей или меньшей степени сознается, но никогда не исполняется всецело. В этом состоит сущность нравственной природы человека, и в этом вместе с тем состоит высшее проявление его свободы. Человек может не только исполнять нравственный закон, но и уклоняться от закона, и уклоняясь, он все-таки сохраняет возможность возвратиться к исполнению закона. И то и другое составляет действие внутреннего его самоопределения. От бесконечного он свободно переходит к конечному и от конечного опять возвышается к бесконечному. В этом свободном переходе заключается все его нравственное достоинство; в этом состоит его заслуга и вина[11].
Но если внутреннее самоопределение воли проявляется не только в исполнении закона, но также и в уклонении от закона, в возможности отдать себя противоположному элементу, то, очевидно, следует признать односторонним мнение тех, которые свободу полагают единственно в исполнении нравственного закона, считая подчинение естественным наклонностям и страстям не свободою, а рабством духа. Этот взгляд, представляющий прямую противоположность рассмотренному выше, разделяется весьма значительными мыслителями, притом стоящими на совершенно различных точках зрения. Мы находим его, например, у Спинозы, который прямо отвергал свободу воли. Он свободным называет того, кто руководствуется внушениями разума, ибо действующий таким образом следует законам собственной природы; неспособность же воздерживать влечения он признает рабством, ибо влечения происходят от внешних причин[12]. Сам Кант, утвердивший на незыблемых основаниях учение о свободе в связи с нравственным законом, впадает в ту же односторонность, вследствие господствующего у него разрыва между внутреннею природою и внешнею. Он свободою воли с отрицательной стороны называет независимость от чувственных влечений, а с положительной — самоопределение чистого разума, причем, однако, он тут же признает свободою и чисто внешнюю деятельность, определяемую формальным юридическим законом[13]. За ним другие философы еще более усилили эту односторонность. Так например, Арене, следуя Канту, определяет свободу как самоопределение духа на основании разумных понятий. Поэтому он свободу видит единственно там, где деятельность руководится идеальным сознанием долга; всякие же чувственные побуждения, по его мнению, уничтожают свободу. По учению Аренса, свобода есть единая, цельная власть, имеющая свой корень во внутренней природе человека; такова именно свобода внутренняя, нравственная, которая, проявляясь во внешнем мире, через это становится внешнею. Внешняя же свобода, оторванная от внутренней, есть чисто отрицательная, нигилистическая свобода, или лучше, произвол. Арене называет ее дурным хвостом истинной свободы, которая через него подвергается опасностям и стеснениям[14].
Того же взгляда держится в новейшее время и Дан. "Быть свободным, — говорит он, — значит повиноваться только разуму"[15]. То же самое мы находим у Шеффле: "свобода, — говорит он, — есть самоопределение, то есть определение не по внешним, чуждым моей сущности побуждениям, а по требованиям моей собственной нравственно-общественной природы". Вследствие этого Шеффле утверждает, что принуждение не только внутреннее, силою нравственного закона, но и внешнее, путем права, действует освободительно, ибо оно освобождает человека от препятствий, налагаемых на него собственною и чужою прихотью, ограниченностью, злобою, страстью и т. п.[16]
Но ни у кого это одностороннее понимание не выступает так резко, как у одного из знаменитейших ратоборцев за свободу, у Фихте, когда он во вторую эпоху своей деятельности стал на исключительно нравственную точку зрения. Целью всей человеческой деятельности и всего человеческого развития он полагал осуществление нравственного закона на земле; средством для этого служит свобода. Но тут оказывается противоречие: с одной стороны, человек, как свободное существо, должен быть единственным источником своих действий, он не подлежит принуждению; с другой стороны, нравственный закон непременно должен быть исполнен, даже путем принуждения. Как же разрешается это противоречие? По мнению Фихте, оно разрешается тем, что принуждению в этом случае подвергается человек только как физическая особь, а вовсе не как нравственное существо и как член нравственного союза; между тем только в этом последнем качестве человек имеет свободу и право, только в этом отношении он не подлежит принуждению; в остальных же отношениях он вовсе не должен быть терпим, напротив, он должен быть уничтожаем, как разрушительное пламя или как дикий зверь. "Человечество, — говорит Фихте, — должно быть без всякого милосердия и пощады, все равно, понимает ли оно это или нет, подчинено владычеству права высшим разумением". Это принудительное подчинение составляет не только право, но и священнейшую обязанность всякого, кто обладает этим разумением[17]. Когда мы вспомним, что под юридическим порядком Фихте разумел не только определение внешних отношений людей, но и все, что требуется для полного осуществления нравственного закона, то мы поймем, что для свободы здесь не остается более места. На этих началах Фихте развил целую теорию социалистического государства, в котором, по его собственному признанию, всякая свобода исчезает и человек становится чистым орудием для осуществления общих целей. Чтобы спасти его внутреннюю свободу, ему предоставляется только несколько часов досуга, для того чтобы он мог заниматься своим нравственным совершенствованием. Если во внешних своих отношениях он делается рабом государства, то дух, с которым он исполняет свое дело, остается его достоянием. Вся задача государственного порядка, по мнению Фихте, заключается в том, чтобы вместо рабской покорности развить дух добровольного повиновения[18].
Последовательность, с которою Фихте проводил свои взгляды, делает его поучительным примером тех заблуждений, в которые вовлекает человека односторонне понятое начало и тех внутренних противоречий, к которым неизбежно приводит всякая односторонность. Дело идет, по-видимому, о весьма невинной вещи, о метафизическом определении свободы; но из этого определения с математическою точностью вытекают последствия, которые ведут к совершенному уничтожению свободы. У других, менее последовательных мыслителей, эти выводы не выступают так ясно, но существо дело остается то же: известное понятие непременно влечет за собою известные последствия.
Ошибка заключается в том, что свобода понимается исключительно как нравственное начало, как свобода добра, между тем как она заключает в себе и свободу зла. Если я непременно должен исполнять закон, если я не могу от него отступить, то свобода моя исчезает, а вместе с тем исчезает и мое нравственное достоинство: я исполняю закон по принуждению. Для совершенного существа эта возможность отступления от закона никогда не осуществляется, ибо оно, в силу своего совершенства, никогда не воспользуется своей свободою для отступления от закона; несовершенное же существо может отступить от закона, и это отступление не может быть ему возбранено путем внешнего принуждения, ибо иначе исчезнет самая свобода, исчезнет и ответственность за свои действия. Нравственный закон, по существу своему, не есть закон принудительный.
Для существа разумно-чувственного, каков человек, побуждение к отступлению от закона лежит в собственной его природе. Он нарушает нравственный закон, как скоро он, вместо нравственных побуждений, руководствуется побуждениями чувственными, противоречащими нравственным требованиям. Но так как он, в силу своей свободы, волен выбирать те или другие мотивы для своих действий, то на него в этом отношении можно действовать только убеждением, а не принуждением. А так как внутренняя свобода проявляется и во внешнем мире, то и в области внешних действий принуждение во имя нравственного закона противоречит свободе человека. Человек волен поступать нравственно или безнравственно; никто не вправе ему этого воспретить.
Отсюда не следует, однако, что внешняя свобода безгранична. В области внешних действий господствует другого рода закон, закон принудительный, возникающий из взаимного отношения свободы различных разумных существ. В этой сфере возможны столкновения, а потому требуется разграничение, которое и поддерживается принудительным порядком. Каждое лицо, как разумно-свободное существо, проявляет свою свободу во внешнем мире. Оно создает себе известную область деятельности, которая присваивается исключительно ему и в пределах которой оно вольно поступать, как ему угодно. Но как скоро оно вступает в область, принадлежащую другому лицу, так оно должно сообразоваться с требованиями, исходящими от свободы другого лица; ибо закон свободы один для всех. Нарушение его есть насилие, которое отрицается таковым же насилием, производимым во имя закона. В этом состоит закон права, который имеет поэтому чисто внешний характер и определяет взаимные отношения внешней свободы людей.
И в этой области необходимо точное установление понятий, без чего из начала внешней свободы могут быть выведены совершенно ложные последствия. В этом отношении новейшая литература весьма назидательна. Так например, Адольф Вагнер в своих исследованиях об экономических и юридических основаниях человеческих обществ, изданных неизвестно почему под именем учебника Pay, совершенно оставляет в стороне коренной вопрос, от которого зависит все остальное, именно, вопрос о существе свободы; но мимоходом, в примечании, он высказывает на этот счет положения, которые он считает бесспорными, но которые на самом деле представляют совершенное извращение понятий. Вагнер утверждает, что из признанных новыми народами начал свободы и равенства всех членов общества вытекает правило, что никому не может быть предоставлено право на приобретение жизненных удобств, пока необходимые потребности хотя бы малейшей части населения остаются неудовлетворенными. В доказательство он замечает: "важнейшая посылка, которая не нуждается здесь в дальнейшем развитии, состоит в том, что в нашем современном общежитии, в котором мы не признаем рабства, всякая существующая особь имеет равное с другими право на продолжение своего существования, а потому может требовать, насколько это дозволяет совокупность экономических благ известного народа в данное время, иными словами, народный доход, чтобы ей, так же как и всякому другому лицу, доставлены были условия для продолжения ее существования, то есть чтобы были удовлетворены ее жизненные потребности первого разряда"[19].
Трудно изобрести более неверное понятие о свободе. Внешняя свобода состоит в возможности делать что хочешь, то есть располагать, по своему усмотрению, своими силами и средствами; а так как эта возможность одинаково предоставляется всем, то все, в этом отношении, равны. Но из свободы и равенства отнюдь не вытекает право требовать от других что бы то ни было, кроме отрицательного уважения к свободе. Всякое положительное требование должно быть основано на других началах. Право же на продолжение своего существования не принадлежит никому, свободному столь же мало, как и рабу, богатому, как и бедному. Из свободы лица вытекает для него только право делать все, что оно может для продолжения своего существования. У кого средств больше, тот, очевидно, может сделать больше; у кого средств меньше, тот сделает меньше. Богатый человек, у которого оказалась грудная болезнь, может ехать в теплый климат для поправления здоровья; бедному это недоступно. Может встретиться благотворитель, который отправит его на свой счет; но бедняк, в силу своей свободы, не вправе требовать от кого бы то ни было, чтобы его послали в Италию для излечения болезни. Наоборот, может случиться, что богатый в этом отношении будет находиться в худшем положении, нежели бедный. Богач, который внезапно занемог в захолустье, принужден довольствоваться теми скудными медицинскими средствами, которые там обретаются, тогда как бедняк, лежащий в столичной больнице, пользуется пособиями лучших врачей. Конечно, человек с состоянием может и в захолустье выписать знаменитого врача; но для этого необходимо, чтобы у него было достаточно средств и чтобы врач согласился приехать: требовать этого он опять-таки не вправе.
Этот пример наглядно доказывает, до какой степени в исследованиях о человеческом общежитии необходимо точное установление философских понятий и к каким радикально ложным взглядам может повести недостаток философского образования. Вагнер был введен в заблуждение усвоенною им неверною теориею Краузе и его последователей, которые видят в праве условие для достижения всяких человеческих целей. Но для того чтобы критически отнестись к этой теории, необходимо такое основательное изучение философии, которое в наше время доступно весьма немногим, ушедшим от общего соблазна. Приведенные во Вступлении слова Иеринга служат тому доказательством.
Из сказанного ясно, что свобода не есть единое, цельное начало, управляемое единым законом, как утверждает Аренс. Даже в чисто нравственной области это начало раздваивается, ибо оно заключает в себе и свободу добра и свободу зла. В приложении же к существу, представляющему сочетание двух противоположных элементов, разумного и чувственного, оно само распадается на два противоположных определения, на свободу внутреннюю и на свободу внешнюю. Каждое из них образует свой отдельный мир и управляется своими законами. В области внутренней свободы господствует нравственный закон, который безусловно требует, чтобы человек руководствовался сознанием долга; но исполнение этого закона предоставлено свободе: здесь принуждение совершенно устраняется. В области внешней свободы господствует, напротив, закон принудительный; но этот закон касается единственно внешних отношений свободы; внутри же присвоенной каждому сферы все предоставляется его произволу: закон не предписывает ему поступать так или иначе. Обе эти области, восполняя друг друга, равно принадлежат свободе человека. Без внутренней свободы внешняя лишается всякой точки опоры и всякого значения. Сам по себе произвол не имеет права ни на какое уважение; он уважается и охраняется принудительным законом, единственно потому что он составляет проявление внутренней свободы. Если бы не было последней, то весь юридический закон и все построенное на нем человеческое общежитие не имели бы смысла. С своей стороны, внутренняя свобода без внешней лишена действительности. Человек призван действовать во внешнем мире, и в исполнении этого призвания он является свободным существом. Если же внешняя его свобода отрицается, то и призвание остается втуне. Стоик мог быть внутренне свободен и в цепях; христианин внутренне свободен и в рабстве. Но то и другое предполагает отрешение от внешнего мира и стремление к иной, чисто духовной цели. Исполнение же земного призвания, достойное человека, требует внешней свободы. Иначе человек перестает быть человеком; он нисходит на степень простого орудия.
Этими двумя областями не исчерпываются, однако, проявления свободы; остается еще высшая их связь. Так как внутренняя свобода и внешняя истекают из единого начала, составляющего неотъемлемую принадлежность духовной природы человека, то они естественно действуют друг на друга и приходят в разнообразные сочетания. Кроме противоположности начал и областей установляется и их единство. Это единство выражается в тех органических союзах, которых человек является членом. Во имя нравственного закона он подчиняется общественному началу, как высшему выражению духовной связи людей, и в этом отношении он имеет обязанности; а с другой стороны, как свободное лицо он пользуется правами. Здесь свобода получает новый характер: она является как свобода общественная, определяющая отношение членов к тому целому, к которому они принадлежат, их законное подчинение и долю участия их в общих решениях. Но эта новая сфера свободы не уничтожает предыдущих; она только восполняет их, возводя их к высшему единству.
Таким образом, начало свободы, переходя через различные определения, образует отдельные, самостоятельные области человеческих отношений, которые все истекают из одного источника и находятся во взаимной внутренней связи. Свобода воли, которая состоит в самоопределении на основании собственного решения, распадается на свободу внутреннюю, нравственную, заключающуюся в возможности определяться на основании разумно-нравственных побуждений, и на свободу внешнюю, юридическую, управляемую принудительным законом права; наконец, высшего своего значения она достигает в свободе общественной, определяющей отношение человека к тому целому, которого он состоит членом. Человеческая жизнь имеет различные стороны и различные сферы деятельности, соответственно которым свобода принимает различные формы. Но в какой бы области ни вращался человек, какому бы он ни подчинялся закону, везде он является свободным существом, ибо свобода составляет неотъемлемую принадлежность его духовной природы.
Но если так, то каким образом возможно объяснить столь часто встречающееся в истории и в жизни отрицание свободы? Почему с самой колыбели человечества и до наших дней миллионы людей погружены в рабство? По-видимому, факты совершенно противоречат теории, ибо невозможно признать неотъемлемою принадлежностью природы известного существа то, что не принадлежит ему всегда и везде.
Это противоречие разрешается законом развития. Сущность развития состоит в постепенном осуществлении внутренней природы развивающегося существа. Сначала эта природа является только в зародыше, или в возможности; затем она переходит через различные ступени, в которых проявляется разнообразие ее определений, и только в конце она раскрывается во всей своей полноте. Так, например, в области физического развития цвет и плод несомненно выражают собою природу растения, но они являются завершением его роста, а иногда могут даже вовсе не развиться. Точно так же и в области духа, мы на первых ступенях находим лишь зачатки того, что позднее раскрывается в полном цвете. Поэтому истинная природа духа познается не на низших, а на высших ступенях развития. Но так как начала, господствующие на высших ступенях, развиваются постепенно и в зачатке находятся уже в первоначальных формах человеческого общежития, то весь исторический процесс представляет последовательное развитие лежащих в человеческой природе начал.
Это именно мы видим в приложении к свободе. Нет формы общественного быта, где бы не было свободных людей. Где есть рабы, там есть и господа. Но отсюда до сознания свободы как неотъемлемой принадлежности всякого человека и еще более до осуществления этого начала в жизни путь весьма далекий. Это сознание требует такого углубления в себя и такого понимания внутреннего единства человеческой природы, которые возможны лишь при весьма высокой степени просвещения. Величайшие умы древности не сознавали еще этого единства. Аристотель утверждал, что некоторые люди, по самой своей природе, предназначены быть господами, а другие рабами. Понятие, что все люди, по природе своей, свободны, было развито главным образом стоическою философиею; от нее заимствовали его и римские юристы, у которых оно оставалось, впрочем, чисто отвлеченным началом, без всякого приложения к жизни. Еще более христианство, призывая всех людей к спасению, без различия свободных и рабов, утверждало понятие о единстве человеческой природы. Христианство раскрыло главным образом внутреннюю, нравственную свободу человека и связанное с нею высшее его нравственное достоинство. Но, указывая человеку загробную цель, оно оставалось равнодушным к внешней свободе. Оно требовало от рабов покорности, обещая им вечное блаженство. Самая внутренняя свобода, вследствие одностороннего развития, впадала в противоречие с собою и становилась принудительною. Начало внешней свободы, не как отвлеченное понятие, а как живой исторический элемент, было развито преимущественно германцами; но и это начало, в своей односторонности оторванное от свободы внутренней и не подчиненное высшему закону, являлось необузданною силою, которая вела к порабощению одних другими. Это противоречие между внутреннею свободою и внешнею, а равно и внутреннее противоречие каждой из них, отдельно взятой, составляет характеристическую черту средневекового порядка. Высшее же сочетание обоих начал является плодом развития нового времени. В этом заключается задача новой истории, которая привела наконец к невиданному дотоле явлению, к признанию свободы всех.
Таков процесс развития человеческой свободы. Гегель не совсем точным образом формулировал этот закон, сказавши, что на Востоке свободен один, в классическом мире некоторые, в германском мире все[20]. Неточность заключается в том, что на деле история не представляет простого количественного расширения начала свободы. Не говоря о качественном развитии различных ее сторон, о противоположении внутренней свободы и внешней и о последующем их соединении, но самый количественный процесс идет далеко не равномерно. В известные эпохи свобода временно подавляется, в другие она возникает с новою силою. Это объясняется тем, что свобода не есть единственный элемент человеческого развития. Она постоянно находится в отношениях к другим жизненным началам, и из этих отношений, смотря по потребности времени и места, возникает преобладание то одного элемента, то другого. Этими отношениями объясняется вместе с тем и положительное значение рабства в истории человечества. Развитие сознания показывает нам это значение только с отрицательной стороны: где недостаточно развито сознание истинной природы человека, там очевидно не может быть и полной свободы. Но рабство играет в истории свою весьма положительную роль, которой нельзя упускать из виду.
Человек есть не только духовное, но и физическое существо. Поприщем духа является материальный мир, а потому высшее развитие жизни требует материальных средств. Для владычества над природою необходимы орудия; для занятия духовными предметами нужно иметь обеспеченный досуг. Между тем чем ниже развитие, тем менее у человека средств. Этот недостаток он принужден восполнять подчинением себе других людей, которые обращаются для него в орудия. И на высших ступенях работа одних служит средством для благосостояния других; но здесь эти отношения установляются свободно, в силу обоюдной выгоды. На низших ступенях это невозможно. Свободная организация экономического быта требует такого совершенства гражданского порядка, которое здесь немыслимо. Поэтому тут остается только прибегнуть к насильственному подчинению, и оно водворяется тем легче, что не существует еще понятий, которые бы служили ему преградою. Человеку представляется даже действием человеколюбия обратить неприятеля в рабство, вместо того чтобы убить его по праву войны, и нет сомнения, что порабощение побежденных составляет значительный шаг вперед против истребления врагов. В эти времена даже свободный человек охотно отдает себя в рабство. Недостаток средств и беспрерывные опасности, которыми он окружен, заставляют его искать помощи и защиты у более богатого и сильного соседа. Неверной жизни на свободе он предпочитает покойное подчинение. Отдача себя в кабалу составляет всеобщее явление даже до позднейших времен. Уже государственный закон, во имя высших начал, полагает ей предел. Таким образом, обоюдный интерес ведет к установлению рабства, и это служит к пользе человечества, ибо только путем порабощения одних возможно было высшее развитие других. На плечах рабов возникла доселе изумляющая нас цивилизация классического мира. Гражданин древней республики жил для государства; он занимался политикою, философиею, искусством; но это было возможно единственно в силу того, что рабы избавляли его от материальных забот и обеспечивали его благосостояние. Закон развития, как несомненно доказывает история, состоит не в равномерном поднятии всех к общему уровню, а в том, что одни, чтобы взобраться на высоту, становятся на плечи других. И это служит к общей пользе, ибо достигши цели, они тянут за собою и других. Свобода, бывшая уделом немногих, со временем становится достоянием всех.
Тот же процесс закрепощения и освобождения вызывается и развитием государственных начал. Государство всегда требует известного порядка и подчинения в обществе; без этого оно не существует. Но свободное подчинение опять-таки возможно лишь при весьма высоком развитии общественного сознания и гражданственности. Чем ниже общественный уровень, тем более требуется насильственное подчинение. Поэтому все почти государства основываются на завоевании. Сильнейшее племя подчиняет себе других и создает прочное политическое тело, в котором является различие победителей и побежденных, господ и рабов. Это мы видим на Востоке, например в Индии, где арийские завоеватели, покоривши туземные племена, образовали из них низшую касту. То же самое, с большими или меньшими видоизменениями, повторяется в Греции, всего резче у спартанцев, также в Риме, наконец в новой Европе при нашествии варваров.
Даже там, где возникновение государственного порядка основано не на внешнем завоевании, а на внутренней потребности общества, этот новый жизненный строй водворяется не иначе как путем насильственного подавления свободы. Этим объясняется повсеместное развитие абсолютизма в Европе в исходе средних веков. Взамен средневековой анархии требовалось установить прочный порядок, а это было невозможно без насильственного подчинения противоборствующих элементов. Но на Западе уничтожилась свобода главным образом высших классов, ибо остальные были уже порабощены. В России же самым ярким образом раскрывается, каким путем развивающийся государственный порядок влечет за собою всеобщее закрепощение. Здесь, в течение средних веков, хотя существовали рабы, однако значительная масса народонаселения пользовалась свободою. И эта свобода была полная. Бояре, слуги и крестьяне ходили с места на место, из одного княжества в другое, вступая только в срочные связи, на основании свободного договора. Это было всеобщее кочевание по русской земле. Но именно это бродячее состояние было несовместно с новым государственным строем. Как скоро московские цари стали собирать рассыпанную храмину, с тем чтобы сделать из нее единое здание, так они на все сословия наложили государственное тягло. Переход был воспрещен; свобода исчезла; все должны были нести тяжелую службу государству. Прежде всех укреплены были бояре и слуги: из вольных людей они превратились в холопов государя, обязанных служить ему всю свою жизнь. Затем укреплены были посадские; наконец дошла очередь и до крестьян. Для того чтобы служилые люди моги нести свою службу, им необходимы были средства, а пустая земля, которую они получали от правительства, средств не давала; пришлось прикрепить к ней население. Таким образом, закрепощение одних влекло за собою закрепощение других. И это всеобщее тяжелое служение продолжалось до тех пор, пока государство окрепло, устроилось и могло уже довольствоваться не принудительною, а свободною службою. Тогда последовало обратное движение: сначала освобождено было дворянство, затем городские сословия, а наконец и крестьяне. Вместо всеобщего порабощения снова наступила всеобщая свобода, но уже при совершенно иных условиях. Вместо средневековой анархии водворился стройный гражданский порядок, в котором могут найти себе место все лучшие стремления образованного общества. Всеобщее крепостное право несомненно содействовало общественному развитию; благодаря ему Россия сделалась великим и образованным государством. Но совершивши свое дело, оно ведет к собственному упразднению.
Это упразднение вызывается причинами экономическими, политическими и нравственными.
Экономическая причина состоит в высшей производительности свободного труда. Если низшего разряда работы могут быть исполнены рабами так же хорошо, как и свободными людьми, иногда даже лучше, ибо первые побуждаются страхом, то высшая работа, требующая энергии, настойчивости, умения, может быть успешно произведена только свободными людьми, действующими по собственному побуждению, а не из страха наказания. Поэтому высокое развитие промышленности непременно вызывает свободу[21].
Точно так же и в политическом отношении государство, в котором господствует крепостное право, не может достигнуть той степени могущества, какого достигает государство свободное. Возбуждая всю энергию человека, свобода вызывает внутренние силы, которые иначе остались бы без употребления. И материальное богатство и духовное развитие, все это имеет непременным условием свободу. Поэтому государство, которое хочет стоять в уровень с другими, рано или поздно должно водворить у себя это начало. Иначе оно склоняется к падению.
Все эти причины имеют, однако, лишь ограниченное значение. Конечно, при всеобщем крепостном состоянии высокое развитие промышленности немыслимо; но при рабстве известной части населения, особенно если ему подвергается чуждое племя, и в приложении к известного рода работам, высокое материальное благосостояние страны весьма возможно. Американские плантаторы не чувствовали никакой экономической потребности в отмене невольничества; напротив, они хорошо понимали, что они через это лишаются значительной части своего состояния. Их надобно было принудить силою, не во имя экономической пользы, которой они могли быть единственными судьями, а во имя совершенно иных начал. Точно так же и в политическом отношении пример России доказывает, что государство может достигнуть весьма высокой степени могущества даже при общем закрепощении низших классов. Крепостная Россия одна на европейском материке в состоянии была побороть полчища освобожденной Франции, предводимые величайшим военным гением в мире. Долго она имела решающий голос в судьбах Европы, и если в крымскую кампанию она потерпела неудачу, то самые результаты показали, до какой степени она способна за себя стоять. С другой стороны, если мы взглянем на Северную Америку, то мы увидим, что замечательнейшие ее государственные люди вышли из рабовладельческих штатов. Невольничество вызывает в господах привычку повелевать, которая содействует развитию государственных способностей.
Таким образом, одних экономических и политических причин было бы недостаточно для уничтожения рабства, если бы к этому не присоединялась причина чисто идеального свойства, сознание, что одна свобода совместна с достоинством человека и что возвращение ее невольнику составляет требование общечеловеческой справедливости. История доказывает, что именно это начало было движущею пружиною всего освободительного движения у новых народов. Во имя идеального начала уже в средние века христиане, умирая или отправляясь в крестовые походы, освобождали своих рабов. На идеальное начало ссылались французские короли в своих освободительных указах: "так как по естественному праву всякий должен родиться свободным, — говорит Людовик X, — а между тем по некоторым обычаям, издавна введенным и доселе соблюдаемым в нашем государстве, а случайно и за преступления предков, многие лица из нашего низшего народа впали в узы рабства, что очень нам не нравится. Мы и т. д." Идеальным началом всеобщей человеческой свободы воодушевлялась и философия XVIII века, которая имела такое могучее влияние на освобождение людей и которая нашла самое яркое свое выражение в "Объявлении прав человека и гражданина". Во имя идеального начала были освобождены невольники в английских колониях и на наших глазах в Соединенных Штатах. И если мы обратимся к себе, то мы увидим, что и у нас Севастопольская кампания дала только толчок тому, что давно сознавалось и правительством, и лучшими умами в обществе как высшее требование справедливости. Те, которые отвергают значение метафизики, признавая ее за пустой бред человеческого ума, забывают, что метафизика составляет движущую пружину исторического развития. Мы видим это здесь на наглядном примере. Метафизике новые народы обязаны своей свободою. Иначе и быть не может, ибо представление идеала, составляющего цель развития, черпается не из того, что есть, а из того, что человек сознает, как высшее требование разума. Во имя этого умозрительного начала он изменяет действительность.
Завершился ли в настоящее время у новых народов этот процесс освобождения? По-видимому, нет возможности в этом сомневаться. В Европе не существует более крепостных; все, от мала до велика, свободны; все располагают своим лицом и имуществом. Те немногие временные исключения, которые встречаются у народов, недавно вышедших из крепостного состояния, не имеют существенного значения. А между тем многие это отрицают и видят освобождение низших классов еще впереди. Социалисты постоянно твердят, что рабочий класс находится в таком же крепостном состоянии, как и прежде не имея ничего, он из куска хлеба принужден работать за самую скудную плату и находится вполне во власти хозяев. Утверждают, что изменилась только форма рабства, а не самая его сущность, ибо частная организация хозяйства неизбежно ведет к фактической неволе пролетариата, который получить свободу лишь с сосредоточением всей промышленности в руках государства[22].
Все эти возражения основаны на смешении понятий. Свобода и благосостояние — две разные вещи. Можно обладать полною свободою и не иметь куска хлеба. Одинокий человек в пустыне представляет тому живой пример, и самая свобода нередко приводит к этому тех, которые не умеют ею пользоваться. Свободный человек может находиться в гораздо худшем положении, нежели раб; но это не мешает одному быть свободным, а другому рабом. Только явно злоупотребляя словами, можно частное услужение называть неволею. Работник состоит с хозяином в обоюдных договорных отношениях и властен всегда отойти. А что рабочие этим фактически пользуются, доказывается постоянно повторяющимися забастовками, в которых далеко не всегда хозяева остаются победителями. Вся эта фразеология не что иное, как пустая декламация. Освобождения четвертого сословия, то есть пролетариата, о котором так много толкуют, потому нельзя ожидать, что оно уже совершилось. Другое дело — благосостояние низших классов: это вопрос существенный. Но те, которые всего более за него ратуют, требуют не расширения, а уничтожения свободы. Об этом будет речь ниже.
Итак, мы должны признать, что в настоящее время у новых народов водворилась идеальная цель человеческого общежития, всеобщая свобода. Но дальнейший вопрос состоит в том: вполне ли осуществился этот идеал? Достигла ли свобода той степени, которая указывается идеальными требованиями? Наконец, чего мы должны ожидать в будущем: еще большего расширения или стеснения свободы?
Эти вопросы тесно связаны с вопросом об идеальных границах свободы, разумеется, свободы внешней, ибо внутренняя, по существу своему, безгранична, как признается всеми. Стеснения свободы совести, столь обычные в прежнее время, ныне отвергаются как нарушения священнейших прав человека, и если существуют еще постановления, идущие наперекор этому началу, то это не более как запоздавшие остатки прежнего порядка, которые должны исчезнуть с высшим развитием. Точно так же и свобода мысли не подлежит сомнению, пока она ограничивается внутренним миром человека; стеснения касаются только внешних ее проявлений. Внешняя же свобода, как уже было указано выше, по существу своему, подлежит ограничениям. Но каковы должны быть эти ограничения? Есть ли возможность теоретически установить известные правила, которые могли бы служить руководящими началами в жизни?
Этот вопрос занимал мыслителей и решался ими различно. Философия XVIII века, которая преимущественно развивала начало внешней свободы, выразила свой взгляд в упомянутом уже "Объявлении прав человека и гражданина". Четвертая статья этого памятника гласит: "свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другим; таким образом, пользование естественными правами человека не имеет иных границ, кроме тех, которые обеспечивают другим членам общества пользования теми же самыми правами. Эти границы могут быть установлены только законом". Но уже Бентам в своих "Анархических софизмах" заметил, что держась этого определения, никто не может знать, вправе ли он сделать то или другое, ибо всякое действие может быть вредно хотя бы одному человеку. Несмотря на то, Милль в своем "Трактате о свободе" повторяет то же правило: "единственная цель, для которой власть может быть законным образом употреблена против одного из членов образованного общества, — говорит он, — состоит в том, чтобы помешать ему вредить другим… Единственная часть поведения лица, за которую он подлежит суду общества, есть та, которая касается других. Во всем, что касается только его самого, его независимость, по праву, безусловна. Над самим собою, над своим телом и своим духом единичное лицо имеет верховную власть"[23]. Против этого Иеринг, повторяя возражение Бентама, справедливо замечает, что все действия, о которых стоит говорить и которые имеет в виду юридический закон, касаются других. С такого рода правилом можно совершенно уничтожить личную свободу. "Я обязуюсь, — говорит Иеринг, — с этою формулою в руках стеснить и связать ее так, что она не будет в состоянии шевельнуться"[24]. И точно, с точки зрения утилитаризма, невозможно разрешить этой задачи. Польза есть начало изменчивое, заключающее в себе тысячи разных соображений и не представляющее никакой точки опоры для вывода постоянных правил.
Но если утилитаризм не дает ключа к разрешению этой задачи, то это не значит, чтобы она была, по существу своему, неразрешима, как утверждает Иеринг. Знаменитый юрист видит в этом вопросе столбы Геркулеса, у которых наука должна остановить свое плавание[25]. Если бы этот взгляд был верен, то правоведение было бы лишено всяких руководящих начал; оно ограничилось бы случайным сбором чисто практических постановлений, без малейшего разумного основания. Ибо вся задача права состоит в. определении границ свободы. Если определить их разумным путем нет возможности, если наука отказывается от решения, то что же остается делать? Между тем юристы всегда вырабатывали себе известные начала, на основании которых они определяли, что может быть дозволено и что нет. Без сомнения, эти воззрения изменялись с течением времени; каждый век или народ имел свой идеал, с которым он соображал свое законодательство. Но совокупность этих идеалов представляет развитие юридических идей в истории. Задача науки состоит в том, чтобы выяснить эти идеи, показавши последовательное их движение в историческом процессе, и то высшее развитие, которого они способны достигнуть. Самые даже односторонние взгляды дают нам материал для этого понимания. Связавши их одни с другими, мы достигнем той полноты воззрения, которая требуется научною целью.
Таким образом, если мы взглянем на приведенную выше статью "Объявления прав человека и гражданина", мы увидим, что она содержит в себе частную истину, хотя искаженную смешением с утилитарным началом. Эта истина состоит в том, что права, принадлежащие одним, ограничиваются таковыми же правами, предоставленными другим, иными словами, что свобода одних ограничивается свободою других. Эту именно мысль Кант положил в основание своей философии права; ее развивает и Вильгельм Гумбольдт[26], на которого указывает Иеринг. Односторонность этого учения, как справедливо заметил последний, заключается в отрицании всякой положительной деятельности государства, которое, по этой теории, ограничивается охранением права и порядка в обществе. Между тем и здравая теория, и практика несомненно доказывают, что государство имеет положительные задачи, которые, в свою очередь, полагают границы человеческой свободе, или даже подчиняют ее себе. Но из того, что существует эта вторая граница, вовсе не сдедует, что надобно отвергнуть первую. Мы должны только ее восполнить, различая две области: частную и общественную. В частной сфере, то есть в отношениях отдельных лиц друг к другу, свобода одних ограничивается свободою других; в общественной же сфере границы свободе полагаются правами государства, истекающими из общественных потребностей.
Эту последнюю границу гораздо труднее определить, нежели первую, ибо общая польза, на которой основываются права государства, опять же есть начало изменчивое, не поддающееся точному определению. Тем не менее, и здесь не только возможно, но и необходимо установить общие начала, которыми должны управляться эти отношения.
Задача государства состоит не в одном охранении права; оно управляет совокупными интересами народа. Поэтому и стеснение свободы должно иметь место лишь на столько, на сколько оно требуется этими совокупными интересами. Вся сфера частных интересов и отношений должна быть предоставлена свободе. Нет сомнения, что между частными интересами и общими существует взаимная связь, есть и промежуточные формы; нет сомнения также, что с развитием жизни самое свойство интересов и их требования могут изменяться: то, что прежде составляло частный интерес, восходит на степень интереса общего, и наоборот, то, что во имя общего интереса могло исполняться только путем принуждения, при высшем развитии удовлетворяется свободою. Поэтому граница здесь, по существу своему, колеблется неизменной, раз навсегда определенной нормы установить нельзя. Но несмотря на то, в высшей степени важно всегда иметь в виду это разделение, ибо без него свобода исчезает. Неприкосновенность частной жизни и частной деятельности должна считаться коренным законом всякого образованного общества. Вмешательство государства в эту область может быть оправдано только в крайних случаях и всегда должно считаться не правилом, а исключением. И если при известных обстоятельствах, там где свободная деятельность не достигла еще надлежащего развития, может потребоваться усиленная регламентация частных отношений во имя общего интереса, так же как требовалось и рабство, то нет сомнения, что в общем ходе развития высшая ступень состоит в предоставлении свободе того, что делалось путем принуждения. Идеалом человечества может быть только расширение, а не стеснение свободы.
Поэтому мы должны безусловно отвергнуть мнение тех, которые стремятся к полному подчинению лица обществу и вследствие того к замене личной свободы общественною. Таково было учение Руссо. Он требовал, чтобы человек отдал всю свою свободу в руки государства, с тем чтобы получить ее обратно в виде участия в общих решениях. Несостоятельность этого воззрения слишком известна; здесь неуместно было бы об нем распространяться[27]. Руссо, отдавая лицо всецело государству, все-таки хотел сохранить его свободу, и вследствие этого приходил к совершенно невозможным положениям. Он требовал, чтобы законодатель устанавливал только такие нормы, которые одинаково касаются всех; он старался в общих решениях различить общую волю, выражающую то, в чем все согласны, от воли всех, представляющей не более как сумму частных воль; он понимал, что народ, как он есть, не способен к безусловно справедливому законодательству, какое требуется этою системою, а потому искал мудреца, облеченного сверхъестественным призванием. Одним словом, стараясь совместить несовместимое, сохранение свободы с ее уничтожением, он впадал в нескончаемые противоречия.
Но Руссо по крайней мере хотел сохранить свободу, в которой он видел коренной и необходимый элемент человеческого естества. Социалисты даже и этого не имеют в виду. Они просто уничтожают личную свободу во имя общественного начала. И это делают не только фанатики социализма, которые за своей благою, но дурно понятою целью не видят ничего другого, но также и ученые, обставляющие свои исследования целым научным аппаратом. Таков, например, Шеффле. Мы видели уже выше, что он отправляется от одностороннего определения свободы, как исполнения требований. вытекающих из нравственно-общественной природы человека. Вследствие этого он свободу полагает единственно в выборе призвания или занятия (die Freiheit des Berufs); а всякое занятие, по его учению, должно быть признано общественною должностью или службою. Человек обязан добровольно подчиниться специальному служению; он должен отказаться от самоволия (Eigenmacht); он должен определяться (sich bestimmen lassen) обществом, которое дает ему подготовку и устанавливает разделение и соединение труда; он, по началам публичного права, должен исполнять свои обязанности, как член принудительных союзов и общественных учреждений. Одним словом, "каждый на своем месте, для и через посредство целого, таков, — говорит Шеффле, — идеал справедливой организации"[28]. Если Шеффле при этом утверждает, что именно в такой организации осуществляется истинная свобода, то это доказывает только, как легко можно довольствоваться одними словами, отнявши у них весь существенный смысл. Свобода состоит в том, что человек сам является источником своих действий; если же он превращается в чистый орган общества, если он существует только для и через посредство целого, то самостоятельность его, как единичного существа, исчезает, и о свободе не может быть речи. Шеффле сравнивает единичное существо с органическою клеточкою; и точно, в его системе оно является не более как органическою карточкою, которой никто свободы не приписывает.
Такое воззрение противоречит не только здравой теории, но и всему ходу человеческого развития. Первоначально человеческая личность является погруженною в общую субстанцию; только мало-помалу она выделяется из последней и приходит к сознанию своей свободы. Поэтому в древнем мире на первом плане стояла свобода политическая. Однако же и греки, и римляне не думали, что гражданин должен быть чистым органом государства: и в то время это воззрение находило пристанище только в утопиях. У гражданина была своя частная сфера, где он был полновластный господин. Он распоряжался своим домом, своим хозяйством, своими рабами по собственному усмотрению; государство в это не вступалось. Но главная его деятельность была все-таки обращена на занятия государственными делами; частная сфера служила ему только обеспечением жизни и доставляла ему досуг для собственной гражданской деятельности. Мы видели, что в этом состояло существенное значение рабства.
Несовместность такого порядка с требованиями человеческой личности повела к его падению. Развитие личных интересов было главною причиною разрушения древних республик. Это развитие воздвигло свой бессмертный памятник в римском праве, которое разрабатывало преимущественно нормы и определения, вытекающие из частных отношений и оставило плоды своей деятельности как образец для всех времен и народов. Но на этом движение не остановилось. В средние века наступили отношения совершенно противоположные тем, которые господствовали в древнем мире. Здесь частная свобода поглотила собою общественную. Средневековый вольный человек не знал над собою иной власти, кроме той, которой он подчинялся на основании частного, свободного договора. Все общественные должности превратились в частную собственность.
Но если господствовавший в древности порядок был несовместен с развитием личности, то средневековое устройство не только было несовместно с общественными требованиями, но и само себя разрушало; ибо безграничная частная свобода ведет к порабощению одних другими. Отсюда необходимая реакция, которая повела отчасти к восстановлению начал древнего мира; но лишь отчасти, ибо свобода, завоеванная историческим развитием личности, не могла уже быть потеряна. Задача новой истории состоит в сочетании древних начал с средневековыми. Частная свобода остается коренным правом человека, источником его самостоятельности; но над нею воздвигается другая область, общественная, где водворяется политическая свобода. Первая служит основанием, вторая обеспечением. И это отношение должно сохраниться ненарушимо, ибо оно составляет драгоценнейшее приобретение человеческого рода, плод всего его исторического развития. Отвергать его значит возвращаться назад, не только за пределы классического мира, но и за пределы всякого образованного быта. Свобода, по самой своей природе, есть индивидуалистическое начало, ибо в ней именно выражается самостоятельность лица. Поэтому борьба против индивидуализма есть борьба против свободы. Эта борьба законна в области государственных отношений, когда она направляется против учений, пытающихся основать государство на началах личной воли и свободного договора. В государстве господствует не частная а общественная свобода. Но эта борьба лишена всякого основания, когда она ведет к поглощению всей частной сферы общественною и к пожертвованию личной свободы общественным требованиям. Такое направление является величайшим врагом свободы и развития, ибо оно уничтожает источник того и другого. А таков именно характер социализма, который поэтому должен быть признан величайшим злом нашего времени.
Ниже мы увидим подробное развитие и приложение этих начал. Здесь нужно было только указать, что такое свобода, каковы ее формы и проявления, и какие из нее вытекают требования и последствия. Дальнейшее изложение еще более подтвердит высказанный здесь взгляд.
Глава II.ПРАВО
Со свободою тесно связано право.
Слово право принимается в двояком значении: субъективном и объективном. Субъективное право есть законная свобода что-либо делать или требовать; объективное право есть самый закон, определяющий свободу и устанавливающий права и обязанности людей. Оба значения связаны неразрывно, ибо свобода тогда только становится правом, когда она освящена законом, закон же имеет в виду признание и определение свободы.
Можно, однако, спросить: которое из этих двух значений основное и которое производное? Свобода ли даруется законом, или закон установляется для определения и охранения свободы? Этот вопрос сводится к другому: откуда происходит право? где его источник: в свободе ли, в законе или, наконец, в том и другом в совокупности?
Этот вопрос опять чисто философского свойства. Для решения его мы должны прежде всего обратиться к истории философии права и рассмотреть те мнения, которые доселе высказывались на этот счет в науке.
Начнем с римских юристов, которые передали нам результаты умственной работы древнего мира.
Положения римских юристов известны. Они поставлены во главе Институций и Пандектов. "Прежде всего, — говорит Ульпиан, — надобно знать, откуда произошло название права. Оно получило свое имя от правды; ибо, как изящно определил Цельс, право есть искусство доброго и справедливого (jus est ars boni et aequi)". Правда же определяется как "постоянная и непременная воля воздавать каждому свое право" (justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuiqbe tribuendi).
Очевидно, что в этих двух определениях слово право употребляется в двух разных значениях: в первом в объективном, во втором в субъективном. Объективное право, или норма доброго и справедливого, проистекает от правды; субъективное же право предполагается правдою, которая имеет в виду воздать каждому то, что ему принадлежит. Следовательно, держась этих определений, мы должны заключить, что субъективное право есть основное начало, а объективное производное. С этой точки зрения, свобода является источником права, закон же установляется для определения и охранения свободы.
Такое же заключение мы должны вывести и из учений философов и юристов нового времени. Знаменитый юрист, основатель новой философии права и вместе права международного, Гуго Гроций, выводил право из общежительной природы человека. Правом, по его определению, называется то, что справедливо, и притом более в отрицательном, нежели в положительном смысле, ибо справедливо то, что не противоречит общежительной природе человека. Отсюда происходит другое значение права, относящееся к лицу, а именно: правом называется нравственная способность лица что-либо иметь или делать. Наконец, в третьем значении право принимается в смысле закона[29].
Итак, по этим определениям, право субъективное, равно как и объективное, проистекает из понятия о праве как общем начале справедливости. Но если мы станем разбирать, в чем по мнению Гроция заключается это начало, то мы увидим, что единственное его содержание состоит в том, чтобы не нарушать чужих прав. Требования общежития, по учению Гроция, суть следующие: воздержание от чужого и возвращение взятого, исполнение обещаний, вознаграждение вреда и наказание преступлений[30]. Очевидно, что все это предполагает уже существование личных прав. А если так. то начало общежития не составляет первоначального источника права: надобно взойти выше, к тем личным требованиям, которые охраняются в общежитии. Это и сделали ближайшие последователи Гуго Гроция. Они первоначальный источник права возвели к субъективному началу, а именно, к самосохранению.
Этой теории держались мыслители весьма различных направлений: Гоббс, Кумберланд, Спиноза. Гоббс утверждал, что по естественному закону, человек имеет право на все, что требуется для самосохранения; но так как из этого проистекает война всех против всех, а война ведет к взаимному уничтожению, то разум предписывает человеку для собственного самосохранения искать мира; достижение же этой цели возможно не иначе как установлением общественного порядка: надобно, чтобы все подчинились единой, неограниченной власти, призванной охранять спокойствие в обществе. Против этого Кумберланд возражал, что сохранение части зависит от сохранения целого, а потому постигаемый разумом естественный закон, даже помимо всякой власти, указывает человеку, что он должен иметь в виду сохранения не одного только себя, а также и других. Наконец, Спиноза, развивая то же начало, признавал, вместе с Гоббсом, что естественное право человека простирается на все, на что простирается естественная его сила; но что, с другой стороны, сила человека зависит не столько от физических его способностей, сколько от разума, а разум показывает, что в одиночестве человек совершенно беспомощен и что только соединяясь с другими он может увеличить свою силу: отсюда требование общежития, которое составляет источник действующего между людьми положительного права[31].
Все эти различные учения, которые можно обозначить общим названием натуралистической школы, отправлялись от одного начала, именно от самосохранения и все делали одну оговорку, именно, что оно должно действовать по указаниям разума. Но если право состоит в том, чтобы действовать по указаниям разума, то источник его заключается в этих указаниях, а не в естественных определениях человеческой природы. Последователям натуралистической школы возражали, что сила не есть право, а часто отрицание права. Существенное значение права состоит именно в том, чтобы воздерживать силу. Право, по существу своему, есть не естественное, а нравственное начало. Источник его лежит в указанном разумом законе, который должен управлять человеческими действиями и воздерживать человеческие влечения.
Откуда же проистекает самый закон? Пуфендорф, которому первоначально принадлежит эта критика, а за ним и другие философы, выводил его из воли Божией; но так как воля Божья непосредственно нам неизвестна, и мы, держась на почве права, можем сделать о ней только заключение на основании обязательной силы сознаваемого нами закона, то необходимо было от внешнего закона перейти к внутреннему. Это и сделал Лейбниц, который утверждал, что сознаваемые разумом законы правды также непреложны и неопровержимы, как законы пропорций и уравнений. На этом основании ученик его, Вольф, построил знаменитую в свое время теорию естественного права, в которой последнее выводилось из указанного разумом нравственного закона.
Это возведение права к нравственному закону имело, однако, последствием смешение права с нравственностью. Уже Лейбниц определял право как любовь мудрого; в юридическом начале он видел только низшую ступень нравственности. Вольф, развивая его учение, последовательно признавал, что закон налагает на человека обязанности, а права даются единственно для исполнения обязанностей. Между тем через это искажается характер как права, так и нравственности. Если право служит только средством для исполнения нравственного закона, то нравственность становится принудительною, а это противоречит ее существу. Если же исполнение нравственного закона предоставляется свободе, то не объясняется, почему право имеет принудительный характер; на это, очевидно, нужно иное начало. Не объясняется и фактически встречающееся противоречие между правом и нравственностью: действие вполне правомерное может быть безнравственно. Для разрешения этого противоречия недостаточно сказать, что право составляет только низшую ступень нравственности; ибо низшая ступень не может противоречить высшей: нравственность не может дозволить то, что ею же самою воспрещается. Одним словом, если учение нравственной школы удовлетворительно объясняет нравственное начало, то оно не в состоянии объяснить происхождение начала юридического.
Совершенно противоположное воззрение развилось в индивидуалистической школе, которая в XVIII столетии господствовала в Англии и во Франции. Наиболее последовательным ее выражением, как уже было сказано выше, может служить "Объявление прав человека и гражданина". Основное положение этой теории заключается в том, что все люди рождаются и остаются свободными и равными в правах (ст. 1-я "Объявления прав"). Цель всякого политического союза состоит в сохранении естественных и неотчуждаемых прав человека (ст. 2). Границею естественных прав служат таковые же права, принадлежащие другим. Эти границы определяются законом (ст. 4).
Эти положения составляют чистое выражение юридического начала; здесь свобода является источником права, а закон служит только для ее охранения. Философии XVIII века принадлежит ясное формулирование этой точки зрения. Но здесь свобода, в своей односторонности, является началом безусловным и неизменным, которому все должно подчиняться. Историческое развитие, равно как и все действительные условия жизни, устраняются и объявляются неправдою. Права человека представляются не идеальною нормою, к которой должны стремиться человеческие общества, а вечно присущим человеку требованием, против которого ничто не имеет силы. Самое общежитие является произведением личной воли и личных прав. Человек, по учению писателей этой школы, не имеет иных обязанностей, кроме тех, которые он добровольно на себя принимает. Он по собственной воле вступает в общество и всегда может отказать ему в повиновении. Не только общество первоначально основано на договоре, но этот договор возобновляется беспрерывно. Человек постоянно держит весы, на которых он взвешивает выгоды и невыгоды общежития, и как скоро последние перевешивают, так общество теряет свои права, и уничтожается всякая связь между ним и его членом. Цель общежитии состоит не в стеснении, а единственно в охранении свободы, которая остается началом и концом всего общественного быта.
Если мы спросим: на чем основана вся эта теория? — то у философов XVIII века мы не найдем ответа. Она составляет чистое произведение анализа, разлагающего человеческое общество на составные части и признающего право первоначальною и неотъемлемою принадлежностью каждой входящей в состав его единицы. Но в силу чего этим единицам присваиваются такие права? Мы видели, что внешняя свобода, как требование, предполагает свободу внутреннюю. Между тем не только писатели этой школы не исследовали существа внутренней свободы, но многие из них совершенно ее отвергали. Через это внешняя свобода теряла всякую почву. Самое право, при таком воззрении, лишалось существенного элемента — закона. Оно непосредственно выводилось из личной свободы, между тем как свобода становится правом, только когда она определяется общим законом. Право вытекает не из существа каждой отдельной единицы, а из взаимодействия этих единиц. Вне общества человек может быть свободен, но он не имеет прав; он получает их только в обществе. Поэтому и образование человеческих обществ не может быть выведено из договора. Последний предполагает уже права, а право возникает только в обществе. Но общежитие не исчерпывается охранением свободы. Нет сомнения, что свобода составляет существенный его элемент, однако далеко не единственный. Кроме нее существуют естественные определения, исторические условия, нравственные обязанности, наконец требования общего блага. Общежитие, основанное чисто на началах личного права, совершенно даже немыслимо, оно само собою идет к разложению, ибо частное владычествует здесь над общим. Свобода, в своей исключительности и односторонности, есть анархическое начало.
Этот — коренной недостаток индивидуалистической теории XVIII века и вытекающие из нее последствия были весьма хорошо выяснены Бентамом в его "Анархических софизмах". Но заменить эти начала другими, более твердыми, Бентам был не в состоянии. Утилитаризм, которого он был главным провозвестником, отвергает всякие умозрительные системы и хочет держаться чисто практической почвы. Для него нет иного права, кроме того, которое установляется положительным законом. О прирожденной человеку свободе и вытекающих из нее требований нет речи. Человек имеет только те права, которые даруются ему законодателем. Чем же, однако, руководится законодатель в своих постановлениях? Нравственная школа утверждала, что руководящим началом законодательства должен служить нравственный закон; но утилитаризм отвергает отвлеченный нравственный закон, так же как и отвлеченное начало свободы: для него единственным руководством служит общая польза. Но на чем основана эта общая польза? Опять же на личных требованиях, ибо иного ничего в утилитарной теории не обретается. Общее для утилитаристов есть не более как сумма частных определений; общая польза есть сумма частных удовольствий. Частное же удовольствие признается целью всякой человеческой деятельности, потому что человек, по своей природе, ищет удовольствия и избегает страдания. Таким образом, в основание всей системы полагается именно то, что было отвергнуто, то есть личное требование, на котором и строится все здание. Отличие от теории XVIII века заключается лишь в том, что удовлетворение этого личного стремления к счастию не предоставляется свободе каждого, а возлагается на законодателя, который должен решить, что составляет наибольшее счастие для наибольшего количества людей. С этою целью он должен всякий раз производить арифметическую операцию, взвешивать удовольствия одних и неудовольствия других, и произносить свое решение, смотря по тому, которая из этих сумм перевешивает. Ясно однако, что судьею собственного счастия может быть только каждое отдельное лицо, а потому предоставление законодателю власти делать людей счастливыми даже против их воли, не имеет решительно никакого основания. Кроме того, сам законодатель, будучи человеком, естественно будет иметь в виду не общее, а личное свое счастие. Держась утилитарной теории, мы должны признать правомерным всякое злоупотребление властью. Вследствие этого Бентам окончательно пришел к убеждению, что законодательство тогда только может иметь в виду пользу большинства, когда оно вверяется самому этому большинству. Но тут уже для лица исчезают всякие гарантии. Меньшинство всецело предается на жертву большинству, единственно на том основании, что два более, нежели один. О свободе, о праве нет уже речи. Самые нравственные требования устраняются, ибо нравственным, по этой теории, считается лишь то, что согласно с наибольшим счастием наибольшей суммы людей, то есть с волею большинства, которое одно является судьею своего счастия. Одним словом, тут происходит полное смешение всех сфер и всех понятий, права с нравственностью, частной сферы с общественною, и все это во имя отвергнутого личного начала, которое, с помощью логической путаницы, превращается в общее.
Не в чисто практическом начале пользы, печальном прибежище скептицизма, можно было найти решение вопроса о существе и об источнике права. Смешение права с пользою могло вести лишь к затемнению понятий. Чтобы дойти в этом вопросе до твердых оснований, нужно было не отвергать все предшествующее развитие мысли, а возвести ее на высшую ступень сведением к единству противоположных направлений, на которые она разбивалась. Каждое из этих направлений представляло известную сторону человеческого общежития; надобно было связать их друг с другом и указать место и значение каждого элемента в общей системе. Это было задачею идеализма.
Начало этому направлению было положено учением Канта. Им были раскрыты истинные основания как нравственности, так и права. Свобода была понята как неотъемлемая принадлежность нравственного существа человека, и указано вместе с тем двоякое ее проявление: в области внутренней, где она подчиняется нравственному закону, и в области внешней, где она управляется законом права. Кант не смешал права с нравственностью, как делали философы нравственной школы; он первому отвел самостоятельную область с собственно ей принадлежащими определениями. В этом отношении он усвоил себе теорию индивидуалистической школы и определил право как совместное существование свободы лиц под общим законом. Но у него внешняя свобода не являлась оторванною от своего корня; она не выставлялась как неизменное и непреложное начало, имеющее силу всегда и везде. В осуществлении свободы он видел не исходную точку, а цель человеческого общежития; подчинение же ее общему закону он не предоставил произволу лица, а признал безусловною обязанностью человека, к которой он может быть привлечен даже путем принуждения. Исключительность и односторонность прежних систем были устранены; но от каждой из них сохранено существенное.
Определение Канта, с большими или меньшими видоизменениями было принято, за немногими исключениями, всеми мыслителями, вышедшими из его школы, несмотря на разнообразие их учений. Фихте выводит право прямо из взаимного признания свободы. Публицисты и философы либерального направления, Круг, Роттек, Цахариэ, видели в праве выражение внешней свободы, не отрывая, однако, последней от свободы внутренней, но уделяя ей самостоятельную область. Тех же начал держались и юристы, принадлежавшие к исторической школе. Пухта определял право как признание свободы, выражающей волю, направленную на внешний мир. На начале личности, по его учению, строится все право. К тому же сводится и теория Гербарта, который понимал идею права как соглашение воль для предупреждения спора. Наконец, высший представитель нового идеализма, Гегель, определяет право в обширном значении как осуществление свободной воли. Первую его ступень составляет право в тесном или строгом смысле, которое есть выражение личности в ее внешних проявлениях. Закон строгого права гласит: "будь лицом и уважай других как лица". Вторую ступень составляет субъективная мораль, образующая область внутренней свободы. Наконец, оба начала, строгое право и мораль сводятся к высшему единству в области объективной нравственности, составляющей сферу общественных союзов. Здесь субъективная свобода переходит в объективную; однако же и тут отдельное лицо сохраняет свое значение: оно не всецело принадлежит государству, но развивает свою особенную сферу частных интересов в союзах семейном и гражданском (Ph. d. Rechts, § 260).
Эти выработанные философиею определения права были признаны даже утопистами, которых отличительная черта состоит в том, что они жертвуют личною свободою общественному началу. Так, Лассаль прямо говорит, что "свобода мысли и воли суть неприкосновенные основные определения, на которых покоится все право вообще; а потому не может быть речи о праве там, где уничтожается самая его идея"[32]. В особенности частное право, по его признанию, "не что иное, как осуществление свободной воли лица"[33]. И если, несмотря на то, преувеличивая установленные Гегелем начала объективной нравственности, Лассаль утверждает, что "всякое законом установленное право, — всякое бытие индивидуума, не что иное как определение, положенное вечно изменяющимся общим духом"[34], то подобный взгляд находится в противоречии с собственными его положениями и еще более с здравою теориею и с явлениями жизни. К этому мы еще возвратимся впоследствии.
Казалось бы, что после всего этого вопрос должен был считаться решенным. И философы и юристы, и либералы и консерваторы, и приверженцы умозрения и защитники опыта, все сходились на одном и том же определении, все видели в праве явление внешней свободы лица, признанной законом. Философская и историческая школы, которые так горячо ратовали друг против друга, в этом отношении были согласны. Можно было считать основания права прочным приобретением науки. Но в человеческой мысли произошел поворот: от исследования начал она обратилась к изучению явлений. С тем вместе, вследствие односторонности нового направления, философия подверглась гонению; выработанные ею, по-видимому, совершенно прочные результаты были забыты, и мы снова обретались в полном мраке. Исследователи, руководящиеся чистым опытом, с своей стороны принялись за определение начал права. Но так как последнее, в своем источнике, есть начало умозрительное, а свет, озаряющий область умозрения, был погашен. то пришлось бродить наобум, пытаясь ощупью ухватиться за ту или другую точку опоры. Из этого, очевидно, кроме противоречий, ничего не могло выйти, и вся эта работа не только пропадает даром, но способствует еще большему затемнению понятий.
В таком положении находятся многие из лучших современных умов. Поучительным примером может служить один из первых юристов нашего времени, Рудольф фон Иеринг. Мы видели уже выраженное им сожаление, что он развивался в такую пору, когда философия была в загоне. Он объявляет себя дилетантом в этой науке, но несмотря на то, он смело пускается в путь, откинув весь старый груз и стараясь на основании выработанных современною наукою данных построить новую систему правоведения. Посмотрим, к чему он приходит.
Уже в третьей части своего "Духа римского права" знаменитый юрист, внезапно покинув свою прежнюю, чисто юридическую точку зрения, объявил, что начало права вовсе не есть воля, а цель или приносимая им польза. Право, по его определению, не что иное, как юридически защищаемый интерес. Поэтому истинным субъектом права должен быть признан не тот, кто располагает вещью, а тот, кто ею наслаждается[35]. Новейшее его сочинение "Цель в праве" (Der Zweck im Recht) имеет задачею развить и оправдать эту точку зрения.
Просим извинения у читателя, если мы несколько подробно остановимся на этом вопросе ввиду существенного его значения не только для науки, но и для жизни. Для всякого человека в высшей степени важно знать, что такое право: проистекает ли оно из неискоренимых требований человеческой личности или же это не более как изменчивое начало, которое установляется и отменяется законодателем во имя общественной пользы? Когда один из первых юристов нашего времени высказывается за последнее, мы не можем оставить его доводов без обстоятельного разбора.
Автор отправляется от противоположения начала цели механической причинности. Последняя прилагается к физическим движениям, первая к воле. Нет воли и нет действия без цели. Животные тоже действуют ввиду цели, но у них конечною целью всегда является сама действующая особь. Человеческие же действия отличаются тем, что в них имеются в виду и другие лица, и притом в силу двоякого рода побуждений: эгоистических и бескорыстных. Из тех и других образуется общественная связь, или общение целей, откуда проистекает взаимодействие между лицом и обществом. Двоякое, возникающее отсюда отношение автор выражает двумя чересчур общими формулами: мир существует для меня, и я существую для мира[36].
Эти две формулы очевидно противоречат друг другу; надобно искать их соглашения. В этом и заключается существенная задача права. Но именно эту задачу автор объявляет неразрешимою, и вместо требующегося предметом исследования отношений лица к обществу, он прямо приносит первое в жертву последнему. Формула: "мир существует для меня" предается забвению и остается только формула: "я существую для мира". Вследствие этого право определяется как "система обеспеченных принуждением общественных целей" (стр. 240). В другом месте оно определяется как "обеспечение жизненных условий общества в форме принуждения" (стр. 434). Под именем условий разумеются не только требования физического существования, "но и все те блага и наслаждения, которые, по суждению субъекта, дают жизни настоящую ее цену". Таким образом, "они заключают в себе все, что составляет цель человеческих стремлений: честь, любовь, деятельность, образование, религию, искусство, науку" (стр. 435–436). Все это становится общественною целью, а так как общественная цель осуществляется путем права, а основной признак права есть принуждение, то все это становится предметом принудительного закона.
Определение права как совокупности условий для осуществления человеческих целей не ново. Оно было развито школою Краузе. Но Краузе и его ученики старались, хотя тщетно, установить различие между условиями для достижения целей и самыми целями. Только первые, по их учению, составляют предмет права, а потому могут быть установлены путем принуждения; самое же достижение целей предоставляется свободной деятельности соединяющихся в общество лиц. Поэтому государство, как союз принудительный, ставится в служебное отношение к обществу, как высшему, свободному союзу. У Иеринга, напротив, жизненные условия и цели совпадают, и наука права превращается в науку целей (стр. 432). Вследствие этого все во имя общественной цели может сделаться предметом принуждения. Границ тут нет никаких. Все частные права, по этой теории, имеют общественный характер, причем автор восклицает: "пусть каждый осмотрится, прежде нежели он подпишет это положение! Он допускает этим более, нежели он думает" (стр. 519). И точно, в этом заключается коренное извращение всего частного права и уничтожение всяких гарантий человеческой свободы. Автор признает однако, что общество не всегда имеет нужду прилагать принуждение. Там, где собственный интерес лиц побуждает их исполнять общественные цели, там оно может положиться на свободу. Но это не более как дозволение. Как скоро эгоистические побуждения к деятельности, как то: голод, любовь, самосохранение — оказываются недостаточными, так общество имеет право вступаться. Самоубийцы, безбрачные, нищие такие же преступники против основных законов человеческого общества, как и убийцы, разбойники, воры. Если бы, говорит Иеринг, осуществимо было предположение одного новейшего философа (Гартмана), что человечество когда-нибудь в тоске решится покончить с своим существованием, то подобное решение "заключало бы в себе опасность для общества", и против него надобно бы было принять меры (стр. 444–446). С этой точки зрения, Иеринг считает позором для государства, что оно, вопреки своим обязанностям, допускает безбрачие католического духовенства (стр. 448), и одобрительно приводит миру Людовика XIV, который, для умножения народонаселения в Канаде, силою заставлял холостых вступать в брак (стр. 447). Есть даже намек, что в настоящее время религиозные преступления потому не наказываются, что интерес религии стоит очень низко (стр. 483). В будущем же автор предсказывает нам, что поглощение личных целей общественными будет идти все увеличиваясь. "Лицо, товарищество, государство, — говорит он, — такова историческая лестница человеческих целей". Что прежде исполнялось лицом, то переходит к товариществу и затем к государству. "Государство поглощает в себе все цели общества; если правильно заключение от прошедшего к будущему, то в конце вещей оно воспримет в себя все общество" (стр. 304–305).
Таким образом, во имя общественной цели, которой оно служит, право, с сопровождающим его принуждением, более и более охватывает всю человеческую жизнь. Лицо вполне поглощается обществом. В правоведении оно может рассматриваться как субъект права; высшее понятие есть понятие о субъекте цели; верховным же субъектом цели является не отдельное лицо, а общество как целое, которого лицо состоит членом. "Если все юридические установления имеют целью обеспечение жизненных условий общества, то это означает, что общество является в них субъектом цели" (стр. 453). "Все право существует для общества" (стр. 455). Правда, замечает Иеринг, юристы могут протестовать против подобной замены; но насколько юрист может справиться с этою точкою зрения, это нас здесь не интересует. "Социал-политик не позволит этим сбить себя с толку в своем способе понимания; предоставляя юристу свободное употребление принадлежащего ему понятия субъекта права, он. с своей стороны, потребует себе право употреблять в правоведении понятие субъекта цели сообразно с тем, что нужно для его задачи" (стр. 454). "Эти две точки зрения, — прибавляет Иеринг, — я строго различал", что не мешает ему, однако, признавать, что вся научная классификация права должна быть основана на понятии о субъекте цели (стр. 493), и утверждать, "что право и целесообразность совершенно тождественны" (стр. 517).
Социал-политик, по-видимому, избавлен даже от обязанности держаться в своих определениях указанной логикою терминологии. Вообще, принято субъектом называть деятеля, а объектом лицо или предмет, на который обращено действие или который имеется в виду. В этом смысле субъектом цели будет тот, кто имеет цель и действует во имя цели; лицо же, в пользу которого происходит действие, будет не субъектом, а объектом цели. Замена же субъекта объектом не может быть допущена ни в правоведении, ни в какой-либо другой науке, ибо это два термина совершенно противоположные.
Что касается до вопроса: тождественно ли право с целесообразностью и есть ли правоведение наука целей? то для решения его необходимо рассмотреть: каково происхождение права и где его источник? На этот счет мы, к удивлению, находим у Иеринга такую теорию, которая идет прямо вразрез со всем, что им высказано выше.
Рассматривая его воззрение на право как на осуществление всепоглощающей общественной цели, можно подумать, что мы обретаемся на почве самого крайнего идеализма. В самом деле, сущность идеализма состоит в том, что он в основание своего миросозерцания полагает идеальное начало цели. Идеализм становится односторонним, когда он этому началу жертвует самостоятельностью частных элементов. В приложении к общественной жизни, эта односторонность ведет к всецелому поглощению лица обществом. В этом состоит коренное заблуждение социализма, и к тому же самому приводит, как мы видели, и воззрение Иеринга. Между тем знаменитый юрист отнюдь не думает быть идеалистом; он исследует практические мотивы человеческих действий, и если в будущем он представляет себе идеальное государство, поглощающее в себе всякую личную жизнь, то в действительности он хорошо понимает, что осуществление общественных целей зависит от воли государственной власти, которая является источником всякого положительного права. Для практики одной цели недостаточно; чтобы осуществить ее, нужна сила, устанавливающая право. И вот вместо идеализма мы получаем теорию, производящую право из силы.
Откуда проистекает право? Иеринг прямо отвечает: из силы. Оно рождается властью сильнейшего (стр. 250). И это говорится не в смысле исторического происхождения, а о самом существе начала. "Этому воззрению, которое право производит из силы, — говорит автор, — противополагается другое, которое приписывает обоим совершенно различное происхождение, как будто оба с самого начала друг другу чужды и враждебны, право — высшее существо, рожденное на небе, откуда оно спускается затем на землю, сила — злой парень, рожденный на земле, где он все ниспровергает своею необузданностью, пока оба наконец встречаются на земле, и сила. пораженная благородством и величием права, обращается внутрь себя и отдает себя его руководству, через что она делается образованным существом и полезным членом человеческого общества. конечно не без того, чтобы иногда возвратиться к своему своеволию и необузданности и избавиться от дисциплины права" (стр. 251). "Это воззрение, — прибавляет Иеринг, — я считаю коренным образом ложным… Право, в моих глазах, есть только сознающая свою выгоду, а с тем вместе необходимость меры сила, следовательно, отнюдь не нечто отличное от последней по своей сущности, а лишь известный способ ее проявления (eine Erscheinungsform derseiben)… Право не есть нечто противоположное силе, а только принадлежность (Accidens) самой силы" (стр. 251–252). Противники этого воззрения, продолжает автор, представляют их себе в виде доброго Ормузда и злого Аримана; "но в действительности они оба одно существо: Ормузд есть только облагороженный Ариман. Ариман без Ормузда есть реальность; Ормузд же без Аримана пустая тень". Каким же образом Ариман становится Ормуздом? Тем, что опыт научает его, каким способом он может из своей власти извлечь наибольшую выгоду. "Право есть политика силы" (стр. 252–255).
Очевидно, что мы от крайнего идеализма перескочили на почву чистого натурализма. Мы возвращаемся к воззрениям Гоббса и Спинозы. Идеализм нужен был единственно затем, чтобы убедить подданного, что он, во имя общественной пользы, должен всецело отдать себя на жертву власти; в действительности же власть действует исключительно ввиду своей выгоды, и если она угнетает подданных под предлогом общественной пользы, то это совершенно согласно с требованиями права. Простор для нее тем больший, что вовсе не нужно, чтобы право соответствовало каким-либо действительным целям и потребностям общества; достаточно, чтобы власть это признавала. Сам Иеринг приводит в доказательство преследование ведьм и колдунов (стр. 440–441). Думаем, что такие противоречащие друг другу воззрения могут быть объяснены только значительною философскою неподготовкою автора.
Но этим еще не кончаются извороты его мысли. Мы перевертываем несколько страниц, и нам готовится новый сюрприз. Иеринг прямо признает, что можно к сочетанию права с силою подойти и с совершенно другой стороны: можно начать не с силы, а с права (стр. 322). С этой точки зрения, "первый зародыш принуждения, как общественного установления, лежит в особи — цель существования особи на земле без принуждения неосуществима; эта цель есть первая, и в ней поэтому лежит первоначальный зародыш права как правомерной силы" (стр. 289). В этом смысле Иеринг говорит, что "сущность чувства права заключается в воле, в энергии личности, чувствующей себя самобытною целью, в превратившемся в неудержимую потребность и в жизненный закон стремлении к правомерному самоутверждению" (стр. 342). С этими требованиями лицо приступает к обществу, полагая себе задачею поставить перевес силы на сторону права (стр. 289). Несмотря на сопротивление власти (стр. 371), право наконец покоряет ее себе. "В государстве, — говорит Иеринг, — право обрело наконец то, что оно искало: владычество над силою" (стр. 306).
Читатель видит, что мы имеем здесь ту самую теорию, которая выше отвергалась как коренным образом ложная: право и сила являются как два разные, по существу своему, начала, в борьбе друг с другом, до тех пор пока наконец право побеждает. Но рядом с этим является и третья система, именно, точка зрения миролюбивого соглашения (стр. 323). Здесь власть и право являются как два различных начала, состоящих во взаимной зависимости. "Оба понятия, — говорит Иеринг, — находятся в отношении взаимной условности: государственная власть нуждается в праве, а право нуждается в государственной власти" (стр. 310). Сила сама отворяет двери праву; но последнее на нее воздействует, и бывши сначала сандрильоном, становится наконец палатным мэром, то есть истинным властителем в государстве (стр. 340).
Чтобы достигнуть этой цели, надобно прежде всего убедить власть, что собственная ее выгода требует уважения к праву. И точно, власть скоро убеждается, что управляя посредством общих законов, а не путем частных распоряжений, она достигает значительного сбережения силы, облегчения и работы, и удобств (стр. 333). Но это только одна сторона вопроса: общая норма обязательна единственно для тех, кто ей подчиняется, а не для того, кто ее издает; властитель естественно находит для себя выгодным обязывать других, а самому не связываться ничем, и отступать от закона всякий раз, как он находит это удобным. Такова точка зрения деспота (стр. 338), и она находит себе подтверждение в самом учении о тождестве права с целью. "Идее целесообразности, — говорит Иеринг, — до такой степени противоречит связывание себя раз навсегда определенными, подробными нормами, что полная независимость от каких бы то ни было норм все еще выгоднее этой зависимости" (стр. 378). Каким же образом деспот убедится, что ему выгодно самому подчиниться установленным им нормам? Тут политика оказывается недостаточною, и остается прибегнуть к нравственному началу. "В норме, которую он сначала устанавливает, а потом сам попирает ногами, — говорит Иеринг, — он произносит приговор над самим собою, и это та точка, где нравственный момент, как робость перед явным противоречием с самим собою, впервые находит доступ к силе" (стр. 340). Это нравственное побуждение именно и заставляет силу отворить двери праву. Нельзя не заметить, что этим самым доказывается, что воззрение на право как на политику силы, которую она преследует из собственной выгоды, лишено всякого основания.
Этого мало. С одними нравственными побуждениями трудно воздержать силу, не знающую границ. Право требует гарантий. Эти гарантии могут быть двоякого рода: субъективные и объективные. Субъективная гарантия состоит в присущем народу сознании права, которое, вытекая из самоутверждения лица, сначала проявляется в области частного права, но затем простирается и на право государственное. Эта нравственная сила, говорит Иеринг, которая не может замениться никакими конституционными постановлениями, составляет самый твердый залог обеспеченности права. Через нее крепость права становится собственным делом народа, плодом нередко приобретаемым только ценою крови (стр. 371–373). Объективная же гарантия состоит в независимости суда, который должен быть совершенно отделен от правительственной власти (стр. 382) и должен иметь исключительною целью охранение права (стр. 377). Иеринг объясняет необходимость отделения суда от администрации тем, что суд не должен иметь в виду ничего, кроме права, тогда как в других отраслях управления к этому присоединяется целесообразность. "Судья, — говорит он, — должен некоторым образом быть ничем иным, как живым, осуществленным законом. Если бы правда могла низойти с неба и взять грифель в руки, с тем чтобы изобразить право так определенно, точно и подробно, чтобы приложение его превратилось в простую шаблонную работу, то для правосудия нельзя было бы придумать ничего более совершенного; это было бы царство правды на земле". Идея целесообразности, напротив, не выносит такой зависимости от нормы; перенесение этого начала с суда на другие отрасли государственной деятельности повергло бы государство в состояние оцепенения. "На этой противоположности двух идей: по своей природе связанной правды и по своей природе свободной целесообразности, — говорит Иеринг, — основана внутренняя противоположность между судом и управлением" (стр. 378). "В юстиции высшая цель — правда, в управлении — связь с силою" (стр. 379).
Ясно, что этим совершенно отрицается все, что было сказано выше о тождестве права с целью; но эти вполне верные положения, проистекающие из чисто юридической точки зрения, не мешают тому же Иерингу через несколько страниц опять утверждать, что право не что иное, как политика силы, и что право и целесообразность совершенно совпадают.
Что же означают все эти вопиющие противоречия? То, что Иеринг, при недостаточном философском образовании, эклектически смешал разнородные воззрения без всякой внутренней связи. С одной стороны, он кидается в крайний идеализм и всецело приносит лицо на жертву общественной цели; с другой стороны, как реалист, он выводит право из силы; наконец, он все-таки остается юристом, и как таковой, не может не видеть отличие права, как от цели, так и от силы, и связи его с требованиями личности. Переплетение всех этих диаметрально противоположных взглядов именно и повело к тому бесконечному блужданию, которое поражает нас в сочинении Иеринга; отсюда возникает такой хаос мыслей, от которого приходит в ужас всякий читатель, привыкший связывать понятия. Если бы почтенный ученый захотел просто проверить вытекающие из правоведения начала путем умозрения и за этою проверкою обратился бы к изучению философии, то в ней он нашел бы подтверждение этих самых начал. Но к сожалению, он захотел быть не столько философом, сколько социал-политиком, а тут уже не было спасения. Погрузившись в эти мутные воды, в которые никогда не проникал свет Божий, он естественно потерял способность различать предметы и понятия. Дан, критикуя воззрения Иеринга и противопоставляя им понятие о праве, как о разумном начале, говорит, что метода, которой следует автор "Цели в праве", не философская, и не юридическая, и не историческая, а просто иеринговская. Скорее надобно сказать, что это метода социал-политическая. Если бы она была чисто иеринговскою, то из нее, без сомнения, вышло бы нечто более путное. Пока знаменитый юрист стоял на своей почве, он смотрел на предмет совершенно иначе. Это мы и видим в первых частях его "Духа римского права", где истинные начала правоведения излагаются в таких метких и ярких чертах, что после предыдущей критики мы не можем отказать себе в удовольствии сделать из него некоторые выписки.
Там право определялось не как защищаемый интерес, а как "объективный организм человеческой свободы"[37]. Существо римского воззрения Иеринг полагал в том, что личное начало составляет источник права, что каждый в себе самом носит основание права[38]. И это воззрение он признавал безусловно верным, "ибо, — говорит он, — содержание каждого юридического отношения, если отделить от него все придатки и привести его к юридическому его зерну, есть именно власть воли, господство; различия юридических отношений суть различия господства"[39]. "Рассмотрение совокупности частного права и всех его отношений с этой точки зрения, — замечает он в другом месте, — есть именно абсолютно верное… Всякое право есть частичка власти, составляющей принадлежность воли, частичка, сделавшаяся конкретною и получившая определенный образ; только те отношения суть юридические, и лишь настолько, насколько в них заключается это содержание; все, что в них содержится других элементов, нравственных, экономических, политических и т. п., все это не должно юристом упускаться из виду и считаться за ничто, но при отвлечении юридических понятий он должен все это устранить. В этом отношении римляне дали правоведению всех времен образцовый пример. Прирожденная ли виртуозность юридического отвлечения сделала их к этому способными? Единственную причину этого явления, — говорит Иеринг, — я вижу в ревности и энергии римского чувства свободы; частное право было для старого римлянина кодексом, Великою Хартиею его личной свободы… Как бы ни прозаичен был римский мир, он стоял именно на той высоте, где можно было сделать открытие, которое нельзя было бы сделать на другой, по-видимому более высокой точке зрения, открытие частного права. Это приобретение каждый народ должен себе усвоить… Абсолютно верная мысль, которая изобразилась в римском праве, состоит в том, что все отношения частного права суть отношения господства, что власть воли составляет призму частно-юридического понимания и что вся теория права имеет единственною задачею раскрыть и определить элемент свободы и господства в жизненных отношениях… Нашему научному сознанию, — прибавляет Иеринг, — не делает чести, что истина, которую в Риме давно открыл простой здравый человеческий смысл, не только многими упускается из виду, но даже прямо обозначается как заблуждение и недостаток римского права… Такое осуждение просто-напросто ведет к отрицанию всякого правоведения, ибо сущность последнего заключается именно в том, что оно отвлекается от всего не юридического в отношениях, не юридическое же есть все то, что не отражается на точке зрения господства"[40].
Высказывая такие взгляды, Иеринг был весьма далек от выраженной им самим впоследствии мысли, что власть, принадлежащая объективному праву, то есть общему закону, достается субъективному праву, то есть отдельному лицу, лишь на столько, на сколько она даруется первым, или на сколько первое "осаждается" в последнем, вследствие чего личное право не что иное, как "часть общей воли, сделавшейся живою и конкретною в частном лицо"[41]. Он прямо отвергал подобное воззрение как заблуждение. "Римское представление, — говорит он, — состояло не в том, что право будто бы явилось на свет только с государством и с законодательством; оно было правом, не потому что оно было законом, но оно было законом, потому что оно было правом. Конкретное, так же как и отвлеченное право обязано закону не своим существованием, а единственно формальным своим признанием"[42]. Корень права Иеринг видел в самоопределении воли, которое он считал неотъемлемою принадлежностью природы человека. Во имя этого начала он отвергал всякое смешение права с другими идеями, как то: благого, прекрасного, целесообразного. "Если бы мы представили, — говорил он, — что право восприняло в себя все содержание этих идей и что предписания нравственности, обычаи жизни, догматы и требования религии получили штемпель юридических положений, то отдельное лицо сделалось бы автоматом, исполняющим единственно движения, предписанные ему законом. Всякий чувствует, что такое употребление права противоречило бы его идее, то есть его задаче и назначению для человечества; ибо невозможно допустить, чтобы его назначение состояло в том, чтоб сделать из человека машину и отнять у него именно то, что возвышает его над бездушным творением и над животным царством: способность к самоопределению. Признание права самоопределения есть, следовательно, высшее требование, с которым мы обращаемся к праву, а размер и способ, каким отдельное положительное право удовлетворяет этому требованию, служит для нас мерилом, который мы измеряем внутреннюю его самобытность, то есть вопрос, насколько оно поняло и изобразило внутреннюю сущность права"[43]. Отсюда следует, что "законодательство должно по возможности охранять и уважать самоопределение отдельного лица; каждый должен иметь право делать и то, что нецелесообразно, а не быть просто, как крепостной человек, притянутым, через посредство закона, ко всем целям, которые власть считает достойными предметами своих забот"[44]. "Воля, — говорит далее Иеринг, — есть творчески образующий орган личности; в деятельности этой творческой силы лицо возвышается к подобию Божьему. Чувствовать себя творцом хотя бы самого малого мира, отражаться в этом творении, как в чем-то таком, что прежде него не существовало, что только через него получило бытие, — вот что дает человеку сознание своего достоинства и предчувствие присущего ему образа Божьего… Развить эту творческую деятельность есть высшее право человека и необходимое средство для его нравственного самовоспитания. Оно предполагает свободу, следовательно, и ее злоупотребление, выбор дурного, нецелесообразного, неразумного и т. д., ибо нашим творением может считаться только то, что свободно вытекло из личности. Принуждать человека к доброму, к разумному и т. д. не столько потому есть грех против его назначения, что ему преграждается выбор противоположного, сколько потому, что он лишается возможности делать добро по собственному побуждению… Государство, — продолжает Иеринг, — обязано признать и защищать это производительное назначение воли, как юридической власти и свободы. Но в каком размере? Опыт показывает везде существование законных границ свободы… Что у государства невозможно оспаривать такого рода вмешательство в область личной свободы, на этот счет в настоящее время не стоит терять слов. Но как далеко простирается это право? Если государству дозволено возводить в закон все, что ему кажется добрым, нравственным, целесообразным, то этому праву нет границ, и выведенное выше право личности становится вопросом; предоставленное ему движение имеет тогда просто характер уступки, это — чисто милостивый подарок. Этот взгляд на всепоглощающее и все вновь из себя рождающее всемогущество государства, несмотря на блестящую оболочку, в которую он так охотно любит облекаться, несмотря на громкие фразы о народном благе, о преследовании объективных начал, о нравственном законе, — этот взгляд есть и остается истинным порождением произвола, теориею деспотизма, кем бы он ни прилагался, народным собранием или абсолютным монархом. Принять его значит для лица учинить измену против себя самого и своего назначения, это нравственное самоубийство! Лицо с своим правом на свободную творческую деятельность существует не менее Божьею милостью, как и государство, и лицо имеет не только право, но и священную обязанность давать значение этому требованию и проводить его в жизнь". Систему свободы Иеринг признает абсолютным идеалом, к которому должен стремиться всякий народ[45].
Невозможно в более сильных выражениях заклеймить свое собственное, впоследствии выработавшееся воззрение. Сравнивая эти меткие, вытекшие из самого изучения предмета суждения с тою исполненною противоречий мнимо-философскою аргументациею, которой Иеринг предается в позднейшем своем сочинении, нельзя не видеть той глубины падения, к которой приводит социал-политика неосторожных, увлекающихся ею юристов.
Теория Иеринга возбудила значительные толки в Германии. Она вызвала возражения и со стороны философов, и со стороны юристов. Нашлись, однако, и последователи, которые хотели проводить ее с чисто юридической точки зрения. Прежде всего надобно было установить самое понятие о праве. Невозможно было удержать данное Иерингом определение личных прав, как законом защищаемых интересов. Сам автор признал несостоятельность своего определения, указавши на то, что существуют защищаемые законом интересы, которые вовсе не суть права. Так, например, таможенные законы несомненно служат для защиты интересов фабрикантов, тем не менее отсюда не рождается никаких прав для последних. Вследствие этого Иеринг к своему определению прибавил новый признак, именно, предоставление лицу права самому защищать свой интерес посредством судебного иска. С этой точки зрения, личное право определяется им как самозащита интереса[46]. Интерес, по его выражению, составляет зерно, защита — ограждающую скорлупу личного права[47].
Ясно, однако, что с этим новым признаком изменяется самый характер определения. Ни интерес сам по себе, ни даже защита его государством, не составляет еще права; интерес становится правом только там, где лицо само себя защищает. Все дело заключается, следовательно, в этом последнем признании. А если так, то не зерно, а ограждающая скорлупа составляет сущность права. Это именно воззрение старался провести Тон в сочинении "Юридическая норма и субъективное право" (Rechtsnorm und subjectives Rccht, 1878). Разбор его учения окончательно выяснит нам существо юридических начал.
Тон отправляется от принятого со времен Гегеля определения, что право в объективном смысле не что иное, как общая воля, причем он не считает нужным разбирать, действительно ли общая воля Гегеля означает волю общества (стр. 1). Достаточно того, что по принятому понятию, "все право известного общества состоит в его нормах". Задача заключается в том, чтобы показать, каким образом отсюда вытекает субъективное право; то есть надобно найти ту точку, на которой объективная норма становится вместе с тем правом отдельного лица (Vorwort, 1 и стр. 108).
Эта задача очевидно проистекает из точки зрения, совершенно противоположной той, которую мы признали правильным результатом всего предшествующего развития философии права. Там утверждалось, что в области чистого права исходною точкою служит личное начало, свобода, которая сама требует своего определения разумным законом. Здесь же наоборот, согласно с старым учением нравственной школы, в основание полагается начало закона, из которого уже выводится личное требование.
Ту же точку зрения мы видели и у Иеринга в позднейшем развитии его учения. И он исходит от понятия о праве как общем законе. Но в определении объективного права Иеринг руководствуется главным образом началом цели, хотя он и примешивает к нему другие понятия; Тон, напротив, восстает против включения цели в определение права. Цель права состоит в обеспечении человеку известного наслаждения или в защите известного интереса; но этот интерес не есть самое право. Последнее служит для него только средством, или защитою; защита же и защищаемое — две вещи разные (стр. 219). Право в собственном смысле, как выражение общей воли, не что иное, как совокупность норм, или повелений, что-либо воспрещающих или предписывающих. Всякое юридическое положение, по самому своему понятию, заключает в себе известный императив (стр. 2, 3). Если встречаются законы, которые имеют характер дозволения, то они не составляют самостоятельных юридических правил: ими установляются только предварительные условия для действия тех или других императивов; сущность же права заключается единственно в последних (стр. 346–348). Простое дозволение вовсе не есть дело права (стр. 292). Поэтому в область права не входит все то, что предоставляется естественной свободе. Последняя продолжает существовать везде, где право не полагает ей границ; но способ ее действия до права не касается (стр. 292–293). С другой стороны в понятие о праве не входит и принуждение. Оно составляет только последствие нормы, но не самую норму. Могут быть даже голые нормы, не сопровождающиеся никаким принуждением, например, те, которые возлагают известные обязанности на главу государства (стр. 6–7). "Юридический порядок, — говорит Тон, — желает, чтобы исполнялись его повеления"; но он может употреблять для этого и другие средства, кроме принуждения (стр. 11–15).
Таким образом, все юридические отношения приводятся к закону или повелению. Что же, при этой точке зрения, означает субъективное право? По мнению Тона, оно означает только известный способ защиты (стр. 113). Исходящее из общей воли право может двояким образом защищать человеческие интересы. Государство может взять эту защиту в свои руки: тогда она становится действием публичного права, или же оно может предоставить самому лицу предъявлять свои требования и тем вызывать действие императивов. В таком случае право делается частным (стр. 133, 134). При этом Тон отличает притязание, или иск, (Anspruch) от субъективного права (Recht). Притязание предъявляется, только когда закон нарушен; субъективное же право существует уже прежде. Оно состоит в ожидании (Anwartschaft) или в перспективе (Aussicht) предъявления притязания (Vorwort, 1, стр. 218, 250). Наконец, от обоих отличается правомочие (rechtiche Macht, Befugniss), которое состоит в возможности своими действиями устанавливать предварительные условия для наступления или для прекращения императивов, или в таком употреблении естественной свободы, с которым юридический порядок соединяет известные юридические последствия (стр. 338, 339). Таково, например, занятие никому не принадлежащих вещей или вступление в обязательства.
Итак, мы имеем три разных начала, обозначающие принадлежность права субъекту. Все они однако, очевидно, проистекают из одного источника и связаны друг с другом. Закон, который придает юридическое значение свободному занятию никому не принадлежащих вещей, тем самым дает овладевшему право требовать, чтобы другие не нарушали его владения, и предъявлять притязание, как скоро владение нарушено. Все это составляет, по признанию самого автора, расширение свободы (стр. 224). А если так, то последняя, очевидно, есть корень всего субъективного права в различных его формах; все они не что иное, как проявления свободы, получившей юридический характер. Поэтому невозможно утверждать, что свобода, как естественное начало, остается вне пределов права. Существенное значение права заключается именно в том. что оно свободу возводит на степень юридического начала, ибо только через это возможно соединить с нею юридические последствия. Из фактического состояния никаких юридических последствий не вытекает. Но закон определяет свободу только с формальной стороны; он устанавливает ее область, границы и способы действия, вызывающие защиту. Самое же содержание деятельности, или употребление свободы в предоставленных ей пределах, остается вне закона, ибо то, что предоставляется свободе, очевидно не определяется законом. В этом отношении Тон совершенно прав, когда он, в противоположность Иерингу, наслаждение, или пользование вещью (Genuss), устраняет из области права. Каким образом человек пользуется свободою в предоставленной ему области, до этого праву нет дела (стр. 288, 293). Цель права состоит не в доставлении наслаждения, а только в защите возможности наслаждения (стр. 219, 298–299); и притом не физической возможности, до которой, опять же по признанию Тона, праву нет дела (стр. 205), а юридической. Юридическая же возможность и есть именно свобода, которая, будучи освящена законом, становится правом.
Отсюда ясно, что пользование свободою, вопреки мнению Тона (стр. 292), есть пользование правом. Это явно обнаруживается в том, что если другой препятствует моему законному действию, то я могу требовать защиты. И эта защита дается именно свободе, а отнюдь не интересу. Признавая, что право имеет целью защиту интересов (стр. 98, 99), Тон противоречит сам себе, ибо интерес и есть то наслаждение, до которого, по собственным его словам, праву нет дела. Интересов у людей бесчисленное множество, и притом противоположных друг другу; но защита дается единственно тем, которые составляют законную область свободы, интерес должника противоположен интересу кредитора; для первого может быть даже гораздо важнее не заплатить долга, нежели последнему получить деньги. Почему же закон поддерживает в этом случае интерес кредитора, а не должника? Единственно потому, что он охраняет не интерес, а право, то есть законную свободу. Судья в своем решении руководствуется не тем, кто имеет более интереса в деле, а тем, кто имеет право. Как судья, он не может иметь в виду даже общественный интерес. Решение дела не на основании права, а на основании общественной пользы, было бы нарушением правосудия. Общественный интерес, как таковой, является определяющим началом в области административной; в юридической же сфере, как признает и Тон, общественный интерес заключается в удовлетворении идеального начала правды (стр. 4–5), то есть в том, чтобы каждому воздавалось свое. Следовательно, мы и тут приходим к коренному началу права, именно, к определению присвоенной лицу области свободы, которая для каждого составляет свое.
После всего этого едва ли нужно доказывать, что юридические нормы отнюдь не состоят и не могут состоять единственно из предписаний и запрещений. Сам Тон принужден признать, что существуют и нормы другого рода; это — очевидный факт. Есть определения правоспособности; есть определения способов приобретения имуществ. Но Тон не считает этих норм самостоятельными юридическими положениями на том основании, что ими будто бы определяются только предварительные условия для действия императивов. Конечно, если мы без всякого основания и без всякого доказательства скажем наперед, что право заключается единственно в императивах, то мы все остальное должны будем признать за придаток; но это можно сделать только с помощью полнейшего смешения понятий. Ибо что такое условие? Если мы, следуя логике, будем видеть в совокупности условий производящую причину действия, а в отдельном условии один из элементов причины, то мы никак не скажем, что причина не имеет самостоятельного значения, а есть только придаток к следствию. Если же под именем условия мы будем разуметь средство для достижения цели, то в этом случае средством будет не защищаемое право, а защищающий его императив. Сам Тон признает, что право, в том смысле, как он его понимает, не есть само себе цель, а только средство для достижения цели (стр. 219). Он сравнивает его с забором, охраняющим сад; но очевидно, что забор составляет придаток сада, а не сад придаток забора. Тон устраняет вытекающие отсюда последствия только тем, что он предмет защиты совершенно выкидывает из области права. Но он тут же принужден ввести его снова под именем правомочия, которое не есть повеление, а по собственному его признанию, не что иное, как известное употребление свободы (стр. 338, 339), и которое, однако, несомненно составляет юридическое начало, ибо с ним соединяются известные юридические последствия, защищаемые законом. Каким же образом возможно, не нарушая логики, защищаемое называть придатком, а защиту признавать основанием?
И это не единственное противоречие, вытекающее из этого воззрения. Их не оберешься. Если повеление составляет существенную сторону права, а субъективное право не имеет самостоятельного значения и служит только средством для вызова императивов, то как объяснить, что действие императивов ставится в полную зависимость от воли лица? "Те нормы, — говорит Тон, — которые имеют в виду защиту благ, принадлежащих отдельным лицам, большею частью воспрещают их нарушение единственно в том случае, когда заинтересованное лицо само не согласно на нарушающее действие. Таким образом, согласие защищаемого, по правилу, отнимает у действия характер противоречия норме" (стр. 16). Вспомним, что право, по определению Тона, есть выражение общей воли, которая предписывает или запрещает; здесь же от частного произвола лица зависит призвание действительности этих предписаний и запрещений; от него зависит подвергнуть другое лицо действию закона или освободить его от этого действия. Подчиненный закону получает власть над самим законом (стр. 217). Это тем менее может быть допущено, что всякая норма, по теории Тона, как выражение общей воли принадлежит к публичному праву, а потому всякое нарушение нормы есть нарушение публичного права (стр. 109). Основное же положение правоведения состоит в том, что публичное право не может изменяться сделками частных лиц (jus publicum privatorum pactis mutari nequit).
Самое различие публичного права и частного, при этом воззрении, исчезает. Тон признает, что это различие не может быть основано на характере защищаемых интересов, ибо интересы отдельных лиц суть вместе и интересы общества. В доказательство он ссылается на уголовное право, которое устанавливает публичные наказания за нарушение личных прав (стр. 110–112). Единственным признаком, на котором можно установить это разделение, по его мнению, служит способ защиты: публичным правом должно быть признано то, которое защищается самим государством, частным то, которого защита, в смысле предъявления иска, предоставляется частному лицу (стр. 113, 133). Между тем сам Тон указывает на то, что одно и то же право защищается иногда одним способом, иногда другим. Так например, собственность защищается иногда законом даже помимо требования лица, и эта защита, говорит Тон, делает уже из нее юридическое учреждение. "Но через это, — прибавляет он, — собственность не есть еще право собственника; это еще не частное его право" (стр. 175). "Частным правом она становится лишь тогда, когда из нарушения установленных для охраны ее норм рождается для собственника требование устранения этого противоречия норме" (стр. 156, 178). Таким образом, собственность является учреждением то публичного, то частного права, смотря по тому, как она защищается. Нарушение этого права из публичного делает его частным. Самое приобретение собственности, например путем занятия, является действием публичного права, ибо занятие не основано на каком-либо требовании; сам закон связал с ним известные юридические последствия (стр. 337, 346).
Все это очевидно не имеет логического основания. Одно и то же учреждение может быть защищаемо тем или другим путем; через это оно не теряет принадлежащего ему характера. Охранение частного права, например, собственности, может составлять и общественный интерес. На этом основаны уголовные наказания за воровство. Но самая собственность через это не перестает быть частным правом, которое приобретается и отчуждается по частной воле лица. Ссылка на уголовные законы ровно ничего не доказывает.
Не меньшие несообразности встречаются и в других юридических учреждениях. Так, в семейном праве власть римского отца семейства была безгранична, но он был предоставлен собственной силе: "Юридических средств для вынуждения своих повелений, — говорит Тон, — отец семейства не имел… помощь государства ему не давалась". В новых законодательствах, напротив, он получил право иска против детей, а последние против него (стр. 187–188). Если мы вместе с Тоном признаем, что субъективное право заключается единственно в возможности требовать защиты государства, то мы неизбежно придем к заключению, что в Риме у отца семейства не было никаких прав и что он получил их в новых законодательствах, заключению очевидно нелепому.
Но нигде внутренняя несостоятельность этой системы не обнаруживается так ясно, как в учении об обязательствах. Следуя своей теории, Тон признает, что обязательство без защиты — чистое ничто (стр. 247), хотя уже римляне допускали существрвание естественных обязательств (naturalis obligatio), которым придавалось даже некоторое юридическое значение, и мы ежедневно видим, что делаются и платятся долги помимо всяких юридических формальностей. В действительности, юридическая защита только признает, а не создает долг, а где есть долг, там есть с одной стороны право, с другой стороны обязанность. Далее из теории Тона выходит, что до наступления срока уплаты, обязательство, как право, не существует, ибо кредитор в это время "не может ни требовать, ни искать" (стр. 251); но несмотря на то, тут же взявший деньги называется должником, следовательно, считается обязанным. Наконец, даже там, где есть защита, а потому признается истинное обязательство, последнее лишено всякого юридического содержания; ибо право, по учению автора, заключается единственно в норме предписывающей или запрещающей, а тут норма ничего не предписывает и не запрещает: все зависит от частной сделки. Вследствие этого Тон определяет обязательство просто как "возложенную юридическим порядком на отдельные лица обязанность для защиты известного интереса", причем он однако сознается, что это определение весьма смутно (стр. 202). Но он объясняет это самым свойством обязательств. Они, по его мнению, "составляют великий остаток частных обязанностей, остаток, образующийся по вычете всех тех обязанностей, которые основаны на абсолютной защите известного блага". Вещное право, личность, семейные отношения — все это, говорит автор, можно определить; "в обязательствах же интересы слишком разнообразны; можно даже сказать, что они вообще не подлежат определению. Ибо нынешнее право безгранично обещает свою защиту всякому соглашению, которого исполнение может удовлетворить какой-либо интерес получившего обещание" (стр. 202–203).
Невозможно яснее высказать всю недостаточность этой теории в юридическом отношении. Обязательства, эта важнейшая отрасль частного права, на которую римские юристы положили всю силу и всю тонкость своего ума, объявляются остатком, с которым ничего не поделаешь, который ускользает от всякого определения. И точно, тут закон ничего не определяет, ибо содержание обязательства установляется не законом, а соглашением. Из частного соглашения возникают права и обязанности лиц: право же иска дается только как средство вынудить исполнение там. где соглашение нарушено.
Сам Тон, признавая юридическое притязание единственным содержанием субъективного права, принужден однако отличить от него материальное право, которого оно служит защитою. Это различение требуется самым существом юридических отношений. В самом деле, предъявлять притязания может не только тот, чье право нарушено, но и тот, кто воображает, что оно нарушено. Ябедник имеет точно такое же право предъявлять иски, как и действительно обиженный, и судья в обоих случаях одинаково должен пускать в ход весь юридический аппарат судебного решения. Если субъективное право состоит единственно в возможности предъявлять притязания, то оно в совершенно равной степени принадлежит всем. Чтобы устранить это затруднение, Тон различает основательные и неосновательные иски. И те и другие одинаково могут возбудить действия суда, но только первые, по праву, могут заставить судью обвинить противника, а в этом, по мнению автора, заключается главное дело (стр. 227, 228, 238–239). Но что такое основательные иски? То, говорит Тон, в которых истец имеет за себя материальное право (стр. 241). Последнее, следовательно, должно быть отличено от права иска. Это становится еще очевиднее, если мы сообразим, что судья может постановить несправедливое решение и что истец, по существу дела совершенно правый, может не доказать своего иска. Скажем ли мы, что он никакого права не имеет, потому что защита дается противнику? Но в таком случае исчезает всякое различие между основательными и неосновательными исками. Сам Тон не решается сделать подобный вывод: он прямо признает, что лицо может иметь материальное право, которое оно фактически не в состоянии доказать (стр. 242). Но не значит ли это признать, что субъективное право не исчерпывается защитою и что помимо защиты существует еще право, которое защищается?
Таким образом, куда бы мы ни обратились, мы приходим к необходимому различению материального права и процессуального. Вопреки теории Тона, юридическое значение имеет не только защита, но и то, что защищается. А так как защита существует для защищаемого, а не наоборот, то мы логически должны начать с последнего, признавши в нем истинное основание права; первое же, как делает, впрочем, и Тон, мы должны считать только средством. Но защищается не интерес лица, не пользование известным благом, не цели, которые он преследует, а единственно законная возможность распоряжаться своими силами и средствами, то есть свобода. Поэтому содержание права остается все-таки формальным. Каким образом человек пользуется своею свободою, хорошо или дурно, до этого праву нет дела: это выходит из пределов его ведения. Вследствие этого право, вопреки мнению Тона, может иногда поддерживать даже действия явно безнравственные. Устранивши фактическое пользование из области права. Тон утверждает, что тем самым уничтожается противоречие между правом и нравственностью. Юридический порядок, говорил он, терпит безнравственность, потому что он не в состоянии ее уничтожить; но он никогда не делается ее сообщником "дарованием права" (стр. 298. 299). И точно, если все право заключается в повелениях, издаваемых властью во имя общественной пользы, то защита безнравственных действий немыслима. А между тем на деле она существует. Богатый заимодавец, который вымогает долг у бедного должника, несомненно поступает безнравственно; но несмотря на то, право дает ему защиту. Предъявленное требование составляет законную область его свободы, и судья не может не решить дела в его пользу.
Против этого воззрения на право, как на определение законной свободы лица, возражают, что права нередко присваиваются лицам, которые сам закон признает неспособными иметь волю, следовательно, и свободу, например малолетним, сумасшедшим, даже еще не родившимся. Это возражение мы находим и у Тона (стр. 220), который выводит отсюда, что право имеет в виду не волю, а интересы лица (стр. 98, 99). Он утверждает, что логически невозможно предполагать волю как способность, там, где ее нет в действительности. Он не видит даже ни малейшего основания, почему бы какая бы то ни было степень воли могла быть условием правоспособности (стр. 282, 283), между тем как лица, юридически признанные неспособными иметь волю, имеют интересы, и эти интересы могут охраняться правом. Если при этом государство не защищает этих интересов собственною властью, а дарует неспособным лицам субъективные права, осуществление которых оно возлагает на заступающих их место опекунов, то это происходит, по мнению автора, единственно из практических целей: взявши все дело в собственные руки, государство приняло бы на себя слишком большую тяжесть, а потому оно предпочитает действовать иным путем (стр. 284–286).
Итак, присвоение прав лицам неспособным ими пользоваться и юридическое начало представительства одного лица другим, вводятся единственно для уменьшения хлопот государству! Объяснение достойно современного правоведения, которое, потерявши смысл явлений, везде ищет внешних признаков и причин. Почему же, однако, государству легче назначить опекуна и за ним наблюдать, нежели назначить чиновника и за ним наблюдать? Хлопот тут столько же, а между тем последнее, по теории Тона, имеет смысл, а первое решительно никакого. Ясно, что мы на этом поверхностном объяснении остановиться не можем и должны глубже вникнуть в существо дела. Факт тот, что права, которые и по учению Тона предполагают волю, ибо они даются именно для того чтобы пользоваться ими по усмотрению, присваиваются лицам, которые закон признает не имеющими воли, то есть способность признается там, где се нет в действительности. Тон видит в этом логическую несообразность, но это доказывает только, что самые простые философские определения, признанные всеми законодательствами в мире, перестали быть понятны современным юристам. У ребенка в действительности нет разумной воли, но способность ее иметь у него несомненно есть, ибо иначе она бы не развилась. Точно так же и сумасшедший, у которого разум временно затмился, может выздороветь; следовательно, способность у него сохраняется, а это все, что требуется для права, которое определяет только возможность действий, и притом не в настоящую только минуту, а как принадлежность самой человеческой личности. Отсюда вытекает признание прав даже за неизлечимыми. В этом выражается уважение к абсолютному значению человеческой личности, которая, в силу духовной своей природы, сохраняет характер разумно-свободного существа, даже когда физическое ее состояние делает для нее невозможным проявление разума и свободы. Тут дело идет не об охранении интересов, ибо какие могут быть интересы у несчастного, запертого на всю жизнь в сумасшедший дом, кроме того, чтобы с ним обходились человеколюбиво? Охранение интересов сумасшедшего есть дело не права, а администрации. Если ему присваиваются права, несмотря на то что он ими никогда не может пользоваться, то это означает, что в нем признается тот вечно присущий человеку источник прав, который один возвышает его над уровнем животных. Защиту закон дает и животным: он охраняет их от истязаний; иногда предписывается даже кормить их на общественный счет. Однако же отсюда не проистекает для них никакого права, как признает и Тон (стр. 177). Отличие человека от животных в юридическом отношении состоит в том, что первому присваиваются права, а последним нет. Права же присваиваются человеку именно потому, что он разумно-свободное существо, способное иметь разумную волю. В силу этого начала, он признается лицом, и ему присваивается известная область свободы, хотя бы он этою свободою фактически не мог пользоваться.
Мы намеренно остановились с некоторою подробностью на воззрениях Тона, так как они исходят от начала совершенно противоположного тому, которое мы развивали выше. Несостоятельность противного взгляда служит подтверждением правильности выводов. Мы могли убедиться вместе с тем, что рядом с упадком философии идет и упадок правоведения, для которого затмевается истинный смысл понятий, лежащих в основании как науки, так и практики. Не всегда наука равномерно движется вперед. Одностороннее развитие известного направления неизбежно влечет за собою понижение мысли в других отношениях[48].
Если же юристы до такой степени блуждают на счет коренных начал своей науки, то чего можно ожидать от экономистов, пытающихся делать экскурсии в области философии права? Здесь уже социал-политика в полном ходу, и нет даже юриспруденции, которая могла бы хотя несколько сдерживать эти стремления. Изучая состояние современной мысли, мы не можем обойти этих явлений, хотя заранее можем быть уверены, что никакого научного плода от этого изучения не получится. Главная характеристическая черта означенных теорий состоит в постоянном блуждании между опытом и метафизикою, без всякого руководящего начала, а потому без всякой возможности выпутаться из возникающих отсюда противоречий.
Такой именно характер носят на себе философско-юридические воззрения Адольфа Вагнера. Он видит коренную ошибку политической экономии в том, что она доселе не исследовала начал частного права, которое "составляет юридическое основание для всего строя народного хозяйства и в особенности для частнохозяйственной системы". Этот строй, говорит Вагнер, "стоит и падает, остается или изменяется вместе с правом" (Grundlegung, стр. 292). С другой стороны, он признает, что самые юридические начала изменяются сообразно с изменением народной жизни и что никакой твердой теории тут установить нельзя. "Это юридическое основание не есть нечто данное от природы, вытекающее прямо из существа человека, а потому неизменное: напротив, это нечто исторически сильно изменяющееся… Абсолютных положений для этой юридической основы нет и не может быть, ибо исторический процесс, в котором она находится, не прерывается в своем движении под влиянием изменяющихся потребностей и воззрений людей". С изменением же юридической основы изменяется и хозяйственная система (стр. 175). Поэтому, говорит Вагнер, совершенно ложно воззрение "будто в приложении к экономическим условиям право и нравственность раз навсегда твердо разделены, тогда как именно здесь лежат великие пограничные области, в которых, изменяясь исторически или от страны к стране, встречается и может считаться правильным иногда юридическое, и при случае принудительное, иногда же свободное нравственное устроение" (стр. 296). В особенности изменчивы отношения государства к отдельному лицу. "A priori, из сущности государства, — говорит Вагнер, — невозможно вывести для этого какое бы то ни было начало, ибо эта сущность сама является произведением истории. Столь же мало возможно из сущности личной свободы раз навсегда вывести непреступную границу государственной деятельности, ибо и здесь лицо стоит вполне в историческом течении". Отсюда Вагнер выводит совершенную неприложимость всех умозрительных построений права. Коренною ошибкою всех исследований этого рода он считает то, что "выставляется умозрительно отвлеченное, абсолютное понятие свободы и собственности и из него выводятся логические последствия". Если же затем оказывается противоречие выведенной таким образом теории с фактами и с исторически развившимися юридическими отношениями, то признается, что последние должны сообразоваться с отвлеченными понятиями свободы и собственности, и предъявляется требование, чтобы право соответственно этому было изменено. "Между тем, — говорит Вагнер, — правильно именно обратное умозаключение: это противоречие доказывает неприложимость означенных абсолютных понятий, а потому и теоретическую их несостоятельность" (стр. 296).
Казалось бы, что при таких, не подкрепленных, впрочем, ни малейшими доказательствами, взглядах невозможно уже говорить ни о какой общей теории; надобно держаться чистого опыта. Однако же это не мешает Вагнеру утверждать, как уже было нами указано выше, что политическая экономия должна исследовать не только то, что есть, но и то, что должно быть, и вследствие этого предъявлять жизни новые требования, — воззрение, замечает Вагнер, "несовместное с исключительным признанием индуктивной методы в политической экономии" (стр. 117, примеч.). Это не мешает ему также признавать, что "в философиях права всех времен, начиная с "Государства" Платона и с "Политики" Аристотеля до новейшей литературы, политико-эконом находит для своей науки целый ряд важнейших основных исследований" (стр. 243). В особенности воззрениям древних философов Вагнер придает не только историческое, но и абсолютное значение. "Основные мысли в "Политике" Аристотеля, — говорит он, — и даже в "Государстве" Платона на счет естественно необходимого подчинения лица государству и введения его в государственный порядок, в действительности, будучи правильно поняты, не только имеют значение для древнегреческих отношений, но безусловно истинны; эти положения имеют не только историческую относительность, но и логическую абсолютность" (стр. 232, примеч.). Из новейших же систем Вагнер особенно сочувственно отзывается о чисто метафизическом учении Краузе и его школы, которых, в сущности совершенно неопределенные, понятия об органическом значении права и государства должны, по мнению Вагнера, быть положены в основание всех общественных наук; отсюда, говорит он, надобно во все стороны вывести последствия (стр. 242). Он упрекает Аренса лишь в том, что он слишком ограничивает ведомство государства (стр. 244–245). Тут мы видим, следовательно, чисто умозрительное понятие о государстве, из сущности которого, как организма, должно быть выведено полное подчинение ему отдельного лица. О фактических данных, об исторически развившихся отношениях нет более речи. Господствовавшее доселе атомистическое воззрение, говорит Вагнер, шло от частей к целому; органическое воззрение должно, напротив, идти от целого к частям (стр. 161). Очевидно, что мы стоим на почве метафизики. Но так как все эти метафизические понятия не основаны ни на каком твердом начале, то рядом с подчинением частей целому являются и совершенно иного рода положения. Так, признается, что "личная свобода всех людей в государстве одна отвечает нравственному существу человека" (стр. 347–348); признается, что система общественного производства и распределения богатства повела бы к невыносимому стеснению личной свободы и нанесла бы вред самому народному хозяйству. В этом Вагнер видит внутреннюю слабость всех социалистических систем, вследствие чего он сам склоняется к органическому сочетанию частной и общественной системы (стр. 167). Но это органическое сочетание оказывается далее не более как компромиссом между обоими началами, причем однако может перевешивать то одно, то другое. В древности перевес был на стороне государства, в новое время на стороне лица; теперь необходимо, по мнению Вагнера, возвратиться к древнему началу, что приведет к примирению противоположностей (стр. 312).
При таких колеблющихся взглядах, конечно, нет возможности прийти к чему бы то ни было, кроме чисто практической сделки, без всякого руководящего начала. Но в таком случае не следует взывать к философии права, строить органические теории, поднимать вопрос о том, что должно быть; надобно держаться того, что есть, и не выходить из этих пределов. Как же скоро ставится вопрос о будущем, об изменении существующих отношений, так необходимо выяснить себе, во имя каких начал это должно совершаться, на чем основаны эти начала и какие из них вытекают последствия. Ничего подобного мы не видим у Вагнера. До какой степени у него шатки начала, ясно из предыдущего; какие он из них выводит последствия, это мы уже отчасти видели в его выводах из свободы, и увидим подробнее ниже.
Еще большую путаницу понятий мы находим у Шеффле. Прочитав первую часть его сочинения "Строение и жизнь общественного тела", можно подумать, что мы имеем дело с самым отвлеченным моралистом. Он в этике видит выражение априорных элементов человеческого духа, стремления обнять высшее и признать абсолютный закон правилом для своих действий. Нравственность и гуманность составляют, по его мнению, непреходящие начала, которые, вместе с другими априорными чертами духа, принадлежат к лучшей части человеческой природы. Своею чувственною стороною, как ограниченное и конечное существо, человек следует естественному влечению к самосохранению; в этом отношении законом эмпирической его природы является эгоизм. Но если мы отправимся от умозрительных начал нашего естества, то мы придем к совершенно иному: с этой точки зрения, истинно то, что тождественно с собою, что исключает различие и множество. Поэтому разрозненность лиц, их исключительная особенность представляется как нечто нам чуждое, противоречащее истинной нашей природе, нечто такое, что в силу умозрительного требования должно быть уничтожено. Любовь к ближнему является истинным законом человеческого естества. Шеффле ссылается даже на Шопенгауэра, который постиг, что нравственный закон оправдывается лишь признанием множества и индивидуальности за простые явления, то есть за призрак (1, стр. 173–176).
Далее в отвлеченном рационализме, кажется, идти невозможно. И эти начала Шеффле признает движущими пружинами всего исторического развития. "Без действия идеалистических мотивов, — говорит он, — история культуры никогда не была бы способна придать нравственное направление эмпирическому общежитию людей. Из этого признания — прибавляет автор — мы ничего не берем назад, как бы оно ни противоречило господствующему духу времени" (стр. 583).
Отсюда Шеффле выводит как нравственность, так и право. Различие между ними он полагает в том, что первою управляются действия, проистекающие из внутренней природы лица, вторым же определяется внешнее взаимодействие лиц для исполнения общей цели — добра (стр. 594). Эти определения автор не считает однако тождественными с различием свободы внутренней и свободы внешней. Производя все, даже самую свободу, исключительно из нравственного начала, он самосохранение допускает единственно в видах служения обществу, а с другой стороны, он признает любовь принадлежностью не только нравственности, но и права. Эгоизм же, в силу которого человек, вместо того чтобы служить целому, ищет своей личной выгоды, одинаково несовместен с обоими (стр. 587–589, 591). Каждый член общества нравственно и юридически равно обязан не трогать другого в присвоенной ему сфере деятельности и давать другим все, что требуется их специальным призванием (стр. 613).
Мы видим здесь метафизический морализм, доходящий до полного поглощения права нравственностью. Остается даже непонятным, в чем состоит различие этих двух сфер, если управляющие ими начала одни и те же? Внешнее взаимодействие не что иное, как проявление исходящих изнутри стремлений. Сам Шеффле признает, что нравственность не ограничивается одними внутренними помыслами, но определяет и действия (стр. 617–618), а с своей стороны, право касается внутренних определений воли (стр. 629, 634). Шеффле видит в одном необходимое восполнение другого. "Сумма нравственных побуждений, — говорит он, — нуждается в этой внешней механике, чтобы найти и преследовать истинный путь к добру. Нравственное начало для своего осуществления должно пользоваться механическим" (стр. 628). А в свою очередь "право не может и не хочет одно исполнять добро, но требует нравственности, которая есть исполнение закона… Оно требует исполнения юридических обязанностей в нравственной, любовной преданности задачам"… (стр. 632, 633). Очевидно, что здесь право низводится на степень механического средства для осуществления нравственных требований, вследствие чего нравственность становится принудительною. А с этим вместе исчезает человеческая свобода. Напрасно Шеффле старается уделить ей уголок, говоря, что "право не должно действовать в сокровеннейшей, собственной и священнейшей области отдельного призвания", а только на границах одного призвания с другим. "Если бы право, — замечает он, — извне проникло слишком далеко внутрь, то оно, именно вследствие своего положительного характера, уничтожило бы действие внутренних нравственных сил, стеснило бы поприще нравственности, и через это ослабило бы нравственный дух и ускорило бы духовно-нравственную смерть народа, оно везде установило бы Прокрустовы кровати, неестественно вытягивающие и сокращающие, и вообще оно выставило бы требования противоестественные, ненужные и неисполнимые" (стр. 632). Между тем в системе Шеффле нет такой сокровеннейшей, собственной и священнейшей области, отведенной отдельному лицу. Призвание лица, по его теории, состоит в служении обществу; оно дано ему затем, чтобы оно исполняло то, что требуется для других и для целого. Поэтому и юридическое взаимодействие не может держаться на границах одного призвания с другим: оно определяет самое существо каждого призвания и те обязанности, которые возлагаются им на человека. Поприща для свободного действия нравственных сил тут не остается, а потому неминуемо должна последовать та духовно-нравственная смерть народа, на которую указывает Шеффле.
Это вытекающее из теории полное уничтожение личной сферы становится еще более явным, если мы обратим внимание на то, что Шеффле истинными субъектами права считает не отдельные лица, а учреждения. Тут превратно понятая эмпирия приходит на помощь односторонней метафизике. Антропология и правоведение, говорит Шеффле, исходят от представления отдельного физического лица; но в действительности никогда не встречается такое отвлеченное лицо. Каждая особь в общественной своей деятельности связана с многими другими и имеет материальные орудия для своей деятельности. Такое сочетание особей и материальных средств и есть истинное лицо в социальном смысле; "отдельная же особь. даже самая простая, является только как деятельный элемент известных учреждений, к которым принадлежит и имущество, то есть как вплетенное в общественную ткань физическое лицо" (стр. 278. 283). К таким учреждениям Шеффле причисляет все промышленные предприятия, земледельческие, ремесленные, фабричные, не устанавливая никакого различия между частными предприятиями и общественными, ибо те и другие одинаково суть сплетения лиц и имуществ. Он уверяет, что "всякая общественная наука, даже правоведение, должна исходить от социальной, а не от физической единицы" (стр. 280), ибо эти единицы суть "единственные вполне реальные, а не фиктивные лица социологии" (стр. 284). Правда, опыт показывает, что волю имеет только физическое лицо, а не учреждение, вследствие чего и у Шеффле "юридическими органами воли социальных единиц" или их "представителями" являются физические лица (стр. 280, 282). Но несмотря на то, Шеффле все-таки признает фикциею отдельную особь, и напротив, видит нечто реальное в представительство воли совокупности лиц и имуществ и в юридическом замещении этой воображаемой воли действительною волею физического лица. "Социологически, — говорит он, — облеченные телами лица являются и остаются простыми элементами для юридической организации воли социальных сплетений персонала и имуществ" (стр. 281).
Когда читаешь подобные рассуждения, то невольно спрашиваешь себя: сохранился ли еще здравый смысл в человеческом роде или можно с одинаковым правдоподобием утверждать все, что угодно, не исключая и положительной нелепости? Признавать истинным, реальным лицом не существо, одаренное свободною волею и потому имеющее права, а сочетание лиц и имуществ, например пивоваренный завод, это — такое посягательство на логику, которому едва ли можно найти подходящий пример во всей ученой литературе, старой и новой.
Но это все еще только одна сторона дела. Мы развертываем вторую часть сочинения, и тут перед нами открывается новая картина. Здесь уже всякая метафизика откидывается, как ветошь, и заменяется чистою эмпириею. В трехлетнем промежутке между выходом этих двух частей произошло у автора увлечение дарвинизмом. Вследствие этого на сцену выступает борьба за существование. Отсюда проистекают новые воззрения на историю и на право. "Что такое право? что такое нравственность? — спрашивает Шеффле. — Говорят: нормы деятельности. Но в чем состоит реальное, или материальное начало права и нравственности, правомерной и нравственной деятельности? На это ни положительное правоведение, ни нравственная философия доселе не дали удовлетворительного ответа" (II, стр. 60). Свет в эту область может внести только динамическая теория, основанная на победе сильнейших в борьбе за существование. С этой точки зрения, и право и нравственность не что иное, как установленные обществом во имя общественного самосохранения порядки для происходящей в нем борьбы интересов (стр. 61, 62). Утверждение этих порядков составляет последствие превосходства силы (стр. 62). "Духовно, экономически и физически могущественнейшие силы, которые остаются победителями в общественной борьбе за существование, одни в состоянии и имеют более или менее интерес в том, чтобы установить закон и предписать обязанности отдельным социальным единицам, вплетенным в игру общественных взаимодействий; ибо они обладают внутренне одолевающим и внешним образом принуждающим превосходством и они, вместе с тем, наиболее заинтересованы в сохранении целого" (стр. 65). "Отдельные же субъекты, которым прирождены социальные инстинкты, или капиталы стремлений к коллективному самосохранению, добровольно подчиняются этим предписаниям; если же они сопротивляются, то они встречают перед собою превосходные, внутренним и внешним образом принуждающие, духовно и физически действующие силы, охраняющие право и нравственность, и имеющие высший интерес в их охранении". С таким воззрением, заключает Шеффле, "мы отрекаемся от всякого мистического объяснения права и нравственности; мы основываем их единственно на духовной и физической силе, или же на стремлении к самосохранению исторических носителей физического и духовного превосходства силы" (стр. 66).
Отсюда проистекают совершенно различные материальные принципы права и нравственности для разных ступеней развития (стр. 67). Эти принципы, говорит Шеффле, не суть непреложные аксиомы, а только продукты развития; поэтому они далеко не имеют той вечности и святости, которую приписывают им попы и бароны, придворные богословы и денежные цари. "Такой вечности права и морали, — продолжает Шеффле, — противоречит опыт всей истории. Теократия требует во имя Божие уничтожения всех иноверцев, первоначальный племенной союз предписывает кровную месть и истребление всех врагов, освящает человеческие жертвы и людоедство, тогда как для нашей "терпимости" и "гуманности", все это представляется юридическим и нравственным безобразием. Но и тут и там это тоже самое стремление к самосохранению, которое при различных условиях и различном содержании самосохранения, запрещает и дозволяет различное, отчасти даже противоположное. Оно лежит в основании этики "гуманности" и "терпимости", точно так же как и морали диких и варваров" (стр. 68). Таковы результаты, к которым приводит нас эта "чисто эмпирическая теория" (стр. 66). Гуманность и людоедство, терпимость и костры инквизиции одинаково являются требованиями нравственности. Напрасно мы будем ссылаться на метафизические теории, когда всемирный опыт удостоверяет в противном. "На сколько простирается опыт, — говорит Шеффле, — право и нравственность призываются к жизни, защищаются, утверждаются и изменяются сообразно с историческими условиями каждого периода единственно интересов личного и общественного самосохранения. Опыт доказывает, что идеи права и нравственности пробуждаются и укрепляются в борьбе за существование, и что из эмпирических, исторически изменяющихся условий общественного самосохранения почерпаются положительные материальные начала этики" (стр. 62). "Могущественнейшие носители идеи и интереса общественного самосохранения, сначала главы родовых союзов, затем домохозяева общинного быта, вотчинные династии, корпорации, земские господа и земские чины, наконец организованные государственные власти и официально установленные органы морали вводят в действие более совершенное право и более совершенный нравственный закон, определяя нормы и приводя их в исполнение" (стр. 74). Напротив, "нравственные проповедники, не имеющие опоры в сильных мира и в сердцах народа, не создают для мира живой нравственности" (стр. 77). Шеффле уверяет даже, что иначе и быть не может (стр. 80), забывая, что высший нравственный проповедник, который являлся на земле, тот, который своею проповедью повернул ход всемирной истории, был предан сильными и распят народом; забывая, что Христос ратовал отнюдь не во имя общественного самосохранения и еще менее имел в виду свое собственное; забывая наконец, что христианская церковь, на первых порах ничтожная, но затем разросшаяся вследствие внутренней нравственной силы, подвергалась кровавым, но тщетным гонениям и со стороны власти, и со стороны народа, именно во имя начала общественного самосохранения. Нет ничего легче, как сослаться на всемирный опыт, не приводя ни единого факта в подтверждение своих взглядов, и упорно умалчивая об известных всем мировых событиях, которые противоречат принятой теории; но это служит только доказательством того неимоверного легкомыслия, с которым современные эмпирики строят свои воздушные здания. При первом соприкосновении с истинным опытом эти карточные домики разлетаются в прах.
Впрочем, сам Шеффле тут же бессознательно себя обличает. "Право, — говорит он, — требует воздержания господствующих в данное время сильнейших интересов; но последние слишком склонны выкраивать общий порядок, ограничивающий общественную борьбу интересов, сообразно с своею частного выгодою, употреблять положительное право, как могущественнейшее орудие собственного превосходства силы, искажать его и выставлять его, как личину самого грубого эгоизма… Уже Аристотель замечает: "легче определить, что уравнительно и справедливо, нежели убедить партию, извлекающую свои выгоды из обладания властью, чтобы она признала равенство и справедливость. Ибо желают равенства и справедливости всегда слабейшие, сильные же мало о них заботятся". Новейшие злоупотребления власти в пользу частных интересов большинства, — продолжает Шеффле, — даже и в современном юридическом государстве весьма далеки от бескорыстной защиты идеи права. Господствующая партия и теперь берет себе лишнее, так же как князек кочевого племени, как римский отец семейства, как ленный господин, как афинский евпатрид, как средневековой городской голова, как церковь, как абсолютный монарх. Все имеют большое брюхо, а окружающие их паразиты еще большее… То же самое происходит и с господствующими системами общественных нравов, с которыми не следует смешивать субъективной нравственности. Чего не осуждала церковь, как безнравственное? Как лживо судит о характерах общественное мнение черни? Мы воочию познали широкие пределы искажения нравственного народного чувства" (стр. 71–72).
И ввиду всего этого Шеффле все-таки утверждает, что право и нравственность основаны единственно на силе и что "право вытекает из солидарности интереса общественного самосохранения с идеалистическими или эгоистическими стремлениями исторических носителей духовного и физического превосходства силы, авторитета и власти" (стр. 66). Более явным образом нельзя было самого себя опровергнуть. Теория происхождения права из силы оказывается одинаково несостоятельною, где бы она ни проявлялась, на почве умозрения или опыта, у великого мыслителя, как Спиноза, у философствующего юриста, как Иеринг, или у социалиста кафедры, как Шеффле. Умозрение доказывает, что право и сила — два разные понятия, которые потому невозможно производить друг от друга; опыт же показывает, что они далеко не всегда совпадают, а напротив, весьма часто идут врозь.
Впрочем, у Шеффле опыт служит только предлогом для построения чисто отвлеченной системы. Почтенный экономист хотел приложить в социологии модную естественноисторическую теорию, а так как в зоологии право не обретается, а существует сила, то и пришлось всякими натяжками производить право из силы. В результате эклектическое сочетание философских начал с опытными, какое мы находим у новейших социалистов кафедры и социал-политиков, не производит ничего, кроме путаницы понятий. Но может быть, чистый опыт даст нам что-нибудь более удовлетворительное? За ним надобно обратиться к той школе, которая коренным образом отвергает всякую метафизику и не признает ничего, кроме опыта, именно, к позитивизму. Тут однако же мы не находим ни одного сколько-нибудь основательного исследования, ибо основательное исследование неизбежно вывело бы мысль на другую почву. Можно указать только на явления, носящие на себе несколько комический характер. За отсутствием других и они для нас любопытны, как характеристический признак того, что дает известное направление.
К такого рода явлениям принадлежит небольшая брошюра П. Алекса "О праве и о позитивизме" (Du Droit et du Positivisme par P. Alex. Pans, 1876).
Девятнадцатый век, говорит Алекс, характеризуется развитием науки, которая заменила собою богословие и метафизику. Этим мы обязаны главным образом Огюсту Конту, который открыл общую связь всех наук (стр. 8, 9). Благодаря его трудам, "наше поколение посвящено в таинства социологии, этой высшей и совершеннейшей из наук" (стр. 57–58). История заимствовала у естественных наук опытную методу. Одно право ускользнуло от общего движения. Юристы доселе держатся устарелой рутины, изучая право, как алхимики изучали химию (стр. 12–16). Настала пора и в эту область ввести опытную методу, заменив метафизику учением позитивистов (стр. 17, 23).
Как же это сделать? Надобно изучать исторические изменения права и те законы, по которым они совершаются. При этом не следует критиковать законодателя, нужно только наблюдать, что именно он делал в течение веков (стр. 28–29).
Казалось бы, чего лучше? Так именно поступает опыт с явлениями природы. История права давным-давно это делает, и произвела в этом отношении весьма замечательные, хотя неизвестные г. Алексу, труды. Но в применении этой методы к праву оказывается препятствие. Природа управляется неизменными и непреложными законами, которые служат выражением истинных отношений вещей; в человеческих же законах господствует произвол. До сих пор, говорит Алекс, законодатель произвольно устанавливал законы, по-видимому не подозревая, что они сами собою рождаются из человеческих отношений. Отсюда беспрерывная борьба между законом и подвластными ему лицами (стр. 50). Устранить это зло и водворить истинный порядок можно только приложением к правоведению опытной методы. "Не говорите нам более о священных, первоначальных принципах, — восклицает Алекс, — о законе правды и неправды: все это одна болтовня. Чтобы сделаться источником благодеяний, закон должен быть не плодом нашего воображения, а истинным выражением действительности. Он необходимо предполагает два существа, рождающие отношения, над которыми воля их не властна, которые являются последствием нашего существования, результатом нашей природы, и которые наконец открываются нам не рассуждениями a priori, а наблюдением и опытом. Достоверно, что отношения чисел не суть дело человека. Он их признает, но не может их изменить. Зачем же пытаться изменить те, которые вытекают из человеческих сношений и заменять их изобретениями нашего ума?" (стр. 52–53). К сожалению, продолжает Алекс, именно здесь эта метода никогда не была испробована. Юристы хотели с помощью ложных начал определить человеческие отношения. Вследствие этого законодательство не соответствует естественному закону, которому человечество подчиняется, не по воле князей и юристов, а по своей физической и нравственной природе (стр. 53).
Итак, сказавши, что мы должны не критиковать законодателя, а только наблюдать его действия, мы прямо начинаем с того, что объявляем все человеческое законодательство основанным на ложных началах. Истинная природа юридических отношений может раскрыться нам единственно приложением к законодательству опытной методы, а этой методы до сих пор никто не прилагал. Мы стоим перед безвыходною дилеммою, которая вытекает из самого существа теории и явно обнаруживается в наивных противоречиях автора. Опытная метода требует, чтобы мы ничего не прибавляли от себя, а ограничивались наблюдением того, что происходит в действительности. В действительности же право всегда руководилось не опытом, а умозрительными началами. Приходится, следовательно, или, на основании опыта, признать умозрение, в противоречие с собственными началами, или, отвергнув умозрение, отвергнуть вместе с тем весь существующий опыт и самому изобретать новые, никому не ведомые начала права, то есть самому строить чисто умозрительные теории. Это и делает автор, когда он, уподобляя человеческие отношения отношениям чисел, утверждает, что человеческая воля столь же мало имеет силы над первыми, как над последними. В таком случае, зачем же нужен законодатель? Достаточно ученого. В математике никакого принудительного законодательства не существует. Если оно всегда было и есть среди людей, то это происходит именно оттого, что люди не числа. Числа не убивают друг друга, не воруют, не взывают о защите, а потому и подведение человеческих отношений к числовым может быть только плодом самой дикой фантазии. В этой опытной теории действительного опыта нет и тени. Ежечасный опыт, напротив, удостоверяет нас, что человеческие отношения направляются и изменяются человеческою волею. Единственно на этом мировом опыте основано существование всех законодательств. Право имеет в виду не оставлять человеческие отношения, как они есть, но устроить их так, как они должны быть. А для этого одного опыта недостаточно; нужно еще умозрение.
Непризнание опытной методы всеми доселе существовавшими законодательствами полагает и другое препятствие наблюдению исторического его развития. Огюст Конт, как известно, строил всю историю человечества на основании последовательности трех периодов: богословского, метафизического и положительного. Но "это великое разделение, — говорит Алекс, — столь явное, столь очевидное, когда оно прилагается к общему развитию человечества, теряет свою ясность, как скоро мы проникаем в подробности каждой отрасли всемирной науки. Если же это замечание верно для наук вообще, то оно еще вернее для права… Тройная эволюция, указанная О. Контом, не может оправдаться в отношении к этому отдельному понятию, если предварительно не совершился тот умственный переворот, который должен предшествовать положительной эволюции права" (стр. 44, 45). То есть, выведенный Контом закон не может оправдаться в отношении к праву, пока последнее не преобразилось на основании опытной методы, а это, как мы видели, до сих пор не сделано и никогда не может быть сделано, так как подобное превращение противоречит самому существу предмета.
Несмотря на то, автор пытается показать на отдельном примере, каким образом следует наблюдать развитие законодательств и какие отсюда надобно делать выводы. Он берет законы о кредите и показывает, что кредит расширяется в обратном отношении к гарантиям, которые даются заимодавцу. Сначала, в эпоху фетишизма, хотя и есть заем, но случайный, и при самых жестоких условиях. Затем, во времена политеизма, с расширением общих идей, распространяется и заем. Является залог, сперва в виде обладания самою личностью должника, затем в виде отдачи имущества должника во временное владение кредитора. В эпоху монотеизма эта последняя форма заменяется ипотекою. Церковь преследует ростовщиков и тем способствует смягчению участи должника. С переходом в метафизический период появляется промышленность, а с тем вместе и новые, более мягкие формы займа. Заключение за долги отменяется. Главное же то, что пока законодательство остается при старой рутине, нравы пролагают новые пути, доказывая тем, что люди руководствуются уже не отвлеченными началами, а разумным пониманием фактов. Банкротство заменяется конкурсом, и самый конкурс уступает место мировым сделкам с должником. Параллельно с этим движением расширяется самый кредит. Во время фетишизма он почти не существует; в эпоху политеизма зарождаются коммерческие обороты; во времена монотеизма завязываются сношения не только между отдельными лицами, но и между народами. Затем, вследствие происшедшего в метафизический период умственного переворота, совершается и переворот экономический. С развитием промышленности кредит все растет; строгие формы становятся невозможными. Спекуляция властвует, и коммерческое право заменяет гражданское.
Таким образом, обратное отношение кредита к юридическим гарантиям раскрывается из наблюдения фактов. На основании этого закона, выведенного наукою, говорит Алекс, следовало бы просто уничтожить все юридические гарантии и тем дать полное развитие кредиту. Но сознание человечества до этого еще не дошло. Поэтому приходится идти постепенно, доказывая, что при настоящих условиях важны не юридические, а нравственные гарантии, именно, прочность дела, на которое даются деньги.
Едва ли нужно замечать, что все эти отношения фетишизма, политеизма и монотеизма к формам кредита основаны на чистой фантазии, не говоря уже о таких странностях, как утверждение, что только во времена монотеизма завязываются сношения между народами. Выведенный Контом закон во всяком случае не оправдывается этим историческим движением, ибо что может быть реальнее, как получение в свою власть самого должника или его имущества? Если же этот закон впоследствии заменяется гарантиями более духовного свойства, то это означает движение от реализма к метафизике, а не наоборот. Эта замена не служит, однако, признаком уменьшения гарантий: она совершается главным образом вследствие развития таких юридических гарантий, о которых Алекс умалчивает, а именно, тех государственных учреждений, на которые возлагается взыскание долгов. Очевидно, что чем легче взыскивать, тем меньшее требуется обеспечение. Введение ипотечных книг весьма сильно способствует развитию поземельного кредита, но оно увеличивает, а не уменьшает гарантии кредитора. Следовательно, выведенный Алексом закон основан единственно на крайне поверхностном наблюдении явлений. Что же касается до заключения, которое он из этого делает, то здесь уже исчезает всякая логика. Умозаключение от постепенного уменьшения к совершенному уничтожению какого-либо явления есть решительно ничем не оправданная логическая операция. Тут ученик забыл даже наставление учителя, который прямо предостерегает от иллюзий, состоящих в том, что принимают "непрерывное уменьшение за стремление к полному прекращению". Огюст Конт указывает даже, в виде примера, на то, что с развитием просвещения, по-видимому, уменьшается количество пищи, которую употребляет человек, но из этого отнюдь еще не следует, чтобы человек мог когда-либо совершенно обойтись без пищи[49]. То же самое прилагается и к кредиту. Необходимость юридического обеспечения основана на том, что люди не всегда платят долги и еще менее всегда готовы уплатить их в срок. А так как мы не имеем никакой надежды, чтобы это свойство человеческой природы когда-либо исчезло, то невозможно ожидать, чтобы мы когда-либо могли обойтись без юридической гарантии. Таким образом, вся эта так называемая положительная теория оказывается не более как ложным умозаключением.
Из всего этого следует, что недостаточно наблюдать; надобно еще понимать наблюдаемое. Внешнее наблюдение явлений дает нам только непереваренный материал; чтобы сделать из него научное целое, надобно наследовать причины. А в числе главных причин юридических явлений находятся метафизические идеи, движущие законодателя. Если мы хотим придерживаться той методы, которой следуют естественные науки, мы должны действующую причину признать за нечто существенное, а не отвергать ее, как праздный плод воображения. Истинный опыт приводит нас, следовательно, к признанию метафизики. Руководствуясь им, мы не станем насильственно подводить явления человеческой жизни к числовым отношениям или к явлениям физического мира; мы признаем, что тут действуют разнородные причины; а потому и явления должны пониматься различно. В беспристрастном и всестороннем опыте умозрение найдет себе не противника, а оправдание. Одностороннее же умозрение встретит себе обличение; но это будет доказательством не против умозрения вообще, а единственно против умозрения недостаточного.
И тут, как и во всех других областях человеческого знания, эти два противоположные пути восполняют друг друга: умозрение дает чистые начала, руководящие человеческою деятельностью, опыт — приложение этих начал к бесконечному разнообразию жизненных условий. Но как явления немыслимы без начала, так и начало без явлений остается пустою формою. Только совокупление обоих дает полноту и науке, и жизни.
Необходимость совместного существования этих двух элементов приводит нас к основному разделению права на философское, или естественное, и положительное. Положительное право есть то, которое действует в жизни; философское право есть идеальная норма, которая сознается обществом или наукою, и служит руководящим началом и для законодателя. В истории нередко происходит между ними борьба; во имя философского права требуется изменение положительного. В период господства рационализма это требование принимает даже характер безусловной истины. Естественное, или философское право признается непреложным законом разума, с которым должно сообразоваться всякое положительное законодательство и которое одно сообщает обязательную силу его постановлениям. Этой теории держались и философы нравственной школы и защитники прирожденных прав человека. Но так как философское право не понимается всеми одинаково, то очевидно, что этим открывается простор всякого рода субъективным толкованиям, и вызывается самовольное сопротивление закону. "Невозможно, — говорит по этому поводу Бентам, — рассуждать с фанатиками, вооруженными естественным правом, которое каждый понимает, как хочет, прилагает, как ему удобно, из которого он не может ничего уступить, ничего урезать, которое непреклонно так же как и непонятно, которое в его глазах священно, как догмат, и от которого он не может уклониться без преступления… В огромном разнообразии мыслей на счет естественного и божественного закона, каждый не найдет ли какого-нибудь предлога, чтобы сопротивляться всем человеческим законам?"[50]
Бентам отправляется от этого рассуждения, чтобы совершенно отвергнуть философское право и признать одно право положительное. Но такое одностороннее заключение, представляющее противоположную крайность, не оправдывается посылкою. Из того, что можно злоупотреблять философским правом, не следует, что оно вовсе не существует. Сама рациональная философия, в высшем своем развитии, пришла в этом отношении к совершенно правильной точке зрения. Она поняла естественный закон не как абсолютную и неизменную норму, а как начало развивающееся в сознании человеческом, или как идеал, к которому следует стремиться. Приложение этого идеала к жизни зависит, с одной стороны, от развития сознания, с другой стороны от бесконечного разнообразия жизненных условий, с которыми необходимо соображаться. Обязательную же силу в обществе эта норма может получить единственно через волю тех лиц, которым присвоена законная власть делать обязательные постановления. Надобно, чтобы философское право превратилось в положительное, ибо только последнее имеет обязательную силу для граждан.
Из того, что право, как философское, так и положительное, является началом развивающийся, не следует однако, чтобы в нем не было ничего, кроме изменяющихся определений, которые каждый народ и даже каждое поколение понимает и прилагает по-своему. Это воззрение, которого держится современная историко-юридическая школа в Германии, превращает право в случайное выражение мимолетных идей и потребностей, без всяких твердых начал, управляющих его развитием. Мы видели выше, что один из представителей этой школы, Дан, критикуя теорию Иеринга, противопоставляет ему понятие о праве, как разумном начале. Если это — разумное начало, то оно должно быть одно, ибо разум в человеке один. Поэтому все частные его проявления должны пониматься как различные его стороны, развивающиеся по общему закону. Задача науки состоит в том, чтобы выделить это общее, выражающееся в частном, и указать на постоянное, заключающееся в преходящем.
Это постоянное начало есть человеческая свобода, с развитием которой в сознании и жизни развивается и право. Мы видели уже, что первоначально свобода погружена в общую субстанцию и только мало-помалу выделяется из последней. Сообразно с этим и право не вдруг является самостоятельною областью человеческих отношений. На первых порах, все элементы человеческой природы находятся в состоянии слитности. Вследствие этого право смешивается и с нравственностью, и с религиею. В особенности религиозное начало владычествует в первую эпоху человеческой истории. Только постепенно, с освобождением человека из-под власти тяготеющей над ним общей основы, право становится независимым от религии и образует свой отдельный мир, управляемый присущими ему законами. Однако уже и в эти первобытные времена, в обычаях диких племен и в теократических законодательствах, являются все существенные черты юридических отношений: определение прав и обязанностей, награды и наказания, правда и суд. Все это предполагает волю свободных существ, ибо только свободные существа могут иметь права и обязанности, подлежат наградам и наказаниям; к ним только прилагаются требования правды; они одни судятся судом. Таким образом, в самом зародыше юридических отношений право является уже выражением свободы, и это отношение становится все яснее с дальнейшим движением: ступени развития свободы суть вместе и ступени развития права.
Это соответствие выражается и во внутреннем расчленении юридического порядка. Различным формам свободы соответствуют различные области права. Мы видели, что свобода разделяется на внутреннюю, внешнюю и общественную. Соответствующее этому деление мы находим и в праве.
Внутренняя свобода, как было указано выше, составляет собственно область нравственности. Правом определяются не внутренние побуждения, а внешние действия. Но так как внешние действия зависят от внутренних побуждений, то и право не может не принять в соображение внутренней свободы человека. Пока лицо действует в пределах предоставленной ему юридическим законом внешней свободы, праву нет дела до сокровенных его помыслов; но как скоро оно переступает эти границы и нарушает закон, так является необходимость определить его вину, а это невозможно сделать, не проникнув в область внутренней свободы. Тут рождаются понятия о вменяемости, о большей или меньшей преступности действия, зависящей от степени извращения воли, об извиняющих обстоятельствах, о внутренней правде, в отличие от внешней. Все это составляет задачу права уголовного, которое однако не имеет самостоятельного значения, а служит только освещением чисто юридических определений.
Полным выражением юридических начал, без всякой посторонней примеси, является право частное, или гражданское. Здесь человек представляется как свободное, самостоятельное лицо, которому присваивается известная область материальных отношений и которое состоит в определенных юридических отношениях к другим, таковым же лицам. По самой природе этих отношений, в этой сфере господствует индивидуализм; здесь находится главный центр человеческой свободы, из взаимодействия свободных воль возникает целый мир бесконечно переплетающихся отношений, в определении которых выражается вся тонкость юридического ума. В этом деле, как уже было сказано выше, римские юристы были величайшие мастера, вследствие чего римское право сделалось как бы нормою для гражданского права всех новых народов.
Наконец, области свободы общественной соответствует публичное право. Здесь человек является уже не самостоятельною единицею, а членом союза, в который он входит как свободное, но подчиненное лицо. Высшим выражением публичного права служит право государственное, ибо государство есть верховный союз на земле; но публичным правом управляются и другие, подчиненные государству союзы, которые однако могут иметь более или менее смешанный характер, смотря по тому, приближаются ли они к форме частных товариществ или получают высшее общественное значение.
В публичном праве к чисто юридическому элементу присоединяется нравственный. Верховным определяющим началом является здесь не воля отдельного лица, а польза целого, которой подчиняются интересы членов. Но это целое само представляется юридическим лицом, облеченным правами. Следовательно, и оно рассматривается как свободное существо, имеющее волю. Однако это возведение его на степень юридического лица и присвоение ему прав возможно только с помощью юридической фикции, ибо в действительности одни физические лица обладают волею. Поэтому юридическое лицо всегда нуждается в представителях: предполагаемая его воля представляется волею тех или других физических лиц.
Отсюда ясно, что с точки зрения чистого реализма, права могут быть приписаны только отдельным лицам, а никак не целому союзу. Если реалисты нередко держатся иных воззрений, то это происходит единственно от путаницы понятий. Можно сколько угодно рассматривать общество как организм (об этом подобии будет еще речь ниже); невозможно реально приписать этому организму волю, которой он не имеет, и облечь его правами, которыми он не в состоянии пользоваться. Не поможет и признание решающего голоса за большинством; этот решающий голос принадлежит большинству, единственно как представителю целого. В качестве простого большинства оно имеет совершенно такое же право, как и меньшинство, именно, право требовать, чтобы его свобода не нарушалась; остальное должно быть делом добровольного соглашения. Если же в действительности всегда и везде признаются права целого, если юридическому лицу дается власть над членами, то это совершается в силу метафизического начала, которое признает существование не только отдельных единиц, но и общего, владычествующего над ними духа. Однако и метафизика, видя в праве выражение свободы, не может не признать, что истинный источник свободы лежит не в общем, безличном духе, а в отдельном лице, в его внутреннем самоопределении. Поэтому и она не может допустить, чтобы частное право поглощалось публичным. И с метафизической точки зрения истинная область свободы есть частное право; публичное же право воздвигается над ним, как высшая область, но не с тем чтобы его уничтожить, а напротив, с тем, чтобы охранять его от нарушения. Только односторонняя и противоречащая себе метафизика все улетучивает в общем духе.
Из этой противоположности частного и публичного права ясно различие прав, которые присваиваются человеку в той и другой области.
Публичное право дается гражданину, во-первых, для защиты своих интересов, и во-вторых, во имя общественной пользы, как члену и органу целого. Но частный интерес имеет здесь значение лишь настолько, насколько он сливается с интересом общественным; последнее начало является преобладающим. Как свободный член союза, гражданин получает права, но непременное для этого условие заключается в способности понимать общественные интересы и действовать в виду их. Признаки, которыми определяется способность, могут быть весьма разнообразны, смотря по местным и временным обстоятельствам; во всяком случае, определение их зависит от верховной власти, которая в установлении их руководится началом общественной пользы. Тем же началом определяются и исключения, которые делаются из требования способности. А так как от установленных законом признаков зависит самое существование права, то в этой области права даются и отнимаются по требованию общественной пользы, а не присваиваются гражданину, как личное его достояние. Поэтому и пользование правом является вместе с тем исполнением общественной обязанности, хотя бы оно было предоставлено свободной воле лица. Гражданин может пользоваться своим правом единственно во имя общественных интересов; корыстное пользование публичным правом есть преступление.
Совершенно иное значение имеет право частное. Оно принадлежит человеку, как личное его достояние, или как область его свободы. Отсюда характеристические особенности, которые резко отличают его от публичного права. Частное право не даруется человеку общим законом, а приобретается собственным действием лица и частными его отношениями к другим. Закон определяет только возможность; для действительности нужен еще особый юридический титул, вытекающий из частных отношений. Вследствие этого характера частное право может принадлежать лицу даже совершенно неспособному. Малолетние и сумасшедшие имеют такую же собственность, как и другие. Для распорядительных действий требуется известная способность, но единственно та, которая предполагается во всяком человеке, имеющем прирожденную ему разумную волю. Там, где этой способности нет, установляется заместитель. Там же, где она есть, пользование правом предоставляется вполне частной воле лица, которое может извлекать из него всевозможные выгоды, никому не давая в том отчета и связываясь единственно принятыми на себя частными обязательствами. Общественная власть вступается лишь тогда, когда происходит столкновение прав, и не иначе как по призыву сторон. Наконец, отчуждение права, так же как и его приобретение, зависит исключительно от воли лица. Продать или подарить публичное право гражданин не властен; но частным правом он может располагать по своему усмотрению. Общественная же власть в этом отношении связана: право не может быть произвольно отнято у лица; это было бы нарушением его свободы, следовательно и нарушением правды, которая требует, чтобы каждому воздавалось свое. Если же общественная польза требует отчуждения, то дается справедливое вознагражденье. Как частное достояние, право считается приобретенным, то есть связанным с волею лица.
Это понятие о приобретенном праве, неприложимое к публичному праву, составляет коренное начало частного права, самый крепкий оплот личной свободы. Последняя имеет здесь неприкосновенное святилище, на которое общественная власть не может посягать, не нарушая правды, то есть того самого начала, во имя которого она сама существует. Понятно поэтому, что против приобретенного права ополчаются те, которые стремятся принести лицо в жертву обществу. Важнейшею попыткою в этом отношении была теория, развитая в сочинении Лассаля "Система приобретенных прав" (System der erworbenen Rechte). He пустою декламациею, а учеными доводами хотел знаменитый агитатор "перевести старый юридический порядок в новый". Разбор этих доводов покажет всю несостоятельность его взгляда.
Лассаль вполне понимал значение приобретенного права и связанного с ним общего юридического положения, что закон не имеет обратного действия. То, что приобретено законным путем, должно уважаться и будущим законодательством. В обратном действии закона Лассаль прямо признает "посягательство на свободу и вменяемость человека" (стр. 56). "Частное право, — говорит он, — не что иное как осуществление свободной воли лица". Поэтому, если законное проявление воли уничтожается обратным действием закона, если воля лица через это извращается и превращается в другую, то подобное действие нельзя назвать иначе как насилием, нанесенным лицу; оно в самом корне противоречит понятию права. "Такой закон, — говорит Лассаль, — не есть закон, а абсолютная неправда, уничтожение самого понятия о праве" (стр. 57). "Никакому законодателю не дозволено уничтожать свободу воли и вменяемость человека и трактовать дух как вещь" (стр. 59).
Казалось бы, нет возможности в более сильных выражениях утверждать неприкосновенность приобретенного права. Но рядом с этим выставляются другие положения, которые совершенно его уничтожают. Если субъективное право признается явлением свободы, то объективное право понимается как выражение общей воли, а последняя, по мнению Лассаля, имеет безусловную власть над первою. "Единственный источник права, — говорит он, — есть совокупное сознание народа, общий дух". Со времен Гегеля это положение совершенно твердо установилось в науке, а Савиньи внушил его и положительным юристам (стр. 194–195). Поэтому "всякое право, как таковое, — всякое отдельного лица — есть только положенное постоянно изменяющимся общим духом определение, так что каждое новое, вытекающее из духа определение немедленно охватывает лицо, с тем правом, с каким оно было охвачено предыдущим" (стр. 61). На первых страницах Лассаль допускал еще, что лицо может сделать для себя прочным "то, что оно в этом потоке законным путем вывело своим собственным действием и волею, то, что оно себе усвоило" (стр. 61). Но в дальнейшем изложении он прямо уже признает, что "для лица юридически невозможно прервать общение с этою единственною субстанциею права (то есть с общею волею), разорвать с нею связь и захотеть укрепиться в противоречии с ее изменениями. Такое стремление лица, — говорит Лассаль, — не только лишено всякого юридического значения, но было бы абсолютною неправдою, уничтожением самого понятия о праве. Последнее заключается только в этом общении; оно состоит единственно в том, что то, что в каждый момент составляет абсолютное содержание общего сознания, существует и имеет силу для всех единиц". В этом стремлении лица посредством приобретения права утвердиться в противоречии с изменившеюся общею волею Лассаль видит внутреннее, разрушающее себя противоречие, ибо в одном и том же действии полагается и связь с общим сознанием и разрыв с последним. "Приобретаемое право имеет своим законным основанием не отдельный, дозволяющий его закон, а источник этого закона, общее сознание народа. Оно получает силу единственно вследствие своего согласия с этою сущностью всякого права". Поэтому всякий договор заключается с подразумеваемым условием, что он будет иметь силу, лишь пока закон допускает этого рода договоры. "Лицо, — говорит Лассаль, — не может воткнуть свой собственный кол в юридическую почву". Это значило бы считать себя самовластным, объявить себя собственным своим законодателем. "Против права нет права", — заключает Лассаль, а это означает, "что каждое отдельное право само следует превращению той юридической субстанции, из которой оно произошло и в которой оно состоит" (стр. 194–198). Итак, с одной стороны, посягательство общего закона на свободу лица и на приобретенное им право признается абсолютною неправдою, отрицанием самой идеи права, с другой стороны, самоутверждение лица во имя приобретенного права представляется также абсолютною неправдою, отрицанием самой идеи права. С одной стороны, единственным корнем и источником права является человеческая свобода (стр. 59), с другой стороны, единственным корнем и источником права является общее сознание, против которого свобода совершенно бессильна (стр. 195). Ясно, что тут между двумя противоположными взглядами оказывается коренное противоречие, из которого нет выхода.
Лассаль пытается разрешить его, различая отдельные случаи. По его теории, приобретенное право признается и уничтожается не иначе как с вознаграждением, когда закон допускает, вообще, существование этого рода прав и отменяет только известную их форму; когда же самая сущность, или субстанция права отменяется безусловно, то и приобретенные права уничтожаются немедленно, без всякого вознаграждения (стр. 225, 230). Так например, пока законодатель признавал еще законное существование феодальных прав, он мог отменять те или другие их виды, давши вознаграждение владельцам; но как скоро было признано, что феодальные права подлежат безусловной отмене, так вознаграждение сделалось уже ничем не оправданным грабежом, похищением чужой собственности (стр. 239).
Как же определить, однако, что составляет самую сущность, права и что является только известною его формою? Всякое законом установленное право есть вид известного рода и род известного вида. Так, феодальное право, с одной стороны, составляет известный вид собственности, а с другой стороны является родовым понятием в отношении к множеству принадлежащих к этой категории прав. Станем ли мы считать происхождение известного права собственности из феодальных отношений сущностью этого права или только формою? Очевидно, что можно сделать и то и другое совершенно по произволу. Можно сказать, что собственность составляет сущность этого права, а феодальное происхождение только его форму; но можно точно так же утверждать, что феодальное происхождение принадлежит к его сущности. Смотря по тому, куда мы поставим частичку вообще, отменяемое право окажется или сущностью, или формою. Лассаль старается на многих примерах показать правильность своего разделения; но при этом он запутывается в такие противоречия, которые явно обнаруживают несостоятельность всей его системы. Так например, он считает безусловным закон отменяющий фидеикоммиссы и субституции, хотя это не более как известные формы, или виды наследства. Точно так же он признает безусловным закон, воспрещающий вообще доказывать денежные обязательства свыше известной суммы показанием свидетелей, хотя свидетельские показания в гражданских делах вообще допускаются. Даже запрещение брать проценты свыше известного размера причисляется им к безусловным законам, хотя вообще брать проценты не запрещено, следовательно, сущность права сохраняется[51].
Ясно, что этим способом никакого разграничения сделать нельзя. Существование или несуществование законно приобретенного права ставится в зависимость от случайной редакции закона или от произвольного толкования. Источник всей этой бесконечной путаницы понятий заключается в ложной точке отправления. В самом деле, если в одном случае приобретенное право должно быть уважаемо, как выражение законной свободы человека, то на каком основании может быть дозволено не уважать его в другом? Если все зависит от воли законодателя, если изменяющееся общее сознание служит единственным источником всякого права, если лицо, по выражению Лассаля, не имеет права "воткнуть свой частный кол в юридическую почву", то приобретенное право не может иметь значения никогда и нигде; тогда свобода человека превращается в призрак, и дух трактуется как вещь. Если же наоборот, общее сознание тогда только может быть источником правомерного закона, когда оно носит в себе разумные начала, то есть, когда оно руководится требованиями правды и уважением к свободе, составляющей, по признанию самого Лассаля, корень всякого права, то приобретенное право должно быть признано всегда и везде, и всякое на него посягательство есть насилие и беззаконие.
Которое из этих двух воззрений истинно, в этом не может быть ни малейшего сомнения, не только для юриста, но и для всякого здравомыслящего человека. Если я уважаю закон, то и закон должен оказать мне уважение. Если я приобрел известное право тем путем, который мне указывал сам закон, то закон обязан охранять это право, и если, при изменившихся условиях или взглядах, он признает нужным отменить этого рода права, то он обязан дать мне справедливое вознаграждение. Иначе, по выражению Лассаля, закон превращается в ловушку, подставленную гражданам законодателем. Такой способ действия заключал бы в себе глубочайшее противоречие закона и с самим собою, и с свободою, и с правом. Выражение "нет права против права" не означает, как уверяет Лассаль, что всякое право должно сообразоваться с изменяющимся общим сознанием; оно означает, напротив, что общее сознание должно сообразоваться с вечными началами права, написанными в сердцах людей, с началами, которые познаются философиею и выражаются в законодательствах. Эти начала состоят в признании требований правды; а коренное требование правды заключается в том, чтобы воздавать каждому свое, то есть в уважении к человеческой свободе и ко всему тому, что из нее проистекает. Таковы были определения римских юристов, и такова же идея, которая живою нитью проходит через всю историю юридической мысли и через всю историю законодательств.
Глава III. СОБСТВЕННОСТЬ
Человек, как свободное существо, налагает свою волю на внешний мир. В этом заключается основание собственности.
Право собственности содержит в себе двоякий элемент: фактическое отношение к вещи, или пользование ею для своих целей, и идеальное отношение — право. Источник первого лежит, с одной стороны, в человеческих потребностях, для удовлетворения которых необходимы материальные предметы, с другой стороны в физической силе, покоряющей эти предметы власти человека. Источником же идеального отношения является высший закон, закон разума, который подчиняет неразумную природу разумному существу, и неразлучный с ним закон свободы, требующий осуществления ее во внешнем мире, или присвоения ей внешней сферы, которою она могла бы располагать по усмотрению. В других подобных ему лицах лицо находит границу своей свободы; материальный же мир представляет ему открытое поприще, где оно может беспрепятственно проявлять свою деятельность.
Таким образом, собственность вытекает из природы человека, как разумно-свободного существа. В этом с редким единодушием сходятся философы различных школ. "Объявление прав человека и гражданина" причислило собственность, вслед за свободою, к прирожденным правам человека (ст. 2), Кант выводил ее из постулата практического разума, дозволяющего всякое употребление внешней свободы, которым не нарушается свобода других (Rechtslehre, § 2), Фихте из абсолютного права лица быть причиною во внешнем мире (Grundl. d. Naturr, § 10, 12), Гегель из требования, чтобы лицо создало себе внешнюю сферу свободы, откуда вытекает право полагать свою волю в каждую вещь, или абсолютное право присвоения всех вещей (Philos. d. Rechts, §§ 41, 44). То же начало признается и школою Краузе, несмотря на ее понятия об органическом значении права. "Особенное основание частной собственности, — говорит Арене, — может лежать только в начале единичной личности, в которой первобытный, божественный и вечный дух разума (Vernunftgeist) является властью, свободно господствующею и устрояющею все чувственное и индивидуальное, властью, прилагающеюся и к материально являющимся благам. Как свободное, личное существо, человек должен сам полагать себе свои цели и исполнять их на этих благах в своеобразной форме. Особенность каждого человеческого духа в выборе и исполнении своих целей требует и собственности как свободного распоряжения вещными благами для своеобразного осуществления совокупной личности. Именно потому что человек есть существо самобытное, которое должно своеобразно устроить свою жизнь, он должен иметь нечто для себя. Из самобытного и для себя бытия вытекает самобытное и для себя имение. Собственность есть, следовательно, объективация или отражение личности во внешнем, вещественном мире; это — круг вещных благ, проведенный из средоточия духовно-нравственной личности и управляемый из этого средоточия" (Naturrecht, II, § 68, стр. 110). Наконец, даже писатели с односторонне нравственным направлением подтверждают этот взгляд. "Человек, — говорит Шталь, — поставлен господином в творении. Предметы внешнего мира даны ему для удовлетворения его потребностей, сперва физических, а через посредство их и духовных. В способе же удовлетворения, именно, в устроении образа жизни и основанной на нем деятельности, должна проявляться личность человека. Для этого человек имеет от природы власть над вещами; для этого он и в человеческом общежитии, каждый в противоположность другим, должен свободно ими распоряжаться; они должны быть прочным образом обеспечены и подчинены его воле. На этом покоится собственность в обширном смысле, или имущество. Собственность составляет материал для откровения человеческой личности" (Phil. d. Rechts, II, 3 В, § 22).
Несмотря однако на такое единогласие философов, новейшие социалисты кафедры отрицают правильность этих выводов. Адольф Вагнер, который в своем "Учебнике политической экономии" подверг обстоятельному разбору различные теории происхождения собственности, менее всего придает значения той теории, которая выводит собственность из природы человеческой личности. Он видит в ней "нечто столь неопределенное, что через это в вопросе о частной собственности не получается никакой твердой почвы". В доказательство он ссылается на то, что социалисты "с совершенно таким же или с столь же малым правом выводят из понятия и существа человеческой личности юридический порядок имущественного мира прямо противоположный частной собственности, а именно такой, который всем людям доставляет нужные хозяйственные блага для исполнения их чувственно-нравственных жизненных целей… Основание частной собственности просто на человеческой личности, заключает Вагнер, не имеет большего научного достоинства, как и основание на ней совершенно противоположного юридического порядка имуществ" (стр. 459–460). Нельзя не удивляться подобному заключению. Оно равносильно признанию, что из одних и тех же данных можно с одинаковым правдоподобием сделать совершенно противоположные выводы, признанию, ведущему к отрицанию всякой логики и всякой науки. Если бы человеческая личность была пустым местом, в которое можно вкладывать все, что угодно, то возражение Вагнера могло бы быть справедливо. Но человек есть разумно-свободное существо, а из этого вытекают известные требования, которые не только сознаются разумом, но и осуществляются в действительном мире. Согласие частной собственности с природою человека имеет за себя не одни выводы философии, но и мировой опыт, ибо собственность существует везде, где человек вышел из первобытного состояния. Социальные же утопии вечно были и остаются неосуществимыми, именно потому что они насилуют человеческую природу и уничтожают свободу человека. Чтобы поставить их на одну доску с теориею собственности, надобно бы было, по крайней мере, доказать их приложимость; но Вагнер не только не пытается этого делать, но даже прямо признает, что для осуществления их требуются совершенно иные существа, нежели каковы люди (стр. 533). Если же он при этом говорит, что и со стороны противников нет ни малейшего доказательства, что личность может достигать своих целей исключительно через посредство частной собственности" (стр. 459). то это можно объяснить лишь добровольным закрытием глаз на самые простые вещи. Сам Вагнер, как мы видели выше, признает, что свобода соответствует нравственному существу человека, а свобода состоит в праве распоряжаться своею деятельностью и тем, что приобретается этою деятельностью. Но говоря о собственности, Вагнер оставляет в стороне именно тот пункт, в котором заключается весь вопрос. О свободе и ее требованиях не упоминается ни единым словом. Этим способом можно, конечно, все доказывать и все отвергать; но тогда не надобно уже говорить не только о философии, но и о какой бы то ни было науке.
Сам Вагнер допускает, что из человеческой природы могут быть выведены некоторые, хотя весьма ограниченные виды собственности. "Из существа человеческой личности, — говорит он, — вытекает необходимое требование, чтобы юридический порядок привел к установлению известной частной собственности", именно, на сколько она необходима для удовлетворения самых настоятельных потребностей существования особи. "Всю же остальную частную собственность невозможно вывести этим путем". Но эта ограниченная собственность, замечает Вагнер, не имеет никакого значения; даже социалисты ее допускают. Этим "основывается" только то, что разумеется само собою (стр. 460–461).
Итак, из природы человека вытекает только удовлетворение самых настоятельных физических его потребностей! Какое высокое понятие о человеке имеют социалисты кафедры! Непонятно только, зачем для этого нужна собственность. Разве нельзя поддерживать существование человека, прокармливая его, как рабочий скот, но не давая ему распоряжаться ничем? Это и делают рабовладельцы.
"Можно возразить, — продолжает Вагнер, — что личность, для исполнения своих нравственно-чувственных целей и вообще для своего проявления в деятельности, нуждается в более широком потребительном имуществе, а потому следует признать по крайней мере право собственности на это имущество требованием личности". Но подобное требование, говорит он, можно допустить единственно из соображений целесообразности. "Из понятия и существа личности оно не вытекает, или же, если оно отсюда выводится, то надобно признать, как необходимое следствие, что оно должно принадлежать всем в равной степени". Во всяком случае, замечает Вагнер, такое расширение права собственности за пределы необходимых потребностей остается пустым словом; размер и содержание оно получает единственно от свободного развития права. Что же касается до права собственности на орудия производства, на капитал и на землю, то оно даже в самом ограниченном размере не может быть выведено из этой теории, ибо лицо может свободно устраивать свою жизнь не только при частной собственности, но и при таком юридическом порядке, который предоставляет ему не более как право пользования этими орудиями. Доказательством служат свободные рабочие и наниматели, которые работают с чужими орудиями. Следовательно, предоставление лицу права собственности на эти орудия не вытекает из природы и существа личности, а установляется единственно из соображений целесообразности (стр. 461–463).
Таким образом, единственно соображения целесообразности заставляют допускать право человека на что бы то ни было, кроме самых необходимых предметов потребления. Воззрение на человека, как на вьючного животного, остается в полной силе. Определение размера, в котором могут удовлетворяться все остальные человеческие потребности, зависит исключительно от усмотрения законодателя. Нельзя не сказать, что в этом взгляде, к низведению человека на степень животных, присоединяется полное непонимание как существа права собственности, так и задач законодательства. В действительности закон, за исключением редких случаев, никому не дает права собственности на что бы то ни было и не определяет содержания этого права. Он признает только за лицом, во имя неотъемлемо принадлежащей ему свободы, право приобретать собственность и свободно распоряжаться приобретенным. Границы этой свободы полагаются таковою же свободою других. Таков чистый закон права. Соображения целесообразности могут стеснять свободу, но не они служат ей основанием и не они дают ей содержание. Поэтому право собственности не ограничивается предметами потребления. Если я могу свободно распоряжаться приобретенным имуществом, то от меня зависит обратить его на собственное потребление или сделать из него орудие производства. Если же закон запрещает мне последнее, если он говорит мне: "ты можешь заработанные тобою деньги проесть, но не смеешь сделать или купить на них инструмент", то это ничем не оправданное насилие свободе. Здесь в принципе отрицается право человека быть самостоятельным деятелем; он низводится на степень орудия. Такой принцип есть унижение человеческой личности, коренное отрицание прав, вытекающих из самой природы разумно-свободного существа.
Из этой природы однако отнюдь не следует, что всякий человек непременно должен иметь собственные орудия, и еще менее, что собственность должна быть одинаковая у всех. В этом возражении опять предполагается, что закон дает лицам действительную собственность. Между тем закон ничего не дает, кроме права приобретать и свободно распоряжаться приобретенным, и это единственное, что вытекает из природы человека, как разумно-свободного существа. Каким образом человек воспользуется своим правом, приобретет ли он что-нибудь или нет, до этого юридическому закону нет дела. Один работал, а другой ленился; один сберегал, а другой тратил; у одного работа была успешна, а другой не умел за нес взяться, или ему помешали внешние обстоятельства. Поэтому у одного может быть много, а у другого ничего; один может сделаться хозяином, другой останется работником, хотя и тот и другой имеют совершенно одинаковые права.
Сам Вагнер, признавая изменяющуюся целесообразность единственным источником собственности, принужден допустить рядом с этим и другое начало, именно, справедливость. "Нельзя упустить из виду, — говорит он, — что исполнение требования естественной справедливости, в силу которого плоды труда должны принадлежать, как собственность, работнику, а результаты сбережения сберегающему, представляются в высшей степени целесообразными и с точки зрения народного хозяйства. Высшая справедливость есть вместе с тем и высшая целесообразность" (стр. 468).
Так как справедливость признается здесь естественным началом, то из этого очевидно следует, что из естества человеческого вытекает нечто большее, нежели дозволение человеку иметь необходимые средства пропитания. Но Вагнер вовсе этого не замечает и делает такое заключение; "учреждение частной собственности и различные категории собственности являются таким образом, хотя и не основанными на природе человека, однако созданными правом по соображениям экономической целесообразности и справедливости. Именно известные исторические и местные условия, техники, культуры и вообще общественного сожительства, порождают это учреждение, как в целом, так и в отдельных его видах, принимая во внимание экономическую природу человека. Следовательно, мы в собственности имеем дело с историческою, а не с естественно-необходимою, прямо вытекающею из природы человека, а также и не с чисто-экономическою категориею, о которой можно было бы сказать, что без нее правильное удовлетворение потребностей и вообще народное хозяйство немыслимы" (стр. 466).
Итак, справедливость, требующая, чтобы плоды труда и сбережений принадлежали трудящемуся и сберегающему, есть не более как местное и временное условие, историческая категория! И это говорится после того, как на предыдущей странице справедливость названа была естественною! Читая такого рода выводы, невольно подумаешь иногда, что подобно тому как из человеческой природы одинаково можно вывести и свободу и коммунизм, так и человечески разум безразлично относится к логике и бессмыслице. Сам Вагнер отличает однако справедливость и целесообразность; и точно, это — два совершенно разные понятия, одно изменяющееся, другое постоянное и безусловное. Именно в том виде, как понятие о справедливости формулировано Вагнером, оно составляет чисто разумное требование, имеющее значение для всех времен и народов. Выдавать его за нечто местное, временное и условное, значит идти наперекор здравому смыслу.
Начало справедливости, воздающей каждому свое, приводит нас к дальнейшему определению собственности. Из природы человека как свободного существа вытекает, как мы видели, только право приобретать и распоряжаться приобретенным. Но каким образом осуществляется это право? Каким законным путем может человек приобрести собственность? Недостаточно одной физической силы; нужен юридический титул, а всякий юридический титул основан на понятии о справедливости, которая служит мерилом всех юридических установлений. Способы приобретения собственности могут быть двоякого рода: первоначальные и производные. Последние предполагают первые; они определяют переход собственности из одних рук в другие; первые же объясняют самое происхождение собственности между людьми. Таких способов два: овладение и труд. Отсюда две теории происхождения собственности: теория овладения и теория труда. Рассмотрим ту и другую.
Теория овладения идет от римлян. Римские юристы утверждали, что по естественному разуму то, что никому не принадлежит, достается овладевающему (Quod enim nullius est, ratione naturali occupanli conceditur). Это начало было признано и Гуго Гроцием. "Бог, — говорит он, — дал человеческому роду право на предметы этой низшей природы…. Вследствие этого каждый из людей мог для своего употребления брать, что хотел, и потреблять то, что могло быть потребляемо. Ибо, что каждый брал, того другой не мог уже у него отнять иначе как обидою" (De J. В. ас Р., II, 2, 2). Несмотря на то, Гроций предполагал, что для перехода от первобытного безразличия имуществ в частной собственности необходимо было соглашение, явное при разделе, или тайное при овладении. Иначе другие не имели бы возможности знать, что именно каждый хотел себе присвоить, и притом многие могли бы хотеть одного и того же (II, 2, 5). Отсюда произошла теория, производящая собственность из человеческих соглашений. Ее держался Пуфендорф и после него многие юристы до новейшего времени. Ее разделяет и Вагнер. Другие, напротив, как например Барбейрак, утверждали, что для овладения не нужно никакого предварительного соглашения, ибо то, что я занял, не может быть у меня отнято без обиды[52].
Вникая глубже в этот вопрос, мы не можем не прийти к убеждению, что последнее мнение справедливо. Оно логически вытекает из самого понятия о человеческой свободе и об ее отношениях к внешнему миру. Как разумно-свободное существо, я имею право налагать свою волю на окружающие меня материальные предметы, и эта воля законна, пока она не встречает воли других разумно-свободных существ. Следовательно, как скоро вещь находится в моем владении, так другой не может уже ее себе присвоить, ибо этим нарушается законное проявление моей свободы, то есть мое право. Весьма рельефно эти начала были выражены Шеллингом в одном из ранних его произведений. "Объявляя себя свободным существом, — говорит он, — я объявляю себя существом, которое определяет все, что ему сопротивляется, а само не определяется ничем… Я объявляю себя владыкою природы и требую, чтобы она безусловно определялась законом моей воли… Только неизменному субъекту принадлежит автономия; все, что не есть субъект, все. что может быть объектом, то определяется чужим законом, то для меня явление. Весь мир составляет мою нравственную собственность… Куда только проникает моя физическая сила, я всему существующему даю свою форму, навязываю свои цели, употребляю как средство для неограниченной своей воли. Где моя физическая сила недостаточна, там есть физическое сопротивление; но нравственного сопротивления для меня в природе не может быть… Где моя физическая сила встречает сопротивление, там есть природа. Я признаю превосходство природы над своею физическою силою: я преклоняюсь перед нею, как чувственное существо, я не могу идти далее. Там же, где моя нравственная сила встречает сопротивление, там не может уже быть природа. В трепете я останавливаюсь. Тут человечество! раздается мне навстречу. Я не должен идти далее"[53].
Рассматривая теорию овладения с своей относительной точки зрения, Вагнер находит, что для развитого гражданского быта это начало теряет всякое значение; для первобытных же времен право овладения не только движимыми, но и недвижимыми, оправдывается как экономическою целесообразностью, так и справедливостью, но единственно в той границе, которая определяется "обусловливающим совместным существованием людей и общею всем потребностью в вещах" (стр. 476–478). Это последнее выражение взято у Аренса, на которого и ссылается Вагнер. Но кто же определит эту границу? Если общество, то это предполагает, что все вещи уже усвоены обществом, которое распределяет их между своими членами, смотря по их потребностям. Для того чтобы стать на такую точку зрения, надобно доказать, что вещей никому не принадлежащих вовсе нет, что все первоначально принадлежит обществу, как целому, и что отдельное лицо не может овладеть вещью иначе как в силу общественного дозволения. Этого доказательства ни Вагнер, ни Арене не представили. Его пытался представить Прудон. Известно, что знаменитый социалист подверг различные теории собственности самой строгой критике и окончательно объявил ее воровством. Посмотрим на его аргументацию; из нее черпали свои доводы все последующие возражатели.
Прудон, так же как и защитники собственности, отправляется от человеческой свободы, но он выводит из этого начала совершенно иные последствия. "Не правда ли, — говорит он, — что если свобода человека священна, то она священна на том же основании во всех лицах; что если она нуждается в собственности для того чтобы действовать во внешнем мире, то есть для того чтобы жить, то это усвоение материи одинаково необходимо для всех; что если я хочу, чтобы уважали мое право усвоения, то я должен уважать и чужое право; следовательно, если в области бесконечности сила усвоения свободы может найти свою границу только в себе самой. то в области конечного та же сила ограничивается математическим отношением числа свобод к занимаемому ими пространству. Не следует ли из этого, что если одна свобода не вправе помешать другой свободе, ее современнице, усвоить себе количество материи, равное усвоенной ею самою, то она одинаково не вправе отнять эту способность у будущих свобод? Ибо, между тем как лицо приходит, целое остается, а закон вечного целого не может зависеть от феноменальной его части. И из всего этого не следует ли заключить, что всякий раз как рождается лицо, одаренное свободою, надобно, чтобы другие стеснились, и что в силу взаимности, если оно впоследствии становится наследником известного имущества, то ему должно быть предоставлено не право совмещать в себе новое владение с полученным прежде, а только право выбора между тем и другим"? Говоря более простыми словами, продолжает Прудон, "человек должен работать, чтобы жить: следовательно, он нуждается в орудиях и материалах для производства. Эта потребность производить составляет его право, и эти право обеспечивается ему другими людьми, в отношении к которым он вступает в такое же обязательство. Сто тысяч человек поселяются в стране, пространством равняющейся Франции и не имеющей жителей; право каждого человека на поземельный капитал равняется одной стотысячной. Если число владельцев увеличивается, то доля каждого уменьшается сообразно с этим увеличением, так что если количество жителей возрастает до 34 миллионов, то доля каждого будет равняться одной 34-миллионной части. Устройте же полицию и правительство, труд, обмен, наследство и проч., так чтобы средства для работы были всегда равны и чтобы всякий был свободен, и общество будет совершенно" (Qu'est ce que la propriete, ch. II, § 2).
Мы видим, что происхождение собственности из права овладения отвергается во имя принадлежащего всем людям права получить одинаковое с другими количество материи для удовлетворения своих потребностей. Но такое право есть чистый вымысел. Из свободы оно вовсе не вытекает. Свобода дает человеку только право приобретать все, что угодно, не нарушая чужой свободы и чужого права; но она не уполномочивает его требовать от других какое бы то ни было количество материи для удовлетворения своих потребностей, и еще менее количество равное тому, которым они сами владеют. Если, например, в обществе рыболовов, один поймал известное количество рыбы, то другой, ссылаясь на то, что он свободное существо, не имеет никакого права требовать, чтобы и у него было совершенно такое же количество рыбы. Столь же мало имеет кто-либо право требовать, во имя своей свободы, чтобы ему даны были орудия производства. Рождающийся в обществе рыболовов не может требовать, чтобы ему при рождении был дан невод, с тем, что если он впоследствии получит другой невод по наследству, то ему предоставлен будет выбор между обоими. Такое право ни в каком обществе никогда не обеспечивалось и не обеспечивается другими членами. Если в приведенном Прудоном примере сто тысяч человек совокупными силами занимают известное пространство земли, то они, без сомнения, вольны разделить его поровну; но они вправе поделить его и всяким другим способом: это зависит от взаимного соглашения. Вновь же прибывающие члены не имеют ни малейшего права требовать, чтобы им была уделена такая же доля, как и первым обладателям. Те имели полное право распоряжаться землею по своему усмотрению, потому что в то время земля не принадлежала никому; но как скоро она усвоена, так никто не имеет на нее права, помимо воли владельцев. Вновь нарождающиеся члены получают только наследие своих предшественников. Не во имя свободы и не во имя какого бы то ни было права, а во имя равенства состояний может быть предъявлено подобное требование. Но равенство состояний, которое во всем этом имеет в виду Прудон, вовсе не есть указанный Провидением образец, который человек обязан осуществить, как утверждает знаменитый софист (там же); это не более как фантазия мечтателей, идущая наперекор и требованиям разума, и данным опыта, и природе человека. Не только оно не вытекает из свободы, но оно ведет к полному ее уничтожению. "Устройте все так, чтобы средства работы были всегда равны и чтобы каждый быль свободен, — говорит Прудон, — и общество будет совершенно". Это все равно, что если бы кто сказал: "устройте все так, чтобы дважды два было вместе и четыре и пятьдесят миллионов, и математика будет совершенною наукою".
Ниже мы поговорим об этом подробнее; но здесь уже можно указать, какие из этого начала вытекают последствия для свободы человека в приложении к собственности. Если каждый член общества имеет равное с другими право на всякую частицу материи, и это право обеспечивается ему всеми другими, то очевидно, никто не имеет особенного права ни на что: все принадлежит всем. Общество как целое становится единственным обладателем всех вещей, а личность и ее свобода превращаются в призрак. Это и есть то заключение, которое логически выводит Прудон. "Если я ссылаюсь на право овладения, — говорит он, — то общество может мне отвечать: я овладеваю прежде тебя". И далее: "всякий, следовательно, владелец необходимо есть только пользователь, качество, исключающее собственность. Право же пользователя таково: он ответствен за вверенную ему вещь; он обязан ее употреблять сообразно с общею выгодою, в видах сохранения и улучшения вещи; он не властен ее изменить, уменьшить или исказить; он не может разделить пользование, так чтобы другой употреблял вещь, а сам он получал от нее продукт: одним словом, пользователь поставлен под наблюдение общества, подчинен условию работы и закону равенства. Этим уничтожается римское определение собственности: право употреблять и злоупотреблять, безнравственное начало, порожденное насилием, самое чудовищное притязание, которое когда-либо освещали гражданские законы. Человек получает свое пользование из рук общества, которое одно владеет постоянным образом: лицо исчезает, общество не умирает никогда" (ch. II, § 3). "Какое глубокое омерзение охватывает мою душу, — прибавляет Прудон, — когда приходится доказывать такие пошлые истины!" То, что Прудону представляется пошлою истиною, в действительности есть коренная ложь. Это ни более, ни менее, как полное уничтожение человеческой свободы; ибо там, где нет права употреблять и злоупотреблять, где я не могу сделать ни шага, не давая отчета обществу и не получивши разрешения, там очевидно о свободе не может быть речи. Свобода превращается в пустой звук или становится личиною, прикрывающею рабство. И эти требования прилагаются не к тому или другому виду имущества, а ко всякой частичке материи, состоящей во владении человека! Когда же мы вспомним, что исходною точкою всей этой аргументации служит человеческая свобода, то чудовищность заключающегося в ней противоречия выступает во всей своей наготе.
Что же это однако за общество, из рук которого лицо получает свое владение? Какое право имеет оно на вещь? Оказывается, что общество столь же мало собственник, как и отдельное лицо, и опять в силу тех же начал. "Кто имеет право продавать землю? — спрашивает Прудон. — Если бы даже народ был собственником земли, разве настоящее поколение может лишить владения завтрашнее? Народ владеет на праве пользования; правительство управляет, надзирает, охраняет, совершает действия распределяющей правды; если оно уступает земли, оно может уступить их единственно на праве пользования; оно не имеет права продавать и отчуждать что бы то ни было. Не будучи собственником, как может оно передать собственность?" (ch. III, § 4).
И не только во имя прав будущих поколений, но и во имя прав, принадлежащих другим народам, Прудон отрицает право собственности каждого отдельного народа на занимаемую им территорию. В самом деле если лицо не имеет права присвоить себе что бы то ни было, вследствие того, что на каждую частичку материи имеют одинаковое право все существующие и имеющие родиться люди, то право присвоения столь же мало может принадлежать отдельному обществу. Ибо на каком основании скажет оно "это мое" и исключит все остальные? С своею строгою логикою, Прудон ясно видел это последствие и прямо его высказал. "Франция как один человек, — говорит он, — владеет территориею, которою она пользуется; она не собственник этой территории. Отношения народов таковы же, как и отношения отдельных лиц: они пользуются и работают; только злоупотреблением языка им приписывается собственность земли… Поэтому тот, кто желая объяснить, каким образом происходит собственность, начинает с предположения, что народ есть собственник, впадает в софизм, называемый ложным основанием (petitio principii); с этой минуты вся его аргументация разрушена" (Там же).
Но если народ не более как пользователь, то ему принадлежат совершенно такие же права, как и отдельным лицам, и тогда не видать, в силу чего ему приписывается какая бы то ни была власть над последними. В таком случае, если общество обращается к лицу с требованием отчета, последнее, держась теории Прудона, вправе отвечать ему: "покажите мне настоящего собственника, и я дам ему отчет, а вы что такое? Вы имеете на это пространство земли совершенно такое же право, как и я. Если вы действительно пользователь, то вы потеряли это право, ибо нарушили все условия. Пользователь есть сам подотчетное лицо; он не имеет права передать пользование другому; он должен сам работать и подчинен закону равенства. Между тем, пользуюсь я, работаю я, о вашей отчетности нет и речи, о равном пользовании всех народов на земле еще менее. Во имя чего же вы присваиваете себе надо мною власть?" Когда же общество обратится к лицу с требованием, чтобы оно стеснилось для вновь нарождающихся поколений, лицо может возразить, что это требование основано именно на том начале, которое отвергается. Тут предполагается, что в силу овладения, на это пространство земли имеют право только члены этого общества и никто другой, и наоборот, что вновь нарождающиеся члены этого общества имеют право единственно на это пространство и ни на что другое. Между тем если овладение не имеет никакого юридического значения, если общества находятся между собою совершенно в таких же отношениях, как и отдельные лица, то есть если все одинаково имеют право на все, то в основание расчета следует положить не количество жителей известной страны, а количество жителей на всем земном шаре; между ними надобно поровну поделить все земное пространство. Лицо, к которому общество обращается с подобным требованием, вправе отвечать, что на земном шаре еще много пустых пространств и что во всяком случае надобно доказать, что вновь нарождающиеся члены имеют право на такое количество, а не на другое. Наконец, и этот математический расчет окажется несостоятельным, ибо очевидно, что дело не в одном количестве, а еще более в качестве. Громадные пространства северных тундр можно охотно променять на несколько удобных десятин под небом Италии. Если все одинаково принадлежит всем и закон равенства для всех обязателен, то лапландцы могут предъявить свои требования: "берите, если хотите, наши бесконечные тундры, а нам дайте земли около Неаполитанского залива!"
Ясно, что принятое Прудоном начало разрушается собственною нелепостью. Иначе и не может быть, ибо оно основано на полнейшей путанице понятий. Тут смешивается право приобретать с правом иметь. Из свободы человека вытекает только право приобретать, не нарушая чужой свободы, и это право не имеет иных границ, кроме самой свободы. Но для того чтобы иметь, надобно приобрести. Всякий имеет право на то, что он приобрел, но никто не имеет право на то, что приобретено другими. Овладение есть первоначальный способ приобретения; этим вещь ставится в зависимость от человека. На основании закона права всякий имеет право овладеть вещью, которая не усвоена никем, но никто не имеет права овладеть вещью, которая находится уже в чужом владении. Это — чисто математическое последствие, вытекающее из начал свободы и права.
Не ставится ли однако через это и право и все человеческое благосостояние в зависимость от чистой случайности? Не создастся ли несправедливая привилегия одних перед другими?
Случайность, от которой зависит размер собственности, не что иное как человеческая свобода, составляющая источник всякого права и всякого благосостояния. Привилегии здесь не дается никакой, ибо закон равно распространяется на всех: все одинаково имеют право овладевать тем, что никому не принадлежит, и никто не имеет права овладевать тем, что принадлежит другому. Но именно в силу этого, первый овладевающий имеет преимущество перед всеми другими. Это преимущество состоит в том, что он один поступает согласно с правом, а всякий другой, кто придет позже него, не может овладеть вещью иначе, как нарушая право.
Если же мы от этой чисто индивидуалистической точки зрения, отправляющейся от свободы лица, возвысимся к точке зрения общечеловеческой, то и здесь мы увидим подтверждение того же начала. Кому по справедливости должно принадлежать первоначальное пользование тою или другою силою природы? Очевидно тому, кто первый покорил ее человеку. Для всех остальных это пользование может быть только производное; оно может приобретаться не иначе, как через посредство воли первого владельца. Нарушение этого порядка есть не право, а насилие. С какого бы, следовательно, конца мы ни начали, везде требования справедливости оказываются одни и те же[54].
В результате мы должны сказать, что овладение составляет совершенно законный способ приобретения собственности, способ, вытекающий из коренных начал права. Но этот способ одинаково приложим и к частной собственности, и к общественной. Ибо, если отдельное лицо имеет право овладеть никому не принадлежащею вещью, то и целое общество, совокупными силами, может занять вещи и земли никому не принадлежащие. В последнем случае, отдельные лица будут пользоваться теми правами, которые будут предоставлены им обществом. Фактически, по крайней мере в отношении к недвижимой собственности, общественное владение предшествовало частному, ибо лицо, как уже было замечено выше, сначала погружено в общую субстанцию; только мало-помалу человек сознает себя самостоятельною и свободною единицею. Вследствие этого процесс индивидуализации собственности является плодом исторического развития. Говоря о свободе, мы уже заметили, что то, что лежит в природе развивающегося существа, не вдруг проявляется наружу, а составляет результат развития. Однако уже в первоначальном занятии совокупными силами скрывается личное начало, ибо совокупная воля имеет свой корень в личной. В действительности, как мы видели, существует только последняя; общественная же воля образуется вследствие того, что отдельные лица сознают себя как одно целое. Поэтому юридическое основание права занятия совокупными силами заключается в праве каждого отдельного лица присваивать себе никому не принадлежащие вещи. Вследствие того же начала, как скоро лицо, выделяясь из общей субстанции, сознает себя самостоятельною единицею, как скоро признается свобода со всеми вытекающими из нее последствиями, так общественная собственность уступает место личной. Занятое совокупными силами, по общему решению, делится между лицами, или же каждому предоставляется право усваивать себе то, что не находится в чужом владении. В силу такого решения, доля каждого становится неотъемлемым его достоянием.
"Общество, — восклицает Прудон, — не имеет права постановить такое решение. Этим оно нарушает права будущих поколений". Мы уже заметили, что такое возражение не что иное, как софизм. Будущие поколения не имеют иных имущественных прав, кроме тех, которые передаются им настоящими. Может существовать закон, устанавливающий известный порядок перехода имущества на будущие времена; на основании этого закона появляющийся на свет человек, уже по самому своему рождению, приобретает известные имущественные права. Но вся сила этого закона зависит от воли существующего поколения, которое все-таки является верховным распорядителем своего имущества. Напротив, принявши теорию Прудона, мы должны прийти к заключению, что верховного распорядителя имуществом нет и не может быть. Самое человечество, по этой системе, если бы оно имело волю, не могло бы распорядиться ничем, ибо на это нужно согласие будущих, несуществующих еще поколений, которых воля неизвестна. Если же верховное право не принадлежит никому, то нет и подчиненного права, которое заимствует свою силу единственно от первого. В таком случае, никто не имеет права не только овладеть, но и владеть чем бы то ни было. В самом деле, в силу чего могу я овладеть или владеть известною вещью? Если в силу своего права, то я являюсь верховным распорядителем, или хозяином; если в силу права, предоставленного мне другими, то другие будут хозяева; если же права распоряжаться вещью не имеют ни я. ни другие, то это право вовсе не существует, и тогда вещи юридически не могут находиться ни в чьем владении. Таким образом, я должен или признать, что никто, ни лицо, ни общество, не имеет права овладеть чем бы то ни было, или я должен признать, что кто имеет право овладеть, тот имеет право и распорядиться вещью. Если люди имеют право совокупными силами овладеть вещью, то те же люди или их преемники имеют несомненное право совокупным решением разделить эту вещь между собою, и это решение будет совершенно законным основанием частной собственности.
В самом лице существует начало, которое неизбежно ведет к этой индивидуализации собственности. Овладение, как сказано, одинаково может вести и к частной, и к общественной собственности; но есть другой источник собственности, который носит на себе чисто личный характер. Этот источник есть труд. Мы приходим к второй теории происхождения собственности, к теории труда.
По-видимому, не может быть ничего проще и очевиднее правила, что плоды труда должны принадлежать тому, кто трудился. Это правило — не экономическое, как утверждает Адольф Вагнер, а чисто юридическое, вытекающее из основного начала правды: каждому свое. Как свободное существо, я хозяин своих личных сил, а потому хозяин всего того, что приобретается деятельностью этих сил. Фактически, эта теория возникла вовсе не на экономической почве. Ее развивал уже Локк, в "Опыте о гражданском правительстве". Несмотря на некоторые произвольные ограничения, доводы его весьма убедительны; они могут считаться прочным достоянием науки.
"Хотя земля и все низшие творения, — говорит Локк, — общи всем людям, однако каждый есть собственник своей особы: на нее никто не имеет права, кроме его самого. Работа его тела и дело его рук, можно сказать, принадлежат собственно ему. Следовательно, какую бы вещь он ни вывел из того состояния, в которое поставила ее природа, он связал с нею свой труд, он присоединил в ней нечто своего, а через это он делает ее своею собственностью. Так как она выведена им из того состояния, в которое она поставлена природою, то с нею силою труда соединено нечто, исключающее общее право всех людей: ибо работа несомненно составляет собственность работника, и потому никто не имеет права на то, что работою соединено с вещью". Это относится к земле, так же как и к движимым предметам. Человек своею работою выключает ее из общего употребления. Для такого усвоения, продолжает Локк, вовсе не нужно согласие всего человечества; если бы оно требовалось, то люди умерли бы с голоду среди изобилия. Бог дал мир всем людям вообще, но он дал его для употребления трудолюбивых и разумных; труд составляет основание права. И в этом нет ничего странного; ибо труд полагает разницу в ценности произведений. Если бы мы стали разбирать, что в употребляемых нами вещах составляет дело природы, а что дело труда, то мы пришли бы к заключению, что девяносто девять сотых принадлежат последнему.
На основании этих начал Локк пытался определить самую меру собственности, однако неудачно, ибо границ приобретаемому трудом положить невозможно: они установляются единственно свободою. Аргументация его состоит в том, что тот же самый закон природы, который дает нам собственность, определяет ее границы. Человек вправе усвоить себе столько земли, сколько он может обработать, и столько движимых предметов, сколько он может употребить прежде, нежели они испортились. Ибо Бог не дал вещей человеку, для того чтобы он их портил. Этот положенный собственности предел, по мнению Локка, мог бы иметь силу и теперь, если бы изобретение денег не дало возможности сохранять имущество без всякой порчи в течение какого угодно времени. Отсюда произошло неравенство состояний (Глава V).
Эта фактическая невозможность сохранить указанную природою границу доказывает несостоятельность ограничения. Самые основания вывода чисто произвольны, ибо если значительнейшая часть ценности вещей дается им трудом, то почему же работавший не имеет права предать их порче? Он только работал даром, а в этом он вполне хозяин. Возможность же беспредельного сохранения вещей делает ограничение бесполезным. Потребности человека не имеют границ, и приобретенное трудом может сохраняться, сколько угодно, для будущего употребления. Это служебное отношение вещей к человеческим нуждам увеличивается еще тем, что посредством обмена человек может приобретать произведения чужого труда, и это достояние столь же законно, как и первое, ибо источник у них один. Через это соединение личного труда с вещью из физического становится идеальным, с чем вместе отпадает всякая граница приобретению. Первоначально эта граница полагается трудом: человеку принадлежит только то, что он сам обработал; но так как труд может накопляться в неопределенных размерах и на произведения труда могут приобретаться новые предметы, то ясно, что никакой границы тут положить невозможно.
Все это до такой степени очевидно, что трудно даже себе представить, каким образом можно отвергать происхождение собственности из труда. Однако и эта теория встречает возражения. Первое место в ряду критиков опять принадлежит Прудону. Он пытался доказать, что труд не только фактически не служит основанием собственности, но что он никогда не может быть таковым.
Прежде всего, говорит он, труд предполагает овладение; если овладение не может сделать вещь собственностью человека, то этого не может сделать и труд. Человек не создал материи, на которую он действует; поэтому он не вправе ее себе присвоить. Он может быть только временным ее владельцем или пользователем, под условием труда. Таким образом, допустивши даже право собственности на произведения труда, из него не вытекает право собственности на орудия производства. "Есть тождество между солдатом, владеющим своим оружием, — говорит Прудон, — каменщиком, владеющим вверенными ему материалами, рыболовом, владеющим водами, охотником, владеющим полями и лесами, и земледельцем, владеющим землею: все будут, если хотят, собственниками своих произведений, никто из них не есть собственник своих орудий. Право на произведения — исключительное, право на орудия — общее" (Qu'est се que la propriete, ch. III, § 4).
Этот довод доказывает слишком много. Если материя, на которую действует человек, не может быть усвоена никем, то это равно относится к орудиям и к произведениям труда. Если я только временный владелец всякой частички материи, то я не вправе употребить ее в свою пользу. Охотник не вправе съесть ту дичь, которую он застрелил, рыболов — ту рыбу, которую он выловил. Я не могу даже коснуться частички материи без разрешения настоящего ее хозяина, то есть создавшего ее Бога, или же человеческого рода, настоящего и будущего, предполагая, что Бог дал землю в совокупное владение человечества.
Очевидно, что принимая это начало, мы приходим к нелепости. В действительности материя не составляет совокупной собственности человеческого рода; это — чистый миф, принятый на веру теми, которые отвергают самые ясные понятия, как предрассудки. Сама по себе материя не принадлежит никому; но она усваивается всяким, кто налагает на нее свою волю и соединяет с нею свой труд. Человек не создает материи и не в силах ее уничтожить; он дает ей только форму, приспособленную к его потребностям. А так как эта форма есть его создание, которое по этому самому ему принадлежит, то ему принадлежит и материя, которой дана эта форма. И это одинаково относится к произведениям труда и к орудиям производства, ибо орудие производства само есть произведение труда. На каком основании возможно допустить право собственности рыболова на пойманную им рыбу и отрицать его право на сделанную им удочку? Ясно, что основания нет никакого. Это — фраза, пущенная на ветер. Самая земля только посредством труда обращается в орудие производства, и это признает Прудон, когда он говорит, что люди, обрабатывающие землю, "создают производительную способность, которая прежде не существовала". Но, возражает он, "эта способность может быть создана только под условием материи, составляющей ее поддержку… Человек все создал, все, кроме самой материи". Материя же не может быть обращена в собственность.
Материя, как мы видели, не только может, но и должна быть обращена в собственность; ибо это — единственное средство сделать ее полезною для человека. Усвоение производится тем, кто налагает на нее свою волю и свой труд. Отсюда право овладения и право труда. Последнее предполагает первое, ибо не овладевши матернею, невозможно приложить к ней труд. Но право труда существует и отдельно от права овладения, ибо труд может быть обращен на вещи, составляющие уже собственность другого. Каким же образом прилагается здесь правило, что плоды труда должны составлять собственность работника?
В действительности этот вопрос разрешается двояким путем. Если работник нанимает чужую землю или чужие орудия, то материальные плоды его труда остаются его собственностью, а он хозяину платит за наем. Или же земля и орудия остаются во владении хозяина, а работник отдает в найм свой труд и получает за него вознаграждение. Таково решение, выработанное жизнью и признанное всем человечеством. Но Прудон находит, что оно противоречит принятому началу, в силу которого труд дает право собственности на материю.
"Допустим, — говорит он, — что труд дает право собственности на материю: отчего это начало не общее? Отчего выгода от этого воображаемого закона, ограничиваясь меньшинством, отрицается у массы рабочих?.. Работа, некогда столь плодотворная, сделалась ли ныне бесплодною? Отчего фермер не приобретает более своим трудом ту землю, которую труд некогда приобрел собственнику? Говорят, оттого что она уже усвоена. Это не ответ… Фермер, улучшая землю, создал новую ценность собственности, следовательно, он имеет право на известную долю в этой собственности… Если же работник, прибавляющий к ценности вещи, имеет на нее право собственности, то и работник, поддерживающий эту ценность, приобретает на нее то же право. Ибо что значит поддерживать? Прибавлять беспрерывно, создавать постоянно… Допуская, следовательно, собственность, как разумное и законное начало, признавая наем земли справедливым и уравнительным, я говорю, что обрабатывающий землю приобретает собственность на том же самом основании, как и тот, который ее расчищает или улучшает… И когда я говорю собственник, — продолжает Прудон, — я не разумею только, подобно нашим экономистам-лицемерам, собственника своего жалованья, или своей заработной платы; я хочу сказать собственник созданной им ценности, из которой один хозяин извлекает выгоду" (ch. III, § 5).
В этом возражении забывается одно, именно, самое коренное начало права, в силу которого никто не имеет права присваивать себе то, что уже принадлежит другому. Я свободен приобретать своим трудом все, что мне угодно, но не нарушая чужого права. Поэтому, когда я обращаю свой труд на вещь, принадлежащую другому, я не могу делать это иначе, как с согласия хозяина, и от нашего соглашения зависит размер той пользы, которую я извлеку из своего труда. Я могу получить вознаграждение за капитальное улучшение чужого владения, могу приобрести в собственность произведения, могу наконец получить плату за труд: права собственности на самые орудия производства я через это не получу, ибо оно принадлежит уже другому. И когда Прудон утверждает, что это вовсе не ответ, когда он экономистов обвиняет в лицемерии, то он доказывает только, что самые элементарные понятия права остаются ему недоступными.
Чтобы устранить препятствие, вытекающее из чужой собственности, надобно уничтожить самое начало собственности. Между тем это начало не только не уничтожается, а напротив утверждается, когда мы признаем, что фермер приобретает право на произведения своего хозяйства, а работник на заработную плату. Приобретенное этим путем составляет неотъемлемое их достояние, с исключением всех других, и всякий другой может наложить руку на эти предметы не иначе как с согласия владельцев. "Эта цена недостаточна, — говорит Прудон, — труд рабочих создал ценность, следовательно, эта ценность составляет их собственность. Они ее не продали, не обменяли, а вы, капиталисты, вы ее не приобрели". В действительности они ее продали и обменяли, а капиталист ее приобрел. Допустим однако, что они взяли слишком низкую цену; следует ли из этого, что полученное ими не составляет их собственности? Кто может требовать большего, тот несомненно имеет право на меньшее. Как же скоро это допускается, так признается что труд составляет источник собственности, а вместе с тем признаются и все вытекающие из собственности последствия.
Чтобы выйти из этой дилеммы, надобно сделать новый шаг: надобно доказать, что самая заработная плата не составляет собственности работника. С своею неустрашимою логикою, Прудон не отступает и перед этим крайним последствием своей теории. Право работника на произведения своего труда допускалось единственно в видах обличения мнимых противоречий, возникающих из приложения этого начала. Собственная же мысль Прудона совершенно иная.
Он отправляется от критики предшествовавших ему социалистов, из которых одни выставляли формулу: "каждому по способности и каждой способности по ее делам", другие формулу: "каждому по его капиталу, труду и таланту". Из этих трех элементов, говорит он, прежде всего надобно вычеркнуть капитал. Он не имеет права ни на какое вознаграждение, ибо источником собственности может быть единственно труд. Капиталист, который вкладывает свой капитал в известное предприятие, может требовать только, чтобы ему возвратили этот капитал, и больше ничего. Что же касается до труда, то вопрос заключается в том: имеет ли работник право требовать вознаграждения соразмерного с своим трудом? Ничуть. Как товарищи, работники все равны, а потому все должны получать одинаковую плату. Каждый за свой труд получает в обмен произведения других, меняется же только равное на равное. Поэтому, если бы кто произвел более других, то этот избыток не подлежит обмену и не имеет влияния' на равенство вознаграждения. Самый этот избыток, при существующих условиях, немыслим. Если бы материя, на которую может действовать человек, обреталась в неограниченном количестве, то каждый, сверх того, что пускается в обмен, мог бы иметь еще нечто для себя, и тогда, при общественном равенстве, возобновилось бы естественное неравенство. Но материя находится в ограниченном количестве, а потому каждому уделяется только известная ее часть, равная с другими. Каждый работник получает от общества известный урок, который он обязан исполнить. Один может сделать это в большее время, другой в меньшее, но плата для всех одинакова. Кто исполнил только половину, тот получает половину вознаграждения. Если же неисполненная работа необходима для общества, то последнее принимает свои меры. Конечно, оно не может "употреблять чрезмерную строгость против отставших", но "оно вправе в интересах собственного существования смотреть, чтобы не было злоупотреблений" (ch. III, § 6).
"Против этого возражают, — замечает Прудон, — что не все работы одинаковы. Одни легче, другие труднее; одни требуют большего умения и таланта, другие меньшего. А так как способности не одинаковы, то равенство необходимо исчезает. Это возражение устраняется тем, что специальные работы, вызываемые разнообразием нужд, требуют и специальных способностей; вознаграждение же для всех должно быть одинаково, ибо меновая ценность произведений определяется не внутренним их достоинством, а единственно количеством положенной в них работы и сделанными для них затратами. Если "Илиада" стоила автору тридцать лет работы и 10000 франков разных издержек, то цена ее будет равняться тридцатилетнему жалованью обыкновенного рабочего, с прибавлением 10000 франков вознаграждения. Все остальное не касается промышленного обмена. Внутреннее достоинство поэмы — дело умственной оценки, а не материального вознаграждения. Мало того: талант, во имя которого требуется высшее вознаграждение, не составляет собственности человека: это общественная собственность, за которую он не заплатил и за которую он вечно остается должником. Подобно тому как создание всякого орудия производства является результатом совокупной силы, талант и знание в человеке составляют произведение общего разума и общей науки… В человеке совмещаются свободный работник и накопленный общественный капитал: как работник, он приставлен к употреблению орудия; к управлению машиною, которая есть его собственная способность; как капитал, он себе не принадлежит, он употребляется не для себя, а для других… Всякий производитель получает воспитание, всякий работник есть известный талант, известная способность, то есть общественная собственность, которой создание требовало однако различных издержек… Производящее усилие и, если позволительно так выразиться, продолжительность общественной беременности пропорциональны высоте способностей… Какова бы. следовательно, ни была способность человека, как только эта способность создана, так он себе не принадлежит; подобно материи, получающей свою форму от искусной руки, он имел возможность сделаться: общество дало ему силу быть. Горшок скажет ли горшечнику: я еcмь то, что я еcмь, и не должен тебе ничего? Художник, ученый, поэт получают справедливое вознаграждение уже тем, что общество дозволяет им заниматься исключительно наукою и искусством; так что в действительности они работают не для себя, а для общества, которое их создало и которое избавляет их от всякой другой работы" (ch. III, § 7).
Если таким образом самая производящая сила является созданием общества и составляет его собственность, то тем более ему принадлежат произведения. "Потребление, — говорит Прудон, — дается каждому всеми; по той же причине производство каждого предполагает производство всех. Одно произведение не может обойтись без другого; оторванная от других отрасль промышленности есть вещь невозможная… Но этот неопровержимый и не опровергаемый факт общего участия всех в каждом роде произведений имеет последствием то, что все частные произведения становятся общими: так что на каждое произведение, выходящее из рук производителя, наперед уже налагается запрещение во имя общества. Сам производитель имеет право на свое произведение только в размере доли, которой знаменатель равняется числу лиц, составляющих общество. Правда, что взамен этого, тот же самый производитель имеет право на все чужие произведения, так что право залога принадлежит ему против всех, так же как оно принадлежит всем против него; но разве не очевидно, что эта взаимность залога не только не допускает собственности, но уничтожает самое владение? Работник даже не владелец своего произведения; только что он его кончил, общество требует его себе" (ch. III, § 8).
"Скажут, — продолжает Прудон, — что если бы это даже было так, если бы произведение не принадлежало производителю, все-таки, так как общество дает каждому работнику эквивалент его произведения, то этот эквивалент, эта плата, эта награда, это жалование становится его собственностью. Станете ли вы отрицать, что эта собственность наконец законна? И если работник, вместо того чтобы всецело потребить свое жалование, делает сбережения, кто осмелится их у него оспаривать?". — "Работник, — отвечает Прудон, — не есть даже собственник платы за свой труд, он не может ею безусловно распоряжаться. Не станем ослепляться ложною справедливостью: то, что дается работнику в обмен за его произведение, дается ему не как награда за исполненную работу, а как аванс для будущей работы. Мы потребляем прежде, нежели мы производим… В каждую минуту своей жизни член общества забрал уже вперед с своего текущего счета; он умирает, не имевши возможности уплатить: каким образом мог бы он составить себе сбережение?.. Выведем заключение: работник, в отношении к обществу, есть должник, который необходимо умирает неоплатным, собственник есть неверный получатель, который отрицает вверенную ему поклажу и хочет, чтобы ему платили за дни, месяцы и годы его хранения". (Там же).
Такова теория Прудона. В ней, как видно, отрицание собственности полное и всецелое. Он не делает никаких оговорок; он не старается лицемерно прикрыть значение своей системы. На счет его мысли не остается ни малейшего сомнения. Поэтому, когда Шеффле и Вагнер утверждают, что приписываемое социализму нападение на всякую собственность не что иное, как выдумка[55], то в этом можно видеть лишь один из тех не совсем научных оборотов, посредством которых социалисты кафедры стараются умалить противообщественный характер своего учения. В действительности отрицание собственности составляет самую сущность социализма. Всякий социалист, который понимает, что он говорит, непременно к этому приходит. У Прудона это отрицание доводится до самых крайних своих последствий и возводится к самому источнику: человек не может иметь собственности, потому что он сам себе не принадлежит. Он — создание общества, обязанное трудиться для своего создателя; он даже менее чем раб, он вещь, он горшок в руках горшечника. При таком взгляде, конечно, о собственности не может быть речи; но вместе с тем не может быть речи и о свободе. Когда Прудон в лицо человека различает двоякий элемент: созданный обществом капитал и свободного работника, приставленного к этому капиталу, то слово свободный является здесь только как остаток старинных предрассудков, который вовсе не вяжется с основаниями системы. Ибо в чем состоит свобода этого приставленного к капиталу работника? Он ежедневно получает от общества известный урок, который он обязан исполнить, и общество смотрит за тем, чтобы урок был сделан, ибо он не только нужен для удовлетворения общественных потребностей, но он составляет плату за сделанные обществом авансы. Работник работает не для себя, а для общества, в отношении к которому он состоит в неоплатном долгу. Вне заданного урока он не вправе ничего делать, и если это ему разрешается, то не иначе как в виде милости. Где же тут свобода? Самое разделение души человеческой на два элемента не что иное как призрак: силы и способности человека суть проявления собственной его личности, которая без них остается пустым отвлечением; если эти силы и способности принадлежат другому, то и самая личность составляет чужую собственность.
При таком взгляде не следует говорить и о равенстве. Горшечник делает разного объема и формы горшки; зачем же он будет вливать в них одинаковое содержание? Создавая различного рода капиталы, общество делало на них различные затраты: на каком же основании требуется, чтобы при работе этих капиталов, производимые им авансы были непременно одинаковы? Равными между собою могут считаться только самостоятельные и свободные лица: равенство же рабов состоит единственно в том. что они одинаково бесправны.
Не надобно говорить о равенстве и при обмене произведений. По теории Прудона, то, что получает работник, не есть вознаграждение за сделанное им сегодня, а аванс под завтрашнюю работу, и аванс, всегда превосходящий то, что он может сделать. Следовательно, соразмерности между тем, что он сегодня отдает и сегодня получает, не может быть никакой. Самый обмен превращается в фикцию.
Не надобно, наконец, говорить и о том, что труд составляет единственный источник ценностей. Это положение имеет смысл, только если мы признаем, что труд составляет источник собственности, и сам Прудон выводит его из этого начала; как же скоро отвергается последнее, так отвергается и первое. С этой точки зрения труд человека, так же как работа вола или лошади, может быть только источником полезных для хозяина перемен в состоянии вещей. Большего при таком воззрении утверждать нельзя, и разницы между трудом и капиталом нет никакой.
Что же это однако за хозяин, которому принадлежит не только имущество, но и личность всех трудящихся на земле? что это за горшечник, создающий людей, подобно горшкам? Можно подумать, что дело идет о Божестве. Но к удивлению, мы замечаем, что этот горшечник не что иное как сами горшки. Они сами себя создают, сами себя порабощают, сами у себя находятся в неоплатном долгу. Все это — чистая фантасмагория, которою можно морочить только умственных детей. В действительной жизни ничего подобного никогда не было и не могло быть. Вся эта картина существует только в воображении мыслителя, который в преследовании своей идеи не останавливается ни перед какою нелепостью, но зато и не производит ничего, кроме нелепости. Собственность точно уничтожается этою теориею; но вместе с нею уничтожается и человек. И во имя чего же? Во имя самого человека, который является собственным своим рабом. Каждый имеет право на личность и имущество всех других; у каждого, во имя этого права, отбираются произведения его труда, как только они произведены; каждый, еще прежде нежели он начал работать, состоит в неоплатном долгу у всех и трудом всей своей жизни не в состоянии уплатить этого долга. Рабство полное, но не в силу чужого, а в силу собственного, принадлежащего каждому человеку права.
Но если эта теория поражает нас своею неустрашимостью, то она не менее изумляет нас своею неосновательностью. В самом деле, из чего выводится право каждого на произведения всех других? из того, что каждая отрасль промышленности нуждается в других. Но разве из того, что люди нуждаются друг в друге, следует, что они имеют право на чужие произведения, прежде, нежели они их приобрели? Разве из субъективной потребности рождается какое бы то ни было право на чужую личность и на чужую вещь? Право надобно приобрести. Если я занимаюсь, например, ткацким производством, я, без сомнения, имею нужду и в хлопке, и в машинах; без того и другого я не могу обойтись. Я хлопок выписываю из Америки, а машины из Англии; но следует ли из этого, что я имею право на этот хлопок и на эти машины, прежде нежели я их купил, и что американцы и англичане, с своей стороны, имеют такое же предварительное право на произведения, которые я могу дать им в обмен? Ничуть. Хлопок и машины принадлежат исключительно американцам и англичанам, которые их произвели, и ни я, ни кто либо другой не имеет ни малейшего права наложить на них секвестр. Когда же я купил эти произведения, они принадлежат исключительно мне, и никто не может отнять их у меня, не нарушая моего права. Они другому могут быть так же нужны, как и мне, даже более, но из этого никакого права для него не вытекает. Купил их я, а не другой, следовательно, они принадлежат мне и никому другому.
Еще нелепее предположение, что все люди находятся друг у друга в неоплатном долгу и притом в равной степени, ибо, по этой теории, все получают одинаковый урок и одинаковую плату. Взаимные долги ликвидируются, и никто другому не должен. Поэтому никто не имеет ни малейшего права наложить запрет на чужие произведения и потребовать их себе. В действительности, право вытекает из свободы и не простирается далее свободы. Как свободное существо, человек имеет прежде всего право располагать собою, своими силами и способностями, затем он имеет право на все то, что приобретается свободным употреблением сил и способностей, следовательно, и на произведения своего труда; но он не имеет никакого права на чужую свободу и на произведения чужого труда. Если же подобное право не принадлежит никому в отдельности, то оно очевидно не может принадлежать людям взаимно. Такое взаимное подчинение не только лишено всякого основания, но уничтожает самую возможность права. Кто своим лицом и имуществом принадлежит не себе, а другому, тот не свободный человек, а раб; следовательно, ему невозможно приписать никаких прав, ибо права принадлежат только свободному лицу. Таким образом, эта теория сама себя опровергает.
Не так далеко, как Прудон, идут немецкие социалисты. Они не утверждают, что рабочий не может быть собственником того, что им заработано; но так же как Прудон, они исходят от начала, что труд составляет единственный источник собственности и с этой точки зрения ведут войну против права собственности, в том виде, как оно признается в человеческих обществах. В этом отношении особенно замечателен Родбертус, на доводы которого новейшие социализирующие экономисты указывают как на образец меткой полемики[56]. Родбертус упрекает в неясности французских социалистов и требует, чтобы формула Прудона: "собственность есть воровство", была заменена другою: "собственность должна быть защищена от воровства"[57]. В сущности однако, обе формулы сводятся к тому же самому, ибо под воровством, от которого следует защищать собственность, Родбертус разумеет именно то, что в человеческих обществах понимается под именем собственности. Все свои доказательства Родбертус черпает из Прудона, хотя и не указывает на своего предшественника, и если он в своих выводах остается менее последовательным, то в этом можно видеть только недостаток логики. Взглянем на его учение.
Основное положение Родбертуса, из которого выводится все остальное, состоит в том, что в хозяйственном смысле один труд есть производящая сила, ибо он один принадлежит человеку. Произведения природы могут быть полезны человеку, но хозяйственными благами они становятся единственно через то, что на них положен труд. Поэтому все хозяйственные блага должны рассматриваться как произведения труда, и притом исключительно труда материального. Хотя в обществе необходимы и другого рода услуги, нематериального свойства, но они оплачиваются уже из произведений материального труда и не участвуют в хозяйственном производстве. Земля и капитал суть деятели хозяйственного производства, но единственно потому что в них положен труд. Капитал, а также и земля, как носитель капитала, не что иное как предшествующий труд, который участвует в новом производстве в размере своей траты. Производителен не только труд, употребляющий орудие, но и труд, приготовлявший орудие; ценность этого труда определяется его тратою[58].
Эта производительная сила труда так велика, что при должном разделении занятий работник производит гораздо более, нежели нужно для его содержания и для продолжения его работы. Отсюда избыток, которым могут жить и другие. Но этот избыток, который составляет собственное произведение рабочих, в действительности никогда им не принадлежит. Вследствие неправильного юридического порядка собственности, он присваивается не им, а землевладельцам и капиталистам, которые берут себе все произведение рабочих и возвращают им, в виде заработной платы, только часть, необходимую для их пропитания. Первоначально это делалось с помощью рабства; впоследствии работники получили свободу, но так как они лишены всяких средств, так как земля и капитал присвоены другим, то они принуждены соглашаться на всякие условия и отдавать землевладельцам и капиталистам большую часть своих собственных произведений, с тем чтобы получить от них скудное содержание. Таким образом, доход так называемых собственников не что иное как неправильно отнятое ими имущество рабочих (стр. 78–82, 87–88). Такова теория Родбертуса. Ясно, что она в существе своем ничем не отличается от теории Прудона. Так же как знаменитый французский социалист, Родбертус мог бы взять себе девизом: "собственность есть воровство".
Ниже, когда мы перейдем к рассмотрению экономических отношений, мы подробно разберем учение, утверждающее, что труд есть единственный хозяйственный производитель. Здесь достаточно будет указать на противоречия, заключающиеся в положениях Родбертуса в приложении к праву собственности. Он говорит, что труд производит более, нежели нужно для содержания работника; но почему же эта производительная сила приписывается единственно настоящему труду, а не предшествующему, положенному в капитал? Почему последний производит только ценность, равную своей трате и ничего более? Если мы взглянем на то, что совершается в жизни, мы увидим, что этот избыток производится именно предшествующею, а не настоящею работою. Если ребенок при машине может сделать в десять раз более, нежели взрослый работник без машины, то кому принадлежит этот избыток: ребенку или машине? Ответ не может быть сомнителен. Сам Родбертус признает, что большая производительность труда имеет духовное происхождение (стр. 210); каким же образом можно приписывать ее механической работе ребенка или кочегара? Мало того: если машина в состоянии произвести только то, что требуется для ее возобновления, то в чем же будет состоять вознаграждение работника, который ее делал? В таком случае он не только не получит от своей работы избытка, но он не получит даже и того, что нужно для его содержания. Очевидно, что вознаграждение работы, положенной на устройство орудий, может состоять единственно в избытке, производимом работою этих орудий. Сама по себе машина ни на что не нужна; вся цель положенной на нее работы заключается в том избытке, который она в состоянии произвести своею работою. А потому невозможно утверждать, что работа орудий равняется их трате и что когда владелец орудия берет больше, он неправильно присваивает себе произведения употребляющего орудие работника. Получая избыток, владелец орудия берет только то, что принадлежит ему по праву, как произведение предшествующего труда. Таким образом, вся теория Родбертуса разрушается внутренним противоречием. Признавши даже, что труд составляет единственный источник собственности, мы все-таки логически не можем признать правильными его выводы, а приходим к заключениям совершенно противоположным.
Но, говорит Родбертус, земля и орудия принадлежат вовсе не тем, которые положили в них свою работу, а совершенно другим людям, которые присвоили их себе насилием и неправдою. Против этого возражают, что если в неустроенных обществах господствуют насилие и неправда, то в гражданском порядке имущества, переходя из рук в руки, достаются тем, которые приобретают их законным путем, покупая их на произведения собственной деятельности. Даже там, где нет никакого предшествующего насилия, установляются те же отношения капитала и собственности. В Америке, говорит Тьер, против которого полемизирует Родбертус, "труд составляет, по-видимому, неоспоримое основание собственности, ибо колонисты, имеющие только свои руки, несколько земледельческих орудий и на несколько месяцев провизий, привезенных из Европы, приступают к девственным лесам, где обитают лишь обезьяны, попугаи да змеи"[59]. На это Родбертус отвечает, что "собственные руки поселенцев тут дело второстепенное. Только капитал, привезенный из старой Европы, дает им возможность обрабатывать землю собственными силами. Между тем этот капитал сам уже произошел из состояния разделения труда, состояния исстари связанного с системою вымогательства, которая искони предоставляла часть произведений иным лицам, а не самим работникам". Собственность "уже очернена этим доходом, с помощью которого начинается работа", и все-таки, продолжает Родбертус, "когда расчищение совершено, американский поселенец точно так же нанимает работников, чтобы иметь возможность правильно обрабатывать свой участок земли и дает им значительную часть их собственных произведений в виде платы, хотя, конечно, здесь поземельный собственник, будучи обыкновенно действительным участником в труде, должен рассматриваться и как действительный участник в производстве жатвы. Пускай же г. Тьер, — восклицает Родбертус, — очистит то патетическое я, на место которого он себя ставит, от этого маленького капитала американских поселенцев, или даже от "рабочего дохода", способного купить уже совершенно обработанное владение, далеко ли он уйдет один в очищении, огорожении, орошении и сооружении построек?.. Уединенно работающий человек может едва жить, в крайнем случае, он может влачить свои годы в скудном охотничьем быту; сам по себе он никогда не был в состоянии обработать земельный участок и соорудить на нем строения; только общественный человек, живущий среди разделения труда, совершил эти чудеса… Но разве разделение труда было следствием свободного соглашения, в котором условлена была общая обработка, установлена совокупная собственность, где наконец общее произведение, составляя принадлежность всех, делилось между всеми? Такое положение превосходило бы своею ложью даже то. что собственность земли и капитала основывается на труде отдельного рабочего. Как государству не может предшествовать общественный договор, так и разделение труда никогда не могло быть произведением свободного соглашения. То разделение труда, которое состоит в обилии излишнего, конечно, является произведением личных потребностей, ведущих к договору мены. Но то разделение труда, которое имеет хозяйственно-производящую природу, которое заключается в сотрудничестве, которое одно составляет источник избытка дохода от разделенной работы, может первоначально быть основано только на принуждении и насилии" (стр. 83–84).
Трудно в немногих строках соединить столько пустой декламации. Родбертусу указывают на происхождение собственности в диких лесах, он отвечает, что это не пример, ибо тот маленький капитал, который привозит с собою поселенец, уже "очернен" системою вымогательства, среди которой он возник. Но разве всякий капитал, образующийся на европейской почве, непременно является последствием вымогательства? Разве ученый, чиновник, священник, судья, телеграфист, кондуктор не могут накопить себе маленькое имущество и с ним отправиться в Америку? Ведь сам Родбертус признает, что они получают справедливое вознаграждение за свои услуги (стр. 75). Наконец, разве сами рабочие не могут делать сбережения? Утверждать это значит намеренно отрицать самые очевидные факты. Мы знаем, что рабочие в Англии на свои сбережения в течение многих месяцев поддерживают стачки; мы знаем, что они заводят всякого рода товарищества; неужели же они не в состоянии отправиться в Америку и купить себе несколько земледельческих орудий? Неужели мы должны сказать, что и этот маленький капитал "очернен" вымогательством, а потому не может быть законным источником собственности? Если тут было вымогательство, то оно было обращено против них. Положим, что они получили меньше, нежели следовало, во всяком случае это меньшее принадлежит им вполне законным образом. А потому ссылаться вообще на вымогательство значит намеренно пускать пыль в глаза и прибегать к декламации за недостатком серьезных доводов. Такое же значение имеет и другое возражение Родбертуса, будто собственник, очистивший первобытный лес, вымогает что-нибудь из рабочих, когда он нанимает их для обработки своего участка. Сам Родбертус признает, что он участвует в труде, следовательно, и в произведении. Очевидно, он должен быть вознагражден и за предшествующий труд, который он положил на расчищение леса; следовательно, он должен получить больше других. Какова будет доля каждого, это зависит от соглашения. Вымогательства тут нет никакого, ибо в первобытных лесах, где люди не имеют никакой власти друг над другом, никакого вымогательства быть не может. Люди могут работать порознь или соединяться для общей работы, это зависит от их доброй воли. Утверждать же, что только разделение труда может дать избыток и что это разделение непременно должно состоять в установлении совокупной собственности и общего раздела совокупных произведений, значит подставлять совершенно произвольные понятия под всем известную вещь. Когда земледелец обрабатывает землю; и рядом с ним портной делает платье, а сапожник сапоги, и они обмениваются своими произведениями, то это, без сомнения, составляет хозяйственно-производительное разделение труда, увеличивающее количество и качество произведений; они меняются не избытком, а самыми необходимыми вещами; тем не менее, тут не установляется никакой совокупной собственности и никакого общего дележа. Даже там, где люди соединяют свои силы для совокупной работы, вовсе не требуется общей собственности. Один может принести свои орудия, другой свои орудия и свой труд, третий просто свой труд, и они делятся полюбовно. Еще менее позволительно утверждать, что всякое соединение сил и всякое разделение труда непременно должны быть первоначально основаны на насилии и принуждении. Это может быть верно относительно первобытных времен и может служить доказательством разве только законности принуждения, а никак не незаконности собственности. Но здесь речь идет вовсе не о первобытных временах, а о колонизации ненаселенных стран, в отношении к которым подобное утверждение идет опять же наперекор всем известным фактам. Колонизация и в Америке, и в Австралии, и в других странах совершилась и совершается не путем насилия и принуждения, а свободною деятельностью поселенцев, которые или работают отдельно, или добровольно соединяются вместе, но в обоих случаях ничего не вымогают друг у друга, потому что они не в состоянии ничего вымогать, а становятся законными владельцами пространства земли, завоеванного у природы их усилиями и трудами, "куда топор, коса и соха ходили", по древнерусскому выражению.
Итак, во всех этих возражениях Родбертуса нет даже и тени научного доказательства. Когда же эта декламация выставляется как образец меткой полемики, то опять нельзя не сказать, что в социал-политике всего менее требуется связь понятий: нужна только тенденция.
Всего любопытнее то, что Родбертус, утверждая постоянно, что работнику дается только часть его произведений, тогда как он имеет право на все, вслед за тем доказывает, что "земля, капитал и непосредственное материальное произведение никогда не должны были и не должны принадлежать в собственность рабочему", по крайней мере при разделении труда, которое составляет источник всего общественного благосостояния. "Я прошу вас, — говорит он, — живо представить себе, мыслимо ли общество, в котором при столь совершенно выработанном разделении труда, каково нынешнее, каждому работнику принадлежало бы в собственность непосредственное материальное произведение его работы Возьмите столь часто употребляемый пример булавки. Проследите ее производство, начиная от добывания металла, от композиции ее материала, от вытягивания проволоки, от заострения конца, от надевания головки, от накалывания на бумагу, до перевозки к тому, кто ее употребляет; не забудьте также разнообразных машин и орудий, которые или употреблялись в горном деле или сопровождали булавку на каждой ступени ее производства; вспомните также, что и рабочие, которые делали и чинили эти орудия, суть участники в производстве, а потому — если бы вы хотели держаться правила, что рабочему должно принадлежать непосредственное, материальное произведение его работы, — что они должны быть признаны и участниками в собственности; я спрашиваю вас, как должна совершиться ликвидация всех этих притязаний на булавку, как должно делиться совокупное произведение, как могло бы быть достигнуто такое соглашение между рабочими, какое предполагается таким совокупным производством? Нет такого сотворенного духа, который мог бы найти дорогу через все эти осложнения и затруднения, так что разделение труда, а с ним и все великолепное здание цивилизации должно бы было пасть вследствие правила, что непосредственное материальное произведение работы должно принадлежать рабочему" (стр. 85).
Все это, без сомнения, совершенно справедливо; но это доказывает только, что промышленное производство невозможно рассматривать как совокупное целое, которое затем подлежит делению между производителями, как требует Родбертус (стр. 27–28, 72–74). При настоящем устройстве промышленности эта непреодолимая трудность устраняется весьма легко: каждый рабочий получает вознаграждение по мере работы, на каждой ступени производства. Он не становится совместным собственником произведения, потому что за свое участие в нем он получил уже плату. Но именно против этого восстает Родбертус. При таком порядке необходимо содействие капитала, а капитал потребует вознаграждения. Как же выйти из этого безвыходного положения? Очень просто: узел не развязывается, а разрубается. Произведение отнимается у тех, кто участвовал в производстве и присваивается обществу как целому; затем последнее дает уже каждому вознаграждение по своему усмотрению (стр. 27–28, 86).
Какое же, однако, право имеет общество на произведения чужого труда? Ведь общество состоит не из одних ручных работников, участвующих в материальном производстве, но также и из множества других лиц, которые хотя и оказывают ему услуги, но получают за это совершенно особое вознаграждение. Родбертус настаивает на том, что производителен один материальный труд и что поэтому он один имеет право на произведения; остальные вознаграждаются уже из доходов производителей (стр. 75). Если же. рядом с этим, он утверждает, что совокупное произведение принадлежит не одним рабочим, которые участвовали в нем непосредственно, но и тем. которые действовали на почве права и науки[60], то он этим самым отрицает собственное свое начало. Признавши, что производителен один материальный труд, мы необходимо приходим к заключению, что произведение должно принадлежать исключительно людям, занятым материальным трудом, и притом единственно тем, которые участвовали в данном производстве. Из того, что трудно определить долю собственности каждого участвовавшего в производстве булавки, вовсе не следует, что участвовавшие в производстве булавки имеют право собственности на шелковые ткани, в производстве которых они вовсе не участвовали. Приписывать им подобное право значит произвольно фантазировать, откинув уже всякие разумные начала.
Если же рабочим логически не может принадлежать право собственности на чужие произведения, если сам Родбертус отрицает у них это право, "как лично, так и в совокупности", то на каком основании можно приписать это право обществу как целому, то есть государству? В отличие от других социалистов, которые прикрывают неопределенность своих взглядов смутным понятием общества, Родбертус ясно сознает, что право собственности на произведения труда, а также власть распоряжаться этим трудом можно приписать только государству[61], ибо государство есть именно общество, организованное как единое целое, имеющее волю, следовательно, и права. Между тем никому еще не приходило в голову утверждать, что государство работает; если же оно не работает, то по какому праву может оно быть собственником произведений работы? Оно может быть собственником по праву овладения, ибо оно может налагать свою волю на внешние предметы; оно может быть собственником тех ценностей, которые, в силу государственного права, выделяются из частного имущества на общественные потребности; но на произведения труда как таковые оно не имеет ни малейшего права. А потому, если мы признаем, что труд составляет единственный источник собственности, то мы должны вместе с тем признать, что государство собственником быть не может. Можно говорить о народном труде, но не надобно забывать, что это не что иное как собирательное имя для обозначения совокупности трудящихся единиц. Трудится не народ, как целое, не государство, трудится отдельное лицо, ибо труд состоит в употреблении личных сил и способностей. Люди могут сколько угодно соединять и разделять свои силы, в основании все-таки лежит их личная воля, по крайней мере пока они признаются свободными лицами, а потому и вытекающее из этой воли право может быть только личным, а не общественным правом.
"Но, скажут поклонники новейших теорий, это — индивидуализм, а индивидуализм признается ныне никуда не годным". Без сомнения, индивидуализм! Но что же делать, если труд есть индивидуальное начало, если свобода, из которой он вытекает, есть индивидуальное начало, если право есть индивидуальное начало Объявить индивидуализм никуда негодным, видеть в людях только атомы общества и государства[62], значит отрицать свободу человека. Это и делают социалисты, иные с большею, другие с меньшею откровенностью. Излагая свои мечты о будущем устройстве человеческого рода, Родбертус указывает на пример восточного деспота, "собственника земли и людей". Все производство в его владениях составляет только одно хозяйство, потому что все ему принадлежит. Вместо этого деспота, говорит Родбертус, мы можем представить себе целый народ, который является совокупным обладателем всего, предоставляя отдельным лицам только право на доход с своего труда. Этот заступивший место деспота свободный народ "аналогическим образом руководил бы всем производством страны через посредство своего правительства и в общем интересе, так же как поземельный собственник или восточный владыка через своих слуг… Хозяйственные учреждения в таком состоянии имели бы, в силу этой совокупной собственности, такой же надзор над народными потребностями и производительными средствами народа и такое же полновластное распоряжение последними, как органы древнеперсидского деспота в силу его личной собственности… В силу этой совокупной собственности все частные хозяйства составляли бы юридически одно народное хозяйство", которым управляла бы "одна, поставленная во главе и выработанная народом национально-экономическая воля"[63].
Итак, идеалом человечества представляется хозяйственное устройство подобное восточной деспотии, где и земля, и люди принадлежат одному владыке! При этом говорить о свободе значит или вовсе не понимать, что говоришь, или намеренно употреблять слова, лишенные смысла. Отношения членов к целому не могут быть одинаковы там, где все люди свободны, и там, где все люди рабы. Слуги восточного деспота властны всем распоряжаться, потому все ему принадлежит, и земля и люди. Свободными же людьми, а равно и имуществом свободных людей так распоряжаться нельзя. Свобода состоит именно в том, что каждый сам хозяин своего лица и имущества. Если уже мы решаемся приписать обществу такую власть над членами, то надобно идти по стопам Прудона, и сказать, что человек сам себе не принадлежит, что он создание общества и вечно обязан на него работать, потому что состоит у него в неоплатном долгу; но тогда уже о праве собственности, проистекающем из труда, не может быть речи. Конечно, на пути нелепости можно остановиться где угодно; но последовательность имеет, по крайней мере, ту выгоду, что не затмевает истину в глазах людей, неспособных разобрать связь понятий.
Таким образом, из того, что труд составляет источник собственности, вовсе не следует, что источником собственности может быть только настоящий физический труд чернорабочих, которым поэтому должна принадлежать совокупность произведений. Источником собственности точно так же становится труд, положенный в землю и капитал. Этот труд дает право как на самую землю и капитал, с которыми он связан, так и на произведения, получаемые с помощью земли и капитала. Поэтому землевладелец и капиталист имеют точно такое же право на произведения, как и рабочие, и весь вопрос состоит в том: чем определяется доля каждого? Этот вопрос ставится Адольфом Вагнером, который, несмотря на похвалы, расточаемые Родбертусу, не считает однако возможным держаться его теории. Но поставляя этот вопрос, Вагнер объявляет его неразрешимым и на этом основании в свою очередь, отвергает теорию, признающую труд источником собственности. Если бы, говорит он, существовал естественный способ раздела произведения, то на нем можно было бы основать юридический порядок собственности. Но такого естественного способа нет: в действительности, раздел всегда зависит от существующего юридического порядка; следовательно, когда мы самый этот порядок хотим основать на способе разделения произведений, то мы вращаемся в круге. Юридический же порядок не есть нечто вытекающее из природы человека; он представляет не более как произведение свободной воли законодателя, который между прочим принимает в соображение и требования труда, но руководствуется и разными другими побуждениями (Grundlegung, стр. 484–485). Отсюда Вагнер выводит, что истинное основание собственности заключается не в природе человека, не в занятии, не в труде, а в изменяющейся воле законодателя, вследствие чего и самый порядок собственности может изменяться, смотря по соображениям, которые имеет в виду законодатель (стр. 487–488).
Вся эта аргументация основана на путанице понятий. Нельзя не согласиться с тем, что естественного способа делить произведения не существует. Какая доля дохода с производства достанется землевладельцу, капиталисту и рабочим, это зависит от тысячи разнообразных и изменяющихся условий, которые уловить невозможно. Один раз рабочему достанется только скудная плата, а землевладелец или капиталист получит значительный барыш с произведений; в другой раз рабочий получит хорошую плату, а землевладелец или капиталист понесет убыток. Но именно поэтому юридический порядок никогда и не берет на себя решения этого вопроса; теория же, признающая труд основанием собственности. вовсе и не требует его разрешения. Теория труда утверждает только, что приобретенное трудом составляет собственность того, кто работал, а приобрел ли он больше или меньше, это до теории вовсе не касается. С своей стороны, юридический порядок освящает это начало, и этим он ограничивается. Спрашивается: есть ли признание этого начала дело законодательного произвола, или оно вытекает из вечных требований правды, следовательно, и природы человека?
На этот вопрос Адольф Вагнер, на расстоянии нескольких страниц, дает два совершенно противоположных ответа, из чего ясно, что он не выяснит себе, ни в чем именно заключается вопрос, ни каковы требования правды, ни что такое природа человека. На стр. 472 он говорит, что теория труда, так же как и теория овладения, одинаковы в том отношении, что обе хотят собственность, как юридическое установление, основать на простых фактах, а это составляет ошибку в самой точке исхода, ибо факт становится правом единственно через волю законодателя, который может принять в расчет те или другие соображения справедливости или целесообразности. На стр. же 481 он говорит, что в первобытных отношениях, "постулат теории труда, в силу которого рабочий, посредством работы, приобретает право собственности на произведения своего труда, вполне справедлив и собственно сам собою разумеется, или логически последователен". Еще высшее значение он признает за этим началом при осложнении отношений: чем более труд становится первенствующим, "тем более постулат теории труда, как важнейший и правильнейший в сравнении с постулатом теории овладения должен быть признан юридическим законом и получить преимущество, на основании справедливости к работникам и целесообразности в интересе целого".
Но если юридическое присвоение трудящемуся того, что приобретено трудом, составляет требование справедливости, как в первобытных, так и в более сложных отношениях, то никак нельзя сказать, что труд есть простой факт, из которого ровно ничего не следует, и что от изменяющейся воли законодателя зависит превратить или не превращать этот факт в право. Из этого факта, в силу природы человека как свободного существа, вытекает известное требование, которое необходимо должно быть удовлетворено законодателем; если же законодатель не удовлетворяет его, то он нарушает справедливость и посягает на свободу человека. Поэтому, когда Вагнер единственное основание собственности видит в изменяющейся воле законодателя, когда он утверждает, что "юридический порядок не есть нечто сообразное с природою и вытекающее из существа человека, из понятия о личности, или из природы человеческого труда, а произведение свободной юридической деятельности", то он противоречит тому, что он сам принужден допустить, и доказывает только, что гораздо труднее связать свою мысль в одно целое и возвести известное учреждение к его началу, нежели привести множество частных соображений, которым каждый может придавать какой угодно вес и значение.
Без сомнения, признанное раз право собственности имеет влияние и на дальнейшее распределение произведений. Где нет собственности, там и распределения быть не может; все сливается в безразличный хаос. Как же скоро приобретенное каждым лицом имущество присваивается исключительно ему, так из этого вытекают известные, необходимые отношения между людьми. То, что сделалось собственностью одного, не может уже быть усвоено другим без согласия первого; приобретенное трудом становится орудием нового производства, а потому источником нового дохода. Но все это опять не произвольные установления, не выражение изменяющейся воли законодателя, а логически и юридически необходимые последствия права собственности. Можно ратовать против тех или других исторических форм, которые принимает это право в своем развитии, против стеснений, которым оно подвергается, но ратовать против юридического порядка, который не предполагает ничего, кроме свободы и собственности, значит отвергать самые основания права. Здесь опять можно привести слова Аренса, в учении которого Вагнер видит высший цвет философии права. "Коренная ошибка всего этого воззрения, — говорит Арене, — которое видит источник собственности в государстве, все равно, в законе ли или в государственном договоре, заключается в том, что и в этих вопросах право вообще выводится не из существа человеческой личности и основных ее отношений к природе, а из общественных состояний, даже из положительного установления государством. Но так как человек черпает свое право из своей Богом основанной личности и из своего назначения, и пользуется своим правом всякий раз, как он действует сообразно с своим назначением, то он пользуется своим правом и тогда, когда он усваивает себе и обращает в свою собственность безличные вещи, предназначенные для употребления человека. Общество, или государственный союз, в который он вступает или в котором он находится, без сомнения полагает этой собственности известные границы, устанавливает разнообразные определения ввиду общего порядка, но основание и назначение собственности лежит в отдельной личности, а так как государство не создает личности и не имеет права ее уничтожить, то оно не создает и собственности и не имеет права уничтожить собственность. Если же, напротив, собственность рассматривается как государственное учреждение, то нельзя государству отказать в праве ее уничтожить (Cujns est instituere, ejus est abrogare). Истинная теория, которая везде выставляет личность, как творческую, вечно деятельную, в свободном самоопределении осуществляющуюся первобытную силу, лежащую в основании всех общественных и государственных отношений, одна в состоянии обеспечить собственности независимое от государственных установлений существование" (Naturrecht, II, стр. 144–146).
Приводя эти слова, мы не хотим сказать, что собственность. как положительное установление, существует помимо закона. Но узаконивая собственность, так же как и узаконивая свободу, государство освящает только то, что вытекает из природы человека и что составляет неизменное требование правды. В этом смысле, собственность есть краеугольный камень всего гражданского порядка. В самом деле, как бы ни осложнялись общественные отношения, в какое бы они ни слагались связное тело, они все-таки исходят из лица и возвращаются к лицу. Ибо свободная воля лица составляет источник всякой человеческой деятельности, и в лицо же заключается цель всего общественного устройства: им ощущается потребность и им же сознается и ощущается удовлетворение. А потому, в устроении гражданского порядка всего важнее определение того, что присваивается лицу, что образует законную область его деятельности, чем оно может располагать по своему изволению. Это и есть собственность. В ней лицо находит и точку опоры, и орудия и цель для своей деятельности. Чем тверже эти точки опоры, это, так сказать, место сидения лица, тем свободнее оно может действовать, тем вернее те отношения, в которые оно вступает к другим, тем крепче и самый основанный на этих отношениях порядок.
Отсюда проистекает то первенствующее значение, которое все законодательства придают прочности права собственности. На этом основана давность. Каково бы ни было происхождение собственности, каким бы путем она ни была приобретена, если она была в течение известного времени связана с волею лица, если она составляла ненарушимое его владение, то она присваивается ему окончательно, и никакие дальнейшие пререкания не допускаются. Иначе никто бы не мог быть уверен в законности своего владения, и все отношения собственности покоились бы на зыбких основаниях. Давность установлена именно вследствие того, что прочность собственности составляет первую потребность гражданского быта.
Наоборот, все что колеблет собственность, подрывает самые основы гражданского порядка, политические революции далеко не имеют такого значения. Они касаются только вершины, оставляя ненарушимыми все бесчисленные нити, связывающие людей в их частных отношениях. Но как скоро дело касается собственности, так все колеблется, так человек не может уже быть уверенным ни в чем, так он чувствует, что посягают на весь его личный мир, на его свободу, на его деятельность, на его семью, на все, что ему дорого, на его прошедшее и будущее. Разлагаются первоначальные элементы общественного быта; все бесчисленные отношения, связывающие людей, разом порываются. Оттого общество трепещет за самое свое существование, как скоро поднимается такого рода вопрос.
Из этого можно видеть, какой страшный вред приносят социалистические учения, подрывающие основания собственности. Понятно еще. что фанатики, шарлатаны, кривотолки, софисты, взывая к страстям народных масс, стараются увлечь их за собою. Но когда так называемые социалисты кафедры, ученые люди, назначенные правительством профессора университетов, проповедуют такие учения или слабодушно вступают с ними в компромиссы, внося смуту в умы, колебля самые твердые и неоспоримые начала общественного быта, то это указывает уже на глубокое умственное растление современного общества. Нужна вся ветреность, отличающая умственное движение нашего времени, чтобы сделалось возможным такого рода явление. Но если современная наука оказывается бессильною против явных софизмов, то жизнь всегда будет представлять им самый надежный отпор. Гражданский порядок весь зиждется на праве собственности и без него обойтись не может. Поэтому он всегда противопоставит крепкий оплот всякого рода софистическим теориям и разрушительным стремлениям. За будущность человеческих обществ нечего опасаться: они в своем движении управляются высшими, разумными законами; они идут вперед, а не назад. Софистика же, несмотря на всю свою ярость, никогда не достигнет цели, ибо она разрушается собственным внутренним противоречием.
Изложенными началами разрушается вопрос: к какой области права относится собственность, к частному или к публичному? По-видимому, это такой вопрос, который вовсе даже не подлежит спору. Правоведение, как древнее, так и новое, доселе единогласно признавало первое. Тем не менее социалисты и социал-политики стараются установить иное воззрение. Так, Вагнер утверждает, что и свобода, и собственность доселе слишком односторонним образом рассматривались со стороны права, причем упускались из виду сопряженные с ними обязанности. С признанием же этой оборотной стороны обоих учреждений, говорит он, теряется их исключительно частный характер и они получают характер общественный. Через это собственность выходит из области чисто частного права и подводится под точку зрения права публичного. Она становится тем, чем она должна быть: социал-юридическим учреждением[64].
Тот же взгляд проводится и Иерингом. Как юрист, он не решается прямо сказать, что собственность есть учреждение публичного права; но господствовавшей доселе индивидуалистической теории собственности он противополагает новую, общественную теорию, в силу которой лицо не имеет ничего исключительно для себя, но везде общество является участником, охватывая лицо со всех сторон и регламентируя всю его деятельность. Если отдельному лицу предоставляется свобода в распоряжении своим имуществом, то это происходит единственно оттого, что собственный его интерес побуждает его делать из этого имущества употребление, согласное с общественною пользою; в таком случае общество не имеет нужды вмешиваться. Но придет время, говорит Иеринг, когда собственность получит совершенно иной вид, нежели теперь, когда "мнимое право собственника набирать себе сколько угодно благ этого мира будет столь же мало признаваться, как и право древнеримского отца на смерть и жизнь своих детей, или как право войны и уличные грабежи рыцарей". В учении юристов, признающих "священным" право собственности, Иеринг видит только выражение самого ненасытного эгоизма[65].
Этою социал-юридическою теориею личное право собственности явно не устраняется. В таком виде оно представляет только смутное смешение частного права и публичного. Но так как первое подчиняется последнему, то верховным распорядителем, то есть истинным собственником является государство. В силу чего же государству может быть приписано подобное право? Вещь приобретена не им, а иною, моею собственною деятельностью, поэтому и распоряжаться ею имею право только я, и никто другой. Нравственный закон может налагать на меня в этом отношении обязанности; но исполнение их зависит от моей воли. Юридический же закон может требовать только, чтобы приобретая и распоряжаясь приобретенным, я не нарушал ничьего права. Всякое дальнейшее вмешательство есть нарушение моей свободы. Сравнение с правами древнеримского отца семейства и с уличными грабежами рыцарей тут совершенно неуместно и недостойно юриста. Принадлежавшее римскому отцу семейства право жизни и смерти над своими детьми, а равно и грабежи средневековых рыцарей прямо касались чужой личности и чужого права, а потому не могли быть терпимы при высшем развитии гражданственности, между тем как приобретенное моею деятельностью составляет мое достояние и ничье другое. Учение юристов о священном праве собственности есть не выражение ненасытного эгоизма, как утверждает Иеринг, а выражение коренных начал свободы и права. Стремление же подчинить эту область публичному праву должно быть признано ничем не оправданным посягательством на эти начала, Иеринг видит в индивидуалистической теории собственности "последний остаток того нездорового естественно-юридического представления, которое уединяло лицо в себе самом" (стр. 511). То, что он называет нездоровым представлением, не что иное как разум, свобода и правда, без которых общежитие превращается в хаос смутных сил, где исчезает все человеческое.
Собственность до такой степени принадлежит к области частного права, что самая государственная собственность управляется теми же началами. Есть известный вид государственной собственности, который подчиняется началам публичного права: это — вещи, находящиеся в общем употреблении, а потому изъятия из частного обращения. Французское законодательство дает им название публичной собственности (domaine publie), в отличие от государственной собственности (domaine de l Etat), принадлежащей государству по праву частного владельца. Относительно последней, государство приравнивается к частным лицам, и это юридическое начало не является плодом законодательного произвола или случайных исторических обстоятельств; еще менее может оно быть приписано ненасытному эгоизму: нет, это начало вытекает из коренных оснований собственности, из верного понимания глубочайшего ее источника. Этим признается, что собственность, будучи плодом деятельности лица, есть, по существу своему, частное право, а потому она может быть приписана государству только производным путем. Следовательно, государство должно в этом отношении быть приравнено к лицу и следовать началам, вытекающим из личного права, а не наоборот.
Господствующему учению о собственности, как о частном праве, не противоречит то, что она имеет границы. И Вагнер, и Иеринг ссылаются на признаваемые всеми законодательствами ограничения в доказательство, что собственность не есть безусловное право лица, а подчиняется общественному началу: "собственности в таком виде, — говорит Иеринг, — общество не может терпеть и никогда не терпело" (стр. 510). Нет ни малейшего сомнения, что в обществе не может существовать право, которое бы шло наперекор к чужому праву и общественным требованиям, но индивидуалистическая теория собственности никогда и не выставляла такого рода безумных притязаний. Свобода человека в обществе находит свои законные границы, как в чужой свободе, так и в требованиях общества; те же границы находит и вытекающее из свободы право распоряжаться своею собственностью. Я не имею права устроить в своих владениях такую плотину, которая затопляла бы чужую землю; я не имею права возвести дом, который бы отнимал свет у соседа. Иногда я принужден даже предоставить соседу употребление своего имущества, например если он не может пройти к своему владению иначе как через мое. Но из этого не следует, что право распоряжаться моим имуществом принадлежит не мне, а ему. То же самое относится и к общественным требованиям. В деревне я имею право строить дом, как я хочу; в городе, живя с другими, я должен сообразоваться с известными правилами благоустройства. Я не имею права держать у себя нечистоты, которые могут заражать воздух. Но из этого опять не следует, что я не хозяин своего дома, точно так же как из того, что мне не позволяют ходить по улице раздетым, вовсе не следует, что я не хозяин своих действий и не собственник своего платья.
Вопрос сводится к тому: каков объем права собственности и каковы его границы?
Юристы вообще определяют право собственности как полную и исключительную власть человека над вещью. Иногда к этому прибавляются оговорки, например у римских юристов: "насколько это допускает разум права" (quatenus juris ratio patitur), или во французском законе: "лишь бы не делалось употребление, воспрещенное законами и уставами" (pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibe par les loix et les reglements). В прусском законодательстве считается законным всякое употребление, которое не нарушает благоприобретенных прав другого или предписанных законом границ. У нас право собственности приписывается тому, кто, приобретши законным путем имущество, "получил власть в порядке, установленном гражданскими законами, исключительно и независимо от лица постороннего, владеть, пользоваться и распоряжаться оным вечно и потомственно, доколе не передаст сей власти другому" (Св. Зак. Гражд., стр. 420).
Эта полнота права вытекает из самого отношения человека к вещи. Воля человека ограничивается волею других людей, но над вещью она господствует всецело: здесь область, где свобода осуществляется вполне и беспрепятственно. Назначение вещей состоит именно в подчинении их воле человека, и как скоро вещь усвоена, так у нее есть полновластный хозяин, распоряжающийся ею по своему позволению. Этим хозяином может быть единичное лицо, товарищество, или общество, как единое целое: во всяком случае хозяин должен быть, ибо вещь всецело подчиняется воле человека. Теории, ограничивающие полновластие лица, какими бы они ни прикрывались оговорками, в сущности заключают в себе признание истинным собственником не лица, а целого общества. Но мы видели уже, что подобный взгляд представляет извращение истинных начал права. Если, как доказано выше, личная воля и личная деятельность составляют настоящий источник власти человека над вещью, то лицо есть полновластный ее хозяин, а общество может только требовать, чтобы оно употребляло свою свободу, не нарушая чужого права и общего закона. Таков принцип, вытекающий из самого существа человеческой свободы и ее проявления во внешнем мире.
Высшим выражением этого полновластия лица над вещью является право потребления. Человек не властен над материею; он не может уничтожить ни малейшей ее частички. Но он может придать ей ту или другую форму, и наоборот, он может уничтожить известную форму для удовлетворения своих потребностей. А так как назначение вещи состоит именно в удовлетворении потребностей человека, а человек, как свободное существо, сам судья своих потребностей и сам их удовлетворяет, то право потребления составляет необходимую принадлежность права собственности. Одна природа может положить ему границы.
В праве потребления заключается право пользования, как меньшее в большем. Оно прилагается и там. где право потребления не находит себе приложения. Пользование может состоять или в употреблении вещи непосредственно на свои потребности, или в употреблении ее. как средства, для удовлетворения будущих потребностей. И то и другое зависит исключительно от воли хозяина. Как разумное существо, человек предвидит будущее, сам приготовляет себе средства для этого будущего и распоряжается присвоенными ему вещами сообразно с этой целью.
Из этого можно видеть всю несостоятельность попытки социалистов кафедры отличить право собственности на предметы потребления от права собственности на орудия производства. Когда Вагнер говорит, что из природы человека можно вывести разве только первое, а никак не последнее (Grundlegung, стр. 448), то подобное признание заключает в себе отрицание коренных свойств человеческой личности, ибо природа человека состоит не в одном потреблении окружающих его материальных вещей, но и в приготовлении вещей для будущего потребления. Когда же он это разделение выводит из того, что право собственности должно различаться по экономической цели (стр. 449), то и в этом можно видеть только полное извращение понятий, ибо употребление вещи для той или другой экономической цели зависит от того лица, которое имеет право ею располагать, следовательно право собственности должно предшествовать. Приписывать человеку право потреблять вещь и отрицать у него право обращать ее в орудие производства есть не только посягательство на человеческую свободу и отрицание права собственности; это — просто нелепость, ибо здесь уступается большее и отрицается меньшее. Если я имею право уничтожить вещь для своих потребностей, то почему же я не имею права сделать из нее орудие?
Наконец, в праве собственности заключается и право отчуждения. Если я хозяин вещи, если я имею право употреблять ее на свою пользу, то я имею право и передать ее другому, предоставив ему те же права, какими я пользуюсь сам.
Все эти права принадлежат мне как частному лицу. Я пользуюсь ими по своему усмотрению, никому не давая в том отчета, ибо это — область моей личной свободы. Никаких обязанностей с правом собственности, как таковым, не сопряжено. То, что Вагнер называет оборотною стороною права собственности, не существует ни юридически, ни фактически. Это не что иное как фантастическое представление, возникшее из смешения юридических начал с нравственными. Можно говорить о том, что богатство налагает на человека обязанности, но не надобно забывать, что это — обязанности нравственные, исполнение которых предоставляется свободной воле лица. Человек имеет и юридические обязанности, но они проистекают не из права собственности, а из других начал. Собственность же есть область, предоставленная свободе лица; здесь человек действует исключительно по собственному усмотрению. Он может, по выражению римских юристов, не только пользоваться, но и злоупотреблять своим правом (jus utendi et abutendi). Нравственно это не одобряется, но юридически против этого ничего нельзя сказать, ибо лицо действует в силу своей свободы, в пределах, предоставленных ему законом. Видеть в праве злоупотреблять собственностью нечто чудовищное, как делает Прудон, значит опять смешивать нравственные начала с юридическими. Где нет права злоупотреблять, там нет и свободы, ибо тогда человек действует уже не по своему усмотрению, а по чужой указке. Юридическое начало имеет именно в виду ограждение человеческой свободы. С этою цепью определяется область свободы каждого, и установляются границы, в которых человек может действовать по своему изволению, никому не давая в том отчета. Такова собственность.
Эта полнота права не всегда, однако, является таковою в действительности. Право собственности есть юридическое начало, из которого истекает и к которому возвращается всякое вещное право, но осуществляясь в общежитии, оно подвергается многообразным ограничениям и видоизменениям вследствие взаимодействия человеческих воль. При взаимной связи, как людей, так и вещей, область, отмежеванная каждому, не может составлять совершенно уединенный мир, в который не проникает никто посторонний. Эти области неизбежно захватывают друг друга. Отсюда возникает целая система перекрещивающихся юридических отношений, в основании которых лежит право собственности, образуя тысячи самостоятельных центров, в большей или меньшей степени подверженных чужому влиянию.
Мы уже указывали выше на те необходимые ограничения, которые вытекают из самых физических отношений собственности, на право прохода через чужую землю, на запрещение поднимать воду на мельнице или воздвигать на своей земле здания, отнимающие у другого свет, воздух или вид. Эти сервитуты образуют так называемое право на чужую вещь (jus in re aliena). Вещь все-таки считается чужою, но полновластие хозяина стесняется в силу права собственности соседей. Иначе и не может быть: там, где собственность одного сталкивается с собственностью другого, там каждое отдельное лицо не может иметь притязания на такое полновластное распоряжение своим имуществом, которым бы нарушалось чужое право. Необходимость взаимного ограничения вытекает из самого существа этих отношений.
Такие же ограничения возникают и из воли отдельных лиц. Если собственник имеет право всецело отчуждать принадлежащую ему вещь, то он может предоставить другому и некоторую часть своих прав. Он может, например, временно отдать вещь в чужое пользование, либо даром, либо за известное вознаграждение. В таком случае он не имеет уже права распоряжаться ею по своему изволению. Однако право собственности этим не уничтожается, точно также как не уничтожается свобода лица через то. что оно предоставляет другому право на известные свои действия. Собственник сохраняет полноту права как юридическую возможность, и эта возможность переходит в действительность, как скоро прекращается чужое право. Поэтому право пользования, по существу своему, имеет временный характер. Срок может быть весьма продолжительный: в римском эмфитевзисс он продолжался 99 лет; но так как по истечении этого времени вещь все-таки возвращается первоначальному собственнику, то полнота права остается за последним, а пользователь является не более как временным владельцем. Если же пользование предоставляется бессрочное, то оно тем самым переходит в право собственности. Вследствие этого западные юристы приписывали право собственности на землю крестьянам, которые пользовались ею потомственно. Но так как вместе с тем признавалось и право собственности верховного владельца, который продолжал получать за землю известные повинности, то отсюда образовалось двоякое право собственности на одну и ту же землю. Юристы одну собственность называли прямою (dominium directum), другую полезною (dominium utile). Такое разделение находило себе оправдание в том, что в средние века с правом собственности соединялось политическое право, вследствие чего прямая собственность имела характер более политический, а полезная чисто экономический. Но с гражданским понятием собственности такого рода отношение несовместно; поэтому оно должно было исчезнуть с прекращением того политического быта, которым оно вызывалось. В сущности, прямая собственность состояла только в праве на известные повинности. Чтобы развязать эти отношения и утвердить право собственности на истинных основаниях, надобно было предоставить потомственному пользователю право выкупить лежащие на его земли повинности. Это и было сделано новыми законодательствами. Полезная собственность через это превратилась в полную собственность.
Кроме отношений к другим лицам, отдельное лицо имеет отношения к обществу как целому, и эти отношения, в свою очередь, не могут не отражаться на собственности. Отсюда новые ограничения и новые столкновения прав.
Прежде всего, тут являются полицейские ограничения. Человеческое общежитие влечет за собою известные требования безопасности, здоровья, благоустройства и благочиния, с которыми отдельное лицо обязано сообразоваться. Никто не имеет права, ни с своим лицом, ни с своим имуществом, делать то, что противоречит этим требованиям. Это разумеется само собою, и это имеется в виду законодательствами, которые воспрещают делать из собственности употребление, нарушающее законы. Нарушения права собственности тут нет никакого, ибо полновластие лица над вещью, вытекая из его свободы, не простирается далее этой свободы, свобода же лица ограничивается как чужим правом, так и общественными требованиями.
Гораздо более сомнительными представляются тс ограничения, которые установляются во имя экономических интересов общества. В прежнее время, под влиянием цехового устройства и меркантильной системы, все промышленное производство регламентировалось до мельчайших подробностей. Этим, без сомнения, в значительной степени стеснялось право распоряжаться по усмотрению своим имуществом и своими средствами. Ныне большая часть этих ограничений, которые могли оправдываться, как способ воспитания малолетнего общества, отменена. Однако же и теперь есть отрасли промышленности, которые, по своему особому характеру, подвергаются значительным стеснениям. Таково, например, лесоводство. Во многих государствах Западной Европы лесовладельцам воспрещается уничтожать леса без разрешения правительства и предписывается ведение правильного лесного хозяйства. Эти меры вызываются потребностью охранения лесов, не только в видах сохранения лесного капитала, но и вследствие влияния лесов на климатические условия и на удержание влаги в почве. Частный интерес, как дознано опытом, не удовлетворяет этой потребности, ибо он обыкновенно предпочитает ближайшую выгоду отдаленной. Тем не менее, эти меры представляют весьма значительное стеснение права собственности, а потому на них нельзя смотреть как на нормальное положение вещей. Если экономические интересы общества требуют сохранения известного количества лесов, а частная промышленность не удовлетворяет этой потребности, то естественный исход состоит в том, чтобы государство имело их достаточное количество в своем владении, а частное хозяйство было бы предоставлено свободе. Пока этого нет, можно прибегнуть к означенным мерам, но в них всегда следует видеть только временное зло.
Во всех этих случаях, несмотря на стеснение собственника в распоряжении своим имуществом, самое право собственности, с экономической стороны, остается неприкосновенным, ибо казна ничего себе не берет: весь доход предоставляется владельцу. Но государство несомненно имеет право требовать себе известную долю частного имущества на удовлетворение общественных потребностей, и каждый гражданин, как таковой, обязан нести эту повинность. Отсюда новые стеснения собственности. У лица не только отнимается часть приобретенного им имущества, но по необходимости установляется надзор за остальным. Подати взимаются соразмерно с средствами каждого, а для этого надобно определить количество этих средств. Если налог лежит на известной отрасли промышленности и берется с произведений, то необходим надзор за самым производством и обязательное установление таких способов производства, которые делали бы контроль верным и удобным. Иногда правительство берет даже целую отрасль промышленности в исключительное свое ведение и делает из нее монополии казны.
Однако и в этих правах государства и в проистекающих из них стеснениях невозможно видеть нарушения права собственности. Напротив, они вызываются потребностью охранения собственности, которое вверяется общественной власти и требует совокупных средств. Где люди имеют общие интересы, там необходимо, чтобы они частью своего имущества жертвовали для удовлетворения этих интересов. Собственность казны является здесь уже производного: она образуется из собственности частных лиц, в силу их совокупных интересов и гражданских обязанностей. Нарушением права собственности податные обязанности могли бы сделаться лишь в том случае, если бы правительство обратило свое право в орудие имущественного уравнения, чего требуют социал-политики, между прочим и Вагнер (Grundlegimg, стр. 135). Такого рода податная система не что иное, как замаскированная конфискация.
Наконец, может случиться, что вещь, находящаяся в частной собственности, требуется для общественных нужд. И тут право собственности должно уступить, ибо личная свобода подчиняется общественным требованиям. Но с своей стороны, государство обязано признать частное право: оно делает это, давая собственнику справедливое вознаграждение. Этим способом разрешается столкновение лица с обществом: приобретенное право сохраняется в своей ценности, а общество приобретает нужную ему вещь. Поэтому нельзя видеть непримиримого противоречия между правом собственности и принудительным отчуждением, как делает Вагнер, который пользуется этим для доказательства, что право собственности имеет не только частное, но и социал-юридическое значение (Grundlegimg, стр. 694). Конечно, если мы, вместе с Вагнером, скажем, что вознаграждение есть дело второстепенное, которое в понятие о принудительном отчуждении не входит (стр. 689, примеч.). то противоречие с правом собственности будет полное. Но в таком случае принудительное отчуждение ничем не отличается от конфискации. Между тем законодательства, безусловно воспрещающие конфискацию как несправедливое и насильственное посягательство на право собственности, все допускают принудительное отчуждение, как необходимое требование общественного быта. Разница между тем и другим заключается именно в том, что в одном случае непременно требуется вознаграждение, а в другом случае оно устраняется, то есть в одном случае право собственности признается, а в другом оно отрицается. И признается оно именно как частное, а отнюдь не как мифическое социальное право. Вследствие этого, вознаграждение является непременным юридическим требованием, которое обставляется всевозможными гарантиями правомерного решения. Из того, что частное право, при столкновении с государственным, уступает последнему, отнюдь не следует, чтобы само частное право было государственным. Такого рода логика может иметь ход разве только в социал-политике. Напротив, как необходимость уступки, так и требование вознаграждения доказывают, что это — право частное. И если в то самое время как при случайном столкновении с общею пользою от него требуется уступка, оно признается и уважается государством, то этим доказывается, что оно составляет норму, а принудительное отчуждение — исключение, и притом исключение, подтверждающее правило, ибо оно признает норму в то самое время, как оно отрицает частное ее приложение. Поэтому, когда Вагнер восстает против "старой (?!?) точки зрения частного права", которое в неприкосновенности частной собственности видит правило, а в принудительном отчуждении уклонение (стр. 702, примеч.), то этим обнаруживается только, что социал-политическая точка зрения ставит все юридические понятия вверх дном и тем подрывает коренные основы гражданского быта.
В результате мы должны сказать, что право собственности есть коренное юридическое начало, вытекающее из человеческой свободы и устанавливающее полновластие лица над вещью. Это начало, осуществляясь в действительности, подвергается делению и ограничениям как вследствие взаимных отношений людей, так и вследствие отношений лица к обществу. Но оно всегда составляет правило и норму, к которой все окончательно приводится; остальное оправдывается только как исключение. Поэтому вторжение государства в область собственности и стеснение права хозяина распоряжаться своим имуществом всегда должно рассматриваться как зло, которое по возможности должно быть устранено. Посягательство же со стороны государства на право собственности, иначе как в случае нужды и за справедливое вознаграждение, всегда есть насилие и неправда.
Против этого воззрения возражают, что оно представляет "априорное, абстрактно-абсолютное формулирование юридического понятия", которое уже в принципе несостоятельно, ибо оно не обращает внимания на различные виды собственности и на различное их экономическое значение в человеческих обществах. Собственность, говорят, есть историческая, а не безусловно-необходимая категория; поэтому только путем наблюдения мы можем определить и ее границы, и ее последствия[66].
Что различные виды собственности имеют различное экономическое и политическое значение в обществе, это не подлежит сомнению; об этом будет речь впоследствии. Но для того чтобы знать, каковы могут быть приложения известного начала, надобно знать, в чем состоит это начало, откуда оно происходит и какие из него вытекают требования? Иначе мы получим ряд частных определений, в которых не будет ничего общего. Если не следует говорить о праве собственности вообще, то права собственности вовсе не будет: останутся только отдельные, отличные друг от друга учреждения. Как же скоро мы признаем существование права собственности, как юридического начала, так, для исследования этого начала, мы должны отвлечься от всяких посторонних экономических, политических и иных соображений, которые могут видоизменить осуществление его в действительности. Это требуется логикою, и на этом основана метода всех опытных наук. Когда естествоиспытатель хочет исследовать известное явление, он старается устранить все посторонние влияния, чтобы получить явление в его чистоте. Этого требует, с другой стороны, и самое отношение этих элементов в жизни. Сам Вагнер признает, что экономический порядок зависит от юридического; утверждать после этого, что юридический порядок, в свою очередь, должен определяться экономическими отношениями, значит вращаться в круге. Юридический порядок, составляющий твердое основание всего гражданского бытия, имеет свои собственные начала, свою логику и свои требования. В ней есть учреждения двоякого рода: одни носящие на себе временный и местный характер, другие имеющие значение постоянное и всеобщее, одни относительные, другие абсолютные. К которому из этих разрядов принадлежит право собственности? Чтобы решить этот вопрос, надобно отрешиться от временных и местных условий и показать связь собственности с неизменною природою человека, то есть надобно идти именно тем умозрительным путем, который отвергается возражателями. И если мы в состоянии доказать, что самое начало и вытекающие из него требования оправдываются умозрительно, то эти требования будут иметь значение для всякого времени и места, ибо они представляют не только то, что есть, но и то, что должно быть. Опытные данные могут видоизменить или задержать их приложение, но не в состоянии их поколебать. Несмотря на историко-юридическую категорию рабства, человек, во имя своей разумно-нравственной природы, всегда может требовать признания своей свободы. Точно так же, во имя свободы и справедливости, он всегда может требовать, чтобы его признали полным хозяином того, что он приобрел законным путем. Посягательство на собственность всегда и везде будет посягательством на свободу и нарушением правды. Таким образом, отрицание отвлеченно-юридической теории собственности во имя опытных данных само по себе не имеет силы. Но дело в том, что противоречия между умозрительною теориею и тем, что представляет опыт, вовсе не существует. Напротив, отвлеченно-юридическое начало представляет именно то, что развивается в истории и что существует в действительности. Социалистические же и социал-политические теории собственности, отрицая логику, вместе с тем отрицают и то, что дается нам опытом. Когда говорится об умозрительном начале, то оно отвергается во имя опыта, когда же говорится о том, что есть, то последнее отвергается во имя того, что должно быть. Такое противоречие само себя обличает.
Действительная история представляет постепенное развитие того самого начала, которое выведено умозрением, как неотъемлемая принадлежность человеческой природы. Полная и свободная собственность составляет не преходящую историческую категорию, порожденную современным индивидуализмом, а плод всего предшествующего развития человечества. В начале, как мы уже заметили выше, человек не сознает себя свободным лицом; он погружен в общую субстанцию. Окружающая его сфера есть образовавшаяся путем нарождения семья, или, в более обширном значении, род. Поэтому, первоначальная собственность — родовая. С образованием теократических государств к этому присоединяются новые начала. В силу религиозных понятий земля и все, что на ней находится, считается достоянием Божества или его наместника. С другой стороны, право завоевания делает верховным собственником страны военачальника, который, однако, сам получает теократическое освящение. Наконец, с развитием государственного порядка, самые роды приобретают политическое значение, и это сообщает политический характер и их имуществу. Как уже было замечено выше, в древности частное право подчиняется государственному.
Несмотря, однако, на этот общий характер древней жизни, личное начало берет свое и разлагает окружающую его субстанцию. В приложении к собственности этот процесс обнаруживается уже на Востоке, где теократические начала доселе сохраняются в полной силе. Разительный пример представляет в этом отношении классическая страна неподвижности, Китай. Первоначально, единственным собственником земли был император, как сын Неба. Он раздавал участки, в виде ленов, членам своего дома и государственным сановникам, а последние, в свою очередь, раздавали их другим. Каждой крестьянской семье был предоставлен известный участок, который навсегда должен был оставаться неизменным. Две тысячи лет держался этот порядок, но наконец принуждены были от него отступить, ибо он не удовлетворял ни потребностям владельцев, ни нуждам государства. Каждому предоставлено было право обрабатывать пустопорожние земли и обращать их в свою собственность. При постоянных смутах, которым в то время подвержена была Китайская Империя, этот новый строй с течением времени привел к значительному неравенству, к обеднению низшего народонаселения и к сосредоточению земель в руках богатых землевладельцев. Тогда наступила реакция. Императоры пытались восстановить прежний порядок. Учинялись новые переделы; каждому домовладельцу приписывались участки, в различном размере, частью в собственность, частью в пользование. Однако и эти постановления не могли удержаться. Свободное передвижение собственности взяло перевес, и правительство окончательно принуждено было предоставить вещи их собственному течению. Теперь уже более тысячи лет в Китае господствует полная частная собственность[67].
Еще быстрее совершился этот процесс там. где он не задерживался теократическим характером государственного строя. И в Греции, и в Риме родовое владение составляло первоначальную основу государственного быта. Вследствие этого внимание законодателя было направлено на его охранение. Нигде в этом отношении не были приняты такие строгие меры, как в Спарте. Земля считалась собственностью государства. Лучшая ее часть была разделена на 9000 жребиев, которые распределены были между гражданами и переходили нераздельно от поколения к поколению. Всякие продажи и сделки были воспрещены. Самые рабы, которые обрабатывали земли, принадлежали государству и отдавались гражданам, сообразно с их потребностями, во временное владение. Все здесь было рассчитано на то, чтобы гражданин имел возможность всецело жить для государства, без всякой заботы о своих частных делах. Однако и этот порядок оказался бессильным против естественного хода вещей. И в Спарте личное начало взяло верх; земли перешли в немногие руки; образовалась противоположность богатых и бедных, а вслед за тем возникли внутренние междоусобия, которые привели республику к падению. Тот же процесс повторился и в других греческих государствах.
В Риме начало полной и свободной собственности окончательно восторжествовало и было возведено в коренное юридическое правило. Всякие стеснения были несовместны с тем полновластием, которое во всех сферах присваивалось римскому гражданину. Римское право сохранило это начало и для нового времени.
Но если в древности уже развилось право собственности как полновластие лица над вещью, то здесь недоставало другого начала, которое, как мы видели, составляет самостоятельный источник собственности, начала, которое дает ей жизнь и нравственное значение, а вместе с тем не дозволяет ей с вещи распространяться на лицо, именно, свободы труда. Собственность в древности поддерживалась рабством; приобретенное трудом раба становилось достоянием господина. Отсюда скопление земель в руках рабовладельцев, несметные богатства одних и обеднение других; отсюда и постоянные распри между богатыми и бедными. Только к концу Римской Империи, с заменою рабства колонатом, является начало нового порядка вещей. Земли начинают обрабатываться оседлыми поселенцами, прикрепленными к почве. Труд еще не свободен, но он получает уже точку опоры, исходя от которой он постепенно расширяет свои права и наконец перетягивает на свою сторону самую собственность.
Водворение этого нового порядка служит переходом к средним векам. Здесь право собственности вступает в новую эру и получает обширнейшее развитие. Между тем как в древности оно подчинялось государственному нраву, в средние века, напротив, оно поглощает в себе государственное право. Общественная власть становится предметом частной собственности и сливается с последнею. Но через это собственность опять теряет свою свободу; расширяясь безмерно, она сама себя опутывает со всех сторон. Правитель является вместе и собственником, вследствие чего его имущественные права стесняются требованиями общественного порядка, а право собственности подчиненных не может получить надлежащего развития. Отсюда и распадение собственности на две категории, которые ограничивают и стесняют друг друга. Верховному собственнику принадлежит прямая собственность, с которою связано политическое право; подчиненному собственнику принадлежит полезная собственность (dominium utile), которая является выражением впервые выступающего экономического начала, труда, но лишена свободы.
Такое смешение частного права и публичного, противоречащее существу обоих, неизбежно должно было вызвать реакцию; и точно, она наступает в новое время. С одной стороны, новое государство, развиваясь, мало-помалу притягивает к себе вотчинные права, сопряженные с властью. Сначала из этого образуются регалии, которые, в свою очередь, значительно стесняют право собственности. Но затем происходит большее и большее разграничение обеих сфер. У собственности отнимается то, что ей не принадлежит, область государственных отношений, но зато, с другой стороны, ей возвращается принадлежащая ей свобода. Частные права, которые вследствие смешения их с публичным правом входили в круг регалий, присваиваются частным лицам; а с своей стороны, подчиненная собственность, посредством выкупа, превращается в полную собственность, Таким образом, в новое время установился гражданский строй, неизвестный ни древнему миру, ни средним векам, но составляющий результат всего предшествующего исторического развития, именно: свободная собственность при свободном труде. Формально-юридически, современное право собственности представляет возвращение к римскому началу; но с освобождением труда это начало получает новое значение. Приобретенное трудом не становится уже достоянием другого лица, но сохраняется тому, кто трудился. Отныне право собственности управляется началом справедливости.
Спрашивается: есть ли этот порядок окончательный результат истории, или мы должны ожидать нового поворота и новых стеснений права собственности?
Признать последнее значило бы зараз отказаться и от требований разума и от всех плодов исторического развития. Если, как доказано выше, идеалом человеческого общежития может быть только расширение, а не подавление свободы, то в будущем мы можем ожидать не стеснения, а напротив, утверждения и расширения нрава собственности. Чистый индивидуализм, без сомнения, не есть окончательный результат истории. Можно полагать, что будущее принесет нам и большую крепость частных союзов, и развитие деятельности государства в принадлежащей ему сфере; но все это может совершиться только на почве свободы. Область, присвоенная свободе, ее точка опоры во внешнем мире, должна оставаться неприкосновенною. Свободная собственность при свободном труде составляет поэтому идеал всякого гражданского быта. Посягать на эти начала значит подрывать свободу в самом ее корне, уничтожать фундамент великого здания, воздвигнутого человечеством. К этим попыткам можно приложить сравнение, употребленное Монтескье в отношении к деспотизму. Когда дикие хотят сорвать плод с дерева, они рубят дерево и срывают плод: таково изображение социализма и легкомысленной его служанки, социал-политики.
Глава IV.ДОГОВОР
Договор есть соглашение лиц насчет установления между ними юридического отношения.
Путем договора устанавливаются юридические отношения в различных сферах права. Здесь идет речь только об имущественном его значении в области частного права. Посредством договора собственность, а равно и отдельные ее части переходят от одного лица к другому.
Этот переход может совершиться единовременно, например, в случае мены. Люди в одно и то же время обмениваются принадлежащими им вещами, и затем прекращаются между ними всякие дальнейшие отношения. Юридическое основание такого переноса имущества заключается в праве собственности, которое содержит в себе право лица распоряжаться своею вещью и отчуждать ее в пользу другого. В силу договора, каждый становится собственником вещи через посредство чужой воли.
Но таким единовременным переносом имущества не ограничиваются возникающие из договора юридические отношения. Взаимные сделки между людьми не имеют в виду одно настоящее; они простираются и на будущее. Нередко обещание предшествует исполнению; еще чаще один из договаривающихся уже исполнил то, что от него требовалось, а другой еще нет. Отсюда возникает обязательство, то есть такое юридическое отношение, в силу которого одно лицо имеет право что-либо требовать от другого, а другое обязано что-либо дать или сделать. Юридически такое отношение существенно отличается от вещного права: им установляется право не на самую вещь, а на действие известного лица. Отсюда и различный характер иска. Вещный иск состоит в требовании себе известной вещи, в чьем бы она ни находилась владении, он обращается против всех и каждого. Вследствие этого вещное право называется абсолютным. Иск по обязательству, напротив, обращается против известного лица, хотя бы имелось в виду получение вещи; непосредственным объектом иска является здесь действие лица, и через него уже получается вещь.
Спрашивается: на чем основана юридическая сила обязательств? Иными словами: почему мы обязаны соблюдать договоры?
Этот вопрос весьма сильно занимал писателей, исследовавших начала естественного права. В настоящее время многие считают его пустым, как будто ответ ясен сам собою и не требует никаких философских утонченностей. Между тем от правильного его решения зависит правильное понимание как самого существа договора, так и вытекающих из него юридических отношений. Необходимо поэтому бросить взгляд на мнения, которые высказывались на этот счет философами и юристами.
Первое доказательство обязательной силы договоров, которое мы находим в философии права нового времени, состоит в том, что без этого невозможно человеческое общежитие. Гуго Гроций прямо выставляет исполнение обещаний, как одно из коренных требований, вытекающих из начала общежития[68]. Но тут возникает вопрос: на чем основано самое общежитие? На потребности самосохранения, отвечает Гоббс, которое без мирного общежития невозможно. Отсюда Гоббс выводит и соблюдение договоров. Естественный закон, указывающий человеку средства для самосохранения, требует, чтобы он искал мира, а для сохранения мира необходимо соблюдение договоров. Но эго относится единственно к состоянию общественному, или гражданскому, где обязательство может быть вынуждено; в естественном же состоянии, по теории Гоббса. обязательство немыслимо, ибо здесь всякий может бояться, что договор не будет исполнен другим, так как здесь нет никакого ручательства в исполнении[69].
С еще большею яркостью та же точка зрения высказывается Спинозою. Общий, непреложный закон человеческой природы, говорит он, состоит в том, что человек отказывается от какого-нибудь блага единственно в виду большего блага или из страха большего зла. Следовательно, безусловно никто не будет исполнять своих обещаний иначе как из страха большого зла или в виду большего блага. Всякому, в силу этого закона, дозволяется нарушать договор, как скоро он видит в этом для себя пользу. Из чего ясно, что договор имеет обязательную силу единственно в виду пользы, с устранением которой уничтожается и самый договор. А потому глупо требовать от другого верности слову, если мы не устроим дело так, чтобы от нарушения договора произошло для нарушителя более вреда, нежели пользы. Это именно имеется в виду при учреждении государства[70].
Ясно, что обязательная сила договоров понимается тут чисто внешним образом: договор обязателен, потому что он принудителен. Ничего другого из основанного на самосохранении общежития нельзя вывести. Но в силу чего же он становится принудительным? Единственно в силу того, что он обязателен: меня могут принудить к исполнению обязательства, единственно вследствие того, что я обязался жить в обществе. Иной причины нет. Следовательно, одно внешнее принуждение ничего не объясняет; надобно искать другого, внутреннего основания. Как же скоро мы ищем внутреннего основания, так необходимо от теории общежития перейти к иным началам. Когда Пуфендорф, который настаивал на нравственном значении права, хотел выводить обязательную силу договоров из требований общежития, ему отвечали, что самое общежитие необязательно, а потому из него никаких обязанностей нельзя вывести.
Недостаточность теории, основывающей обязательную силу договора на внешнем принуждении, побудила нравственную школу искать этого основания в нравственном начале, именно, в верности данному слову. Эту точку зрения развивал Вольф в своих "Разумных мыслях о человеческих действиях и воздержании" (Vernimftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, Theil IV, Cap. 4). Нравственное начало, говорит он воспрещает человеку наносить вред другому. Поэтому он не должен лгать; ибо ложь есть неправда, клонящаяся ко вреду другого (§ 981). Но он может говорить неправду, когда она не вредит, а приносит пользу; такая неправда не есть ложь, а притворство (§ 985). То же различие прилагается и к обещаниям. Человек вправе обещать только то, что само по себе добро, то есть то, что он и без того уже обязан сделать или оставить. Если же он обещает сделать что-нибудь дурное или не делать что-нибудь доброе, то подобное обязательство не имеет никакой силы, ибо оно противоречит естественному закону (§ 1003, 1004). Наконец, в случае, если из исполнения обещания может произойти вред для одного лица и польза для другого, надобно исследовать, которое из этих двух последствий более согласуется с законом природы (§ 1007).
Таковы выводы Вольфа. Ясно, что и этим путем обязательная сила договоров не только не доказывается, но напротив, уничтожается. Договор, с этой точки зрения, обязателен не в силу данного слова, а потому что содержание его согласно с нравственным требованием; но в таком случае это содержание обязательно и без договора. Если же оно с нравственным требованием несогласно, то и договор признается недействительным. И точно, с чисто нравственной точки зрения, не признающей безразличных человеческих действий, данное обещание не имеет никакого существенного значения. Юридической обязанности отсюда вывести нельзя, ибо юридические обязанности, так же как и нравственные, в этой системе возлагаются на человека исключительно ввиду исполнения нравственного закона, а никак не в силу человеческого соглашения.
Невозможность вывести этим способом обязательную силу договоров побудила самого Вольфа прибегнуть к иному началу.
В позднейшем своем сочинении, в "Учреждениях права естественного и общенародного" (Institntiones juris naturae et gentium), он призывает на помощь естественную свободу человека. Во имя этой свободы каждый в определении своих действий следует только собственному суждению (§ 78). Вследствие этого он не может быть принуждаем к исполнению обязанностей человеколюбия (§ 79). Но именно потому эти обязанности, а равно и соответствующее им право остаются несовершенными (§ 80). С другой стороны, человек в исполнении своих нравственных обязанностей часто нуждается в чужой помощи, а потому имеет право обязывать другого к тем действиям, без которых он не может исполнить своей обязанности. Через это несовершенная обязанность превращается в совершенную (§ 97), однако не иначе, как с помощью чужой воли, ибо принудить другого никто не вправе (§ 385). Надобно, чтобы другой добровольно дал обещание; но раз обещание дано, оно должно быть исполнено, ибо несовершенное право превратилось в совершенное (§ 380, 388).
В этой аргументации обязательство в конце концов становится в зависимость от свободной воли человека. Но такой вывод противоречит основаниям нравственной теории права. По учению Вольфа, право дается человеку единственно для исполнения обязанностей (§ 45, 46); следовательно, если для исполнения своей обязанности я нуждаюсь в чужой помощи, то я вправе ее требовать, а другой не вправе мне отказать: с его стороны это было бы нарушением обязанности. Несовершенного права и несовершенной обязанности с этой точки зрения быть не может. Это значит признать, что источник принудительного права, то есть права в собственном смысле, лежит не в нравственной обязанности, а в свободной воле человека. Но через это вся нравственная теория разрушается внутренним противоречием.
С другой стороны, однако, невозможно вывести обязательную силу договоров и из чистого начала свободы, в смысле личного произвола, зависящего единственно от себя самого. Это начало было положено в основание индивидуалистических теорий XVIII века. Все человеческие обязанности выводились из общественного договора, в силу которого человек жертвует частью своей свободы ввиду пользы приносимой общежитием. Но так как судьею этой пользы остается он сам, то договор никогда не может быть для него обязательным. Общественный договор, говорит Гольбах, "возобновляется беспрерывно; человек постоянно держит весы, чтобы взвешивать и сравнивать выгоды и невыгоды, проистекающие для него от общества, в котором он живет. Если блага перевешивают зло, благоразумный человек будет доволен своею судьбою… Если, напротив, зло перетягивает на весах и возмещается только небольшими благами, то общество теряет над ним свои права, он от него удаляется"[71].
Прибавим, что с этой точки зрения, неблагоразумный человек, точно так же как и благоразумный, остается единственным судьею выгод и невыгод, а следовательно, и обязательной силы договора. Сегодня он обязался, а завтра он находит, что обязательство для него невыгодно; кто же может принудить его к исполнению? Это будет насилие. Мы возвращаемся к воззрению Спинозы, с тою разницею, что Спиноза считал принуждение со стороны власти таким же проявлением естественной силы, а потому и естественного права, как и личную волю, индивидуалистическая же теория признает правоверною только личную волю, а всякое принуждение, не основанное на добровольном согласии, считает неправдою. Последовательно проводя эту систему, необходимо признать, что договоры обязательной силы не имеют, а потому необязательно и основанное на договоре общежитие со всеми вытекающими из него последствиями. Человек не связан ничем; он всегда остается полновластным хозяином своих действий. Но так как это право одинаково принадлежит всем, то оно само себя разрушает. И эта теория падает вследствие внутреннего противоречия.
Несостоятельность всех этих односторонних точек зрения побудила скептицизм совершенно отказаться от теоретического решения этой задачи и искать основания для обязательной силы договоров исключительно в практическом начале пользы. Юм отвергал теорию, выводившую гражданский порядок из договора. доказывая, что самая обязанность соблюдать договоры основана на общественных потребностях. Говорят, что мы должны повиноваться властям, потому что мы обязаны соблюдать обещания; но почему же мы обязаны соблюдать обещания? Потому что сношения между людьми, доставляющие им значительные выгоды, не могут быть обеспечены, если люди не соблюдают своих обязательств. Следовательно, все дело в том, что общество без этого не могло бы существовать, и этого начала достаточно для оправдания необходимости подчиняться властям, без всякого предшествующего договора[72].
То же самое повторяет и Бентам. "Зачем надобно соблюдать свои обязательства? Потому что верность обещаниям составляет основание общества. Для пользы всех, обещания каждого лица должны быть священны. Между людьми не было бы более безопасности, торговли, доверия, надобно бы было возвратиться в леса, если бы договоры не имели более обязательной силы"[73]. Бентам идет даже далее: развивая начало пользы, он доказывает, что единственное основание обязательной силы договора заключается в том, что он выгоден для обеих сторон. "Договор, в строгом смысле, — говорит он, — сам по себе не имеет силы; ему нужно основание, нужна первая и независимая причина. Договор служит доказательством взаимной выгоды договаривающихся сторон. От этой присущей ему пользы он получает свою силу; этим различаются случаи, когда он должен быть утвержден, от тех, когда он должен быть уничтожен. Если бы договор сам по себе имел силу, он всегда имел бы одинаковое действие; если его вредное направление делает его ничтожным, то ясно, что именно его полезное направление делает его действительным"[74]. На этом основании Бентам утверждал, что договор должен быть уничтожен всякий раз, как вместо пользы он оказывается вредным либо одной из сторон, либо публике. Кто же, однако, является судьею этой пользы или вреда? Если каждое договаривающееся лицо, то очевидно, что договор будет обязателен лишь настолько, насколько каждый считает его для себя полезным, то есть обязательная сила его исчезнет. Поэтому необходимо судьею признать общественную власть. Это и делает Бентам. "Никакой договор. — говорит он, — сам по себе не ничтожен, также как никакой договор сам по себе не действителен. Закон, в каждом данном случае, дает или отнимает у него действительную силу. Но для дозволения, равно и как для запрещения, ему нужно основание"[75].
Таким образом, от усмотрения власти зависит укрепить договор или его уничтожить, смотря по тому, считает ли она его полезным для сторон или нет. Очевидно, что мы вступаем тут в область чистого произвола; власть вмешивается во все частные отношения и становится опекуном всех и каждого. О праве, о суде тут не может быть речи.
Но, говорит Бентам, закон в дозволении, равно как и в запрещении, руководствуется известным основанием. Каким же? Частного выгодою сторон или общественною пользою? Если первою, то всякий имеет право требовать уничтожения договора, как скоро он оказался для него невыгодным: это прямо вытекает из положений Бентама. Но в таком случае исчезает всякая прочность отношений и рассчитывать ни на что нельзя, а это противоречит общественной пользе. Если же мы последнюю примем за мерило и скажем, что договоры должны соблюдаться, потому что общественная жизнь требует прочных отношений и возможности делать верный расчет на будущее, то все договоры будут равно обязательны, выгодные и невыгодные. В таком случае я обязан соблюдать договор, не потому что это полезно для меня, а потому что это полезно для общества. Но на каком основании может общество предъявить мне подобное требование? Общество далеко не всем обеспечивает верность расчетов на будущее. Если я, например, купил товар ввиду выгодной продажи, а цена вдруг упала, то общество не заставляет покупателя брать у меня товар по прежней цене, чтобы я не был обманут в своем расчете; в силу чего же меня заставляют платить за купленный в долг товар именно по той цене, за которую я его купил, хотя бы эта цена впоследствии оказалась для меня невыгодною? Почему расчет одного продавца обеспечивается, а другого нет? и в силу чего один покупатель принуждается к уплате по невыгодной для него цене, а другой нет? Единственная причина та, что один обязался, а другой нет. Следовательно, основание, почему закон требует уплаты по известной цене, заключается отнюдь не в общественной пользе, не в прочности отношений, не в обеспеченности расчетов, а в том частном действии лица, по которому оно приняло на себя известное обязательство. Общественная польза ко всем относится одинаково и всем предъявляет одинаковые требования. Если же одно частное лицо принуждается что-либо сделать в пользу другого, то основание заключается не в обществе, а в нем самом. Однако не в его личной пользе, ибо каждый сам судья своей личной пользы, а тут закон заставляет его делать именно то, что для него невыгодно. Также и не в личной пользе другого. ибо во имя своей личной пользы никто не имеет права что-либо требовать от другого, и общество не имеет никакого основания предпочитать личную пользу одного из своих членов личной пользе другого. Для того чтобы другой сделал для меня что-нибудь полезное, необходимо его согласие, если только он свободное существо, и в этом согласии заключается единственная причина, почему я могу от него что-нибудь требовать, следовательно, в нем заключается и единственный источник обязательной силы договоров.
Итак, ссылка на практическую пользу не только не объясняет обязательной силы договоров, но ставит вопрос на совершенно ложную почву и тем вовлекает нас в нескончаемые противоречия. Волею или неволею приходится возвратиться к свободной воле человека; однако не к чистому произволу, не знающему над собою никакого закона и отрицающему все, что может его связывать, а к свободе разумной, которая сама себе становится законом. Такова точка зрения идеализма. В нем начало закона внутренним образом сочетается с свободою, и все предшествующие точки зрения сводятся к высшему единству.
По учению Канта, свобода есть умозрительное начало, которое управляется чистыми законами разума. В приложении к внешним действиям человека, этот закон есть право, которым определяются условия совместного существования свободы различных разумных существ. В договоре эти условия установляются соглашением сторон. Отсюда возникает отношение юридическое, следовательно умственное, независимое от условий пространства и времени, а потому постоянно обязательное. Таким образом, обязательная сила договоров составляет необходимое требование практического разума, требование, вытекающее из самого его существа и не подлежащее дальнейшим доказательствам (Rechtslehre, § 19).
Этот вывод ставит вопрос на настоящую почву. Им равно удовлетворяются и субъективные требования свободы, и объективные требования закона. В школе Канта и те и другие получили дальнейшее развитие. Субъективная сторона весьма хорошо формулирована Роттеком. Область свободы каждого лица, говорит он, замкнута для всех других, но волею самого лица в нее может быть открыт доступ. Я могу дать другому право на свое действие, а раз я дал обещание и тем связал свое действие с свободою другого, я обязан обещание исполнить, ибо иначе я нарушаю чужую свободу (Vernunftrecht, § 27, 28).
Против этого не имеет силы возражение, которое делает Арене, что право не переносится на другое лицо одним обещанием, а только исполнением, прежде же исполнения ничего не перенесено, а потому воля остается свободною (Naturrecht, § 82). Арене видит в этом доказательство, что из субъективной воли нельзя вывести объективное отношение. Но его возражение основано на смешении юридического отношения с эмпирическим. С юридической точки зрения, договором право уже перенесено на другое лицо: исполнение же договора есть осуществление в реальном мире установленного уже идеального отношения. На это именно указал Гегель, который ясно формулировал объективную сторону договора. Договор, говорит он, не есть просто выражение чего бы то ни было; он содержит в себе состоявшуюся совокупную волю, в которой исчезает произвол субъективной мысли и ее изменений. Этот момент совокупной воли составляет существенное в юридическом значении договора; остающееся же пока владение есть не более как внешняя сторона, которая должна определяться первою. Договором я уже отдал известную собственность, а вместе и право произвольно ею распоряжаться; она сделалась уже собственностью другого, а потому я непосредственно обязан к исполнению. В этом, замечает Гегель, заключается различие между простым обещанием и договором. В первом выражается только субъективное определение воли, которое для лица не обязательно, а потому подлежит изменению; в договоре же состоялось уже совокупное решение, субъективное отношение превратилось в объективное (Phil. d. Rechts, § 19). Договор, по выражению юристов, составляет закон для сторон, закон, установленный самою свободою, вытекающий из ее автономии, но тем не менее для нее обязательный, ибо им определяется взаимное отношение воль и способ совместного их существования, а это и есть право. Из этого опять можно видеть, каким верным пониманием юридических отношений руководствовался Гегель, когда он, несмотря на свою чисто идеалистическую точку зрения, полагал существо договора в воле, а не в цели. Этого подводного камня не избегла идеалистическая школа Краузе. Мы видели уже, что Арене отвергает возможность вывести объективное начало в договоре из субъективного начала свободы. Рассматривая право как совокупность условий для достижения всех разумных целей человека, Арене в этих целях видит основание обязательной силы договоров. Как разумное существо, человек полагает себе цели для будущего, а так как для существования их требуется чужое содействие, то он должен иметь возможность рассчитывать на это содействие. Никакой рассчитанный на будущее план действий не был бы возможен, если бы каждый мог по своему произволу отступать от договоров. Следовательно, основание обязательной их силы лежит в разумном характере человека и в разумном, сообразном с известным планом исполнении его жизненного назначения (Naturrecht, § 82).
Этот довод, так же как и практические соображения Бентама, идет слишком далеко. Если бы потребность устроить свою жизнь по известному плану могла служить достаточным юридическим основанием для вынуждения чужого содействия, то это начало простиралось бы не на одни договоры, но и на всякое другое действие. Для объяснения особенной обязательной силы договоров нужно, следовательно, искать иного основания. Поэтому сам Арене, когда он говорит об обязательствах вообще, основывает их на совершенно другом начале. "Характер обязательства, — говорит он, — не заключается, как часто признают на основании римско-юридического воззрения, в известной власти или в господстве одного лица над волею другого, оно содержит в себе только требование, обращенное к свободной воле, которая прежде всего должна свободно определяться к исполнению своего обязательства и считать себя связанною в договорах нравственно-юридическою связью верности. Поэтому своим существенным характером, право обязательств есть отношение верности, и при исполнении обязательства важнейший момент заключается в свободной доброй воле обязанного, тогда как необходимым иногда принуждением не всегда достигается исполнение обязательства, а наступает только вознаграждение ущерба" (§ 78).
Но если основание обязательства заключается в верности, то человеческие цели тут ни при чем. Надобно только объяснить, что такое верность, на чем она основана и какие из нее вытекают требования. Но именно этого Арене не делает, вследствие чего у него оказывается смешение юридических начал с нравственными. Теоретически, он хочет основать святость договоров на чисто юридическом начале, с устранением нравственности (§ 82); но окончательно все основывается на нравственном сознании и на доброй воле обязанного лица, следовательно, на чисто нравственном начале. Очевидно, что подобное основание недостаточно: юридическое начало отличается от нравственного именно тем, что оно принудительно, принуждение же в обязательствах основано не на доброй воле обязанного лица, а на том, что одно лицо имеет право на действие другого, то есть на устраненном Аренсом римско-юридическом воззрении. Последнее, следовательно, одно выражает собою истинную сущность юридически обязательных отношений.
Такое же смешение нравственных понятий с юридическими мы находим и у Шталя. Но здесь это объясняется основною точкою зрения автора, который весь юридический порядок строит на нравственном начале. Шталь, так же как и Арене, выводит обязательную силу договоров из принадлежащих к самому существу человеческой личности начал свободы и верности. Последняя состоит в неизменности воли на будущее время. Договор основан на обоих, но обязательная сила его заключается в верности, которая есть нравственная идея всех обязательных отношений, как нравственных, так и юридических (Phil. d. Rechts, II, § 55). Шталь уверяет даже, что Кант, думая выводить обязательную силу договоров из свободы, в сущности выводит ее из верности (§ 56, примеч.).
Если под именем верности разуметь постоянство воли, то она без сомнения требуется во всяком договоре; но вопрос состоит в том: в силу чего она требуется? Если во имя нравственного начала, то этого недостаточно: не всякое обещание может быть вынуждено. Обязательная сила договоров, как юридических отношений, основана не на нравственном требовании, а на том, что здесь свобода одного лица связывается с свободою другого. Обязавшись, я не могу изменить своей воли, не нарушив чужой свободы. Только отсюда со стороны другого может возникать требование и сопровождающее его принуждение. Следовательно, единственное определяющее начало здесь — свобода; связью же служит свободное соглашение, устанавливающее отношение свободы одного к свободе другого.
Кроме того, с нравственной точки зрения, неизменность воли тогда только составляет обязанность, когда она служит нравственной цели. Мы возвращаемся к теории Вольфа. Вследствие этого сам Шталь видит в свободе и верности только субъективные основания обязательной силы договоров. Сверх того, требуется еще объективное основание, которое состоит в служении высшей цели. Нравственно обязательным, говорит Шталь, договор должен считаться только тогда, когда он служит нравственной цели; юридически обязательным, когда он служит цели юридической, то есть вытекающим из общественного порядка потребностям оборота, для которых соглашение служит только средством. С этой точки зрения обязательства не представляются чистым произведением человеческой свободы; это — очерченные уже общим порядком области, в которых свободное соглашение нужно только для вступления и для ближайшего определения, указанного уже законом содержания. Таким образом, хотя соглашение воль составляет собственно обязательный момент в договоре, но оно получает силу единственно под условием объективного содержания. К субъективному, формальному моменту, заключающемуся в свободе и верности, присоединяется объективный момент, высшее назначение (teloz) договорной связи. Это последнее начало, говорит Шталь, было совершенно упущено из виду прежнею философиею права, которая, вследствие своего отвлеченного и субъективного характера, лишало право одушевляющих его нравственных идей (§ 56).
В этом объяснении обязательной силы договоров мы видим попытку связать субъективное начало с объективным, но попытку неудачную, вследствие смешения нравственной точки зрения с юридическою. Обязательный момент в договоре все-таки полагается в субъективном начале, но лишь под условием служения высшей цели. Между тем никакого служения высшей цели в договоре не требуется. Шталь смешивает договоры с теми постоянными союзами, в которые человек добровольно вступает, но которых содержание определяется не им; таков, например, брак. В договорах же, касающихся имущественной сферы, как признает и Шталь, не только самое существование их и продолжение зависят от воли сторон, но и содержание определяется соглашением. Оборот, говорит Шталь, требует, чтобы эти отношения "существовали только сообразно с волею сторон": следовательно, свободная воля составляет единственное определяющее их начало, источник и конец всех договорных отношений. Закон устанавливает только безразличную форму, которая пригодна для всех целей. Купля, наем, заем, одинаково могут служить и потребностям оборота, и целям человеколюбия, и мотовству и разврату. Видеть в этих формальных актах выражение нравственной идеи значит играть словами.
Но из того, что обязательная сила и содержание договора зависят от свободной воли сторон, вовсе не следует, чтобы всякий договор, каково бы ни было его содержание, даже самое пустое и нелепое, сделался через это равно обязательным, как уверяет Шталь. Юридическая свобода имеет свои границы, а в договоре эти границы еще теснее, нежели в личных действиях и в праве собственности, ибо тут требуется содействие власти для принуждения другого лица. Власть, к которой взывают стороны, вправе требовать, чтобы ее призывали для серьезного дела, а не для пустой и праздной прихоти. Юридическая свобода, которая лежит в основании договора, есть свобода разумная. Прихоти предоставляется полный простор, но она не может юридически связывать ни себя, ни другого. Конечно, и за имущественным договором может скрываться чистая прихоть, так же как может скрываться безнравственная цель; но ни та, ни другая не составляет содержания договора, которое состоит в имущественной сделке. Закон же ограничивается этим формальным содержанием, не спрашивая о цели, которой оно служит.
Эти возражения имеют силу и против Иеринга, который, сообразно с своею теориею права, пытается и договор свести к началу цели, однако не нравственной, а чисто практической. "Ввиду этой практической необходимости обязательной силы договоров, — говорит он, — едва можно понять, каким образом естественно-правовое учение могло видеть в этом вопросе в высшей степени трудную задачу, для разрешения которой одни напрягали величайшие усилия, а другие отчаивались в возможности разрешения". Иеринг объясняет эти затруднения тем, что философия права, совершенно упуская из виду начало цели и значение обещания для оборота, хотела вывести обязательную силу договоров чисто из природы воли, но не воли, полагающей себе известные цели и избирающей для этого средства, а воли изменчивой, которая в следующий момент забыла, чего она хотела в предыдущий. С этой атомистической, или психологической точки зрения, говорит Иеринг, конечно, невозможно понять, почему тот же самый человек, который сегодня хочет одного, не может завтра хотеть другого; но именно эта точка зрения совершенно ложная, ибо вопрос тут не психологический, а практически-юридический; он заключается не в том, что воля сама по себе может сделать, а в том, что она должна сделать, если она хочет достигнуть своей цели[76].
Из предыдущего изложения видно, до какой степени справедлив упрек, который Иеринг делает философии права. Только полное незнакомство с учениями философов объясняет подобное суждение. Этим же объясняется и то, что давно известная теория практической пользы, которую мы видели у Юма и у Бентама, выдается за нечто новое. Непонятно только, каким образом юрист может эту теорию называть практически-юридическою, тогда как она именно практическими юристами не признается. "Юрист, — говорит в другом месте Иеринг, — определяет договор как соглашение двух лиц. С юридической точки зрения это совершенно верно, ибо связующий момент договора лежит в воле. Но для нас, которые во всем этом исследовании имеем в виду не волю как таковую, а определяющий ее момент, цель, дело принимает иной, и, как я полагаю, более поучительный оборот" (стр. 77). Для нас значит для социал-политики; но поучительна здесь только та путаница понятий, которая порождается этою точкою зрения. С одной стороны признается, что юристы правы, когда они обязывающее начало договора видят в воле, с другой стороны утверждается, что обязательная сила договора заключается вовсе не в воле, а в цели. Вопрос, говорит Иеринг, "заключается не в том, что воля может делать, а в том, что она должна делать, если она хочет достигнуть в мире своей цели". А если она не хочет? если она находит, что та цель, которую она ставила себе вчера, не соответствует истинным ее интересам? Во имя чего станете вы ее принуждать? Во имя собственной ее цели? Но ведь это нелепо. Каждый сам судья своих целей. Разрешать вопрос таким образом значит просто не понять, в чем дело. Тогда, конечно, приходится удивляться, почему другие находят в нем затруднения. По-видимому, сам Иеринг смутно чувствует, что с одною практическою целью ничего не поделаешь. Поэтому он практическую цель возводит на степень общественной и исторической цели. "Свою цель, — продолжает он, — это не значит все, что она, то есть воля, может себе мысленно предположить, даже самое нелепое и бессмысленное, а цель, которая ей положена и ограничена тем миром, в котором она действует, то есть историческим устройством этого мира. И как нет отвлеченного, вечно себе равного мира, так нет и отвлеченной формулы для обязательной силы договоров; но с изменением мира, то есть общества и его целей, изменяется и самое договорное право. Отвечать отвлеченно на этот вопрос ничем не лучше, нежели дать отвлеченный ответ на вопрос о наилучшем правлении; и договорное право и государственное устройство суть исторические факты, которые можно понять только в связи с историею. Вследствие того что естественно-правовое учение покинуло твердую почву истории и хотело отвечать на вопрос, исходя из существа атомистической воли, отрешенной от всякого общества и от истории, оно лишило себя возможности решения; утверждало ли оно или отрицало обязательную силу договоров, и то и другое было равно ложно, ибо находилось в резком противоречии с действительным миром, который не может ни безусловно утверждать, ни безусловно отрицать этот вопрос, но может отвечать на него только сообразно с целями, которые он в данное время понимает и преследует" (стр. 265–266).
Мы совершенно недоумеваем, читая эти строки. Что значит цель, которая лицу полагается миром? Значит ли это, что она становится для него обязательною? Тогда возникает вопрос: в силу чего общественная цель, в договорных отношениях, может сделаться обязательною для лица? Этот вопрос имеет чисто теоретическое значение, помимо всяких исторических данных. Если же, что вероятнее, автор хотел только сказать, что лицу предоставляется на волю преследовать или не преследовать всякая цели, какие существуют в данном обществе, то опять возникает вопрос: в силу чего действия, предоставленные свободе, могут сделаться обязательными? И этот вопрос имеет чисто теоретическое, то есть безусловно общее значение; он относится ко всяким договорам, каковы бы ни были их цели. Ставить его на историческую почву значит опять не понять, в чем дело.
В доказательство своей теории Иеринг ссылается на историю римского права, которое, по его уверению, победоносно подтверждает его взгляд. В древнейшем праве простое обещание не дает права иска: обязательная сила договора основывается единственно на получении от другого какой-нибудь материальной вещи, и в первые времена эта передача должна быть обоюдная. Затем к этому двустороннему вещному договору присоединяется односторонний вещный, который еще позднее переходит в фиктивное действие; далее признается обязательная сила обоюдного соглашения, а наконец допускается и обязательная сила одностороннего обещания.
Какой же смысл этого процесса? Сам Иеринг объясняет его нам в своем "Духе римского права". Он состоит в постепенном отрешении юридического мышления от чувственного элемента. "Чувственность, — говорит Иеринг, — составляет предшествующую ступень духовности. Всякое первоначальное мышление отдельных лиц и народов погружено в чувственность; дух освобождается от внешнего явления только через то, что он некоторое время был к нему привязан и в нем прошел предварительную школу отвлеченного мышления. Этому естественному закону, который подтверждается во всех областях человеческого мышления и знания, разумеется, подчиняется и право. — Но, спросят, разве самое существо права этому не противоречит? Ведь оно состоит именно в отторжении от конкретного, внешнего явления, в отвлечении; всякое понятие, всякое юридическое положение содержит в себе отвлечение, нечто общее, отрешающееся от особенного. Несомненно; тем не менее и здесь открывается чувственности широкое поприще", с одной стороны в формах, представляющих способы осуществления права, с другой стороны в самом содержании, которое на первых порах неспособно еще отрешиться от материальных явлений. Отсюда материализм и формализм, которые составляют отличительные признаки первобытного права. Но так как эта чувственная оболочка противоречит существу права, то последнее борется с нею и постепенно от нее отрешается, с тем чтобы стать наконец тем, что оно есть в себе самом. "Я думаю, — говорит Иеринг, — не будет слишком смело утверждать, что право есть та область, в которой человеческий дух, по необходимости, ранее всего возвысился к отвлечению". В римском праве этот процесс особенно очевиден в обязательствах. "Ни на каком отношении, — говорит Иеринг, — спиритуализм позднейшего римского права не обнаруживается до такой степени, как на обязательстве. Оно в обе стороны освободилось от вещи: для него не нужно вещественной передачи, ни как основания, ни как предмета обязанности, и новейший оборот действует с этим невидимым объектом так же легко и верно, как старый с материальною вещью"[77].
Итак, вот смысл исторического развития договорного права. Что этот исторический процесс происходит не в чистой мысли, а в связи с жизнью, под влиянием практических потребностей, в этом нет сомнения; но в чем же проявляется действие этих потребностей? В умножении определений? В указании человеку все новых целей? Ничуть не бывало: в большем и большем расширении свободы. Право удовлетворяет практическим целям, не воспринимая их в себя, не делая их обязательными, а делая их доступными свободе человека, снимая с последней все стесняющие ее формальные и материальные преграды. И этого оно достигает, развивая собственную свою сущность, отрешаясь от всяких материальных явлений и возвышаясь в область чистого отвлечения. Результатом означенного процесса является определение римских юристов: "договор есть соглашение двух или многих лиц на счет тождественного решения" (Est autem pactio duorum pluriumve in idem placitum consensus). В этом определении, как видно, совершенно устранено понятие цели, и когда, развивая это начало, римские юристы приходят наконец к понятию об обязательной силе даже одностороннего обещания, и когда это достигшее полного одухотворения начало переходит и в новые законодательства, и мы читаем, например, во французском Гражданском Кодексе: "обязательство выдать вещь совершенно, в силу одного согласия сторон" (ст. 1138), то должны ли мы эти определения рассматривать как выражения временной исторической цели, налагаемой обществом на лица? Очевидно, в них нет ничего подобного. Историческое развитие договоров представляет тот же самый процесс, который мы видели в развитии личной свободы и собственности, именно, постепенное расширение свободы, которая скидывает с себя все узы и является наконец владычествующим началом в договорах, так же как и в собственности. Отсюда общепринятые постановления: "договоры составляют закон для тех, кто их заключил" (Фр. Гр. Код., ст. 1134) или: в толковании договоров "надобно исследовать, каково было общее намерение договаривающихся сторон" (ст. 1156). Ссылка Иеринга доказывает, следовательно, совершенно противоположное тому, что он хотел доказать.
Но мы не кончили еще с началом цели. В новейшее время пытаются ввести его в определение договора и с чисто юридической точки зрения. Тут уже цель понимается не как высшее нравственное начало, которому лицо обязательно должно служить, и не как практическая потребность данного общества в данное время, а чисто как личный интерес кредитора: цель обязательства состоит в удовлетворении кредитора. Такова теория, которую развивает Гартман в своем сочинении "Обязательство" (Die Obligation).
Гартман только отчасти соглашается с мнением Иеринга, который существо всякого субъективного права полагает в цели, а не в воле. В собственности, говорит он, цели остаются вне юридической сферы; по своему понятию, собственность есть чистая, отвлеченная принадлежность вещи лицу. Но в обязательстве цель неизбежно входит в самое понятие, ибо всякое обязательство относится к будущему, следовательно к известной цели. Эта цель достигается исполнением; обязательное же действие есть не более как средство, которое поэтому может быть заменено всяким другим (стр. 44, 37).
С этой точки зрения, Гартман восстает против господствующего в правоведении понятия об обязательстве, как праве на действие другого лица. Против этого он приводит, что действие лица тут вовсе не существенно, ибо, в случае неисполнения, кредитор удовлетворяется действием суда. Он может быть удовлетворен даже из никому еще не принадлежащего наследства. Обязательство может также быть разделено между несколькими наследниками, тогда как действие, по существу своему, нераздельно. Из всего этого ясно, заключает Гартман, что дело вовсе не в действии, а в том, что этим действием достигается, именно, в удовлетворении частного интереса кредитора (стр. 33–37). Этим только объясняются и юридические отношения, возникающие из уплаты долга поручителем, именно, уничтожение долга в отношении к главному кредитору и возникновение нового долга в отношении к поручителю. Юристы, для объяснения этого перехода, прибегают к понятию об уступке права; но такая уступка не что иное как фикция. Другие, для разрешения этой задачи, принуждены прибегнуть к воле законодателя. Между тем истинное объяснение заключается в том, что хотя и удовлетворен интерес главного кредитора, но остается неудовлетворенным интерес поручителя, которому, вследствие этого, закон предоставляет право иска против должника (стр. 46–51).
Не за всяким, однако, заключающимся в обязательстве частным интересом Гартман признает юридически характер. "Под этим, — говорит он, — не разумеется чисто фактический интерес, который тоже, в дальнейшем порядке, лежит в основании обязательства, но которым не определяется содержание юридического его понятия. Иными словами: для существования обязательства юридически безразлична судьба особых дальнейших практических целей, которые кредитор имел в виду при установлении этого индивидуального обязательства. Если, например, обязательство имеет непосредственною юридическою целью доставление вещей с специальною полезностью, то юридический порядок, раз что кредитор воспользовался правом требования, не имеет уже никакого повода контролировать, извлекает ли он субъективно для своих особенных действительных отношений дальнейшую пользу из того, что он получил. Такое исследование и такой контроль заключали бы в себе совершенно невыносимую, неисполнимую и бесполезную систему опеки. Достаточно, если основанием обязательства служит интерес, который, по своей общей объективной природе, заслуживает и требует защиты" (стр. 53–54).
Итак, мы имеем двоякого рода цели и интересы, связанные с обязательствами, одни — фактические, до которых праву нет дела, другие с юридическим характером, которые правом защищаются. Какая же разница между теми и другими? Сказать, что одни интересы и цели имеют субъективный, а другие объективный характер, как делает Гартман, ровно ничего не значит. Всякий интерес остается субъективным, пока он касается только одного лица, и становится объективным, как скоро он касается других. Пользование вещью не подлежит юридическим определениям, пока ею пользуется хозяин, но оно становится предметом обязательных отношений, как скоро оно предоставляется другому. В силу чего же фактический интерес переходит в юридический? На это отвечает сам Гартман: надобно чтобы "через особое юридическое основание, вытекающее из частного права (обязывающее действие), цель индивидуализировалась и полагалась, как долженствующая быть достигнутою юридическим порядком" (стр. 117). То есть вся сила не в цели, а в обязательстве. Вследствие этого сам Гартман признает, не только что обязывающее действие входит во всякое обязательство (там же), но и то, что оно составляет самую его субстанцию. "Эта субстанция, — говорит он, — есть только конкретно основанное и каким-нибудь юридическим способом обеспеченное должное (Soil), обращенное на достижение наперед установленной цели… Этой обязанности должника, продолжает Гартман, соответствует, как необходимое восполнение, более или менее сильная или слабая власть верителя, которая, в своем направлении на данную цель, составляет требование. Должное прежде всего принимает образ обязанности, ибо оно обращается к воле и самоопределению должника. Когда говорят, что лицо обязано, то этим, без сомнения, прежде всего и преимущественно высказывается, что от этого лица ожидают того образа действия, который способен вести к достижению цели обязательства" (стр. 161–162).
Кому же обязан должник? Очевидно, кредитору, которому и принадлежит право требовать исполнения обязательства. Но что же все это означает, как не право на действие другого лица, то есть то самое, что отвергалось Гартманом? Ничего другого в обязательстве и не заключается. При этом вовсе не нужно, чтобы действие было непременно исполнено самим обязанным лицом. Сам Гартман признает, что замена действия малолетнего или сумасшедшего действием опекуна юридически оправдывается (стр. 31); почему же он не допускает замены действия обязанного лица действием власти? Как скоро обязательство не исполнено, так необходимо наступает принуждение со стороны власти. Принуждение может быть обращено на самое лицо должника, например отдачею его в заработки или заключением его в тюрьму, или же, что гораздо проще и одно совместно с свободою, власть налагает руку на его имущество и сама делает то, что обязан был сделать должник, то есть либо уплачивает долг, либо дает денежное вознаграждение кредитору. Принудительные способы исполнения не изменяют сущности обязательства, которое состоит в праве на действие другого лица; принуждение имеет в виду именно восполнить недостаток этого действия. То же самое относится и к уплате долга из наследства. Всего менее понятно, почему с общепринятой точки зрения не может быть допущено разделение обязательства между несколькими наследниками. Нет ни малейшей причины, почему бы действие было признано по существу своему неделимым. Иногда оно, напротив, по самой своей природе, делится на отдельные моменты. Если я, например, обязался построить дом или давать уроки, то я никак не могу сделать это в один раз. В других случаях, то или другое может быть выбрано по произволу: если я обязался заплатить сто рублей, то я могу сделать это и зараз и в несколько приемов. Наконец, относительно уплаты долга поручителем, вовсе не нужно прибегать к понятию об удовлетворении интереса; достаточно понятий о праве и обязанности. Право кредитора погашается уплатою; но обязанность должника не уничтожилась, ибо он не уплатил. Оно обращается только к другому лицу, которое в отношении к кредитору стало на место должника, уплативши долг, а в отношении к должнику становится теперь на место кредитора в силу этой самой уплаты. Основание здесь не интерес, а известное юридическое действие, порождающее права и обязанности.
Таким образом, во всех этих возникающих из обязательств отношениях нет ни малейшей нужды прибегать к понятиям цели и интереса. Это — фактическая область, которая остается вне юридических определений. Интерес и цель тогда только получают юридический характер, когда они становятся правом. Вся задача юридического порядка состоит в удовлетворении права. Интерес должника может быть гораздо значительнее, нежели интерес кредитора; но он не принимается в расчет юридическим законом, ибо право на стороне кредитора. Конечно, если под именем цели разуметь самое исполнение обязательства, то есть удовлетворение права, то оно, без сомнения, составляет существенный элемент всякого обязательства: обязательство и есть обязательство, потому что оно должно быть исполнено. Это — чисто тавтологическое положение, которого никто не отрицает. Но здесь цель определяется правом, а не наоборот. Если же под именем цели разуметь, как и следует, не это чисто формальное начало, а ту пользу, которую имеют в виду стороны при заключении договора, то она входит в обязательство лишь на столько, на сколько она выражается в устанавливаемых волею сторон правах и обязанностях. Сама по себе цель может даже вовсе не быть выражена. Нередко она состоит не в удовлетворении интереса кредитора, а напротив, в удовлетворении интереса должника. Так например, заем заключается потому, что деньги нужны должнику; со стороны кредитора это может быть просто одолжением. Но должник обязан возвратить деньги, потому что он взял чужое. Таким образом, для определения существа договора совершенно достаточно понятий о праве и о соответствующей ему обязанности; цель же может быть нужна только для ближайшего уяснения воли сторон, составляющей источник юридического отношения.
Результат всего предыдущего исследования состоит в том, что договор есть выражение свободы. Права и обязанности, составляющие его содержание, установляются и определяются свободною волею лиц. Поэтому всякое свободное лицо, располагающее собою и своими средствами, имеет право заключать договоры по своему усмотрению. Только для неполноправных требуется чужое согласие, ибо в них не предполагается свободная и разумная воля. Малолетние и безумные заменяются опекуном; договоры несовершеннолетних недействительны без согласия попечителя. Там, где женщины признаются неполноправными, и для них требуется утверждение опекуна. Иногда, в видах ограждения имущества детей, установляется опека над расточителями. Но все это не более как изъятие из общего порядка. Относительно лиц полноправных, в которых всегда предполагается свободная и разумная воля, свобода договоров составляет коренное юридическое правило, вытекающее из самого понятия о свободе лица.
Но если договоры имеют юридическое значение, как выражение свободной воли лиц, то обстоятельства, нарушающие свободу, тем самым уничтожают обязательную силу договоров. Правоведение издавна занималось определением этих отрицательных причин. Таковы насилие, обман, заблуждение. Со времени римских юристов, на этот счет установились более или менее однообразные понятия, хотя в приложении их могут встречаться значительные затруднения.
Насилие и обман суть беззаконные действия чужой воли, вынуждающей обязательство посредством страха или ложного представления. Нет сомнения, что они составляют совершенно основательные причины для уничтожения обязательной силы договоров; но надобно в каждом данном случае доказать, что ими действительно нарушена свобода воли. Поэтому требуется, чтобы страх был не пустой, а такой, который бы мог быть ощущаем разумным человеком, по учению римских юристов даже человеком самым твердым (поп vani hominis, sed qui merito et in hominem constantissimum cadat). Требуется, чтобы был страх настоящего зла, а не будущего, или возможного. Как скоро воля человека признается способною быть источником юридических отношений, так в ней предполагаются известные качества, отсутствие которых вредит человеку, но не может служить поводом к уничтожению приобретенного другим права.
Точно так же и относительно обмана, надобно различать настоящий обман от такого преследования собственной выгоды, которое хотя и клонится к ущербу другого лица, но не посягает на свободное его решение. Римские юристы прямо признавали, что "в цене купли и продажи договаривающимся естественно дозволено обходить друг друга" (in pretio erntionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire). Только в конце Империи дозволено было продавцу недвижимого имущества требовать уничтожения договора или доплаты, в случае если бы он продал его ниже половины ходячей цены. Это постановление перешло и в некоторые новые законодательства. Редакторы французского Гражданского Кодекса подводили такого рода договор под понятие об обмане[78].
Но другие законодательства подобного права за продавцом не признают. Что же касается до заблуждения, то здесь уже причина лежит не в чужой, а в собственной воле. Очевидно однако, что обязательство не может быть признано выражением моей воли, если я хотел не этого, а совсем другого, то есть если выражение воли не совпадает с действительною волею[79]. Но и тут необходимо, чтобы ошибка была фактическая, чтобы она была доказана, и чтобы она не происходила от моей вины. Иначе никакие обязательства не будут иметь прочности.
Из всего этого видно, что юристы издавна старались определить, насколько это позволяет самое существо дела, причины, нарушающие свободу человека. Но им не приходило в голову причислять к этим причинам внешние материальные обстоятельства, которые могут побудить человека заключить более или менее невыгодную для него сделку. Договор, как юридическое начало, есть формальная рамка для выражения человеческой воли. Задача законодательства заключается в том, чтобы эта рамка была достаточно широка для вмещения добровольных отношений всякого рода. Но содержание в эту рамку влагается волею сторон, и те побуждения, которыми при этом руководствуются лица, определяются ими самими, а не законом. В этом именно и состоит свобода. Эти побуждения могут быть столь же разнообразны, как разнообразна самая жизнь. Всякий договор заключается ввиду известной потребности. Эта потребность может быть больше или меньше; она может состоять в простой прихоти или в гнетущей нужде. До всего этого юридическому закону нет дела; он требует только, чтобы эти обстоятельства взвешивались самим договаривающимся лицом и чтобы решение вытекало из его собственной, а не из чужой воли. Как скоро эти условия существуют, договор может и должен быть признан свободным, ибо он составляет выражение собственного решения человека.
Между тем социалисты вопиют, что устанавливаемая правом свобода договоров есть свобода мнимая. Они утверждают, что договор рабочего с хозяином не может считаться свободным, так как хозяин, имея собственность, всегда может притеснять рабочего, а последний под влиянием нужды принужден согласиться на все условия. И не у одних рабочих отрицается свобода. "Торговля, — говорит Прудон, — существует только между свободными людьми: при иных условиях может быть сделка, совершенная с помощью насилия и обмана, но нет торговли. Свободен человек, который пользуется своим разумом и своими способностями, который не ослеплен страстью, не находится под влиянием страха, не обманут ложным мнением… Крестьянин, нанимающий землю, промышленник, который занимает капиталы, плательщик податей, который платит провозные пошлины, соляной акциз, патентный сбор, личные и имущественные налоги и проч., а также и депутата, который за эти налоги подает свой голос, не имеют ни разумения, ни свободы действия. Враги их суть собственники, капиталисты, правительство. Возвратите людям свободу, осветите их разум, так чтобы они знали смысл своих договоров, и вы увидите, что полнейшее равенство будет царствовать в мене, без всякого внимания к превосходству талантов и знания"[80]. Последнее приводится как доказательство, что талант должен быть вознагражден единственно по времени работы и не имеет права требовать себе чего-нибудь лишнего. Всякий договор, в котором не признается это начало, по мнению Прудона, не свободен. Очевидно, что с этой точки зрения свободными должны считаться только люди, разделяющие мнения Прудона.
Социалисты кафедры и социал-политики повторяют эти возгласы. Юридический порядок, а равно экономическая теория и практика, говорит Адольф Вагнер, в вопросе о распределении народного богатства пробавляются системою свободных договоров. Но это значит не развязать, а разрубить узел, ибо собственность и наследство признаются уже существующими, и эта существующая собственность составляет основание условий, при которых приобретается новая собственность. "Свобода договоров, заключаемых на этом основании, оказывается с самого начала фикциею", ибо доля каждого в этой "системе мнимо-свободных договоров" зависит от всякого рода случайностей[81].
Итак, если я нанимаю, например, повара, то договор несвободен, потому что я владелец дома, может быть даже полученного по наследству, а он имеет только свои руки и свое умение! Когда сорок лет тому назад Прудон объявил, что собственность есть воровство, это было принято, как и следовало, за парадокс софиста, любившего щеголять громкими фразами. Но теперь уже мы дожили до того, что профессор, занимающий одну из важнейших кафедр в Германии, в учебнике, назначенном для руководства юношества, провозглашает, что существование чужой собственности есть рабство и насилие. Мудрено ли, что социализм принял такое ужасающее развитие в Германии? Когда хаос царствует в умах, чего же ожидать в общественном быте?
Но если существование чужой собственности делает свободу мнимою, то в чем же состоит, по мнению Вагнера, истинная свобода? "Личная свобода вообще и свобода договоров в особенности, — говорит Вагнер, — должна получать содержание, объем, а потому и границы, смотря по потребностям общества" (стр. 305). То есть человек должен преследовать не свои цели, а общественные; он должен не сам решать, что и как ему делать, а следовать предписаниям общества; одним словом, истинная свобода, по мнению Вагнера, состоит в том, что человек из самостоятельного лица становится орудием общества. Все, от мала до велика, должны быть объявлены неполноправными и поставлены под общественную опеку. Нельзя не сказать, что подобное мнение совершенно последовательно: когда в свободе видишь порабощение, то естественно в порабощении видеть свободу.
Но при таком взгляде не надобно уже говорить о свободе труда, в том смысле как это слово понимается обыкновенно людьми; ибо свободным трудом называется тот, который основан на свободном договоре. Очевидно, что если свободный договор есть фикция, то и свободного труда на свете не существует. Это и признают последовательные социалисты, которые в существующих договорных отношениях видят только видоизменение рабства. Но Вагнер преспокойно, вслед за экономистами, распространяется о выгодах свободного труда и показывает постепенное его историческое развитие в современных обществах (§ 210–215). Мало того: он признает даже, что при существующем порядке собственности не только хозяева могут притеснять рабочих, но и наоборот, рабочие могут притеснять хозяев (стр. 547, 550), из чего явствует, что существующий порядок собственности не лишает рабочих свободы. Таким образом, все эти громкие фразы о мнимо-свободных договорах оказываются не более как пустою риторикою.
В действительности цена находящихся в обращении предметов, в том числе и труда, зависит от тысячи разных обстоятельств, вследствие которых она то повышается, то понижается. Купец может быть принужден продать свой товар крайне для себя невыгодно; но это не лишает его свободы, ибо свобода не делает человека независимым от внешних обстоятельств. Такой свободы в действительности не существует. Человек всегда находится в зависимости от окружающего мира; тем не менее, он остается свободным, если он, соображая обстоятельства, взвешивая свои нужды и средства, решает сам, а не другой за него. Свобода состоит в независимости от чужой воли и вправе определяться на основании собственного, внутреннего решения. Если при заключении договора другое лицо ограничивается предложением своих условий, не употребляя против меня ни принуждения, ни обмана, и если притом я знаю, что я делаю это, а не другое, то моя свобода остается ненарушимою, ибо я, с своей стороны, не имею права навязать свои условия другому: это было бы нарушением его свободы.
Всего менее требуется, чтобы имущественное или общественное положение договаривающихся сторон было одинаково, как хотят социалисты кафедры. Подобное требование было бы равносильно уничтожению всех договоров. Люди вступают в обоюдные сделки, именно потому что положение их не одинаковое, и они вследствие того, нуждаются друг в друге. Заем заключается, потому что у одного есть деньги, а у другого их нет; наем, потому что у одного есть дом, а другой ищет квартиры, или у одного есть рабочие руки и умение, а другой нуждается в том и другом. Во всех этих случаях договор считается состоявшимся, как скоро обе воли, каждая на основании своего собственного решения, согласны, под влиянием каких бы условий ни совершилась сделка. Можно пожалеть о человеке, который, под гнетом внешних обстоятельств, принужден продать свое имущество или свой труд за бесценок; но нельзя, иначе как метафорически, считать его несвободным. Самая невыгодная сделка может быть для него выгоднее, нежели разорение или голодная смерть, и он с радостью может за нее ухватиться. Замена же добровольных сделок общественною опекою есть не водворение, а уничтожение свободы. К этому именно ведут социализм и социал-политика.
Итак, все социалистические толки о мнимой свободе договоров при существующем юридическом порядке должны быть признаны пустою декламациею. Свобода состоит в праве располагать собою и своими средствами независимо от чужой воли и чужого авторитета. Это и есть то понятие, которое принято правоведением и проведено в договорном праве. Иного понятия нет и не может быть, ибо оно вытекает из самого существа дела. Поэтому невозможно видеть в существующем договорном праве только временное и случайное явление, историческую категорию, как выражается Адольф Вагнер, подражая Лассалю. Как чистое выражение свободы, существующее договорное право развивалось вместе с свободою и может пасть только вместе с свободою. Выше было доказано, что в будущем следует ожидать расширения, а не стеснения свободы. Всего более это прилагается к договорному праву, ибо священнейшая свобода человека состоит в праве распоряжаться тем, что ему всего ближе, своими действиями и своими средствами. Это и есть основание промышленного оборота.
Против такого взгляда социалисты возражают, что в обороте свобода должна руководствоваться правдою, которая составляет основное юридическое начало; правда же требует, чтобы при обмене равное давалось за равное, так чтобы никто не получал выгоды в ущерб другому. "Торговля, — говорит Прудон, — означает мену равных ценностей; ибо, если ценности не равны, и обиженная сторона это замечает, она не согласится на обмен, и торговли не будет… Таким образом, во всякой мене заключается нравственная обязанность, чтобы один из договаривающихся ничего не выиграл в ущерб другому; то есть торговля для того, чтобы быть законною и истинною, должна быть изъята от всякого неравенства; это — первое ее условие" (Qu'est ce que la propriete, ch. HI, § 7).
В чем же состоит равенство обмена? Где тут мерило? По теории Прудона, ценность вещи определяется суммою времени и издержек, на нее потраченных; поэтому, справедливою меною может считаться лишь та, в которой меняются вещи, стоившие одинаковое количество времени и издержек (там же). Ниже мы разберем эту теорию с экономической стороны и увидим всю ее несостоятельность; здесь мы взглянем на нее с точки зрения юридической.
Точно ли договаривающаяся сторона не согласится на обмен, если она видит, что приобретаемая ею вещь стоила меньше времени и издержек, нежели та, которую она дает взамен? Возьмем сначала покупателя. Чем определяется для него цена, которую он может дать за вещь? Его потребностями и средствами, и в этом судья только он сам, и никто другой. Поэтому, если вещь никому не нужная или весьма мало нужная стоила дорого, она не найдет покупателя. Никого нельзя заставить купить вещь по цене, превосходящей то, что он готов за нее дать. Но если продавец сделает уступку, может быть найдется покупатель, и такая сделка не будет нарушением справедливости, ибо справедливою меною можно считать только ту, в которой приобретаемое соответствует потребности приобретающего. Сказать же, как делает Прудон, что цена, устанавливаемая мнением, есть "ложь, неправда и воровство", значит признать, что вещь, никому не нужная, может иметь громадную цену. Кого же закон заставит ее покупать?
Наоборот, если вещь мне нужна и я имею средства ее купить, я готов дать за нее даже больше того, что она стоила продавцу, "Что стоит алмаз, который быль найден на песке? — спрашивает Прудон. — Ничего; это не произведение человека — Что будет он стоить, когда он будет ошлифован и оправлен? — Время и издержки, потраченные на него работником. — Отчего же он продается так дорого? — Оттого, что люди не свободны". Надобно отвечать, напротив, что он стоит дорого, именно оттого что люди свободны, и каждый волен давать за него то, что хочет, если только у него есть средства. И тут справедливость цены состоит в том, что она соответствует потребности покупателя.
С своей стороны продавец, точно так же в силу своей свободы, может просить цену большую или меньшую против стоимости вещи. Когда Прудон утверждает, что он не согласится на сделку, как скоро обмен не равен, то этому противоречит ежедневный опыт. Купец весьма охотно продает за полцены вещь, вышедшую из употребления, лишь бы она не осталась у него на руках. Скажем ли мы, что в этом случае сделка несправедлива, хотя она удовлетворяет обе стороны? Это значило бы считать справедливость не духовным, а материальным началом, признать, что она относится не к людям, а единственно к вещам. Если бы закон вздумал запрещать подобный обмен, то сделка вовсе не состоится: продавец останется с своим никому не нужным товаром, а покупатель принужден будет удовлетворять своей потребности иным, более дорогим для него путем. Но предоставьте дело свободе, и сделка состоится к удовольствию обеих сторон.
Точно так же мы ежедневно видим, что при упадке цен, вследствие уменьшения спроса или усиленного подвоза, купец продает свой товар в убыток, вместо того чтобы выжидать нового поднятия цен. Относительно товаров, подверженных порче, это даже необходимо. Если бы купец не имел права продавать их по уменьшенной цене, он лишился бы всего. Но и относительно других товаров он может находить более выгодным выручить деньги и начать новую операцию, нежели сидеть в ожидании неизвестного будущего. И тут расчет зависит исключительно от него и ни от кого другого. Закон, который воспретил бы ему продавать свой товар ниже известной цены, не только бы уничтожил его свободу, но и привел бы его к разорению.
Если же невозможно воспретить купцу продавать в убыток, то столь же невозможно воспретить ему продавать с барышом. Одно восполняется другим, и если он подчас терпит убыток, то он вознаграждает себя тем, что он иногда получает чрезвычайный барыш. Это одно, что дает ему возможность вести дело. И тут вес зависит от собственного его расчета и от собственной его деятельности. Закон, который не ограждал бы его от убытков, но запрещал бы ему получать чрезвычайный барыш, опять же не только бы уничтожил его свободу, но нарушил бы относительно его всякую справедливость и привел бы его к разорению.
Итак, требуемое Прудоном равенство мены, на основании потраченного времени и издержек, не совместно ни с свободою, ни с справедливостью. А как скоро это требование оказывается несостоятельным, так исчезает всякое объективное мерило для определения справедливости сделок. Это признают не только экономисты, но и социалисты кафедры. В особенности это прилагается к договорам рабочих и капиталистов, которыми определяется участие каждого в доходе с производства. "Какая доля в производстве, а потому какая вышина заработной платы и какой размер барыша должны принадлежать каждому отдельному классу и каждому лицу в этом классе, — говорит Адольф Вагнер, — этого нельзя сказать вообще. Во всяком случае, ни одна из этих доль не составляет нечто постоянное". При всем том Вагнер не соглашается с тем, что справедливость удовлетворяется системою "свободных" договоров. Это значит, по его мнению, отделываться словами; ибо именно при такой системе всего более возможно притеснение одних другими. "Конечно, — продолжает он, — об этом можно судить только на основании неопределенного мерила справедливой оценки. Но и тут следует сказать, что при всей неверности суждения в отдельном случае, вообще можно установить правильное суждение для средних отношений, и этого достаточно" (Grundlegung, стр. 549).
Из чего же могут быть выведены эти средние отношения? Опять же из свободных сделок, ибо иного мерила нет. Из бесчисленного множества сделок, колеблющихся в ту или в другую сторону, вырабатывается наконец средняя, более или менее твердая цифра, которая служит мерилом цены, то есть отношения существующей потребности к существующему удовлетворению. Это и признают юристы, когда они говорят о справедливой цене: справедливая цена есть ходячая цена[82]. С нею сравниваются уклонения в обе стороны. Однако и эти уклонения далеко не всегда могут быть признаны нарушающими справедливость, ибо обстоятельства могут быть разные, и оценка их должна быть предоставлена свободе. Всякий договор представляет борьбу противоположных интересов, борьбу, которая разрешается добровольною сделкою. При отсутствии объективного мерила каждый естественно тянет на свою сторону. Которая из них возьмет перевес, это зависит от множества разных обстоятельств, судьею которых опять же могут быть только сами лица. Поэтому здесь свободе необходимо должен быть предоставлен значительный простор[83]. Только крайние случаи, то есть чрезмерные отклонения от ходячей цены, могут считаться нарушением справедливости. Таков признанный некоторыми законодательствами ущерб свыше половины, о котором было упомянуто выше. Сюда же относятся и законы о росте, о которых будет речь ниже. Но и эти крайние случаи могут считаться нарушением справедливости только по сравнению с ходячею ценою, которая сама вырабатывается путем свободы. Следовательно, свобода не только составляет источник и закон договорных отношений, но она же дает и единственное возможное для них мерило справедливости. Указывая на средние отношения, Вагнер признает ту самую свободу сделок, которую он отвергает. Когда же он при этом ссылается на воззрения времени и народа, и даже на совесть отдельных лиц и общества (стр. 542), то он этим доказывает только всю шаткость принятых им оснований. Когда вопрос идет о мериле, то есть о цифрах, непозволительно уходить в туманные общие места. В действительности воззрения времени и народа выражаются именно в добровольных сделках.
Однако и свобода договоров, как всякая другая свобода, имеет свои границы. Первая граница лежит в ней самой. Человек не имеет права отчуждать собственную свободу. Там, где существует рабство, такое отчуждение может быть признано законным. Однако уже в Риме подобный договор считался недействительным. Но отец семейства мог продать в рабство своих детей; должник продавался за долги. В средние века отдача себя в кабалу, даже с потомством, совершалась беспрепятственно. Господствовавшее в средневековом праве начало ничем не связанной свободы здесь, как и везде, вело к самоуничтожению. У нас отдача себя в кабалу была воспрещена в 1781 г., и это был первый признак наступлении нового порядка вещей. В современных законодательствах отчуждение свободы не только безусловно воспрещено, но закон всячески старается оградить свободу человека от условий, могущих ее нарушить.
Основание этих ограничений заключается в том, что свобода, как источник всякого права, не может быть уничтожена тем правом, которое от нее происходит. Свобода составляет самую сущность лица как источника юридических определений; поэтому она неразрывно связана с ним. Отчуждению же подлежит только то, что подвластно лицу и его свободе, то есть отдельные его действия и присвоенные ему вещи. Последние могут быть отчуждаемы всецело, не уничтожая свободы лица; но всецелое отчуждение употребления вещи немыслимо, пока лицо удерживает за собою право собственности, ибо через это последнее превратилось бы в призрак. Поэтому здесь установляются ограничения, охраняющие свободу собственности. Точно так же и всецелое отчуждение действий повлекло бы за собою уничтожение свободы. И тут, следовательно, необходимы ограничения. Человек волен давать другому право на свои действия, но только на известный срок, ибо иначе его свобода уничтожается. По истечении срока он волен опять возобновить договор, продолжая его, пожалуй, до конца жизни, но всегда удерживая за собою возможность прекращения связи. Только этим способом сочетаются сохранение свободы с взаимными обязательствами людей. Этими ограничениями свобода не стесняется, а охраняется.
С другой стороны несомненно, что человек, как свободное лицо, имеет полное право распоряжаться своими действиями по собственному усмотрению. Вследствие этого он может, сохраняя свою свободу, или безвозмездно делать что-нибудь для другого или выговаривать себе за это известную плату. Наем работника не есть продажа самой рабочей силы, как утверждает Карл Маркс[84]. Рабочая сила всецело остается за работником; он продает только известное ее употребление, обязываясь сделать что-нибудь для другого. И в этом нет ничего "бесчестного", как уверяет Родбертус, который приходит в негодование от того, что работа продается на рынке как простой товар[85]. Все это опять не что иное как пустая декламация, которою социалисты, по обыкновению, прикрывают отсутствие мысли. Древние считали бесчестным получать плату за работу, потому что они самую материальную работу признавали бесчестною. Но мы, которые в физическом труде видим не бесчестное, а напротив, в высшей степени честное дело, на каком основании можем мы считать бесчестным получать за него вознаграждение? Разве бесчестно делать что-нибудь для другого? Но в таком случае не только весь оборот, но и все человеческие отношения подвергаются осуждению. Всего любопытнее, что к этой декламации прибегают именно те, которые всю ценность произведений определяют положенною в них работою. Продавая свои произведения, работник продает именно свою работу; если это бесчестно, то бесчестны всякие сделки. Работник, нанимающийся в работу, отличается от работника, продающего свои произведения, единственно тем, что первый работает с чужим материалом, а потому не берет вознаграждения за издержанные на покупку материала деньги. Если он работает ссвоими орудиями, он берет вознаграждение и за трату орудий; если же он приносит только свои руки, он берет вознаграждение единственно за употребленное им время и за свое умение. Все это совершенно просто, ясно и законно. Никаких других определений из человеческой свободы нельзя вывести, и всякое право, которое не хочет вдаваться в чистую бессмыслицу, не может сделать иных постановлений.
Вторую границу свободы договоров составляет чужое право. Договор, нарушающий права третьего лица, тем самым не имеет силы. Таковы, например, договоры, заключенные в ущерб кредиторам.
Третью границу составляет общий закон. Если никто не имеет права делать то, что запрещено законом, то без сомнения договоры подобного рода не имеют силы. И тут однако же, так же как и в вопросе о границах личной свободы, необходимо различить законы, определяющие отношения отдельных лиц к целому, и законы, определяющие отношения частных лиц между собою. В первых господствующее начало есть общая польза, а потому определение границ свободы зависит исключительно от усмотрения власти. В последних же господствующее начало есть свобода, а потому всякое полагаемое законом стеснение может быть оправдано только как исключение, в виду особенных обстоятельств. После всего сказанного выше это положение не нуждается в дальнейших доказательствах.
К такого рода исключительным обстоятельствам относится, например, установление монополий. Очевидно, что там, где существует монополия, определение условий и цены не может быть предоставлено свободному соглашению. Если бы правительство, отдавая железную дорогу частной компании, предоставило ей право самой определять условия и цену перевозки, то это значило бы дать ей возможность брать с пассажиров и товароотправителей все, что угодно, не отвечая ни за что. Иногда монополия возникает и в силу фактических обстоятельств, и тем самым вызывается временное вмешательство власти. Тут решение вопроса зависит от данных обстоятельств, а потому безусловного правила установить нельзя; но никогда не надобно забывать, что регламентация промышленных сделок всегда составляет нарушение основного юридического начала. Поэтому она всегда должна считаться не более как исключение и, чем выше гражданский быт, тем менее она может быть допущена.
Иногда государство принуждено бывает вступиться и потому, что целая масса людей не в состоянии исполнить своих обязательств, не по своей вине, а вследствие политических обстоятельств. Так например война, прекращая промышленные занятия и торговлю, тем самым лишает людей возможности исполнить свои обязательства. Вследствие этого издаются временные законы, отсрочивающие исполнение сделок.
Древние государства, в которых частная свобода менее принималась в расчет, прибегали иногда и к более сильным мирам, например к сокращению долгов. Это оправдывалось условиями того времени. Граждане, разоряемые беспрерывными войнами, не могли заняться своими делами; беднейшие входили в неоплатные долги и при строгости долгового права становились рабами кредиторов. С другой стороны, лишившись имущества, они не могли питаться и вольным трудом, для которого, при существовании рабства, не было места. Таким образом, государство принуждено было брать их интересы в свои руки и ограждать их от конечного порабощения. В новое время, взамен этого вторжения государства в область частных отношений, установляется всеобщая свобода, а с другой стороны, от граждан не требуется уже, чтобы они в течение всей своей жизни безвозмездно служили государству. Как свободные люди, они предоставлены самим себе; а это и есть нормальное положение дел, выработанное всем ходом всемирной истории.
Наконец, свобода договоров ограничивается нравственным началом. По общему признанию договор, заключающий в себе условия, противные добрым нравам (contra bonos mores), считается недействительным. Это не означает, что нравственность становится принудительною, чего не возможно было бы допустить. Закон допускает и такие сделки, которые не могут быть одобрены нравственностью, если они не нарушают чужого права; но он не признает их юридически обязательными и отказывается поддерживать их принуждением. Это — дело чистой свободы, а не юридической связи. Так, например, женщина свободна отдаваться, кому хочет, за деньги; но она не может обязаться вступить в незаконное сожительство и не вправе взыскивать плату за блуд. Такого рода обязательства не имеют силы.
С другой стороны, требуя, чтобы условия договора не противоречили нравственности, закон не входит в рассмотрение побуждений договаривающихся лиц. Как бы ни были безнравственны побуждения, закон все-таки поддерживает обязательство, если оно юридически правильно. Так например, вынуждение долга богатым кредитором у бедного должника, без сомнения, противоречит нравственным требованиям, но закон, несмотря на то, признает юридическую силу обязательства и вынуждает уплату долга. Нравственная сторона отношения остается здесь вне пределов закона, который ограничивается одною юридическою областью.
Из числа законов, ограничивающих свободу сделок во имя нравственных требований, самое видное место занимают законы против чрезмерного роста. Опыт удостоверяет, что ростовщичество весьма часто подает повод к притеснениям и злоупотреблениям. Ростовщики пользуются бедственным положением ближних, для того чтобы разорять их вконец, извлекая для себя чрезмерные выгоды из их стесненных обстоятельств. Отсюда тень, которая во все времена падала на этого рода сделки. В средние века всякая отдача денег взаймы за проценты считалась делом безнравственным. Новое время, которое поняло потребности промышленного оборота, пришло в этом отношении к иным воззрениям. Юридически, ссуда за проценты составляет совершенно такую же законную сделку, как и всякий наем: это — плата за пользование ссужаемым предметом. Сперва еще законодательства старались ограничить размер процентов: был установлен предел законного роста. Но в новейшее время и эти ограничения пали: определение высоты процентов было предоставлено обоюдному соглашению. Нет сомнения, однако, что этим открывается полный простор ростовщичеству. Государство принуждено вымогать такой размер процентов, который, очевидно, объясняется только крайнею нуждою должника, следовательно, оно приходит на помощь безнравственной сделке. Избежать этого можно только установлением такого законного размера процентов, который, удовлетворяя всем потребностям оборота, исключал бы, однако, обязательства явно притеснительные. И тут нормою для сравнения должен служить ходячий размер, вырабатывающийся из всей массы свободных сделок, причем необходимо дать простор влиянию изменяющихся обстоятельств. Только крайнее отклонение от нормы может быть признано недействительным.
Против этого возражают, что подобный закон легко обойти; ростовщику стоит только заранее вычесть проценты из ссужаемого капитала. Без сомнения, это возможно; но юридический закон не может иметь в виду уничтожение всех безнравственных сделок. Он отказывает только в своем содействии тем безнравственным условиям, которые обнаруживаются в самом договоре. Как же скоро безнравственное действие выходит из этих пределов, так оно становится недосягаемым для юридического закона. Все, что можно сказать в виду этого легкого обхождения закона, это то, что не стоит устанавливать границу, когда ее так легко обойти. Но тут уже вопрос сводится на точку зрения целесообразности. С правом совместно и то и другое.
Таковы разумные границы свободного соглашения. Идти далее, требовать, чтобы самое содержание договоров определялось законом или утверждалось властью, значит объявить всех граждан несовершеннолетними и поставить их под опеку государства. Утверждать же, что содержание договоров должно определяться не частными интересами, а общественными потребностями, значит заменять личную волю общественною в такой области, которая, по самому существу дела, принадлежит исключительно лицу. Через это человек лишается всякого самостоятельного значения; он становится чистым орудием в руках государства.
Внешним границам договора соответствуют внутренние. В пределах законного соглашения права каждого из договаривающихся лиц ограничиваются правами другой стороны. Поэтому никто, в силу договора, не получает более права, нежели то, которое дается ему обоюдным соглашением. Договор, как уже было сказано выше, составляет закон для обеих сторон; толкуется же этот закон на основании воли договаривающихся лиц.
Отсюда ясно, что обычная тема социалистов, будто рабочему принадлежит большее право на произведение, нежели то, что он получает в виде заработной платы, противоречит коренному юридическому правилу, на котором зиждутся все договоры в мире и без которого всякие сделки становятся невозможными. Работник имеет право единственно на то, что он себе выговорил; он продал свой труд, или свое участие в производстве, за добровольно установленную плату. Большего никакое право не может ему дать.
Точно так же неуместен вопрос: почему, если труд составляет основание собственности, произведения труда принадлежат не тем, кто их производит? Просто потому что одни их продали, а другие купили. Кто продал, тот целиком уступил свое право на вещь и получил взамен ее цену, определяемую опять же обоюдным соглашением. Покупщик, уплативши цену, становится на место первоначального обладателя. Вследствие этого машиною пользуется не тот, кто ее делал, а тот, кто ее купил. Все проистекающие из нее выгоды принадлежат последнему, а не первому. Если цена была положена слишком низкая, то на это была воля продавца; он может пенять только сам на себя. Удивительно, что такие элементарные правила приходится повторять; но что делать, если аргументация социалистов идет вразрез с самыми элементарными и всеми признанными человеческими понятиями? Наконец, в силу того же начала, совершенно несправедливо мнение, будто фермер получает какое бы то ни было право на обрабатываемую им землю. Фермер нанимает землю по добровольному соглашению, а потому имеет только право пользования в пределах этого соглашения. Закон может предоставить ему право требовать возмещения сделанных им затрат: это справедливо, ибо он издержал свое, а не чужое. И тут однако следует поступать с крайнею осторожностью, ибо легко можно нарушить права хозяина. Во всяком случае, закон должен предшествовать соглашению и войти в него как условие сделки, а не прилагаться к сделкам уже совершенным. Но далее этого закон идти не может, не посягая на право собственности и не разрушая самых оснований договорного права. Если бы правительство вздумало дать фермерам или работникам право выкупать, обязательно для владельца, обрабатываемые ими земли, оно вступило бы на путь социализма. Юридически подобной меры оправдать нельзя.
Это правило не прилагается однако к выкупу земель крепостными крестьянами при их освобождении. Тут возникает вопрос совершенно иного рода. Крепостные отношения установились не в силу добровольного соглашения, с сохранением свободы обеих сторон, а в силу закона, который одному лицу предоставлял власть над другим. Разрушая эти вековые отношения, закон может признать несогласным ни с справедливостью, ни с государственною пользою дарование крестьянам одной свободы, без всякого права на ту землю, которую они принудительно обрабатывали в течение веков. Компромисс между правами собственника и правами крепостных поселенцев заключается в обязательном для помещика выкупе известной части земли по справедливой оценке. Это не только юридический, но и политический акт, которым знаменуется переход от рабства к свободе. Этот переход может быть более или менее продолжителен; тут могут быть шаги вперед и назад. Но как скоро это совершилось и обе стороны уравнены в правах, так обоюдные отношения могут определяться единственно свободным договором и ничем другим; это — безусловное требование права. В свободном обществе, при равенстве лиц перед законом, даровать нанимателям право выкупа нанимаемых ими земель значит обирать одних в пользу других и обращать договор в чистую ловушку. Никакое правомерное правительство, при нормальном порядке вещей, не может решиться на такой шаг. Провозглашать подобный принцип может только социалистический деспотизм. Но с водворением социалистического деспотизма наступает конец всякой гражданственности, а вместе и свободе человека. В каком виде этот вопрос представляется с экономической точки зрения, мы увидим далее[86].
Итак, в договоре, так же как и в собственности, свобода составляет источник и мерило всех юридических отношений. Это не временное только явление, не порождение современного индивидуализма, а вечное требование права, которое вытекает из самой природы вещей, а потому составляет движущую пружину всего исторического развития, или, как выражаются философы, идею, развивающуюся в истории человечества. Договор, как мы увидим далее, неприложим к государственным отношениям, где господствует идея целого, владычествующего над частями, но для частных отношений свободных лиц он составляет верховный закон. Вместе с неприкосновенностью собственности ненарушимость договоров образует непоколебимое основание всякого свободного и образованного гражданского быта.
Глава V.НАСЛЕДСТВО
Кроме перехода имущества между живыми лицами в силу договора, собственность переходит и по наследству. Это совершается двояким образом: по завещанию, в силу воли настоящего собственника, и по закону, которыми определяются права остающихся в живых на наследство умершего. В некоторых законодательствах признаются и договоры о наследстве между живыми; но этот третий способ имеет второстепенное, и главным образом, историческое значение. Первые же два истекают из двоякого права, проявляющегося в наследовании имущества: завещание — из права лица распорядиться своим имуществом после смерти, наследование по закону — из определяемого семейным началом права наследников на приобретение этого имущества. Отношением этих двух порядков наследования характеризуются особенности наследственного права у различных народов.
Наследование по закону, по самой природе вещей, предшествует наследованию по завещанию. Мы видели уже, что человеческая личность не вдруг выделяется из патриархальной среды, в которую она первоначально погружена. В первобытные времена имущество считается достоянием не лица, а рода, а так как род не умирает, то оно само собою переходит от одного поколения к другому. С течением времени, с выделением личной собственности из родового имущества, этот порядок переходит в наследование по закону. Лицо имеет уже нечто исключительно ему принадлежащее, но семейные связи все еще властвуют над ним безгранично. Обычай, идущий из поколения в поколение, определять и степени родства и способы перехода имущества; религия же обыкновенно сообщает этому обычаю священный характер. Только мало-помалу личная воля предъявляет свои права и получает больший или меньший простор, сперва относительно движимого имущества, а затем и относительно недвижимого.
В Риме в первый раз наследование по завещанию получило первенствующее значение. В Законах XII таблиц прямо постановлено, что какое распоряжение отец семейства сделает насчет своего имущества, то и признается правом (uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto). Это не значит, однако, что тут личный произвол заменил семейное начало. Причина этого явления была та, что в Риме исключительным представителем семейного начала был отец семейства, которого власть была юридически безгранична и которого воля считалась наиболее способною установить то, что требовалось для блага семьи. Поэтому безграничное право завещания сохранялось, только пока это предположение оправдывалось жизнью, то есть пока власть отца действительно была носительницею нравственных начал и одушевлялась идеею семейного блага. Как же скоро, с упадком нравов, стали проявляться личные цели и личный произвол, так закон начал полагать ограничения воле завещателя. Права наследников получили защиту. Этот смешанный характер наследственного права характеризует позднейший период римской юриспруденции.
Такое же сочетание личного и семейного начала мы находим и у новых народов. Но здесь движение законодательства, следуя общему ходу исторического развития, идет в обратном порядке против того, который мы видели у римлян. Покорившие Римскую Империю германцы находились еще на ступени родового быта. По свидетельству Тацита, завещания были у них неизвестны. Впоследствии остатки родового владения недвижимым имуществом долго еще сохранялись у них в виде присвоенного наследникам права налагать запрет на отчуждение собственности даже живым владельцем. Но при столкновении с римлянами, и в особенности с введением христианства, и у них появляется завещание. Сначала оно имело вид простых домашних распоряжений. Юридическую силу оно получило особенно в отношении к имуществам, которые завещались церкви; но мало-помалу оно было распространено и на другие предметы.
Однако же у германцев свободное распоряжение имуществом после смерти приняло своеобразную форму. Завещание большею частью заменялось договорами о наследстве, которые вошли в употребление уже в самый ранний период средневековой истории. Впоследствии договорное начало получило еще большее развитие: проникая во все сферы общественного быта, оно в значительной степени определяло и наследственное право. Но и тут это расширение личной воли, совокупно с распространением собственности на все общественные отношения, повело к стеснению прав потомков. Наследство перестает быть выражением частного перехода имущества от поколения к поколению; оно становится носителем общественных начал. Так, ленное владение давалось под условием службы, которая должна была оставаться обеспеченною и при переходе имущества к наследникам. Отсюда старание сохранить, в большей или меньшей степени, целость участка; отсюда право первородства и другие своеобразные формы средневекового наследственного права. Такие же ограничения установились и относительно крестьянских участков, которые держались по дворовому праву. Когда же феодальная связь стала слабеть, собственный интерес аристократических владельцев побуждал их путем договоров или завещаний сохранять неприкосновенность имущества в своем роде. Так произошли фидеикоммиссы и субституции. Установилось правило, что воля предков может связывать потомство, правило, которого начало появляется уже во времена Римской Империи, но которое получило особенное развитие в средние века.
В новое время, по мере развития государства, устранено было средневековое смешение частного права с публичным. С воспринятом римского права стали вводиться и римские начала наследования. Однако они не могли совершенно вытеснить средневековые воззрения. Полное приложение римских понятий потому уже было неуместно, что главный источник, из которого истекал римский порядок наследования, власть отца семейства, в новое время не имел того значения, какое он имел в древности. Важнейшее влияние римского права в новое время состояло в замене средневекового порядка наследования равным разделом имущества на правах свободной собственности. Однако и средневековой порядок не исчез совершенно. Он сохранился главным образом в аристократических родах, которых общественное значение поддерживается нераздельностью и неотчуждаемостью принадлежащего им имущества. Различное сочетание этих начал характеризуют общественный быт новых народов.
Во Франции более, нежели где-либо, получили силу римские понятия о равном разделе. Средневековой порядок наследования был совершенно устранен. Однако здесь, в отличие от Рима, господствующею формою является не завещание, а наследование по закону. Между тем как в Риме завещание было правилом, а законным наследникам предоставлялась только известная часть имущества, здесь, наоборот, наследование по закону составляет правило, а завещателю предоставляется только известная часть в его свободное распоряжение. Причина та, что в Риме отец семейства был носителем общественного сознания, проистекавшего из глубины народного духа, тогда как во Франции новые начала наследования водворились революционным путем, в борьбе с старым порядком, вследствие чего законодатель старался устранить личную волю и возможность, путем завещания, поддержать отмененные учреждения.
Большее значение сохранил средневековой порядок в Германии. Здесь не только удержались аристократические фидеикоммиссы, обращающие поземельную собственность в неприкосновенное достояние рода, но доселе еще можно найти остатки нераздельности и неотчуждаемости крестьянских участков. Только новейшее время внесло сюда начало свободы.
В еще более широких размерах удержался средневековой порядок наследования в Англии. Тут он не только успел сочетаться с свободою, но и нашел в ней главную свою опору. Право первородства составляет общий закон государства; но каждому дозволено свободно распорядиться своим имуществом по завещанию, если он не связан завещанием своего предшественника. Завещатель волен определить и будущий порядок наследования, однако не на вечные времена, как в фидеикоммиссах, а только в пределах живущих поколений, и до совершеннолетия имеющего родиться наследника. Таким образом, по истечении известного времени свобода возвращается завещателю. Но в силу господствующих нравов, самая эта свобода ведет постоянно к возобновлению того же порядка. Мы имеем здесь живой пример силы обычая, вытекающей из исторических условий и из свойств народного духа. Это и повело к тому, что свобода завещаний сделалась лозунгом защитников аристократической системы на европейском материке.
В Северной Америке та же свобода повела к совершенно иным явлениям. Здесь право первородства отменено; законом установлен равный раздел между наследниками. Но завещатель не связан ничем; он волен распоряжаться своим имуществом как ему угодно. Индивидуализм достигает здесь крайней своей степени.
У нас, в отличие от германцев, в древности завещание преобладало над наследованием по закону. В Русской Правде мы находим постановление, совершенно напоминающее закон XII таблиц: "Аже кто умирая розделит дом, на том же стояти". Точно так же и по Судебникам, наследование по закону наступает только в случае, если человек умер без духовной грамоты. Весьма вероятно, что этому значению завещания содействовала подсудность дел о наследстве духовенству, которое руководствовалось греко-римскими законами. Это видно из того, что рядом с этим родовое начало, которое обыкновенно влечет за собою наследование по закону, нисколько не утратило своего значения. Оно выражалось в праве выкупа родовых имуществ, которое встречается в памятниках XVI века и которое удержалось до настоящего времени. У нас доселе право завещания родовых имуществ не имеет силы в нисходящей линии и ограничено при наследовании боковых. По недостатку исторических известий, мы не можем сказать, каким образом в древнейшие времена родовое начало мирилось с свободою завещаний; но нет сомнения, что это начало не есть произведение позднейшего развития. Оно всегда и везде идет от глубокой древности. Служебное значение не только поместий, но и вотчин в Московском государстве могло его упрочить, но не оно вызвало его к жизни.
Как бы то ни было, результатом исторического движения человеческих обществ является сочетание обоих начал, соглашение, в той или другой форме, прав собственника с правами наследников. Там, где исстари преобладает завещание, впоследствии развивается наследование по закону, как ограничение личной воли; там же, где преобладает наследование по закону, оно восполняется завещанием.
Посмотрим теперь на философско-юридические основания обоих начал.
Наследственное право, как мы видели, составляет всемирное явление. Оно существует у всех народов. Отсюда уже можно заключить, что оно не установлено человеческим произволом, а вытекает из естественных законов, управляющих преемственностью поколений. Так именно на него смотрели римские юристы. "Естественный разум, — говорит Павел, — как некий молчаливый закон, присваивает детям наследство родителей, как бы призывая их к должному наследованию"[87]. И хотя римское законодательство при жизни отца не давало детям никакого права на отцовское имение, однако Павел в наследовании детей видит как бы вступление их в полноту собственного права. "В своих наследниках (то есть детях), — говорит он, — яснее видно, каким образом продолжение собственности приводит к тому, что кажется, будто бы вовсе не было наследства, но уже и прежде хозяевами были те, которые еще при жизни отца некоторым образом считались хозяевами… Таким образом, после смерти отца, они, по-видимому, не получают наследства, а скорее приобретают свободное управление своим имуществом"[88]. Несмотря на различие народных воззрений, мы видим здесь взгляд, приближающийся к германскому праву. До такой степени естественное начало брало верх, при той глубине понимания юридических отношений, каким бесспорно обладали римские юристы.
Между новыми писателями по философии права вопрос о происхождении наследства из естественного закона подвергся однако сомнению и спорам.
Отец философии права нового времени, Гуго Гроций, стоял еще за происхождение наследственного права из естественного закона, причем, согласно с субъективною исходною точкою новой философии, первенствующее значение получает у него завещание. Гроций выводит завещание из присущего собственности права отчуждения: как скоро установлена собственность, так отчуждение вытекает из нее по естественному закону. В отчуждении же заключается и завещание, которое, следовательно, прямо проистекает из естественного права. Ибо, говорит Гроций, я могу свою вещь отчуждать не только просто, но и под известным условием, и не только безвозвратно, но и с правом отмены, а также с сохранением временного владения и с полным правом пользования. Отчуждение же на случай смерти, с возможностью отмены до этого времени и с сохранением владения и пользования, есть именно завещание[89].
Что касается до наследования по закону, то, по теории Гроция, оно не что иное как молчаливое завещание на основании предполагаемой воли умершего. Ибо, если из права собственности вытекает право распоряжаться имуществом после смерти, то невероятно, чтобы человек, умерший без завещания, хотел оставить свое имущество первому, кто им овладеет. В этом случае надобно исследовать, какова была его вероятная воля; когда есть сомнение, всегда предполагается, что человек хотел то, что справедливо и честно. Отсюда передача имущества детям, даже помимо всякого гражданского установления, ибо предполагается, что родители хотели рожденным от них доставить не только необходимые средства пропитания, но и все, что способствует приятной и честной жизни, в возможно большем количестве, в особенности когда они сами уже не могут пользоваться своим имуществом. За недостатком же детей надобно исследовать естественный порядок благодеяний. На этом основано наследование родственников, по мере их близости к умершему (II, cap. 7, § 3, 5, 9).
Таково воззрение Гроция. Но уже Пуфендорф усомнился в правильности этих выводов. Он, так же как Гроций, производит наследство от права завещания, за недостатком которого следует, по естественному закону, держаться предполагаемой воли умершего. Но он сомневается в том, что самое завещание установляется в силу естественного закона. Нельзя сказать, чтобы оно противоречило последнему. Для счастья и блага человечества недостаточно было установить собственность в пределах человеческой жизни: надобно было дать собственнику право распорядиться своим имуществом после смерти в пользу тех, которые ему близки. Но такое право распоряжения не вытекает необходимым образом из начала собственности. Конечно, отчуждение при жизни, с правом сохранить владение до смерти, неразрывно связано с понятием о собственности. Но завещание не есть отчуждение, ибо завещатель волен всегда отменить свое решение, а наследнику часто оно вовсе неизвестно, так что необходимое для переноса права соглашение воль никогда не совпадает, но всегда протекает известный промежуток между предложением и принятием. Поэтому, заключает Пуфендорф, как бы полезно ни было установление завещания, нельзя сказать, что это право проистекает из естественного закона, а можно думать, напротив, что источником его служит человеческое установление. Так как умершие не участвуют уже в делах мира сего, то от воли остающихся зависело оказать или не оказать уважение к их последней воле, и если они хотели дать силу завещаниям, то надобно было сделать это посредством взаимного соглашения[90].
Против этих сомнений уже в то время последовали возражения. В своих примечаниях к сочинению Пуфендорфа Барбейрак говорит, что он не видит, почему бы собственнику дозволено было отчуждать имущество при жизни на случай смерти и не дозволено было передавать имущество путем завещания. Если первое заключается в праве собственности, как признает Пуфендорф, то и последнее не менее из него вытекает. Собственность есть приобретенное право, которое неотъемлемо присваивается лицу, и если пользование им прекращается смертью, то единственное утешение для человека заключается в праве передать свое имущество после смерти близкому лицу. Это требуется справедливостью и еще необходимее в естественном состоянии, нежели в гражданском, ибо там еще скорее могут возникнуть распри за оставленное умершим имущество. Из того, что умершие не участвуют в делах мира сего, вовсе не следует, чтобы они при жизни не могли распорядиться своим имуществом. Для этого не требуется, чтобы изъявление воль обеих сторон не разделялось никаким промежутком. Дар, сделанный при жизни и принятый после смерти, имеет силу по признанию самого Пуфендорфа. Актом завещания наследник приобретает уже известное право, и от него зависит воспользоваться им или нет. Наконец, признанное Пуфендорфом предположение воли умершего в наследовании по закону опровергает его теорию. Таким образом, надобно признать, что завещания установлены в силу естественного закона; от положительного же закона проистекают ограничения и формальности, которые при этом требуются[91].
Возражения Пуфендорфа очевидно имели мало силы. Они были основаны на юридических тонкостях, которые не могли установить принципиального различия между отчуждением имущества при жизни на случай смерти и правом завещания. И начало собственности и связь поколений слишком громко говорили в пользу наследственного права. Поэтому высшие представители нравственной школы решительно склонялись в пользу происхождения его из естественного закона. Лейбниц возводил право завещания к бессмертию души. "Завещания, — говорит он, — не имели бы значения в силу чистого права, если бы душа не была бессмертна; но так как умершие в действительности продолжают жить, то они остаются собственниками вещей; наследники же, которых они оставляют, должны рассматриваться как их поверенные в заведовании имуществом"[92]. Лейбниц связывал даже это начало с происхождением одной души от другой путем рождения, вследствие чего он естественным наследством считал только наследование детьми того имущества, которым отец владел при их рождении. Остальное, по его мнению, проистекает от закона.
Эти мысли основаны на преувеличении начала самого по себе верного. Идея завещания предполагает не реальное продолжение существования, и еще менее реальное происхождение одной души от другой, а идеальное продолжение, то есть продолжение воли, которое, в свою очередь, основано на том, что человек и в настоящем живет будущим, простирающимся далеко за пределы физической его жизни. Бессмертие души составляет дальнейший постулат этой идеальной природы человека, но не оно заключает в себе юридическое основание наследования, и вовсе не требуется, чтобы умерший рассматривался как вечный хозяин своего имущества: достаточно, чтобы уважалась его воля. Преувеличение в понятиях Лейбница объясняется тем, что "Новая метода правоведения", в которой он высказал этот взгляд, была не более как юношеское произведение, которому он сам впоследствии придавал мало значения.
Вернее взглянул на этот предмет Вольф. Он, подобно Гуго Гроцию, производил завещание прямо из права собственности. Так как собственнику принадлежит право располагать вещью по усмотрению, то от него зависит, передать ее другому под теми условиями, какие он сам положит, следовательно, и после смерти, с сохранением до того времени права пользования и права отмены; а таково именно значение завещаний[93].
Но Вольф не остановился на праве завещания. Возводя все юридические отношения к нравственным обязанностям, он и наследование по закону выводил не из подразумеваемой воли умершего, а из обязанности родителей заботиться по возможности о благосостоянии детей. На этот раз вывод из нравственного начала был верен, ибо в семейном праве сочетаются нравственные начала с юридическими. Однако для вывода юридических отношений односторонней нравственной обязанности было недостаточно. Поэтому Вольф в наследственном праве, так же как и в отношении родителей к детям, видел подобие договора (quasi contractus), в силу которого дети приобретают собственное право на наследие родителей, право, которое не может быть у них отнято иначе как по справедливой причине (§ 921, 924, 928). Что касается до боковых родственников, то в отношении к ним нет прямой юридической обязанности. Предоставление им наследства основано, по мнению Вольфа, на воздаянии за благодеяния общего родоначальника. Но так как эта обязанность несовершенная, то умирающему предоставляется право передать наследство и постороннему. Только при недостатке завещания следует толковать волю умершего сообразно с его нравственными обязанностями, вследствие чего наследство идет к боковым родственникам по степени их близости к умершему (§ 830, 933).
В этих положениях Вольфа можно видеть высшее выражение воззрений нравственной школы. Заслуга последней состоит в том, что она поняла и выяснила нравственный элемент наследственного права; но, отправляясь от односторонних начал, она была не в состоянии связать юридический элемент с нравственным, возводя их к единству семейства как органического союза.
Совершенно иначе смотрела на наследство индивидуальная школа. Здесь человек представлялся, по своей природе, оторванным от всего окружающего. Связь поколений исчезла, а потому и наследство могло быть понято только как искусственное учреждение, а не как начало, проистекающее из естественного закона. Даже такой великий ум, как Монтескье, держался этого взгляда. "Естественный закон, — говорит он, — предписывает отцам давать пропитание детям, но он не заставляет их делать детей наследниками. Раздел имуществ, законы об этом разделе, наследование после того, кто получил свою часть, все это могло быть установлено только обществом, следовательно, законами политическими и гражданскими"[94]. Как будто преемственная связь поколений, на которой основано все человеческое развитие, не составляет такого же естественного закона человеческой природы, как и самое питание детей!
Еще далее шел Рейналь. "Человек, кончивший свое поприще, — говорит он, — может ли еще иметь какое-нибудь право? Переставая существовать, не потерял ли он все свои способности? Великое Существо, лишая его света, не отняло ли у него все то, что состояло от него в зависимости, когда он выражал свою последнюю волю? Может ли эта воля иметь влияние на следующие поколения? Нет; пока он жил, он мог пользоваться землями, которые он обрабатывал. После его смерти они принадлежат первому, кто ими овладеет и кто захочет их обсеменять. Такова природа"[95].
На этом основании Бриссо признавал право завещания чисто условным установлением: "Первое положение, — говорит он, — состоит в том, что право завещания есть одно из тех общественных условий, которые получают свое бытие только от закона; второе — то, что закон может не исполнять воли лица, уже не существующего. Закон может уничтожить охраняемое им условие; следовательно, право завещания может быть отменено"[96]. Казалось бы, что далее этого трудно довести индивидуализм; но мы увидим, что новейшие социалисты развили это начало до еще большей крайности.
Утилитарная школа, которая совершенно отвергает естественный закон и во всяком праве видит только произвольное человеческое установление, разумеется, подводит под эту категорию и наследственное право. Поэтому Бентам смотрит на него единственно с точки зрения практической пользы. Законодатель, по его мнению, должен в законах о наследстве иметь в виду три цели: 1) обеспечить пропитание нарождающегося поколения; 2) предупредить страдание, проистекающее от обманутого ожидания; 3) стремиться к уравнению состояний. На этих основаниях Бентам предлагал установить равный раздел между наследниками и ограничить наследование боковых родственников братьями и сестрами, после чего имущество должно обращаться в казну. Тут, однако, возникал вопрос о завещаниях. Бентам видел, что если отнять у человека право, за отсутствием законных наследников, делать завещание в пользу посторонних, то он все свое имение истратит на себя. Поэтому он предлагал оставить собственнику, не имеющему близких родственников, право располагать после смерти половиною своего имущества. "Но еще лучше, — прибавляет он, — не нарушать начала, которое дозволяет всякому располагать своим имуществом после смерти"[97]. Ясно, что после этого все предыдущие соображения падают сами собою. Оказывается, что и практическая польза, так же как в умозрительная теория, говорит за наследство.
В самой Франции, несмотря на господство индивидуализма, раздавались голоса, которые утверждали происхождение завещания из естественного закона. При обсуждении Гражданского Кодекса высказалось это различие взглядов. Симеон в своей речи перед Законодательным Сословием становился на чисто индивидуалистическую точку зрения. "Как только мы умираем, — говорил он, — все связи, которые держали ваши имущества в зависимости от нас, разрываются; закон один может их восстановить. Без него имущества, лишенные хозяев, принадлежали бы первому овладевшему. Каждая смерть возбуждала бы снова колебания и беспорядки, устраненные общественным бытом. Наследство есть, следовательно, гражданское учреждение, посредством которого закон передает новому, наперед назначенному собственнику вещь, которая потеряла своего прежнего хозяина". Треляр, напротив, в своем докладе держался точки зрения естественного закона. Порядок наследования, по его мнению, представляет собою предполагаемое завещание лица, умершего без выражения своей воли; предположение должно следовать голосу природы. Благодеяние жизни, которое дети получают от родителей, дает им священное право на приобретение достояния остающегося после смерти последних. Природа устанавливает между ними как бы общение имуществ, и наследование, можно сказать, есть только продолженное пользование. Относительно боковых родственников нет такой близости, но и тут природа установила известный порядок, которому закон должен следовать за недостатком выражения воли умершего.
Еще резче эта последняя точка зрения была высказана в мотивах, представленных Биго-Преамене к проекту закона о завещаниях. Он приводит, с одной стороны, мнение тех юристов, которые утверждали, что распоряжение имуществом, когда человек перестал уже жить, не составляет естественного права, что собственность заключается в обладании предметом, которое прекращается смертью, и что наследственная ее передача установляется гражданским законом в видах предупреждения беспорядков; с другой стороны, он противополагает им мнение тех, которые считают такое воззрение разрушающим самые основы общественного быта и видят в праве завещания естественное последствие права собственности, без чего последнее превращается в простое пользование. "Среди этих прений, — говорит оратор, — есть руководитель, за которым можно следовать безопасно: это — голос природы, который слышен всем народам и который диктовал почти все законы". Закон, чтобы быть совершенным, не должен ничего создавать сам; он должен только следовать внушениям природы. Законодатели удалялись от них лишь тогда, когда они приносили в жертву интересам своей власти наилучшее устройство семейного быта[98].
В новейшее время это воззрение получило во Франции решительный перевес. Так например, Тьер, в своей книге "О собственности", доказывает, что в праве собственности заключается право дарить, а с последним неразрывно связано и право передавать имущество по наследству.
Наконец, германский идеализм, в лицо высших своих представителей, с полным авторитетом высказался в пользу происхождения наследства из естественного закона, и притом в двояком направлении, субъективном и объективном, сообразно с двоякою точкою зрения идеалистической философии.
Представитель субъективного идеализма, Кант, выводил наследство из права завещания. По его теории переход имущества совершается здесь посредством соединения воль. Мы видели уже, что Кант всякое право выводил из идеального отношения, отрешенного от фактических данных. То же начало прилагается и здесь: в минуту смерти воли совпадают. И хотя наследник не высказал еще своего согласия, но он в минуту смерти завещателя приобрел преимущественное перед всяким другим право принимать или не принимать наследства. Поэтому имущество не может рассматриваться как ничье. Распространение предписаний и запрещений естественного закона за пределы личной жизни Кант считает несомненною принадлежностью умозрительных законов разума. Поэтому завещания должны рассматриваться как имеющие силу прямо по естественному закону. Что же касается до наследования без завещания, то оно, по мнению Канта, в естественном состоянии немыслимо[99].
Гегель, напротив, согласно с своею объективною точкою зрения, придает главное значение наследованию по закону. Семейство, по его учению, представляет собою общее и продолжающееся лицо, с постоянным имуществом, на которое каждый его член имеет свое Право. Отцу семейства принадлежит только распоряжение. С его смертью подчиненные члены вступают в принадлежащее уже им право; в этом заключается существо наследства. Но с расхождением семьи и с большим и большим отдалением степеней родства, это право слабеет и становится менее определенным. Вследствие того здесь выдвигается личное начало, именно, право распоряжаться своим имуществом в пользу друзей. На этом основано завещание. Здесь нравственное начало заменяется произволом; поэтому завещание не может иметь силы в противоречие с семейным правом. Только с ослаблением последнего оно получает значение, да и тут оно, по выражению Гегеля, всегда имеет в себе что-то противное и неприятное. На том же основании Гегель отвергает и установление фидеикоммиссов и субституций. В них, по его мнению, выражается произвольное предпочтение, отмеченного рода настоящей семье, основанной на любви[100].
В этом воззрении мы узнаем черты первоначального германского наследства. Но оно страдает и всею односторонностью этой системы. Личное начало, заключающееся в праве собственника распоряжаться своим имуществом, совершенно упущено из виду или устранено в пользу семьи, как носителя объективной нравственной идеи. Критикуя в этом отношении воззрение Гегеля, Шталь справедливо замечает, что если с одной стороны наследство составляет необходимое последствие семейной связи, то и с другой стороны, в силу самоопределения лица в отношении к собственности, самоопределения неотъемлемо присущего родителям, оно является вместе собственным делом последних, то есть даром и сообщением, вследствие чего дети не вступают только в распоряжение принадлежащим уже им имуществом, а действительно приобретают нечто новое, в силу воли родителей. На этом основано наследование по завещанию. Однако и Шталь, в свою очередь, становясь на нравственную точку зрения, впадает в порицаемую им односторонность. Он видит в передаче имущества детям обязанность родителей, а в завещании только ближайшее определение и дополнение наследования по закону. Он отвергает даже право собственника распоряжаться своим имуществом после смерти и признает внутреннее назначение родительского имущества, состоящее в том, что оно должно перейти к детям, единственным основанием, как наследования по закону, так и наследования по завещанию[101]. Очевидно, что при таком взгляде самоопределение лица в отношении к своей собственности, которое, по словам Шталя, никогда не теряется родителями, не имеет места. В таком случае, человеку не дозволено создавать чисто искусственные наследственные связи, что однако признается Шталем. Ясно, что в этом воззрении есть противоречие. Желая уделить место личному началу, Шталь не умел связать его с своею нравственною точкою зрения.
Вернее взглянул на этот предмет Аренс, который соединяет субъективную точку зрения с объективною. Наследование по завещанию, говорит он, можно защищать даже с формально юридической точки зрения, ибо обыкновенное возражение, что воля человека не имеет силы после его смерти, опровергается тем, что в юридических отношениях пространство и время имеют второстепенное значение: они не составляют причины возникновения и прекращения права. Поэтому смерть не уничтожает принятых при жизни обязательств, на которых основываются права других. Иначе она уничтожала бы всякие сделки, что немыслимо. Но кроме того, наследование по завещанию имеет и более глубокое основание в разумной природе человека и в свойстве полагаемых им себе целей. Как разумное существо, человек думает не об одном настоящем, но ставит себе цели и для будущего, иногда далеко за пределы своей жизни. Своим разумом и своими разумными целями человек принадлежит идеальному, бесконечному, не ограниченному никаким временем порядку, вследствие чего у многих народов завещания получают религиозный характер. В этой разумной деятельности лицо должно быть защищено законом.
С другой стороны, продолжает Аренс, наследование по закону основано на нравственно-юридическом значении семейного союза. Здесь личная воля отступает перед высшим, естественно-нравственным целым. В семействе человек имеет свою исходную точку; к семейству же возвращаются плоды его собственной деятельности. В особенности это прилагается к тем лицам, относительно которых умерший имел обязанности любви, благодарности и поддержки. Вследствие этого и наследование по закону имеет признанное многими народами религиозное значение[102].
Эти мысли совершенно верны. Эклектизм, в который нередко впадает школа Краузе, пришелся здесь кстати.
Прибавим, что замечательнейший из новейших писателей по философии права, Тренделенбург, держится тех же начал. И он восстает против атомистического взгляда, отрицающего распространение человеческой воли за пределы физической жизни. Такое ограничение, говорит он, осудило бы деятельность человека на искание минутных наслаждений. Приобретение же имущества для целей, идущих за пределы жизни, требует и права распоряжаться этим имуществом после смерти. На этом основано завещание. Но не одно личное начало, а также и семейная связь составляет источник наследственного права. В нем сталкиваются две различные цели, и задача законодателя состоит в том, чтобы их согласить, устанавливая пределы, в которых может действовать воля завещателя[103].
Можно сказать, что эти положения составляют результат всего предшествующего развития философии права. В самом деле, несмотря на различие взглядов, все означенные выше мыслители сходятся в том, что наследственное право составляет необходимую принадлежность человеческих обществ. Те, которые выводят его из естественного права, и те, которые хотят основать его на практической пользе, одинаково имеют в виду его утверждение, а не отрицание, и в этом они согласны с действительною жизнью, которая возвела наследство на степень всемирно-исторического явления.
На совершенно иную точку зрения становятся социалисты. Они совершенно отвергают наследство, в котором они видят главную причину неравенства и важнейшее препятствие человеческому развитию. Не только чистые коммунисты, но и реформаторы, допускающие отчасти начало личной собственности, подвергали наследство принципиальному осуждению.
Важнейшие возражения последовали со стороны сен-симонистов. Настоящее печальное положение рабочего класса они приписывали несправедливому распределению богатства. Труд не вознаграждается, а те, которые не трудятся, имеют избыток. Причину же этого неправильного распределения они видели в наследственном праве, которым установляется привилегия одних в ущерб другим. В средние века такого рода привилегии существовали и в приложении к сословным правам и к общественным должностям. Французская революция все это уничтожила и установила гражданское равенство. Но в приложении к частному имуществу сохранился средневековой порядок. Он должен быть уничтожен и тут. Частное наследование должно быть заменено справедливым распределением имущества общественною властью, на основании формулы: "каждому по способности и каждой способности по ее делам"[104].
В этой аргументации прежде всего поражает смешение частного права с государственным. Средневековой порядок наследования должностей основан был на том, что должности присваивались лицу, как частная собственность. Но такое присвоение противоречило внутреннему их значению. Должность, дающая одному лицу власть над другими, есть, по существу своему, общественное учреждение. Поэтому, с развитием государственных начал в новое время, наследственный их характер должен был уничтожиться. Напротив, имущество, приобретаемое лицом, составляет частное его достояние, а потому здесь частные способы передачи совершенно уместны. Частный порядок наследования, равно как и свободное отчуждение имуществ, столь же соответствуют существу последних, сколько они противоречат значению первых. Одно учреждение управляется началами частного права, другое началами права публичного.
Для юриста это различие составляет азбуку его науки. Что сенсимонисты смешивали оба начала, в этом нет ничего мудреного Они были более филантропы, нежели правоведы. Но удивительнее то, что эта ссылка на отмену средневековых привилегий, в доказательство неправомерности наследования частной собственности, повторяется доселе. Ее можно найти например у Шеффле[105]. Такое смешение понятий не делает чести современной науке.
Что касается до формулы сен-симонистов: "каждому по способности и каждой способности по ее делам", то она отнюдь не может быть признана мерилом в распределении имущества. Если бы каждый безусловно начинал с самого себя и ничего не получал от других, то можно было бы требовать, чтобы он имел только то, что он заслужил. Но человек пользуется и тем, что ему даром дает природа, и тем, что приобретено трудами его предков. Эскимос не обладает теми естественными богатствами, какие природа без всякой заслуги доставляет жителям южных стран. Он не обладает и теми накопленными веками благами, какие достаются на долю образованному европейцу. Все человеческое развитие основано на том, что вновь нарождающееся поколение даром получает наследие своих отцов. Каким бы способом ни совершалась эта передача, приобретаемое таким образом достояние не заслужено; оно получается единственно потому, что дети являются продолжателями дел своих отцов. На этом зиждется и наследственное право. Самая формула сен-симонистов не отвечает требованиям безусловной справедливости, ибо на каком основании способнейший, прежде нежели он работал, получит более других? Он и без того может заработать больше. Держась этого начала, скорее следовало бы дать лишнее неспособному, ибо он не в состоянии заработать столько, сколько другие. Именно в силу этого соображения, формуле сен-симонистов коммунисты противопоставили другую: "каждому по потребностям". Но тут уже исчезает всякое справедливое воздаяние; распределение совершается во имя начала любви, которое, однако, в свою очередь, не способно быть мерилом имущественных отношений, ибо любовь есть начало нравственное, а не юридическое, свободное, а не принудительное, между тем как в распределении имущества требуется именно юридическое начало.
Сен-симонизм с своею формулою исчез, и никто уже об нем не упоминает иначе как с исторической точки зрения. Но возражения его против наследства были подхвачены другими. В новейшее время с большим аппаратом учености выступил против наследственного права Лассаль. Опираясь, с одной стороны, на диалектику Гегеля, а с другой стороны на свои собственные историко-юридические исследования, особенно по римскому праву, он хотел доказать, что наследство есть не более как историческая категория, которая должна исчезнуть с дальнейшим развитием человечества. Весь этот аппарат учености был однако выставлен на сцену единственно за тем, чтобы прикрыть самую вопиющую софистику, которая раскрывается до очевидности, как скоро мы от внешнего покрова обратимся к умственному содержанию теории.
Чтобы доказать чисто историческое значение наследства, надобно было бы проследить это учреждение в его всемирно-историческом развитии. Вместо того Лассаль ограничивается подробным исследованием римского права, как чистого изображения наследования по завещанию, и затем, в виде придатка, присоединяет к этому легкую характеристику германского права, представляющего последовательное осуществление начал наследования по закону. В римском завещании, по мнению Лассаля, выражается идея продолжения воли после смерти, а эта идея, в свою очередь, выражает собою римское понятие о бессмертии, составляющее известную ступень развития субъективного духа. На Востоке лицо еще погружено в общую субстанцию: в классическом мире оно постепенно от нее освобождается. В Риме личный дух приобретает понятие о своей бесконечности, но еще в приложении к земному бытию: воля умершего властвует над оставленным им имуществом. В христианстве, наконец, эта бесконечность понимается как отрешенная от земли. Отсюда ясно, заключает Лассаль, что римская идея бессмертия, выразившаяся в завещании, составляет только преходящую ступень человеческого развития. В действительности она противоречит природе вещей, ибо, по естественному закону, воля человека прекращается с его смертью, и продолжение ее в другом лице есть не более как юридическая фикция, которой несостоятельность обнаруживается при столкновении с жизнью. Вся история римского наследства представляет постепенное разрушение этой фикции; но с ее падением и с превращением наследства, из продолжения воли умершего, в простую передачу имущества, уничтожается самая идея, руководившая римским правом, а вместе с тем исчезает и сам римский народ, уступая место новым племенам, носителям новых начал.
С другой стороны, в германском праве на первых порах субъективный элемент совершенно устраняется. Наследование представляется как вступление наследника в обладание имуществом, которое уже и прежде принадлежало ему по семейному праву. При столкновении с Римом и у германцев появилось завещание; но это произошло единственно вследствие недоразумения. Германцы, говорит Лассаль, не понимали, что оно противоречило господствовавшим у них началам. Точно так же и церковь, которая своим авторитетом освящала завещание, не догадалась, что оно противоречит христианскому понятию о бессмертии, которое, отрываясь от земли, переносится на небо. Между тем под влиянием этих чужеземных начал, а также и дальнейшего развития свободы, самая идея германского наследования падает. Наследник перестает иметь какое бы то ни было право на имущество при жизни владельца. Последний становится полным и свободным собственником. Таким образом, наследование по закону, в свою очередь, оказывается такою же преходящею историческою ступенью, как и наследование по завещанию.
Что же остается в результате? Чистая воля государства, на которой и основано все существующее наследственное право европейских народов. Семейство является здесь не более как государственным учреждением; воля завещателя, только в силу государственного закона, получает значение после смерти. Но то, что установлено государством, им же может быть отменено. Лассаль утверждает даже, это по существу дела, государство не может исполнять волю человека, который перестал существовать. Эта фикция разрушается диалектическим процессом исторического развития, а с тем вместе должно исчезнуть и самое наследство, которое оказывается тем, что оно есть на самом деле, то есть преходящим историческим моментом. Ошибка философов, которые старались оправдать ту или другую форму наследственного права, по мнению Лассаля, состоит в том, что они исторические явления принимали за вечные начала человеческого духа. Так Лейбниц, возводя завещание к бессмертию души, проводил только римское понятие. С другой стороны, теория Гегеля не что иное как сколок с германского права. Но так как обе теории одинаково ложны, то обе должны быть отвергнуты. В результате оказывается нуль[106].
Таково учение Лассаля. Из сказанного выше можно видеть всю его несостоятельность. В нем факты представлены не только в отрывочном, но и в превратном виде. Наследование по закону не есть чисто германское явление. Оно существует у всех народов, на Востоке, так же как и на Западе, в древнейшие времена, так же как и в новейшие. Выставлять его в виде преходящего исторического момента значит сознательно идти наперекор очевидной истине. Если та форма, которую оно первоначально имело у германцев, уступает место иной, то это означает только, что оно согласуется с потребностями свободы, а никак не то, что семейство превращается в государственное установление. Точно так же и завещание не есть чисто римское учреждение. Его можно найти и у евреев, и в Греции, и у всех новых народов; у нас, как мы видели, оно существовало издревле. Приписывать введение его у германцев и освящение его христианскою церковью недоразумению и ошибке значит вносить в историю совершенно произвольные толкования. Такие искусственные объяснения сами себя обличают. С развитием свободы неизбежно является завещание, точно так же как с другой стороны, злоупотребления свободы вызывают обязательные постановления в пользу законных наследников. Историческое разложение односторонних форм доказывает отнюдь не безусловную их несостоятельность, а только необходимость восполнения, посредством сочетания с противоположным началом. Это и есть указанный выше результат, как развития мысли, так и развития жизни. Ничего другого из беспристрастного изучения истории нельзя вывести.
Что касается до положения, будто распространение воли человека за пределы жизни противоречит естественному закону и заключает в себе внутреннее противоречие, то здесь мы имеем уже чисто отвлеченное воззрение, которое идет наперекор и тому, что признавалось и признается у всех народов, и тому, что одинаково ясно для простого здравого смысла и для философского мышления. Конечно, человек не может распоряжаться своим имуществом, когда он уже умер; но если он выразил свою волю при жизни, то эта воля может быть уважаема. А это все, что требуется, и никакой естественный закон этому не препятствует. Ничто также не мешает новому лицу заступить место прежнего и принять на себя все те права и обязанности, которые не носят на себе чисто личного характера. Такого рода заступления составляют необходимую принадлежность юридического быта, не только в наследственном праве, но и во многих других отношениях. Положение, что действие человеческой воли прекращается с его смертью, основано на самом грубо-чувственном воззрении на человеческую природу. Этим отрицается то идеальное начало, которое лежит в основании всех, не только нравственных, но и юридических отношений. Если человек действует в виду будущего, если он вступает в прочные юридические связи с другими, то он должен иметь уверенность, что воля его будет уважена и после смерти. Это его право, которого он не может быть лишен без нарушения его человеческого достоинства и без низведения его на степень животного. Такой грубо-материалистический взгляд противоречит даже собственным воззрениям
Лассаля, которого вся система состоит в крайне одностороннем развитии идеализма. Но в преследовании своей цели знаменитый агитатор не брезгал никакими доводами, которые попадались ему под руку. Его теоретические доказательства против наследственного права нельзя даже признать добросовестными.
Мы видим, что возражения социалистов не выдерживают критики. Научных доказательств в них нет и тени. Новейшие социалисты кафедры и социал-политики, с своей стороны, ничего к этому не прибавили. Они только слепо повторяют чужие доводы или же, не решаясь идти до конца, считают своим долгом вступить на почву компромиссов. Прогресс состоит единственно в большем и большем разжижении мысли, которая наконец совершенно испаряется.
Так например, Ланге утверждает, что "если общество признает безнравственным или опасным приобретение имущества иным способом, кроме труда, то оно может точно так же запретить приобретение имущества путем наследства, как оно запрещаем приобретение путем грабежа или лотерейного выигрыша. Такое глубокомысленное сопоставление весьма характеристично для определения уровня современной мысли. Право человека распоряжаться своим имуществом после смерти, семейное начало, на котором зиждутся все человеческие общества, закон преемственности поколений, все это ставится на одну доску с грабежом и лотерейным выигрышем. Разница полагается лишь в том, что общество позднее создает вред лотерей, нежели грабежа, и еще позднее вред наследственного права[107].
При всем том Ланге признает, что наследственное право "слишком глубоко коренится в человеческой природе", для того чтобы оно могло когда-либо совершенно потерять свое значение. Поэтому он вступает с ним в сделку. Дар на случай смерти и наследование детей после родителей, говорит он, вероятно, устоят и против сильнейшего напора. Придется довольствоваться предложенным Миллем ограничением прямого наследства, а также и дарения, известным размером, и уничтожить наследование боковых родственников[108].
Ниже мы обсудим эти меры, равно как и предложения тех, которые хотят, посредством подати на наследство, изменить существующий порядок собственности. Теперь же сведем к общему итогу все сказанное выше и установим коренные начала наследственного права.
Наследство, как мы видели, есть всемирно-историческое явление. Отвлеченные утописты могут против него восставать: действительная жизнь всегда крепко держалась этого начала, а здравая философия всегда понимала его как одну из непоколебимых основ человеческого общества. И точно, оно коренится в глубочайших свойствах человеческого духа и связано с мировыми законами человеческого развития. Источник его лежит в преемственности поколений, из которых отходящее от мира передаст остающемуся на земле все свое, полученное от предков и умноженное собственною деятельностью умственное, нравственное и материальное достояние. На этом основано историческое развитие человечества, то есть то, что делает из человеческого рода единое духовное целое, а из отдельного лица звено в этом общем духовном процессе.
Эта передача духовного и материального достояния одного поколения другому заключает в себе двоякое право: право передающих и право получающих. Первое, в свою очередь, содержит в себе двоякий элемент: право собственника распоряжаться своим имуществом после смерти и право отца семейства устроить судьбу своих детей.
Мы уже видели, что право человека распоряжаться своим имуществом после смерти не подлежит сомнению. Утверждать, как делает Ланге, что последовательный индивидуализм, признавая труд единственным источником приобретения, ведет к отрицанию наследства, значит признавать за человеком право приобретать, и отнимать у него право распоряжаться приобретенным. Отвергать же возможность распространения воли за пределы физической жизни значит не понимать самого существа человеческой личности и вытекающего из нее права. Если цели человека простираются за пределы его жизни, если эти цели служат для него побуждением к деятельности, то он имеет неотъемлемое право требовать, чтобы воля его уважалась и после смерти, насколько этим не нарушается чужое право. Уважение к воле умершего есть дань, отдаваемая духовному естеству человека, признак высшего его достоинства как разумного существа, которого мысль и воля не ограничиваются пределами физического существования, а простираются в бесконечную даль. Оно составляет вместе с тем и право живых, ибо на этом начале зиждется уважение к собственной их посмертной воле. Этим установляется связь поколений, которою держится все человеческое развитие, связь вместе юридическая, нравственная и религиозная, ибо уважение к воле умерших, признаваемое правом, предписывается нравственностью и освящается религиею. Поэтому мы находим это начало у всех народов. Оно признается даже в области публичного права. Если человек завещал сумму денег на устройство общественного учреждения, то воля его исполняется и учреждение поддерживается, пока оно достигает своего назначения. Когда же, с изменением общественного быта, изменяются и самые его цели, то воля умершего толкуется как воля разумного человека, понимающего изменившиеся потребности, и тогда завещанное им имущество получает соответствующее назначение. Всякое законодательство, уважающее человеческую личность, держится этих начал, и чем выше уважение к лицу, тем выше уважение к его посмертной воле. Только голый материализм, отрицающий духовное значение лица и идеальный характер права, ограничивает человеческую волю пределами физической жизни.
К числу этих целей, идущих на будущее, принадлежит устройство семьи. Оно составляет священное право и вместе с тем священную обязанность отца семейства. Для семьи он работает, для нее он приобретает в течение всей своей жизни. Отсюда право его распорядить семью и имущество после смерти. Закон не в состоянии исполнить за него этой обязанности, ибо закон не может входить в разнообразие жизненных отношений, нередко требующих видоизменения установленной нормы. Только отец семейства, близко знающий и принимающий к сердцу материальное и нравственное положение каждого члена семьи, в состоянии определить, что требуется для каждого и сообразно с этим распорядиться оставляемым им достоянием. Чем выше власть отца, тем шире предоставляемое ему право. В Риме оно было безгранично. Но такая неограниченная власть предполагает живущий в обществе нравственный дух, который не дозволяет лицу отклоняться от нравственных целей. Как же скоро этот дух падает, так и власти отца семейства полагаются законные пределы. Право его располагать своим имуществом после смерти ограничивается правами наследников.
Источник этих прав лежит в естественном законе, которым управляется преемственность поколений, а именно, в происхождении людей друг от друга и проистекающей отсюда кровной связи. Это начало до такой степени очевидно для человеческого ума, что во все времена и у всех народов оно признавалось основанием наследственного права. Оно отвергается только софистами, отрицающими и всемирный опыт и требования разума, и права личности и вечные законы, управляющие движением человеческих обществ. А так как кровная связь имеет свои степени, то и наследственное право следует тому же порядку. Чем ближе связь, тем крепче права наследников, а потому тем более поводов к ограничению прав завещателя.
Важнейшее ограничение проистекает из права детей на получение наследия родителей. Человек не есть абсолютное начало своей собственной судьбы. Составляя звено в преемственной цепи поколений, он опирается на своих предшественников, он действует отправляясь от того, что он от них получил и сам умножает переданное ему достояние, которое он, в свою очередь, передает своим потомкам. Та семья, в которой он рождается, составляет для него исходную точку. Ею определяется тот первоначальный запас умственных, нравственных и материальных сил, с которым он пускается в жизнь. Без сомнения, в качестве свободного существа, он может оторваться от этой среды; он может приумножить переданное ему достояние до такой степени, что полученное исчезает перед вновь приобретенным. Но во всяком случае, он имеет право не быть лишенным этого наследства; родители же, с своей стороны, обязаны дать ему возможность продолжать жизнь при тех условиях, в которые они сами его поставили, а не начинать все сызнова, разрывая всякую связь с тою первою порою земного бытия, когда, по естественному закону развития, полагается основание для всего будущего.
Таким образом, наследство составляет неотъемлемую принадлежность семейного союза и в отношении к родителям, и в отношении к детям. Нельзя посягать на наследство, не посягая вместе с тем и на семью, которая в имуществе имеет свою необходимую материальную опору. Чем выше мы восходим в истории человечества, тем теснее эта связь. В первобытные времена, при господстве родового быта, личное право совершенно исчезает в семейном. С естественною преемственностью поколений непосредственно связана и преемственность имущественных отношений. На первых ступенях даже вовсе нет наследства, потому что семья продолжается непрерывно. Позднее, с развитием личного начала, права и интересы различных членов семьи расходятся; наступает наследование по закону, а наконец является и завещание. Непосредственное слияние элементов заменяется взаимным их ограничением. С одной стороны, права наследников ограничивают право настоящих владельцев распоряжаться своим имуществом после смерти, а иногда даже и при жизни; с другой стороны, воля завещателя может ограничивать права наследников. Сочетание этих двух противоположных начал составляет главную задачу наследственного права.
Выше мы касались уже ограничений первого рода. Они могут быть различны. Иные законодательства определяют известную часть имущества, которою завещатель не имеет права распоряжаться по усмотрению и которая непременно должна достаться законным наследникам. Другие различают имущества родовые от благоприобретенных. Завещателю предоставляется полное право распоряжаться последними, тогда как первые, по крайней мере в ближайших степенях, должны следовать законному порядку. В этих различных способах произвести указанное выше сочетание начал выражаются особенности народного духа и исторического развития учреждений.
Что касается до ограничений второго рода, то они состоят главным образом в определении завещателем дальнейшего порядка наследования, на срок или бессрочно, причем обыкновенно установляется неотчуждаемость имущества, так что наследник является не более как пожизненным пользователем. Таков характер майоратов, фидеикоммиссов, субституций. Спрашивается: до какой степени могут быть допущены подобные ограничения воли живых собственников волею умерших?
Многие современные законодательства отрицают у завещателя это право. Они признают, что наследство может передаваться только на правах полной собственности. Новое поколение не должно быть связано и поставлено в худшее положение, нежели его предшественники. Признанное законодательством начало свободы собственности должно служить на пользу всех.
Это право отрицается и во имя справедливости. Подобные ограничения обыкновенно сопряжены с преимуществом одного наследника перед другими. Равный раздел наследства, который должен составлять правило, через это устраняется.
Эта точка зрения, бесспорно, имеет за себя многое; однако она не может иметь притязания на безусловное значение. Побуждения, на которых основываются отвергаемые ею учреждения, могут быть двоякого рода. Нередко они проистекают из стремления аристократических родов поддержать свое общественное положение. Тут мотив чисто политического свойства, и с своей стороны законодательства, точно так же руководясь политическими соображениями, разрешают или воспрещают такого рода учреждения, смотря по тому, желают ли они поддержать или разрушить аристократическое начало в обществе. Наследственное право служит здесь только средством для иных целей. Но независимо от того, такой порядок наследования имеет основание и в семейном начале. Продолжение дома, сохранение в роде домашнего очага, всегда имело и имеет глубокие корни в человеческой природе. Оно связано с самыми священными чувствами человека, с семейными преданиями, с воспоминаниями детства, с уважением к могилам отцов, с привязанностью к родному месту, одним словом, с тем, что всего дороже для человеческого сердца и что составляет нравственную жизнь семьи. Отец семейства, вполне сознающий свои нравственные обязанности, основывает и устраивает свое пепелище не для своего только мимолетного удовольствия и даже не для удобств ближайшего наследника, а в надежде, что на многие поколения здесь будет нравственный центр семейной жизни и сохранится живая память о нем и о всех ему близких. Высокое значение семьи и семейных преданий для всего общественного и государственного быта должно побуждать законодательства поддерживать такого рода учреждения. Только преувеличенный демократический индивидуализм, отрицающий свободу завещателя во имя свободы наследников, отвергает их безусловно. Невыгодная их сторона состоит в том, что в них неизбежно один из наследников получает большее или меньшее преимущество перед другими. Это — жертва, которая приносится непрерывности семейной связи и сохранению из рода в род семейных преданий. Задача и тут состоит не в том, чтобы устранить одно начало во имя другого, а в том, чтобы сочетать их, примиряя сохранение семейного достояния с правами наследников. Но это сочетание не может быть произведено законом, который не в состоянии уловить бесконечного разнообразия жизненных обстоятельств. Решающий голос в этом деле может иметь только любовь отца семейства, который, устраивая свой дом. заботится и о судьбе своих детей. Окончательно все тут зависит от нравов, то есть от свободы. Общественные нравы решают, какой порядок наследования более согласен с народным духом и с современными требованиями общества. Закон же не должен запирать двери ни для какого решения. Он может только полагать границы воле, явно уклоняющейся от нравственных требований. Конечно, невозможно предоставить завещателю право налагать свою волю на потомство на вечные времена. Семейные предания тогда только имеют Цену и значение, когда они поддерживаются существующими поколениями. Но для того чтобы их поддержание сделалось возможным, необходимо охранить преемственный порядок от неизбежных случайностей личного произвола, и не надобно, чтобы законодатель этому препятствовал. Приведенный выше английский закон, который дает завещателю право определять порядок наследования только на известный срок, по-видимому всего ближе подходит к желанной цели. К тому же клонился и позднейший римский закон, возвращавший наследникам свободу распоряжения после четвертого поколения. Разумеется, мы говорим только о принципе, а не о подробностях, которые могут быть весьма разнообразны.
До сих пор мы рассматривали взаимные ограничения прав завещателя и наследников. Совершенно иной вопрос: на сколько государство имеет право ограничивать наследственный переход имущества во имя общественных целей? Здесь дело идет уже не об отношениях, естественно вытекающих из наследственного права, а о большем или меньшем стеснении этого права во имя постороннего начала. Многие современные писатели, не видя возможности совершенно отменить наследство, стараются однако положить ему возможно тесные пределы, с целью более уравнительного распределения имуществ.
К этому именно клонится предложенное Миллем ограничение наследства в прямой линии известным размером. Милль признает, что из права собственности вытекает право завещания, но он не допускает, чтобы из него вытекало наследование по закону. В прямой линии последнее имеет еще за себя некоторые основания. Родители обязаны дать рожденным от них детям воспитание и средства для преуспеяния в жизни. Если они, умирая, не позаботились об исполнении этой обязанности путем завещания, то государство, восполняя их волю, может предоставить детям известную часть родительского имущества. Но далее этого, по мнению Милля, не простираются ни обязанности родителей, ни требования наследственного права. Никто не обязан оставлять детям такое состояние, которое бы избавляло их от необходимости трудиться самим. Даровое приобретение значительного имущества действует даже вредно на детей. Поэтому желательно самое наследование по завещанию ограничить известными пределами, с тем чтобы излишком завещатель мог распорядиться в пользу других, или чтобы этот излишек был обращен на общественную пользу. Конечно, прибавляет Милль, такого рода ограничения легко обходить, если собственник хочет это сделать. Для того чтобы подобная мера имела действительную силу, надобно, чтобы закон энергически поддерживался нравами[109].
В этих доводах, как обыкновенно бывает с суждениями утилитаристов, берутся в расчет те или другие частные соображения и упускается из виду самое существо дела. Взаимные права и обязанности родителей и детей определяются не тою частною пользою, какая может в том или другом случае проистекать из наследственной передачи имущества, а высшим, мировым законом преемственности поколений. Дети имеют право быть продолжателями жизни своих родителей, а родители имеют право заместить себя детьми. Всякое вторжение государства в эту преемственную связь было бы ничем не оправданным нарушением семейного начала. Этим государство наложило бы руки на самого себя, ибо оно разрушило бы крепчайшие основы общественного быта. Семейство и неразрывно связанное с ним наследство предшествуют государству и сохраняются в нем, как краеугольный камень всего общественного здания. Попытки колебать их могут быть только делом противообщественных страстей, а никак не разумной власти. Поэтому тут об общественной пользе не может быть речи.
Самые частные соображения, приводимые Миллем, нисколько не оправдывают предложенных им мер.
Нет сомнения, что в иных случаях приобретение по наследству значительного имущества может действовать вредно на получателя; но в других случаях оно может быть весьма полезно, не только для самого наследника, но и для всего общества: история и политика равно доказывают, что люди с обеспеченным состоянием составляют необходимый элемент государственного быта. Которая да этих двух сторон перевешивает в общем итоге, это зависит от жизни или от господствующего в обществе духа; но ни в каком случае государство не призвано в это вмешиваться. Не его дело разбирать нравственные побуждения граждан; это — задача семейной жизни и общественных нравов. Сам Милль признает, что без поддержки нравов предложенная им мера должна оставаться бессильною. Следовательно, и приложение ее можно предоставить Нравам. Для этого достаточно свободы завещания. Любовь отца семейства служит здесь гораздо лучшим руководящим началом, нежели безличный закон, который способен только установить общий шаблон, но не в состоянии вникнуть в разнообразие жизненных отношений. Закон должен ограничиться определением порядка приобретения имущества. Лицо должно знать, каковы законные способы употребления свободы. Ограничение же законного приобретения известным размером не что иное как чистый произвол. Подобное постановление было бы нарушением свободы и вторжение в частные отношения лиц.
Еще менее может быть оправдано обращение избытка наследственного имущества на общественную пользу. Общество не имеет ни малейшего права присваивать себе чужое имущество. Такого рода мера не что иное как конфискация, но конфискация гораздо худшего свойства, нежели та, которая воспрещается новейшими конституциями. Та конфискация, которая практиковалась и доселе еще практикуется во многих государствах, имела по крайней мере юридическое основание: частное имущество отбиралось за преступление. Обращение же наследства свыше известного предела на общественные потребности есть присвоение себе чужого имущества без всякого повода. Государство через это подало бы пример грабежа, то есть собственною рукою разрушило бы первые основания гражданского порядка. Когда есть дети, отцовское имущество не может быть у них отнято иначе как путем насилия.
То же самое относится и к предложенной Бентамом, а за ним и Миллем, отмене наследования боковых родственников, причем наследство опять же обращается на общественные нужды. Милль предполагает, что наследование боковых родственников основано единственно на первобытных патриархальных нравах, которые ныне потеряли всякое значение. Но если, несмотря на разрушение родового быта, этот порядок наследования сохранился во всех законодательствах в мире, то это указывает на более глубокое основание. Как уже было сказано выше, это основание заключается в установленной естественным законом кровной связи, из которой необходимо вытекает и связь имущественная, помимо даже всяких законодательных постановлений. Относительно имуществ, унаследованных от предков, это очевидно само собою. Если братья разделили между собою имение отца и один из них умирает бездетным, то ясно, что имение его должно достаться остальным, ибо, не будь этого брата или умри он ранее, оно принадлежало бы им. Право их было устранено другим наследником, но оно восстановляется, как скоро он перестал существовать. За родовым же имуществом следует и благоприобретенное, если владелец не сделал на счет его никакого распоряжения; ибо, если от расточителя наследники могут получить имение уменьшенным, то справедливость требует, чтобы от рачительного хозяина они могли получить его приумноженным. Таким образом, независимо от всяких отношений любви, коренящаяся в кровном родстве имущественная связь существует. Конечно, чем дальше родство, тем слабее связь и тем меньше само право. Но это умаление права ведет лишь к тому, что предоставляется больший простор свободе; самое же право, как бы оно ни было слабо, никогда не уничтожается и выступает наружу, как скоро нет заслоняющего его другого, сильнейшего права. Это сильнейшее право ни в каком случае не может принадлежать обществу как целому. Мы видели уже, что общество не имеет ни малейшего права на частное имущество, а потому обращение этого имущества на общественные нужды, когда есть кровные родственники, опять не что иное как узаконенное грабительство. Бесспорно, наследование дальних родственников является иногда нежданным и негаданным, каким-то сюрпризом, который для людей, останавливающихся на поверхности явлений и не умеющих вникать в их сущность, не имеет никакого смысла. Но для тех, которые в самых, по-видимому, случайных и неразумных явлениях умеют отыскать скрывающееся в них понятие, этот сюрприз имеет глубокое общественное значение. В нем выражается одно из важнейших начал общественного быта, именно, что наследство есть учреждение частного, а не публичного права. В этом начале личность имеет одну из самых надежных своих гарантий; им полагается неодолимая преграда вторжению государства в область частных отношений. И этот взгляд не является только плодом умозрительной теории. Он разделяется всеми законодательствами в мире, которые все признают за отдаленнейшим родственником большее право на наследство, нежели за государством. Только отвлеченные теоретики, которые всякое понятие, идущее за пределы осязаемого, считают устарелою метафизикою, а в истории видят один предрассудок, держатся иных воззрений.
Наконец, те же соображения прилагаются и к взимаемой государством подати на наследство, в которой некоторые видят средство изменить существующие отношения собственности и уравнять состояния[110]. Действительно, стоит только чрезмерно увеличить налог, и все имущества быстро перейдут в руки государства. Не будучи в состоянии его уплатить, собственники принуждены будут продавать свои имения, а правительство может купить их на те самые деньги, которые оно с них взыскивает. Но подобная система не есть ли та же самая конфискация, организованная под прикрытием права? Сами по себе подати на наследство имеют чисто фискальное значение. Они не соответствуют истинным началам финансового права, которое требует, чтобы налоги падали на доход, а не на капитал, и притом равномерно на всех. Причина их существования заключается единственно в том, что они представляют весьма легкий способ получения денег. Если подать не велика, то проистекающее из нее зло не особенно чувствительное, она может даже уплачиваться из дохода. Но как скоро она растет, она становится тяжелым и несправедливым бременем для наследников. Если же из фискального средства она обращается в социал-политическое орудие для уравнения состояний, то она теряет уже всякий правомерный характер и становится мнимо-законным способом присваивать себе чужое достояние. Государство, которое прибегло бы к подобной мере, справедливо заслуживало бы названия великого разбоя.
Всего менее понятно, каким образом такие писатели, которые, как Милль, видят во всяком прогрессивном налоге косвенный грабеж, стоят, однако за прогрессивное обложение наследства[111]. Разница между прогрессивным налогом, падающим вообще на доход, а таковым же налогом, падающим исключительно на наследство, состоит лишь в том, что доход составляет совершенно законный предмет обложения, тогда как наследство вовсе не должно бы ему подлежать. Следовательно, в последнем случае, грабеж только более явный и вопиющий. Когда же рядом с этим признается, что "право завещания составляет совершенно такое же последствие права собственности, как и право собственного пользования", то противоречие становится еще более очевидным. Насильно присваивать себе часть чужой собственности, это и есть то, что называется грабежом. Единственный случай, в котором государство вправе присвоить себе частное наследство, есть тот, когда после умершего не остается ни завещания, ни законных наследников. Тогда имущество Становится выморочным и, как не принадлежащее никому, может быть обращено на общественную пользу. Государство вправе или взять его себе или признать законным наследником тот частный Союз, общину или сословие, к которому принадлежал умерший. Такого рода постановление предупреждают расхищение имущества и бесчисленные, могущие возникнуть при этом столкновения и распри. Но такие совершенно исключительные случаи не дают государству возможности изменять по своему усмотрению существующее распределение собственности. В благоустроенном обществе, где уважаются начала права, наследство остается неприкосновенною святынею, которой государство не может касаться, не посягая на достоинство человека как духовного существа и на семейное начало со всем тем, что из него проистекает.
Из всего этого не следует, однако, что государство остается без всякого влияния на наследственное право и на проистекающее из него распределение собственности. Если оно не может ни отменить, ни ограничить его, не подрывая самых оснований права, нравственности и общежития, то признавая его вполне, оно может дать перевес тому или другому из вытекающих из него начал, а это имеет громадное значение для всего общественного быта. Закон может установить или право первородства или равный раздел наследства; он может дозволить или воспретить фидеикоммиссы и субституции; он может поддерживать или законный порядок наследования или свободу завещаний. Истинные политики давно обратили внимание на важные последствия, которые имеют эти различные законоположения для распределения богатства, а через это и для самого политического устройства. Так, например, Токвиль, в своем сочинении "О Демократии в Америке", указывает на то, что равный раздел наследства влечет за собою дробление имуществ, откуда проистекает демократический строй общества, тогда как противоположный порядок наследования имеет последствием сосредоточение имуществ и связанное с ним преобладание аристократического начала[112]. Но и тут надобно сказать, что закон бессилен против нравов. Доказательством служит изданный Петром Великим закон о майоратах, который был отменен через несколько лет, потому что он противоречил стремлениям и обычаям русского общества. Даже один и тот же закон может иметь совершенно различные последствия, смотря по тому, как он прилагается жизнью. В Северной Америке свобода завещаний столь же безгранична, как и в Англии, но в последней она ведет к установлению субституции, и первой же к равному разделу наследства. И тут, следовательно, законодатель принужден положиться на нравы, предупреждая только слишком значительные злоупотребления и ограждая права нарождающихся поколений от случайного произвола. Человек должен иметь право распорядиться по своему усмотрению тем, что он приобрел при жизни, и устроить свою семью даже на несколько поколений. Этого требует и принадлежащее ему право собственности, и его человеческое достоинство и, наконец, прочность семейных отношений, составляющая первую основу всякого общественного порядка.
Глава VI.РАВЕНСТВО
Равенство издревле считалось отличительным свойством правды. Аристотель, которого учение в этом отношении может считаться классическим исследованием вопроса, говорит, что справедливое в собственном смысле есть равное, то есть среднее между излишним и недостаточным; последние же начала соответствуют несправедливому. Но так как равенство может быть двоякого рода, числительное и пропорциональное, одно управляющееся началом арифметической, другое началом геометрической пропорции, то и правда разделяется на два вида, которые Аристотель называет правдою уравнивающею и правдою распределяющею. Первая прилагается к обязательствам, как вытекающим из договоров, так и происходящим от преступлений. В договорах меняется равное на равное; в случае преступлений, ущерб, нанесенный одному, уравнивается пенею, взыскиваемою с другого. Правда же распределяющая есть закон, управляющий распределением общественных благ, как то: имущества, чести, власти, сообразно с заслугами или достоинством каждого члена общества. Таким образом, всякое отношение правды заключает в себе четыре термина: два лица и два предмета, причем равенство предметов должно соответствовать равенству лиц. Отсюда следует, что равенство предметов тогда только справедливо, когда оно прилагается к равным лицам; равное же присвоение предметов неравным лицам есть несправедливость. Из этого ясно, что и неравное может быть справедливо, именно, когда оно соответствует неравным лицам. Те, которые упускают это из виду, говорит Аристотель, судят криво, главным образом вследствие того, что они являются судьями в собственном деле.
Именно это прилагается к политическим партиям, из которых; каждая берет известную сторону правды, умалчивая о самом существенном. Так олигархи, будучи неравны с другими в имуществе, воображают, что они должны быть неравны во всем. С своей стороны демократы, будучи равны другим в свободе, утверждают, что они должны быть равны во всем остальном. И то и другое неверно, ибо известного рода равенство или неравенство определяет только распределение тех предметов, к которым оно относится, а не всех вообще. В демократии основные начала суть свобода и числительное равенство. Вследствие этого бедные имеют такое же право голоса, как и богатые. А так как их больше, то решение зависит от них. Но это неизбежно ведет к несправедливости, ибо богатые устраняются от власти и бедные могут поделить между собою их имущества. С своей стороны, олигархия ведет к тирании. Правильное государственное устройство, заключает Аристотель, состоит в сочетании обоих начал. Там, где есть два элемента, справедливость требует, чтобы каждый из них имел участие в правлении[113].
Таково учение Аристотеля, учение, в котором ясно, верно и глубокомысленно излагаются основные определения равенства и правды. Отсюда видно, что начало равенства имеет различное значение, смотря по тому, в какой сфере оно прилагается. В гражданских обязательствах господствует равенство числительное; здесь люди рассматриваются просто как свободные лица, и в этом качестве они равны между собою. В области политической, напротив, основное начало должно быть равенство пропорциональное. Одна демократия и тут, хотя не всегда последовательно, держится числительного равенства.
Это свойственное демократии смешение гражданского равенства с политическим в значительной степени господствует и в стремлениях нового времени. Индивидуалистическая философия XVIII века рассматривала людей как отвлеченные, равные друг другу единицы. С этой точки зрения, Французская революция, в которой идеи XVIII века нашли высшее свое выражение, провозгласила свободу и равенство основными и неотъемлемыми правами человека. С тех пор эти два начала сделались лозунгом не только демократической, но и значительной части либеральной партии в Европе.
Взглянем на учение этой школы. Разбирая его, мы яснее увидим, в чем состоит истинное существо равенства и какое оно должно находить приложение в человеческом общежитии. Для исследования этих вопросов мы должны прежде всего обратиться к тем законодательным памятникам, в которых Французская революция высказала свой взгляд.
Статья 3-я "Объявления прав человека и гражданина" гласит: "люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут быть основаны только на общей пользе". В статье же 6-й мы читаем: "закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право, лично или через представителей, участвовать в его составлении. Он должен быть один для всех, и тогда, когда он охраняет, и тогда, когда он наказывает. Все граждане, будучи равны в его глазах, одинаково имеют доступ ко всем общественным почестям, местам и должностям, сообразно с их способностью и без всякого иного различия, кроме их добродетели и талантов".
Эти начала были приложены к конституции 1791 г. В предисловии говорится, что "Национальное собрание, желая утвердить французскую конституцию на тех началах, которые оно признало и провозгласило, уничтожает безвозвратно учреждения, нарушающие свободу и равенство прав. Нет более ни дворянства, ни перии, ни наследственных отличий, ни сословных различий, ни феодального порядка, ни вотчинного суда, ни каких-либо проистекавших отсюда титулов, названий и преимуществ, ни рыцарских орденов, ни корпораций или знаков отличия, которыми доказывалось дворянство и которые предполагали различие рождения, ни какого-либо превосходства, кроме того, которое принадлежит общественным должностным лицам в исполнении их обязанностей. Нет более ни продажи, ни наследственности какой-либо общественной должности. Нет более, ни для какой части народа и ни для какого лица, привилегии, или изъятия из общего права всех французов. Нет более цехов, ни корпораций для занятий, промыслов и ремесел. Закон не признает более ни религиозных обетов, ни какого-либо другого обязательства, противного естественным правам и конституции".
Затем, в 1-м титуле говорится, что "конституция обеспечивает следующие естественные и гражданские права: 1) доступ всех граждан к местам и должностям, без иного различия кроме добродетелей и талантов; 2) равное распределение налогов между всеми гражданами, сообразно с их средствами; 3) приложение одинаковых наказаний к одинаковым преступлениям, без различия лиц".
Таким образом, весь средневековой порядок, основанный на неравенстве, на сословных преимуществах, на привилегиях был разом отменен и заменился полным равенством граждан, не только в гражданской, но и в политической области. Но это было равенство прав, а не состояний. Собственность, наравне с свободою и равенством, была объявлена "неприкосновенным и священным правом, которого никто не может быть лишен, разве этого явно требует общественная необходимость, законным путем признанная и под условием справедливого и предварительного вознаграждения" (ст. 17 "Объявления прав").
Позднейшие революционные конституции подтвердили эти начала. В "Объявлении прав", которое было поставлено во главе конституции 1793 г., самой радикальной из всех, равенство, даже прежде свободы, было признано прирожденным и неотчуждаемым правом человека и гражданина (ст. 2). "Все люди, — говорится далее, — равны по природе и перед законом" (ст. 3). "Закон есть свободное и торжественное выражение общей воли; он один для всех, и тогда, когда он охраняет, и тогда, когда он наказывает" (ст. 4). "Все граждане имеют одинаковый доступ к общественным должностям. Свободные народы не знают иных причин предпочтения в своих выборах, кроме добродетелей и талантов" (ст. 5). Однако и тут нет речи об ином равенстве, кроме равенства прав. Собственность, как и прежде, объявляется неприкосновенною. Она определяется как "принадлежащее каждому гражданину право пользоваться и располагать, по своему усмотрению, своими имуществами, доходами, плодами своего труда и своей промышленной деятельности" (ст. 16). "Никто не может быть лишен даже малейшей части своей собственности без своего согласия, разве этого требует общественная необходимость, законным путем признанная и под условием справедливого и предварительного вознаграждения" (ст. 19). "Никакой род работы, промышленности и торговли не может быть воспрещен гражданам" (ст. 17). "Всякий человек может отдавать внаймы свои услуги и свое время" (ст. 18).
Конституция 1795 г., поставивши, согласно с логическим порядком, равенство после свободы в исчислении прав, дает, вслед за тем, и определение равенства. Оно "состоит в том, что закон один для всех, и тогда, когда он охраняет, и тогда, когда он наказывает. Равенство не допускает никакого различия рождения, никакой наследственности власти" (ст. 3).
Таковы постановления конституций, выработанных Французскою революциею. Согласно с демократическою теориею, здесь равенство распространяется одинаково и на политическую, и на гражданскую область. Но и здесь и там признается только равенство прав, или равенство перед законом, вытекающее из равенства людей, как свободных лиц. Равенство имуществ не имелось в виду законодателями.
Эти начала подверглись весьма строгой критике со стороны Бентама. В своих "Анархических софизмах" знаменитый юрист, разбирая "Объявление прав человека", говорит по поводу 1-й статьи: "Все люди остаются равными в правах. Все люди, то есть все существа, принадлежащие к человеческому роду. Итак, ученик равен хозяину; он имеет такое же право направлять и наказывать своего хозяина, как хозяин направлять и наказывать своего ученика. Он имеет такие же права в доме своего хозяина, как и сам хозяин. То же самое прилагается и к отношениям родителей и детей, опекунов и опекаемых, мужа и жены, солдата и офицера. Сумасшедший имеет такое же право запереть своих сторожей, как и те его. Идиот имеет такое же право управлять своим семейством, как и семейство управлять им. Если все это не заключается вполне в этой статье, то она не означает ничего, решительно ничего. Я очень хорошо знаю, — замечает Бентам, — что авторы "Объявления", не будучи ни сумасшедшими, ни идиотами, не думали установить такое безусловное равенство. Но чего же они хотели? Невежественная толпа должна ли была понимать их лучше, нежели они сами себя понимали?"
Эта критика несомненно заключает в себе верную мысль. Безусловного равенства, какое здесь провозглашается, быть не может.
Люди не суть только отвлеченно свободные лица; они имеют и разные другие свойства и отношения, которые должны приниматься во внимание законом и которые, вследствие того, видоизменяют вытекающее из свободы равенство прав. Но за этими видоизменениями и исключениями не надобно упускать из виду самого начала, как делает Бентам. С своей утилитарной точки зрения он за частностями не видит существенного.
Чтобы оценить начала, провозглашенные Французскою революциею, надобно прежде всего отличить политическое равенство от гражданского. Когда в "Объявлении прав" говорится, что общественные различия могут быть основаны единственно на общей пользе, то этим самым признается, что равенство в политической области не имеет безусловного значения. Это именно оказывается в приложении к общественным должностям: хотя все граждане имеют к ним доступ, однако самые должности занимаются сообразно с добродетелями и способностями. Тут установляется уже не числительное, а пропорциональное равенство. В гражданских обязательствах, напротив, добродетель и способности не принимаются в расчет: здесь граждане рассматриваются просто как свободные и равные друг другу лица. Точно так же пропорциональное равенство прилагается и к уплате податей: не все платят одинаково, но сообразно с своими средствами. Наконец, когда Учредительное Собрание, провозгласивши, что все граждане имеют право участвовать в составлении закона, несмотря на то установило ценз, хотя и небольшой, и отняло право голоса у людей, состоящих в личном услужении, то оно опять же признало, что равенство прилагаемое к политической области, не абсолютное, а условное. Юридически всем дается доступ к правам, но для получения их требуются условия, которые не для всех исполнимы. В позднейших французских конституциях ценз был значительно увеличен, так что выборное право сосредоточилось в весьма небольшом количестве избирателей; но кроме чистых демократов, никто из приверженцев начал 1789 г. не считал это нарушением равенства.
Самое устранение наследственных преимуществ не может быть признано непременным требованием равенства в политической области. Как скоро допускается, что во имя общей пользы могут быть установлены общественные различия, так признается вместе с тем и правоверность наследственных преимуществ, если они требуются здравою политикою. На этом основании само Учредительное Собрание сохранило наследственную монархию. Если в обществе существует наследственное сословие, обладающее высшею политическою способностью, то самая справедливость требует, чтобы оно имело и высшие политические права. Во Франции, во времена Реставрации, была учреждена наследственная верхняя палата, которая, по общему признанию, оказала значительные услуги стране, и когда в 1831 г. наследственность империи пала перед демократическими стремлениями народа, то весьма либеральные люди, приверженцы идей 89-го года, например Тьер, защищали начало наследственности верхней палаты. Все это объясняется тем, что в политической жизни, согласно с учением Аристотеля, должно господствовать равенство не числительное, а пропорциональное, условия же политической способности могут быть весьма разнообразны. Мы возвратимся к этому вопросу впоследствии.
Совершенно иное значение имеет равенство в гражданской области. И тут есть отношения, к которым это начало не прилагается. Таковы отношения семейные. Семейство, так же как и государство, есть нравственно-юридический союз, в котором каждый член имеет свое место и свое особое назначение. Здесь люди относятся друг к другу не как свободные только лица, а как муж и жена, как родители и дети, как опекун и питомец. К отвлеченному, равному во всех признаку свободы присоединяются различные конкретные качества, из которых вытекают и различные юридические отношения. Поэтому здесь нельзя сказать, что права у всех одинаковы и что закон один для всех. Можно спорить об объеме прав, которые должны быть предоставлены тому или другому члену семьи, но невозможно держаться отвлеченного начала свободы, упуская из виду различное назначение членов. Никому еще не приходило в голову утверждать, что права детей в отношении к родителям должны быть те же самые, как и права родителей в отношении к детям. Иное положение людей собственно в гражданских обязательствах. Здесь они относятся друг к другу как свободные, следовательно, как равные лица. Подчинение одного человека другому в частной области может быть только добровольное. Обязательное подчинение есть крепостное состояние, которое противоречит природе человека как разумного существа. Стеснение свободы одних в сравнении с другими является несправедливостью. Равноправность составляет нормальный порядок, к которому пришли или должны прийти все образованные общества.
И тут, конечно, неизбежны исключения. Естественные или гражданские условия могут ограничивать правоспособность лиц. Несовершеннолетний, безумный, не могут пользоваться своими гражданскими правами наравне с другими. Но исключения подтверждают, а не уничтожают правило. Коренным началом гражданского порядка является все-таки равенство перед законом. В этом отношении дело Французской революции было громадным шагом вперед в развитии общественной жизни; оно сделалось прочным достоянием человечества. Так понимают его все сколько-нибудь значительные философы и публицисты, которые становятся на почву начал нового времени. Даже главный корифей феодальной партии в Германии, Шталь, признает, что все неравенства, вытекающие из естественных и гражданских условий, "должны сохранять существенное равенство прав как свою основу, лежащую в самой сущности лица. В этом, — говорит он, — заключается истина в заблуждениях революции. Есть общая гражданская правоспособность и честь, которая должна быть субстанциею юридического порядка. Неравенства же должны быть только привходящим признаком (accidens)"[114]. Тех же начал держатся и новейшие законодательства.
Между тем еще в XVIII веке, рядом с учением о равноправности граждан, развилось иное понятие о равенстве. Идеалом человеческого общежития выставлялось не равенство прав, а равенство состояний.
Начало этому направлению положил Руссо в своей "Речи о происхождении и основаниях неравенства между людьми". Сообразно с духом философии XVIII столетия, которая истинную природу человека искала в отдельном лице, отрешенном от всяких внешних условий, а в свойствах, проистекающих из общественных отношений, видела только ее искажение, Руссо обращается к состоянию, Предшествующему общежитию, чтобы в нем найти указания природы. Здесь, по его понятиям, люди пользуются полною свободою, и вместе господствует совершенное равенство, ибо потребностей почти нет; здесь физические силы при одинаковом образе жизни получают одинаковое развитие, а умственные способности, составляющие источник всех человеческих бедствий, вовсе еще не развиты. В этом состоянии люди наслаждаются внутренним миром и телесным здоровьем, а потому эту пору надобно представить себе как время полнейшего блаженства человеческого рода. Оно продолжается и тогда, когда люди, соединяясь, находятся еще на степени диких. Первым шагом из этого состояния, по мнению Руссо, был переход к земледелию, который повлек за собою установление собственности. "Первый, кто, оградивши участок земли, вздумал сказать: это мое, — говорит Руссо, — и нашел людей довольно глупых, чтобы ему поверить, был истинным основателем гражданского общества". С установлением собственности явилось различие между богатыми и бедными — первый источник неравенства среди людей. Отсюда проистекли раздоры, которые, в свою очередь, повели к новому неравенству. Для охранения спокойствия установлены были правительства, а с тем вместе явилось различие между правителями и подданными. Но и это новое неравенство, вместо того чтобы упрочить мир, сделалось источником новых смут. Последствием их было то, что вместо первоначального народного правления водворился деспотизм; с тем вместе явилось и третье различие между людьми, различие господ и рабов. Таким образом, первый шаг повлек за собою остальные. Неудержимым ходом событий естественный человек постепенно искажался. Установленный природою порядок заменился соединениями людей с искусственными наклонностями, страстями и отношениями[115].
Едва ли нужно заметить, что в этом фантастическом изображении хода истории природа человека понимается совершенно превратно. Как уже было замечено выше, истинная природа развивающегося существа раскрывается не в исходной точке, а в том, к чему ведет его развитие. Сам Руссо считал невозможным возвращение к первобытному состоянию. В своем "Общественном договоре" он прямо признает, что равенство, которое должно составлять цель законодателя, не означает одинаковой степени власти и богатства. Нужно только, чтобы власть никогда не доходила до насилия, а мера богатства была такова, чтобы, никто не был в состоянии подкупить другого, и никому не было бы нужды себя продавать. Цель тут ставится чисто политическая. Все стремление Руссо состояло в том, чтобы личную свободу заменить свободою политическою, а потому и равенство имело для него главным образом политическое значение.
Далее пошел Мабли. Извращая истинное отношение свободы и равенства, он последнее признавал коренным свойством человека, а в свободе видел только средство для охранения равенства. Природа, по его учению, прежде всего предназначила людей к тому, чтобы быть равными между собою. Доказательство Мабли видел в том, что для человека необходимо общежитие, а между тем, вступая в общество, он должен жертвовать своею свободою, тогда как равенство он может сохранять постоянно, и только в равенстве он может обрести внутреннее и внешнее согласие и счастие, между тем как неравенство, извращая естественные чувства человека, возбуждает в нем пагубные для него потребности и пороки. Тем, которые утверждали, что неравенство лежит в самой природе вещей, ибо люди рождаются с различными наклонностями, силами и способностями, Мабли возражал, что мы об истинной природе человека не должны судить по настоящему его состоянию. Различие способностей происходит главным образом от искусственного воспитания; при одинаковом же воспитании у всех были бы почти одинаковые таланты, а тот, кто возвышался бы над другими, находил бы себе вознаграждение в большем почете. Различие сил точно так же не может вести к неравенству, ибо силы одного далеко перевешиваются соединенными силами других. Что же касается до наклонностей, то их различие ведет лишь к теснейшему сближению между людьми, заставляя их искать помощи других. Самое установление правительств, пока они основаны на выборном начале, не может водворить постоянного неравенства между людьми, ибо каждый гражданин, при таком устройстве, имеет одинаковые права с другими, одинаково остается участником верховной власти и в свою очередь может занимать все общественные должности. Одна только собственность неизбежно ведет к неравенству; но было ли установление собственности необходимо для общежития? Мабли полагает, что нет. В первобытные времена могло существовать и действительно существовало общение имуществ, что же мешало ему сохраниться и позднее? Утверждают, что такого рода устройством отнимается побуждение к труду; но опять же не следует приписывать неиспорченному человеку тех чувств, которые развиваются только в развращенных обществах. Более трудолюбивые могут награждаться почетом. К сожалению, говорит Мабли, вместо того чтобы прибегнуть к этому средству, люди, негодуя на ленивых, положили правилом, что каждый должен жить плодами своего труда. Этот безрассудный шаг повлек за собою и другие. Как скоро установлена была собственность, так неравенство неудержимо распространилось на все общественные отношения.
Однако и Мабли, подобно Руссо, понимал невозможность осуществления своего идеала. Поэтому он предлагал только паллиативные меры. Законодатель должен стараться уменьшать, по возможности, потребности людей и более или менее уравнивать состояния посредством регламентации, охватывающей всю частную жизнь граждан. Эта цель достигается строгими законами о роскоши, ограничением наследства, стеснением торговли, наконец, аграрными законами, определяющими дозволенный каждому размер собственности. Мабли понимал вместе с тем, что материальное равенство немыслимо без равенства умственного и нравственного. Поэтому он требовал, чтобы воспитание было общее и равное для всех. Он требовал и установления общественной религии, с которою законодатель должен соглашать философию. Нетерпимость, по его учению, должна составлять основное правило законодательства; терпимость же, равно как и право собственности, является не более как уступкою извращенному человечеству.
При таком гражданском порядке, очевидно, о свободе не может быть речи. Отсюда оставался только один шаг до полного общения имуществ. Если философы XVIII столетия, жившие среди веками установленных учреждений, считали невозможным возвращение к первобытному состоянию, то людям, прожившим Французскую революцию, такого рода затруднения должны были казаться ничтожными. Почему, в самом деле, не разрушить разом все существующее экономическое здание, также как был разрушен старый политический быт? Если равенство состояний представляется идеалом человеческого общежития, то почему же не осуществить его на земле даже в настоящее время? Такова именно была цель заговора Бабёфа, которым ознаменовался последний период движения 1789 г.
Заговорщики исходили от того положения, что природа дала каждому человеку одинаковое право на вкушение всех жизненных благ. Отсюда требование равенства. Но для того чтобы равенство не осталось пустым словом, недостаточно одной равноправности, надобно уничтожить всякие преимущества одного человека перед другим. Поэтому не только материальные средства должны быть у всех равны, что достигается общением имуществ, но и умственный уровень должен быть одинаковый у всех.
Иначе дух неравенства неизбежно поведет к разложению общества, с этою целью все должны получить одинаковое воспитание, ограничивающееся самым необходимым. Читать, писать и считать, знать немного истории и законы отечества, вот все, что нужно гражданину. Все остальное есть роскошь, которая ведет к развитию искусственных потребностей и к искажению естественных свойств человека. Свобода мысли, разумеется, не допускается; все бесполезные занятия изгоняются из государства. Человеческие потребности сводятся к наименьшей мере. Сообразно с этим промышленность ограничивается земледелием и немногими ремеслами. Работа становится обязательною. Одним словом, установляется общая, принудительная мерка, приноровленная к незатейливым потребностям массы, и все, что возвышается над этим уровнем, отсекается как зло.
Более последовательного проведения начала равенства невозможно представить. Но в результате оказывается, что для этого необходимо совершенное подавление свободы. Противоречие между этими двумя началами обнаруживается в полном свете. И точно, если равенство формальное или равенство прав составляет логическое последствие одинаковой для всех свободы, то равенство материальное является прямым отрицанием свободы. Последняя состоит в возможности располагать по собственному усмотрению своими силами и средствами. Но так как силы и средства у людей неравны, то и плоды человеческой деятельности будут разные. Сильный приобретает более, нежели слабый, умный более, нежели глупый, трудолюбивый более, нежели ленивый; а если у них есть дети, и мы не захотим насиловать естественные человеческие чувства, то они и детям передадут неравное достояние.
Невозможно ссылаться, как делает Мабли, на то, что мы по развращенному человеку не должны судить о том, чем он был, когда он вышел из рук природы. Конечно, если мы умственно откинем все жизненное разнообразие и путем отвлечения будем восходить к состоянию полного безразличия, то мы получим наконец иного человека, нежели тот, которого мы знаем; но это будет не более как пустая единица, которая потому только равна другой, что у нее нет никакого содержания. Как же скоро эта единица начинает жить и наполняется содержанием, так неизбежно проявляется неравенство, и тогда приходится принимать искусственные меры, чтобы его устранить. Мабли, не надеясь осуществить свой идеал, предлагает паллиативные меры; Бабёф последовательно проводит свое начало до конца; но оба сходятся в одном, именно в том, чтр материальное равенство немыслимо, если предоставить человеку свободу. Чтобы осуществить материальное равенство, надобно не только уравнять имущества, ограничивши право человека распоряжаться приобретенным или даже отнявши у него всякую собственность и превративши его работу в обязательный урок, но необходимо подавить в человеке всякие возвышающиеся над общим уровнем потребности и стремления; надобно, посредством воспитания, влить его, как мягкий воск, в общую форму, в которой бы могло вмещаться самое обыкновенное содержание и таким образом сделать его неспособным подняться над толпою. Греки этот способ действия изобразили в замысловатом мифе о разбойнике Прокрусте, который свои жертвы клал на железную кровать, и затем у одних обрезывал слишком длинные оконечности, а других насильственно вытягивал до указанной мерки. Но греки за такое изобретение осуждали Прокруста на вечные страдания в Тартаре; социалисты же нового времени выставляют эту адскую пытку идеалом человеческого общежития.
Во имя чего же, однако, водворяется такая неслыханная тирания? Мабли уверяет, что не свобода, а равенство составляет естественный закон для человека; свобода же является только средством для охранения равенства. Мы уже заметали, что это значит совершенно извращать истинное отношение этих двух начал. Люди не равны друг другу ни относительно физических, ни относительно умственных и нравственных сил и способностей. Все конкретные свойства у них бесконечно разнообразны. Они равны только как люди вообще, отвлеченно взятые, то есть как разумно-нравственные, а потому свободные существа. Следовательно, равенство вытекает из свободы, а не наоборот. Но принадлежащее свободе равенство есть равенство прав и ничто другое, ибо действительные проявления свободы опять же бесконечно разнообразны. Свобода состоит в том, что каждый действует по собственному усмотрению, а не по чужой указке. Следовательно, у каждого результата будет свой, и никакого приравнивания одного к другому быть не может. Требовать, чтобы произведенное свободою было одинаково у всех, значит уничтожить свободу в самом ее корне и подчинить лицо общей, извне наложенной мерке.
Еще менее можно сказать, как Бабёф, а за ним и многие другие социалисты, что все люди имеют одинаковое право на пользование всеми жизненными благами. Здоровье, ум, красота, суть несомненно жизненные блага; скажем ли мы, что все должны пользоваться одинаковым здоровьем? что все должны быть одинаково умны? что всякая женщина имеет право быть также красивою, как и другая? Скажем ли мы, что никто не имеет права пользоваться большим семейным счастием, нежели его сосед? что все должны иметь одинаковое количество детей? наконец, что все должны наслаждаться одинаковым климатом и одинаковыми красотами природы? Все это очевидно нелепо, но эта нелепость заключается в основном положении. Если же нельзя требовать равенства в благах, присущих самому лицу человека и окружающей его обстановке, то еще менее можно требовать равенства в материальных благах, которые состоят в зависимости от первых. Можно ли сказать, не нарушая самых первых оснований справедливости, что тот, кто ленился, должен пользоваться одинаковыми благами с тем, кто работал; кто расточал свое достояние с тем, кто его сберегал; кто не умел ничего приобрести с тем, кто умел приобретать? С какой бы стороны мы ни взяли этот вопрос, равное пользование жизненными благами везде оказывается чистою химерою, противоречащею и природе человека и свойству человеческих отношений. Не право на пользование жизненными благами, а право на свободную деятельность для приобретения этих благ, принадлежит человеку; то есть ему может быть присвоено равенство формальное, а никак не материальное. Действительное же осуществление этого права, будучи предоставлено свободе, столь же разнообразно, как самые свойства, наклонности, чувства, мысли и положения людей.
Социализм XIX века перенес вопрос о распределении жизненных благ с почвы личной на почву общественную. Он искал мерила, на основании которого общество должно совершать это распределение между своими членами. Сообразно с тем или другим решением этого вопроса различными школами высказывалось различное понимание самой идеи равенства. Мы видели уже, что сен-симонисты в основание своего общественного устройства полагали не числительное, а пропорциональное равенство, согласно с формулою; "каждому по способности". Это начало бесспорно выше арифметического равенства; но приложенное к промышленной области и оно ведет к уничтожению свободы, ибо определение способностей предоставляется общественной власти, облеченной неограниченным правом распределять жизненные блага по своему усмотрению. Еще более удалялся от числительного равенства Фурье, который формулу сен-симонистов заменил другою: "каждому по его труду, капиталу и таланту". Напротив, коммунизм возвел равенство в абсолютный догмат, выводя его из общего братства людей. Природа, говорит Кабе, есть общая мать человеческого рода, все люди — ее дети и братья между собою. А так как братья все равны, то они должны иметь равное участие во всех дарованных природою благах. Существующие между ними различия не мешают им иметь одинаковые права и обязанности и пользоваться одинаковым счастием, так же как различия между детьми не мешают им пользоваться одинаковою любовью родителей[116].
Здесь равенство выводится из нравственного начала братства; но на чем основывается этот вывод? На том, что весь человеческий род составляет одну семью и что все люди — дети какого-то неопределенного существа, именуемого природою, о котором сам Кабе говорит, что бесполезно и даже опасно исследовать его сущность, ибо, вследствие несовершенства человеческого разума, это ведет только к бесконечным спорам. И на подобном фундаменте коммунисты считают возможным построить все свое общественное здание! Очевидно, что это учение не что иное как сколок христианства, которое всех людей признает сынами Божьими и братьями между собою. Но коммунисты отвергают религиозное основание этого учения, которое одно дает ему смысл, а берут только вывод, который вследствие этого теряет всякую почву и получает совершенно превратное значение. Действительно, христианство провозглашает всеобщее братство людей; но оно провозглашает его как нравственно-религиозное начало, обязательное для совести, но отнюдь не принудительное, ибо любви предписать нельзя. Поэтому ни одно христианское государство никогда не думало превратить любовь в право и сделать ее основанием гражданского порядка. Принудительная любовь есть чудовищное начало, посягательство на священнейшие основы человеческого естества. Между тем именно на этом извращенном начале строит всю свою теорию коммунизм. Неизбежным последствием такого порядка является опять-таки полное подавление свободы. Всякая личная собственность отвергается. Члены общества должны быть равны, не только в правах и обязанностях, но и в работе и наслаждениях. Общество, большинством голосов, решает все вопросы относительно пищи, одежды, жилища, браков, семейства, воспитания, работы и т. п., причем исповедуется, в виде догмата, что никто не почувствует ни малейшей неприятности, повинуясь закону, изданному в интересе всех. Исповедуется также, что в обществе не будет ни пьяниц, ни воров, ни лентяев, хотя не видать, отчего бы им не быть, ибо им очевидно всего лучше жилось бы в таком обществе, где они беспрепятственно могли бы пользоваться плодами чужого труда. Прудон справедливо замечает, что под именем равенства коммунизм устанавливает величайшее неравенство: он узаконивает эксплуатацию сильного слабым. Здесь, говорит он, "сильный должен исполнять работу за слабого, хотя эта обязанность добровольная, а не принудительная, совет, а не предписание; трудолюбивый должен работать за лентяя, хота это несправедливо; умелый за идиота, хотя это нелепо; наконец, человек, откидывая свое я, свою самопроизвольность, свой гений, свои привязанности, должен почтительно уничтожаться перед величием и непреклонностью общины… Коммунизм, продолжает он, есть притеснение и рабство. Человек согласен подчиниться закону долга, служить отечеству, оказывать услуги друзьям; но он хочет трудиться над тем, что ему нравится, когда ему нравится и сколько ему нравится; он хочет располагать своими часами, повиноваться только необходимости, выбирать своих друзей, свои досуги, свою дисциплину, оказывать услуги по собственному усмотрению, а не по приказанию, жертвовать собою по эгоизму, а не по рабской обязанности. Общение имуществ существенно противоречит свободному употреблению наших способностей, самым благородным нашим наклонностям, самым заветным нашим чувствам… оно насилует автономию совести и начало равенства: первую, подавляя самопроизвольность ума и сердца, свободу в действии и в мысли, второе, награждая равенством благосостояния труд и лень, талант и глупость, наконец даже добродетель и порок"[117]. Таким образом, и тут во всей своей яркости обнаруживается противоречие между свободою и равенством.
Сам Прудон пытался сочетать оба начала, но столь же неуспешно, как и его предшественники. Если он ясен в критике, направленной против коммунизма, то в выводе собственной теории он принужден облекаться в туманные фразы, под которыми скрывается совершенная пустота содержания. В противоположность коммунистам, он отвергает равенство в пользовании жизненными благами, которое зависит от воли лица, но он признает равенство в распределении средств приобретения. Это равенство он выводит из самого существа общежития. Все люди, по его мнению, волею или неволею, силою вещей, состоят товарищами друг с другом. Их связывают общие потребности, законы производства, наконец математическое начало мены. "Но всякое товарищество, — говорит Прудон, — торговое, промышленное, земледельческое, немыслимо вне равенства; равенство составляет необходимое условие его существованья". В этом состоит существо правды, которую Прудон определяет как "признание в другом равной с нами личности". Правое, по древнему изречению, есть равное, неправое — неравное. Следовательно, действовать справедливо значит дать каждому равную долю благ, под условием равной работы[118].
Немного нужно размышления, чтобы видеть, до какой степени все эти выводы произвольны. Прежде всего, никак нельзя согласиться с тем, что все люди, в силу потребностей и мены, состоят друг с другом в отношениях товарищества, наподобие торговой компании. Из того, что мне случается обменяться произведениями с жителем Южной Америки, вовсе не следует, чтобы я был с ним постоянно связан во всем остальном. Прудон распространяет это начало так далеко, что по его теории, если я в кораблекрушении вижу человека тонущего и не подаю ему помощи, то я нарушаю в отношении к нему обязанность товарища. Это значит смешивать нравственную связь людей с экономическою. Если я не подаю помощи утопающему, то я нарушаю нравственную обязанность человеколюбия, но это не имеет никакого отношения к законам производства и мены. Во имя последнего начала я должен бы был торговаться с ним о плате.
Точно так же и признание в другом равной с нами личности вытекает из уважения к природе человека, как разумно-свободного существа, а отнюдь не из товарищества или из экономических отношений. Но признание в другом равной с нами личности столь же мало влечет за собою равенство средств приобретения, как и равенство пола, возраста, физической силы, роста, красоты, умственных способностей и т. д. В людях равно только отвлеченное качество человека, а вовсе не те или другие конкретные признаки лица, и еще менее внешние принадлежности. Справедливо, что равенство есть свойство правды, но надобно знать, какое равенство и в чем? Мы видели, что равенство может быть числительное и пропорциональное и что воздаяние равного неравным лицам вовсе не есть требование правды, а наоборот. Это признает и Прудон, когда он говорит, что несправедливо давать одинаковую плату трудящемуся и ленивому. Поэтому невозможно ссылаться на древнее изречение, не разобравши, в чем дело. Это ведет только к полнейшей путанице понятий.
Всего менее из равноправности лиц следует равенство товарищеских отношений. Непонятно, откуда Прудон взял, что промышленное и всякое другое товарищество немыслимо иначе, как при полном равенстве членов. Значение каждого лица в каком бы то ни было товариществе определяется, формально, взаимными условиями, а материально, тем, что каждый в него вносит. Кто вносит больше, тот, очевидно, должен и получать больше. Руководитель предприятия не может стоять на одной доске с простым исполнителем, например, архитектор с каменщиком. Точно так же и в акционерных обществах имеющий больше акций получает и большее количество голосов. Ввиду этого Прудон из своего общего положения о товариществе исключает собственника, который, по его мнению, не есть чей-либо товарищ, ибо он берет себе лишнее против других. Но если мы устраним собственность, то не будет никакого торгового товарищества: останется одна фикция. Фантастические товарищества, отрешенные от всех жизненных условий, могут представляться состоящими из совершенно равноправных членов, ибо тут не остается ничего, кроме голых единиц; действительные же товарищества совмещают в себе самые разнообразные условия.
Наконец, всего менее удачна попытка согласить равенство с свободою. Прудон называет свободою общественный порядок, сочетающий в себе начала коммунизма и собственности. Тут признается "взаимная независимость лиц, или автономия частного разума, вытекающая из различия талантов и способностей". Но в чем состоят признаваемые Прудоном права таланта? Мы уже это видели выше. Талант, по его мнению, составляет общественную собственность; он создан обществом и принадлежит не лицу, а обществу, которое, по этому самому, присваивает себе его произведения. Мало того: обществу, по теории Прудона, принадлежат произведения не только таланта, но и всякого труда. Работник живет и умирает неоплатным должником общества. Чем же, спрашивается, эта свобода отличается от рабства? Но мы не удивимся этому противоречию, если посмотрим на то, что Прудон разумеет под именем свободы. Он слово libertas (свобода) производит от libra (весы). "Свобода, — говорит он, — есть равновесие прав и обязанностей: сделать человека свободным значит уравновесить его с другими, то есть поставить его на один с ними уровень"[119]. Оказывается, что идеал свободы есть прокрустово ложе, то есть разбойничья пытка.
В конце концов выходит все-таки, что материальное равенство равнозначительно с рабством; оно мыслимо только при полном подавлении человеческой свободы и всех личных особенностей. А так как единственное основание равенства заключается в свободе, то ясно, что материальное равенство есть противоречащее себе начало, ибо оно уничтожает собственное свое основание. Таков совершенно очевидный результат разбора социалистических учений, результат, признаваемый всеми, кто умеет связывать свои понятия.
Несмотря на то, новейшие социалисты кафедры и социал-политики храбро утверждают, что социалисты логически правы, когда они из признанного современными обществами начала равенства выводят равенство состояний. "Приобретение юридического политического равенства, — говорит Адольф Вагнер, — имеет для значительной части народонаселения весьма малую цену без доставления ему дальнейшего последствия начала равенства, именно, без равенства экономического положения, или, по крайней мере, условий производства. Но этого последствия не хотела вывести политическая экономия, столь же мало как и философия права и политика. Напротив, теория коммунизма и социализма его вывела и логически с полным правом, раз признаются посылки, из которых вытекло требование равенства. С своей стороны, низшие классы, психологически весьма понятным образом, возвели именно это равенство в практическое требование. Отсюда последовательно произошла борьба против исторически нажитых, существующих имущественных отношений, против частной поземельной собственности, частного капитала, наследственного права. Отсюда, иными словами, происхождение новейшего "социального вопроса", который, по крайней мере с этой точки зрения, можно формулировать как вошедшее в сознание противоречие между существующим экономическим развитием и представляющимся как идеал, а вместе и осуществляющимся в политической жизни началом общественного развития, свободою и равенством" (Grundlegung, стр. 361).
Без сомнения, такого смелого суждения невозможно было бы произнести ввиду всего света, если бы тут же выставлены были истинные основания, из которых в гражданской и политической области выводится начало равенства. Тогда тотчас же обнаружилось бы, что между посылками и заключением не только нет никакой связи, но что одно противоречит другому. Но именно эти основания представлены в совершенно превратном виде. По мнению Вагнера, начало личного равенства заключает в себе равноправность в личном и хозяйственном обороте; равноправность же состоит в установлении равных для всех условий хозяйственного состязания. Вагнер видит в этом требование справедливости, вследствие чего он принципиально отвергает всякое неравенство, которое не может быть сведено на различные результаты личной хозяйственной деятельности (Grundlegung, стр. 357). С этой точки зрения мы, без сомнения, должны признать равенство материальных средств для ведения борьбы необходимым условием правильных экономических отношений: это равенство заключается уже в самой посылке и нам вовсе даже не нужно его выводить. Но дело в том, что самая посылка совершенно произвольна. В действительности равноправность вовсе не состоит в установлении равных для всех условий хозяйственной борьбы, столь же мало в материальном, как и в умственном отношении. Равноправность означает установление для всех равных прав, то есть подчинение всех одинаковому закону, а вовсе не дарование всем одинаковых материальных средств или одинаковых умственных способностей и образования, что требовалось бы для равенства борьбы. Так понимали это начало те, которые его провозглашали, и так понимают его все те, которые знакомы с теориею и практикою гражданской жизни. Равноправность заключает в себе одинаковое для всех охранение личной свободы и собственности, исполнение обязательств, уважение к наследственному праву, то есть именно все то, что отвергается социализмом. Следовательно, учение социалистов является не последовательным приложением начал нового времени, а напротив, отрицанием этих начал. Сам Вагнер справедливо замечает, что равенство, дитя философии XVIII века, составляет принадлежность индивидуалистической точки зрения; социализм же является радикальным протестом против этой точки зрения. Равенство вытекает из личного начала; социализм же весь основан на поглощении лица обществом. Отсюда ясно, что проповедуя равенство, социализм опирается на то самое, что он отвергает.
Признавая равенство материальных средств логическим выводом из начал нового времени, Вагнер не думает, однако, поддерживать его безусловно. С своею эклектическою манерою он отвергает всякое последовательно проведенное начало как отвлеченную теорию, и довольствуется частными соображениями, представляющими сделку между противоположными точками зрения. Но так как эти соображения лишены надлежащего основания и связи, то они теряют всякое теоретическое и практическое значение. Отсюда положения, которые могут поражать только своею странностью. Мы уже видели выше, что Вагнер призывает, в виде неоспоримой истины, что каждый в силу свободы и равенства имеет одинаковое с другими право на продолжение своего существования и на все условия, которые для этого требуются. Из этого он выводит как необходимое следствие чудовищное положение, что никто не имеет права на малейший избыток, пока есть хотя один член общества, которому недостает необходимого (Grundlegung, стр. 121–122). Мы не станем повторять, что такого рода право не что иное как вымысел. В действительности подача помощи нуждающемуся всегда и везде признавалась обязанностью человеколюбия, а отнюдь не приложением начал свободы и равенства. Из равноправности людей благотворительности вывести нельзя.
Итак, мы приходим к заключению, что если формальное равенство, или равенство перед законом, составляет требование свободы, то материальное равенство, или равенство состояний, противоречит свободе. Как свободное существо, всякий человек, одинаково с другими, является независимым источником деятельности; но так как материальные и умственные силы и способности людей, их наклонности, их положения, наконец те условия и обстоятельства, среди которых они действуют, неравны, то и результаты их деятельности не могут быть одинаковы. Свобода необходимо ведет к неравенству. Отсюда ясно, что уничтожить неравенство можно только подавивши самую свободу, из которой оно истекает, искоренивши в человеке самостоятельный центр жизни и деятельности, и превративши его в орудие общественной власти, которая, налагая на всех общую мерку, может, конечно, установить общее равенство, но равенство не свободы, а рабства.
В этом присущем самой природе человека неравенстве выражается общий закон мироздания. Природа повсюду установила неравенство сил, свойств и положений, ибо только этим путем проявляется все бесконечное разнообразие жизни.
От этого мирового закона не изъят и человек. И он поставлен природою в бесконечно разнообразные условия, которыми определяется все его существование. Одни родятся под полярными льдами, другие под знойным солнцем экватора, третьи в благословенном климате, где господствует вечная весна. Одни почти даром получают все от природы; другие каждую пядь своей почвы должны завоевывать упорным трудом. Одни окружающими их пустынями как бы отрезаны от остального человечества; другие пользуются всеми выгодами естественных сообщений, доставляющих и удобства жизни и возможность высшего развития. К этому присоединяется различие рас. Есть расы как бы привилегированные и предназначенные стоять во главе человечества, и другие, по-видимому, неспособные подняться на сколько-нибудь высокий уровень образования. Сгладится ли когда-нибудь это различие, достигнет ли когда-нибудь человечество такого состояния, в котором все расы будут стоять на одинаковой высоте духовного развития, мы не знаем. Но в течение всей прошедшей истории это различие составляет коренной закон человеческой жизни, и целые племена вымирают при соприкосновении с высшею цивилизациею. Наконец, такое же различие существует и между личными силами и способностями, с которыми человек является на свет. Один появляется сильным и здоровым, другой хилым и слабым. То же самое имеет место относительно умственных способностей. Утверждать, что все люди, по природе, одинаково способны и что различия происходят единственно от развития и воспитания, можно только отвернувши глаза от действительности. Мы знаем, что родятся гении, родятся и идиоты. Между этими двумя крайностями лежит целая лестница, с бесконечным разнообразием оттенков. Дары природы не на всех сыплются одинаково, не распределяются между всеми поровну, но следуя мировому закону, проявляются в бесчисленных оттенках и степенях, осуществляя в жизни все то разнообразие и все те крайности, какие совместны с внутреннею природою существ. К этим обусловленным природою различиям в человеке присоединяются другие, проистекающие из особенностей человеческого естества. Человек в своей деятельности не отправляется чисто от самого себя; он не начинает с ничего. Все человеческое развитие основано на том, что каждое поколение продолжает работу своих отцов. Точку отправления для него составляет полученное от них достояние, которое оно, в свою очередь, умножает своим трудом, с тем, чтобы передать его своим наследникам. Не для всех эта точка отправления одинакова. Кто больше приобрел, тот больше передаст своим детям. Отсюда новый источник неравенства, которое иногда увеличивает, а иногда умеряет естественное неравенство способностей. В силу этого начала люди рождаются не только умными или глупыми, сильными или слабыми, здоровыми или больными, но и богатыми или бедными, знатными или темными, с условиями дальнейшего образования или с препятствиями высшему развитию. И это различие унаследованного достояния имеет значение не только для отдельных лиц, но и для целых народов, из которых одни пользуются всеми выгодами накопленной веками цивилизации, а другие коснеют в первобытном состоянии.
Совместно ли такое неравное распределение жизненных благ с требованиями справедливости? За что один от рождения получает все преимущества, а другой ничего? За то же, за что один рождается под полюсом, а другой под экватором, один черным, а другой белым, один умным, а другой глупым, один здоровым, а другой больным. Религиозный человек видит в этом волю Провидения, которое каждому определяет его место на земле, сообразно с его назначением в настоящем и будущем мире. Эта вера служит человеку поддержкою в жизни и утешением в постигающих его невзгодах. Истинная философия подтверждает этот взгляд, ибо и она, в силу необходимых требований разума, приводит человека к познанию всемогущего, премудрого и всеблагого Существа, управляющего миром и располагающего человеческою судьбою. Те же, которые не признают ни религии, ни философии, должны довольствоваться тем, что неравенство положений есть мировой закон, от которого человек столь же мало изъят, как и все остальные существа. Возмущаться против него нелепо и отвергать его нет никаких оснований, ибо во имя чего стали бы мы против него ополчаться? Во имя справедливости, которая будто бы требует, чтобы никто по рождению не имел преимуществ перед другим? Но в таком случае мы должны признать несправедливым, что один рождается более сильным, более здоровым, более красивым, более умным, нежели другой. А так как это нелепо, то очевидно, что наше требование неуместно. Те, которые держатся чистого опыта, могут объяснить неравенство сил и способностей, достающихся людям по рождению, единственно тем, что эти свойства они получили от родителей, произведших их на свет. Но если мы должны довольствоваться этим объяснением, то во имя чего будем мы отвергать другие наследственные преимущества? Если родители могут передать своим детям лучшее здоровье, большую силу, красоту или умственные способности, нежели какими обладают другие, то почему же они не могут передать им большее богатство или лучшее воспитание? Не справедливость, а единственно зависть может возмущаться против такого рода преимуществ. Справедливость же требует, чтобы каждому воздавалось свое. Она возмутилась бы, напротив, если бы неравные лица были подведены под равную мерку, если бы во имя отвлеченного равенства мы стали отнимать у одних, чтобы давать другим. Она возмутилась бы, если бы мы стали калечить здорового, потому что существуют увечные, безобразить красивого, потому что есть уроды, лишать образования умного, потому что глупые не в состоянии учиться, отнимать наследство у богатого, потому что другому отец ничего не оставил. Человеческие законы, вытекающие из самой природы человека, нисколько не требуют к себе меньшего уважения, нежели законы естественные. Посягательство на те и другие одинаково составляет нарушение справедливости. Конечно, человек более властен над теми законами, которые осуществляются через посредство его сознания. Но если он волен отнимать наследство у богатого, то ничто не мешает ему отрезывать ноги у здоровых, обливать серною кислотою лица красивых, или наконец сдавливать череп у всех новорожденных, с тем чтобы низвести их на одинаковую степень умственного отупения. Будет ли все это согласно с требованиями справедливости?
Закон неравного распределения сил, способностей и жизненных благ не налагает, однако, на человека неизменной и неизгладимой печати, которая вечно приковывала бы его к одному и тому же месту, в естественном порядке или в общественной иерархии. Неравенство преимуществ, приобретаемых рождением, не есть роковое определение, от которого бы он не мог отрешиться. То, что человек получает от рождения, составляет для него только исходную точку; все дальнейшее движение зависит от собственной его деятельности. Как свободное существо, он может оторваться от родившей его почвы, создать себе новые условия жизни, подняться на высшую ступень. В этом отношении он сам в значительной степени является создателем своей судьбы. Но как бы он ни был свободен, он все-таки в значительной степени зависит и от своей исходной точки, и от обстоятельств, которыми он окружен, а еще более от вечных законов, управляющих человеческою жизнью и человеческим развитием. Свобода не состоит в том, чтобы произвольно сочинять себе жизненные планы и исполнять их по своему усмотрению. Действовать с успехом, нарушая законы человеческого общежития, столь же мало возможно, как построить машину, не соображаясь с законами механики. Конечно, подобную машину построить можно; но она не пойдет. Точно так же можно сочинить и какое угодно общество, но оно разрушится.
Мало того: свобода, дающая человеку возможность оторваться от первоначальных своих определений и изменить в свою пользу неравенство положений, сама ведет к новому неравенству. К естественному разнообразию, проистекающему из различия условий, при которых рождаются люди, присоединяется разнообразие, проистекающее из свободной их деятельности, а последнее гораздо значительнее первого. Мы видим, что животные одной породы все более или менее похожи друг на друга; из людей же ни один не похож на другого: каждый имеет свою физиономию и свой характер. Источник этого различия заключается именно в свободе: она делает каждого человека своеобразным существом, который по-своему отражает в себе вселенную и по-своему переводит свое сознание в жизнь.
Наконец, к тому же ведут и законы, управляющие развитием человеческих обществ. История человечества показывает, каким образом лежащее в глубине духа разнообразие элементов производит бесконечное разнообразие в положениях людей. В первобытном состоянии все люди более или менее носят на себе одинаковый тип. Тут господствуют одни естественные различия, как то: мужа и жены, отца и детей; между общественными классами нет еще резкой противоположности. Но как скоро начинается историческое движение, так неизбежно водворяется общественное неравенство. Высшие классы выделяются из общей массы; является противоположность высших и низших. Иначе и быть не может, ибо образование первоначально составляет достояние немногих, и только мало-помалу, медленным историческим процессом и в бесконечной постепенности, оно распространяется на остальных. Вследствие этого высшее сознание всегда является достоянием меньшинства, которое этим самым выделяется из толпы и становится особняком. Начало развития производит как бы брожение в однородной массе; различные, заключающиеся в ней элементы отделяются и обособляются; одни всплывают наверх, другие опускаются вниз. На вершине водворяется уже новая жизнь, пока низшие слои остаются погруженными в безразличное состояние.
Этот закон, очевидный для всякого, кто сколько-нибудь знаком с историею, признается даже теми, которые в значительной степени разделяют воззрения социалистов. "Потребности культуры, — говорит Адольф Вагнер, — возникают и развиваются прежде всего у таких лиц, которые хотя отчасти избавлены от заботы о своем материальном существовании. Через это они выигрывают время для другой деятельности и досуг для развития своей духовной жизни, предположения необходимые для того, чтобы почувствовались потребности культуры. А эти предположения, в свою очередь, связаны с другим предположением, именно, что существуют лица и классы, которые избавляют первых от заботы о своем материальном существовании. Таким образом, общественное и экономическое неравенство составляет предварительное условие для первоначального возникновения всякой высшей культуры… И позднее, насколько, до известной степени, потребности культуры всегда возникают и развиваются сперва у отдельных лиц или в маленьком круге, можно и должно признать необходимым существование значительного низшего слоя, который преимущественно производит материальные условия существования целого народа и сам принимает лишь небольшое участие в утонченных и высших потребностях" (Grundlegung, стр. 129–130).
Это проистекающее из человеческого развития неравенство имеет, однако, различное значение на различных ступенях исторического процесса. Если первый шаг вперед состоит в выделении противоположностей из безразличной массы, то дальнейшее движение ведет к тому, что противоположности опять сводятся к высшему единству. Таков общий закон человеческого развития. Но это высшее единство водворяется не уничтожением противоположностей и не возвращением к первобытному безразлично, а вставлением между ними средних степеней, которые, связывая крайности, делают из них одно гармоническое целое. Таким образом, плоды исторического развития не пропадают; выработанное историею разнообразие сохраняется, но различия незаметно переходят одно в другое, причем средние элементы получают преобладание над крайними. Это и есть нормальное распределение неравенства, тот закон, который господствует и в природе, и в естественном порядке человеческих отношений. Статистика, на основании опытных данных, вывела этот закон под именем теории среднего человека, а с своей стороны, философы и публицисты, как древние, так и новые, которые глубже других взглянули на существо и свойства общественных отношений, видят в нем одно из основных начал нормального общежития. Отсюда учение Аристотеля о преобладании средних классов в идеальном обществе, учение, которое возобновилось и в наше время в теории конституционной монархии. Законы человеческого развития несколько видоизменяют это естественное распределение неравенства, ибо тут, на посредствующих ступенях, является выделение и борьба противоположностей. Но преобладание крайностей всегда составляет только переходное состояние, которое с дальнейшим движением неизбежно уступает опять господству средних элементов. Таким образом, если развивающееся общество временно удаляется от нормального порядка, то Оно снова к нему возвращается, но возвращается после того как выделилось и упрочилось все то разнообразие, которое лежит в глубине человеческой природы. Затем, дальнейшее движение состоит в том, что этот средний уровень поднимается выше и выше; но это совершается опять же не искусственным уравнением, которое, уничтожая естественно развившееся разнообразие, ведет к первобытной дикости, а тем же свободным движением общественных сил, при котором всякое улучшение, начинаясь с немногих, мало-помалу распространяется и на всю массу.
Достижению этой цели в значительной степени содействует сознание и утверждение в жизни истинных начал права. Мы видели, что существенное значение права состоит в охранении человеческой свободы. Между тем развитие материального неравенства ведет к борьбе противоположных элементов, а вследствие того, к покорению слабых сильными. На низших своих ступенях право закрепляет это подчинение; оно охраняет свободу сильных, а не свободу слабых. Так, при господстве родового порядка, установляется безграничная власть мужа над женою, отца над детьми. С дальнейшим развитием водворяется рабство, узаконяется крепостное состояние, установляются гражданские и политические преимущества одного сословия перед другими. Естественное неравенство становится еще значительнее вследствие неравенства юридического. Но высшее развитие сознания и жизни приводит к иному взгляду. Люди начинают понимать, что несмотря на бесконечное неравенство сил, способностей и состояний, у всех одна и та же человеческая природа, из которой вытекают и одинаковые права. Каждый, наравне с другими, является разумно-свободным существом, а потому может требовать для себя одинаковой с другими свободы. Отсюда основное юридическое положение, что закон должен быть один для всех. Над бесконечным материальным разнообразием возвышается формальное начало, представляющее общечеловеческий элемент. Оно не уничтожает разнообразия, но оно сдерживает его в должных границах, мешая естественному неравенству перейти в неравенство юридическое, иными словами, мешая свободе одного посягать на свободу других. Живой деятельности естественных сил, материальных и духовных, предоставляется полный простор; но каждый может действовать только в пределах своего права, не нарушая чужого; права же для всех установляются одинаковые: все равно признаются разумно-свободными существами. Это и есть нормальный порядок человеческого общежития, высший плод, как теоретического сознания права, так и исторического его развития. Далее право не идет, и большего оно не в состоянии сделать. Как скоро оно выходит из этих границ, оно посягает на свободу человека, то есть разрушает собственное основание и становится в противоречие с самим собою.
Нет сомнения, однако, что этим не исчерпывается задача человеческих обществ. Если нормальное распределение неравенства ведет к преобладанию средних элементов, то все же остаются крайности. О тех, которые стоят выше среднего уровня, нечего заботиться, по крайней мере в материальном отношении: они в состоянии держаться на своих ногах. Но те, которые стоят ниже среднего уровня, могут нуждаться в помощи. Этому требованию может удовлетворить уже не право, а иное начало — любовь. Тут приходится уже не охранять свободу, а восполнять недостаток-средств. Это делается прежде всего частною благотворительностью; там же, где последняя оказывается недостаточною, на помощь приходит государство с своею администрациею. Но в обоих случаях человеколюбие является не нарушением, а восполнением права. Право одно для всех; человеколюбие же имеет в виду только известную часть общества, нуждающуюся в помощи. Если бы государство вздумало во имя этого начала изменять самое право, то есть вместо установления одинаковой свободы для всех, обирать богатых в пользу бедных, как требуют социалисты, то это было бы не только нарушением справедливости, но вместе с тем извращением коренных законов человеческого общежития. Прилагая приведенное выше суждение Прудона о коммунизме, можно сказать, что если рабство составляет эксплуатацию слабых сильными, то подобное начало было бы, напротив, эксплуатациею сильных слабыми. А последнее еще более, нежели первое, противоречит природе вещей. Порабощение слабых сильными, хотя и нарушает справедливость, соответствует по крайней мере естественному отношению сил. Порабощение же сильных слабыми представляет извращение этого отношения. Первое, как мы видели, составляет, на известных ступенях, условие высшего развития; последнее же является отрицанием развития, ибо оно налагает руку именно на те элементы, от которых зависит дальнейшее движение вперед. Подобная система не что иное как безумная попытка уничтожить плоды всей предшествующей истории человечества, и под предлогом равенства возвратиться к первобытному безразличию, то есть к состоянию диких.
Пока человек остается свободным существом, то есть пока он остается человеком, начала права должны сохраняться неприкосновенными. А потому должны сохраниться и собственность во всей своей полноте, и свобода договоров, и наследственное право, как неотъемлемая принадлежность семейного начала; рядом с формальным равенством должно сохраниться материальное неравенство, которое составляет неизбежное последствие свободного движения сил и которое одно дает возможность проявляться всему бесконечному разнообразию жизни. Посягать на эти начала значит посягать на коренные основы человеческой природы, на требования свободы, на достоинство человека как разумного существа. А так как именно на этих человеческих началах зиждется всякая разумная гражданственность и всякое просвещенное общежитие, то нарушение этих начал было бы вместе с тем разрушением истинных оснований общественной жизни.
Таков результат, к которому приводит нас исследование начал, управляющих юридическими отношениями, результат, равно оправдывающийся умозрением и опытом. Из предыдущего ясно, что право, вытекая из самой природы человека, из свойств, неразрывно связанных с духовною его сущностью, составляет стройную, цельную систему, в которой все части держатся друг-другом и связаны разумною связью. Но эта система не составляет только плод отвлеченного мышления; именно эта система развивается в истории и осуществляется в жизни. Умозрение подтверждается опытом, и в свою очередь опыт находит подтверждение в умозрении. Если, ввиду жизненных фактов, мы не можем смотреть на существующую систему права, выражающуюся в собственности, в договоре, в наследстве, только как на плод логического отвлечения, то с другой стороны, ввиду теоретической необходимости, мы столь же мало можем видеть в ней только преходящее историческое явление, которое со временем должно уступить место иному порядку. Согласие умозрения и опыта возводит эту систему на степень неопровержимой истины, или непреложного закона человеческого духа и человеческого развития. И этот вывод, если можно, еще более подкрепляется полною несостоятельностью противоположных воззрений, тою бесконечною путаницею понятий и теми вопиющими противоречиями, которыми характеризуется социализм всех видов, а вместе и тесно связанная с ним социал-политика. То будущее, о котором мечтают социалисты и социализующие политико-экономы, не что иное как праздная фантазия, равно лишенная и теоретического и практического основания, не имеющая опоры ни в умозрении, ни в опыте. Будущее имеет только то, что коренится в вечных и неизгладимых свойствах человеческого духа, и что, по этому самому, имеет корни во всей прошедшей истории человечества. Отсюда мы можем вынести непоколебимое убеждение, что создаваемое тысячелетиями здание человеческого общежития, несмотря на все обуревающие его невзгоды, не погибнет. Исчезнут перед светом разума лишь те учения, которые, коренясь в современной умственной анархии, обязаны своею силою единственно воззванием к страстям невежественных масс. Много горя и много страданий постигали и постигнут еще человечество на его многовековом пути; но лекарство против них оно может найти не в праздных мечтаньях утопистов и не в разрушительных стремлениях фанатиков, еще менее в жалких практических сделках между противоположными воззрениями, а лишь в ясной мысли, которая, возводя бесконечное разнообразие жизни к глубочайшим основам человеческого духа, одна способна связать прошедшее с будущим.
Книга II. Промышленность
Глава I.СВОБОДА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
В предыдущей книге мы рассматривали свободу как источник права и вывели проистекающие из нее юридические отношения. Но свобода есть вместе с тем и экономическое начало, она составляет источник промышленной деятельности. Отсюда рождается новый мир, мир экономических отношений, управляемых экономическими законами.
Промышленная, или хозяйственная, деятельность имеет целью удовлетворение материальных потребностей человека. Эти потребности могут быть двоякого рода: личные и общественные. Если лицо имеет свои физические нужды, то и общество как целое имеет свои материальные нужды. Защита, суд, администрация требуют материальных средств, которые могут быть удовлетворены только промышленного деятельностью.
Кто же судья всех этих потребностей? Очевидно, что судьей общественных потребностей может быть только общество или представляющая его власть, судьею же личных потребностей является само лицо как свободное существо. Потребности раба определяются господином, свободный человек сам определяет свои нужды и сам заботится об их удовлетворении. А так как далеко значительнейшая часть промышленной деятельности имеет задачею удовлетворение потребностей отдельных лиц, так как самые общественные потребности в значительной степени служат только средствами для удовлетворения личных потребностей, то ясно, что свободная воля лица является важнейшим определяющим началом всего экономического производства. Им установляется требование, удовлетворение которого составляет цель промышленной деятельности. Общественное начало служит здесь только восполнением.
Еще большее значение имеет личная воля в добывании средств для удовлетворения материальных потребностей. Эти средства извлекаются из окружающей природы. Но они не даются даром. Надобно покорить природу, приспособить ее богатства к человеческим нуждам, а для этого необходим труд. Обращенный на покорение природы труд составляет главный источник промышленного производства. Но труд есть чисто личное дело. Трудится не общество как целое, трудятся отдельные лица, и только из труда отдельных лиц общество может почерпать средства для удовлетворения своих собственных потребностей.
Хозяйственный труд может быть двоякий: свободный и крепостной. Мы уже видели историческое значение рабства. Оно обнаруживается в экономической области, так же как и в юридической. На низших ступенях экономического быта крепостной труд может быть выгоднее свободного. Это признается ныне всеми значительными экономистами. Человека, не прошедшего через школу высшей гражданственности, не привыкшего к постоянному труду и не понимающего своих настоящих выгод, надобно принудить к работе, для того чтобы извлечь из нее надлежащую пользу. Дикие, будучи предоставлены себе, мало работают и еще менее сберегают. Но крепостной труд производителен только до известной степени. Никогда принуждение не может заменить той внутренней энергии, которая проистекает из свободной самодеятельности. Свобода одна совместна с высшим существом человека, а потому одна в состоянии раскрыть все лежащие в нем силы. Раб работает лениво и без участия к своему делу. Между его человеческою природою и принудительною работою существует неустранимое противоречие, которое мешает успешности производства. Поэтому свобода составляет высшую норму и цель промышленного развития, так же как она составляет высшую норму и цель юридического порядка. Это едва ли подлежит спору.
Между тем в свободе кроется начало всякого индивидуализма. Как скоро мы признаем свободный труд нормальным источником промышленной деятельности, так вместе с тем мы признаем, что промышленность есть такая область, в которой по самому существу дела должен господствовать индивидуализм. Следовательно, те, которые восстают против индивидуалистического начала в экономическом мире, логически должны требовать уничтожения свободного труда. Это и делают последовательные социалисты. Те, которые, ополчаясь против индивидуализма, стоят вместе с тем за свободу труда, сами не понимают, что говорят, и обличают только внутреннее противоречие своих воззрений. Таковы новейшие социалисты кафедры.
Наконец, если свобода составляет исходную точку и движущую пружину всей экономической деятельности, то от нее же зависит и употребление плодов этой деятельности. Присвоение приобретенного тому, кто приобретал, есть столько же экономическое, сколько и юридическое начало. Право признает и охраняет его с формальной стороны, во имя справедливости, экономическая наука поддерживает его в видах достижения наилучших результатов деятельности: она провозглашает, что только при этом начале свободный труд может быть производителен. Вне этого остается одно рабство. Следовательно, с экономической, так же как и с юридической, точки зрения свобода и собственность неразрывно связаны друг с другом. Собственность же состоит в возможности свободно распоряжаться своим имуществом. Какое употребление человек сделает из того, что им приобретено, в этом он один судья и никто другой. Общество может только требовать от него известной доли доходов на общественные потребности, в остальном он полный хозяин. Как свободное существо, он один судья употребления своих средств, так же как он один судья употребления своих сил. Он может обратить их на свою или на чужую пользу; он может их потребить или сберечь для нового производства: во всем этом \ решение принадлежит ему одному. И этим только достигается самая цель производства — удовлетворение потребностей. Если свободный человек сам судья своих потребностей, то он точно так же сам судья своего удовлетворения. Никто другой за него этого решить не может. Отсюда общепризнанное правило, что каждый сам лучший судья своих интересов.
Таким образом, свобода составляет начало, середину и конец всей промышленной деятельности человека. Индивидуализм господствует здесь во всех сферах и на всех ступенях производства и потребления. И это вытекает не из временной только потребности, не из господствующей в известную эпоху односторонней точки зрения, а из самой природы вещей, из свободной человеческой деятельности, обращенной на покорение внешней природы целям человека. Люди могут сколько угодно соединять свои силы; пока они остаются свободными существами, следовательно, хозяевами своих сил и средств, это соединение может быть только делом свободного соглашения. Принуждение в области экономической деятельности совместно лишь с рабством.
Свобода составляет однако же только формальное начало человеческой деятельности; надобно определить ее содержание. Право довольствуется формальным охранением свободы, ибо оно само имеет формальный характер. Промышленность же дает содержание деятельности; а потому здесь необходимо знать: какие цели ставит себе человек и какими побуждениями он руководится?
В экономической области побуждениями к деятельности могут быть: 1) принуждение — начало несвободного труда; 2) личный интерес, или промышленная выгода; 3) нравственное начало — любовь; 4) общественное начало — стремление к общей пользе.
Если мы взглянем на то, что происходит в действительности, то мы увидим, что побуждением к промышленной деятельности всегда были и есть только два первые начала: принуждение составляет источник несвободного труда, личный интерес — источник труда свободного. Остальные два начала являются случайно и не играют существенной роли в экономической жизни человечества. Это относится не к современному только состоянию обществ, в которых, как уверяют, господствует односторонний индивидуализм, но и ко всему прошедшему. Даже при крепостном труде господствующим началом является личный интерес рабовладельцев, которому насильственно служат рабы. Отличие современного порядка от всех предшествующих исторических ступеней заключается единственно в том, что принудительный труд совершенно отменен, и остается один труд свободный. Вследствие этого личный интерес сделался исключительно владычествующим началом промышленного быта.
Таковы факты, раскрываемые опытом. Если мы, руководствуясь опытною методою, будем видеть в явлениях выражение естественных законов человеческой жизни, то мы должны будем сказать, что по свойствам человеческой природы личный интерес составляет основное начало всей промышленной деятельности. Напрасно против этого восставать или об этом жалеть; это — мировой факт, который можно устранять только изменивши самую природу человека, и заменивши иными побуждениями те, которыми он руководствовался от самого начала своего существования и до наших дней.
Между тем именно к этому стремятся социалисты. Отвергая мировой опыт, они противополагают тому, что есть, то, что должно быть; они хотят переделать человека на новый лад и указывают ему в будущем совершенно иные побуждения, нежели те, которыми он руководствуется в действительности. Не личный интерес, а нравственное и общественное начала должны, по их уверению, служить источником промышленной деятельности.
Возможно ли подобное превращение? И имеет ли такое требование какое-нибудь основание? Если, не довольствуясь исследованием фактов, мы станем изыскивать причины явлений, не увлекаясь односторонними взглядами, а стараясь сохранить беспристрастную точку зрения, мы легко убедимся, что то, в чем удостоверяет нас мировой опыт, не есть нечто случайное и преходящее, а вытекает из самой природы вещей. Каждая отрасль человеческой деятельности имеет свое начало, которое составляет в ней движущую силу, или жизненный элемент: в религии стремление к единению с Божеством, в науке любовь к истине, в искусстве чувство красоты, в политической жизни желание общего блага, наконец в промышленной области стремление к хозяйственной выгоде. Вся цель человека, прилагающего свой труд к покорению природы, состоит в том, чтобы произвести в материальной области более, нежели он тратит, и употребить этот избыток на удовлетворение человеческих потребностей. Это и есть материальная выгода, составляющая цель всякой промышленной деятельности, следовательно, интерес действующего лица. А так как произведенное человеком принадлежит ему и никому другому, и эта деятельность необходима для поддержания собственной его жизни и для улучшения его быта, то по самому существу дела этот интерес есть, прежде всего, интерес личный. Затем человек волен приобретенным распоряжаться как ему угодно, жертвовать своим достоянием на пользу ближних, раздавать свое имение нищим: все это не только не исключается промышленного деятельностью, но все это возможно единственно под условием промышленной деятельности, поставляющей себе целью материальную выгоду. Для того чтобы раздавать свое имущество, надобно его предварительно приобрести; приобретает же не тот, кто ставит себе задачею не получать никакой выгоды, а именно тот, кто имеет в виду получить выгоду. В противном случае, он не приобретет, а разорится, и ему нечего будет раздавать. Промышленная деятельность дает средства для благотворительности, но она сама не есть благотворительность. Если в последней человек побуждается бескорыстною любовью к ближнему, то в первой он побуждается стремлением к материальной выгоде, без которой невозможно никакое промышленное производство. Наивыгоднейшее приложение своего труда и своих средств — таково коренное начало, управляющее всею областью экономических отношений. Против этого говорят, что такое воззрение не что иное как освящение грубейшего эгоизма и отрицание в человеке всяких нравственных побуждений. Эти возгласы до сих пор повторяются и социалистами-утопистами и социалистами кафедры. Но едва ли в них можно найти что-либо, кроме риторики. Когда политическую экономию обвиняют в эгоизме, то хотят ненавистным словом прикрыть скудость понятий.
В действительности эгоизм и личный интерес вовсе не тождественны. Эгоизм есть извращение личного интереса; это — личный интерес, отрицающий всякие нравственные побуждения в человеке и не признающий ничего, кроме самого себя. Между тем личный интерес сам по себе, и особенно в той форме, в которой он является в правильной промышленной деятельности, вовсе не исключает нравственных побуждений; напротив, он допускает их вполне.
Стремление к промышленной выгоде, составляющее основное начало промышленной деятельности, имеет свой корень в неизгладимых потребностях человеческой природы. Для того чтобы жить, человек нуждается в материальных благах, а эти блага надобно приобрести. Как существо, живущее не одним настоящим днем, он приобретает и для будущего. Наконец, как развивающееся существо, он имеет вечно присущее ему стремление к улучшению своего материального состояния. Такое стремление не только не противоречит нравственным требованиям, а составляет одну из существенных и необходимых задач человеческой жизни. Если бы человек был создан чисто духовным существом, то вся эта сторона его природы несомненно бы отпадала. Но в нем соединяется двоякий элемент: телесный и духовный. Человек поставлен в материальной среде, и земное его призвание состоит в том, чтобы подчинить себе физическую природу. Улучшение материального быта составляет необходимое условие самого духовного развития. Человек, гнетомый нуждою, принужденный посвятить всю свою жизнь материальному труду и удовлетворению физических потребностей, не имеет ни возможности, ни досуга развиваться умственно. Только в обществах, где есть материальное обеспечение, является высшая духовная жизнь. История доказывает это неопровержимым образом.
Самая деятельность, посредством которой в свободном обществе приобретается материальное благосостояние, носит на себе нравственный характер. Труд есть не только экономическое, но и нравственное начало. Признание высокого его нравственного значения знаменует тот громадный шаг, который сделала промышленность нового времени в сравнении с древностью. Источники капитала, предусмотрительность и сбережение, суть тоже нравственные качества. Ими держится порядок материальной жизни, который составляет одно из условий порядка нравственного. Преследуя свои личные интересы, человек, без сомнения, может перейти положенную законом границу: он может нарушить как чужое право, так и нравственные требования. Мы не раз уже имели случай заметить, что таково свойство всякой свободы: свобода добра есть вместе и свобода зла. Но это извращение законного стремления к хозяйственной выгоде в преступный эгоизм, неизбежное при свободной деятельности, вовсе не составляет коренного начала промышленного развития. Напротив, ничто так не содействует успехам промышленности, как уважение к праву и соблюдение нравственных требований; и чем выше промышленное развитие, тем эти условия становятся необходимее. О праве никто и не спорит. Но то же самое относится и к нравственным требованиям: только при честности в сделках и при соблюдении обоюдной выгоды возможны прочные торговые связи, возможен и кредит.
Наконец, поставляя себе целью хозяйственную выгоду, человек действует не для одного себя. Личная жизнь тесно связана с жизнью семьи. Улучшая свой материальный быт, человек заботится и о благосостоянии семейства, он хочет обеспечить своих детей, и это составляет одно из высших нравственных побуждений человеческой деятельности. Не лишенный нравственного чувства человек уделяет и другим часть своего избытка. Приобретая, он благотворит. Таким образом, преследование личного интереса служит вместе с тем источником нравственной деятельности, но деятельности свободной, а не принудительной, ибо всякая нравственная деятельность основана на свободе и имеет необходимым условием свободу: иначе она перестает быть нравственною.
Из всего этого ясно, что коренное начало промышленной деятельности, стремление к материальной выгоде, или личный интерес, в существе своем не противоречит нравственным требованиям, а напротив, совершенно с ними совместно. Но отсюда не следует, чтобы нравственная и экономическая точка зрения совпадали. Так как они принадлежат к различным сферам, то они могут и расходиться. Известная деятельность может быть в высшей степени нравственной и вовсе не выгодной в промышленном отношении, и наоборот, выгодная деятельность может не соответствовать требованиям нравственности. Имеет ли в виду купец исключительно свое личное обогащение или обеспечение своей семьи, сберегает ли человек из благоразумной предусмотрительности или из алчности к деньгам, нравственный характер его деятельности будет совершенно разный, но экономический результат будет один и тот же. И это последнее составляет единственное, что подлежит рассмотрению экономической науки; до внутренних побуждений человека ей нет дела. Нравственность входит в область ее исследования лишь настолько, насколько она действует на экономический быт. Так например, если бы какой-либо законодатель вздумал отменить наследство, то этим, без сомнения, уничтожилось бы одно из важнейших нравственных побуждений человеческой деятельности; но для экономической науки это побуждение имеет значение не как нравственное, а как экономическое: она должна сказать, что через это исчезла бы одна из важнейших пружин промышленного производства. Точно так же она скажет, что безрассудная благотворительность, хотя и проистекающая из чистых побуждений, вредно действует на экономический быт, ибо она развивает нищенство и устраняет необходимость труда и предусмотрительности. Нравственные требования, без сомнения, представляют собою высшее начало, ибо нравственный закон составляет верховное руководящее правило человеческой совести; но этот закон не заменяет собою всех других начал человеческой жизни: он полагает им только границы. Экономический быт, так же как наука и искусство, составляет самостоятельную область человеческой деятельности. Он имеет свои собственные, присущие ему законы и требования, из которых возникает целый мир своеобразных отношений, коренящихся в самых основах человеческой природы и имеющих вполне законное право на существование.
Поэтому не может быть речи о замене экономических побуждений нравственными в области материального производства. Бескорыстная любовь к ближнему столь же мало может заступить место стремления к хозяйственной выгоде, как она может заменить в искусстве творческую силу и чувство красоты. Художественное произведение, вытекшее не из свободной творческой фантазии, а из самых почтенных нравственных целей, будет невыносимо скучно и лишено всякого художественного значения. Точно так же и промышленное предприятие, основанное не на расчете, а на любви, будет разорительно. Высшая задача человеческой жизни состоит не в замене одних начал другими, а в их соглашении, в той гармонии всех жизненных элементов, которая составляет верховный идеал человеческого развития. Это соглашение достигается тем, что в общем порядке человеческой жизни каждый элемент получает принадлежащее ему место, как самобытный источник жизненных отношений, и действует, не преступая своих границ, не нарушая высших требований, но и не лишаясь своей самостоятельности. Судьей же той меры, которая полагается каждому, при свободной деятельности, может быть только само свободное лицо. В особенности, где дело идет о нравственных побуждениях, решение принадлежит исключительно личной совести, ибо нравственность существует только под условием свободы. Поэтому людей, действующих в промышленном мире и поставляющих себе целью хозяйственную выгоду, можно только убеждать, чтобы они в своей деятельности сообразовались с нравственными требованиями. Такое убеждение составляет дело практических моралистов и в особенности религиозных проповедников, ибо только с помощью религии нравственное убеждение может действовать на массы. Экономическая же наука не может принять на себя такой задачи, не потерявши своего научного характера. Экономическая наука, которая захотела бы действовать на совесть, превратилась бы в невыносимую нравственную проповедь.
Если же, не довольствуясь убеждением, мы вздумали бы самый экономический быт перестроить на началах любви, то мы не только извратили бы господствующие в ней промышленные начала, но произвели бы насилие над человеческою совестью. Это именно и делает коммунизм. Он хочет весь экономический строй общества основать на начале братства. Тут любовь перестает быть свободным влечением сердца; она становится принудительным началом. Все обязаны быть братьями, ибо все, по закону общежития, признается общим всем. Большей тирании невозможно себе представить, а вместе с тем невозможно представить более коренного извращения как нравственных, так и экономических законов. Принудительная нравственность есть безнравственность; она подавляет то самое начало, которое она хочет поддержать. Приложенная же к экономической деятельности, она ведет не к обогащению, а к разорению. Поэтому коммунизм, как начало экономического быта, никогда не мог и не может осуществиться. Он остается мечтою утопистов.
Тот же характер носит на себе всякое требование принудительного введения нравственных начал в экономические отношения. Это не что иное как менее последовательный коммунизм. Государство, путем права, ограждает свободу лиц; но заставить их в преследовании своих промышленных выгод руководствоваться теми или другими целями оно не может иначе, как посягая на свободу и насилуя совесть. Тут позволительно действовать единственно убеждением. Свобода и в этом отношении остается верховным руководящим началом экономической деятельности.
Между тем именно это стремление подчинить нравственным началам экономическую область составляет характеристическую черту новейшей экономической школы в Германии. Эта школа, которая подает руку социализму, именует себя реалистическою, но здесь, как и во многих других случаях, реализм, как lucus а поп lucendo, означает только противоречие всему существующему.
Не решаясь, подобно коммунистам, совершенно отвергать мировой опыт, который указывает на личный интерес, как на главную движущую пружину экономической деятельности, приверженцы этой школы пытаются однако изменить существующий порядок введением в него нравственных требований. Но так как эти требования не подкрепляются исследованиям существа нравственных начал и отношения их к другим жизненным элементам, а основаны лишь на смутных представлениях, то отсюда вытекает эклектическая система, в которой мы тщетно стали бы искать каких-либо точных определений.
Таковым именно представляется учение Адольфа Вагнера. Излагая основания экономической науки, он признает, совершенно согласно с связанным выше, что человек, в своих отношениях к внешней природе, является существом нуждающимся, вследствие чего в нем рождается стремление к удовлетворению. Последнее представляется, в отношении к необходимым средствам жизни, как стремление к самосохранению, а в отношении к излишку как личный интерес. "Это стремление, — продолжает Вагнер, — прирождено человеку, и в обоих своих видах нравственно оправдывается; поэтому оно может быть названо корыстолюбием, или эгоизмом, не как таковое, а только в своем извращении, когда оно приписывает себе значение, не обращая внимания на пределы, положенные ему совестью или нравственным законом и правом". Во всякой деятельности, обращенной на удовлетворение потребностей человека, руководит и должно руководить начало экономическое или хозяйственное, то есть стремление предпринимать лишь такую работу, при которой, по его суждению, приятность удовлетворения перевешивает неприятность работы, а также и дальнейшее стремление получить наибольшую сумму удовлетворений за возможно меньшие усилия и жертвы. Хозяйством, говорит Вагнер, мы называем систематическую деятельность, руководимую этим началом, хозяйственною природою человека — ту, которая определяется существом потребностей и их удовлетворения, значением труда и оценкою всех этих моментов на основании экономического принципа, наконец наукою хозяйства, или экономикою, — ту науку, которая излагает учение о хозяйстве в вышеприведенном смысле[120].
Точно так же и другой корифей новейшей нравственно-экономической школы, Шмоллер, давая личному интересу название эгоизма, говорит: "что эгоизм должен быть принят в соображение; что он не может быть подавлен и не должен быть совершенно подавлен; что он в известных границах составляет правомерное и необходимое топливо, поддерживающее машину в движении, это разумеется само собою, об этом понимающему дело не нужно и говорить". Тут Шмоллер сравнивает эгоизм с паром в паровой машине, причем однако он тут же сравнивает его и с железом, из которого сделана та же самая машина[121]. Вообще, подобия служат весьма хорошим средством для избежания точности научных понятий.
Но признавая личную выгоду коренным началом или движущею силою промышленной деятельности, приверженцы нравственной школы утверждают, что в действительности это начало не всегда и не везде действует одинаково, а видоизменяется нравственными и юридическими требованиями. "В моих глазах, — говорит Шмоллер, — учение об эгоизме, или об интересе, как о психологически постоянной и равномерной исходной точке всех хозяйственных действий, не что иное как неосновательное и поверхностное воззрение… Конкретный, решающий вопрос состоит в том, как в известное время и в известных кругах это стремление видоизменяется культурною работою тысячелетий, как и в какой мере оно прониклось и пропиталось нравственными и юридическими представлениями"[122]. "Субъект частного хозяйства, — говорит с своей стороны Адольф Вагнер, — обыкновенно единичное лицо, даже в своих хозяйственных отношениях не легко определяется каким-нибудь одним влечением, например хозяйственным личным интересом; и тут другие силы совместно определяют его волю и его действия. Именно это, а не безусловное определение единым влечением, вытекает из существа человека. Эти другие, содействующие силы могут быть характеризованы как нравственно хорошие или дурные, смотря по тому, дают ли они человеческой воле выгодное или невыгодное отклонение от направления, указанного хозяйственным личным интересом субъекта". К нравственно хорошим силам Вагнер относит любовь и чувство долга, которые составляют движущую пружину благотворительности; хотя они заключают в себе опасность нехозяйственности, однако из этого вытекает только требование разумного их направления. К дурным же относится эгоистическое извращение хозяйственного интереса. Существование этих сил, продолжает Вагнер, есть несомненный факт; а потому "принятие во внимание нравственных сил, фактически видоизменяющих личный интерес, наукою народного хозяйства не ведет к смешению этики и экономики, а включает только хозяйственные действия в порядок нравственных действий, за которые существует личная ответственность" (Grundlegung, § 132, 133).
Несмотря на это уверение, мы не можем не сказать, что тут господствует значительная путаница понятий. Что личный интерес не всегда действует как однородная и равномерная сила, в этом никто никогда не сомневался. Всякий экономист, к какой бы школе он ни принадлежал, знает, что есть люди, понимающие свой интерес и не понимающие, расчетливые и не расчетливые, увлекающиеся и благоразумные, обогащающиеся и разоряющиеся. Никто не сомневается и в существовании нравственных влияний. Сам Адольф Вагнер говорит, что "защитники системы свободного соперничества не могут не признать и только в виде исключения не признают значения и правомерности этих сил" (§ 133). Поэтому совершенно напрасно приписывать им мнение, будто личный интерес действует как естественная сила, не подчиняющаяся нравственным влияниям и избавляющая человека от всякой ответственности. Экономисты, в противоположность социалистам, стоят именно за свободу, а где есть свобода, там есть и ответственность. Рошер прямо даже это высказывает[123]. Свобода имеет свои законные границы, юридические и нравственные, которые человек может преступать, но которые, тем не менее, вечно остаются высшею нормою его деятельности. Вопрос состоит вовсе не в том: должен ли человек в своей хозяйственной деятельности соображаться с нравственными законами или нет? На это не может быть двух ответов. Если человек нарушает юридический закон, он подлежит наказанию; если, держась в пределах юридического закона, он преступает нравственный закон, он не подлежит наказанию, но он подлежит осуждению. Экономисты и социалисты на этот счет согласны. Вопрос заключается не в границах, а в содержании деятельности, в тех побуждениях, которыми руководится человек, и в том, кто является судьею этих побуждений?
Каким побуждением определяется свободная деятельность человека в промышленной области, личным интересом или чувством долга, стремлением к хозяйственной выгоде или бескорыстною любовью к людям? Когда он пашет землю, заводит фабрики, торгует, посылает корабли свои в отдаленные страны, когда он дает и получает кредит, имеет ли он целью получить прибыль, или облагодетельствовать своих ближних? Всякая торговая сделка служит на это ответом. Во всякой сделке взвешиваются обоюдные выгоды, и на этом основании производится мена. Нравственные же требования полагают только границы действия личного интереса: каждая из договаривающихся сторон имеет право искать своей выгоды, но не обманывая другой и не употребляя осужденных нравственностью средств, причем судьею, как своих выгод, так и своих нравственных побуждений, остается отдельное лицо. Сами социалисты кафедры, как мы видели, когда они излагают общие основания хозяйственной деятельности, признают личный интерес движущею ее пружиною; но в приложении все у них смешивается, и мы, к удивлению, находим у Вагнера систему благотворительности, поставленную наряду с частною промышленностью, как будто это две отрасли, которые можно сопоставить, как истекающие из одного общего начала, или как два вида одного и того же рода. Между тем, если мы возьмем приведенное выше определение хозяйства, которое дается самим Вагнером, то мы увидим, что благотворительность вовсе под него не подходит. Благотворительность не руководится экономическим принципом; она не рассчитывает, насколько приобретенное лицом богатство превосходит приложенный к нему труд. В отличие от промышленной деятельности благотворительность ничего не производит и не приобретает, а приобретенное иным путем употребляет на чужую пользу, руководствуясь не хозяйственным расчетом, а бескорыстною любовью к ближнему. Благотворительность и хозяйственная деятельность в своих основаниях противоположны друг другу; а потому поставление их рядом как двух видов одного рода, составляет чудовищное посягательство на логику.
Такое же смешение понятий мы встречаем и у Шмоллера. У него личный интерес представляется в виде естественной силы, которая получает окраску, форму и направление от нравственных деятелей. Под именем нравственных деятелей он разумеет все, что дает известную правильность человеческим действиям. "Без твердых нравов, — говорит он, — нет рынка, нет мены, нет денежного оборота, нет разделения труда, нет каст, нет рабов, нет государственного быта"[124]. Как будто рынок, мена, денежный оборот и разделение труда не суть произведения того же самого личного интереса, побуждающего человека к промышленной деятельности! Не говорим о кастах, рабах и государственном быте, которые приведены тут единственно для затемнения дела. Личный интерес можно, пожалуй, сравнивать с паром, движущим машину, но не надобно забывать, что этот пар есть внутреннее свойство свободного лица, которое само дает своей деятельности окраску и форму, и направление. Преследуя свой личный интерес, человек, без сомнения, должен соображаться с требованиями окружающего его мира как физического, так и нравственного. Действуя на природу, он должен подчиняться ее законам; приходя в соприкосновение с свободою других лиц, он встречает преграды, полагаемые юридическим порядком, который он не может преступить, не подвергаясь наказанию; наконец, в своей совести он находит нравственный закон, который он не может нарушать, не посягая на свое человеческое достоинство. Но именно в последнем случае единственным судьею является его личная совесть, от которой зависит, соблюдать закон или нет. Поэтому всякое приложение нравственных начал к экономической области должно обращаться исключительно к личной совести. Кроме нравственной проповеди, из этого ровно ничего нельзя вывести.
Иное дело, если бы нравственный закон сделался принудительным; в таком случае он мог бы стать определяющим началом экономических отношений. Это и есть, как мы видели, требование коммунистов, и к этому же клонится учение, которое, смешивая нравственность с хозяйством, хочет основать нравственную науку народного хозяйства. Адольф Вагнер прямо признает заблуждением резкое разделение права и нравственности в экономической области, где, по его мнению, смотря по обстоятельствам, уместна иногда юридическая и в случае нужды принудительная, иногда же свободная нравственная регламентация (Grundlegung, § 133. С. 196). В выноске к этому месту он замечает, что если неправильно полное смешение права и нравственности, которое господствовало в прошедшем столетии в школе Вольфа, то столь же неверно и полное их разделение, установленное Кантом. Именно границы права и нравственности, говорит Вагнер, подвержены историческим переменам. В настоящее время представляется желательным возвращение в некоторой мере к старому воззрению.
Мы встречаем здесь ту же самую систему компромиссов, которая везде господствует у Вагнера; но если мы станем искать доказательств высказанному им мнению, то мы столь же мало найдем их здесь, как и в других подобных случаях. Когда дело идет о столь существенном вопросе, как отношение права к нравственности, в особенности когда автор хочет опровергнуть прочно утвердившееся в философии и в жизни воззрение, то казалось бы, необходимо рассмотреть вопрос в самых его основаниях: надобно исследовать существо права, нравственности и свободы, и затем уже вывести отсюда свои заключения. Недаром же Кант, а за ним величайшие философы нового времени признали свободу необходимым условием нравственности; недаром это начало считается краеугольным камнем современного общественного быта, непоколебимым основанием, на котором зиждется и свобода совести, и независимость всего внутреннего мира человека. Но современным социалистам кафедры такие философские исследования представляются совершенно излишними. В выноске, мимоходом, разрешаются важнейшие вопросы человеческой жизни и общественного устройства. Мы должны верить на слово, что принципиальное отделение права от нравственности есть заблуждение. Г-ну Вагнеру неизвестно почему кажется желательным известное (или лучше неизвестное) приближение к воззрениям Вольфа, и это желание вносится, в виде научного положения, в учебник политической экономии, которая вследствие этого перестраивается на совершенно новый лад. Более легкого отношения к научным исследованиям невозможно себе представить.
Искреннее, хотя нисколько не основательнее Шмоллер. И он, подобно Вагнеру, изображает область нравов, как состоящую в вечном историческом течении. Это — гераклитовское: "все течет". Но так как подобная изменчивость начал, на которых зиждется весь общественный порядок, сопряжена с опасностями, то часть этоса, говорит Шмоллер, народы укрепляют посредством исходящего от государства принуждения. Вследствие того одна часть нравственного порядка жизни находится в более легком, другая в более тяжелом течении; в одной исполнительным органом служит общественное мнение, в другой — принудительная сила государства. В этом, по мнению Шмоллера, и состоит разделение права и нравственности, разделение, необходимое для успехов культуры, ибо через это, с одной стороны, лицо получает известный простор для своей деятельности и воспитывается к духовной свободе, а с другой стороны, дается большая прочность тому, что должно быть подчинено постоянным правилам. Тем не менее, продолжает он, право и нравственность суть два близнеца, рожденные от той же матери и вскормленные тою же грудью. Доныне свободная нравственность, которая в себе самой находит правило и закон, составляет достояние немногих. Для большинства же противоположность обоих начал состоит не в том, что в одной области человек подчинен правилу, а в другой ему предоставлена свобода, а в том, что в одном случае узда более строгая, а в другом более эластическая. Таким образом, во многих вопросах, о которых спорит политическая экономия, дело состоит не в том, что желательно или не желательно, а в том, должно ли желательное вынуждаться правом или нравами (Ueb. ein. Grandfragen etc., стр. 44–45).
Итак, в нравственной политической экономии свобода изгоняется совершенно, как достояние немногих; тут требуется не свобода, а узда. Но какая именно узда, этого она сама не знает, чем и отличается от последовательного социализма, который знает, чего хочет. "Я не осмелюсь определить, — говорит в примечании Шмоллер, — в каких областях, в течении культуры, право превращается в нравы, а нравы в свободную нравственность. На этот счет мои собственный исследования далеко еще не пришли к заключению" (стр. 46). Но если на этот счет мнение автора еще не установилось, то как же можно об этом писать и на этих основаниях перестраивать науку и жизнь? Чтобы решить, до какой степени возможно подчинить экономически быт общества нравственным требованиям, надобно предварительно знать, до какой степени можно нравственность сделать принудительною. Если же писатель на этот счет не пришел еще к окончательному убеждению, то лучше об этом до поры до времени молчать. Иначе вместо научной аргументации выйдет только невообразимый хаос понятий. Именно это и представляет приведенная глава в сочинении Шмоллера.
Те же доводы прилагаются и к замене стремления к хозяйственной выгоде общественным началом, о чем мечтают те, которые хотят всю промышленную деятельность отдать в руки государства, и всех промышленников превратить в чиновников. В этом воззрении целью промышленной деятельности ставится общественная польза, а в награду деятелю обещаются честь и слава. Нелепость подобного требования весьма ярко изображается Тьером в его книге "О собственности". Невозможно лучше опровергнуть эту мысль, как его словами. "Для каждого рода усилий, — говорит он, — нужны разные побуждения. Чтобы побудить человека к труду, надобно показать ему приманку благосостояния; чтобы возбудить в нем самоотвержение, надобно показать ему славу. Как! честь за две или три лишних доски, выстроганных в день, за кусок железа лучше опиленный! Вы кощунствуете! Честь для д'Ассаса, Шевера, Латур-д'Оверня: плата, то есть удовольствие хорошо жить, самому и детям, для того, кто усердно и искусно работал, и сверх того, уважение, если он благоразумен и честен, ибо нужны и нравственные удовлетворения этому честному работнику. Рассуждать иначе значит не знать человеческой природы и все смешать под предлогом всеобщего преобразования… Когда человек напрягает свои силы над природою, чтобы исторгнуть у нее те вещества, которыми он питается или одевается, он напрягает их именно в виду этих предметов; надобно дать ему эти предметы, надобно наградить работу сообразно с тою целью, которую она себе ставит; чтобы возбудить его как можно более, надобно дать ему ни более, ни менее того, что он произвел, но именно столько. Надобно, сверх того, приблизить цель к его глазам, и для этого представить ему не благосостояние всех или даже некоторых, а именно его собственное и его детей. Кроме того что справедливо поступать таким образом, тут будет и возможно высшее побуждение к деятельности. Кто сделает много, тот получит много; кто сделает мало, тот получит мало; кто ничего не сделает, тот ничего не получит. Вот справедливость, осмотрительность, разум. Это не значит уничтожать благородные побуждения; это значит сохранять их для тех благородных целей, которые им свойственны. Плата останется для труда, слава для высокого самопожертвования или для гения. Этот человек работает всю свою жизнь, чтобы пропитать себя и свое семейство; давайте ему плату, и плату хорошую. Он жертвует собою, презирая смерть, дайте ему славу солдата. Он делает открытие, предоставьте ему славу изобретателя. Но каждому по его делам"[125].
Общественная жизнь, с управляющим ею началом общей пользы, составляет особую сферу, где в значительной степени господствует принуждение. Материальные средства получаются тут путем налогов, следовательно, принудительно. Защита государства обыкновенно зиждется на принудительной повинности. Однако и в этой области большая часть личной службы основана на свободе. Только путем добровольной деятельности на общую пользу государство может привлечь к себе лучшие общественные силы и вызвать в них то живое участие к делу, без которого успешная деятельность немыслима. Но для того чтобы общественная служба была свободна, необходимо, чтобы человек мог ее покинуть, а для этого, в свою очередь, необходимо, чтобы рядом с нею была другая, частная сфера деятельности, в которую бы человек мог уйти и где бы он мог заняться не общественными, а своими собственными делами. Если же всякая деятельность будет общественная, то для свободы не останется места. В таком случае человеку, вне общественной службы, некуда деваться; он нигде не может быть сам себе хозяином, он становится вечным слугою государства, принужденным всю свою жизнь нести общественное тягло.
Чтобы спасти свободу, необходимо, следовательно, рядом с общественным началом допустить и личное. И тут, так же как в области нравственных отношений, эти два начала не исключают друг друга; напротив, они тесно связаны. Действуя на пользу общества, человек приобретает и для себя материальное вознаграждение, почет, славу. А с другой стороны, действуя для себя, он приобретает и для общества, ибо общество требует с него на общественные нужды соразмерную часть его доходов: чем более он приобретает, тем более он платит. Который из двух путей он выберет, это зависит от его свободы; но для того чтобы свобода существовала, надобно, чтобы оба были открыты.
Таким образом свобода, составляющая коренное начало всякой истинно человеческой деятельности, проявляется и в выборе побуждений. Все эти побуждения присущи человеческой природе и имеют свое законное право существования. Невозможно уничтожить ни одно из них, не исказивши самой природы человека. Невозможно требовать от человека, чтобы он следовал именно этому побуждению, а не другому, не посягая на его свободу. И для каждого побуждения открывается своя, особая область деятельности: для любви к ближнему благотворительность, для стремления к общей пользе общественная служба, наконец для личного интереса экономическая сфера. Эти различные области деятельности не исключают, а восполняют друг друга. Каждая из них соответствует известной стороне человеческой природы, и только совокупное их развитие дает полный простор человеческим силам и надлежащую ширину человеческой жизни.
Против всего этого возражают, что в экономической сфере человек не может действовать для себя, не действуя вместе с тем и для других. Он приобретает путем обмена; следовательно, чтобы удовлетворить своим потребностям, он должен удовлетворять чужим. В экономическом порядке интересы всех солидарны; общество составляет одно органическое целое, которого отдельные лица являются членами. А потому утверждают, что в исследовании экономических отношений надобно отправляться не от отдельного лица и его интересов, а от общества как целого. Личное начало должно быть заменено общественным.
Насколько это возражение основательно, покажет следующая глава.
Глава II.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Новая философия права, как известно, первоначально исходила от личного начала. Природа отдельного лица и его права полагались в основание всей системы человеческих отношений; общежитие с его требованиями выводилось из соглашения лиц. Англофранцузская философия XVIII века довела это направление до крайних пределов. Лицо, с его правами и интересами, сделалось краеугольным камнем всего общественного здания. Права были объявлены неприкосновенными и неотчуждаемыми; все общественные отношения и все государственные учреждения строились на основании договора, и все, что противоречило договорному началу, отвергалось как незаконное.
В XIX веке произошла реакция против этого взгляда. Философы-идеалисты, не отвергая личного начала, указали на то, что рядом с ним существует и начало общественное, связывающее лицо, и столь же свойственное человеческой природе, как и первое. Они доказали, что человеческие общества возникают не из договора разрозненных единиц, соединяющихся добровольно во имя взаимной пользы, и из вечно присущих человеку потребностей и отношений, в силу которых соединенные в общества лица искони понимали и всегда понимают себя как нечто единое. С этой точки зрения, в государстве стали видеть не внешнее только собрание самостоятельных единиц, связанных добровольным согласием, а органический союз, которого отдельные лица являются членами и который живет и развивается как одно целое. Сколько нам известно, Фихте первый назвал государство организмом. Но не отличая еще государства от общества, он подводил под это понятие все общественные отношения. Вследствие этого человек, в его системе, перестал быть самостоятельным и свободным лицом; он сделался подчиненным членом высшего целого, которое управляло всеми его действиями. Отсюда крайнее противоречие в политической теории Фихте. Он исходил от свободы лица, а в результате выходило, что лицо должно вечно ходить по струнке, как орудие чужой воли и чужих целей[126].
Эта односторонность, которая, в противоположность индивидуалистическому воззрению XVIII века, вела к поглощению лица обществом, была исправлена последующим развитием идеалистической философии. Понятие о государстве как организме, то есть как о духовном теле, составляющем одно живое целое, а не только внешнее собрание единиц, сохранилось в науке; но рядом с этим признана была и самостоятельная сфера для свободной деятельности лиц. Человек не поглощается всецело государством, которого он состоит свободным, хотя и подчиненным членом: он живет и действует и в других союзах, в семействе, в гражданском обществе, в церкви, и все эти союзы, подчиняясь государству в том, что касается совокупных интересов, сохраняют, однако, свою самостоятельность, каждый в своей частной сфере, и руководятся собственно им присущими, а не налагаемыми на них извне началами. Человеческое общество, с этой точки зрения, не образует единого организма, подобно отдельной особи, в которой члены существуют только для целого, не имея собственной, самостоятельной жизни. Человеческое общество представляет собою сложное духовное явление; в нем живут и действуют различные самостоятельные группы и союзы, более или менее тесно связанные внутри себя и имеющие каждый свое жизненное начало. Задача и тут заключается не в смешении разнородных областей и не в поглощении одной другою, а в высшем, гармоническом соглашении разнообразных стремлений и интересов, причем существенная роль должна быть предоставлена свободе, которая составляет внутреннее движущее и одухотворяющее начало всякого истинно человеческого общежития. Это выработанное идеализмом воззрение заключает в себе, можно сказать, совершенно правильное решение общественного вопроса. Дальнейшая задача науки состоит в том, чтобы разобравши природу и свойства каждой из этих частей и групп, определить как управляющие ими начала, так и отношения их к другим группам и к содержащему их целому. Но для исполнения этой задачи недостаточно понятия об организме, которое, будучи заимствовано из физического мира, не заключает в себе самого существенного из человеческих элементов, свободы. Конечно, и в общественных науках можно употреблять слово организм, прилагая его к обществу как целому, в противоположность вытекающему из свободы индивидуалистическому началу; но надобно точно определить, что именно оно означает и к какому разряду фактов оно прилагается. Если же мы под понятие об организме станем безразлично подводить все общественные явления, то мы получим совершенно ложное понятие об обществе, и практически придем к полному отрицанию свободы, или же мы останемся при неопределенных требованиях, из которых ровно ничего нельзя вывести. Последнее, как мы уже видели, составляет характеристическую черту школы Краузе, которая, хотя и отличает государство от общества, и в самом обществе различает отдельные сферы, но каждой из этих сфер и союзов присваивает название организма и требует органических между ними отношений. Кроме смутных понятий, не представляющих никакой точки опоры для научных исследований, в этом воззрении ничего нельзя найти.
В какой мере понятие об организме приложимо к государству, мы увидим ниже. Здесь речь идет собственно об экономическом обществе. И к нему нередко прилагается это понятие, и притом не только социалистами, которые хотят личное начало подчинить общественному, но также и экономистами, которые стоят на индивидуалистической точке зрения. Однако же экономисты, держась строго научной методы, делают это весьма осторожно. Так, например, Рошер говорит: "понятие об организме принадлежит, без сомнения, к самым темным. А потому я весьма далек от того, чтобы объяснять им понятие о народном хозяйстве; я желал бы только словом организм обозначить кратчайшее общее выражение многих задач, которые должны быть разрешены последующим исследованием". И он замечает при этом: "…это значило бы объяснять неизвестное еще более неизвестным! А между тем многие новейшие писатели думают, что они сказали нечто вполне удовлетворительное, когда они государство и проч. называют организмом"[127].
Два признака Рошер считает существенно отличающими органическое действие от механического. Первый состоит в том, что в машине ясно отличаются причина и следствие, тогда как в организме действия обусловливаются взаимно, вследствие чего объяснение будет вращаться в круге, если мы не признаем высшего органического начала, которого оба действия составляют проявления. Так например, в механической области, мельница движется ветром, но сила ветра не зависит, в свою очередь, от мельницы. В народном же хозяйстве, подобно тому, что совершается в человеческом теле, успехи земледелия составляют необходимое условие для развития обрабатывающей промышленности и, в свою очередь, зависят от последней. К этой отличительной черте органических явлений присоединяется другая. Она заключается в том, что машина предполагает человеческий ум, который сознает ее движение и приносимую пользу, и устраивает ее сообразно с этою целью. В организмах, напротив, в этих "божественных машинах", по выражению Лейбница, естественные законы действуют прежде, нежели они сознаются. То же самое происходит и в народном хозяйстве, которое управлялось присущими ему естественными законами гораздо прежде, нежели они были сознаны человеком, причем, однако, нельзя упускать из виду, что эти законы, имея дело с свободными лицами, существенно отличаются от тех, которые господствуют в материальном мире.
Нельзя сказать, чтобы эти указанные Рошером признаки были выбраны удачно. Взаимодействие не составляет исключительной принадлежности организма; оно распространено как в механической, так и в физической области. Тела притягивают друг друга по одному и тому же закону. Все формы сцепления суть явления взаимодействия частиц. В гальванической батарее, если медь возбуждает электричество в цинке, то это обусловливается тем, что цинк, с своей стороны, возбуждает противоположное электричество в меди. В паровой машине, если пар движет поршень, то поршень, в свою очередь, направляет действие пара, вследствие чего он двигается взад и вперед. Точно так же поршень дает движение регулятору, а регулятор, с своей стороны, уравновешивает движение поршня. Еще менее можно утверждать, что естественные законы, действующие помимо сознания, составляют исключительную принадлежность организмов. Солнечная система не есть организм, а между тем движение совершается в ней в силу присущих ей естественных законов, действующих помимо сознания, без всякого извне устрояющего и направляющего разума.
Однако же эти неточности не имеют влияния на самый ход научного исследования. Если автор, употребляя известный термин, ясно обозначает, что именно он хочет этим сказать, и если указанные им признаки приходятся к предмету, то выбор неверного термина не имеет дальнейшего значения. Прилагая к народному хозяйству понятие организма, Рошер не хочет установить новую точку зрения, противопоставить то, что должно быть, тому, что есть; он просто исследует предмет, как он представляется в действительности, и характеризует раскрывающиеся в нем признаки.
На совершенно иную точку зрения становятся социалисты. Они в экономическом обществе видят единое целое, которое должно господствовать над частями, и в силу этого требования хотят изменить как существующие действительности экономических отношений, так и положения, признанные наукою на основания опыта.
Эта противоположность взглядов весьма ясно высказывается Родбертусом. Он утверждает, что наука доселе шла совершенно ложным путем: "вместо того чтобы отправляться от положения, что разделением труда общество связывается в одно неразрывное хозяйственное целое, вместо того чтобы с точки зрения этого целого приступать к объяснению отдельных политико-экономических понятий и явлений, вместо того чтобы в силу этих начал поставить во главе исследования понятия о народном (или общественном) имуществе, о народном производстве, о народном капитале, о народном доходе, с разделением его на поземельную ренту, прибыль капитала и заработную плату, и из этих общественных понятий вывести долю каждого лица, вместо всего этого политическая экономия не могла уйти от преувеличенной индивидуалистической наклонности времени. То, что в силу разделения труда составляет одно неразрывное целое, нечто общественное, что только предполагая подобное целое, может получить существование, она разорвала на клочки, и от этих клочков, от личного участия отдельных особей, она снова хотела взойти к понятию целого. Так например, она положила в основание понятие об имуществе отдельного лица, упустивши из виду, что имущество лица, находящегося в общении с другими через разделение труда, есть нечто совершенно иное, нежели имущество уединенно хозяйствующей особи… Она действовала так, как будто общество составляет только сумму различных хозяйственных единиц, математическое, а не нравственное целое, ибо именно последнее означает общественное целое, как будто оно само, народное хозяйство, составляет только собрание единичных хозяйств, а не органическое, совокупное хозяйство, которого отдельные органы, бесспорно, в настоящее время страдают еще под гнетом различных исторических отношений, даже таких, которые отчасти служат преградою самому праву лица"[128].
Родбертус показывает, какие последствия должен иметь для науки этот измененный взгляд. Начавши с понятий о народном, или общественном труде, как совокупном действии связанных в одно неразрывное целое единичных сил, и о народном имуществе, как столь же неразрывно связанной совокупности произведенных трудом материальных благ, наука должна показать, каким образом это целое внутри себя распадается на отдельные отрасли, группы и наконец единичные предприятия. Она в этом целом должна различить народную территорию, народный капитал и наконец народный продукт, которого часть должна идти на возмещение потраченного капитала, а другая составляет народный доход, распределяющийся между членами сообразно с участием каждого в общем производстве. Наука должна затем показать, каким образом направление и движение народного производства, а равно и распределение произведений, зависят от установлений положительного права, и каким образом все это получило бы совершенно иной вид, если бы, сообразно с истинными понятиями об отношении целого к частям, каждому лицу присваивалась в собственность только приходящаяся на него доля народного дохода, а отнюдь не земля и капитал, которые должны оставаться собственностью общества. При таком устройстве все направления народного производства, сообразно с народными потребностями, должны бы были находиться в руках общественного учреждения, которое распоряжалось бы и доставлением продуктов потребителям, без всякого посредства купли или мены, а потому без денег. Весь народный доход при таком порядке распределялся бы между производителями, то есть работниками, сообразно с исполненною ими работою, взамен которой каждый мог бы получать из общественных магазинов соответствующую долю нужных для него предметов потребителя. Землевладельцы, капиталисты, все это бы исчезло; не было бы ни торговых кризисов, ни пауперизма, и множество предрассудков, затемняющих ныне истинное положение дела, уступили бы место ясному пониманию предмета.
Читатель видит, куда ведет понятие об организме как целом, владычествующем над частями. Но нетрудно заметить вместе с тем, что все это здание построено на воздухе. Понятие о народном труде, о народном имуществе и народном производстве, которые, по мнению Родбертуса, должны стоять во главе экономической науки, вытекают, по его уверению, из разделения труда, которое и работу, и имущество связывает в одно неразрывное целое. Между тем ничего подобного ни в теории, ни в действительности из разделения труда не вытекает. Разделение труда составляет основное экономическое начало, без которого немыслимо сколько-нибудь успешное производство. Оно состоит в том, что каждый производитель занимается своим делом и затем путем обмена приобретает от других все потребные для него предметы. В силу чего же установляется такой порядок? Просто в силу того, что каждый находит более выгодным заниматься одним делом, нежели все производить самому. Человек, искусный в сапожном ремесле, поселяется в деревне и делает сапоги; крестьяне охотно их покупают, а сапожник живет на приобретенные этим способом деньги: он у домовладельца нанимает квартиру, у землепашцев покупает хлеб, у мясника мясо, у лавочника колониальные товары, у портного платье. Таким образом происходит разделение труда, просто вследствие стремления каждого к своей личной выгоде. Но никакого общего хозяйства и общего имущества у сапожника с крестьянами, лавочником и портным из этих отношений не образуется. И хозяйство, и имущество остаются разделенными; происходит только обмен произведений.
То же самое в гораздо более обширных размерах совершается и между целыми странами. Англия получает хлеб из России, чай из Китая, кофе из Аравии, сахар из Вест-Индии, хлопок из Северной Америки и взамен этого сбывает в эти страны свои фабричные произведения; но из этого отнюдь не следует, что Англия со всеми этими странами связана в одно неразрывное целое и что для всех их надобно установить какой-нибудь общий хозяйственный департамент, который бы направлял производство и заведовал распределением имуществ. Утверждать, что из разделения труда вытекает что-нибудь, кроме обмена произведений, значит принимать метафоры за действительность. Мы видим здесь живой пример того непостижимого легкомыслия, с которым социалисты строят свои воздушные замки.
Чтобы внести единство в экономические отношения, очевидно недостаточно труда и обмена. Нужно присоединить сюда иное начало, уже не экономическое, а политическое. Государство как представитель совокупных интересов народа отделяет хозяйственные интересы данного общества от хозяйственных интересов других обществ. Здесь только является возможность говорить о народном хозяйстве как о чем-то цельном, отличающемся от других. Именно к этому началу прибегает, вследствие того, Адольф Вагнер в определении народного хозяйства как цельного организма. Не касаясь вопроса о возможности будущих форм промышленного устройства, проповедуемых социализмом, он признает, что доселе народное хозяйство не имело и не имеет во главе своей руководящего хозяйственного и юридического субъекта. А потому он определяет народное хозяйство как "представляющуюся в виде отдельного целого совокупность самостоятельных, единичных хозяйств, находящихся во взаимных отношениях, в народе, организованном в единичное государство или связанном воедино государственными хозяйственными мирами". Несмотря однако на отсутствие в нем руководящей воли, это целое, по мнению Вагнера, представляется организмом, в котором единичные хозяйства совокупно с государственным хозяйством являются не только как части, но и как члены, имеющие рядом с своими собственными целями известные функции в отношении к целому. Органическое единство образуется здесь вследствие разделения труда и оборота, и хотя эти отношения существуют и между различными народными хозяйствами, однако в пределах отдельного государства они теснее, а потому здесь связь крепче. В доказательство Адольф Вагнер ссылается на группировку важнейших отраслей промышленности в пределах территории. Известная отрасль сосредоточивается в известной области и снабжает своими произведениями всю остальную страну, из которой эта область, в свою очередь, получает все, что для нее потребно и что именно вследствие преобладания отдельной отрасли в ней не производится (Grundlegung, § 53).
Таково воззрение, которое под именем органического Вагнер противополагает господствующей ныне атомистической теории. Здесь к чисто экономическим факторам присоединяется государство; оно составляет ключ всей системы, ибо именно оно сообщает единство целому. Но выигрывает ли от этого что-нибудь самая теория? Ничуть. Если разделение труда и оборот в состоянии сделать из общества единое целое, то незачем прибегать к государственному началу; если же единство сообщается обществу только государством, то организм будет не экономический, а политический. Сам Вагнер признает, что при существующем и искони существовавшем порядке отдельные хозяйства в пределах государства остаются самостоятельными единицами, лишенными всякого руководящего субъекта; но если так, то как же можно рядом с этим представлять их органами целого, то есть государства? Нет сомнения, что политический союз, соединяя в себе совокупность общественных интересов, имеет влияние и на хозяйственный быт; но он столь же мало поглощает в себе экономическое общество, как и общество религиозное, литературное или ученое. Промышленник в своем частном предприятии столь же мало является органом государства, как ученый, сочиняющий книгу, или художник, пишущий картину. Экономическое общество остается рядом с политическим как самостоятельная область, в которой господствует свободное отношение единичных сил, то есть атомистическое начало. И если из этого отношения возникает взаимная зависимость единиц, то эта зависимость нередко существует в гораздо большей степени в отношении к другим обществам, образующим самостоятельные политические тела. Приведенный Вагнером пример, как единственный довод в пользу его тезиса, доказывает совершенно противное тому, что он хочет из него вывести. Так, сосредоточенные в известной области бумагопрядильные фабрики состоят в гораздо большей зависимости от стран, производящих хлопок, нежели от других областей того же государства. Из этого ясно, что экономические отношения и политический союз — две разные вещи. Один порядок имеет влияние на другой, но смешивать их невозможно. Задача науки состоит в том, чтобы исследовать природу и свойства каждого из них и затем определить взаимные отношения. Принимать же единство, свойственное одному, за единство другого есть вовсе не научный прием; это не более как смешение понятий.
Недостаточность государственного начала для присвоения органического характера народному хозяйству заставляет самого Вагнера тут же прибегнуть к другому объединяющему началу, именно, к понятию о народе. Народ, говорит он, есть реальное целое, образующее организмы, и таково же народное хозяйство. Сначала носителем (Tmger) последнего является народ в смысле нации, имеющей общее происхождение, общую историю, общее место поселения, общее развитие, наконец совокупное достояние, как то: язык, обычаи, право, государство, хозяйство, а также искусство, науку и религию. Народное хозяйство составляет одно из таких достояний, и в этом смысле, вытекая из естественного развития народа, оно является произведением природы. Государство же завершает это развитие, и через это превращает естественный организм в искусственный: народное хозяйство становится политическою экономией, то есть хозяйством народа, соединенного политическою связью (§ 53, 54).
Тут уже, как видно, объединяющим началом экономического быта являются не экономические факторы, разделение труда и обмен произведений, и не политический, а этнографический элемент — народность. Но что такое народность вне государства? Общая духовная стихия, которая проявляется преимущественно в духовной области, в языке, в литературе, в искусстве, даже в религии, хотя различные народы могут иметь одну и ту же религию, а один и тот же народ может совмещать в себе разные религии, наконец, всего менее в экономическом быте, который зависит главным образом от окружающей природы и от материальных условий, вследствие чего различные области, заселенные одною народностью, могут иметь совершенно противоположные хозяйственные интересы. Конечно, духовный элемент воздействует на материальный; он проявляется в способе покорения природы целям человека. Поэтому невозможно отрицать влияние народности в промышленной сфере. Но это влияние общей духовной стихии обнаруживается не в совокупной деятельности общества, а в способностях и наклонностях каждого отдельного лица. Этнографический элемент не образует из народного хозяйства одного реального целого. Совокупная деятельность народа проявляется не в хозяйственной области, где каждый действует за себя, а в государстве, ибо государство есть именно народ, устроенный как единое целое. Если же государство не поглощает в себе экономического общества и неспособно превратить его в организм, то тем менее способно на это неопределенное начало народности. Организм предполагает организацию, а разлитая в массе духовная стихия ее не имеет. Действительная же организация экономического общества, с господствующим в нем началом свободного труда, основана на атомистическом, а не на органическом начале.
Таким образом, ни один из присущих человеческим обществам элементов, ни экономический, ни политический, ни этнографический, не в состоянии сделать из промышленного порядка единый организм, в котором бы целое господствовало над частями, а части являлись бы органами и орудиями целого. За недостатком подобного элемента остается откинуть всякий анализ, смешать все разнообразные стороны общественного быта, все входящие в состав его группы, союзы и отношения в одно смутное целое, взять неопределенное понятие об обществе и уподобить его целиком физическому организму. Этот прием в настоящее время в большом ходу. Призываются на помощь естественные науки, и на основании фантастических аналогий изображается картина человеческого общества как организма. Не только в склонной к туманным представлениям Германии, но и в трезвой Англии эта мысль находит себе многочисленных приверженцев. Один из современных мыслителей, пользующихся наибольшим почетом, Герберт Спенсер, подробно развивает ее в своих "Началах социологии". В Германии Шеффле посвятил ей многотомное сочинение в котором, исходя от этой точки зрения, он строит все общественное здание на чисто социалистических началах.
Этот взгляд до такой степени характеризует современное направление мысли и ведет к таким чудовищным выводам относительно устройства экономического быта, что мы должны на нем остановиться. Начнем с учения Шеффле.
Держась исключительно опытной методики и отвергая самую возможность познавать сущность вещей, Шеффле ограничивает задачу общественной науки эмпирическим исследованием материальных и духовных явлений общественной жизни и соглашением этих данных с эмпирическим учением о природе и духе[129]. Материя и дух, говорит автор, составляют два ряда разнородных явлений, которые с чисто опытной точки зрения не могут быть сведены к какому-нибудь третьему, общему началу. Возведение их к единой, лежащей в основании их субстанции, есть дело веры. В науке хватание за неизвестное ни к чему не ведет. Мы должны признать данную нам опытом противоположность и отвергнуть психологический материализм как несостоятельную гипотезу (стр. 104, 108,115). Рядом с этим признается однако невозможность оставить различные явления вне всякой связи друг с другом. А потому, говорит Шеффле, общественное тело не может быть поставлено в отвлеченную противоположность с основными фактами неорганическими, органическими и индивидуально-психологическими. Наука стремится подвести различные явления под общие законы; последние же результаты опытного знания доказывают, что всякой духовной деятельности соответствуют известные физические движения. Поэтому мы должны признать, что "всякое механическое и духовное движение общественного тела, точно так же как и видимое движение рук и ног, есть превращение или результат маленьких, внутренних, невидимых движений физических и химических элементов. На вершине научного познания самые сложные общественные явления опытного мира подведутся совершенно реальным образом, а не только метафорически, под один высший и последний опытный закон со всеми явлениями эволюции, диссолюции, равновесия, приспособления, ритма и другими основными явлениями органической и неорганической жизни природы". Чтобы достигнуть этого результата, надобно приступить к постепенному индуктивному разложению самых сложных явлений на простейшие составные части. Правда, замечает Шеффле, в общественной науке самый первый шаг по этому пути сопряжен с почти неодолимыми трудностями, с одной стороны, вследствие сложности явлений, с другой стороны, вследствие состояния индивидуальной психологии, которая едва представляет зачатки истинно научной обработки. Но несмотря на эти затруднения, мы уже теперь можем сказать, что всякая попытка противопоставить общественный мир остальным явлениям природы должна разбиться о конечное внутреннее тождество их сущности (стр. 24–25).
Такова точка отправления Шеффле. Лежащее в ней противоречие очевидно. С одной стороны, утверждается, что мы сущности вещей познавать не можем и что опыт не дает нам ни малейшего права идти далее противоположности явлений материи и духа; с другой стороны, высшею задачею опытной науки полагается именно сведение этих противоположностей к единству, и заранее уже признается на основании заведомо неисследованных данных внутреннее, существенное их тождество. Первая точка зрения действительно составляет результат чистого опыта; вторая же представляет не более как принятое на веру предположение тех опрометчивых мыслителей, которые в старании ввести общественную науку в разряд наук естественных прямо, по выражению Шеффле, хватаются за неизвестное. У Шеффле эти два исключающие друг друга взгляда наивно ставятся рядом. Отсюда у него двоякое течение мысли: с одной стороны, он везде отыскивает аналогии общественного быта с физическим организмом, признавая их в высшей степени важными для науки, с другой стороны, он указывает и на существенное их различие (стр. 32–33). Но так как главная цель состоит в сведении разнородных явлений к общему закону, то в результате различие забывается, а поверхностные аналогии служат основанием для самых фантастических выводов. Нельзя не заметить, что с истинно научной точки зрения аналогия тогда только может иметь какое-либо значение, когда нет существенных различий, могущих совершенно изменить внутренние отношения исследуемых явлений.
Эти аналогии Шеффле проводит в подробностях, восходя от низших элементов к высшим. В физическом организме первоначальные органические единицы составляют клеточки, между которыми находятся междуклетчатые вещества. В общественном теле, по мнению Шеффле, этим элементарным частям соответствуют лица с окружающим их имуществом; аналогия, очевидно, ложная, ибо невозможно уподобить междуклетчатые вещества, составляющие собственное произведение организма, внешнему имуществу, которое является не более как придатком. Никакому естествоиспытателю не приходило еще в голову включать в анатомию и физиологию животных птичьи гнезда или запасы, которые звери набирают себе на зиму. Если можно говорить об обществе как организме, то надобно разуметь под этим единственно связь лиц, а не включать сюда землю, дороги, дома, одежду, топливо и проч., как делает Шеффле. Тут уже, вместо аналогии, является просто неверная метафора, то есть плохая риторика.
Самый личный элемент общежития получает в этом подобии совершенно ложное построение. Аналогию с органическою клеточкою Шеффле видит не в отдельном лице, составляющем первоначальную единицу, из которой образуются все общественные строение, а в семействе, представляющем уже известную группу лиц. В доказательство он ссылается на то, что и органическая клеточка заключает в себе разные составные части; лицо же немыслимо вне семьи: оно из нее происходит и, выходя из нее, опять образует новую семью (стр. 57, 213). Между тем составные части органической клеточки не существует вне ее, тогда как лица имеют самостоятельное существование вне семьи. Семья образуется свободным соединением лиц, иногда принадлежащих даже к разным обществам: можно жениться на иностранке. Затем соединившиеся браком лица могут опять расходиться и соединяться с другими. Даже пребывая в семье, человек не живет в ней всецело; он имеет множество других, внесемейных отношений: он ремесленник, фабрикант, ученый, художник, он состоит членом разных обществ, города, земства государства. Это признает и Шеффле. Каким же образом возможно, путем пустого и поверхностного подобия, выкинуть этот коренной элемент всякого общежития — лицо? Аналогиями позволительно осторожно пользоваться в науке, там где есть сходство в основных чертах; но тут намеренно устраняется все существенное, и остается только чисто произвольное уподобление с тенденциозною целью.
Столь же произвольны те заключения, которые Шеффле делает относительно имущества. Сообразно с общим своим взглядом на имущество как на составную часть организма, он семье как первоначальной общественной клеточке приписывает совокупное имущество, состоящее из всех нужных для ее потребления вещей. Известно, что муж, жена, дети могут иметь и нередко имеют свое отдельное имущество; но это не входит в расчет автора. Семейное имущество, по его мнению, составляет одно целое. Это интрацеллуларное, или внутриклетчатое, вещество, в отличие от интерцеллуларного, или междуклетчатого, вещества, связывающего различные клеточки между собою. Последнее по своему положению есть уже не семейное, а общественное имущество, и если оно предоставляется семействам, то это происходит единственно в виду общественных целей, когда вследствие исторических причин на семейства возлагается исполнение известных общественных отправлений. К этому разряду Шеффле причисляет всякий промышленный капитал, в котором он видит смешение семейной, интрацеллуларной, с общественною, интерцеллуларною субстанциею. Промышленность представляет область, в которой семейства соприкасаются друг с другом, а потому все вложенное в промышленные предприятия имущество имеет общественное значение; присвоение же его отдельным семьям может быть оправдано только исторически (стр. 215–218). Читатель видит, куда клонятся фантастические аналогии. Коренной элемент человеческого общежития, лицо, с его свободою и со всеми вытекающими из свободы последствиями, совершенно вычеркивается из области общественных отношений.
Это уничтожение личного элемента прямо даже высказывается автором, как основное начало социологии. Переходя от общественных клеточек к общественным тканям, или, как он называет эту отрасль науки, к социальной гистологии, он говорит: "весьма важно социально деятельные, то есть внутри тела человеческого общества деятельные субъекты, или лица (самостоятельные существа в смысле социологии), действительно понять и положить в основание так, как они фактически представляются нам в общественном опытном мире. В противоположность самым укоренившимся представлениям индивидуалистически-атомистической общественной науки, опыт показывает нам, что массы взаимодействий, в которых выражается жизнь общественного тела, исполняются социально иными субъектами, нежели физические лица индивидуальной антропологии. Всякое идущее эмпирическим путем анатомически-физиологически-психологическое рассмотрение социальных фактов показывает нам действующими не физические лица, а учреждения (Anstalten) или лица, действующие в виде учреждений, то есть социальные органы, ткани и части тканей, которые все без исключения слагаются из персонала и имущества, так же как и члены, ткани и части тканей органических тел без исключения составлены из клеточек и междуклетчатых веществ" (стр. 276). Шеффле уверяет, что упущение из виду этого основного факта социологии, который даже как бы намеренно сглаживается юридическою терминологиею, ведет к самым пагубным заблуждениям. Социально отдельное лицо есть не более как элемент ткани (gewebliches Element), который всегда является вплетенным в различные соединения с другими лицами и имуществом. Даже там, где оно действует совершенно самостоятельно, оно социально действует не иначе, как через посредство известного аппарата внешних орудий, то есть как деятельный элемент сложного учреждения, и воля его является органом воли этого социального собирательного субъекта. Начинать же с отвлеченного физического лица и фиктивных его расширений, говорит Шеффле, как делает правоведение, значит прямо "бить в лицо" эмпирическим данным социальной анатомии, физиологии и психологии. Вся господствующая в правоведении путаница понятий относительно юридических лиц, а также чисто индивидуалистическое понимание собственности, коренится, по мнению Шеффле, в "индивидуалистически антисоциальной подстановке физической личности вместо социальной субъективности". Правоведение, как и всякая общественная наука, должно строго держаться опытной почвы, а "на этой почве для социологического взгляда нет физического лица. Единственные, истинно реальные, а не фиктивные лица социологии суть без исключения сплетения индивидуальных духовных сил, соединенных с соответствующими имущественными снарядами… Единственными же фиктивными лицами с точки зрения социологии были бы голые и чистые физические лица; ибо таковых, как прямых носителей социальных взаимодействий, не существует… Реальные лица, или субъекты деятельности в смысле науки об обществе суть всегда органы, ткани и части тканей, в которых часть индивидуальных рабочих сил и имущественной субстанции вплетены в способное к социальной деятельности учреждение" (стр. 277–284).
Мы нарочно сделали эти выписки, с сохранением их уродливого языка, чтобы показать, до какой степени умопомрачения доходят современные так называемые социологи, вносящие в изучение общественных явлений понятия и воззрения естественных наук. И это пишет не какой-нибудь темный исследователь, который по ограниченности ума доводит до безобразной крайности мысли, выработанные новейшею наукою! Нет, это взято из многотомного сочинения известного экономиста, прославившегося своими учеными трудами, профессора и бывшего министра великой европейской державы. Что можно почерпнуть из науки, которая низошла до такого уровня? Всего удивительнее то, что эти нелепости выдаются за результаты опыта. Доселе чистый опыт всегда вел к индивидуализму, ибо в опытной сфере мы встречаем только физические лица: нужно действие мысли, чтоб за видимою разобщенностью лиц открыть внутреннее, духовное их единство. Здесь же во имя опыта то, что мы видим в действительности, объявляется фикциею; ученый исследователь утверждает, что физическое лицо не существует: оно не что иное как употребленный для ткани (geweblich verwendet) элемент! Даже там, где оно, по-видимому, действует самостоятельно, оно является только органом воли принадлежащего ему имущества и употребляемых им орудий. Современная социология дошла до понятия о воле имущества и орудий! Большую аберрацию, кажется, трудно придумать.
В действительности разум и воля принадлежат только человеку, а не вещам; а так как лицом называется именно существо, одаренное разумом и волею, то имущество никогда не может быть лицом или составною частью лица: оно всегда является только принадлежностью лица. Если в правоведении имущество возводится иногда на степень лица, например в так называемом лежачем наследстве (hereditas jacens), то это происходит единственно оттого, что лицо наследника остается пока неизвестным; но никто никогда не признавал это за что-либо иное, как за юридическую фикцию. Реально же всякая деятельность, как частная, так и общественная, исходит из разума и воли единичных существ, ибо иных одаренных разумом и волею субъектов в действительности не существует. Самая общественная воля не что иное как юридическая фикция, ибо общество как целое реально воли не имеет: волею его признается воля тех или других единичных лиц, которые считаются его представителями. Поэтому ни социология, ни какая-либо другая наука, исследующая человеческие отношения, не может отправляться от иного начала, кроме разума и воли отдельного лица: все остальное является производным. Индивидуализм может быть устранен только с уничтожением человека.
Шеффле проводит свои аналогии и по различным видам тканей. Он насчитывает шесть родов общественных тканей, а именно, связующие ткани (Bindegewebe), представляющие всякого рода бесформенные отношения, кровные, этнографические, местные, торговые, религиозные, общежительные, сословные, даже политические, и пять специальных тканей, через посредство которых совершаются важнейшие отправления общественного организма: таковы оседлость, защита, хозяйство, техника и руководство. В физическом организме этим пяти тканям соответствуют кости, кожа, питательные сосуды, мускулы и нервы. Оседлость выражается в постройках и дорогах; они образуют общественный скелет, в котором большие города изображают череп, средние позвоночный столб, а разные движимые придатки, как то мебель и экипажи, занимают место связок (стр. 326–327). К защите относятся всякие покрышки, упаковки, лаки, заборы, конверты, одежда, обувь, перчатки, дрова, наконец армия и флот, которые, к удивлению, оказываются в одной категории с коробочками, рамками и дровами (стр. 329–330). Однако же, будучи орудиями деятельности, они относятся вместе с тем и к технике (стр. 346), так что одно и то же учреждение является в одно и то же время и общественною кожею, и общественными мускулами, что несколько путает аналогию. Самые ткани впоследствии являются как целые системы органов, представляющие отчасти те же рубрики оседлости, защиты, хозяйства, а отчасти и другие: щколу, умственное развлечение, искусство, язык и т. д. (стр. 847). В этих системах, например в оседлости, которая в виде ткани представляла только собрание вещей, важнейшею составною частью являются уже лица, и Шеффле серьезно утверждает, что "те части тела, как то скелет, известные мускулы, нервы, связи, которые служат ходьбе, сидению, лежанию, восхождению, подниманию, ношению, нагружению, езде, должны рассматриваться как живой вклад (или часть) социального организма защиты и движения" (III, стр. 117), так что например нога человека, которая служит ему для ходьбы, должна рассматриваться как часть общественной ноги и т. д.
Все эти ребяческие подобия, без сомнения, могут вызывать только улыбку. А между тем Шеффле делает из них важнейшие выводы относительно экономического порядка общественной жизни. "При полном сознании одухотворенной сущности социального обмена материи, — говорит он, — мы не должны однако позволить отнять у себя одну прибыль, которую мы получили от сравнения его с обменом материи в животном теле. Общественный обмен материи как целое стоит выше своих членов, то есть хозяйств отдельных семейств, частных лиц и учреждений. Точно так же национальные или социальные экономические категории идут прежде частнохозяйственных. Если даже исторический социальный обмен материи слагается из соединения и взаимных сношений отдельных хозяйств, (большею частью частнохозяйственным путем торговли, то все-таки, как скоро социальный обмен материи образовался из совокупляющих патриархальных, или феодальных, или капиталистических, или общехозяйственных организующих, оборотных и интегрирующих сил, так обмен материи общественного тела становится выше особых обменов материи отдельных хозяйств; целое идет прежде частей. Последние зависят от первых" (III, стр. 243). То есть, говоря человеческим языком, хотя в истории и в жизни общественное хозяйство представляется не более как взаимодействием частных хозяйств, однако аналогия с животным организмом заставляет нас утверждать, что общее хозяйство господствует над частным. "Физиология животного питания, — прибавляет Шеффле, — хотя она в недавнее время основательно разработала клетчатые питательные процессы, никогда однако же не забывала, что хозяйства клеточек составляют интегрирующие части общего питания. В народном же хозяйстве замечательным образом с первого раза выдалась с значительною односторонностью противоположная, частнохозяйственная точка зрения".
То, что автору кажется удивительным, происходит просто оттого, что обе науки, отправляясь от изучения явлений, исследуют то, что они находят в действительности, а не строят фантастических теорий на основании мнимых аналогий. Из того, что в физическом организме общее питание совершается посредством желудка, от которого отдельные клеточки получают свою пищу, вовсе не следует, что таковой же желудок непременно должен обретаться и в народном хозяйстве. Предполагать тут одинаковые начала, когда действительность показывает нам совершенно противное, значит не идти научным путем, а предаваться праздным фантазиям. Аристотель, у которого Шеффле заимствовал положение, что целое идет прежде частей, возражая Платону, говорит, что общество менее едино, нежели отдельное лицо, а потому отношение частей к целому, которое существует в последней, не может служить указанием для первого.
Между тем Шеффле, исходя от этого начала, строит на нем целую систему народного хозяйства. Он утверждает, что все "частные потребности суть только составные, в себе самих далее расчленяющиеся части общей потребности, которая служит поддержанию совокупного жизненного движения и обновлению всех субстанций общественного тела… Совокупное удовлетворение разнообразных потребностей лица и целого народа ведет к постоянному возобновлению общественного тела. Потребности составляют поэтому одну единицу; они не могут быть разделены… Частные потребности физических и нравственных лиц могут правильно обсуждаться только как члены совокупной потребности" (III, стр. 249). И тут, по уверению Шеффле, "речь идет не об том только, чтобы свести общий итог личных, частью в высшей степени неразумных и вредных для общества потребностей и признать их не обращая внимания на интересы целого. Отдельные потребности следует частью уничтожить, частью затруднить. Другие должны получить право гражданства или облегчения. Свободе личных потребностей надобно положить общественные границы, узду и побуждения: в интересах совокупного сохранения" (стр. 320). Правда, несколько далее Шеффле признает, что "терроризм, который захотел бы отодвинуть назад личную свободу потребностей существенно за пределы нынешней свободы потребностей среднего состояния, наверное не мог бы продержаться долее четверти года" (стр. 344); но это одно из тех противоречий, в которые вовлекают автора неотразимые требования действительности и которые характеризуют указанное выше двоякое течение его мыслей.
Точно так же как в потребностях, Шеффле и в работе, и ее произведениях видит одно целое. "Совокупная реальность народнохозяйственных издержек и выгод, — говорит он, — составляет живую или скрывающуюся в материи общественную силу данной цивилизации. В двойном облике издержек и пользы, который представляет нам каждое вещественное благо, проявляются две стороны единой, выражающейся в обмене материи силы… Как рабочая сила в обширном смысле, она составляет единый источник материального дифференцирования разнообразных благ… Вследствие этого самые различные рода блага образуют обусловливающие друг друга составные части совокупной потребности общества, или одного и того же связанного обменом союза лиц… Все хозяйственные блага, в пределах того круга потребностей, к которому они принадлежат, имеют одну и ту же сложную и нераздельную силу своим источником и своею целью" (III, стр. 274–276). Отсюда требование, чтобы сумма всех отдельных работ была сведена к "единой нераздельной субстанции общественной силы как к своему знаменателю" (стр. 276) и чтобы "работы производились как части совокупной работы, под общественным руководством", причем "каждому лично записывались бы только часы исполненной для народа работы на том листе, который он имел бы при одном из отделений великой расчленяющейся на отделы главной социальной бухгалтерии" (стр. 334). Такое "социальное государство имело бы в действительности социализированную, связанную в одно интегральное целое национальную работу" (стр. 315). Но настоящее устройство народного хозяйства, замечает Шеффле, не представляет и тени такого рода общественной организации. Образование ценностей предоставлено борьбе частных интересов. В этой борьбе решают перевес капитала и хитрость. Средние общественные издержки и получаемая общественная выгода не только не подчиняются общим правилам, но даже не сознаются, не определяются и не вычисляются. Одним словом, вместо совокупных потребностей, совокупной работы и совокупных произведений, мы имеем бесконечное разнообразие частных потребностей, работ и произведений.
Итак, когда мы с великим аппаратом учености, призывая на помощь естественные науки, употребляем аналогии из физического мира, мы сравниваем не действительное с действительным, а действительность с мечтою. Существующее народное хозяйство вовсе не похоже на питание физического организма; но на него должно быть похоже будущее! В силу чего же оно должно быть похоже? В силу аналогии. Но где же аналогия, когда сходства нет, и мы еще мечтаем о том, что оно когда-нибудь будет? Вся эта аргументация Шеффле основана на употреблении риторических фигур, вместо точных научных терминов. В народном хозяйстве можно говорить о совокупных потребностях, о совокупной работе; но надобно помнить, что под этим разумеется только сумма частных потребностей и работа. Если же мы под предлогом, что потребности, работа и произведения составляют одно целое, будем требовать, чтобы все это определялось государством, если мы в национальной работе будем видеть реально единую силу тогда как на деле существует множество раздельных самостоятельных сил, то мы целую новую и невиданную систему общественных отношений возведем на риторике. Социализм этим пробавляется; но из науки подобные приемы должны быть изгнаны. Они служат только печальным признаком того низкого уровня, до которого дошли современные научные исследования под влиянием господствующего реализма.
Аналогия с физическим организмом тем менее может служить доводом в пользу социалистического устройства народного хозяйства, что из нее с одинаковым правдоподобием можно вывести совершенно противоположное. Доказательством тому служит теория Спенсера. Знаменитый английский философ, точно так же как Шеффле, признает общество организмом. В своих "Началах социологии" он подробно развивает эту мысль и старается утвердить ее на научных данных. Общество, говорит он, составляет не простое собрание лиц, а единое целое. Это явствует из того, что между его частями существуют постоянные отношения, а постоянство отношений и есть то, что дает единичный характер целому или что делает предмета отдельною вещью (гл. 1).
Заметим, что постоянство отношений точно так же существует в системе вещей, как и в единичной вещи. Достаточно указать на Солнечную систему. Следовательно, одного этого признака совершенно недостаточно для определения характера общества как целого. Между тем Спенсер довольствуется им и прямо приступает к исследованию вопроса: к какого рода вещам мы должны отнести человеческое общество?
Сходство существенных признаков, по мнению Спенсера, заставляет отнести его к разряду организмов. Общество, так же как организм, имеет рост; по мере роста в нем происходят различия в строении частей, а с тем вместе отдельные части получают различные отправления; эти части и отправления находятся во взаимной зависимости и живут общею жизнью; наконец, общество, так же как организм, состоит из отдельных единиц, имеющих самостоятельную жизнь и могущих даже продолжать некоторое время свое существование, когда жизнь целого внезапно прекратилась, хотя, с другой стороны, при нормальном порядке жизнь целого продолжается далеко за пределы жизни входящих в состав его единиц. Существенное отличие общества от организма состоит в том, что последний находится в состоянии связном, тогда как в обществе единицы раздельны. Отсюда различие целей: так как сознание в обществе не сосредоточено в общем вместилище, а разлито по всему телу, то целью общественной жизни не может быть счастье целого, а только счастье отдельных единиц, способных ощущать удовольствие и страдание. Не лица существуют для общества, а общество для лиц. Поэтому и права политического тела сами по себе ничего не значат: они получают значение, только как выражающие собою известные права членов. Однако же, говорит Спенсер, это различие целей не влечет за собою различия законов, управляющих организмом. Если вобществе необходимые влияния частей друг на друга не могут передаваться непосредственно, как в физическом организме, то они могут передаваться косвенно, посредством языка (гл. 2).
И тут мы не можем не сказать, что аналогия проведена в высшей степени поверхностно. Хотя есть сходные черты, зато есть и существенные различия, а потому невозможно отнести оба явления к одному разряду. Если общество составляет не одно связное целое, а соединение раздельных единиц, свободно движущихся и живущих самостоятельною жизнью, то в физическом смысле оно должно рассматриваться не как единичное тело, а как система единичных тел. Если взаимное влияние частей происходит не путем физического действия, а через посредство духовного общения, то и единство здесь не физическое, а духовное, а потому все аналогии с физическим организмом могут иметь значение только метафорическое. Наконец, если справедливо, что за отсутствием физического центра сознания и чувства, целью общества может быть только бдаго частей, а не благо целого, то этим самым полагается между обществом и организмом самое глубокое и коренное различие. Приятие об организме все основано на том, что части служат органами целого, то есть целое является целью, а части средствами или орудиями для этой цели. Руки и ноги существуют для человека, а не человек для рук и ног. Как же скоро мы принимаем обратное отношение, так понятие об организме исчезает, и мы имеем перед собою явление совершенно иного рода.
Все эти существенные различия сводятся к тому, что общество, в отличие от физического организма, образует систему раздельных единиц, связанных духовною связью. Какого рода единство вытекает из этой связи, это может раскрыть нам только фактическое изучение взаимного отношения целого и частей в человеческих обществах; аналогии же с физическим организмом при таком коренном различии не служат ровно ни к чему.
Спенсер уверяет, однако, что разница в связи, в способе взаимодействия и в целях отнюдь не влечет за собою различия законов, управляющих телом. Но уже с первого взгляда такое положение представляется крайне парадоксальным. Где есть различие в отношениях частей между собою, в способе их действия и наконец в отношениях их к целому, там не может не быть различия в законах, ибо законами определяются именно отношения вещей. Изучение фактов убеждает нас в этом еще более. Только путем самых натянутых аналогий и опущением самых существенных признаков врзможно насильственно свести обоего рода законы к одной категории. Это именно мы и находим у Спенсера.
Так, относительно роста он говорит, что общества, так же как живые тела, начинаются с зародышей и затем путем постепенного размножения составных единиц или внешнего соединения групп достигают значительных размеров (гл. 3). Уподоблять мелкие кочующие орды физическим зародышам, как делает Спенсер, значит пробавляться метафорами. Естественное размножение народонаселения, конечно, можно сравнить с размножением клеточек в единичном организме, ибо оба явления проистекают из одного начала, из физического размножения особей. Но в образовании человеческих обществ к этому естественному способу приращения присоединяется другой, чисто искусственный, завоевание, которое никак нельзя сравнить с естественным соединением однородных групп в низших организмах. Сам Спенсер указывает на то, что соединение мелких племен нередко проистекает из личного характера великого военачальника. "От времени до времени, — говорит он, — является маленький Наполеон, который покоряет себе царство и воздвигает империю. Но династии не переживают духа владыки". В животном организме маленькие Наполеоны не появляются. Никто также не видал, чтобы одно животное в борьбе с другим откусило чужую ногу и приставило ее себе, подобно тому как государства сплошь да рядом присоединяют к себе завоеванные у других области, причем происходит искусственное смешение самых разнородных элементов, различных рас, религий, степеней культуры и т. д. Обо всем этом Спенсер осторожно умалчивает. Он принужден однако признать, что есть известный прирост общественного тела, которому нет аналогий в физическом организме, именно переход единиц из одного общества в другое; но он уверяет, что этот способ приращения играет весьма незначительную роль в образовании человеческих обществ. Достаточно вспомнить эпоху переселения народов, чтобы убедиться, напротив, в весьма существенном значении этого явления. В результате оказывается, что если рост физического организма совершается исключительно путем естественного размножения, то в человеческих обществах является новый, неизвестный физическому миру элемент — свобода.
То же самое относится и к общественному строению. Спенсер указывает на то, что в обществах, так же как и в физических организмах, умножение массы обыкновенно сопровождается осложнением строения; говоря его языком, интеграция сопровождается дифференциациею. По мере прибавления роста увеличивается разнородность частей; от общих различий она идет все далее к более частным (гл. 4). Нет сомнения, что развитие, которое обыкновенно влечет за собою большее разнообразие и осложнение частей, составляет общий закон физических организмов и человеческих союзов; но и тут свойственная человеку свобода дает ему совершенно иной характер. Во-первых, внутренние различия общественного строения нередко образуются не путем органического роста, а в силу внешнего завоевания. Наглядный пример представляет всемирное различие господ и рабов, на которое указывает и Спенсер как на первоначальный, коренной факт человеческого общежития. Дифференциация происходит здесь вследствие того, что пришлое племя покоряет туземцев и обращает их в рабство. То же самое в значительной степени прилагается к различию сословий и каст. Во-вторых, человеческое развитие под влиянием свободы совершается путем внутренней борьбы, между тем как в физическом организме мы ничего подобного не видим. Не столкновением старого с новым, не переворотами и междоусобиями, а переходя через период усыпления, гусеница превращается в бабочку. Человек же идет от ступени к ступени только борьбою новых начал с установившимся порядком. Наконец, несправедливо, что в этой борьбе постоянно увеличивается дифференциация, как уверяет Спенсер. Часто мы видим совершенно обратное явление: сословные различия исчезают; низшие классы уравниваются с высшим. Если бы теория Спенсера была справедлива, то человечество неудержимо стремилось бы к повсеместному установлению каст, и всякое уклонение от этого порядка было бы признаком разложения. На деле происходит вовсе не то.
Поэтому неверно положение Спенсера, что в человеческих обществах, так же как в физическом организме, с высшим развитием и с специализациею отправлений является все большая и большая зависимость частей друг от друга, а с тем вместе и все меньшая возможность заменить одно отправление другим (гл. 5). Если "мы не можем разрезать надвое млекопитающее без того, чтобы оно тотчас не умерло", то от человеческого общества можно отделить любую часть, и оно все-таки не умирает. Римская Империя разделилась на две половины; Северная Америка отделилась от Англии, Бразилия от Португалии, Голландия от Бельгии. Наполеон I производил удивительные операции над европейскими государствами; но после его падения они восстановились в виде, весьма близко подходившем к прежнему. "Отделите округ, где обрабатывается хлопчатая бумага, от Ливерпуля и других портов, — говорит Спенсер, — и промышленность его остановится, а затем погибнет народонаселение". Но округ, где добывается хлопчатая бумага, принадлежит к совершенно другому обществу, нежели тот, где она обрабатывается; а между тем последний от этого не погибает. Что же касается до специализации отправлений и невозможности замены одного другим, то это положение опровергается, как уже сказано выше, уничтожением сословий и каст на высших ступенях развития. Если, с одной стороны, требуется специальность, то, с другой стороны, высшее образование делает человека более способным переходить от одного занятия к другому и из одного положения в другое.
Не довольствуясь указанием общих законов, Спенсер, подобно Шеффле, проводит аналогию между различными отправлениями физического организма и человеческого общества. Он различает в обоих три системы, или аппарата органов: 1) аппарат производительный, вырабатывающий пищу; 2) аппарат направляющий и, наконец, 3) стоящий между обоими и образующийся позднее всех аппарат распределяющий (гл. 6). Системы оседлости, защиты и движения, которые у Шеффле играют важную роль, тут совершенно оставляются без внимания. Как видно, в социологических аналогиях можно брать, что угодно, и оставлять в стороне все, что угодно. Социология — такая наука, которая все терпит.
Подробности указанных Спенсером аналогий убеждают нас в этом еще более. Казалось бы, трудно найти какое-нибудь сходство между пищеварительным процессом у животных и промышленным производством в человеческих обществах. Животный организм имеет общий пищеприемный канал, общий желудок, наконец общий кишечный канал, откуда переваренная пища распределяется уже по всему телу; в человеческом же обществе каждая из миллионов составляющих его единиц работает для себя, вступая в бесконечно разнообразные соединения и взаимодействия с другими. Контраст тут полный; но Спенсер не считает даже нужным об нем упоминать. Вместо того чтобы обратить внимание на строение органов, в чем и заключается существенный вопрос, он указывает на то, что каждая из частей пищевого аппарата у животных имеет свое специальное назначение в переработке воспринимаемой пищи, и точно так же в обществе различные отрасли промышленности сосредоточиваются в тех местностях, где добываются обрабатываемые ими произведения. Кроме того, подобно тому как в высших животных пищевой аппарат теряет отношение к первоначальным сегментам животного тела, в человеческом обществе распределение промышленности, на высших ступенях, не соображается с административными делениями, а идет даже за пределы государственной территории (гл. 7). Вот и вся аналогия! Едва ли нужно доказывать, что тут аналогии нет никакой. Распределение промышленных отраслей по местностям, где добываются произведения, не имеет ровно ничего общего с органическим расчленением пищевого аппарата, которое зависит не от случайных свойств местности, а от общего назначения его в организме. Самое распределение промышленных отраслей отнюдь не таково, чтобы каждая из них сосредоточивалась непременно в известной местности. Земледелие и ремесла рассеяны всюду. Одни и те же фабрики, суконные, бумагопрядильные, льняные в одном и том же государстве встречаются и на севере и на юге, и в центре и на окраинах. Во всем этом нельзя найти даже отдаленного сходства, не только что аналогии, имеющей какое-нибудь научное значение.
Столь же мало сходства мы замечаем и в распределяющем аппарате. Мы видели, что Шеффле признает в путях сообщения явление аналогическое с скелетом животного организма; Спенсер, напротив, видит в них аналогию с кровеносными сосудами. При таком способе исследования можно, конечно, аналогиями распоряжаться как угодно. Выше было сказано, что Спенсер считает этот аппарат явлением позднейшим, проистекающим из высшего развития. Он указывает на то, что в обществе, так же как в животном царстве, по мере осложнения организма эти сосуды получают более правильный вид, осложняются и идут расширяясь от центра к окружности (гл. 8). Но он забывает при этом, что важнейшие, особенно в первые времена, пути сообщения, реки, существуют прежде, нежели образовался какой-либо общественный организм. Оказывается, следовательно, что сосуды появляются прежде тела. Бесспорно, с развитием общественной жизни развиваются и пути сообщения, а вместе с тем движение становится правильнее, быстрее, и движущиеся товары делаются многообразнее. Но это такого рода поверхностные аналогии, которые можно найти во всем. Прибавим, что пути сообщения в обществе служат не для одной перевозки товаров, но и для всяких сношений. Вследствие этого их можно уподобить нервным нитям, так же как костям и кровеносным сосудам. Наконец, ими соединяются различные страны, между тем как кровеносные сосуды, как известно, не идут из одного животного тела в другое. Если мы хотим искать аналогии с распределением пищи, то существенный вопрос состоит в том: распределяется ли она в обществе, так же как в животном организме, из одного общего вместилища по всем частям тела? Но именно этого-то и нет. Не только работа производится всюду, но пища, переработанная другим общественным организмом, получается в обмен переработанной самим получающим. Как видно, общественный желудок переваривает иногда для другого.
Что же касается до направляющих органов общественного тела, то Спенсер видит в них аналогию с нервною системою. Он указывает на то, что правительственная власть, которой существенное назначение состоит в направлении внешних движений общества, возникает и развивается вследствие столкновений с соседями, подобно тому как в животном царстве высшее развитие нервной системы происходит вследствие борьбы за существование. В обоих случаях развитие ведет к большему и большему сосредоточению жизни; местные центры подчиняются центральному органу, который приобретает большую массу и более сложную организацию, причем обсуждающий орган, последний по времени, получает преобладающее значение, тогда как старые, исполнительные органы нисходят на степень механических передатчиков движения. Точно так же с высшим развитием осложняются и совершенствуются способы передачи чувств и движения, в физическом организме нервные нити, в обществе различного рода знаки, как то: почты, письма, журналы, телеграфы. Наконец, подобно тому как в животном теле, кроме общей нервной системы, существуют еще две независимые от нее группы нитей, именно, система симпатических нервов, направляющая действия пищеварительных органов, и система сосудодвигательных нервов, расширяющих и суживающих кровеносные сосуды, сообразно с потребностью крови в различных частях тела, в обществе существуют две самостоятельные системы управляющих органов: в промышленности — частные способы сношений, посредством которых производство получает направление независимо от правительственной власти, а в распределяющей системе — банки, которые содействуют приливу и отливу капиталов по мере потребности (гл. 9).
Едва ли нужно доказывать, до какой степени натянуты все эти аналогии. Прежде всего, правительство направляет не одни внешние движения, как общая нервная система, но также значительную часть внутренних. Поэтому и развитие его зависит столько же от внутренних причин, сколько от внешних. В Риме, пока происходила борьба с соседями, сохранялись разрозненные республиканские власти; но когда покорен был почти весь известный тогда мир, внутренние междоусобия повели к сосредоточению власти в руках императоров. У арабов возникновение халифата и все совершенные ими завоевания были последствиями возбужденного внутри общества религиозного фанатизма. В России призвание варягов было вызвано внутренними усобицами. Самая аналогия с постепенным развитием нервной системы в животном царстве не выдерживает критики, ибо зависимость развития нервной системы от борьбы за существование не что иное как гипотеза, а аналогия с гипотезами не может быть допущена в науке. Несправедливо также, что в обществе, так же как в физическом организме, высшее развитие ведет к большему и большему подчинению местных центров общему средоточию; нередко мы в истории видим обратный ход. Монархия Карла Великого уступает место феодализму; колонии получают самостоятельные учреждения; слишком натянутая централизация заменяется местным самоуправлением. Столь же мало можно утверждать, что обсуждающий орган, то есть парламент или народное собрание, аналогию которых Спенсер видит в большом мозге, непременно, с течением времени, получает перевес над другими. Из истории мы знаем, что как древние, так и средневековые республики уступили место неограниченным монархиям. Самое устройство этого обсуждающего органа таково, что в физическом организме нельзя приискать для него никакой аналогии. В непосредственной демократии единицы, составляющие общество, сами собираются для совокупного решения; в представительном правлении они выбирают лица, которым поручается решение государственных вопросов, сообразно с желаниями большинства, и тут, в противоположность выведенному Спенсером закону, специализация отправлений уступает место общему праву.
Еще поверхностнее аналогии в способах передачи решений. Нервные нити однородны с нервными центрами и составляют их продолжение; уподоблять их знакам, почте, телеграфам и даже журналам, которые, как известно, не получают своего направления из общего центра, значит просто играть словами. Желательно знать, какой нервной нити уподобляется, например, трансатлантический телеграф, соединяющий не только различные страны, но и различные материки? Наконец, в сравнении симпатической и сосудодвигательной систем с аппаратом, управляющим промышленностью и с банками, исчезает даже самое отдаленное сходство. Почты и телеграфы, через которые происходят частные сношения, одни и те же для промышленности и для государства; тут никакой особенной системы нет. Что касается до банков, то они представляют вместилища, в которые притекают и из которых вытекают капиталы; не они двигают, а из них черпают те, которые двигают товары. Ничего аналогического денежной системе физический организм не представляет. Спенсер не нашел также никакой аналогии с судом и администрациею, почему он благоразумно о них умалчивает.
Вообще, все эти аналогии до такой степени поверхностны и натянуты, что они представляются скорее ребяческою забавою, нежели произведением серьезного ума. Они не заслуживали бы никакого внимания, если бы они не исходили от одного из самых видных современных мыслителей и не служили бы печальным признаком того уровня, на котором стоит современная наука. И в прежнее время даже основательные ученые иногда позволяли себе такого рода подобия; но это делалось мимоходом, и никто не придавал им серьезного значения. Теперь же они выдаются за истинно научные основания социологии и подробно развиваются в девяти главах сочинения, имеющего целью исследовать общежитие согласно с воззрениями и методою естественных наук.
Для нас всего любопытнее то, что Спенсер, исходя от тех же аналогий, как и Шеффле, приходит к совершенно противоположным результатам. Шеффле хочет перестроить весь общественный быт на социалистических началах, по аналогии с физическим организмом; Спенсер, напротив, утверждает, что высшее развитие ведет к полной свободе промышленной организации. "Теперь, — говорит он, — уже не может быть речи о том, чтобы государство устанавливало цены или предписывало методы… Закон не определяет более количества произведений земли или фабрик, которое может быть ввезено или вывезено; он не вводит уже известных совершенствований и не воспрещает дурных метод; граждане делают свои дела тем способом, который им кажется наилучшим, не имея иной законной обязанности, кроме того чтобы исполнять свои договоры и не наносить вреда своим соседям" (гл. 9).
Спенсер строит даже на этом различии два противоположных типа общественного организма: хищнический и промышленный. Первый вытекает из развития правительственной системы, направленной на внешние действия, второй из развития промышленной системы, направленной на внутренние действия. Первый основан на принудительном, второй на свободном содействии общества.
В последнем, говорит он, "касательно отношений граждан и государства, развиваются чувства и мысли, противоположные тем, которые свойственны хищническому типу. Вместо учения, предписывающего слепое повиновение правительственному агенту, появляется учение, которое провозглашает верховенство воли гражданина, и утверждает, что правительственный агент существует единственно для исполнения этой воли. Становясь таким образом подчиненным в распоряжении властью, управляющий орган стесняется и в своем ведомстве. Вместо прежнего распространения власти на все роды действий, многие роды действий от него изъемлются. Отрицается его вмешательство в определение способов жизни, пищи, одежды, развлечений; не терпят более, чтобы он предписывал методы производства и регламентировал торговлю. И это не все. Рождается новая обязанность, обязанность противодействовать безответственному правительству, а также и злоупотреблениям правительства ответственного. Новое стремление проявляется в меньшинстве, стремление не повиноваться даже законодательной власти, представляющей большинство, когда эта власть вмешивается известным образом в дела частных лиц. Оппозиция меньшинства законам, которые оно осуждает как противные справедливости, приводит иногда к их уничтожению. Эти общие черты, столь глубоко различающие промышленный тип от хищнического, продолжает Спенсер, рождаются из тех отношений лиц, которые влечет за собою промышленная деятельность, отношений совершенно отличных от тех, которые влечет за собою деятельность хищническая. Все промышленные дела, трактуются ли они между хозяевами и работниками, между продавцами и покупателями, между людьми, посвящающими себя либеральным занятиям, и их клиентами, производятся путем свободного обмена… Это отношение, в котором взаимный обмен услуг не обязателен, где никакое лицо не является подчиненным, становится преобладающим в обществе, по мере того как промышленная деятельность получает перевес… Как результат, из этого вырабатывается тип, которого отличительный признак составляет та же личная свобода, которая заключается во всякой коммерческой сделке. Совокупное действие, посредством которого совершаются многообразные отправления общественной жизни, становится добровольным" (гл. 10).
В приложении к государственному устройству эти два выведенные Спенсером типа страдают крайнею односторонностью и преувеличением. В особенности понятие о хищническом типе основано на совершенном непонимании задач правительственной власти. Тем не менее под этим скрывается верное наблюдение действительности, выгодно отличающееся от тех пустых аналогий, которые мы видели выше. На деле во всяком обществе, и особенно в тех, которые достигали известной ступени развития, промышленная организация отличается от политической. Последняя руководится правительством и влечет за собою принудительное содействие граждан; первая исходит от свободной деятельности частных лиц, вступающих друг с другом в добровольные, договорные отношения. Находясь в одном и том же обществе, эти две области несомненно оказывают влияние друг на друга; но они никоим образом не должны быть смешаны. Коренная ошибка социализма заключается именно в этом смешении. Экономическая наука, напротив, всегда тщательно их различала, доказывая тем, что она стоит на строго научной почве.
Всякая попытка свести эти два разряда явлений к одинаковым началам основана на путанице понятий. Свобода обмена, без сомнения, влечет за собою взаимную зависимость и солидарность людей; но из этого отнюдь не вытекает ни общая организация, ни общее управление. Зависимость и солидарность составляют последствия свободы и управляются свободою. Аналогии с физическим организмом тут совершенно неуместны; во всяком случае, из них ровно ничего нельзя вывести. Всего менее позволительно совокупное общество рассматривать как единый организм, в котором каждая часть существует для целого и является органом целого. Общество, как сказано, представляет собою сложное явление, в котором различные союзы, семейный, политический, экономический, религиозный, имеют самостоятельное значение и управляются различными началами. Общество состоит из свободных единиц, из которых каждая не только является членом различных союзов, но и остается сама себе целью. В экономической области в особенности свобода является исходною точкою и определяющим началом всех отношений. Поэтому экономическая наука, по самому существу дела, должна быть наукою либеральною. Индивидуализм тут совершенно у места; ничего другого даже не может быть. И когда социалисты кафедры и социал-политики восстают против атомистической точки зрения в политической экономии и строят небывалые экономические общества, основанные на органических или социальных началах, то они этим доказывают только, что они сошли с научной почвы, и вместо основательного изучения предмета предаются праздным фантазиям. Истинная задача экономической науки состоит в том, чтобы, исходя от данного теориею и жизнью взаимодействия самостоятельных и свободных единиц, определить законы, которые управляют возникающими отсюда отношениями.
Глава III.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
Свободные экономические отношения управляются законами, определяющими производство, оборот, распределение и потребление богатства. Эти законы не созданы людьми, а вытекают сами собою из природы человека и его деятельности, обращенной на вещественный мир. Предложение и спрос, отношения промышленного состязания, поземельная рента, процент с капитала установились силою вещей, прежде нежели наука, наблюдающая явления жизни, признала их закономерность. Поэтому экономисты нередко называют экономические законы естественными законами промышленного быта, причем, однако, как замечает Рошер, "никогда не должно забывать, что естественные законы народного хозяйства, как и вообще законы человеческого духа, в одном существенном пункте отличаются от законов материального мира: они имеют дело с свободными разумными существами, которые поэтому ответственны перед Богом и перед своею совестью, и которых совокупность образует способный к развитию род"[130].
Не исключает ли, однако, свобода самую возможность существования естественных законов, управляющих промышленным миром? Многие признают эти начала несовместными, и с первого взгляда может показаться, что не без основания. В самом деле, естественный закон действует с неотразимою необходимостью и всегда одинаковым образом; следовательно, при нем нет места для свободы и для зависящего от нее прогресса. Если на первых ступенях человеческого развития, где владычествуют главным образом природные инстинкты, можно еще некоторым образом говорить о естественных законах экономического порядка, если народное хозяйство представляется здесь до известной степени естественным организмом, то с высшим развитием все это исчезает. Народное хозяйство более и более становится "произведением сознательной человеческой деятельности, созданием искусства. Направленные к известной цели и систематически проведенные действия человеческой воли дают ему определенный этою волею образ". Это не столько организм, сколько разумная и искусственная организация. А потому, говорят защитники этого воззрения, совершенно неверны те возражения против социализма, которые укоряют его в нарушении естественных законов промышленного быта и в стремлении заменить их искусственною организациею. У всех образованных народов народное хозяйство есть уже более или менее искусственная организация. И это относится не только к государственному хозяйству, но также и к частным. Вся существующая система частных хозяйств предполагает известные юридические нормы, которые составляют для нее закон; а юридические нормы не представляют собою нечто безусловное, неизменное, вытекающее из коренных свойств человеческой природы. Они создаются человеком и являются плодом его изменяющихся потребностей и воззрений. То же самое относится и к свободному состязанию. Личный интерес, из которого оно проистекает, не есть всегда одинаковым образом действующая естественная сила: это — человеческое влечение, возбуждающее волю, но подлежащее влиянию нравственных причин и связанное с нравственною ответственностью человека за свои действия. "Нынешняя система свободного состязания есть историческая, а не логическая и не естественная категория"[131].
Родбертус прямо даже противополагает естественные законы общественным. "Только в природе, — говорит он, — вещи и отношения сами в себе носят свой разумный закон; в обществе они требуют его от человека". Вследствие этого он считает самое понятие о естественных законах общежития чистым противоречием. Господство подобных законов в области права и промышленности должно вести не к гармонии, как уверяет Бастиа, а к полной неурядице; это было бы нарушением не только справедливости, но и основных начал собственности и благосостояния[132].
Между этими двумя противоположными мнениями, признающими и отрицающими естественные законы промышленного быта, середину занимает Милль. Он признает, что произведение богатства не является чем-то произвольным, а имеет свои необходимые условия и законы, вытекающие из природы вещей. Напротив, законы распределения богатства отчасти проистекают от человеческих установлений. "Способ, каким имущество распределяется в данном обществе, — говорит он, — зависит от господствующих в нем уставов и обычаев. Однако, — прибавляет он тут же, — хотя правительства и народы могут до известной степени определить, какие у них должны действовать установления, но они не могут по своему произволу определить, как эти установления будут действовать. Условия, от которых зависит их сила в отношении к распределению богатства, и способ, каким влияет на это распределение различный образ действия общества, определяются столь же строгими законами, как и самое производство"[133].
Таковы различные мнения авторов. Первый вопрос, подлежащий разрешению, заключается в отношении свободы к закону. Мы видели, что свобода составляет основное экономическое начало; совместно ли это начало с существованием независимых от него законов, управляющих промышленным миром?
Законы, которым подчиняется человеческая свобода в своей деятельности, могут быть двоякого рода: внешние и внутренние. Человек стремится покорить себе внешнюю природу и обратить ее в орудие своих целей. Между тем природа имеет свои неизменные и непреложные законы, которыми управляются все явления. Покорить природу человек не может иначе, как пользуясь самыми этими законами и направляя их к своим целям. В этой деятельности он свободен: он может работать и не работать, действовать так или иначе, по своему произволу. Но только та деятельность будет плодотворна, которая согласна с законами природы. Человек волен построить машину наперекор законам механики; но такая машина не пойдет. Человек не создает, а сознает законы, и, сообразуясь с ними, действует свободно.
То же самое имеет место и относительно законов внутренних. Нравственный закон есть внутренний закон человека, высшая норма его деятельности. И этот закон не создан человеком и не зависит от его произвола; он присущ ему как вечное мерило, с которым должны сообразоваться все его поступки. Но этим не уничтожается человеческая свобода; напротив, нравственный закон существует только под условием свободы. Он обращается к свободе и требует от нее исполнения. Как свободное существо, человек может от него уклониться. В этом случае он не встречается с физическою невозможностью, как при нарушении законов материального мира; но он совершает нравственное зло, которое имеет свои необходимые нравственные последствия, независимые от человеческой воли. Человек не может сделать, чтобы безнравственный поступок имел то же действие, как нравственный. Известная цель может иногда быть лучше достигнута безнравственным действием, нежели нравственным; но каждое из этих действий оставляет свой след, совершенно отличный от другого. Безнравственное действие непременно производит разлад в человеческих отношениях и тем самым рано или поздно вызывает отрицание. Каковы бы ни были отступления от нравственного закона, он не перестает быть неизменною нормою человеческой деятельности.
Столь же независимы от человеческого произвола и законы общественного развития. Человечество направляется к своей идеальной цели внутренними законами духа, владычествующими в истории. Отдельные лица являются орудиями этого исторического движения. Тем не менее и тут свобода не исчезает, ибо только через ее посредство исполняется закон. Человек волен действовать, как ему угодно, держаться старых начал или быть двигателем новых; но, так же как и в отношении к физическому миру, только та деятельность будет плодотворна, которая согласна с законами развития. Действия человека зависят от него вполне, но последствия его действий от него не зависят. Как исполнитель закона, человек властен выбирать те или другие средства, ускорить или замедлить движение; но он не властен его изменить. И тут он не создает, а только сознает властвующий над ним закон.
Наконец, то же самое прилагается и к законам экономического быта. Здесь человек не только имеет дело с внешнею природою, а потому принужден подчиняться господствующим в ней законам, но он должен сообразоваться и с законами, управляющими действием экономических сил. Тут есть своего рода необходимые отношения, вытекающие из природы вещей. Человек волен вывезти на рынок большее количество произведений, нежели требуется, но он не может сделать, чтобы эти произведения через то самое не понизились в цене. Правительство вольно выпускать миллиарды бумажных денег, но оно не может сделать, чтобы они ходили наравне с золотом. Как свободное существо, человек властен нарушать экономические законы, так же как и нравственные; на практике он делает это постоянно; но последствием такого нарушения бывает разорение. Законы производства и распределения в этом отношении действуют совершенно одинаково; установленное Миллем различие не имеет никакого значения. В обоих случаях отступление от закона возможно для человека, и в обоих случаях последствия отступления не зависят от человеческой воли. И тут человек не создает, а только сознает законы. Когда он ими руководится, он идет к обогащению; когда он их нарушает, он вместо богатства получает на долю бедность. Сознание этих законов составляет главную задачу экономической науки.
В этом смысле можно и должно говорить о естественных законах народного хозяйства. Это не физические законы, всегда действующие с непреложною необходимостью. Относясь к свободе, они определяют только те необходимые последствия, которые вытекают из того или другого, зависящего от свободы образа действия. Как свободное существо, человек может их нарушать; но как разумное существо, он должен с ними сообразоваться. Поэтому установленное Родбертусом противоположение естественных законов разумным лишено всякого смысла. Разумно в человеке сознание и исполнение, а не нарушение закона. Это противоположение могло бы еще иметь значение, если бы противопоставлялась низшая природа человека высшей, физическая духовной. Но существо духа, отличительное его свойство, в противоположность материи, заключается именно в свободе; а экономическая свобода и есть то начало, которое отвергается Родбертусом как неразумное. Тут уже господствует полное извращение понятий.
Против всего этого возражают, что экономический быт держится юридическим порядком, а юридический порядок весь зависит от человеческой воли и является созданием человека. Чтобы оценить это возражение, которое принадлежит Вагнеру, мы должны рассмотреть, каковы отношения права к экономическому быту. В предыдущей книге мы уже подробно изложили существо права и вытекающие из него последствия. Здесь нам остается сделать приложение выведенных выше начал.
Возражение Вагнера основано на предположении, что право составляет произвольное установление человека. Но тут надобно различить положительное право и естественное, право в его проявлениях и право в его источнике. Если первое установляется человеческою волею, то последнее управляет самою этою волею. В существе своем право есть выражение свободы; высший его закон есть правда, воздающая каждому свое. А свобода и правда не суть произвольные установления человека. Справедливо не то, что узаконяется общественною властью, а то, что соответствует внутренним требованиям правды. Законы правды, говорит Лейбниц, столь же достоверны и непреложны, как законы пропорций и уравнений. И тут, следовательно, человек не создает, а сознает высший, управляющий им закон.
Но это сознание не всегда и не везде одинаково. Развитие его и приложение к данным условиям жизни составляют главную движущую пружину исторических изменений законодательства. Мы видели, что свобода есть развивающееся начало. Полное осуществление этого начала, согласное с требованиями правды и законами общежития, составляет идеал человечества; исторический же прогресс учреждений заключается в большем и большем приближении к этому идеалу. Задача законодателя в каждый данный исторический момент состоит в том, чтобы сознавши, с одной стороны, высший закон, а с другой стороны, отношения, вытекающие из жизненных условий, определить, насколько жизнь может быть устроена согласно с идеальными требованиями правды. И это историческое движение направляется опять же внутренним законом, независимым от человеческой воли, которая призвана только понять и исполнить рождающиеся помимо ее задачи. Если законодатель забегает слишком далеко вперед в своих идеальных стремлениях, он встречает сопротивление в жизни, и изданный им закон теряет свою силу. Если, наоборот, он отстает от жизненного развития, в обществе является разлад, который рано или поздно приводит к осуществлению неотразимых исторических требований.
Таково значение положительного права и отношение его к праву естественному. Как же прилагаются эти начала к экономическому быту?
Мы видели, что свобода составляет основное экономическое, так же как и основное юридическое начало. Следовательно, эти две области не противоречат друг другу, а напротив, совпадают. Право узаконивает именно то, что требуется экономическими отношениями. Если юридический закон, отправляясь от господства человеческой воли над внешним миром, устанавливает собственность как необходимое выражение свободы, то экономический закон с своей стороны требует установления собственности как необходимого условия и необходимого следствия всей экономической деятельности: усвоенное и приобретенное трудом человека должно принадлежать ему и никому другому; только в виду этой цели он работает усердно, и только опираясь на это приобретенное им достояние, он может идти вперед. Если юридический закон, исходя от начала свободы, определяет формы и условия договора как способа взаимного соглашения воль, то экономический закон, с своей стороны, исходя от того начала, что каждый — сам судья своих экономических интересов, требует, чтобы на этом обоюдном соглашении основывалась всякая совокупная экономическая деятельность. Если юридический закон, соображая, с одной стороны, право человека распоряжаться своим имуществом после смерти, а с другой стороны, права нарождающихся поколений, устанавливает наследство как законную форму преемственности собственности, то экономический закон, имея в виду, что экономическая деятельность человека не ограничивается нуждами настоящего дня и личной жизни, а обращается на далекое будущее и переходит от поколения к поколению, требует установления наследства как важнейшего побуждения к труду: человек, который лишен возможности обеспечить своих детей, не будет работать.
Таким образом, оба начала, отправляясь каждое от своей точки зрения, восполняют друг друга. Одно дает форму, другое дает содержание свободной человеческой деятельности. Право не наделяет человека собственностью, не предписывает ему совершение договоров, не определяет размера имущества, переходящего по наследству; право есть начало дозволяющее: оно открывает простор человеческой свободе и мешает свободе одного нарушать свободу другого. Экономическая же деятельность вносит содержание в эту свободу: человек приобретает, вступает в соглашения с другими, передает свое имущество наследникам, требуя от права только ограждения своей деятельности от беззаконного вторжения чужой воли.
Несправедливо, следовательно, что существующий экономический быт предполагает юридический порядок как нечто ему чуждое и зависящее исключительно от человеческого произвола. Экономический быт и управляющие им законы не предполагают ничего, кроме свободы распоряжаться своими силами и своими средствами, а это и есть то, что обеспечивается юридическим порядком. Следовательно, этот порядок в отношении к экономическому быту является удовлетворением присущего последнему требования, без которого правильная экономическая деятельность совершенно немыслима. Для того чтобы человек мог свободно трудиться и покорять природу своим целям, надобно, чтобы свобода его была защищена от насилия и чтобы ему были обеспечены плоды его деятельности. Юридический порядок составляет ограждение порядка экономического.
Без сомнения, право преследует и другие цели. Кроме частного права существует и публичное, которое воздействует на первое. В историческом своем развитии, право нередко узаконивает не свободу, а рабство. Почти до нашего времени крепостные отношения были явлениями всемирными. Собственность в средние века была опутана феодальными отношениями. В течение столетий цеховое устройство и государственная регламентация заменяли свободное движение промышленности. Но высшим идеалом как права, так и экономического быта является все-таки свобода. Поэтому и философия права и экономическая наука одинаково восставали и восстают против всех учреждений, стесняющих свободную деятельность лица. Нередко они в этом отношении заходили даже слишком далеко. Выставляя абсолютные начала, выработанные сознанием человечества, они упускали из виду исторические условия, которые видоизменяют эти начала и делают из них движущую пружину развития, а не безусловную норму всякой человеческой деятельности. В эту односторонность одинаково впадали и правоведение, и политическая экономия. Новейшая наука восполнила этот недостаток; историческое воззрение нашло в ней свое место. Но историческое воззрение не отрицает, а утверждает начало свободы, показывая постепенное его развитие в человеческих обществах. Когда же, вместо того, личное начало, составляющее сущность свободы, отвергается и в юридической области и в экономической, когда оно представляется как временная, преходящая ступень, которая должна уступить место высшему общественному развитию, то этим равно отрицаются и здравое правоведение, и здравая экономическая теория. Свобода не есть начало, произвольно созданное человеком; она вечно присуща ему как разумному существу и осуществляется в мире, по мере того как она развивается в самосознании людей.
Из сказанного ясно, в каком смысле можно говорить о естественной или об искусственной организации человеческих обществ и в особенности промышленного быта. Невозможно видеть в обществе естественный организм в том смысле, в каком мы говорим об организме физическом. Выше было доказано, что все такого рода аналогии лишены научного основания. Человеческое общество состоит из свободных лиц, и устройство его осуществляется не иначе как через посредство свободы. Но свобода имеет свои присущие ей законы, от которых хотя человек может отступать, однако не безнаказанно. Те законы, которые не установляются человеческою волею, а сами собою вытекают из взаимодействия свободных сил, мы называем естественными; а потому и то устройство, которое держится господством этих законов, можно назвать естественным. Напротив, то законодательство, которое имеет в виду стеснить свободное движение сил и дать им такое направление, которого они без того бы не приняли, можно назвать искусственным, и возникающая отсюда общественная организация будет искусственною. Не всегда и не везде естественное устройство должно быть предпочитаемо искусственному. Есть условия и обстоятельства, при которых возможно только последнее; есть и такие, при которых ему следует дать по крайней мере перевес. Когда дело идет о достижении необходимой общественной цели, например о защите государства, нельзя полагаться на свободное содействие граждан: тут требуется искусственная организация. Напротив, где дело идет о частных интересах граждан, о преследовании ими своих личных целей, там свободе может быть дан полный простор. Здесь область, где должны владычествовать естественные законы. Искусственная организация может быть вызвана обстоятельствами; но она должна быть не правилом, а исключением.
Таков именно характер экономического быта. Мы видели, что основное его начало — свобода труда. Здесь люди преследуют свои личные цели, имеют в виду свои частные интересы. Экономическое общество, как мы видели, зиждется на свободном взаимодействии сил, а потому оно управляется вытекающими из этого взаимодействия естественными законами. Задача человеческого законодателя состоит в том, чтобы охранять этот естественный порядок, ограждая свободу от нарушения и обеспечивая ей плоды ее деятельности. Если законодатель считает иногда нужным вступаться в эту область во имя общественных интересов, то он должен делать это с крайнею осторожностью и соображаясь с естественными законами, которыми она управляется. Иначе он рискует, вместо обогащения, произвести разорение. Если же он, не только пренебрегая этими естественными законами, но и подавляя коренное начало народного хозяйства, свободу, хочет перестроить общество на свой собственный лад и направлять его по своему изволению, то это будет насилием человеческой природе и разрушением вытекающих из нее основ экономического порядка. А такова именно цель социализма. Осуществление социалистических мечтаний было бы не заменою естественных законов разумными, как утверждает Родбертус, а заменою естественных и разумных законов произволом и безрассудством. Но по этому самому эти проекты, составляемые для благополучия человеческих обществ, должны вечно оставаться в области фантазий. Здравый смысл человеческого рода и разумные законы исторического развития мешают их осуществлению.
Отсюда ясно, что всякая законодательная мера в приложении к экономическому порядку предполагает предварительное познание экономических законов. Исследование этих законов составляет первую и главную задачу науки народного хозяйства. Каким же образом должна она приступить к этому исследованию?
Когда естествоиспытатель хочет определить закон, управляющий данным явлением, он старается отделить это явление от других, так чтобы в нем выражалось только действие данной причины, а не чего-либо другого. Такова именно цель всякого опыта: устраняются, по возможности, все посторонние обстоятельства и наблюдается действие данной причины во всей ее чистоте. То же самое делается и при вычислении. Когда выводится, например, закон падения тел, то вычисление делается так, как будто бы тело падало в пустом пространстве, без всякой сторонней помехи. В действительности этого никогда не бывает. Всегда есть сопротивление среды, которое также может быть вычислено. Среда может находиться в более или менее сильном движении, вследствие чего происходит отклонение падающего тела от прямой линии. Может встретиться и стороннее тело, вследствие чего оно получит боковое движение. Может последовать даже внешний удар, который сообщит падающему телу совершенно новое направление. Но все эти сторонние обстоятельства нисколько не уничтожают коренного закона падения тел, и никому еще не приходило в голову упрекать естествоиспытателей за то, что они излагают этот закон, не принимая тут же в расчет тех бесчисленных видоизменений, которым он подвергается в действительности.
Совершенно так же поступают и экономисты при выводе экономических законов. Они берут основное начало промышленной деятельности, хозяйственный интерес, и показывают, каким образом он действует в том или другом случае и какие из этой деятельности вытекают последствия. Эти выводы могут делаться двояким образом: или отправляясь от начала и выводя из него последствия, или отправляясь от наблюдения фактов и возводя их к производящей их причине. В обоих случаях результаты оказываются одни и те же. Опыт подтверждает теорию; то, что происходит в действительности, везде, где людям предоставлена свобода, есть то самое, чего мы должны ожидать, руководствуясь указаниями разума.
Казалось бы, невозможно придумать более правильной методы. Но именно против нее восстают новейшие социалисты кафедры. Они требуют, чтобы при выводе экономических законов принимались в соображение все посторонние влияния, в числе которых главное место принадлежит нравственным побуждениям. Мы снова приходим к вопросу об отношении нравственности к народному хозяйству. Здесь этот вопрос представляется нам с иной точки зрения; но результаты оказываются те же.
Главные возражения принадлежат опять Вагнеру и Шмоллеру. Вагнер уверяет, что хотя для теоретического анализа дозволительно, целесообразно и даже необходимо отправляться от гипотезы полного разделения этики и экономики, и с этой точки зрения исследовать, каковы будут хозяйственные деяния человека, когда он руководится единственно личным интересом; но никогда не надобно забывать, что эти исследования имеют чисто гипотетический характер, а потому невозможно выводить отсюда, что в жизни человеческие действия именно так происходят и еще менее что они должны так происходить. Подобное заключение, говорит Вагнер, всегда приводит к неверному пониманию личного интереса как естественной силы и человека как существа, которое не определяется разнообразными побуждениями, а слепо повинуются единому влечению, действующему по законам необходимости. Вагнер не признает даже правильным воззрение, которое в личном интересе видит постоянную причину хозяйственных действий, а в других влияниях причины случайные или нарушающие нормальный порядок; ибо, говорит он, есть случаи, где первая совершенно уничтожается последними, чего в природе не бывает. Поэтому надобно в каждом данном случае исследовать, какая именно тут действует или должна действовать причина (Grundlegung, § 133).
В этой аргументации прежде всего неверно положение, что исследование законов, по которым действует в хозяйственной области личный интерес, имеет чисто гипотетический характер. Гипотезою в естественных науках называется предположение неизвестного начала, которым объясняются известные нам явления. Закон падения тел не есть закон гипотетический, хотя он в действительности видоизменяется действием среды или посторонних сил. В области же народного хозяйства лежащее в основании его начало личного интереса представляет собою не гипотезу, а совершенно достоверный и известный всем факт. Точно так же достоверно известно и действие его в промышленном мире; мы на каждом шагу можем наблюдать это действие помимо всяких посторонних влияний. Для этого не нужно прибегать ни к каким гипотезам. Иной вопрос: должно ли это начало так действовать или нет? Если мы, вместо того чтобы наблюдать фактически действующее в хозяйственном мире побуждение, станем отвергать его как незаконное и захотим заменить его другим, то в этом случае мы несомненно вдадимся в область гипотез и притом таких, для которых невозможна фактическая проверка, ибо предполагается существующее заменить несуществующим. Это и делают социалисты, когда они существующий экономический быт критикуют как основанный на беззаконном индивидуализме и хотят заменить его отдачею промышленности в руки государства. Тут фактически достоверный закон заменяется чистою гипотезою. Но против этого лучшим лекарством служит именно наблюдение действительности. Это наблюдение вовсе не требует, чтобы подлежащий исследованию закон действовал роковым образом, как физическая сила. Где есть свобода, там всегда возможно отклонение. Не отрицается и влияние посторонних причин, которые в данном случае могут видоизменять, а в других и совершенно уничтожить действие данной силы. Человек может бросить свое хозяйство и раздать все свое имение нищим; но из этого отнюдь не следует, что личный интерес не составляет основного начала хозяйственной деятельности. Закон падения тел остается совершенно достоверным, хотя в данном случае тело, вместо того чтобы падать с ускоренным движением вниз, может быть отнесено ветром в сторону или получить удар, от которого оно полетит кверху. Из того, что посторонние влияния могут в том или другом случае взять перевес над внутреннею движущею силою, проявляющеюся в известном действии, будь она физическая или нравственная, не следует, чтобы эта сила не имела своих собственных, присущих ей законов, которые прежде всего подлежат исследованию науки, ибо ими определяется нормальное действие, тогда как остальное является только видоизменением.
Поэтому нельзя не признать совершенно несогласным с истинными требованиями науки положение Шмоллера, когда он говорит, что существенный вопрос состоит не в том, как действует движущая сила, а в том, как она видоизменяется. "Осторожное исследование, — прибавляет он, — всегда обратит внимание на никогда не успокаивающийся психологический процесс развития человечества и потому всегда будет исходить от конкретных психологических изображений характеров. Внутри каждого такого изображения встретится эгоизм как существенный момент, но везде однако несколько иначе видоизмененный; поэтому он везде производит несколько иной порядок хозяйственной жизни"[134]. Исходить не от законов главной действующей силы, а от видоизменяющих ее обстоятельств, значит идти наперекор не только науке, но и простому здравому смыслу. Что же касается до никогда не успокаивающегося психологического развития человечества, то оно, как мы видели, ведет к большему и большему развитию свободы, а это и составляет то начало, которое признается нормою экономистами. Чтобы опровергнуть его, надобно доказать, что свобода теоретически не есть цель, а практически не является результатом всего предшествующего развития человечества. Но именно этого приверженцы нравственной школы не думают доказывать. Они довольствуются смутными требованиями, а еще чаще декламациею.
Итак, коренная задача экономической науки состоит в исследовании законов, по которым действует личный интерес в нормальном экономическом обществе, то есть при свободном взаимодействии промышленных сил. Затем необходимо исследовать и влияние посторонних причин, а также исторические условия, видоизменяющие действие экономических законов. Именно это
И делает экономическая наука в строгом смысле слова, так, как она была основана Адамом Смитом и как она понимается доселе лучшими умами нашего времени. Держась этих начал, она стоит на твердой научной почве. Все смутные стремления и не переваренные понятия социалистов кафедры и социал-политиков не в состоянии ее поколебать.
Нам предстоит изложить главные основания этого учения и показать их внутреннюю связь с другими сторонами человеческого общежития.
Глава IV. ДЕЯТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
Учение о деятелях производства проходило в экономической науке через различные фазы. Обыкновенно экономисты признают, что промышленное производство является результатом совместного действия трех факторов: природы, капитала и труда. Но каждый из этих деятелей находил своих односторонних защитников в тех школах, которые следовали друг за другом в разработке науки народного хозяйства. Меркантилисты, которые богатство видели преимущественно в деньгах, согласно с этим придавали главное значение капиталу. Физиократы, напротив, приписывали производительную силу единственно земле, вследствие чего они утверждали, что все граждане в государстве получают свой доход от землевладельцев и обогащаются на их счет. Против этой исключительности восстал Адам Смит, который первый обратил надлежащее внимание на производительность труда. Но английская школа в свою очередь склонна была придавать преувеличенное значение последнему. Некоторые из ее представителей доходили до положения, что от одного труда зависит меновая ценность вещей. В противоположность этому взгляду школа французских экономистов под влиянием Сея настаивала на экономическом значении сил природы. Однако и во Франции были писатели, которые пытались доказать, что всякая меновая ценность происходит единственно от труда, а силы природы даром работают на человека. Самым блестящим представителем этого направления был Бастиа, хотя именно в этом пункте его учение всего менее нашло себе последователей.
Разноречие экономистов происходило главным образом оттого, что некоторые из них считали возможным свести все означенные три деятеля производства к одному, а другие строго их различали. Капитал, по общему признанию, не что иное как накопленный труд, а потому производительная его сила, следовательно, и получаемый с него доход с этой точки зрения могут быть приписаны предшествующему труду. Некоторым казалось, что и поземельная рента определяется единственно положенными в землю капиталом и трудом. Бастиа в особенности в своей полемике против социалистов увлекался мыслью, что в виде ли поземельной ренты или в виде процента с капитала, человек получает вознаграждение единственно за произведенный им труд. Мы увидим далее, что это положение не выдерживает критики. Производительная сила, а следовательно и экономическое значение, не только природы, но и самого капитала, не могут быть приписаны единственно положенному в них труду. Но из этого следует только, что сведение всех трех деятелей к одному не может быть оправдано логически, а отнюдь не то, что остальные деятели должны быть отвергнуты, и один труд должен быть признан экономически производительным.
Между тем именно на эту последнюю точку зрения становятся социалисты. Они принимают за аксиому, что производителен один труд и притом физический, который один непосредственно действует на природу. Из этого они выводят, что все лица, не занятые физическим трудом, как то землевладельцы, капиталисты, предприниматели, получают свои доходы единственно от чужого труда. Пользуясь своим привилегированным положением, эти паразиты обирают работников, отнимая у последних часть их произведений и беззаконно присваивая их себе. Таково учение, на котором строится все социалистическое здание.
Эту точку зрения развивал уже Прудон в своей полемике против собственности. Однако в первом своем сочинении он не решался еще приписать производительность одному труду. "Кенэ и старые экономисты, — говорит он, — утверждали, что всякое производство проистекает от земли; Смит, Рикардо, де Траси, напротив, полагают производительную силу в труде. Сей и большая часть тех, которые пришли после него, учат, что и земля производительна, и труд производителен, и капиталы производительны. Это эклектизм в политической экономии. Истина состоит в том, что ни земля не производительна, ни работа не производительна, ни капиталы не производительны; производство является результатом этих трех элементов, одинаково необходимых, но взятых отдельно, одинаково бесплодных"[135].
Казалось бы, что если все три деятеля равно необходимы в производстве, то каждому из них должна принадлежать известная доля произведения. Так говорит логика. Но Прудон, вместо того чтобы сделать правильное заключение из своей посылки, доказывает, что доход землевладельца и капиталиста не что иное как неправильная подать, взимаемая собственником с работника. "Собственность, — говорит он, — есть право производить без труда; но производить без труда значит делать что-нибудь из ничего, то есть творить… Собственник, требующий плату за употребление своего орудия или за производительную силу своей земли, предполагает, следовательно, радикально ложный факт, именно, что капиталы сами по себе что-нибудь производят, и когда он заставляет платить себе за это фантастическое производство, он буквально получает нечто за ничто… Это просто-напросто вымогательство, основанное единственно на обмане и насилии с одной стороны, на слабости и невежестве с другой"[136].
Очевидно, что в этих выводах заключается противоречие с изложенною выше посылкою, ибо если земля и капитал ничего не производят без помощи труда, то из этого отнюдь не следует, что они ничего не производят вообще и что владельцы их получают нечто за ничто. Сам Прудон чувствовал, что на этом остановиться нельзя, а потому он в своих "Экономических противоречиях" решительно стал утверждать, что производителен один труд, а природа и капитал имеют значение только материала. "Труд, — говорит он, — один труд производит все элементы богатства и сочетает их до последних частичек по закону пропорциональности, изменчивому, но достоверному. Труд, наконец, как начало жизни, движет материю богатства и дает ей пропорцию". Капитал же "есть материя богатства, так же как серебро есть материя монеты, как пшеница есть материя хлеба и, восходя в этой серии до конца, как земля, вода, огонь, воздух суть материя всех наших произведений. Но труд, один труд последовательно создает всякую полезность, сообщенную этим материям, следовательно, превращает их в капиталы и в богатства". Отсюда Прудон выводит, что ценность труда такое же метафорическое выражение, или такая же фикция, как производительность капитала. "Труд производит, а капитал имеет ценность" в качестве произведения, то есть пропорционально положенному в него труду[137].
Мы видим здесь все то, что социалисты до сих пор повторяют на равные лады; но во всех этих выводах нет ничего, кроме путаницы понятий и совершенно произвольных положений. Можно ли, в самом деле, утверждать, что всякая полезность сообщается произведениям природы единственно человеческим трудом? Полезность есть способность удовлетворять потребностям человека, а такую способность имеют многие произведения природы даже без содействия труда. Дикие плоды, рыбы, наполняющие моря и реки, птицы и звери, составляющие пищу человека, дерево и каменный уголь, которые служат ему топливом, все это полезно само по себе, а не вследствие приложенного к ним труда. Конечно, если человек лежит на боку, не делая движения, то вся эта польза пропадает для него даром: он должен добывать себе пищу, так же как зверь щипает траву или ловит добычу. Но плод не делается полезным оттого, что человек его срывает, или рыба оттого, что он ее ловит, а наоборот, человек срывает плод и ловит рыбу оттого, что они полезны. Ведь не говорим же мы, что труд коровы создает пользу той травы, которую она щиплет. Есть наконец и такие предметы, которые приносят пользу, не требуя даже и этого малого труда, необходимого для их добывания. Пещеры полезны, потому что они доставляют человеку убежище и покров; но никто не станет утверждать, что укрываться в них составляет труд, который именно и делает их полезными. Без сомнения, большинство естественных произведений таковы, что нужно приложение труда, чтобы сделать их способными удовлетворять потребностям человека; но из этого не следует, что природа тут ни при чем: к одному деятелю прибавляется только другой.
Столь же мало можно утверждать, что капитал составляет только материю для труда. Это ничего более как ложная метафора, которая служит единственно к затемнению понятий и к извращению истинного существа дела. Можно подумать, в самом деле, что труд является единственною деятельною силою в промышленном производстве, а капитал представляет собою лишь страдательное вещество, которое от труда получает свою форму, ибо именно это разумеется обыкновенно под именем материя. Между тем возьмем, например, паровую машину, которая несомненно составляет капитал; есть ли это вещество, которому сообщается форма прилагаемым к ней трудом, или деятельная сила, которая движет производство и сама сообщает форму обрабатываемому материалу? Никто не станет утверждать первого. Совершенствование производства состоит именно в том, чтобы делать посредством машины то, что делалось руками человека, но сила заменяется только силою, а не веществом. Весь труд человека в промышленном производстве заключается в совершении известных движений, имеющих результатом известные сочетания вещества, но если те же самые движения совершаются машиною, то почему же они в одном случае могут быть названы производством, а в другом нет? Почему один только труд будет назван деятелем производства, а капиталу будет отказано в этом названии? Конечно, паровая машина сама собою не пойдет; нужно ее затопить; но скажем ли мы, что движения поршня производятся одним кочегаром, а пар и машина тут ни при чем? Это было бы столь же нелепо, как если бы мы сказали, что какая-нибудь тяжесть перевозится не лошадьми, а извозчиком, между тем как извозчик не в состоянии даже сдвинуть этой тяжести с места.
Скажут, что самая машина получила свою форму от человеческого труда. Но в таком случае следует приписать производительную силу не только труду, приложенному к машине, но и труду предшествующему, создавшему машину, и тогда надобно определить участие последнего в производстве. К этому и приходят социалисты. Сам Прудон держался этого взгляда; но с наибольшею ясностью это учение излагается у Родбертуса, который точнее других формулировал теорию социалистов об исключительной производительности труда.
Родбертус признает положение, что все хозяйственные блага являются произведениями труда, или, иными словами, что труд один производителен, основною истиною политической экономии. Однако он соглашается, что эта истина не есть еще народно-хозяйственный факт, а только народно-хозяйственная идея. Эта идея, говорит он, не означает, что труд имеет претензии создавать материю; но она означает, 1) что только те блага считаются хозяйственными, на которые положена какая-нибудь работа. Все остальные, как бы они ни были полезны для человека, суть естественные блага, которые до хозяйства не относятся. 2) Это положение означает, что с экономической точки зрения все блага рассматриваются только как произведения труда. Кто смотрит на них иначе, тот рассматривает их с точки зрения естественной истории, а не хозяйства. Человек может быть благодарен за то, что сделано для него природою, ибо через это настолько у него уменьшилось работы, но хозяйственное значение эти блага имеют лишь настолько, насколько дело природы довершено трудом. 3) Это положение означает, что в хозяйственном отношении материальные блага являются произведением единственно той работы, которая совершила необходимые для того материальные действия. Однако не той только работы, которая непосредственно произвела известное благо, а также и той, которая произвела орудия, служившие производству. Но последняя принимается в расчет лишь настолько, насколько орудие тратится употреблением. Ни в каком случае само орудие, или его владелец, не может считаться производителем. Если с помощью орудия работник производит более, нежели без него, то это означает только, что работа стала производительнее, а не то, что орудие участвовало в производстве. Точно также, если на плодородной почве родится более хлеба, нежели на бесплодной, то это означает только, что работа в одном случае более производительна, а в другом менее. Везде в хозяйственном смысле производителен один труд и притом труд материальный. Все же остальные работы, которые имеют лишь косвенное влияние на производство, вознаграждаются уже из произведения и материального труда. Из того же источника получаются доходы землевладельцев и капиталистов. Но эти доходы не составляют вознаграждения за действительно оказанные владельцами услуги; они являются последствием неправильного юридического порядка, который присваивает орудия производства одним в ущерб другим, чем и дается первым возможность присваивать себе часть произведений чужого труда[138].
Разберем эту теорию.
Основное ее положение заключается в том, что хозяйственное значение имеет единственно то, что произведено человеческим трудом, и лишь настолько, насколько оно произведено трудом; напротив, все то, что произведено природою, может быть полезно человеку, но хозяйственного значения не имеет. Так ли это?
Что мы называем хозяйством? Деятельность, обращенную на внешний мир для удовлетворения материальных потребностей человека. В этой деятельности, насколько она относится к производству, существенное состоит в пользовании силами природы для человеческих целей. Иногда труд довершает деятельность природы; иногда, наоборот, природа довершает действия труда. Земледелец пашет и сеет; но затем он предоставляет природе взрастить колос и привести плод к созреванию. При таком взаимодействии проникающих друг друга сил, когда обе в совокупности служат одной цели и достигают одних результатов, есть ли возможность сказать, что одна имеет хозяйственное значение, а другая нет? Если сила природы совокупно с трудом произвела то, что удовлетворяет моим материальным потребностям и что составляет мое богатство, то могу ли я отрицать хозяйственное ее значение? По теории Родбертуса, если на плодородной почве родится более хлеба, нежели на бесплодной, то это означает только, что в одном случае труд был более производителен, а в другом менее. Но почему же в одном случае труд был более производителен, а в другом — менее? Единственно потому что в одном случае природа с своей стороны сделала более, а в другом — менее. И если вследствие этого один из двух земледельцев стал богаче другого, то он обязан этим единственно природе, а никак не количеству или качеству своего труда. Другой, может быть, работал больше и лучше; но результат помимо его воли и его усилий вышел все там меньший. Если мы будем стоять на положении, что действие сил природы не имеет хозяйственного значения, то мы должны будем сказать, что произведенный этим действием излишек богатства не имеет значения в хозяйстве человека. Но это будет явная нелепость. Наконец, есть и такие произведения природы, которые вовсе не зависят от человеческого труда, а имеют между тем громадное влияние на богатство людей, например естественная гавань или орошающая страну река. Скажем ли мы, согласно с теориею Родбертуса, что они имеют только естественноисторическое, а отнюдь не хозяйственное значение? Это опять будет нелепость.
Нетрудно после этого понять, почему эта теория представляется только как идея, а не как осуществившийся факт. Но когда выставляется известная идея, надобно по крайней мере, чтобы она была согласна с здравым смыслом, а тут мы именно этого не видим. О научном значении и говорить нечего. Экономическая наука исследует начала народного богатства, а богатство состоит не из того только, что производится человеческим трудом, но также из того, что даруется природою. Это факт, ясный для простого смысла и не подлежащий сомнению. Отрицать его можно только выкинувши совершенно понятие о полезности из области экономических отношений; но этого нельзя сделать иначе, как уничтоживши самые основания не только науки, но и практики. Другой вопрос — насколько тем или другим деятелем производства определяется цена произведений. Об этом будет речь ниже, когда мы будем говорить об обороте. Но здесь уже можно указать на то, что в приведенном Родбертусом примере различной производительности труда на двух почвах неравно плодородных результат, полученный от неравного действия сил природы, произведет разницу и в цене. Хозяин, снявший более обильную жатву, будет богаче не только полезными произведениями, но и меновою ценностью. Точно так же если на две каменноугольные копи положено равное количество труда, а между тем в одной уголь оказывается лучшего качества, нежели в другой, то цена первого все-таки будет выше. Говорить тут о большей производительности труда значит изрекать слова, лишенные смысла. В обоих случаях труд одинаковый, и количественно и качественно; самая добыча количественно одинаковая; но то, что сделано природою, оказывается разного качества, и это отражается на цене произведений.
Столь же несостоятельно мнение Родбертуса о степени участия капитала в промышленном производстве. Он допускает участие предшествующей работы, осуществленной в капитале; но, по его мнению, капитал производит лишь ценность, равную его трате. Откуда же взято это положение? Работа вообще, по признанию самого Родбертуса, производит более того, что нужно для возобновления истраченных сил; на этом основано все человеческое совершенствование. Почему же работа, превратившаяся в капитал, теряет это свойство? Если мы скажем, что положенная на капитал работа уже кончена, а потому не может произвести более того, что уже раз ею произведено, то она не в состоянии и возобновлять потраченный капитал. Последний может служить новой работе, которая через это делается производительнее, но сам он производить ничего не может. При таком взгляде капитал должен быть совершенно устранен из числа деятелей производства. Но тогда мы приходим к тому нелепому результату, что работник, который делает машину, ничего не производит, а производит единственно тот, кто ее употребляет, результат едва ли угодный самим социалистам, несмотря на то что они не имеют привычки останавливаться перед нелепостью. Если же, убоявшись такого вывода, мы признаем, что работа, осуществленная в капитале, может быть производительна в новом производстве, то мы принуждены будем признать капитал настоящим деятелем производства, и тогда нет причины, почему бы мы производительность его ограничивали возобновлением собственной его траты. Сам Родбертус, говоря о производительной силе машины, допускает, что машина, которая стоила столько же, сколько и другая, может иметь двойную степень деятельности, следовательно, и производительности (стр. 39 примеч.). И тут, прибавляет он, окончательное мерило заключается в работе. Но если положенная на устройство машины работа может оказаться вдвое производительнее другой, то нельзя рядом с этим утверждать, что производительность машины всегда равна ее трате.
Какова в действительности доля участия капитала в промышленном производстве, это можно определить сравнением того, что работник способен сделать без машины, и того, что он делает при машине. Если без машины он может сделать 100, а при машине 1000, то очевидно, что 900 будет выражать собою участие машины. Тут нельзя даже сказать, что в последнем случае требуется высшая, более умелая работа: часто бывает наоборот. Мальчик при машине может сделать более в 6 часов, нежели взрослый и искусный работник без машины в 12. На этом основана замена на фабриках взрослых рабочих женщинами и детьми. Скажем ли мы, что работа мальчика производительнее работы взрослого? Но это опять нелепость. Откуда взялась у нее большая производительность, когда все элементы рабочей силы, и ум, и воля, и физическая сила, у мальчика меньше, нежели у взрослого? Это значило бы признать постоянное чудо, рождение чего-то из ничего. Очевидно, что большая производительность работы мальчика зависит не от него самого, а от машины, при которой он работает; следовательно, это производительность не труда, а капитала. А потому невозможно признать, что капитал производит единственно то, что нужно для собственного его возобновления: он производит бесконечно больше, и на этом основано все развитие человеческой промышленности. Без этого избытка не существовал бы и самый капитал. Тот, кто делает машину, потому только ее делает, что она впоследствии, своею работою, даст ему избыток; если же машина будет только сама себя возобновлять, то выгоды ему не будет никакой, и он машины не станет делать, разве для собственного своего употребления.
Наконец, всего менее можно согласиться с Родбертусом, когда он производительным признает единственно труд, совершающий материальные действия. Конечно, не следует к промышленному производству причислять работы, имеющие на него лишь косвенное влияние, как то: работу законодателя, судьи, полицейского служителя, воина, ученого. Все это необходимо для успехов промышленного производства, но все это не есть промышленное производство, а потому материальное вознаграждение, получаемое этими лицами, имеет производный характер. Но самое промышленное производство не ограничивается одним физическим трудом: тут необходим и умственный труд, без которого физические усилия, лишенные руководства, теряют всякую производительную способность. Придавать исключительное значение физическому труду без руководящей мысли значит смотреть на промышленность с точки зрения обезьяны, которая в известной басне воображает, что она трудится, потому что с утра до вечера катает бревна. Главная задача в промышленном производстве состоит в том, чтобы ясно видеть цель, иногда весьма отдаленную, и верно рассчитать средства; в нем всего важнее мысль и воля, физически же действия служат только орудием для исполнения указанной ими задачи. Тот, кто рассчитывает, и тот, кто работает, могут быть два совершенно разные лица; первый является двигателем, второй исполнителем. Хозяин предприятия при самом упорном умственном труде может вовсе не участвовать в физических действиях, необходимых для обработки произведений, а с своей стороны работник, исполняя указанное, может не иметь ни малейшего понятия о том, насколько его работа производительна. Без сомнения, физический труд необходим во всяком предприятии, обращенном на материальный мир; но он составляет только одно из орудий производства, которое во многих случаях может быть заменено другими. Молотить, например, можно и цепами, и коноводною машиною и паровою. От расчетов хозяина зависит употребить то или другое средство, а от этих расчетов зависит, в свою очередь, вся выгодность предприятия, представляющая производительность совершенной работы.
Эта противоположность между физическою работою и умственною, из которых первая является только орудием, а вторая движущею силою предприятия, приводит нас к необходимости от означенных трех деятелей производства отличить четвертый, именно, направляющую мысль, как называют это начало некоторые экономисты, или, лучше, направляющую волю, ибо мысль. как скоро она становится источником деятельности, переходит в волю. В прежнее время предприниматель обыкновенно отождествлялся с капиталистом, ибо в руках его находится капитал, употребляемый для производства. Но факты показывают, что капиталист и предприниматель могут быть два совершенно разные лица. Капиталист может отдавать свой капитал взаймы и за это получать проценты; предприниматель же, пользуясь чужим капиталом, платит проценты, а сам получает прибыль с предприятия. Поэтому в настоящее время, в учении о распределении богатства, экономистами принято отличать процент с капитала от прибыли предпринимателя. С другой стороны, прибыль предпринимателя отличается и от заработной платы. Никто не настаивает на этом более социалистов, которые предпринимателей и капиталистов постоянно относят к одному разряду, противополагая их рабочим. И точно, в прибыль предпринимателя входят другие элементы; но существеннейший из них есть вознаграждение за умственный труд, направляющий предприятие, ибо выгодно единственно то предприятие, которое ведется с должным расчетом. Предпринимателю по преимуществу принадлежит то, что называется умственным капиталом, то есть тот запас умственных и нравственных сил, который является духовным двигателем промышленности. Вследствие этого новейшие экономисты начинают к означенным трем деятелям производства присоединять четвертый, который можно назвать духовным капиталом, или направляющею волею, хотя надобно сказать, что эта мысль далеко еще не получила надлежащего развития в науке[139].
Взглянем теперь на характер и свойства каждого из означенных деятелей. Везде мы должны будем различить две стороны: качественную и количественную, и указать значение каждой из них в промышленном производстве.
1. Природа
Самостоятельное значение сил природы в промышленном производстве оспаривается не одними социалистами. Есть и экономисты, которые утверждают, что единственным истинным деятелем в промышленном мире является тот, который действует сознательно и свободно, то есть который располагает разумною силою, способною управлять и собою, и внешними предметами. А таков один человек. Силы природы сами по себе производят лишь беспорядочное и бесплодное движение; человеческий разум подчиняет это движение известным правилам, направляет его к цели и тем самым делает его способным производить полезные для человека вещи. Он не творит самых сил, но он творит их как орудия производства, а потому он должен быть признан истинным создателем богатства[140].
В этих мыслях есть некоторая доля истины, но в них есть и значительное преувеличение. Несправедливо, что природа не производит ничего полезного для человека, иначе как если она устроена и направлена человеческим разумом. Мы уже указывали на то, что моря, реки и гавани, минералы, дикие растения и животные произведены природою без всякого содействия человека, а между тем составляют полезные для него предметы. Человеку остается только пользоваться ими или добывать их. Без этого основного фонда, который он находит уже готовым, невозможно было бы никакое дальнейшее производство, невозможна была бы самая жизнь. Без сомнения, если бы человек довольствовался тем, что дает ему природа, он никогда бы не подвинулся вперед. Всякое промышленное развитие является плодом собственной его деятельности. Но и тут природа не нисходит на степень простого страдательного орудия. Нередко она действует совершенно независимо от человеческой воли. Человек пашет и сеет, но окончательно урожай зависит от атмосферических влияний, над которыми человек не властен. Самое пользование силами природы производительно только тогда, когда оно согласно с их собственными свойствами и законами. Если человек делает производительным водопад, который без того остался бы бесплодною силою, то он не может сообщить водопаду большую силу, нежели он имеет от природы, перенести его на другое место или дать ему произвольное направление, а от этих условий зависит и результат. Таким образом, куда бы человек ни устремил свою деятельность, везде он встречает перед собою независимую от него силу, которая многое дает ему сама и которая в значительной степени определяет самые свойства его труда, поставляя последний в зависимость от тех предметов, на которые он обращается. Поэтому природа наравне с трудом должна быть признана самостоятельным деятелем производства. Задача науки состоит в том, чтобы определить свойства этого деятеля и его отношения к человеку.
Отличительный признак природы состоит в ее неизменности. Она управляется вечными и непреложными законами, устанавливающими постоянно одинаковый порядок явлений. Чем более человек подчиняется влиянию природы, тем более у него самого господствует однообразный порядок жизни. Это влияние изменяется однако же сообразно с степенью человеческого развития. Если силы природы всегда одни и те же, то пользование ими может быть весьма различно. Оно зависит главным образом от понимания ее законов и от умения обратить их на пользу человека. Животному природа всегда доставляет одинаковые блага; для человека с развитием мысли и знания она получает совершенно новое значение: ее силы становятся орудиями его целей. Но покоряя себе природу, человек вместе с тем подчиняется ей; он может пользоваться ее силами, только соображаясь с неизменными ее законами. Поэтому законы природы кладут свою печать на всю промышленную деятельность человека. Каково бы ни было развитие мысли и знания, производство всегда зависит от условий окружающей среды. Человек может изучить законы природы и пользоваться ими; он не властен их изменить. Как же проявляется действие этих законов? Первое и коренное свойство сил природы, от которого зависит все промышленное развитие человечества, — это их бесконечное разнообразие и неравномерное их распределение на земном пространстве. Можно сказать, что на земле нет двух местностей с совершенно одинаковыми условиями. Этим вызывается многосторонность в развитии человеческих сил и способностей, а от последнего, в свою очередь, зависят не только различные свойства людей, преданных той или другой промышленной деятельности, но в значительной степени и самое различие народных характеров. Влияние естественных условий на историческое развитие человечества не подлежит сомнению и весьма хорошо исследовано наукою. Это факт, который составляет для человека исходную точку и от которого он никогда вполне отрешиться не может.
С другой стороны, самое это разнообразие условий устанавливает теснейшую связь между людьми. В промышленной области оно имеет то последствие, что не везде все можно производить с одинаковою выгодою. Кто хочет производить при неблагоприятных условиях, тот разоряется. Но именно отсюда возникает потребиость мены. Установляется взаимное общение между различными странами; развивается всемирная торговля; человечество начинает понимать себя как одно целое.
Еще важнее то, что это разнообразие естественных условий Проявляется не только качественно, но и количественно. Есть силы, которые в безграничном количестве разлиты по всему миру и одинаково доступны всем; есть другие, которые находятся в ограниченном количестве и доступны только некоторым. Первые не подлежат усвоению; вторыми же можно пользоваться, только когда они усвоены человеком. Это опять основной факт, которого человек изменить не в силах, и когда Родбертус спрашивает, на каком основании меньшинство может присваивать себе силы природы, которые должны стоять на одной линии с воздухом и солнечным светом[141], то это одно из тех легкомысленных изречений, которыми изобилуют сочинения социалистов и которые заменяют им всякие доказательства. Каменноугольною копью, морскою гаванью или известным пространством плодородной почвы нельзя пользоваться так, как люди пользуются светом и воздухом. Если мы даже вместе с социалистами скажем, что каменноугольная копь или земля, будучи даром природы, должна принадлежать не отдельным лицам, а целому обществу, то все же отличие от света и воздуха будет самое существенное. Свет и воздух не состоят во владении общества и не распределяются им между членами: каждый пользуется ими сам по себе, без всякого дозволения. Поставивши все силы природы на одну линию, мы неизбежно должны прийти к заключению, что и всеми остальными силами и произведениями природы человек может пользоваться так же, как светом и воздухом, то есть каждый сам по себе и насколько они ему доступны. Но разница та, что одни, находясь в безграничном количестве, доступны всем, и другие, по своей ограниченности, немногим.
Кто же будет пользоваться последними? По естественному закону очевидно те, которые состоят для того в наиболее благоприятных условиях. Эскимосы не могут пользоваться дарами природы, находящимися под тропиками. Даже светом и теплом они пользуются лишь настолько, насколько они уделяются им физическими условиями страны. Распределивши свои блага неравномерно по всему земному шару, природа точно так же распределила и людей. В каждой местности человек усваивает себе то, что предлагает ему окружающая его среда. Это опять факт, с которым надобно считаться и который человек не в силах изменить. Неравенство составляет исходную точку всего экономического быта. Оно охватывает человека с первого его появления на земном пространстве. Какое влияние оказывают тут чисто человеческие начала, это мы уже видели выше и еще увидим впоследствии.
Естественные силы, находящиеся в ограниченном количестве и подлежащие усвоению, связаны с землею. Именно эти силы всего более независимы от человека: их нельзя ни перенести с места на место, ни умножить произвольно. Поэтому, когда говорят о природе как самостоятельном деятеле производства, то разумеют преимущественно землю. В ней главным образом проявляются те зависящие от свойства естественных сил особенности, которые дают всем соединенным с нею производствам особое место в народном хозяйстве. С нею связано и неравномерное распределение сил на земном пространстве. Есть земли, богатые дарами и бедные, плодородные и бесплодные, земли с выгодным положением и с невыгодным.
Однако же это различие даров природы не есть такое начало, которым бы раз навсегда определялась вся дальнейшая судьба человека. Как уже было указано выше, богатство зависит не столько от обилия естественных благ, сколько от умения ими пользоваться. В действительности мы вовсе не видим, чтобы те народы были богаче, к которым природа была щедрее. Конечно, есть крайняя мера скудости, при которой человек не в состоянии выбиться из-под гнета удручающих его внешних условий. Под полюсами невозможна никакая промышленность. Но с другой стороны, в местах, где природа, по-видимому, расточала свои дары, мы находим общую нищету. Давно уже замечено, что промышленность скорее всего развивается не там, где природа все делает сама, оставляя человеку только ленный труд собирания, а там, где есть побуждение к труду и нет внешних условий, которые бы полагали ему слишком сильные преграды. Относительная скудость умеренных климатов благоприятнее для промышленного развития, нежели чрезмерная роскошь юга. Удобство внешних сношений, дающее простор человеческой деятельности, имеет более важное значение, нежели плодородие почвы. При благоприятном географическом положении бесплодная Аттика и бедная естественными дарами Финикия были богатейшими странами древнего мира.
Самые естественные условия могут в значительной степени изменяться деятельностью человека. С помощью труда и капитала бесплодная почва превращается в плодородную. Человек осушает болота, завоевывает у моря тучные пространства; посредством дренажных труб он удесятеряет производительную силу земли. Во Фландрии при искусном удобрении сыпучий песок дает обильные жатвы. Наконец, на самой благодатной почве естественные силы истощаются; их надобно возобновлять: надобно возвратить природе то, что у нее отнято, а это опять может быть только делом человеческих рук и человеческого умения.
Таким образом, чего не дает природа, то восполняется человеком. Редко природа дает что-нибудь даром; обыкновенно требуется приложение мысли, труда и капитала, чтобы извлечь из нее то, что нужно для удовлетворения человеческих потребностей. И чем выше промышленное развитие, тем это участие чисто человеческих деятелей становится значительнее. Экстенсивная культура, захватывающая значительные пространства, заменяется интенсивною, которая на меньшем пространстве получает гораздо более обильные плоды. Важнейшую роль играет тут капитал, без которого пользование дарами природы всегда ограничивается самыми тесными пределами. Только с его помощью человек может извлечь из природы все, что он в состоянии дать, и возвратить ей то, что он у нее отнял.
При всем том влияние неравномерного распределения естественных сил не исчезает совершенно. Плодородная почва требует меньшего участия человеческих деятелей, нежели бесплодная. Богатый рудник при одинаковом капитале и труде дает большие результаты, нежели бедный. Естественное превосходство сохраняет свое значение, хотя оно в значительной степени уступает искусству человека.
Самое действие капитала и труда в приложении к земле имеет свои границы. В противоположность тому, что происходит в отраслях промышленности, вполне состоящих в распоряжении человека, производительность земли далеко не всегда соразмеряется количеством положенных на нее человеческих сил. Вдвое больший капитал не дает вдвое больше жатвы, а, может быть, только в полтора раза, а при новом удвоении еще меньше. Причина та, что в земледельческом производстве всегда участвуют естественные деятели, которые находятся в ограниченном количестве. Пока в почве обретаются еще непочатые силы, приложение к ним капитала может дать громадные результаты, далеко превосходящие самую деятельность капитала. Но с усовершенствованием обработки непочатых сил становится все меньше и меньше, и тогда общий закон производства состоит в том, что прогрессивное умножение капитала дает все более и более скудные результаты.
Из всего этого ясно, что самостоятельное действие сил природы всегда сказывается в производстве, но с совершенствованием средств они теснейшим образом соединяются с силами человеческими, так что невозможно даже разделить, что собственно принадлежит природе и что предшествующей деятельности человека. Поэтому тщетны попытки определить в поземельной ренте, какая часть ее принадлежит земле и какая вложенному в землю капиталу. Мы к этому возвратимся впоследствии.
Еще большее участие принадлежит человеческой деятельности в пользовании другим естественным фактором, имеющим громадное влияние на производство, именно выгодностью положения. Есть положения, указанные промышленным силам самыми естественными условиями страны, например близость топлива для фабрик, удобная гавань для торговли. Но употребление в дело этих выгод зависит исключительно от человеческой деятельности. Возникающие здесь промышленные центры являются вполне созданиями человека. Эти центры в свою очередь имеют влияние на все окружающее их пространство. Чем ближе к центру, тем удобнее сбыть, а потому тем выгоднее производство. Но и тут выгодность положения служит лишь поводом к тому, чтобы вызвать усиленную человеческую деятельность. По закону, весьма хорошо раскрытому фон Тюненом, с приближением к центру преобладает интенсивная культура, с удалением от центра — экстенсивная. А с другой стороны, и эта относительная выгода, проистекающая из естественных условий, находит себе противодействие в улучшении путей сообщения, состоящих совершенно уже в распоряжении человека и зависящих исключительно от обилия капиталов. С легкостью и дешевизною сообщений уменьшаются естественные выгоды ближайших земель и увеличивается выгодность отдаленных.
Таким образом, с приложением к земле умения, труда и капитала, естественные условия более или менее уравниваются, хотя разница никогда не исчезает совершенно. Но это уравнение происходит не в силу каких-либо общих начал или отвлеченных требований; оно производится беспрерывно возобновляющимся восполнением бесконечного разнообразия природы бесконечною изворотливостью человеческого ума, который посредством добываемых им из самой природы средств исправляет ее недостатки и заставляет ее служить своим целям, там где она, по-видимому, всего менее к тому способна. Именно это данное и никогда не устранимое разнообразие естественных условий всего более способствует многостороннему развитию человеческой энергии и предприимчивости. Для того чтобы бороться с соперниками, находящимися в более выгодных условиях, человек напрягает все свои силы и изощряет всю свою изобретательность.
В этой деятельности недостаточно даже одного приложения труда и капитала; надобно расчесть, какое именно требуется приложение труда и капитала, для того чтобы естественные силы при данных условиях произвели то, что они могут произвести. На низкой степени культуры излишек человеческих сил и средств может быть так же невыгоден, как и недостаток их на высокой. Замена экстенсивной обработки интенсивною имеет свой исторический ход, с которым человек должен сообразоваться. Иначе вместо обогащения он разорится.
Отсюда основное требование, чтобы человеческой деятельности в промышленной области предоставлен был возможно больший простор, так чтобы человек мог следить за всеми действиями природы, приспособляться к ее законам и исправлять недостатки. В приложении к земле это требование выражается в том, что отдельным участкам должна быть открыта возможность переходить в руки тех, которые наиболее способны выгодно ими пользоваться. На этом, с экономической точки зрения, основана свобода собственности.
Отношение человеческих сил к естественным деятелям отражается и на величине производства. Экстенсивная культура, где преобладает деятельность природы, по самому существу дела требует более обширных пространств, нежели интенсивная. С другой стороны, каждый из человеческих деятелей — труд, капитал, направляющая воля, имеет свой характер и свои выгоды, которыми определяется и большая или меньшая обширность предприятия. Капитал, как мы увидим далее, производительнее в больших массах. Поэтому в тех отраслях промышленности, где требуется главным образом приложение капитала, крупное производство выгоднее мелкого. Но собственно в земледелии, как сказано выше, это приложение находит свой предел в ограниченности естественных сил. Крупное производство имеет и ту невыгоду, что здесь по необходимости упускаются из виду мелочи, а при бесконечно разнообразной деятельности природы много сил вследствие этого пропадает напрасно. Воспользоваться всем, что дает природа, способен только труд, который вникает в самые мелочные подробности, ничего не пропуская даром. Это свойство составляет принадлежность мелкого хозяйства, которое естественно водворяется там, где преобладает труд. Последнее, однако, в свою очередь, обыкновенно страдает недостатком умственного капитала, который один дает возможность извлечь настоящую выгоду из предприятия. Этот капитал является только там, где человек обладает достаточными средствами для его приобретения; он требует и более или менее обширного производства, в котором высшие силы и способности могут найти себе надлежащее поприще. А так как, с другой стороны, в земледельческих промыслах нужен хозяйский глаз, вникающий в подробности с целью воспользоваться бесконечным разнообразием естественных условий, то приложение духовного капитала в этой области всего выгоднее при средней величине производства.
Поэтому нельзя не согласиться с Рошером, что наиболее благоприятное для народного хозяйства отношение в земледельческой промышленности состоит в сочетании крупных, средних и мелких производств, с преобладанием, однако, средних[142]. При таких условиях каждый из деятелей производства находит наиболее выгодное для себя приложение. Но в действительности это идеальное отношение видоизменяется историческим преобладанием того или другого элемента, народным характером и другими жизненными условиями.
Итак, естественные силы, для того чтобы удовлетворять человеческим потребностям, нуждаются в содействии и руководстве со стороны других элементов производства. Обратимся теперь к последним.
2. Труд
Чего не делает природа, то восполняется трудом. Сам по себе человек ничего произвести не может; но он может заставить природу сделать то, что ему нужно, поставивши материальные предметы в такое положение, чтобы естественные силы могли действовать сообразно с его целями. Это совершается посредством физических движений. Другого способа действия человек не имеет; он сам ничего не создает, а только двигает материю. Все, что совершено человеком в физическом мире, от начала веков и до настоящего времени, не что иное как бесконечный ряд физических движений. К этому окончательно сводится весь промышленный труд.
Однако из этого не следует, что производителен в промышленном отношении один физический труд. Промышленное производство состоит в движении к известной цели, а цель полагается не физическим трудом; последний служит только средством. Само по себе физическое движение не имеет никакой производительной силы. Эта истина весьма живо изображается в приведенной выше басне об обезьяне, катающей бревна. Производительным физическое движение становится лишь тогда, когда оно направляется разумною волею человека. Но это направление может исходить вовсе не от того лица, которое производит физическое движение. Рабочий на фабрике не знает ни тех соображений, на которых основано действие машины, ни тех расчетов, которые имеет в виду предприниматель. Он ограничивается совершением физических действий, которые задуманы и направлены другим, и которых промышленное значение остается ему неизвестным. Труд является только орудием в руках воли.
Отсюда проистекает и то явление, что физический труд человека может заменяться работою естественных сил. То, что делает работник, может быть произведено животным или машиною. Высшее совершенство производства состоит именно в том, чтобы заставить природу делать то, что совершалось руками человека. Без человеческого труда и тут нельзя обойтись; но от предпринимателя зависит то или другое сочетание этих различных деятелей. Полагая цель, он рассчитывает и средства.
Это служебное значение труда в промышленном производстве объясняет и всемирное явление рабства. Раб, по определению Аристотеля, есть живое орудие. В производстве подобное орудие необходимо, а потому значительная часть людей неизбежно становится в служебное положение. Где это не делается добровольно, там это совершается принудительно, ибо без этого человечество не может жить. Принудительное же служение есть рабство.
Но если естественным силам свойственно служить орудиями для высших целей, то человек как таковой не должен нисходить на степень простого средства: это противоречит внутренней его природе как свободного существа. Это противоречит и экономической цели, которая в человеке может вызвать настоящую деятельность только под условием свободы. Поэтому задача экономического развития состоит в том, чтобы принудительное служение заменить добровольным. Уничтожить подчиненное отношение нет возможности, ибо оно требуется природою вещей. Работник столь же мало может быть распорядителем, как солдат может быть вместе и военачальником. Каждому подобает свое место и свое назначение в совокупном деле. Но высшее достоинство человека состоит в том, чтобы добровольно принять на себя подчиненное положение, когда оно требуется делом. В этом заключается нравственное значение труда: он является исполнением долга.
Для того чтобы человек сделался способным на такое действие, нужно известное умственное и нравственное развитие; необходимы известные привычки, которые слагаются историческим процессом народного хозяйства. Дикий не способен быть свободным работником на фабрике; его можно принудить, но сам себя принуждать он не в состоянии. Поэтому на низших ступенях неизбежно рабство. На высших же ступенях исполнение обязанности, согласно с истинным существом человека, предоставляется свободе. Человек обязан трудиться, но он волен и уклоняться от труда. От него зависит принять на себя ту или другую работу. От него отчасти зависят и условия, при которых он ее принимает. Обязываясь к работе, он выговаривает себе вознаграждение, и в этом он находит личное свое удовлетворение. Таким образом, труд его, будучи средством для другого, является вместе средством и для него самого. Становясь в служебное положение, человек остается сам себе целью, и этим удовлетворяется его человеческое достоинство.
Свобода тем необходимее для труда, чем выше его качество. Только в низшей своей форме, в механической работе, труд остается чисто физическим действием. В высших же своих проявлениях он проникается духовными элементами, которые, исходя из внутреннего естества человека, оказывают все свое значение только тогда, когда они согласны с этим внутренним естеством, то есть когда они являются выражением свободы. Такой духовный элемент составляет умение. Когда оно заключается в способности пользоваться орудиями для достижения данной цели, то труд становится техническим. Техника получает значение ученое, когда она обращена на исследование сил, действующих в производстве. Если же цель заключается в достижении известного изящества, то труд становится художественным. Когда умение состоит в способности приноровляться к обстоятельствам или к личным потребностям, оно называется смышленостью или ловкостью. Все эти виды труда могут иметь бесчисленное множество степеней и оттенков; а так как техника и вкус подлежат развитию, то сообразно с этим может совершенствоваться и качество труда. Здесь место для влияния, которое оказывает в этой области образование. В высших своих формах служебный труд постепенно приближается к труду руководящему. Сюда относится в особенности труд административный, который состоит в надзоре за работами, в ведении счетов, в собирании сведений. Здесь работник становится уже непосредственным органом руководящей воли. Он заменяет ее в низших ее отправлениях.
Из сказанного можно выяснить себе и те условия, от которых зависит производительность труда. Эти условия двоякого рода: они лежат частью в самих лицах, частью в организации труда. К условиям первого рода принадлежат: 1) народный характер. От него зависит различное качество труда у разных народов: энергия у англичан, порядок и понимание у немцев, изящество у французов, наконец, то соединение смышлености с беспечностью, которое составляет свойство русских. 2) Степень образования. Мы видели, что для самого механического труда требуются известные исторически слагающиеся нравы. Еще большее значение имеет образование для труда технического, художественного и административного. У образованных народов эта сторона производства, от которой в значительной степени зависит его успех, стоит бесконечно выше, нежели у народов необразованных. 3) Личные качества. Сюда относятся пол, возраст, степень физической силы, ум или глупость, лень или радение и т. д. 4) Цель, которую имеет в виду работник. Она состоит в личном вознаграждении. Труд тем производительнее, чем лучше он вознаграждается, ибо этим вызывается в человеке та внутренняя энергия, которая делает работу плодотворною. Отсюда преимущество труда свободного перед несвободным, труда поштучного перед поденным. На этом основано и привлечение работников к участию в прибылях предприятия, мера особенно важная в отношении к тем, которые являются непосредственными органами предпринимателя.
Что касается до условий, зависящих от организации, то здесь существенное значение имеют соединение и разделение труда. Соединенный труд вообще производительнее разобщенного. Десять человек, соединяясь, могут сделать то, чего они не сделают порознь. Из этого Прудон выводил несправедливость вознаграждения каждого работника порознь, доказывая, что тут сила совокупного труда остается невознагражденного. Но Прудон забывал, с одной стороны, что производительность соединения зависит не от соединяющихся работников, а от направляющей их воли, а с другой стороны, что производительность совокупной работы отражается и на личном вознаграждении каждого, ибо чем более предприниматель получает прибыли, тем более он требует работников и тем большее он готов дать им вознаграждение. Об этом будет речь впоследствии.
Соединение сил в однородной работе составляет, однако, лишь самую грубую форму организации труда. Здесь человек прямо может быть замещен рабочим скотом или машиною. Несравненно важнее такое распределение труда, при котором каждый делает свое дело так, что отдельные работы восполняют одна другую. В этом состоит столь прославленное экономистами разделение труда, на котором главным образом основаны все успехи промышленности. Выгоды его заключаются, с одной стороны, в специализации труда, которая дает каждому работнику возможность производить больше и лучше, нежели при разнородности занятий, с другой стороны, в постоянстве работы, которая избавляет работника от потери времени, сопряженной с переходом от одной работы к другой. Адам Смит, а за ним и другие, приводили изумительные примеры производительности разделенного труда в сравнении с неразделенным. Распространяться о них нечего, их можно найти во всяком учебнике политической экономии.
Польза разделения труда до такой степени очевидна, что установление его не требует даже искусственной организации. Каждый человек понимает, что ему выгоднее делать одно дело, а все остальное, для него нужное, получать от других путем обмена. Вследствие этого само собою возникает разделение различных отраслей производства, восполняющих друг друга. Разделение труда в некоторой степени установляется даже между различными странами, которые обмениваются своими произведениями. При таких свободных отношениях производительность труда зависит исключительно от расчетов каждого отдельного предпринимателя, который соображает, что и как ему выгоднее производить.
Но разделение труда необходимо и в пределах каждого отдельного предприятия, и чем крупнее предприятие, тем оно нужнее. Тут оно является известным способом соединения сил в совокупной организации и под общим руководством. Для того чтобы предприятие было производительно, необходимо, чтобы каждый работник постоянно делал свое дело, так чтобы от его работы получались возможно большие результаты и именно в той мере, в какой это требуется другими восполняющими работами и силою действующих в предприятии средств и орудий. Особенно при машинном производстве, где главным двигателем является непрерывно действующая естественная сила, а работник нисходит на степень орудия, необходимо самое строгое и точное определение того, что должен делать каждый. Главное условие производительности работы заключается тут в правильной организации, а это — исключительно дело направляющей воли. От нее, следовательно, важнейшее условие промышленного развития, разделение труда, получает истинное свое значение.
Здесь раскрывается вместе с тем и чисто служебное значение труда, со всеми своими благодетельными результатами для производства, но вместе с тем и печальными последствиями, которые может иметь одностороннее развитие этого момента для личности человека. Если на низшей ступени человек, сделавшийся рабом, теряет свое человеческое достоинство, то и на высшей ступени работник, сделавшийся слугою машины или проводящий всю свою жизнь в том, что он делает восемнадцатую часть булавки, теряет те высшие духовные качества, от которых зависит истинно человеческое его существование. Но здесь это низведение человека на степень средства находит себе противодействие в признанной за ним свободе, которая требует досуга для проявления других сторон человеческого естества. Между требованиями промышленности и требованиями свободы начинается борьба, которая составляет содержание исторического развития народного хозяйства. На первых порах обыкновенно превозмогают требования промышленности, но с течением времени требования свободы берут свое, и мало-помалу водворяется порядок, в котором работник, посвящающий известное число часов в день механическому труду, приобретает однако достаточно досуга, как для образования, так и для удовлетворения других человеческих потребностей. Об этом мы подробнее поговорим ниже.
Каково бы, однако, ни было развитие, оно никогда не может сделать, чтобы физический труд не состоял в служебном отношении к машине, так же как он состоит в служебном отношении к направляющей воле. Чем выше производство, тем более преобладает в нем капитал и тем более машина подчиняет себе человека. Можно противодействовать проистекающим отсюда вредным последствиям, но изменить это отношение нет возможности, ибо оно лежит в природе вещей. Только этим способом человек может заставить природу служить своим целям.
Это зависимое положение труда обнаруживается и в отношении количества рабочих рук в предлагаемой им работе. Существующее количество определяется цифрою народонаселения; но так как народонаселение способно размножаться безгранично, то вопрос сводится к тому, найдет ли оно себе достаточную работу? Решение же этого вопроса зависит от других деятелей производства. Отчасти оно определяется естественными условиями, обилием земель и богатством почвы. Пока земли много, а рабочих рук мало, размножение может идти беспрепятственно. Но с увеличением народонаселения и с уменьшением количества необработанных пространств, земледельческие заработки становятся затруднительнее, а содержание рабочих обходится дороже. Тут уже определяющим началом является не природа, а капитал и умение. Мы видели, что недостаток естественных сил восполняется деятельностью человека. Естественные силы дают больше при умении ими пользоваться; но последнее, в свою очередь, остается бесплодным при недостатке капитала. Таким образом, от умножения последнего окончательно зависит то количество работы, которое может получить народонаселение, следовательно, и возможность его возрастания. Это относится и к земледельческой работе и еще более к тем отраслям промышленности, в которых капитал играет главную роль и которых развитие по этому самому не имеет границ. Отсюда можно вывести общий закон, что производительность промышленных сил страны окончательно зависит от обилия в ней капиталов. Мы приходим, следовательно, к капиталу, как к важнейшему, если не к верховному, деятелю производства.
3. Капитал
Капитал представляет сочетание природы и труда. Тут опять действуют естественные силы, но они являются уже в ином виде. Это силы, в некотором смысле созданные человеком, получившие от него ту форму, которая делает их покорными орудиями в его руках. Вследствие того они становятся несравненно более способными удовлетворять всем его потребностям, нежели независимые от него силы природы. Здесь вместе с тем открывается обширнейшее поприще для человеческой деятельности. Завоеваниям человека в этой области нет пределов; вся бесконечность природы становится в служебное к нему отношение. Наконец, от капитала зависит и все материальное совершенствование человека. Только с помощью капитала он возвышается над уровнем чисто животного удовлетворения своих потребностей. Человек без орудий, ограниченный действием одних своих рук, находился бы в положении худшем, нежели те звери, которых природа наградила острыми когтями и зубами для добывания себе ежедневной пищи. Если он стоит бесконечно выше их, то он обязан этим капиталу.
Непосредственно этот результат получается приложением к природе труда и притом труда физического, ибо всякое действие на природу возможно только через посредство физического движения. Поэтому экономисты определяют капитал как накопленный труд. Но здесь более, нежели где-либо, физический труд является только орудием. Главное место в создании капитала принадлежит духовным деятелям, изобретательности ума, изыскивающего способы обратить естественные силы на служение человеку, и энергии воли, которая, прилагая мысль к делу, производит сочетание природы и труда, способное дать желанные плоды. Капитал по преимуществу представляет собою воплощение мысли, обращенной на покорение природы человеку.
Цель капитала состоит в том, чтобы служить новому производству. Отсюда известное его определение как произведение, обращенное на новое производство. Это определение совершенно верно, но надобно заметить, что производство можно понимать в тесном или в обширном смысле, как производство полезных вещей или как производство всяких полезных для человека действий. Так например, строение может вмещать в себе фабрику; в таком случае оно служит произведению полезных вещей. Но в виде жилища оно служит непосредственному удовлетворению человеческих потребностей, действие, которое может быть точно так же, если не более, полезно, как и первое. В этом смысле экономисты различают производительные и потребительные капиталы. Последние отличаются от предметов потребления тем, что потребляются собственно не они сами, а их полезные действия; сами же они сохраняются и поддерживаются, с целью служить постоянному употреблению.
От капитала не требуется, однако, чтоб он непременно сохранялся в натуре. Есть и такие его формы, которые потребляются вполне как материальные предметы, но затем восстановляются в ином виде в произведении. Тут сохраняется не сам предмет, а его ценность. Так например, шерсть на фабриках потребляется вполне как шерсть, но она снова является в виде ткани. Точно так же потребляется и топливо, но произведенное им тепло придает новый полезный для человека вид обрабатываемому материалу, и в этой произведенной им полезности восстановляется полезность потребленного топлива. Эта общая полезность, не связанная тою или другою материальною формою, выражается в ценности.
На этом основано различие между стоячим капиталом и оборотным. Всякий капитал потребляется до некоторой степени; но стоячий капитал потребляется понемногу и только постепенно возмещается стоимостью произведений; оборотный же капитал потребляется вполне, а потому целиком входит в экономический состав произведений. К первому разряду относятся строения, машины и орудия, ко второму материалы, вспомогательные вещества и заработная плата. Последняя для работников составляет не капитал, а доход; но так как этот доход получается ими не из цены произведений, а вперед, по мере совершения работы, то предприниматель принужден держать постоянный фонд, из которого он делает эти авансы, возмещаемые впоследствии из цены произведений. Этот постоянный фонд составляет капитал, который служит производству и вызывается необходимостью делать рабочим авансы.
Таково выработанное экономистами понятие о капитале. Оно вполне соответствует тому, что мы видим в действительности, и дает совершенно разумное объяснение жизненным явлениям. Между тем именно это понятие подвергается ожесточенной критике социалистов, которые в капитале видят главного врага рабочих. В прежнее время прямо даже взывали к уничтожению этого ненавистного властителя производства; но подобные нападки очевидно идут слишком далеко, ибо без капитала нет и производства. Поэтому в новейшее время прибегают к уловке: утверждают, что экономисты смешивают двоякое значение капитала, чисто экономическое и историко-юридическое, значение капитала как орудия производства, и значение его как частного имущества, составляющего источник дохода. Изобретатель этого различия — Родбертус, всегда первый там, где надобно произвести путаницу понятий; за ним следует Адольф Вагнер, не отстающий от своего руководителя.
У Родбертуса это различие представляется до такой степени сбивчивым, что трудно даже разобрать, что именно под ним разумеется: в одном месте оно формулируется так, что владение капиталом (der Capitalbesitz) представляет собою воплощенную предшествующую работу, но без приведения ее в действие новою работою; в таком виде капитал совершенно бесплоден. Настоящий же, или работающий, капитал есть предшествующая работа в руках нового рабочего; в таком виде она производит все ценности, не только доход с капитала, но и заработную плату и прибыль предпринимателя[143]. Отсюда можно было бы заключить, что это один и тот же предмет, только при разных экономических условиях, то как покоящийся, то как действующий. Однако на той же странице, в примечании, это различие изображается в ином виде. Здесь капитал как воплощенная предшествующая работа отличается, с одной стороны, от владения капиталом (Capitalbesitz), с другой стороны, от производства посредством капитала (Capitalbetrieb). Последнее однако оставляется в стороне, и автор восстает только против смешения владения капиталом с самым капиталом. Когда капитал, говорит он, принимается в этом "нахальном, злоупотребительном смысле, то юридическая форма становится на место живой действительности".
Далее, однако, оказывается, что различие тут иное, нежели между юридическою формою и живою действительностью. Родбертус отличает капитал как совокупность естественных предметов, необходимых для производства (die naturalen Capitalgegenstande), от особого капитального имущества (Capitalvennogen), или фонда предприятия (Unternehmungsfond), которое требуется для приведения первого в действие при частном владении. Первое есть капитал "в хозяйственно-логическом смысле", второе — только "в хозяйственно-историческом смысле". Первое есть национальный капитал как необходимое условие национального производства; второе же есть частный, или "так называемый", капитал. Когда вследствие неправильного юридического порядка частные капиталисты присваивают себе естественные предметы, составляющие национальный капитал, то они являются только органами целого, и когда они с этого капитала получают доход, то они присваивают себе плоды чужого труда. В доказательство того, что национальный капитал и частный составляют два разных имущества, Родбертус указывает на то, что эти два понятия не совпадают. В состав первого входит лишь ценность материалов и орудий, но никак не заработная плата и не поземельная рента. В состав же второго входят не только орудия и материалы, но также заработная плата, а равно и поземельная рента, насколько она выплачивается вперед арендатором. Принятое господствующею системою включение заработной платы в национальный капитал происходит, по мнению Родбертуса, вследствие смешения платы, которою рабочий живет во время работы и которая может происходить из совершенно другого источника, с тою платою, которую он получает за свою работу уже после ее исполнения, следовательно, когда он сложил уже свое произведение в массу национальных благ. "Из этого, — говорит Родбертус, — можно составить себе понятие, в каких поверхностных воззрениях вращается еще и теперь господствующая система, и именно в этом основном пункте всего своего учения, в теории капитала, и притом с каким неописанным самодовольством". Установление различия между экономическим, или национальным, капиталом и юридическим, или частным, Родбертус называет даже важным открытием[144].
Несмотря на то что в этой теории трудно даже отыскать смысл, она целиком и без всякой проверки усваивается Вагнером, который вслед за Родбертусом отличает имущество й капитал в экономическом смысле, как запас хозяйственных благ, от имущества и капитала в историко-юридическом смысле, как запас вещей, состоящих в частном владении. Подобно Родбертусу он первое признает национальным имуществом, а в частных капиталистах, владеющих орудиями производства, видит только должностных лиц, которые являются органами целого. Отличие Вагнера от Родбертуса заключается лишь в том, что он к экономическому капиталу причисляет все потребное для поддержания рабочих сил, а потому изъемлет из него только ту часть заработной платы, а равно и жилых домов, которая превосходит эту потребность. А так как этот излишек входит в состав юридического капитала, то очевидно, говорит Вагнер, что последнее понятие шире первого. Понятие о национальном капитале составляет всегда необходимую экономическую категорию; понятие же о частном капитале есть не более как историко-юридическая категория, изменяющаяся по месту и времени. Эту уступку, по уверению Вагнера, необходимо сделать научному социализму[145].
Читатель, привыкший не довольствоваться одним звуком слов, без сомнения видит, что в этой аргументации нет ничего, кроме полной путаницы понятий. Для всякого ясно, что капитал как имущество имеет две стороны: экономическую и юридическую. Первая представляет собою значение капитала в промышленном производстве, вторая — принадлежность его тому или другому лицу. Если капитал в экономическом смысле принадлежит частному лицу, то это будет частный капитал; если же он принадлежит обществу, то это будет капитал общественный. Одна и та же фабрика будет частным или национальным капиталом, смотря по тому, принадлежит ли она частному лицу или государству. Называть же капитал в экономическом значении национальным, а капитал в юридическом значении частным, это даже не смешение понятий, это просто-напросто бессмыслица. И когда это удивительное изобретение торжественно выдается за важное открытие, уличающее господствующую систему в непонимании самых коренных экономических вопросов, и отсюда выводится, что частные капиталисты как обладатели национального капитала являются должностными лицами общества, то можно только удивляться той степени нелепости, которую терпит современная наука. Рыбак сделал себе удочку или сеть — и через это стал должностным лицом!! Только социалист способен на такого рода умозаключение.
Насчет орудий и материалов никто, впрочем, не сомневается в том, что в чьих бы руках они ни находились, в частных или общественных, они все равно остаются капиталом, в одном и том же экономическом смысле. Из этого уже ясно, что частный и национальный капитал — не два разных имущества, как утверждает Родбертус, а одно и то же имущество, только в разных руках. Но уверяют, что есть части юридического капитала, которые не входят в состав капитала экономического. Такова, по мнению Родбертуса, заработная плата, которая является капиталом только для частного предпринимателя, а не для народного хозяйства, ибо то, что составляет капитал для предпринимателя, то для работника представляет доход. Но почему доход работника является капиталом для предпринимателя? Потому что предприниматель платит за работу прежде, нежели он сам воспользовался ее плодами; а для этого необходимо держать постоянный фонд, который и есть капитал. Для казны это совершенно так же обязательно, как для частных лиц. Родбертус уверяет, что работник получает плату уже после исполнения работ, когда он вложил свое произведение в общую кассу. Но это значит, закрывши глаза, утверждать совершенно противоположное тому, что происходит в действительности и что известно всем. Работник вспахал, посеял и получил за это свою плату; но хозяин, его нанявший, получит обратно свои деньги только тогда, когда собрана будет жатва и продан хлеб. То же самое происходит во всяком другом производстве, в чьих бы оно ни находилось руках, частных или общественных. Иное дело, если бы рабочий мог ждать, пока произведение явится совсем готовым и будет приобретено потребителем; тогда и частный предприниматель не нуждался бы в капитале для заработной платы. Но нередко подобное выжидание даже физически невозможно. Землекоп, который работает полотно под железную дорогу, или каменщик, воздвигающий здание под фабрику, не могут ждать вознаграждения из доходов будущего предприятия. Работа их вошла в ценность стоячего капитала, который возмещается только в течение целого ряда лет. И тут опять совершенно все равно, кто является предпринимателем, частное лицо или государство. При казенной постройке точно так же необходимо включать заработную плату в ценность стоячего капитала железной дороги, как и при частной постройке.
Дело тут вовсе не в смешении юридического начала с экономическим, а в том, что экономически необходимо дать работнику вознаграждение за труд, прежде нежели получаются плоды его труда, а для этого требуется капитал.
Отсюда ясно, что в состав капитала, как национального, так и частного, входит вся заработная плата, а не только та ее часть, которая необходима для содержания рабочих, как утверждает Вагнер. <Компании>, строящей железную дорогу, совершенно все равно, на что рабочие употребляют выданные им деньги; она всю сумму сполна должна им выплатить и затем включить в ценность стоячего капитала дороги. В действительности нет даже никакой возможности различить в потребностях рабочего необходимое от излишка. Разделение на этом основании заработной платы на две части, из которых одна составляет капитал, а другая нет, не что иное как фикция, лишенная всякого теоретического и практического значения. То же самое следует сказать и о жилых домах. Если бы осуществилось предположение Вагнера о выкупе всех городских домов городом или казною, то новый владелец все их одинаково причислил бы к своему капиталу, несмотря на то что одни квартиры ограничивались бы пределами строгой необходимости, а другие представляли бы большую или меньшую роскошь.
Во всяком случае, юридическое начало тут ни при чем. Можно спорить о том, следует ли причислять известные произведения к капиталу или к предметам потребления: это нисколько не касается принадлежности их тому или другому лицу. Капитал остается капиталом, кому бы он ни принадлежал, а предмет потребления не становится капиталом оттого, что он переходит в другие руки. Точно так же не будет никакого различия, станем ли мы причислять к капиталу известные юридические установления, составляющие источник дохода для лица, облечённого правом, как делает Вагнер, или нет. Если бы, забывши понятие о капитале как о произведении, обращенном на новое производство, и принявши это слово в фигуральном смысле, мы стали, по примеру Вагнера, причислять к капиталу создаваемые законодателем монополии, то и это понятие равно прилагалось бы к государственным монополиям и к частным. С этой точки зрения, мы должны бы закон о винном акцизе призвать громадным капиталом, созданным по мановению законодателя. Капитал перестал бы быть воплощением предшествующего труда; он сделался бы творением произвола.
В действительности капитал вовсе не есть даже юридическая категория, это категория экономическая. Юридическая категория есть право собственности, которое может принадлежать отдельному лицу, так же как и государству, и первому даже преимущественно перед последним, ибо право есть выражение воли, а воля по естественному закону принадлежит отдельному лицу; воля же государства сама по себе не существует и представляется волею отдельных лиц. Основное разделение права собственности, с тех пор как существует понятие о праве, есть право на движимые и на недвижимые вещи. Но какое экономическое употребление собственник делает из этих вещей, потребляет ли он их или обращает на новое производство, это для юридического закона совершенно все равно. Юридически закон усваивает себе понятие о капитале лишь тогда, когда юридические сделки являются выражением экономических отношений. Если одно лицо ссужает другому известную сумму денег и выговаривает себе возврат суммы и плату за ее употребление, то юридический закон различает капитал и проценты; но эти понятия создаются не правом, а экономическою жизнью общества, которая имеет потребность в кредите.
Поэтому невозможно утверждать, что капитал в юридическом смысле есть историческая категория. Если капитал в экономическом смысле не есть историческая категория, то и капитал в юридическом смысле не есть историческая категория. Все, что можно было бы сказать без нарушения здравого смысла, это то, что принадлежность капитала отдельным лицам составляет не более как временное историческое явление; но если такое положение не является посягательством на здравый смысл, то это — посягательство на историческую правду. Ибо на самых низших ступенях развития, где только человек возвышается над уровнем животных, он усваивает себе орудия, посредством которых он действует на природу. Сеть или крюк принадлежит рыбаку, лук и стрелы охотнику. И чем более растет капитал, тем более он составляет предмет частной собственности. Социалисты, которые хотят выдавать частный капитал за временное историческое явление, принуждены извращать не только понятие о капитале, но и самые исторические факты. Они ограничивают понятие о капитале деньгами, ссужаемыми за проценты для производства, и утверждают, что такие ссуды делаются только в новейшее время. Так именно поступает Лассаль[146], который пустил в ход понятие о капитале как исторической категории. Но это воззрение равно противоречит теории и фактам. Те, которые подобно Вагнеру и Родбертусу признают капиталом орудия производства, не могут становиться на эту точку зрения. Еще менее можно допустить ее ввиду известного всем факта, что ссуды за проценты вовсе не составляют явления новейшего времени, а известны были еще в глубокой древности. Лассаль уверяет, что в прежнее время капиталы ссужались только для потребления, а никогда для производства. Но не говоря уже о том, что для понятия о капитале это все равно, самый факт неверен. Даже у диких признается неизменным правилом, что кто охотится чужим орудием, тот обязан владельцу его принести часть добычи. Следовательно, если верить софистике Лассаля, дикий индеец является уже капиталистом. Каков же смысл имеет после всего этого объявление капитала историческою категориею?
В связи с этою полемикою о значении капитала находится вопрос о его происхождении. Экономисты производят капитал из сбережения. Капитал, говорит Адам Смит, увеличивается только сбережениями из ежегодных доходов. "Сбережение, а не промышленность является непосредственною причиною его увеличения. Правда, промышленность производит предмет, накопляемый сбережением; но если бы сбережение не сохраняло того, что производится промышленностью, то капитал никогда бы не увеличился". Позднейшие экономисты еще точнее анализировали этот процесс. Определяя различные его моменты, Pay признает, что капитал происходит через то, что новые блага 1) производятся, 2) сберегаются и 3) обращаются на новое производство. Эти начала совершенно очевидны. Они представляют только приложение основного определения капитала как произведения, обращенного на новое производство. Но существенный момент здесь средний, ибо, с одной стороны, произведение, которое потребляется, не есть капитал, а с другой стороны, сбереженное для производства произведение есть уже капитал, прежде даже нежели совершилось обращение его на новое производство, ибо в нем заключается возможность такого обращения. На этом основано различие между мертвым капиталом и производительным. Фабрика, которая стоит, не перестает быть капиталом. Точно так же сумма денет, которая сохраняется в сундуке не для потребления, считается капиталом, хотя и не приносит дохода.
Между тем социалисты всеми силами восстают против происхождения капитала из сбережений, ибо, признавши этот факт, мы должны вместе с тем признать и законность частного владения капиталом: очевидно, что капитал должен принадлежать тому, кто его сберег. Первый ополчился против этого утвердившегося в науке воззрения Лассаль в своей полемике против Шульце-Делича. Он утверждал, что нелепо говорить о происхождении капиталов путем сбережения, ибо из предметов, образующих капитал, некоторые непременно пропадут, если их не потребить, другие же, как то строения и орудия, съесть нельзя, следовательно, они сберегаются сами собою. Капиталы как ценности происходят, по мнению Лассаля, в силу "общественных соотношений" (gesellschaftliche Zusammenhange), в доказательство чего он указывал на людей, обогатившихся вследствие возвышения цен на акции железных дорог и т. п.[147]
Рошер справедливо называет "бессмыслицею" это отрицание возможности происхождения капиталов из сбережений[148]. Фабрику, конечно, съесть нельзя, но деньги, употребленные на постройку фабрики, весьма можно проесть, и если бы они были проедены, то фабрика бы не существовала. Нужна необыкновенная смелость, чтобы отрицать возможность происхождения капиталов из сбережений, ввиду тех миллионов, которые ежегодно откладываются из доходов и вносятся в банки и сберегательные кассы. В этом вполне выражается то презрение к самым очевидным фактам, которое составляет отличительную черту социалистов.
Что же касается до увеличения капиталов посредством так называемых "общественных соотношений", то здесь надобно различить предметы, составляющие капитал, и их ценность. Капитал как произведение, обращенное на новое производство, не может возникнуть иначе, как путем сбережения, все равно, сбережен ли владельцем самый предмет или та сумма денег, на которую он куплен. Но затем ценность его, как и всякого другого произведения, может подниматься и падать, смотря по увеличению или уменьшению требования. Так например, для того чтобы построить дом, необходимо сделать сбережение из доходов или употребить сбереженный уже прежде капитал. Но дом, построенный в городе, где усиливается торговая деятельность, может получить вдвое большую ценность вследствие увеличения спроса на помещения, точно так же как и наоборот, он может упасть в цене, когда город пустеет. Если же я хочу увеличить положенный в дом капитал, сделавши к нему пристройку, то я опять не могу достигнуть этого иначе, как сделавши сбережение из своих доходов. Вся масса произведений, обращаемых на новое производство, получает значение капитала единственно вследствие того, что эти предметы не потребляются производителями, а сохраняются для новых целей; следовательно, сбережение лежит в основании всего этого процесса.
Невозможность совершенно отвергать происхождение капиталов из сбережений заставляет Родбертуса перенести вопрос на другую почву. Он связывает его с изобретенным им разделением капитала на предметы, служащие производству, и на частное имущество. Только капитал в последнем смысле, по его мнению, образуется путем сбережений. Относительно же первых, которые составляют капитал в собственном смысле, независимо от существующей формы собственности, "никогда, говорит Родбертус, не происходит операция, которая могла бы подходить под понятие о сбережении, как бы мы это понятие ни расширяли и ни суживали". Тут всегда есть только два действия: 1) производство и 2) распоряжение, то есть обращение предмета на новое производство. Ни в том, ни в другом нет ничего похожего на сбережение. Напротив, в частном имуществе сбережение необходимо, ибо владелец должен изъять эти предметы из собственного потребления, для того чтобы обратить их на новое производство в интересах общества. Однако и тут это не есть сбережение плодов собственного труда, как лицемерно утверждают экономисты. Сбережения додаются главным образом капиталистами, которые присваивают себе плоды прежде произведенной общественной, следовательно, чужой, а не своей работы. Они в этом случае являются только должностными лицами, которым вверено общественное имущество; а потому сбережение составляет для них общественную обязанность. Делать же эту обязанность основанием права, это, говорит Родбертус, "есть величайшее смешение, которое когда-либо произведено было какою-либо наукою и которое одно виновно в том, что капиталистическая теория, пока она этим способом ставит истину вверх ногами, никогда не может иметь ясного взгляда на сущность капитала, капитализации, кредита, а равно и всех социальных вопросов, связанных с этими материями". В одном только случае можно было бы сказать, что капитал образуется сбережением плодов собственного труда, это если бы он накоплялся самими рабочими. Тут действительно было бы самоотвержение, ибо заработная плата, при капиталистическом производстве, стоит далеко ниже настоящей своей ценности. "Но именно поэтому, — утверждает Родбертус, — никогда еще работник не мог сделать сколько-нибудь значительного сбережения из своего жалованья". Можно даже сказать: "рабочие и чиновники не должны сберегать"! Неопределенное сбережение "было бы равносильно своевольному уменьшению всего национального потребления". Сами работники это чувствуют; "здравый политико-экономический инстинкт, — говорит Родбертус, — воздерживает их поэтому от сбережения из их заработной платы"[149].
Действительно, тут есть непроходимое смешение понятий, только не в опровергаемых автором теориях, а в его собственных воззрениях. Родбертус утверждает, что к капиталу в собственном смысле совершенно неприложимо понятие о сбережении; но что такое сбережение? Сберегать значит не потреблять, а сохранять вещь; если изъятая из употребления вещь предназначается для нового производства, то подобное сбережение и есть капитализация. Следовательно, когда часть дохода отнимается у потребления и обращается на новое производство, то, по чьему бы изволению это ни совершалось, это все равно есть сбережение. Из трех, означенных выше моментов капитализации, — производства, сохранения и обращения на новое производство, — Родбертус намеренно выкидывает средний, в котором именно заключается главное дело. Все у него сосредоточивается в распоряжении (Disposition), причем у него выходит, что эти распоряжения совершаются кем-то совершенно независимо от права собственности. Между тем распоряжение имуществом не что иное как чистое выражение права собственности, и если собственник, кто бы он ни был, вместо того чтобы потребить это имущество, обращает его на новое производство, то подобное действие нельзя назвать иначе как сбережением. Утверждать противное значит играть словами. При существующем порядке эти действия исходят от частных лиц, а так как самим автором признается, что частные капиталы образуются путем сбережений, то нет сомнения, что все предметы, составляющие капитал в экономическом смысле и входящие в состав частного имущества, становятся капиталом путем сбережений. Именно вследствие этого автор считает капиталистов хранителями общественного имущества и вменяет им даже сбережение в обязанность, тем самым он опровергает и собственное свое положение, что к капиталу в настоящем смысле, или к национальному капиталу, вовсе не приложимо понятие о сбережении. Очевидно, что если к нему не приложимо понятие о сбережении, то сбережение этого капитала никогда не может быть обязанностью. Но опровергая сам себя, Родбертус идет только от одной фантазии к другой. Что капиталы образуются путем сбережений, это верно; но что сбережение составляет для частных лиц общественную обязанность, это равно противоречит и логике и фактам. Ни одно законодательство в мире никогда не признавало и не может признавать сбережение общественною обязанностью, по той простой причине, что оно обращается на предметы, которые от воли лица зависит потреблять или нет. Каждый свободный человек сам судья своего потребления, и если он по собственному изволению ограничивает свое потребление ввиду будущего, то подобное действие несомненно является выражением его права, и сбереженные таким образом произведения столь же несомненно принадлежат ему и никому другому. Это ясно для простого здравого смысла. Относительно рабочих Родбертус даже и не пытается это отрицать, тут вся его теория находит совершенно неопровержимое возражение. Но по этому самому он утверждает, что рабочие и чиновники не могут и не должны сберегать. Что рабочие могут сберегать, об этом свидетельствуют и сберегательные кассы и те значительные суммы, которые рабочие тратят в Англии на поддержание стачек, не говоря уже о Соединенных Штатах; а что они должны сберегать, это ясно для всякого, кто признает, что человек не должен ограничивать свои помыслы заботами о настоящих нуждах, но должен подумать и о будущем. Тут действительно есть обязанность, только не общественная, а нравственная, не обязанность чиновника, охраняющего казенное имущество, а обязанность отца семейства, который, производя на свет детей, заботится об обеспечении будущего их благосостояния. Выдавать же исполнение этой обязанности за своевольное ограничение всего народного потребления, это такой пример самой беззастенчивой софистики, подобный которому едва ли найдется в литературе. А между тем эта полемика Родбертуса выдается за блестящее произведенье глубокого и ясного ума, проникающего в самую сущность предмета и освещающего его с новых сторон!
Постоянно следующий за ним Адольф Вагнер не считает, однако, возможным идти так далеко. Он признает неуместными те насмешки, которыми социалисты преследуют начало сбережения. Приведенное выше определение Pay он считает правильным и соглашается, что все экономисты, в сущности, говорят то же самое. Тем не менее он упрекает их в том, что они второму моменту, сбережению, придают слишком большое значение и не различают притом экономического, или национального, капитала от частного.
Относительно первого пункта, по мнению Вагнера, надобно различать произведенья, которым присуще значение капитала, как то орудия и машины, от таких, которые могут быть употреблены и на другие цели. Первые получают свое назначение уже при самом производстве, а потому понятие о сбережении к ним непосредственно не приложимо. Вторые же становятся капиталом действительно через то, что они вместо потребления обращаются на новое производство; однако и тут существенный момент состоит не в сбережении, а в распоряжении. Это распоряжение по большей части не произвольное: из чистого народного дохода необходимо сперва отделить значительную часть на текущее потребление, и только избыток может быть обращен на умножение капитала. Распоряженье же этим избытком может быть двоякое: принудительное, когда правительство само ограничивает народное потребление и обращает излишек на умножение капитала, и свободное, путем добровольного самоограничения. Последнее есть тот способ, который действует при системе частных капиталов; первое же, к которому стремятся социалисты, хотя само по себе представляется возможным, однако при настоящих условиях неприложимо и может явиться только результатом весьма долгого исторического процесса. Нет сомнения, говорит Вагнер, что при таком устройстве капиталы могли бы умножаться гораздо быстрее, нежели при нынешнем неравном распределении богатства, ибо потребности пустой роскоши могли бы быть устранены; но самое это устройство требует от людей таких высоких качеств, которые "идут за пределы того, что даже как отдаленная цель представляется достижимым посредством духовного и нравственного воспитания человечества: оно, в сущности, требует иных существ, нежели каковы люди". Поэтому не только при настоящих условиях, но и на неопределенное еще время частный капитал и проистекающий из него процесс сбережения должны сохранить свое существенное значение в народном хозяйстве. Не надобно только забывать, что частные капиталисты являются здесь не более как должностными лицами, или органами общества, а потому государство имеет не только право, но и обязанность регулировать их действия и определять условия исполнения их должности[150].
Мы видим здесь, как и везде у Вагнера, попытку войти в компромисс с обоими противоположными воззрениями. С одной стороны, признаются правильными определения экономистов и допускается необходимость частных капиталов, с другой стороны, вслед за Родбертусом различаются национальный капитал и частный, причем существенный момент в образовании капиталов полагается в распоряжение и, наконец, государству дается право регулировать действия частных капиталистов как должностных лиц. Мы видели уже всю несостоятельность разделения капитала на частный и национальный в том смысле, как это деление принимается Родбертусом и Вагнером. Здесь несостоятельность означенного взгляда обнаруживается вполне. Как скоро мы противополагаем частный капитал национальному, так надобно сказать, что частный капитал не есть национальный, а национальный не есть частный; между тем у Вагнера частный капитал является вместе и национальным, вследствие чего правительству дается право им распоряжаться. Если возразят, что выражение национальный принимается здесь не в юридическом, а в экономическом смысле, то следует ответить, что в таком случае ни о каком праве распоряжения со стороны государства не может быть речи. Распоряжение есть юридическое действие, которое может принадлежать только юридическому собственнику; к национальному капиталу в экономическом смысле оно вовсе не приложимо. Сам Вагнер, отличая имущество в экономическом смысле от имущества в юридическом смысле, говорит относительно последнего: "здесь, и только здесь имеет место часто выставляемое правило, что свойство имущества служить капиталом зависит от воли собственника" (§ 29). Но когда дело идет об образовании капиталов, то это верное замечание забывается, и чисто юридическое понятие о распоряжении становится существенным элементом капитала в экономическом смысле.
Что касается до вопроса, в чем состоит важнейший момент в образовании капиталов, в сбережении или в распоряжении, то и тут изложение Вагнера страдает значительною путаницею понятий. Он утверждает, что назначение предметов, которым присуще свойство капиталов, определяется уже предварительным производством, а сбережение непосредственно не имеет никакого значения. Но чем определяется предварительное производство? На это отвечает сам Вагнер. Направление предварительного производства, говорит он, зависит от того, что требуется: предметы ли, которым присуще значение капиталов, или предметы потребления для массы или наконец предметы роскоши? В какой мере требуются последние, это в свою очередь зависит от направления потребления зажиточных классов и от большей или меньшей их бережливости (§ 298). Из этого ясно, что предметы, по самой своей сущности предназначенные быть капиталом, будут производиться только тогда, когда они требуются людьми, которые захотят обратить на них часть своих доходов. Следовательно, и тут, так же как и относительно предметов, могущих получить то или другое употребление, все зависит от того, на что люди хотят употребить избыток своих доходов, то есть от отношения потребления к сбережению. Сам Вагнер сводит к этому вопрос, когда он говорит, что умножение капиталов зависит от того, на что обращается избыток свободного народного дохода: чем более ограничивается потребление, тем более остается для капитала. Но ограничение потребления и есть то, что называется сбережением. Следовательно, все окончательно сводится к последнему, каково бы ни было устройство народного хозяйства. При социалистическом порядке, по уверению Вагнера, умножение капиталов могло бы совершаться быстрее, потому что государство могло бы ограничить народное потребление самым необходимым, а остальное обратить на капитал; следовательно, и тут существенный момент заключается в сбережении. Разница лишь та, что при социалистическом порядке, как указывает и Вагнер, ограничение потребления является принудительным, а при частной собственности добровольным.
Который из этих двух способов выгоднее для народного хозяйства? Мы видели, что Вагнер, с одной стороны, признает, что при социалистическом порядке умножение капиталов могло бы идти гораздо быстрее, но, с другой стороны, он принужден согласиться, что для этого требуются совершенно иные люди, нежели те, которые существуют на деле, а потому на весьма еще долгое время частный капитал должен оставаться необходимым деятелем производства. Если мы должны дожидаться, пока люди сделаются иными, нежели они сотворены Богом или природою, то, конечно, времени может пройти довольно много; но каким образом при таком воззрении можно видеть в частном капитале только историческую категорию, это остается для нас тайною. Здесь мы опять встречаем один из примеров того легкого отношения к науке, при котором писатель кидает фразы на ветер, не заботясь о внутреннем соглашении их смысла.
В действительности добровольное ограничение потребления одно согласно с свободою человека. Принудительное ограничение приложимо единственно к рабам. Если же человек имеет право потреблять вещь или не потреблять, то сбереженное им несомненно принадлежит ему и никому другому, и распоряжаться предметом имеет право он и никто другой. Из чего следует, что частный капитал как плод сбережения составляет необходимое последствие свободы. Пока человек свободен, до тех пор будут существовать частные капиталы, передаваемые от одного поколения другому.
Так всегда и происходило в человечестве. Каждое поколение, вместо того чтобы потреблять все им произведенное на собственные нужды, часть своих произведений сберегало и сбереженное передавало путем наследства своим преемникам; последние же в свою очередь умножали это достояние новыми сбережениями и умноженное передавали своему потомству. На этом постоянном накоплении капиталов, переходящих из рук в руки, основано все развитие материального благосостояния человечества.
Происхождение капитала путем сбережений составляет, однако, не более как исходную его точку; затем начинается настоящая его деятельность. Как произведение, он является результатом предшествующего производства, которое завершается сбережением; но этот результат становится вместе с тем началом нового производства, в котором капитал сам становится деятелем. Эта деятельность выражается в том, что количеством полученных с его помощью произведений не только покрывается его трата, но и дается избыток. Отсюда определение капитала как имущества, приносящего доход[151].
Выше было уже указано на то, что этот результат должен быть приписан именно капиталу, а не исключительно приложенному к нему труду. С одним трудом человек не двинулся бы ни на шаг, жизнь его, как у животных, ограничивалась бы удовлетворением насущных его потребностей. Только с помощью капитала он возвышается над этим уровнем и прогрессивно увеличивает свое благосостояние. А если таково экономическое значение капитала, если от него зависят все материальные успехи человеческого рода, то очевидна несостоятельность мнения социалистов, которые утверждают, что в нормальном порядке доход с капитала должен равняться его трате. Этим положением отвергается не только производительная сила капитала, но вместе и производительность положенного на него труда. Капитал, который не дает избытка, бесполезен, и труд, на него потраченный, пропал даром. Для работника было бы выгоднее непосредственно приложить его к производству.
Откуда же берется эта производительная сила капитала? И на этот вопрос мы отвечали выше: из обращения сил природы на служение человеку. Вследствие этого произведение само является деятелем и умножает само себя. С помощью машины или орудия получается такое количество произведений, которое не только вознаграждает все издержки, но дает излишек. Эта новая деятельность не есть уже деятельность прежнего труда, который совершил свое дело, построивши машину: это деятельность сил природы, покоренных человеком. Но так как покорение есть дело мысли, то и здесь главным деятелем является человеческий элемент, только не физический, а духовный. Производительная сила машины зависит главным образом от положенной в нее мысли, обращающей природу в орудие своих целей. Физический труд, употребленный на постройку машины, кончил свое дело; но мысль, которая им руководила, идет за пределы физического действия: она простирается на будущее и осуществляется в новом производстве. Для этого нового производства опять нужен физический труд; но и этот новый труд является здесь только орудием. Производительная сила машины столь же мало зависит от тех рабочих, которые ее строили, не понимая ее назначения, сколько и от тех, которые приводят ее в действие. Если паровая машина дает избыток, то это зависит не от кочегаров и смазчиков, которые при ней работают, а от мысли, ее создавшей, и от воли, направляющей ее движение. Следовательно, и тут, когда социалисты всю производительную силу капитала приписывают тем рабочим, которые приводят его в действие, нельзя не признать подобного воззрения полным извращением истинного отношения вещей.
Одна мысль способна и к развитию. Физические силы человека не развиваются, и если до известной степени возвышается уровень материального труда, то это происходит единственно под влиянием развития мысли: более совершенная техника требует, если не всегда высшего качества труда, то во всяком случае большого порядка и постоянства. Мысль есть собственно развивающееся начало в человеке. Она соображает цели с средствами и, проникая взором в даль, связывает прошедшее с будущим. В области духовной выражением ее является передаваемое от поколения поколению образование, в области материальной — капитал, составляющий наследие всех предшествующих веков и залог будущего. Капитал есть прогрессивный элемент экономического быта. Количеством существующих в обществе капиталов определяется степень его развития, от их накопления зависит все материальное благосостояние общества.
Чем же определяется производительная сила капитала? Существеннейший ее элемент заключается в совершенстве техники. Это и есть собственно явление мысли, покоряющей природу целям человека. Но так как капитал никогда не действует один, а всегда в связи с другими деятелями производства, то на производительной его силе отражается и влияние других элементов. Там, где они имеют дело с независимыми от него силами природы, он по необходимости сам находится в зависимости от последних. Из бедной руды нельзя извлечь более, нежели она в себе содержит, сколько бы мы ни прилагали к ней капитала. В земледелии, как мы видели, с усилением интенсивного хозяйства производительность капиталов уменьшается вследствие истощения сил природы, к которым они прилагаются. Совсем другое имеет место в промышленности обрабатывающей, где силы природы состоят в услужении человека. Но и тут капитал имеет разное значение, смотря по тому, какой элемент преобладает в производстве, капитал или труд. Собственная область капитала есть фабричная промышленность. Здесь машины играют главную роль, а рабочий является только их слугою. Здесь труд ребенка может быть выгоднее, нежели труд взрослого. Здесь именно все зависит главным образом от совершенства техники. Напротив, в промышленности ремесленной орудие является слугою работника. Тут успех дела зависит не столько от совершенства орудий, сколько от умения ими пользоваться. В ремесле физический труд возводится на степень искусства. Наконец, во всех отраслях, каковы бы они ни были, существенное условие успеха заключается в направляющей воле. Если предприниматель не сделал правильного расчета и не умеет сочетать и направить наивыгоднейшим образом различные элементы производства, то избытка не будет, каково бы ни было совершенство техники. В особенности этот элемент расчета является преобладающим в торговле, где самая техника играет второстепенную роль, и вся выгода окончательно зависит от личных качеств предпринимателя. Здесь капитал становится только средством для оборотов.
От тех же условий зависит производительность капитала и в количественном отношении. Вообще признается, что в промышленном производстве мелкие капиталы не могут соперничать с крупными. Однако это положение, сделавшееся общим местом экономической литературы, требует ограничений. Нет сомнения, что там, где преобладающею силою является капитал, крупный имеет перевес над мелким. Сосредоточенный капитал позволяет сократить общие расходы; он дает возможность располагать большими средствами, а потому и совершеннейшими орудиями; он позволяет ввести в предприятие наилучшее расчленение и тем самым установить наивыгоднейший порядок труда; наконец, он открывает предприимчивости наиболее широкое поприще. Все эти выгоды, вызывающие наибольшую степень производительности капитала, к какой он только способен. Но крупное капиталистическое производство, совершенно уместное на фабриках и в других сродных с ними предприятиях, не везде приложимо. Там, где по существу дела преобладают другие деятели производства, являются иные условия. К земледелию фабричное производство приложимо только при особенно благоприятных условиях интенсивного хозяйства, когда выгодно обращать крупные капиталы на разработку непочатых еще сил природы. В интенсивном хозяйстве, как мы видели, умножение капиталов не ведет к увеличению производительности; напротив, с большею и большею затратою капиталов производительность их уменьшается. Здесь требуется тщательное пользование разнообразными силами и изменчивыми явлениями природы, что при крупном производстве немыслимо. Вследствие этого большие поместья при интенсивном хозяйстве раздробляются на фермы. Где преобладает капитал, установляется средних размеров хозяйство, а там, где преобладает труд, водворяется мелкое хозяйство. Точно так же и в ремесленном производстве, где главное дело состоит в личном умении и в возможности приспособляться к изменяющимся нуждам потребителей, крупные капиталы не находят себе надлежащего поприща; тут по необходимости господствуют средние и мелкие. Наконец, в торговле требуются большие или меньшие капиталы, смотря по тому, какую задачу полагает себе предприимчивость: обширность ли оборотов или приспособление к разнообразным потребностям потребителей. А так как и то и другое необходимо, то здесь находят себе приложение всех размеров капиталы. Оптовая торговля не заменяет розничной, а розничная не заменяет мелочной.
В конце концов размер капитала, который выгодно употреблять в производстве, зависит от расчета. Расчет же — дело предпринимателя. Таким образом, здесь, как и везде, последнему принадлежит первенствующее место в производстве. Все остальные деятели являются только орудиями в его руках. Верховный же двигатель производства есть направляющая воля.
4. Направляющая воля
Волю следует отличить от труда, как двигатель от движения. И в труде есть воля, производящая труд, так же как в капитале есть воля, создающая капитал, и в землевладении есть воля, овладевающая естественными силами. Но все эти воли доставляют только средства для предприятия. Вследствие этого, оставаясь самостоятельными деятелями производства, они по необходимости подчиняются воле, руководящей предприятием. Последняя собирает вокруг себя средства, располагает их по своему усмотрению и направляет их к общей цели.
Каждый из других деятелей сохраняет при этом и свою цель, которая состоит в вознаграждении за участие в предприятии. Но все это цели частные, которые, по этому самому, состоят в большей или меньшей зависимости от достижения общей и главной цели — выгодности производства. Эту цель, нередко скрытую от других деятелей, полагает себе предприниматель. Чтобы достигнуть ее, необходимо обнять взором целое и, сообразивши средства, дать каждому из подчиненных деятелей место и значение в общем движении. Руководящая воля есть практический разум, как двигатель предприятия. Это — высший из всех деятелей производства, ибо он составляет средоточие остальных и от него окончательно зависит успех совокупной деятельности.
Из этого ясно, что воля имеет значение не только юридическое, но и экономическое. Право освящает и охраняет ее как источник всякой человеческой деятельности; экономическая наука с своей стороны видит в ней необходимого двигателя производства не только с самостоятельным, но и с верховным значением среди других.
Это значение указывает и на те условия, от которых зависит производительность этого деятеля. Они заключаются в свойствах направляющей воли, то есть в личных качествах предпринимателя. Так как направляющая воля есть практический разум, действующий в промышленном мире, то прежде всего здесь требуется образование. Чем значительнее предприятие, тем он необходимее. Это тот духовный капитал, который, накопляясь веками, передается от поколения поколению, но в высшей своей форме усваивается всегда немногими выдающимися личностями.
Однако же одного образования в такой чисто практической деятельности, каково промышленное предприятие, далеко недостаточно. Несравненно еще важнее практические качества предпринимателя. Тут требуются энергия и распорядительность, постоянство, умение приспособляться к обстоятельствам и пользоваться ими, наконец, предприимчивость, которая составляет оживляющий дух всего промышленного мира. Все эти качества, для того чтобы достигнуть той степени совершенства, которая необходима для руководства предприятием, должны быть изощрены. Нужна приготовительная работа, нужен опыт, состоящий в применении приобретенных знаний и природных талантов к данной среде. Наконец, успех предприятия зависит главным образом от ясного сознания промышленной выгоды и от расчетливого употребления средств. В деле уже упроченном это не сопряжено с особенными затруднениями, хотя и тут всегда необходимы внимание и точность в расчетах. Но в деле новом, неизведанном, нужен гениальный взгляд, который соображает обстоятельства, ускользнувшие от других, и пролагает человечеству новые пути. Можно сказать, что предприниматель — герой промышленного мира: он должен соединять в себе все качества военачальника. В нем проявляется тот промышленный талант, от которого окончательно зависит успех предприятия и который делает человека способным сделаться центром, собирающим вокруг себя все другие элементы. А так как эти качества имеют характер чисто личный, то ясно, что высшая форма, в которой может проявляться направляющая воля, есть единичное лицо.
Не всегда, однако, отдельное лицо обладает достаточными средствами, чтобы вести предприятие без чужого содействия. В особенности это оказывается в крупных предприятиях, требующих громадных капиталов. Кредит лишь до некоторой степени может помочь этому недостатку, ибо кредит кроме личных гарантий требует и имущественных, следовательно, сам соразмеряется с имуществом лица. Отсюда необходимость искать себе товарищей. Чем обширнее промышленная деятельность, чем сложнее задачи, чем выше стоит народное хозяйство, тем большее развитие получает товарищеское начало. В настоящее время большая часть крупных дел ведутся компаниями. Особенно развилась форма акционерных компаний, где число товарищей неопределенно и паи беспрерывно переходят из рук в руки.
Опыт показывает, однако, что успех этих предприятий весь зависит от стоящих во главе их лиц. Мы видим колоссальные предприятия, веденные с изумительною энергиею и умением, предприятия, участниками которых являются капиталисты, рассеянные по всей земле и принадлежащие к разным народам, и где все однако задумывается и ведется одним лицом. Достаточно указать на прорытие Суэцкого перешейка. Прочность всякой компании зависит от нравственной и имущественной состоятельности учредителей. Последние составляют центральную силу, собирающую средства и взывающую к доверию публики. Сама же компания редко бывает в состоянии выставить из себя путное управление, разве случайно найдется крупный акционер, который заберет дело в свои руки. Мало того: акционеры в массе большею частью даже неспособны надлежащим образом контролировать свое управление. Отсюда бесчисленное множество возникающих, особенно в периоды промышленной горячки, дутых предприятий, основанных единственно на легковерии публики и кончающихся крушением. В этом выражается общий, вытекающий из самой природы промышленной деятельности факт, что собирательное лицо само по себе неспособно к ведению промышленного дела, и чем участников больше, тем эта способность меньше. Беспрерывное столкновение взглядов и воль делает из него колеблющуюся массу, от которой нельзя ожидать ни правильного расчета, ни необходимого для дела единства направления. История акционерных компаний XIX века свидетельствует об этом в ярких чертах.
Но если в частном товариществе многоглавие служит помехою делу, то еще хуже, когда предпринимателем является лицо юридическое, то есть безличное. Здесь исчезают уже все важнейшие условия промышленного успеха. Мы видели, что выгодность предприятия зависит главным образом от личных качеств предпринимателя; между тем безличное существо, которое является здесь хозяином, таких качеств не имеет. Оно принуждено положиться на свои исполнительные органы, то есть на должностных лиц. Но как скоро вместо хозяина является исполнитель, так исчезает главная пружина промышленного производства — личный интерес. Если же личный интерес исполнителя примешивается к делу, чего избежать не легко, ибо он вызывается самым промышленным характером деятельности, то он становится в противоречие с интересом общественным, то есть с главною целью производства. Без сомнения, в каждом обществе найдутся люди, воодушевленные бескорыстным стремлением к общественному благу, но эти люди обыкновенно выбирают себе не промышленное поприще, а иное, общественное или политическое. В промышленной же области, где вся цель заключается в получении выгоды, где все к этому направлено, личный интерес по существу предмета является главною движущею пружиною деятельности, и именно он-то и устраняется хозяйством юридического лица. Естественный двигатель заменяется искусственным, а при такой замене неизбежно исчезают все те свойства естественного двигателя, которые обеспечивают успех предприятия.
Все это в усиленной степени прилагается к промышленности казенной. Поэтому в экономической науке долгое время принималось за аксиому, что государство — худший из предпринимателей. В новейшее время под влиянием социалистических теорий это положение подвергается сомнению, но всемирный опыт, так же как и здравая теория, одинаково говорят в его пользу.
В самом деле, отчего при громадном развитии промышленности в новое время все европейские государства не покрыты казенными фабриками? Неужели единственно оттого, что правительства держатся ложной индивидуалистической теории, ограничивающей по возможности государственную деятельность и все предоставляющей частной инициативе? Но эта теория возникла лишь с половины XVIII века и весьма медленно пробивала себе путь в господствующих сферах. До того времени правительства считали, напротив, своею обязанностью во все вмешиваться, все регламентировать; они не только руководили другими, но сами заводили свои образцовые фабрики. Если бы промышленное производство в руках государства было выгодно, то при громадных средствах, которыми оно располагает, частные лица не могли бы выдержать с ним конкуренции, и вместо развития частной промышленности мы видели бы постепенное вытеснение ее промышленностью казенною, которая наконец одна сделалась бы господствующею. На деле, однако, вышло не то. Оказалось, что казенное производство не может выдержать соперничества с частным. Если кое-где существуют еще казенные фабрики и заводы, то они сохраняются вовсе не в видах барыша, а как образцовые заведения или же для удовлетворения собственно государственных потребностей. Чтобы получить доход от производства, казна принуждена прибегать к монополии, да и в этом случае выгоднее сдавать ее в частные руки.
Причина такого всемирного явления заключается единственно в неспособности юридического лица к промышленному производству. И чем крупнее лицо, тем эта неспособность больше, ибо тем дальше оно от самого дела. По-видимому, государство имеет огромные преимущества перед частными лицами, оно располагает несравненно большими силами и средствами. Но именно здесь лучшие силы устремляются к центру и поглощаются другими, высшими интересами. Ведение отдельных предприятий по необходимости предоставляется местной бюрократии, низшей по достоинству и носящей на себе в усиленной степени все недостатки, присущие бюрократии, недостатки, которые более всего отзываются на промышленной деятельности. Самому честному и образованному чиновничеству можно поручить дело, требующее рутинного порядка, но никогда дело, требующее расчета и приспособления к обстоятельствам. Для последнего нужны совершенно иные качества. Местной бюрократии невозможно даже предоставить необходимую для промышленного успеха самостоятельность действий. Чем меньше его способность и чем важнее вверенные ему интересы, тем необходимее над ним контроль центральной власти, представляющей совокупные интересы плательщиков, которые являются тут настоящими акционерами. Но централизация, в известной степени совершенно уместная в государственном управлении, смертельна для промышленного производства. Контроль центральной власти — по необходимости далекий и формальный, следовательно, бесплодный и стеснительный. И чем он тщательнее, тем он вреднее для производства. Министр, в руках которого сосредоточивается управление и от которого зависит решение важнейших дел, не в состоянии даже иметь действительный надзор за всеми находящимися в его ведении предприятиями. Он занят политическими еще более, нежели хозяйственными, вопросами. В конституционном правлении он должен выдерживать постоянную борьбу в парламенте и сменяется с сменою партий. Самый же парламент еще менее способен к хозяйственному контролю. Если акционерное собрание, где каждый лично заинтересован в деле, представляется в этом отношении несостоятельным, то тем более это невозможно для представителей всего народа, у которых совершенно иные цели и иные задачи.
Наконец, при самом тщательном контроле в казенном производстве устраняется важнейшее начало промышленной деятельности, предприимчивость. Во всяком предприятии, а тем более новом, есть риск; где нет риска, нет и прибыли. Но рисковать можно только собственным, а не чужим имуществом. Всего менее позволительно рисковать средствами плательщиков, с которых путем принуждения сбираются подати. Частный предприниматель может принять на себя ответственность за успех предприятия, ибо он сам отвечает своим имуществом; казенный чиновник ответственности на себя принять не может, так как он сам ничем не отвечает. Ему нельзя даже позволить принять на себя такую ответственность, ибо убыток окончательно падает на невинных плательщиков.
Таким образом, казенное производство силою вещей устраняется именно там, где открывается наиболее широкий простор для человеческой деятельности и для человеческих способностей. Оно приложимо единственно в тех случаях, где предприятие верно и требуется не предприимчивость, а соблюдение раз установленного порядка. В особенности же оно может быть полезно там, где имеется в виду не ближайшая, а отдаленная выгода. Частные люди обыкновенно преследуют близкие цели, заботу о далеком будущем нередко принуждено брать на себя общество. Однако и при соединении всех этих условий успех казенного предприятия окончательно зависит от личного состава исполнителей. Только при весьма образованном и добросовестном чиновничестве можно надеяться на какую-нибудь прибыль. И всегда эта прибыль будет так мала, что она может составлять лишь самую незначительную часть народного дохода. Воображать же, что расширение казенного производства может вести к умножению народного богатства, значит идти наперекор и теории, и практике.
А между тем именно к этому стремятся социалисты. Каковы могут быть результаты подобной системы, мы увидим в следующей главе.
Глава V. КАПИТАЛИЗМ И СОЦИАЛИЗМ
Мы рассмотрели существо и свойства различных деятелей производства. Теперь посмотрим, какое влияние оказывает на них основное экономическое начало, свобода.
В отношении к естественным силам действие свободы состоит прежде всего в подчинении их человеческой воле или в усвоении их человеку. Это — первое экономическое требование, которое, будучи освящено юридическим законом, порождает собственность. Здесь находят себе приложение и начало овладения и начало труда. Оба вызываются экономическою деятельностью человека и от нее получают свое содержание.
Мы видели, что есть силы и произведения природы, которые находятся в ограниченном количестве и должны быть усвоены человеком, для того чтобы служить его целям. Кем же они усвояются по закону экономической свободы? Очевидно, теми, которые первые делают их предметом своей экономической деятельности, то есть обращают их на удовлетворение своих потребностей. Дикий плод принадлежит тому, кто его сорвал, зверь тому, кто его убил, рыба тому, кто ее выловил, земля тому, кто занял ее для обработки. Все остальные могут приобрести эти предметы не иначе как от первого, ими овладевшего, добровольно, по закону свободы и права, или насильственно, по закону рабства и бесправия. Экономическая цель достигается не иначе, как усвоением необходимых для нее средств, и эти средства принадлежат тому, кто сделал их орудиями своей цели. Если же является новая цель, которая хочет употреблять средства, уже служащие чужой цели, то по закону экономической свободы, она должна с первою войти в сделку, давши ей взамен равное произведение, способное ее удовлетворить.
Еще в большей степени это относится к тем силам и произведениям природы, которые не иначе могут служить человеческим потребностям, как получивши от человека приспособленную к этой цели форму. Здесь все экономическое значение предмета зависит от этой формы; форма же, как выражение экономической деятельности, принадлежит тому, кто ее произвел. И опять же единственно этим достигается экономическая цель. Никто не станет работать, если плоды его труда должны служить не его, а чужой потребности. Обращение их на чужие потребности при экономической свободе возможно только путем добровольной сделки или уступки.
Таким образом, из приложения экономической свободы к естественным силам необходимо вытекают собственность и договор. Но мы видели, что свобода развивается в человеке постепенно. Она является плодом медленного исторического процесса, изъемлющего человека от давления окружающей его среды и раскрывающего внутреннюю его сущность. Это относится к экономической свободе, так же как и к юридической. Поэтому и вытекающая из нее частная собственность не вдруг водворяется в человеческих обществах, хотя в зачатках своих она обретается уже на первых ступенях человеческого существования. Дикому охотнику принадлежит и то оружие, которым он убивает зверя, и тот зверь, которого он убил. Но земля обыкновенно состоит в общем достоянии тех естественных союзов, которые занимают и охраняют ее совокупными силами.
С оседлою жизнью, самая земля мало-помалу переходит в частную собственность. С экономической точки зрения к этому неизбежно ведет соединение с нею труда, капитала и предприимчивости. Чтобы сделать землю способною производить то, что нужно человеку, надобно приложить к ней труд. Значительная часть этого труда имеет постоянное значение: надобно очистить леса, удалить камни, пожалуй, окопать участок или осушить почву. Произведенный таким образом труд остается связанным с землею. А мы видели, что плоды труда по закону свободы должны принадлежать тому, кто трудился или кому работающий продал свой труд.
На высших ступенях хозяйственного развития с землею соединяется и капитал. При интенсивном хозяйстве человек постоянно возвращает природе все то, что он у нее взял, и прибавляет ей новые силы. Таким образом, новое производство является в значительной степени плодом человеческой деятельности. Наконец, и выгода, проистекающая из положения и лучших естественных условий, по закону экономической свободы принадлежит тому, кто умел ею воспользоваться, ибо естественная выгода тогда только становится промышленного выгодою, когда человек ею пользуется. В этом заключается и главное побуждение к обращению естественных выгод на пользу человека. Усвоенная же раз выгода становится ценностью, которая, переходя из рук в руки, приобретается уже не даром. Покупая землю, человек кладет в нее свой капитал. За выгодное положение и за более плодородную почву он платит дороже, нежели за землю, которая не соединяет в себе этих условий. Следовательно, и тут даровое переходит в благоприобретенное. На высших ступенях промышленного развития из подлежащих усвоению сил природы не остается уже даровых. Все является произведенным или приобретенным деятельностью свободного лица, а потому все по коренному закону промышленного производства составляет достояние свободного лица.
Относительно приобретаемого трудом это положение имеет полную очевидность. Экономическая свобода человека состоит именно в том, что он сам распоряжается своими силами и своею деятельностью. Тут хозяин он сам и никто другой. Поэтому он своим трудом располагает по своему изволению; он может прилагать его к собственным надобностям или посвящать его другому, либо безвозмездно, либо за какое угодно вознаграждение. Поэтому и приобретенное трудом принадлежит ему и никому другому. Таково требование справедливости, и таково же требование промышленности, ибо, как мы видели выше, приобретение составляет цель и побуждение промышленного труда; последний немыслим без вознаграждения. Каждый работает, имея в виду свою выгоду, и как свободное лицо он сам единственный судья своей выгоды. Но, с другой стороны, и тот, кому нужен чужой труд, точно так же имеет в виду свою хозяйственную выгоду; а так как и он является свободным лицом, следовательно судьею своей собственной выгоды, то условие может состояться только тогда, когда установится обоюдное соглашение. При существовании свободы труда договор составляет необходимую форму, в которую облекается всякое совокупное действие.
Нет сомнения, что при борьбе интересов, которая разрешается наконец обоюдным соглашением, выгода может быть один раз более на одной стороне, другой раз более на другой. Но таково неизбежное последствие свободы; мы видели, что она необходимо влечет за собою неравенство. Промышленные сделки заключаются под влиянием бесчисленного множества разнообразных обстоятельств, которые дают перевес то той, то другой стороне. Уравнение здесь тем менее возможно, что самое понятие о выгоде в значительной степени носит на себе субъективный характер. По существу дела перевес имеет всегда та сторона, которая менее нуждается в другой. Но эта сторона не всегда предприниматель, как утверждают социалисты. Конечно, предприниматель имеет то преимущество, что у него обыкновенно есть капитал, а потому он может ждать, тогда как работнику нужно есть. Но работник с своей стороны имеет то преимущество, что без него предприниматель может обанкротиться, а если у него есть сбережения, то и он может ждать, даже долее, нежели предприниматель. Там, где требуется работа, а рабочих рук мало, перевес всегда будет на стороне работников. Притом предприниматель действует для будущего, и та выгода, в виду которой он нанял работников, может вовсе не осуществиться, тогда как работник во всяком случае получает свою плату. Которое из этих обстоятельств имеет более веса при заключении сделки, это зависит отчасти от усмотрения сторон, но еще более от общих условий, среди которых они поставлены, а именно, от указанного выше отношения капитала к народонаселению. Ниже мы рассмотрим это подробнее; здесь же заметим, что самые законы, управляющие этим отношением, действуют только при экономической свободе, а потому форма, в которой они проявляются, есть все-таки свободный договор. Всякое уклонение от этого начала должно рассматриваться как стеснение свободы и нарушение действующих чрез посредство ее экономических законов.
С не меньшею очевидностью эти начала прилагаются и к капиталу. И тут необходимым последствием экономической свободы являются частная собственность и договор. Капитал, как мы видели, составляет плод сбережения; следовательно, он принадлежит тому, кто его сберег. Ибо, если я вправе был уничтожить вещь и не уничтожил ее, если я мог употребить ее для своих потребностей и вместо того сохранил ее для своих будущих нужд, то она несомненно принадлежит мне и никому другому. С юридической точки зрения, это опять требование справедливости; с экономической же точки зрения, в этом заключается коренное условие промышленного развития. Никто не станет сберегать, если ему не присваиваются плоды сбережения. Как же скоро вещь моя, так я в силу своей свободы, как единственный судья своих собственных интересов, имею право делать из нее то экономическое употребление, какое мне угодно: от меня зависит, приложить ее к собственному производству, передать другому ее употребление по обоюдному соглашению, наконец, всецело отдать ее другому. А так как сбережение имеет в виду будущее, то с ним неразрывно связана и передача имущества по наследству. Обеспечение детей составляет одно из главных побуждений к сбережению; если бы это побуждение было отнято у человека, то капитализация прекратилась бы, а с тем вместе прекратилось бы и все экономическое развитие общества. Мы видим здесь новое подтверждение общего закона, что свобода неизбежно ведет к неравенству. Один сберег больше, другой меньше, третий ничего; один положил свой капитал на выгодное предприятие, другой употребил его непроизводительно. С переходом капитала из рук в руки и в особенности по наследству это неравенство идет увеличиваясь. Чем больше капитал, тем более открывается возможности для сбережений. При господстве экономической свободы капитализация составляет главный источник неравного распределения богатства между людьми.
Наконец, в приложении к направляющей воле действие экономической свободы состоит в том, что каждый волен начинать всякое предприятие, какое ему заблагорассудится, ибо каждый является единственным судьею своих сил и средств. Всякое стеснение в этом отношении есть посягательство на свободу человека. А так как каждый затевает предприятие на свой риск, ввиду ожидаемой им прибыли, то полученная прибыль опять же принадлежит ему и никому другому, ни землевладельцу, который взимает свою поземельную ренту, ни капиталисту, который берет свой процент, ни работнику, который получил свою заработную плату, менее же всех обществу, которое имеет право требовать вознаграждение за оказанную им охрану, но которое собственно в предприятии, как предприятии, ровно ни при чем. Тут все зависит от личной воли и от личной деятельности предпринимателя, а потому результаты этой деятельности принадлежат ему, а никак не обществу. Эти результаты опять же могут быть бесконечно разнообразны; успех предприятия зависит и от личных качеств предпринимателя, и от бесчисленных внешних обстоятельств. Рядом с громадным барышом может быть и громадный убыток. Но обогащение и разорение равно падают на самого предпринимателя, ибо он начинал предприятие на свой собственный страх. Другие настолько могут быть причастны его выигрышам или проигрышам, насколько они добровольно связали себя с его интересами.
Таким образом, свободная промышленность во всех своих проявлениях организуется на началах собственности и договора. Это не созданный произвольно юридический порядок, с которым волею или неволею должно сообразоваться движение промышленных сил, как уверяют социалисты кафедры; это порядок, вызванный свободным движением этих сил и освящающий возникающие из него требования. Юридический закон берет эти требования под свою охрану именно потому, что они являются вместе с тем требованиями справедливости. Вечная правда предписывает воздавать каждому свое, а свое по неизгладимому закону человеческой природы есть то, что приобретается путем свободы.
Последствие этого свободного движения промышленных сил состоит в том, что в обществе являются лица с различным экономическим назначением: землевладельцы, капиталисты, предприниматели и рабочие. Эти различные категории лиц, равно необходимых в экономической жизни, можно сравнить с различными отправлениями организма. Так же как в физическом организме, это распределение установляется само собою, по естественному закону, без всякой искусственной регламентации. В стране совершенно новой, где человеческой деятельности не полагается никаких препятствий, эти разряды лиц возникают без всякого внешнего принуждения, просто потому что они требуются экономическою жизнью. Но в отличие от физического организма, эти различные отправления не связывают навеки действующие единицы. Нужно искусственное устройство сословий или каст, чтобы закрепостить человека в известном состоянии. Там, где признается свобода, лицо может по своей воле передвигаться из одного разряда в другой. Свободному лицу предоставляется право занять в обществе то место, на которое поставит его собственная его деятельность, и это составляет опять необходимое условие высшего экономического развития, ибо только при свободе каждая способность может найти подобающее ей место. Лицо не связано тут даже известным видом занятий; оно может соединить в себе различные деятельности и быть представителем различных элементов производства. Нет никакой нужды, чтобы землевладелец был исключительно землевладельцем, капиталист исключительно капиталистом. Обыкновенно землевладелец имеет и капиталы. Если он сам обрабатывает свою землю, а не сдает ее в аренду, то он становится вместе с тем и предпринимателем. Мелкий землевладелец большею частью сам производит и физическую работу. Точно так же и предприниматель почти всегда обладает известным капиталом, который он кладет в свое предприятие. Мелкий предприниматель, ремесленник, арендатор, является вместе и работником. Наконец, и работник не ограничивается своим личным трудом: как скоро он сделал сбережение, так он становится в известной мере капиталистом; если у него есть клочок земли, он является вместе с тем и землевладельцем. Сочетания тут могут быть бесконечно разнообразные, согласно с разнообразными условиями и требованиями жизни.
Какого рода распределение промышленных сил наиболее выгодно для промышленного производства, на этот счет нет и не может быть никакого общего закона. Все тут зависит от свойства существующих сил и от тех естественных или исторических условий, в которых они находятся; а так как и то и другое может быть бесконечно различно, то подвести их под общий шаблон нет никакой возможности. Сама жизнь должна служить здесь указанием; но для этого опять же, по крайней мере на высших ступенях, требуется одно непременное условие — свобода. Надобно, чтобы те бесчисленные центры деятельности, от которых исходит все промышленное движение, имели полную возможность проявлять все скрывающиеся в них силы. Тогда только между ними установляются те отношения, которые требуются природою и свойствами этих сил, и при этом только условии экономическое развитие общества может достигнуть высшей возможной для него степени совершенства. Напротив, всякая искусственная организация, имеющая в виду установить между промышленными силами иные отношения нежели те, которые возникли бы из свободной их деятельности, неизбежно влечет за собою подавление свободы, а вместе с тем нарушение экономических законов и уменьшение производства, которое поражается в самом своем корне.
К этому именно ведет социализм. Промышленность, предоставленную самой себе, по выражению Родбертуса, социалисты хотят заменить общею организациею, получающею свое направление сверху. С этою целью из четырех означенных деятелей производства три сосредоточиваются в руках общественной власти. Общество является и землевладельцем, и капиталистом, и предпринимателем. Такова по крайней мере окончательная и наиболее последовательная форма, к которой пришло социалистическое учение. "Действительно последовательная и обдуманная система социализма, — говорит Шеффле, — находится только там, где признается замена частного капитала капиталом общественных учреждений, установленных для производства и оборота"[152].
Не все социалисты согласны, однако, насчет того, что следует разуметь под именем общества, в руках которого должна сосредоточиться вся промышленная деятельность. Школа анархистов ограничивается заменою частных лиц отдельными группами или общинами, состоящими друг с другом в свободных, договорных отношениях и совершенно упраздняющими государство. Против этой теории Шеффле справедливо возражает, что устройство групп и распределение по ним лиц не может совершаться иначе, как с помощью власти; следовательно, полной анархии и тут не будет. Но с другой стороны, нет никакого ручательства, что договорные отношения между группами приведут к лучшим результатам, нежели договоры отдельных лиц. Во всяком случае, именно общие интересы, наиболее важные, лишены тут представителя. Этою системою, говорит Шеффле, "взамен существующей анархии между частными лицами, ставится только, может быть, еще гораздо худшая анархия между группами"[153]. Очевидно, что вся эта теория основана на полнейшей путанице понятий. Социалисты восстают против существующего порядка именно на том основании, что предоставление производства самому себе ведет к анархии, а тут основным началом промышленности провозглашается та же анархия. Противоречие тут явное.
Сам Шеффле вместо этой анархической взаимности предлагает систему самоуправления. По его теории, каждая отдельная отрасль должна составлять самостоятельное целое, управляемое выборными от общества лицами[154]. Но и это учение грешит таким же внутренним противоречием, как и первое. С одной стороны, общество объявляется единым организмом, в котором части состоят в строгом подчинении целому; утверждается, что "только устройство и направление общественного обмена материи объединенными органами воли общества рождает истинное народное хозяйство"[155]; а с другой стороны, этот единый организм разрывается на отдельные части, управляемые "независимыми друг от друга центральными дирекциями отдельных отраслей производства"[156]. Ясно, что эти отдельные дирекции, имея в виду только частный интерес своей отрасли, будут тянуть каждая на свою сторону. Избегнуть этого можно только подчинивши их общему центру, представляющему интересы целого и дающему направление совокупному производству. Вследствие этого сам Шеффле, объявивши дирекции независимыми друг от друга, признает, однако, что для важнейших дел "можно бы устроить высшую генеральную центральную дирекцию из представителей всех специальных дирекций"[157]. Но в таком случае, эта высшая генеральная центральная дирекция будет верховным направляющим органом производства, и тогда самостоятельность отдельных дирекций исчезнет. Преследуя социалистический идеал, Шеффле все-таки хотел как-нибудь примирить его с началом свободы; но это можно было сделать только в ущерб логике. Отвергаемая им анархия от групп переносится на отдельные отрасли производства, где она имеет еще менее значения, ибо группы составляют по крайней мере местные единичные центры, тогда как отдельные отрасли производства, существующие в данном народе, никакого самостоятельного значения не имеют, а экономически связаны со всеми остальными. Каждая из них производит не для себя только, но и для всех других и в свою очередь получает от них все для нее потребное. Отдельная отрасль не есть общество; последнее составляется из совокупности отраслей. Общество же, образующее единое целое, и есть то, что называется государством. Поэтому единственная последовательная социалистическая система состоит в присвоении государству всех орудий производства и в признании его общим руководителем всей промышленной деятельности народа.
Такова была система, предложенная Луи Бланом, родоначальником всей этой теории. Того же самого требует и Родбертус[158]. Когда Адольф Вагнер говорит о вполне социалистическом устройстве народного хозяйства, он имеет в виду именно управление всего промышленного производства центральною государственною властью[159].
Итак, по этой теории вся промышленность должна руководиться государством. Ему принадлежат все орудия производства. Оно является и землевладельцем, и капиталистом, и предпринимателем. Отдельному лицу оставляется только труд, причем произведения этого труда, по крайней мере по учению умеренных социалистов, предоставляются работнику, однако исключительно для потребления, а отнюдь не для капитализации. Работник имеет право съесть то, что он заработал, но не имеет права употребить свой заработок на полезное дело.
Если бы кто-нибудь предложил план, по которому всякая инициатива в науке или в искусстве была бы отнята у частных лиц, и все ученые и художники сделались бы органами и орудиями государства, которое взяло бы на себя руководство всех ученых исследований и всех художественных работ, то, без сомнения, подобное предложение было бы принято за бред сумасшедшего. А между тем именно этого требуют социалисты в приложении к промышленной деятельности, которая, точно так же как наука и искусство, составляет проявление человеческой свободы и дело личного начинания. Как свободное существо человек имеет такое же право на свободную деятельность в материальном мире, как и в мире мыс-ли, и эта свободная деятельность составляет начало всякого промышленного развития. Тут личная польза и общественная совпадают. Человек, прилагая свою мысль и свой труд к покорению материальной природы, стремится к личной своей выгоде; он хочет устроить свою судьбу по собственому усмотрению и имеет на то неотъемлемое право. Общество же в этом пробуждении личной энергии и самодеятельности находит источник всех достающихся ему материальных благ. Где нет самодеятельности, там нет и промышленного развития, нет и богатства.
Введение социалистического порядка было бы только заменою естественного деятеля искусственным, хорошего — плохим. Мы видели уже, что государство менее всех обладает качествами, нужными для предпринимателя. Здесь же оно поставлено в условия самые выгодные для промышленного производства. Оно избавлено от всякого соперничества, следовательно от всякого побуждения к деятельности; оно не имеет нужды сообразоваться и с требованиями потребителей, ибо у потребителя нет выбора; он должен довольствоваться тем, что ему дают, и теми ценами, которые ему назначают. Пожалуй, он может поднять крик; но через это промышленность обратится в поприще бесконечных пререканий, которые могут только затруднить управление, но не в состоянии улучшить производство. Промышленность двигается не журнальною полемикою и не парламентскими прениями, а личною энергиею и инициативою. Если же введением социалистического устройства энергия и инициатива убиты в гражданах, то откуда возьмутся они в правительстве? Воображать, что в правительстве могут сохраниться качества, которые исчезли в обществе, значит фантазировать без всякого смысла, производить что-нибудь из ничего.
Единственным результатом социалистического устройства будет замена главного двигателя промышленного производства, личного интереса, бюрократическою рутиною и формализмом. Известно, что таковы, в большей или меньшей степени, свойства всякой бюрократии, а тем более бюрократии, обладающей монополиею. Этому злу не помогут никакие системы экзаменов, которыми предлагают заменить существующее в промышленном мире состязание. Промышленная способность доказывается не экзаменом, а практическим делом. Не помогут также награды и премии, которыми социалисты хотят заменить действие личного интереса. Известно, что в бюрократическом порядке самые награды обращаются в рутину или же, что еще хуже, становятся предметом частных происков и протекции. Это признают сами социалисты: "Общественная организация состязания, — говорит Шеффле, — способна к величайшему извращению. В особенности опасно в ней предоставление решающего голоса мало прозорливой общественной власти, которая выбирает не способнейших конкурентов, а каких-нибудь любимцев"[160]. Никакое политическое устройство не в состоянии предупредить это зло. Если в самодержавии преобладают личные интриги, то в представительном правлении к тому же самому ведет господство партий. Соединенные Штаты представляют тому живой пример. Но тут, по крайней мере, беззастенчивость партий находит сдержку в тесных границах, предоставленных правительственной деятельности. Если же личный интерес, подавленный в частной сфере, не будет иметь иного исхода, как государственное управление, и этому управлению будут настежь открыты карманы всех и каждого, то грабительству не будет конца. Едва ли можно представить себе что-нибудь ужаснее, как эксплуатация всего материального богатства страны и всего благосостояния частных лиц в пользу владычествующей партии. А к этому именно ведет социализм.
Неизбежное при социалистическом устройстве умаление производства усилится еще тем, что вместе с личною самодеятельностью будет подавлено и стремление к сбережению. К чему, в самом деле, сберегать, когда государство является не только единственным предпринимателем, но и единственным капиталистом? Все орудия производства находятся в его руках; портной не смеет приобрести себе иголку, плотник топор, земледелец соху. Социалисты не говорят, имеет ли сочинитель право писать своими перьями, или он непременно обязан употреблять казенные. Выше уже было указано на то, что подобное ограничение представляет отрицание права собственности, а вместе и подрыв семьи, неразрывно связанной с наследственною передачею приобретенного. С экономической же точки зрения подобная система ведет к уничтожению важнейших побуждений к труду и к накоплению капиталов; следовательно, она составляет существенный подрыв всему промышленному производству. Человек перестает иметь в виду будущее, обращать свои взоры вдаль, заботиться об обеспечении своих детей; он ограничивается настоящим днем. Всю заботу о будущем берет на себя всеобщий опекун и предприниматель, государство. Оно сберегает за всех, но сберегает особенным образом. Когда частный человек делает сбережение, он ограничивает собственное потребление и часть своего дохода откладывает для будущего производства; тут есть нравственный момент. Государство же, сберегая, ограничивает не собственное потребление, а потребление граждан. По сочиненному социалистами рецепту государство простым распоряжением или бухгалтерским переводом сперва выделяет из общего народного дохода то, что нужно на общественные потребности, на возобновление и умножение капитала и затем уже остальное распределяет между гражданами[161]. Спрашивается: много ли останется?
Останется тем меньше, чем больше потребуется для возобновления потраченного капитала в сравнении с частною предприимчивостью. Работник, работающий чужими орудиями, не имеет интереса в их сохранении; нужен хозяйский глаз, а тут он заменяется надзором чиновников, имеющих столь же мало интереса в деле. Не поможет и система премий и наград за сохранение орудий. Эта система в частных предприятиях приносит некоторую пользу, но она не может заменить хозяйского глаза, а при общем господстве чиновничества и она легко обратится в бюрократический формализм. Во всяком случае отсутствие хозяина, этого существеннейшего элемента всякого предприятия, непременно должно отразиться на большей трате капитала.
С другой стороны, не может не замедлиться даже естественное в прогрессивном обществе умножение капиталов, ибо социалистическое устройство в самом корне поражает не только труд, но и изобретательность. По закону справедливости новое орудие принадлежит тому, кто его изобрел, и это составляет одно из сильнейших побуждений к изобретениям. Здесь же изобретателю воспрещается обладание каким бы то ни было орудием; он не может надеяться и на частную предприимчивость, которая при существующем порядке берет испытание на свой риск и старается о введении новых изобретений с целью получить перевес над соперниками. При социалистическом устройстве изобретателю предоставляется только право представить свое изобретение правительству в надежде получить награду. Он должен подчиниться суду чиновников, которые, с одной стороны, не вправе рисковать казенною собственностью, а с другой стороны, не имеют никакого интереса в том, чтобы введено было новое производство, но весьма часто, напротив, заинтересованы в том, чтобы оно не было введено, ибо этим нарушается господствующая рутина и причиняются новые хлопоты. Понятно, что при таких условиях изобретательности полагается предел; вместо поощрения она испытывает задержку.
Наконец, и в приложении к земле отсутствие хозяина не может не отразиться вредно на производстве. Известно, какое сильное побуждение к труду составляет частная собственность. Особенно мелкий собственник старается извлечь все, что может, из принадлежащего ему клочка земли. При социалистическом порядке и этот элемент отпадает, а потому производство неизбежно должно уменьшиться.
Таким образом, уничтожение личной самодеятельности и личной собственности, неизбежно связанное с водворением социалистического строя, не может не действовать гибельно на производство. Там, где исчезает главная пружина движения, нельзя ожидать, что движение останется таким же, как и прежде. Можно сколько угодно мечтать о замене этой пружины другими; все это остается праздною мечтою, не имеющею основания ни в теории, ни в жизни.
Социалисты кафедры, не потерявшие всякого чувства правды и не закрывающие совершенно глаза на действительность, не думают даже это отрицать. Они готовы признать, что с введением социалистического порядка производство может уменьшиться; но они утверждают, что от этого выиграет распределение богатства, которое гораздо важнее, ибо оно составляет цель производства[162].
Ниже мы увидим, какими законами управляется распределение богатства; мы покажем, что то уравнение, к которому стремятся социалисты, не что иное как равенство бесправия и нищеты. Здесь достаточно сказать, что промышленным успехом может считаться лишь такое распределение богатства, которое не уменьшает производства, ибо окончательно все зависит от последнего. Производство есть первое, а распределение второе. Надобно сначала произвести достаточно вещей, а затем уже распределять произведенное. Умалять же производство ввиду лучшего распределения все равно что рубить дерево, чтобы снять с него плод. Это образ действия диких народов. Такое извращение истинных задач народного хозяйства тем менее уместно, что даже в настоящее <время> производство, при самом уравнительном распределении, по признанию самих социалистов, было бы совершенно недостаточно для удовлетворения всех человеческих потребностей. "Теперь достоверно известно, — говорит Ланге, — что масса наличных благ, разделенная между нуждающимися миллионами, никого бы не сделала счастливым"[163]. Что же будет с уменьшением производства?
Главная забота правительства при таком порядке должна будет состоять в том, чтобы народонаселение не возрастало быстрее, нежели жизненные средства; иначе произведений не достанет на всех. Эта забота будет лежать именно на нем, а не на самих гражданах, ибо с водворением социализма государство взяло на себя всеобщее производство и удовлетворение всех потребностей. Оно уничтожило в гражданах самодеятельность; оно запретило им заботиться о будущем, обеспечивать судьбу своих детей. Этим самым, в сущности, подорвана семья. Человек остался производителем детей, но судьба произведенных им на свет зависит не от него, не от того, что он для них сделает, а от того, что они получают от общества. При таких условиях нравственные сдержки размножения, заключающиеся в необходимости обеспечить детей, исчезают. А так как задержать размножение ввиду уменьшенного производства необходимо, то забота об этом всецело ляжет на правительство, которое, как всеобщий производитель, одно может расчесть, какое количество народонаселения способен пропитать получаемый им доход. Разрушивши семью, снявши с человека попечение о дестях, оно принуждено будет само вмешиваться в семейные дела, ограничивать браки, регулировать половое сожительство. И в этом, единственно оставшемся у человека производстве, личная инициатива должна будет подчиниться правительственному контролю.
Понятно, какая нестерпимая тирания должна водвориться при таком общественном устройстве. По-видимому, цель социализма состоит в том, чтобы поднять достоинство человека: всякая частная зависимость прекращается, и остается одно служение обществу[164]. Но в действительности эта перемена состоит лишь в замене свободных частных отношений подчинением правительственной регламентации и произволу бюрократии. В частном договоре работник является одною из договаривающихся сторон, равною с другою. Он сам заявляет о своих условиях и нередко в состоянии на них настоять; если он недоволен, он может отойти и искать себе работы у другого хозяина. Здесь же нет другого предпринимателя, кроме государства; поэтому у работника нет выбора: он должен поступить рабочим в казенное предприятие на тех условиях, какие ему будут положены. Частный предприниматель сам в значительной степени зависит от рабочих, ибо, если у него не будет рабочих, то он разорится; государство же никогда не разорится и может спокойно ожидать, чтобы голодающие рабочие приняли его условия. Высота заработной платы зависит здесь не от обоюдной сделки, а от того, что остается за удовлетворением этих общественных потребностей. Частный предприниматель сначала удовлетворяет рабочих, а затем уже, за вычетом издержек, получает свой доход; государство, напротив, сначала берет себе то, что нужно для возмещения издержек и для умножения капитала, и затем уже остальное распределяет между рабочими. И это распределение производится исключительно по его усмотрению. Оценка труда по его качеству зависит либо от решения чиновников, вовсе не заинтересованных в выгодах предприятия, либо, что еще хуже, от голоса рабочих, заинтересованных в том, чтобы другой не получал большей платы в ущерб им самим. Недовольному закрыта всякая возможность протеста. Он не может ни искать себе другого хозяина, ибо другого хозяина нет, ни сам сделаться предпринимателем, ибо это ему воспрещено. Единственный исход для рабочего, единственная для него возможность выйти из подчиненного положения, это вступить в разряд чиновников. Поэтому в противоположность тому, что происходит при существовании частной предприимчивости, интерес рабочего класса будет состоять в безмерном размножении чиновничества. За это будут стоять все, чувствующие в себе какие-нибудь способности, и только сознающие себя совершенно неспособными будут против. А это опять же не может не отразиться пагубно на производстве, тем более что именно на этом поле будут разыгрываться все человеческие страсти.
Какое же значение может иметь при таком порядке свобода в выборе занятий, которая будто бы предоставляется отдельным лицам, а равно и заработок, который присваивается им как собственность? Человек может выбирать себе какое угодно занятие, но от единственного хозяина, государства, зависит принимать его или нет. Государство определяет, какое количество рабочих ему нужно в каждой отрасли, а так как рабочие находятся совершенно в его руках, то и распределение зависит вполне от него. Если в известной отрасли есть лишние, то оно просто перемещает их в другую, где недостает рабочих сил. При частной предприимчивости рабочие сами стремятся туда, где есть недостаток, ибо там им предлагаются более выгодные условия; но при социалистическом производстве условия везде одинаковы, и перемещение зависит не от воли или выгоды рабочих, а исключительно от усмотрения государства. Рабочий волею или неволею должен подчиняться, ибо у него нет иного исхода; государство же с своей стороны имеет не только право, но и обязанность распоряжаться работою по своему усмотрению, ибо, сделавшись единственным предпринимателем, оно взяло на себя обязанность всем давать работу и устроить эту работу так, чтобы все потребности были удовлетворены. Таким образом, все находится в его руках. Свободный выбор занятий при такой монополии обращается в фикцию. Рабочий имеет право требовать, чтобы ему давали работу и притом на одинаковых с другими условиях; но какую работу ему дадут, это зависит от воли государства.
К уничтожению свободы труда ведет и самый способ определения заработной платы. В социалистическом производстве заработок определяется не частною сделкою между хозяином и работником, а долею участия каждого в совокупном производстве. Из народного дохода выделяется то, что нужно для общих потребностей, и затем остальное распределяется между рабочими. Следовательно, доля каждого зависит от работы всех других. А потому каждый имеет право требовать, чтобы все другие работали так, чтобы он мог удовлетворить своим потребностям. Но как скоро возникает подобное требование, так работа необходимо становится принудительною. Социалистическим производством установляется всеобщая солидарность, а всеобщая солидарность влечет за собою всеобщее принуждение, ибо тут возникают юридические требования всех на каждого и каждого на всех. Свобода лица исчезает совершенно. А так как свободный труд производительнее невольного, то и с этой стороны неизбежно происходит уменьшение производства.
Не все социалисты решаются признать эти последствия своей теории. Шеффле, например, возмущается против всемогущества государства и объявляет социализм, подавляющий свободу, "безумием и убийством в отношении к цивилизации"[165]. Из стремления сочетать свободу с социализмом возникают изложенные выше учения анархистов и поборников самоуправления. Но самая несостоятельность этих попыток указывает на несовместимость обоих начал. Более последовательные социалисты не обманывают себя на этот счет. Вместо идиллических изображений свободы они свой идеальный быт прямо приравнивают к деспотизму. Так например, Родбертус, желая показать характер социалистического производства, начинает с изображения восточного деспота, "собственника земли и людей", распоряжающегося тем и другим по своему произволу. На место "этой единой собственности единого деспота", говорит он, представьте себе землю и произведения, принадлежащие совокупно народу, который руководит производством совершенно так же, как делает восточный деспот через своих слуг, и так же полновластно распоряжается всеми производительными средствами, как органы старо-персидского монарха в силу его права собственности[166]. Очевидно, что при такой системе о свободе не может быть речи. Люди, равно как земля, принадлежат новому деспоту — народу. И чем меньше лицу предоставляется простора, тем, по этой теории, лучше. "Чем централизованнее организм, — говорит Родбертус, — тем он совершеннее"[167].
К чему же служит заработок при таком порядке? Единственная его цель заключается в удовлетворении потребностей, ибо сбережение тут неуместно, капитализация воспрещена. Собственник остается исключительно потребителем. Но каково положение потребителя при социалистическом устройстве? В частном производстве потребитель является судьею производителя: он предъявляет свои требования, он предлагает свою цену. Вся задача производителя состоит в том, чтобы угодить потребителю; если он не умеет этого сделать, он разоряется. Конкуренция производителей и преимущество одних перед другими основаны единственно на том, что одни лучше других умеют достигнуть этой цели. При социалистическом производстве, напротив, потребитель становится в полную зависимость от производителя. Государство не разорится оттого, что оно не умеет угодить потребителям. Самое потребление, так же как и производство, находится в его руках. Оно определяет, что потребителям нужно и по какой цене должны брать произведения. Выбора у них нет; они имеют перед собою монополиста, который заставляет их делать из полученного ими заработка то употребление, которое нравится не им, а ему. Вспомним приведенные выше слова Шеффле: "дело идет, — говорит он, — не о том, чтобы просто свести к общему итогу личное, то есть часто в высшей степени неразумные и вредные для общества потребности, и признать их, не заботясь об общественных интересах. Некоторые потребности следует отчасти исключить, отчасти затруднить. Другие надобно ввести и облегчить. Личной свободе потребностей должно положить границы, узду и побуждения в интересах сохранения целого"[168]. Шеффле прямо даже признает потребление общественным делом. "Цель потребления, — говорит он, — состоит в получении социально употребимой силы и в извлечении социальной пользы из персонала и из имущества"[169].
Но если лицо, относительно удовлетворения своих нужд вполне зависит от общества, то, с другой стороны, в силу самого этого начала оно обращается к обществу с требованием, чтобы оно удовлетворяло этим нуждам. При всеобщей солидарности заработок, как мы видели, зависит не от работы лица, а от работы всех. Он получается из общего дохода от совокупного, руководимого государством производства. Заработок представляет не только участие каждого в этой совокупной работе, но и требование, обращенное к государству, чтобы работа всех была достаточная для удовлетворения нужд. Мало того: требования лица идут еще далее. Кроме платы за работу государство обязано ему и помощью, на него падает все, что при свободном устройстве совершается благотворительностью, человеколюбием, милосердием, дружбою. Сделавшись единственным предпринимателем, снявши с граждан попечение о будущем, оно взяло на себя обязанность удовлетворять всем их потребностям, а потому они имеют право требовать, чтобы оно исполняло эту обязанность вполне. Вследствие этого общий фонд становится источником для удовлетворения всех возможных нужд, и заработная плата перестает быть мерилом этого удовлетворения. Каждый работает для государства по его указаниям, а взамен того получает от государства все для него потребное. Социалистическое производство последовательно влечет за собою социалистическое потребление. Социализм становится коммунизмом.
Значительная часть социалистов отрекается от коммунизма. С социалистическим производством они хотят совместить свободу и собственность. Некоторые считают даже клеветою, когда социалистов обвиняют в отрицании этих начал. Но мы видели уже, что при социалистическом производстве свобода и собственность обращаются в призрак. Государство берет себе все: и землю, и капитал, и предприятие, оставляя человеку один личный труд, которым оно же располагает по произволу. Самое потребление и деторождение ограничиваются государством. При таких условиях одно, что может сделать человек, — это обратиться к нему с требованием, чтобы оно взяло на себя и удовлетворение всех его нужд. Человек сделался рабом общества; оно обязано его кормить. В этом и состоит коммунизм, который составляет крайнее, но последовательное приложение социалистических начал.
Нет сомнения однако, что коммунизм не что иное, как высшее выражение того внутреннего противоречия, которое лежит в основании всех социалистических стремлений. Коммунизм ставит себе целью возвеличение человека, и обращает его в раба; он провозглашает высшее нравственное начало, братство, и делает это начало принудительным, то есть лишает его нравственного характера; он хочет удовлетворить всем человеческим потребностям, и уничтожает всякое побуждение к труду, следовательно, делает невозможным сколько-нибудь широкое удовлетворение потребностей. Всякое одностороннее начало заключает в себе внутреннее противоречие, ибо оно пытается частью заменить целое, сохранить полноту жизни, выкинувши из нее одну половину. Но одностороннее развитие начала, уже самого по себе ложного, ведет к крайнему противоречию. Коммунизм есть отрицание всей личной половины человеческой природы, то есть именно того, что делает человека единичным существом. Но так как природу уничтожить невозможно, то насильственно подавленная личность неизбежно проявится иным путем: она выразится в стремлении каждого пользоваться как можно более общественным достоянием, внося в него как можно менее с своей стороны. Чем недобросовестнее человек, тем легче это сделать. Тут внакладе будут не худшие, а лучшие элементы. Коммунизм, по меткому выражению Прудона, есть эксплуатация сильного слабым, и не в материальном только смысле, а также и в нравственном: это эксплуатация добросовестного недобросовестным. Только высшее религиозное одушевление, доводящее человека до полного самоотречения, может противодействовать этому злу. Поэтому коммунистические общества встречаются лишь между людьми, отрекающимися от всяких мирских помыслов во имя целей загробных. Но непременное условие для существования таких обществ состоит в том, чтобы они были добровольные. К государственным учреждениям такое устройство неприложимо. Как скоро вводится юридическое начало, так коммунизм обращается в рабство.
Прудон весьма хорошо сознавал всю эту внутреннюю несостоятельность коммунистических теорий. "Недостатки коммунизма, — говорит он, — до такой степени очевидны, что критикам никогда не нужно было употреблять много красноречия, чтобы отвратить от него людей. Неисправимость его несправедливостей, насилие, учиненное им человеческим сочувствиям и отвращениям, железное иго, которое он налагает на волю, нравственная пытка, которой он подвергает совесть, атония, в которую он погружает общество, одним словом, то блаженное и тупое однообразие, которым оно оцепляет свободную, деятельную, рассуждающую и непокорную личность человека, возмутили всеобщий здравый смысл и безвозвратно осудили общение имуществ"[170].
После этого можно только удивляться, когда Милль, ссылаясь на возможность усиления нравственных побуждений в человечестве, утверждает, что в настоящее время нельзя еще решить вопроса о преимуществах коммунизма или индивидуализма, а потому нельзя еще положительно сказать, что коммунизм не будет окончательною и высшею формою человеческого общежития[171]. Подобное суждение, со стороны столь замечательного писателя, служит только доказательством, что самые простые и очевидные истины перестали быть понятны современным мыслителям.
В настоящее время, как уже и давно прежде, можно утвердительно сказать, что коммунизм неспособен сделаться, не только окончательною, но даже и переходною ступенью человеческого общежития, по той простой причине, что человек никогда не может перестать быть свободным лицом, то есть самостоятельным центром жизни и деятельности. Порабощение его обществу столь же противно его природе, как и порабощение его отдельному лицу. И если последнее возможно на низших ступенях человеческого развития, то первое невозможно ни на какой ступени, ибо общество само состоит из лиц, следовательно, это устройство должно разрушиться собственным внутренним противоречием. Для всякого, кто способен к ясному мышлению, коммунизм представляется теоретически нелепостью, а практически невозможностью. Он принадлежит к разряду чистых утопий.
Нельзя лучше закончить эту критику, как опять же словами Прудона, который беспощадно громил социалистов, делая исключение только для себя одного: "вы сказали правду, — восклицает он, — коммунизм составляет роковой исход социализма! Но именно поэтому социализм есть ничто, никогда ничем не был и никогда ничем не будет; ибо коммунизм — это отрицание в природе и в духе, отрицание в прошедшем, в настоящем и в будущем"[172].
Глава VI. ПОЗЕМЕЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Передача всех орудий производства в руки государства проповедуется явными и последовательными социалистами, которые отдельное лицо ставят ни во что, требуя всецелого подчинения его обществу. Но есть философы и экономисты, которые не решаются идти так далеко, а останавливаются на полдороге. Движимый капитал они не считают возможным отнять у лица, ибо капитал есть произведение собственной деятельности человека; но поземельная собственность, по их мнению, должна принадлежать обществу как целому, так как силы природы по существу своему составляют общую принадлежность человечества.
"Когда толкуют о святости права собственности, — говорит Милль, — то следовало бы всегда припоминать, что поземельной собственности эта святость не принадлежит в одинаковой степени с остальною. Человек не создал земли. Она составляет первоначальное достояние всего человеческого рода. Есть начала общественной пользы, в силу которых земля сделалась собственностью отдельных лиц. Но если бы эти основания потеряли свое значение, то подобное учреждение было бы несправедливо. Никто не может считать притеснением, если он исключается из того, что произвели другие. Они не были обязаны производить эти вещи для его употребления, и он ничего не теряет, не участвуя в том, что без этого бы не существовало. Но притеснению подвергается тот, кто рождается на земле и находит уже все дары природы в исключительном обладании других, так что новому пришельцу не остается более места"[173].
Из этого Милль выводит, что поземельная и движимая собственность управляются равными началами. Права землевладельцев всегда подчиняются общей политике государства. Собственно говоря, они имеют право не на землю, а единственно на вознаграждение за те связанные с землею интересы, которых они лишаются в случае принудительного отчуждения.
К концу своей жизни Милль, более и более проникаясь социалистическими началами, совершенно склонился на сторону национализации поземельной собственности. Он указывал на то, что присвоенная государством поземельная рента могла бы заменить все другие подати.
Еще далее идет Спенсер. Отправляясь от того положения, что "каждый волен делать все, что хочет, лишь бы он не нарушал равной свободы всякого другого", он выводит отсюда, что "никто не имеет права пользоваться землею так, чтобы мешать другим пользоваться ею одинаковым образом, ибо это значит присваивать себе большую свободу, нежели другие, следовательно нарушать закон. Поэтому справедливость, — говорит Спенсер, — не допускает права собственности на землю. Ибо, если одна часть поверхности земли может справедливо сделаться собственностью отдельного лица и может держаться им для исключительного его употребления и пользы, то и другие части земной поверхности можно держать таким же образом; следовательно, и совокупность земной поверхности может находиться в том же положении, так что вся наша планета может попасть в частные руки". Но при таком устройстве все те, которые не состоят землевладельцами, не будут иметь никакого права на землю и будут находиться на ней только в силу терпимости, их можно даже совсем вытеснить с земного шара. Следовательно, они не будут пользоваться равною с другими свободою[174].
Спенсер не хочет признать самый труд правомерным источником поземельной собственности. "Что ты сделал? — спрашивает космополит у земледельца, присвоившего себе пустопорожний участок. — Ты перевернул почву на несколько вершков глубины лопатою или сохою; ты на приготовленном таким образом пространстве разбросал несколько семян и собрал плоды, которые солнце, дождь и воздух помогли земле произрасти. Скажи же мне, пожалуйста, каким волшебством эти действия сделали тебя единственным обладателем этой огромной массы материи, имеющей основанием поверхность твоего владения, а вершиною центр земли?" И когда земледелец отвечает, что эти земли принадлежат ему, потому что он первый их открыл и улучшил, то космополит возражает, что все это очень хорошо, пока не явился настоящий хозяин, человеческий род, которому земля дана Богом как общее его наследие, точно так же как человек, занявший и отделавший пустой дом, должен уступить его, как скоро явился настоящий наследник, и может только требовать вознаграждения за сделанные им улучшения.
Даже согласие всех наследников не может, по мнению Спенсера, служить правомерным основанием раздела. Ибо кто получит разделенные участки? Все совершеннолетние? Но тогда что делать с малолетними, а равно и с теми, которые родятся завтра? Они будут лишены наследия, следовательно, не будут пользоваться равною с другими свободою. "Итак, — заключает Спенсер, — пока мы не можем представить законного полномочия, дающего нам право сделать подобное распределение, пока не будет доказано, что Бог дал одну хартию привилегий одному поколению, а другую — другому, пока мы не можем доказать, что люди, родившиеся после известного числа, должны быть осуждены на рабство, до тех пор мы должны признать, что подобный раздел непозволителен"[175]. Спенсер не допускает даже совместного существования общественной и частной поземельной собственности. Он издевается над людьми, имеющими страсть к компромиссам и вечно стремящимися к тому, чтобы к истине примешать немного лжи. "В деле поземельной собственности, — говорит он, — приговором нравственности должно быть ясное да или нет. Или люди имеют право делать землю своею частною собственностью, или не имеют. Тут нет середины".
Однако же, насмеявшись вдоволь над людьми, ищущими середины между крайностями, он сам не решается последовательно провести свое начало до конца. Вместо того чтобы присвоить землю всему человеческому роду, как требовалось бы теориею, он переносит только право собственности с отдельных лиц на общество, и притом так, что последнее является землевладельцем, а первые арендаторами. "Через это, — говорит он, — сохраняется равновесие между двумя крайностями". При этом он признает, что подобная замена частной поземельной собственности общественною сопряжена с громадными затруднениями, ибо надобно вознаградить настоящих владельцев. "Если бы, — замечает он, — мы имели дело с лицами, которые первоначально похитили наследство у человеческого рода, мы могли бы коротко расправиться с этим делом. Но, к сожалению, большая часть настоящих наших землевладельцев — люди, которые посредственно или непосредственно — или собственными действиями, или действиями своих предков — дали за свои владения равносильное количество честно приобретенного богатства, воображая, что они свои сбережения употребляют законным путем. Справедливо оценить и ликвидировать претензии этих лиц составляет одну из самых затруднительных задач, которые придется разрешить обществу. Но, заключает Спенсер, до этого затруднения и до возможности из него выпутаться, отвлеченной нравственности нет дела. Раз люди застряли в этой дилемме вследствие неповиновения закону, они должны выкарабкиваться из нее, как могут"[176]. Без сомнения, весьма легкий и достойный мыслителя способ разрешения задачи!
Более практические средства предлагает бельгийский экономист Лавелэ. Он считает получение участка земли для обработки прирожденным правом человека, правом, которого человек не может быть лишен без нарушения справедливости. В доказательство он заимствует из общего арсенала социалистических писателей, то есть у Прудона, пример островитян, отталкивающих выброшенного на берег мореходца. "Представим себе, — говорит он, — что мы владеем островом, на котором мы живем плодами своей работы; к берегу пристает человек, потерпевший крушение: каково его право? Может ли он сказать, ссылаясь на единогласное мнение юристов: "вы заняли землю в качестве человеческих существ, потому что собственность составляет условие свободы и культуры, потребность существования, естественное право; но и я человек, и я имею право существовать. Следовательно, и я могу, на том же юридическом основании, как и вы, овладеть участком земли, чтоб жить на нем своею работою". Если мы не признаем основательности этого требования, — говорит Лавелэ, — то не остается ничего более, как бросить потерпевшего крушение обратно в море… Без сомнения, — замечает он далее, — мы можем также помочь ему или дать ему работу за плату; но это будет действие человеколюбия, а не юридическое решение. Если он не может требовать себе части производительной почвы, чтобы жить своею работою, то у него вообще нет права"[177].
Это прирожденное право человека, по мнению Лавелэ, признавалось первобытными обществами, которые делили землю поровну между своими членами. Никакой договор о разделе не может уничтожить это право, ибо договор тогда только имеет силу, когда он согласен с справедливостью. Факт, что предки так постановили, недостаточен для того, чтобы решение их <могло> приобрести уважение[178]. В настоящее время задача состоит в установлении такой общественной организации, в которой каждый получал бы законно принадлежащую ему собственность. Относительно земли эта цель может быть достигнута обращением ее в общественное достояние. В этих видах Лавелэ предлагает ограничить права боковых наследников и установить налог на наследство, посредством которого можно постепенно выкупать поступающие в продажу земли[179].
Лавелэ остановился на этой полумере; но очевидно, что его аргументация идет гораздо далее. Если мы примем его посылки, то мы придем к чистому социализму. "Ясно, — говорит он, — что дело идет не о том, чтобы каждому дать участок земли, а о том, чтобы дать ему рабочее орудие или круг деятельности"[180]. Но в таком случае вопрос о поземельной собственности отходит на второй план, и требование пришельца, чтобы ему непременно дали участок земли, лишается всякого основания.
Из сказанного в предыдущей книге можно видеть несостоятельность всей этой теории. Все доказательства приведенных выше писателей основаны на смешении понятий. Собственность составляет естественное право человека в том смысле, что по естественному закону ему принадлежит то, что он приобрел свободным употреблением своих сил, а никак не в том, что каждому лицу общество должно уделить известную собственность. Во всяком случае из этого отнюдь не следует, что каждому должна быть присвоена поземельная собственность. Почему потерпевшему крушение непременно следует дать участок земли и почему доставление ему заработка не есть юридическое решение задачи, этого, конечно, не поймет ни один юрист. Едва ли это поймет и не юрист. И когда сам Лавелэ в заключение своего рассуждения объявляет, что дело вовсе не в том, чтоб каждому дать землю, а в том, чтобы дать ему рабочее орудие или круг деятельности, то этим самым обнаруживается в мыслях автора такое противоречие, которое подрывает всю его теорию. Заработная плата представляет собою именно круг деятельности и приобретаемую этою деятельностью собственность. Всего менее понятно, почему все человеческие отношения непременно должны определяться началами права. А что если потерпевший крушение искалечен и работать не может? Следует ли и тут устранить человеколюбие и держаться строго юридического закона?
Столь же несостоятельно и утверждение Спенсера, будто человек, занявший пустопорожний участок земли, тем самым противозаконно стесняет свободу других. Это возражение обращается не только против поземельной, но и против всякой собственности, даже против всякого владения. Если я живу на известной квартире, то я очевидно мешаю другим жить на той же квартире; если я ем кусок хлеба, то я мешаю другим есть тот же кусок. Ошибка заключается в смешении свободы с теми предметами, на которые она обращается. Свобода состоит в возможности располагать своими силами независимо от чужой воли, и в этом только отношении люди могут признаваться равными друг другу; предметы же, на которые простирается свободная человеческая деятельность, могут различаться до бесконечности, и количественно и качественно: тут равенства никакого не требуется. Во всяком случае пока на земном шаре есть пустые пространства, до тех пор о противозаконном стеснении не может быть речи. Уверять, что дикие народы, занимающие пустые земли и присваивающие их себе, посягают на чужую свободу и тем самым нарушают закон справедливости, значит смеяться над читателем. Конечно, при умножении населения вновь рождающиеся люди могут не найти пустопорожних земель в тех местах, где они родились; но это вовсе и не требуется свободою. Закон человеческого развития состоит в том, что вновь нарождающиеся поколения владеют тем, что им передано предками. При этом нет никакой нужды, чтобы каждый непременно имел землю. Кто желает ее иметь и не находит ее на месте жительства, тот волен отправляться в пустыни и присваивать себе никем не занятые пространства.
Но, говорит Спенсер, если мы раз допустим, что один клочок земли может сделаться частною собственностью, то и вся земля может обратиться в частную собственность, и тогда несобственники могут просто быть выброшены из земного шара.
Этим способом можно доказывать все, что угодно. С этой точки зрения нельзя допустить, чтобы кусок хлеба сделался частною собственностью, потому что если допустить это относительно одного куска, то следует признать то же самое относительно всего хлеба на земном шаре, и тогда несобственники должны будут умереть с голоду или сделаться рабами собственников. Можно доказать точно так же, что непозволительно строить дома, ибо если можно построить дом на одном месте, то можно застроить все места на земном шаре, и тогда не останется места для полей, и человеческий род должен будет погибнуть. Когда подобная аргументация употребляется философом, то можно только изумляться той философии, которая рождает столь необыкновенную связь понятий. Когда же Спенсер уверяет, что всякий, кто не владеет землею, становится рабом землевладельцев, то это — декламация, приличная в социалистическом памфлете, но совершенно неуместная в философском трактате. Известно, что есть вполне независимые люди, живущие в наемных домах и не имеющие ни клочка земли. До сих пор владельцы движимых имуществ не ощущали потребности вымаливать у поземельных собственников позволение занять пространство земли, где бы они могли поставить "пяты своих ног", по выражению Спенсера. Когда реалистическая философия прибегает к подобным гипотезам, она уносится в заоблачные пространства и теряет под собою всякую почву.
Столь же несостоятельны возражения Спенсера против присвоения земли путем труда. То магическое действие, посредством которого усваивается взрыхленная почва, есть проявление человеческой свободы и соединение ее с обработанным пространством. Конечно, если принять во внимание одни только физические операции, как делает Спенсер, то ровно ничего в этом не поймешь. Свобода есть духовное начало, и усвоение есть духовная, а не материальная связь человека с вещью. Во имя своей свободы человек вправе усваивать себе все, что не усвоено уже другими, и считать своим то, на что он положил свой труд. Этого права даже Спенсер не решается отрицать в отношении ко всякому другому отдельному человеку, который вздумал бы предъявлять притязание на вещь, усвоенную чужим трудом; но он утверждает, что подобное право не может перевесить предшествующего права всех людей взятых вместе[181]. Покинутым домом можно владеть, только пока не явился настоящий хозяин, а настоящий хозяин земли — человеческий род, которому земля дана Богом. Где же однако доказательство этого предшествующего владения? Реалистическая философия вдается тут в чистую мифологию. "Непознаваемое" Спенсера вдруг, когда нужно, превращается в личное Божество, дарующее известные права совокупности созданным им существ. Всего любопытнее, что Спенсер отрицает при этом у человечества право учинить раздел и требует, чтобы оно показало свое полномочие; но ведь и отдельное лицо, у которого хотят отобрать усвоенный им участок, может потребовать, чтобы человечество показало ему свои документы, как сделал бы и владелец покинутого дома, если бы кто-нибудь вдруг объявил себя хозяином. Какую же данную Богом хартию предъявит человеческий род?
На практике, если мы должны дожидаться, чтобы весь человеческий род предъявил свои притязания на известный участок земли, то частная собственность может считаться вполне обеспеченною. Человеческий род никогда не предъявлял подобного притязания и никогда его не предъявит, по той простой причине, что человечество как целое есть общий дух, который никаких юридических претензий не имеет и не может быть собственником чего бы то ни было. Вследствие этого и Спенсер не думает присваивать землю всему человечеству. По его теории "страна" должна принадлежать "корпоративному телу — обществу", то есть государству. Но почему же государство имеет преимущественное право перед отдельным лицом? Где его полномочие? На эти вопросы нет ответа. Вместо того чтобы сделать прямой логический вывод из своих посылок, реалистический философ сначала строит здание в облаках, а затем делает скачок на землю, но попадает уже, куда Бог приведет. Твердого основания нет никакого.
Такое же смешение всяких начал мы видим и у Лавелэ. Историческое исследование, которое должно служить фактическим подтверждением его теории, указывает на общинное владение, как на первоначальную форму собственности; одобряемый же им план национализации поземельной собственности состоит в присвоении земли не общине, а государству; наконец, теоретическим основанием его взгляда служат естественные права человека. Лавелэ не замечает, что одно вовсе не вяжется с другим. Община, а равно и государство, может поделить землю между своими членами; как собственники они имеют на то полное право. Между тем во имя естественных прав человека, они обязаны давать землю всякому пришельцу. Допустим ли мы подобное юридическое начало? Скажем ли мы, например, что всякий, кто желает поселиться около Неаполитанского залива, имеет право требовать, чтобы ему отвели там клочок земли, и что общество не имеет права ему отказать, так как земля принадлежит всем людям, и всякий в силу своего естественного права имеет в ней участие? Очевидно, это было бы Нелепо. Как же скоро мы признаем, что общество имеет право отказать требующему, так о естественном праве на землю не может уже быть речи, и тогда вся основанная на ней теория рушится.
С присвоением земли обществу естественное право человека будет даже в большем накладе, нежели при частной собственности. Возьмем приведенный у Лавелэ нелепый пример потерпевшего крушение, которого приходится бросить обратно в море, потому что никто не хочет его принять. Положим, что на острове живут сто человек, из которых каждый имеет свой участок земли. Для того чтобы бросить потерпевшего крушение обратно в море, надобно, чтобы ни один из этих ста не согласился его принять. Но будет ли ему какая-нибудь выгода от того, что остров, вместо того чтобы находиться в частном владении, будет составлять совокупную собственность всех? Напротив, в таком случае, для того чтобы отказать ему в пристанище, а тем паче в участке земли, достаточно бы было, чтобы из ста человек не согласились пятьдесят один. Что же он выиграл? Когда говорят о юридическом решении задачи, надобно по крайней мере ясно понимать, что такое юридическое решение и каковы его условия.
Все принципиальные возражения против поземельной собственности основаны на такого рода туманных юридических представлениях, которые рассеиваются, как скоро мы прилагаем к ним логику. Философов и экономистов, предъявляющих подобные возражения, можно просто отослать к изучению права.
Не более основательны возражения, которые делаются с точки зрения чисто экономической. Они собраны Замтером, который, пытаясь согласить социализм с индивидуализмом и общественную собственность с частною, пришел к заключению, что общественную собственность должна составлять именно земля, тогда как движимый капитал должен оставаться собственностью частных лиц.
Замтер отправляется от положения, что высшая задача государства заключается в том, чтобы возможно большему количеству лиц открыть самостоятельную хозяйственную деятельность. Для этого оно должно иметь значительную собственность в своих руках. Всего более этой цели соответствует именно поземельная собственность; 1) потому что здесь действуют производительные силы природы, на которые все члены общества могут иметь притязание; 2) потому что, в отличие от движимой собственности, она не может быть произвольно умножаема, и увеличение производительности может быть получено только с помощью все возрастающих издержек; и 3) потому что она постоянно растет в цене, и притом независимо от деятельности владельцев, а просто вследствие "общественных соотношений", то есть вследствие умножения народонаселения и увеличения потребностей[182].
Каковы истинные задачи государства, это мы увидим впоследствии. Здесь дело идет о разборе тех оснований, в силу которых поземельная собственность может быть передана в его руки. Нет сомнения, что с землею главным образом соединена независимая деятельность сил природы. Но и тут эти силы действуют не одни. Чем выше производство, тем более, как мы видели, участвуют в нем другие элементы. Только на низших ступенях, имение там, где земли вдоволь и где она всего менее имеет ценности, силы природы являются преобладающими. С уменьшением же количества свободных земель земля поглощает все более и более капитала, труда и предприимчивости, так что наконец нет возможности определить, что принадлежит одному деятелю и что другому. Приложением человеческих сил бесплодные почвы обращаются в плодородные, и земле постоянно возвращается то, что у нее было отнято. Самое обстоятельство, на которое ссылается Замтер, именно, что издержки растут в большей мере, нежели произведения, указывает на то, что силы природы слабеют и отходят на второй план, уступая первое место силе капитала. Если же капитал и все, что составляет произведение труда и предприимчивости, справедливо признается собственностью лица, а не общества, то и неразрывно связанная с ними поземельная собственность несомненно должна быть присвоена лицу.
Это признается и Миллем. "Хотя самая почва, — говорит он, — не произведена хозяйственною деятельностью человека, однако это можно сказать о большей части ценных ее качеств. Труд необходим не только для пользования ею, но почти в равной степени и для приготовления этого орудия производства. Часто с самого начала требуется значительная работа, чтобы сделать землю пахотного. Даже когда она обратилась в пашню, производительная ее сила во многих случаях вполне является действием труда и искусства… Таковы, — заключает Милль, — основания, которые с экономической точки зрения оправдывают собственность в приложении к земле"[183].
Мало того: самые силы природы, будучи усвоены человеком и переходя из рук в руки, приобретаются на деньги, нажитые собственною деятельностью лица. Поземельная собственность представляет известное помещение капитала. Мы видели, что Спенсер признает это вполне. Поэтому, если государство хочет перевести все земли в свои руки, оно должно выкупить их у владельцев, заплативши последним настоящую цену. Возможна ли и выгодна ли будет подобная покупка?
Конечно, государство может произвольно облагать землевладельцев податями и затем, на их же деньги, покупать у них земли. Вот это будет замаскированная конфискация. Оно может так же, как предлагает Лавелэ, ограничивать права боковых наследников и переводить выморочные имения в свои руки. Но это будет нарушением коренных оснований семейного и наследственного права, нарушением, которое притом не приведет ни к чему, ибо бездетные будут переводить свои имения в частные руки иными способами, путем продажи или завещания. С первого взгляда самым рациональным способом разрешения задачи был бы заем с целью выкупа поземельной собственности. Но к чему приведет подобная операция? Фосетт, возражая против национализации земли, указал на то, что если приложить эту меру к Англии, то государство должно будет занимать деньги по 3 1/2 процента, с тем чтобы тот же капитал поместить по 2 1/2. Поземельная собственность, независимо от большей или меньшей ее выгодности, имеет для частных лиц такую притягательную силу, что они готовы платить за нее цену несоразмерную с ее доходом. Но это возможно только тогда, когда у человека есть свой собственный лишний капитал. Если бы частное лицо захотело при таких условиях покупать землю на занятые деньги, оно бы разорилось, ибо оно должно бы было платить более, нежели оно получает. То же самое будет и с государством.
Против этого нельзя возразить, что государство может иметь в виду будущее, а так как цены на земли постоянно растут, то оно впоследствии вознаградит себя за настоящие потери. В действительности цены на земли не растут в бесконечность. Есть периоды, когда они растут, и есть периоды, когда они падают. Они растут, пока в известной стране умножаются капиталы и народонаселение, и этот избыток остается в ее пределах. Но как скоро умножившийся капитал переходит на обработку пустынных земель, лежащих в других странах, а рядом с этим все более и более уменьшаются издержки перевозки, так цены на земли начинают падать. Это именно мы видим в настоящее время в Англии и во Франции. Следовательно, если бы государство, рассчитывая на будущее возвышение цен, решилось на невыгодное помещение капитала в настоящем, то оно разорилось бы вдвойне. В экономическом отношении, выкуп поземельной собственности нельзя назвать иначе, как чудовищною операциею.
Еще более веса получают эти доводы, если мы сообразим, что этим самым неизбежно должна уменьшиться производительность земли. Когда утверждают, что все члены общества могут иметь притязание на производительные силы природы, то это решительно ни на чем не основанное положение. Силы природы как таковые не служат непосредственно удовлетворению человеческих потребностей, а потому для членов общества совершенно все равно, в чьих руках они находятся, в частных или общественных. Существенный интерес общества состоит в том, чтобы от этих сил получалось как можно более произведений, ибо чем более произведений, тем ниже их цена, и тем они доступнее массе. В чьих же руках земля производительнее: в руках частных лиц или государства?
В этом отношении даже склоняющиеся к социализму экономисты принуждены уступить очевидности. "Хотя, — говорит Милль, — самая земля не есть создание человеческих рук, однако таковыми являются ее произведения, и для того чтобы получить их в достаточном количестве, надобно, чтобы кто-нибудь приложил к ней много труда, а для поддержания этого труда надобно, чтобы он при этом потребил значительное количество прежней сбереженной работы. Между тем опыт удостоверяет нас, что огромное большинство людей гораздо усерднее работает для себя и для своих непосредственных потомков и приносит для них гораздо большие денежные жертвы, нежели для общества. Поэтому в видах наибольшего содействия производительности признано было полезным присваивать отдельным лицам исключительное право собственности на землю, с тем чтобы они получали возможно большую прибыль, делая землю как можно более производительною и не подвергаясь опасности встретить препятствие в вмешательстве других. Таково основание, которое обыкновенно приводится в пользу дозволения обратить землю в частную собственность, и это — лучшее основание, которое может быть приведено"[184].
Еще категоричнее выражается Адольф Вагнер. По своему обыкновению, он не допускает абсолютного решения вопроса; но он признает, что "действительно нередко настоятельные исторические основания целесообразности, а отнюдь не сила, привели во имя частного и общественного интереса к установлению права частной собственности на землю, в особенности пахотную". И это учреждение, говорит он, на деле оказалось целесообразным, почему его можно считать "хорошо оправданною категориею исторической жизни". Конечно, замечает он, этим оно еще не оправдывается на веки веков. "Но тяжесть доказательств относительно целесообразности его устранения должен нести тот, кто этого требует. Эта тяжесть, — говорит Вагнер, — не легка. Тот, кто берет ее на себя, должен прежде всего не только отрицательно вооружаться против частной собственности во имя народнохозяйственных и социал-политических невыгод этого учреждения, но вместе с тем положительно доказать, что иная форма владычества человека над землею и специально пахотною может быть хозяйственно столь же производительна и что она может быть практически применима. Но здесь-то именно оказывается указанный уже выше великий недостаток всех критиков этого учреждения: нет положительного доказательства в пользу возможности обойтись без права частной собственности на пахотную землю и особенно на крестьянскую пашню, не подвергая опасности первейшего интереса народного хозяйства в отношении к производству" (Grundlegung, § 334).
Казалось бы, что это суждение достаточно определительно. Но нам известно уже, что последовательность не составляет характеристической черты исследований Вагнера. Поэтому мы не удивляемся, когда через несколько страниц находим и совершенно противоположные взгляды. Тут Вагнер утверждает уже, что "даже полное уничтожение частной поземельной собственности и не так трудно вообразимо, как подобная же мера в отношении к капиталу, и не столь трудно исполнимо и, наконец, не представляется необходимо столь опасным для интересов производства, и все это просто потому, что оно могло бы осуществиться без такого полного изменения и преобразования всей организации народного хозяйства, какое требуется отменою капитала". В доказательство Вагнер ссылается на то, что земледелие процветает и там, где обработка земли самими собственниками заменяется фермерским хозяйством. "Где, следовательно, на деле преобладает уже фермерское хозяйство, как в Англии, или где оно, как в наших государственных имуществах, оказывается выгодным при сравнении их с соответствующими крупными владениями, там, — говорит Вагнер, — вообще и специально уже представлено фактическое доказательство возможности обойтись без учреждения частной собственности в видах интересов производства" (§§ 344, 345).
Еще легче разрешает этот вопрос Лавелэ. Он просто ссылается на то, что если государство способно управлять железною дорогою, то почему же ему не взимать поземельной ренты посредством своих сборщиков?
На это весьма хорошо отвечает Леруа-Болье: "Г-н Лавелэ предается иллюзиям, — замечает он, — когда он воображает, что можно заменить инициативу этих тысячей поземельных собственников медленною, однообразною и педантическою бюрократиею государства. Землевладелец не есть то праздное, беспечное, нейтральное существо, каким его представляют, fmges consumere natus. У него своя существенная роль рядом с фермером, и когда он ее не исполняет, земля страдает или истощается. В чем состоит эта роль? В том, чтобы представлять будущее или постоянные интересы имения, тогда как фермер представляет только интересы настоящие и исчезающие. Во имя этого начала землевладелец противится всякой хищнической обработке, которая уничтожила бы или уменьшила производительные силы почвы; во имя этого начала он становится или должен быть двигателем, деятелем или помощником во всех улучшениях, рассчитанных на долгий срок. Идет ли дело о дренаже или орошении, о распашке новых земель или о перемене культуры, о возведении строений, которые дозволяют либо менее дорогое, либо более обильное производство, землевладелец должен вступиться; обыкновенно, он охотно на это идет. Кроме того, по своему происхождению землевладелец имеет иные качества, которыми обыкновенно не обладает фермер: ум его более просвещен; с меньшим знанием хозяйственной техники он обыкновенно лучше понимает широко интересы земледелия; он есть или должен быть для фермера советником и руководителем. Притом и капиталы его обильные; он часто получает их из других источников, нежели поземельный доход; уверенный в постоянстве владения и в передаче земли семейству, он не скупится на жертвы в настоящем в видах возвышения цены имения в будущем. Таким образом, заблуждаются те, которые в землевладельце видят только подкладку или паразита фермера; такова была некогда роль получавшего десятину, но не такова роль землевладельца. Тот, кто до такой степени унизил бы свое призвание, не замедлил бы разориться; достаточно свободы сделок, чтобы в короткое время земля нерадивого владельца перешла к владельцу предприимчивому"[185].
И точно, невозможно ожидать одинаково успешного производства там, где исчез один из самых существенных в нем деятелей, именно, хозяйский глаз. И если такова роль собственника в крупном хозяйстве, где он сохраняет за собою только роль надзирателя, то еще более это прилагается к мелкому. Относительно того упорства в труде и того умения извлекать выгоды из малейших обстоятельств, которые порождаются в мелком владельце чувством собственности, кажется, нет даже спора. Только с помощью этого чувства мелкое хозяйство может соперничать с крупным. Поэтому исчезновение крестьян собственников, так же как и образованных землевладельцев, было бы незаменимою потерею и для государства, и для народного богатства.
Но не только в виде настоящего владения частная поземельная собственность служит сильнейшим побуждением к производительному труду, а еще более как цель. Приобретение в собственность хотя бы клочка земли составляет высшую мечту земледельца. Для этого он работает упорно, неутомимо, и сберегает копейку за копейкою в течение всей своей жизни. Примером в этом отношении может служить французский крестьянин. У нас те же свойства имеет малоросс. И это составляет важнейшее условие для развития в крестьянстве самодеятельности и для поднятия его благосостояния. Там, где массе земледельцев не открыта эта перспектива, тщетно думать о прочном улучшении их быта. Там самые успехи земледелия зависят исключительно от более или менее образованного класса.
Но и последнему необходима приманка поземельной собственности, для того чтобы побудить его к предприимчивости. Любимая цель среднего и крупного землевладельца состоит в том, чтобы увеличить, округлить и улучшить свое имение. Эта цель наполняет его жизнь; в ней он находит центр всей своей хозяйственной деятельности. Самые капиталисты нередко мечтают о том, чтобы купить себе землю и стать в ряды землевладельцев, до такой степени поземельная собственность имеет в себе притягательную силу для человека. Отсюда то явление, что в странах, где капитал приносит до пяти процентов, поземельная собственность приносит не более двух или трех. Владелец крупного капитала соглашается поместить его менее выгодным образом, лишь бы сделаться землевладельцем. Он довольствуется меньшими материальными выгодами, с тем чтобы вознаградить себя выгодами идеальными, которые с точки зрения народного хозяйства не менее ценны, ибо они служат сильнейшим побуждением к труду.
Между тем все это должно исчезнуть с переходом земель в руки государства. У народного хозяйства отнимается приманка поземельной собственности, и граждане лишаются одной из существенных целей своей промышленной деятельности. Насколько расширяется государственная собственность, настолько стесняется частная промышленность. Прибавим, что чем выше стоит народное хозяйство, тем государственная собственность становится менее выгодною. Пока земли много, пока цена ее вследствие этого низка и в будущем предстоит значительное ее возвышение, до тех пор государство может оставлять значительную часть земель в своих руках, переводя в частную собственность лишь такое количество, какое потребно для частной предприимчивости. Но как скоро частный человек готов дать за землю более, нежели она стоит, так государству выгодно ее продать. Государство не имеет тех идеальных наслаждений, которыми вознаграждает себя частный собственник; в материальном же отношении ему прямой расчет заменить землю капиталом, приносящим более дохода, или уплатить долги, за которые оно платит больший процент, нежели оно получает за свои земли.
Против этого нельзя возразить, что государство обязано охранять интересы будущих поколений. Вообще говоря, интересам будущих поколений не следует жертвовать интересами настоящих: новые поколения являются наследниками существующих ныне и имеют право единственно на то, что им передается последними. Но тут и это соображение не имеет места. Если требуют, чтобы земля сосредоточивалась в руках государства, то это делается вовсе не с тем, чтобы будущие поколения сами стали собственниками, а напротив, с тем чтобы никто не был собственником. Интересы всех равно умаляются; всем заграждается путь к высшей цели хозяйственной деятельности. Единственный результат подобной меры будет тот, что вследствие уменьшения производительности земель и побуждений к труду будущие поколения получат меньшее наследие, нежели они получили бы без того. Бедность, а не богатство сулит им национализация земли, которая не что иное, как останавливающийся на полдороге социализм.
Наконец, невозможно не обратить внимания и на то, что поземельная собственность имеет не только экономическое, но также нравственное и политическое значение. На ней зиждется тот элемент, который составляет одну из существеннейших основ человеческой жизни, элемент, который древние считали святынею и который ныне легкомысленно ставится ни во что — домашний очаг. Все теории социалистов клонятся к уничтожению домашнего очага, так же как и к поглощению лица обществом. Их высший идеал состоит в том, чтобы превратить целый народ в чиновников, которым отводятся казенные квартиры[186]. Между тем с домом связаны самые высокие начала, одушевляющие человека: семейные предания, связь поколений, воспоминания детства, успокоение старости, забота об отдаленном потомстве, наконец, любовь к родине и ко всему тому, что соединяется с нею в человеческом сердце. Бесспорно, все эти чувства могут развиваться и на казенной квартире; но что с приобретением собственного, домашнего очага они получают бесконечно большую прочность и силу, что здесь они обретают центр, с которым связано все, что наиболее дорого человеку, это могут отрицать только те, которые или вовсе не знают человеческой души или в угоду предвзятой мысли хотят отвергать самые очевидные истины. В особенности для земледельческого быта домашний очаг имеет первенствующее значение. Без него сельская жизнь теряет половину своей возвышенной прелести и своего нравственного влияния на человека. Арендатор не имеет прочного домашнего очага; он сегодня здесь, а завтра там. На самую землю, которую он возделывает, он смотрит исключительно с точки зрения хозяйственного барыша. Только собственник и к своему дому, и к земле привязывается всем сердцем; на них сосредоточивается забота всей его жизни. Для него к хозяйственной цели присоединяется нравственная связь. В этом заключается существенная часть тех идеальных выгод, во имя которых он готов платить за землю более, нежели она стоит. Не всем, конечно, дано пользоваться благами поземельной собственности. Но для общества в высшей степени важно, чтобы она была распространена в возможно широких размерах и чтобы для каждого она составляла идеальную цель, достижимую работою, если не одного, то нескольких поколений. К этому должно стремиться государство, а не к тому, чтобы всю землю перевести в свои руки и превратить землевладельцев, прочно связанных с почвою, в случайных и временных арендаторов, лишенных домашнего очага и не имеющих к земле иного отношения, кроме получения выгоды.
Такое стремление противоречит и здравой политике. Ниже мы увидим, какой существенный элемент политической жизни составляет класс землевладельцев. В нем государство находит самую крепкую охрану общественного порядка и вместе независимую силу, способную противостоять всяким разрушительным влияниям, как сверху, так и снизу. Уничтожить его значит дать перевес всем бродячим стихиям, которые быстро приведут общественный строй к полному разложению.
Таковы, можно сказать, неопровержимые доводы против передачи поземельной собственности в руки государства. Большая часть из них имеет силу и против общинной собственности. И в этом вопросе, так же как и в вопросе о государственной собственности, дело идет не о существовании некоторых общинных земель рядом с частною собственностью, что весьма может быть допущено, а о сосредоточении, если не совокупности, то по крайней мере, значительнейшей части поземельной собственности в руках общин, так чтобы их члены являлись только арендаторами. Такое устройство многим представляется идеалом общественного быта. У нас эта теория некоторым образом находит практическое приложение в настоящем нашем крестьянском землевладении. Поэтому для нас этот вопрос имеет особенную важность.
Общины бывают двух разрядов: городская и сельская. Мы должны рассмотреть каждый из этих видов особо.
Против частной собственности в городах в последнее время сильно ополчаются некоторые экономисты. Так например, Адольф Вагнер, хотя он вообще не стоит за перевод всей поземельной собственности в руки государства, признает, однако, что городская собственность имеет особенности, которые делают оставление ее в частном владении нежелательным. Указывают на то, что выгодное положение в городе дает земле и построенным на ней домам чистый характер монополии. Ценность участков растет непомерно, вовсе не по вине владельцев, а просто вследствие умножения народонаселения и развития торговли. Владелец же пользуется случайно доставшимся ему привилегированным положением, для того чтобы высасывать деньги из нанимателей, с которых он берет монопольную цену. Отсюда развивающаяся в больших городах "квартирная нужда", которая особенно тяготеет над бедным населением и ставит массу жильцов в полную зависимость от немногих домохозяев. В свою очередь этим пользуется спекуляция, которая, рассчитывая на быстрое возвышение цен, скупает земли и делает постройки, с тем только чтобы получить барыш на разности цен. По всем этим причинам Вагнер считает полезным присвоение общине не только земельных участков, но и построенных на них домов, ибо только этим путем может быть уничтожена монополия частных лиц. Община должна от себя раздавать взаймы квартиры и пользоваться выгодами, проистекающими из развития городской жизни[187].
Нельзя не удивляться тому, что такой трезвый экономист, как Леруа-Болье, хотя он и не соглашается с заключением Вагнера, признает однако же за этою критикою значительную долю правды[188]. При внимательном разборе приводимых в пользу этой теории доводов, за ними едва ли можно признать какую бы то ни было силу.
Действительно, в больших городах выгодное положение имеет характер монополии, вследствие чего цены на землю и на кварталы растут иногда непомерно. Но самый этот рост с экономической точки зрения представляется выгодою, а не ущербом. Он составляет единственный противовес неудержимому стремлению народонаселения к большим городам. Те, которые хотят пользоваться преимуществами и удобствами городской жизни, естественно должны платить за это дороже; иначе никто не останется жить в провинции. В особенности стечение бедного населения в столицах составляет зло, которое именно в возвышении цен находит себе естественное противодействие. Без сомнения, при быстром росте городов, домовладельцы могут обогатиться в силу независящих от них обстоятельств; но кто же от этого теряет? За квартиры платят дорого, потому что иметь помещение на хорошем месте или выгодно, или удобно. Кто решается платить дорогую цену, тот находит в этом свой расчет, а так как никого не принуждают нанимать квартиру здесь, а не там, то ни о каком высасывании денег не может быть речи: подобное выражение не что иное как декламация. Притом и доходы домохозяев далеко не всегда верны. Известно, что расчеты на возвышение цен при подстройке домов часто не оправдываются. Даже в самых больших городах домохозяева нередко получают весьма небольшой процент на затраченный ими капитал. Общества, предпринимающие значительные постройки, вместо того чтобы пользоваться крупными дивидендами, разоряются и принуждены бывают ликвидировать свои дела. Спекуляция на дома, как и всякая другая спекуляция, может принести или барыш или убыток; и то и другое совершенно законно. Здесь всего менее желательно ее устранить, ибо именно она ведет к значительным постройкам, а вследствие того к уменьшению цен на квартиры. Выгодна та спекуляция, которая удовлетворяет общей потребности; невыгодная же разорительна для одних акционеров, а для города и для нанимателей возведенные постройки все-таки остаются барышом.
Во всяком случае замена множества мелких домовладельцев одним всеобщим домовладельцем, городом, нисколько не уменьшит проистекающего от монополии зла. Выгодное положение все-таки останется выгодным положением, а потому за него придется платить дороже. Если бы город вздумал брать одинаковую плату за помещения на бойком месте и в глухом и отдаленном переулке, он этим предоставил бы только чрезмерные преимущества одним нанимателям перед другими. Всякий захотел бы получить дешевую квартиру на хорошем месте, а так как на всех не достало бы помещения, то пришлось бы или метать жребий, или прибегать к каким-нибудь другим искусственным способам распределения. Сам Адольф Вагнер признает, что не в удовлетворении нанимателей заключается польза предлагаемой им меры, а в устранении тяжелой зависимости частного лица от другого частного лица, в присвоении выгод от возрастающих цен не праздному домохозяину, а деятельной общине, наконец, в уничтожении одного из самых дурных видов спекуляции, какие встречаются в народном хозяйстве.
Трудно понять, каким образом от достижения этих целей может произойти какая бы то ни было польза для народного хозяйства. Почему, в самом деле, зависимость нанимателя от домохозяина представляется более тяжелою, нежели зависимость того же нанимателя от городского управления? Частный домохозяин может поднять цену; но ведь и город может сделать то же самое. Разница лишь та, что для частного домовладельца пустующая квартира составляет существенный ущерб его имуществу, а для города весьма ничтожный. Можно думать также, что от частного домовладельца легче добиться переделок и поправок, нежели от городского управления, занятого обширными делами и изъятого от всякого состязания, а потому совершенно равнодушного к удобствам тех или других частных нанимателей. Пришлось бы действовать путем личных происков или возводить переделку каждого помещения на степень общественного вопроса. Но ведь такое положение гораздо более невыносимо, нежели отношения частного найма. В сущности, когда Вагнер говорит вообще о тяжелой зависимости от частных лиц и об эксплуатации одних другими, то в этом трудно видеть что-нибудь, кроме общей фразы, заимствованной из социалистического арсенала. Без сомнения, всегда были и будут случаи, где, с одной стороны, является нужда, а с другой — притеснение. Есть немилосердные домохозяева, прогоняющие бедных нанимателей, точно так же есть немилосердные кредиторы, требующие уплаты от бедных должников. Но из первого столь же мало можно вывести общее заключение против частных квартир, как из последнего против частных долгов. Такого рода прием не может иметь притязания на научное значение.
Точно так же нельзя не причислить к пустой фразеологии противопоставление "праздного" домохозяина "деятельной" общине. Справедливо, что цены на квартиры могут возрасти вследствие прилива народонаселения и что эта выгода при замене частной собственности городскою достанется не частному лицу, а обществу. Но может случиться и обратное движение, и тогда город разорится. Самая прибыль от возвышения цен с избытком покроется увеличением расходов и уменьшением доходов, неизбежно связанных с заменою частной деятельности общественною. И тут вместо тысячей частных лиц, движимых собственным интересом, является юридическое лицо с общими задачами, с громадным управлением и со всеми темными сторонами бюрократического делопроизводства. Конечно, общество не будет спекулировать, как частные лица; распоряжаясь общественными деньгами, оно не имеет даже на это права. Спекуляция будет устранена; но зато город лишится и выгод спекуляции. Будет меньше построек, меньше квартир, следовательно более тесноты. Личная предприимчивость и самодеятельность, составляющие главный источник народного богатства, совершенно исчезнут из этой области. Вместе с тем для богатого и бедного равно закрывается возможность приобрести в городе свой собственный дом и основать там свой домашний очаг. Если, наконец, мы ко всему этому прибавим, что городское управление может находиться в весьма неблагонадежных руках, если мы вспомним неразлучную с общественным самоуправлением борьбу партий и подумаем, что распределение жилищ тысячей и даже миллионов людей может находиться всецело в руках большинства, выбранного чернью, чему пример представляют некоторые нынешние муниципальные советы в западной Европе, то мы несомненно придем к убеждению, что предложенная Вагнером мера есть не более как одна из тех странных фантазий, которые рождаются в головах социалистов кафедры и которые идут прямо вразрез с требованиями действительной жизни. Все то зло, которое чувствуется иногда в больших городах, может только удесятериться вследствие превращения частной собственности в общественную. Относительно же малых городов подобная мера лишена всякого смысла.
Не более веса имеют и доводы в пользу общинной собственности в селе. Но приверженцы последней могут по крайней мере опираться на исторические примеры. Сосредоточение всей городской собственности в руках общины никогда не существовало на деле; это не более как мечта новейших социал-политиков. Сельское же общинное владение составляло первоначальную форму поземельной собственности во всем человечестве; оно имеет свою многовековую историю и доныне еще сохраняются многочисленные его остатки. Чтобы понять гражданское и экономическое его значение, мы должны бросить взгляд на историческое развитие этого учреждения.
Было время, когда общинное владение считалось особенностью тех или других народов. Новейшие исследования показали всеобщее его распространение на низших ступенях общественного быта. Корень его лежит в кровной связи, под влиянием которой жило первобытное человечество. Гражданский порядок составляет плод позднейшего развития; первоначально люди не знали иного союза, кроме кровного родства. Этот союз заменял им все остальное; в нем исчезла самая личность, которая только вследствие многовекового развития пришла к сознанию своей самостоятельности и своей свободы. Как уже было сказано выше, лицо первоначально не выделяется из окружающей его среды, и такою средою является именно кровный союз.
Вследствие этого при первоначальном занятии земли люди обыкновенно селятся не в одиночку, а племенами и родами. Род есть разросшаяся семья, племя — разросшийся род. Последнее раскидывается на более или менее широкое пространство; роды же остаются соединенными на местах: они образуют первобытные общины. Так как здесь не выделилось еще лицо с своими самостоятельными интересами, то здесь нет и частной собственности. Первоначально хозяйство ведется сообща, и произведения разделяются между членами союза. Затем, когда род разрастается и из него выделяются отдельные семьи, каждая из них обрабатывает свой участок; но она получает его только в виде временного владения. Собственником является образующий общину род, и поля переделяются между отдельными домохозяевами, либо ежегодно, либо по истечении известного периода. Так как все члены рода равны, то они получают равные участки; только старшие, имеющие власть, могут получать лишнее. Таково было устройство сельской общины у древних германцев, у кельтов; такие же учреждения сохранились доселе у разнообразнейших народов в отдаленнейших местах земного шара. Мы находим их в Индии, на Яве. В Индии доселе община держится сознанием кровного родства, действительного или мнимого, которое заменяет действительное, когда естественная связь наконец слабеет. Все члены общины считают себя происходящими от одного родоначальника, и если принимаются посторонние, то они вступают в те же отношения и подчиняются тому же распорядку[189].
С течением времени, однако, это первобытное устройство разрушается в силу необходимого исторического процесса. Кровное родство только на первых ступенях служит связью человеческого общежития. Мало-помалу из этой безразличной среды выделяется личность, истинная носительница человеческих начал. В общину вступают посторонние; происходит смешение разнообразных элементов; гражданские начала заменяют сознание родства. С тем вместе и общинное владение постепенно уступает место частной собственности.
Этот исторический процесс разложения первобытной общины всего яснее можно проследить на германской марке, которая весьма хорошо исследована Маурером. Уже в незапамятные времена рядом с общинным владением мы находим отдельные дворы. Поселяясь в пустыре, куда никогда не заходила человеческая нога, новый колонизатор расчищает лес, строит себе хижину и становится владельцем отдельного участка. Впоследствии это образование самостоятельных участков путем заимки, даже в пределах общинных земель, постоянно признается законным основанием частной собственности. Земли было много, и община не имела никакого интереса в том, чтобы полагать предать личной предприимчивости и отнимать у человека плоды его трудов. Если он, занявши пустырь или расчистивши лес, огораживал свой участок, то он тем самым выделялся из поземельного общинного союза; но вместе с тем он лишался и своего права на остальные земли. Таков был один из способов, посредством которых из общинного владения стала выделяться личная собственность[190].
Другой способ состоял в том, что переделы стали делаться реже и реже, и наконец прекратились совершенно. Вследствие этого право владения незаметно перешло в полную собственность. Полевые участки стали считаться неотъемлемою принадлежностью домохозяев[191]. Совокупным владением общины остались только угодья, главным образом пастбища и леса. Относительно же пахотных земель следы прежнего порядка сохранились в выпасе скота на паровом поле и на отаве и в проистекающей отсюда необходимости держаться однородной системы обработки смежных полей.
Наконец, полное разложение поземельной общины совершилось вследствие наплыва посторонних элементов. Сознание кровной связи, которое служило основанием всего общественного устройства, не могло долго удержаться при постоянных передвижениях народов. От нее сохранился только общий тип, в который могли вмещаться и чуждые элементы. Пока земли было много, община охотно принимала новых членов, которые помогали ей нести податное бремя. Но когда, вследствие умножения народонаселения и выделения значительной части общинных земель в частные руки, земли стало мало, община естественно начала замыкаться, и если она принимала посторонних, то уже без права участия в общественных угодьях. Полноправным членом общины постороннее лицо могло сделаться, только заступивши место выбывающих членов. Так как право на участие в общинном владении сделалось принадлежностью не лиц, а дворов, то покупкою двора или доли двора приобреталось соответствующее право или доля права на угодья. Этим способом еще в средние века монастыри и частные владельцы скупили множество общинных земель. В позднейшее время рушилась даже и эта связь между правом на угодья и двором. Идеальная доля участия в угодьях стала продаваться отдельно. Вследствие всего этого в общине вместо равноправных членов явились различные разряды лиц с совершенно неравными правами: полноправные хозяева, лица, имеющие идеальную долю участия в угодьях, лица, которым в виде милости уделялись некоторые права, наконец, совершенно бесправные. Вместо одной общины образовались две: одна местная, состоящая из совокупности жителей, другая привилегированная, состоящая из лиц, имеющих исключительное право на угодья. Между этими двумя классами, аристократиею и демократиею, естественно должна была возгореться борьба, которая привела к различным результатам. В иных местах привилегированная община осталась владычествующею, вследствие чего удержался прежний порядок. В других случаях демократия, составлявшая большинство, взяла управление в свои руки, но право на угодья осталось за меньшинством, которое среди совокупной административной общины образовало более тесную привилегированную поземельную общину. Через это общинное владение превратилось в частную собственность известного разряда лиц. Наконец, в некоторых общинах торжество демократии повело к уравнению как политических, так и поземельных прав; но вместе с тем большею частью рушился весь прежний порядок общинного владения[192]. В этой борьбе демократии с аристократиею Мэн видит главную причину разложения первобытного общинного союза[193]; но, в сущности, этим был нанесен ему только окончательный удар. Разложение совершилось постепенно, различными путями, вследствие выделения лица, с его правами и интересами, из поглощавшей его первобытной среды. Этому необходимому историческому процессу не могла противостоять община, устроенная по типу кровного союза; она должна была пасть. Следы ее остались только в захолустьях, куда не проникала историческая жизнь.
Совершенно иную историю имело общинное владение в России. По аналогии со всеми другими народами можно думать, что и здесь первоначально родовая община совокупно владела землею. На это указывает господство родового быта в первые времена русской истории. Известно выражение летописца: "живуще кождо с родом своим, володеюще родом своим". Но собственно документальных сведений о форме поземельной собственности в этот период мы не имеем. Когда же начинают появляться исторические документы, то есть в XV веке, мы находим поземельную общину уже совершенно разложившеюся.
Условия древнерусской жизни сильно способствовали этому разложению. Патриархальный тип общины может сохраниться только там, где роды сидят на местах, более или менее разобщенные друг с другом. Историческая жизнь проносится по их поверхности, не затрагивая их корней, приросших к земле. Напротив, бродячая жизнь населения и проистекающее отсюда смешение элементов неизбежно ведут к разрушению патриархального быта. А именно такая бродячая жизнь господствовала в России в средние века. Крестьяне, так же как бояре и слуги, переходили с места на место, селились там, где им было удобно, и охотно покидали свои участки, как скоро поселение на другом месте представляло им более выгоды. С своей стороны землевладельцы и свободные общины старались переманивать их к себе и прикреплять их к земле всякими льготами. Они не только не думали ограничивать права их на занимаемые ими участки, но рады были иметь поселенцев пожизненных и даже потомственных. При обилии земли и скудости населения иначе и не могло быть. Никому не было нужды переделять землю, которой значительная часть вечно находилась впусте. Всякий селился, где хотел, и занимал пространство, "куда топор, соха и коса ходили".
При незначительности землевладельческого элемента, обширные пространства оставались во владении свободных общин. Однако же эти так называемые "черные волости" не считались собственниками земли. Черная земля признавалась собственностью князя, обстоятельство, которое играло весьма значительную роль в последующем развитии поземельных отношений. Мэн замечает, что в истории учреждений необходимо различать двоякий элемент: самое племя и его начальника. Отсюда, в приложении к поземельной собственности, двоякое историческое движение: с одной стороны, выделение личности из совокупных прав союза, с другой стороны, расширение прав начальника[194]. Вернее, может быть, отправляться от различия собственности родовой и племенной, из которых первая присваивается роду, а последняя князю, как представителю племени. Но к этому качеству везде, где происходило завоевание, у князя присоединяется другое, именно, значение начальника дружины, которому по этому самому присваиваются завоеванные земли, не состоящие в личном владении. Таким образом, первоначальная родовая собственность разлагается, с одной стороны, личным элементом, с другой стороны, распространением княжеского права на все общественные земли.
У германцев король мало-помалу стал считаться собственником всех земель, не находившихся в частном владении[195]. В России это начало приняло самые широкие размеры. Все, что не принадлежало служилым людям и церковным установлениям, считалось собственностью князя. Не только пустопорожние земли, но и потомственные участки крестьян постоянно обозначаются словами: "земля Великого Князя, а нашего владения". Это право собственности князя выражалось, с одной стороны, в тягле, то есть в лежащих на земле податях и повинностях, с другой стороны, в том, что черные земли князь мог беспрепятственно жаловать частным лицам и монастырям. То, что не было роздано или обращено в дворцовое имущество, оставалось в распоряжении волости, на которой лежало тягло и которая отвечала за него круговою порукою. Волость раздавала земли новым поселенцам, сколько каждый хотел взять, с тем только условием, чтобы он нес соответствующее тягло, причем ему давались и льготные годы. Полученная таким образом земля, которая все же считалась собственностью князя, приобреталась в вечное и потомственное владение. Крестьянин мог делить ее между детьми, продавать и даже отдавать "по душе" в монастырь, с тем только, чтобы с участка продолжали уплачиваться лежащие на нем подати и повинности. Ни о каком ограничении права, ни еще менее о переделе, не было речи[196].
Все это, однако, должно было измениться с укреплением крестьян. В противоположность тому, что совершилось в новое время в Западное Европе, Россия перешла не от крепостного состояния к свободе, а от свободы к крепостному состоянию. С этим вместе и поземельные отношения приняли совершенно новую форму. Свобода разрушила поземельную общину; крепостное состояние ее восстановило. Естественно, что при укреплении к местам отношения крестьян к земле не могли оставаться такими же, какими они были во времена вольного передвижения. В средние века люди были свободны, а тягло лежало на земле. Но при обилии земли и скудости населения, когда не земля, а рабочие руки давали доход, подобная система не могла соответствовать государственным потребностям. Это и было одною из главных причин укрепления крестьян: для того чтобы земля давала доход, надобно было удержать на ней население. Но так как главный источник дохода все-таки заключался в рабочей силе, то подати, естественно, были перенесены на людей, а земля стала раздаваться им как средство нести наложенное на них тягло. Вместо свободного договора с отдельными лицами наступил общий надел. А так как лица были равны, то естественно было наделять их поровну. С уменьшением же количества земли и с водворением неравенства должен был наступить передел. Этот порядок одинаково водворился в частных владениях и на государственных землях, ибо в обоих случаях положение крестьян и отношения их к земле были одинаковы. Земля принадлежала не им, а владельцу; поселенные же на ней крестьяне были крепостные люди, лишенные всяких прав и получавшие землю как средство для отбывания повинностей.
Исключение составляли только те местности, куда не проникло укрепление или где оно не было вполне приложено. Таковы были обширные северные пространства, наполненные черносошными людьми. Здесь продолжались и переходы крестьян с места на место и свободное отчуждение земель; хотя правительство старалось положить этому предел, однако отрывочные его меры не помогали. Только в <середине> XVIII века, когда общими Межевыми Инструкциями велено было на каждую душу отмежевать известное количество десятин земли с запрещением ее отчуждать, и тут введено было общинное владение. Этот пример бросает яркий свет на возникновение у нас общинного владения и на причины его вызвавшие[197].
Точно так же ушла от общинного владения и Малороссия. Здесь укрепление крестьян совершилось только в половине XVIII века, при Екатерине II. Но отбирать частные земли у малороссийских крестьян было не так легко, как на пустынном Севере; казаки крепко за них держались, вследствие чего здесь сохранилось личное владение.
Наконец, оно удержалось и у однодворцев относительно тех земель, которые принадлежали им в собственность. Напротив, те земли, на которых они были положены в подушный оклад, подверглись общему наделу с запрещением отчуждения. И тут вследствие Межевых Инструкций водворилось общинное владение. Этот пример служит опять явным доказательством исторического значения этого учреждения и причин его произведших. Оно возникло у нас не в силу издревле идущего обычая, а вследствие того, что бесправное насилие сидело на чужой земле, помещичьей или казенной, и наделялось поголовно, без всякого внимания к тому, что лицо могло приобрести своею собственною деятельностью. У государственных крестьян в особенности это было приложением древнего правила, что черная земля составляет собственность князя. Пока крестьяне были свободны, княжеское право выражалось в тягле; с укреплением же их и с возрастающим при этом бесправием, это начало привело, наконец, к тому, что существовавшее исстари личное владение, переходившее потомственно, было уничтожено, земли были отобраны у владельцев и поделены поровну между крепостными крестьянами. Тут мы видим уже не остаток первобытных патриархальных порядков, а чисто искусственное учреждение, порожденное крепостным правом. Развитие общинного владения в России составляет в этом отношении драгоценный вклад в историю сельской общины, которую она освещает с особенной стороны. Какой же общий вывод можем мы сделать из этих исторических данных? Скажем ли мы, как некоторые защитники общинной собственности, что она составляет всеобщее и коренное человеческое учреждение, тогда как личная собственность есть не более как поздний пришелец, который может иметь значение только исторической категории? Такой вывод был бы извращением законов человеческого развития. Из того, что в первобытные времена, при господстве кровной связи, общинное владение составляло всеобщее явление человеческой жизни, вовсе не следует, что таково именно нормальное устройство человеческих обществ. Мы уже не раз указывали на то, что в развивающемся существе нормальное состояние является плодом развития. Нормальный человек — взрослый, а не ребенок. Развитие человеческих обществ в силу непреложного закона ведет к свободе, следовательно, и к частной собственности. Этот закон яркими чертами написан на всей истории человечества, которая вследствие этого изображает нам постепенное разложение первобытной общины и выделение из нее личной собственности. Но так как развитие свободы не представляет непрерывного процесса, который тянется через всю историю без затмений и без промежутков, так как в жизни народов бывают времена, когда, напротив, необходимо бывает стеснить свободу во имя общественного начала, то с этим вместе является и возможность подчинения личной собственности общественной. Таково именно было положение России при возникновении Московского государства. Чтобы создать и скрепить это громадное тело, нужно было порабощение всего народонаселения. Все должны были в продолжение всей своей жизни вести тяжелую службу государству. Личные права более и более исчезают; крепостное состояние распространяется на все отношения. С тем вместе исчезает и личная собственность у низшего народонаселения, на котором всего более отразилось общее бесправие. Но порядок, пригодный для крепостного состояния, непригоден для свободы. Последняя в развивающемся обществе окончательно берет верх, а с тем вместе наступает неизбежно разложение общественной собственности личною. Это именно та задача, которая предстоит России в настоящее время.
Каково бы ни было однако происхождение общинного владения, порождено ли оно патриархальным бытом или крепостным правом, то есть такими учреждениями, которые должны исчезнуть с высшим гражданским развитием, остается еще вопрос: не содержит ли оно в себе таких начал, которыми можно воспользоваться и в гражданском порядке, допускающем свободу? Защитники общинного владения утверждают, что этим способом сохраняется в обществе равенство и устраняется пролетариат, тогда как личная собственность неизбежно ведет к обеднению одних и к обогащению других, а с тем вместе к развитию пролетариата, главной язвы современных европейских народов.
Что личная собственность ведет к неравенству, в этом нет сомнения; таков непреложный закон свободы. Мы видели уже, что неравенство составляет необходимое последствие свободы; вместе с тем оно составляет первое условие всякого движения и всякого общественного развития. Уничтожить неравенство можно только подавляя свободу и искусственно удерживая население на низшем уровне. Это и есть неизбежное последствие общинного владения. Но выгод от этого не получается никаких. Общинное владение не предотвращает пролетариата, ибо с умножением населения у каждого становится так мало земли, что все равно обращаются в нищих. Разница с порядком, основанным на личной собственности, заключается единственно в том, что вместо некоторых пролетариями делаются все. И это не предположение, а факт, который признается даже ревностными защитниками общинного владения. Так Лавелэ, описывая общинное владение на острове Яве, говорит; "…это приращение народонаселения производит умаление доли каждого земледельца, при периодическом переделе земли. В. Бергсма рисует в этом отношении истинно ужасающую картину существующего порядка… Земледельцы утверждают, что они получают только половину или четверть тех участков, которые обрабатывались их отцами… Главная выгода, которая приписывается периодическому переделу, заключается в предотвращении пролетариата. Между тем, говорит Бергсма, именно эта система скоро обратит всех яванцев в население чистых пролетариев. Равенство сохраняется, но равенство нищеты"[198].
Могут возразить, что там, где народонаселение не возрастает чрезмерно, этих последствий нельзя ожидать и что во всяком случае излишние руки вольны выселяться. Но это возможно и при личной собственности. Если защитники общинного владения ссылаются на некоторые захолустья в Швейцарии, где люди при общинном владении живут благополучно, то можно привести еще более примеров мелкой собственности, ведущей к всеобщему достатку. Еще Мальтус, говоря о выгодах умеренного возрастания народонаселения, указывал на норвежских хлебопашцев, которые, несмотря на суровость климата и неблагодарную почву, при личной собственности пользуются значительным благосостоянием. Если же мы принуждены прибегать к переселению, то этим самым мы признаем, что общинное владение не предупреждает пролетариата, и тогда зачем оно нужно? Излишек народонаселения можно переселять и при личной собственности. Разница та, что когда в общине становится тесно, крестьянин землевладелец может продать свой участок и уйти с капиталом, а при общинном владении он уходит с пустыми руками и на новом поселении является нищим. Вследствие этого он и не привязывается к земле, а готов всегда ее покинуть и принять привычки бродяжничества, которые всего более содействуют образованию пролетариата.
Окончательно вопрос о пролетариате сводится к отношению средств продовольствия к народонаселению. Чтобы решить его в пользу общинного владения или личной собственности, надобно спросить: который из этих двух порядков более содействует производительности почвы и соразмерному с усилением производства умножению народонаселения? В обоих отношениях личная собственность имеет значительные преимущества.
Сами защитники общинного владения признают, что частые переделы вредно действуют на хозяйство. Землевладелец не имеет интереса в хорошей обработке участка, который завтра может быть у него отнят. Вследствие этого они предлагают систему долгосрочных переделов. Но и при последней все-таки исчезает весь тот интерес, который собственник имеет к своему участку и который служит сильнейшим побуждением к производству; следовательно, производительность неизбежно уменьшается, напрасно ссылаются на высокую степень развития, которой достигает фермерское хозяйство. Мы видели уже, что эта аналогия — совершенно ложная. Безличная община не в состоянии заменить хозяина, который сам наблюдает за своим имением, заботится о его улучшении и всегда может согнать нерадивого арендатора. В этом отношении община находится даже В худшем положении, нежели государство. Если, с одной стороны, она ближе стоит к делу, то, с другой стороны, она вполне зависит от своих членов, из которых каждый имеет право требовать себе равного с другими участка, а потому является вполне независимым в своем хозяйстве. Тут высшее наблюдение немыслимо. Все невыгоды мелкого хозяйства действуют здесь в полной силе, а отсутствует именно главная его выгода, то чувство собственности, которое заставляет мелкого владельца с изумительным трудолюбием обрабатывать землю, сросшуюся некоторым образом с самою его личностью и со всем его существованием, та выгода, которая одна в состоянии поднять производительность мелкой собственности к уровню крупной. Поэтому напрасно мечтать о поднятии земледелия и в особенности об интенсивной культуре там, где распространено общинное владение. Это две вещи несовместимые.
Уменьшая производство, общинное владение, с другой стороны, ведет к чрезмерному умножению народонаселения. Личный собственник сам заботится о своих детях; он знает, что они кроме него ни от кого ничего не получат. Это чувство служит сильнейшею уздою поспешных браков, и легкомысленного размножения семейств. Там, где его нет, напрасны все заботы о народном благосостоянии. Но именно оно уничтожается общинным владением. При таком устройстве члену общины нечего заботиться о детях. Они получают свое наследие не от него, а от общества, и хотя этим стесняется доля остальных, но ему какое до этого дело? Он размножается на чужой счет. Если общинное владение возвести в юридический принцип и провести его последовательно, то взамен права членов требовать себе участка, необходимо дать общине право контролировать браки и деторождение, то есть установить невыносимейшее вмешательство общества в семейные дела, какое можно себе представить.
С беззаботностью о детях связана беззаботность и во всех других отношениях. Личный собственник знает, что он сам устроитель своей судьбы. Этим возбуждается в нем та самодеятельность, без которой нет высшего развития. Член общины, где господствует общее владение, напротив, слагает половину заботы на общество. Через это не только умаляется в нем самодеятельность, а следовательно и производительность его труда, но в нем рождаются совершенно превратные понятия об отношении лица к обществу. Он привыкает думать, что общество обязано наделять имуществом своих членов, а это и есть то социалистическое начало, которое, последовательно проведенное, ведет к разрушению всех истинных основ гражданской жизни.
Могут возразить, что государство обязано заботиться о тех своих членах, которые не в состоянии сами за себя стоять. С этой точки зрения общинное владение представляется совокупным наследием низшей, беднейшей части народонаселения, рядом с которым может быть допущена и личная собственность, как область открытая для самодеятельности и предприимчивости. В таком именно виде вопрос ставится у нас. Требуют, чтобы каждому крестьянину был обеспечен кусок земли, а затем отдельным лицам не возбраняется приобретать и личную собственность.
В такой форме общинное владение представляется благотворительным учреждением, имеющим целью обеспечение неимущих.
Но подобное употребление поземельной собственности равно противоречит и требованиям народного хозяйства и самому значению благотворительности. В правильном гражданском порядке, основанном на свободе, помощь неимущим может состоять в доставлении им пропитания или в приискании им работы, а никак не в наделении их землею. Имущество приобретается собственною деятельностью, а не получается в виде подарка от общества. Даровой надел есть социалистическое начало, которое должно быть безусловно отвергнуто. Если притом это наделение представляется как право, то благотворительность совершенно извращается, и социалистическим понятиям открываются двери настежь.
С точки же зрения народного хозяйства наделение землею неимущих есть самое худшее употребление, какое можно из нее сделать. Для того чтобы земля давала, что следует, надобно, напротив, чтобы она находилась в руках имущих, которые одни в состоянии приложить к ней достаточное количество труда и капитала. И чем выше хозяйство, тем это требование становится настоятельнее. При интенсивной культуре наделение землею беднейшей части населения наносит величайший ущерб производительности, следовательно, и тем самым классам, которые имеется в виду обеспечить.
Проистекающий отсюда вред для народного благосостояния представляется еще громаднее, если мы сообразим, что требование идет на обеспечение не только случайно обедневших, а целой массы крестьянского населения, которое все закрепощается в общинном владении. Последнее в этой системе должно составлять не исключение, а правило. Главным зерном крестьянской собственности являются общинные земли, а затем отдельным лицам, возвышающимся над массою, предоставляется приобретать участки на стороне. Такой порядок не что иное как обречение массы крестьянства на постоянную бедность под видом обеспечения его быта.
У нас это тем менее может быть допущено, что со времени освобождения крестьян земля, составляющая их надел, покупается ими на собственные трудовые деньги. Земли, принадлежащие общинам в других странах, составляют остаток первобытных поселений, не перешедший в частные руки. У нас же земля, находящаяся в общинном владении, принадлежала доселе не общине, а казне или частным лицам; крестьяне приобретают ее путем выкупа. Но никогда еще не было видно, чтобы земли, покупаемые членами общины, принадлежали не им, а общине. Это было бы чисто социалистическое начало, идущее наперекор самым элементарным правилам гражданского быта. А именно это и совершается у нас теперь. Каждый крестьянин платит не только проценты, но и капитальную сумму за то количество душевых наделов, которое находится у него во владении. Если бы произошел новый передел и часть этой земли была бы у него отнята, то он был бы лишен имущества, за которое он платил собственные деньги. Подобная мера была бы чистою конфискациею, или, правильнее, грабежом. А между тем к этому именно ведет существующий ныне порядок. При умножении одних семейств и умалении других первоначальная равномерность наделов должна исчезнуть; неизбежно произойдет неравенство. А так как при умножении народонаселения количество крестьян с уменьшенными наделами будет превосходить количество крестьян с более или менее крупными наделами, то большинство несомненно окажется в пользу передела. Но передел при таких условиях был бы ни более ни менее, как ограблением меньшинства богатых большинством бедных. Правительство, которое допустило бы подобную меру, открыло бы доступ самым превратным понятиям о собственности в среде крестьянского сословия. Теперь именно настало время утвердить те начала, без которых нет правильного гражданского порядка. Иная политика прямо действует в руку социалистам и готовит несметные затруднения в будущем[199].
Наконец, нельзя себе представить, чтобы в свободном гражданском порядке, где все лица признаются равно полноправными, существовали рядом две части народа, живущие под совершенно различными формами гражданского быта. Такой разрыв между высшими классами и низшими возможен при крепостном праве, где одни являются рабовладельцами, а другие порабощенными. Но как скоро водворяется общая свобода, так неизбежно должны установиться общие гражданские нравы, понятия и учреждения. Тут непременно произойдет одно из двух: либо господствующая в высших слоях частная собственность разложит наконец общинное владение, либо общинное владение сделается основным началом всего гражданского быта, сверху донизу. Но последнее было бы равносильно водворению социализма. А так как социализм противоречит всем коренными началами гражданского благоустройства и человеческого общежития, то остается только первое. В нем заключается будущность русского народа, которому при обилии земель менее всего можно опасаться пролетариата, а потому менее всего можно дорожить сохранением общинного владения.
Единственный сколько-нибудь серьезный довод, который можно представить в пользу сохранения у нас в настоящее время общинного владения, состоит в опасении повального обезземеления крестьян, которые, будучи предоставлены себе, могут распродать свои участки и остаться батраками. Но этот вопрос вовсе не имеет необходимой связи с общинным владением. Обезземеливанию крестьян можно противодействовать не сохранением права собственности за общиною, а воспрещением отчуждать участки. В пользу такого воспрещения, как временной меры, можно привести довольно веские соображения. Народонаселение, которое в течение веков было крепостным и лишено было собственности, легко может при получении свободы размотать свое достояние, тем более что денежные средства его скудны, и оно не успело приобрести необходимых для прочного благосостояния привычек бережливости, трезвости и трудолюбия; при таких условиях оно как раз попадет в руки кулаков и мироедов, которые воспользуются его неопытностью для собственных выгод. Поэтому, освобождая крестьян, государство может найти необходимым еще некоторое время держать их под своею опекою, прежде нежели предоставить их полной свободе. Все это можно допустить, но если окончательная цель государства состоит в том, чтобы поставить крестьян на собственные ноги, то именно этой цели всего более может содействовать упрочение личной собственности, ибо только при этом условии у крестьян могут развиться те чувства и привычки, которые требуются от домохозяина, привыкшего полагаться на себя, а не на других. При общинном же владении они останутся вечными младенцами. Такое положение несовместно с тем новым гражданским порядком, в котором они предназначены жить. Этот порядок весь основан на свободе; в нем человек должен сам устраивать свою судьбу и сам за себя отвечать; а это необходимо влечет за собою личную собственность, как последствие и опору свободы. Таким образом, и этот довод обращается против общинного владения.
Следует ли после всего этого признать свободную собственность окончательною целью человеческого развития? Не так давно еще это считалось аксиомою в политической экономии; но в настоящее время многие в этом сомневаются. Не далее как несколько месяцев тому назад вышла брошюра одного из замечательнейших ученых Германии, Лоренца Штейна, в которой этот заслуженный писатель, к сожалению увлекшийся общим потоком, объявляет, что свободная собственность неизбежно ведет к разорению как землевладельцев, так и арендаторов, вследствие чего в видах спасения поземельной собственности он взывает к вмешательству государства[200]. Этот вопрос касается самых животрепещущих интересов дня; а потому мы должны на нем несколько остановиться.
Штейн видит троякую опасность в порожденной новою историею свободе собственности: эксплуатацию фермера землевладельцем, эксплуатацию землевладельца капиталистом в виде кредитора, наконец, подрыв европейского земледелия вследствие свободы торговли и конкуренции Северной Америки. Первый вопрос он называет ирландским, второй континентальным, третий трансатлантическим.
Ирландский вопрос, по его мнению, не есть исключительно вопрос местный. В Ирландии он только обострился, но он имеет общее значение. У всех европейских народов вследствие свободы собственности рушились все прежние связи, прикреплявшие подчиненного владельца к земле. Землевладелец и съемщик остались друг против друга, как два совершенно независимые одно от другого лица, которых отношения определяются чисто на основании свободного договора. В этом отношении землевладелец является капиталистом, а фермер работником. Но капитал всегда стремится в увеличению своего дохода и имеет на то законное право. Работник же не в состоянии противостоять этому стремлению, вследствие чего капиталист, пользуясь своим преимуществом, отнимает у него всякую прибыль, так что фермер наконец не может уже возобновлять свой капитал. Отсюда рождается отношение между лишенною капитала работою, с одной стороны, и праздным капиталом, с другой, отношение, которое составляет сущность всякого социального вопроса (стр. 98-103).
Каким же образом может землевладелец заставить свободного арендатора платить ему такую наемную цену, что уже для самого съемщика не остается прибыли? По мнению Штейна, это делается посредством устройства возможно меньшего объема ферм и установления возможно коротких сроков аренды. Через это фермер ставится в полную зависимость от землевладельца. Конечно, ему остается исход, именно, самому купить участок земли; но землевладельцы, которые держат в своей зависимости государственную власть, препятствуют достижению этой цели учреждением фидеокоммиссов, закрепляющих землю в руках настоящих собственников. Все управление обращается в пользу владычествующего класса, и арендатору запирается всякий выход. Результатом является постепенное его обеднение; а так как с этим сопряжен упадок земледелия, то он наконец не в силах платить требуемую ренту. Сам землевладелец вследствие этого беднеет. Наконец, он прогоняет арендатора с участка, не приносящего более дохода, и пользуется землею уже для своего удовольствия. Водворяются латифундии с свойственным им способом хозяйства. Фермер же, лишенный средств пропитания, уходит в город, где он становится чернорабочим, или же он падает на попечение общественного призрения, или, наконец, он выселяется из страны. "Я полагаю, — говорит автор, — что ни один из наших читателей не усомнится в том, что мы говорим о положении Англии и Шотландии" (стр. 117–125).
Если бы почтенный автор не сделал этого замечания, то едва ли можно было бы догадаться, о какой стране идет речь. Известно, что в Англии фермерское хозяйство не только не привело земледелия к упадку, а напротив, довело его до такой высоты, как ни в одной европейской стране. Известно также, что в Англии не господствует система возможно мелких ферм, а напротив, преобладают фермы более или менее обширных размеров: 85 процентов всей обработанной земли разделены на фермы, имеющие средним числом до 168 акров или с лишком 62 десятины. Английский фермер — капиталист, получающий относительно больший доход, нежели землевладелец, ибо он с своего капитала получает 10 процентов, из которых 5 можно считать собственно процентами, а 5 прибылью, тогда как землевладелец получает не более двух или трех. Поэтому не только фермеры не стремятся сделаться поземельными собственниками, а происходит совершенно обратное явление: мелкие собственники продают свои участки, с тем чтобы сделаться фермерами. В конце XVI века в Англии было до 160000 мелких землевладельцев; в 1816 г. их было всего 32000, а в 1831, кроме корпораций и церквей, не более 7200. Все остальные добровольно продали свои участки, с тем чтобы сделаться фермерами или капиталистами. И немудрено: мелкий собственник, обратившийся в фермера, получает втрое более дохода, нежели прежде. Когда зажиточные классы готовы заплатить за землю гораздо более того, что она стоит по сравнению с капиталом, то выгодно ее продать[201]. Поэтому совершенно неверно изображение отношения землевладельцев к арендаторам в Англии как отношение праздного капитала к лишенной капитала работы. Английский землевладелец очень тщательно смотрит за своими землями и сам делает все капитальные улучшения; в этом именно состоит отличительная черта английской системы. Фермеры же не только не суть нищие, из которых вытягивают последнюю копейку, а составляют, напротив, один из самых зажиточных и почетных классов в стране. "Англия, — говорит Лаверн, — полна состояниями, составленными в земледелии; эти примеры делают это поприще одним из самых привлекательных по своей выгодности; вместе с тем оно одно из самых приятных, самых уважаемых и самых здоровых для души и тела"[202]. В последние годы положение фермеров, бесспорно, ухудшилось, но это произошло не от причин, лежащих в землевладении, а главным образом от целого ряда неурожайных годов, частью же от конкуренции Северной Америки. Вследствие этого сами землевладельцы принуждены значительно понизить свою ренту.
Таким образом, пример Англии никак не может служить доказательством в пользу эксплуатации фермеров землевладельцами и проистекающего отсюда обеднения обеих сторон. Уже несколько веков существует там этот порядок, но ничего подобного не видно. По замечанию Кэрда, отношение фермера к землевладельцу в Англии состоит в том, что первый получает от последнего за 3 процента капитал, который он пускает в оборот за 10[203]. Если сосредоточение поземельной собственности в руках высших классов, проистекающее не от ее свободы, а напротив, от ее связности, имело невыгодные последствия, то никак не для фермеров.
Система вымогательства не существует и в Ирландии. Парламентское следствие, которое послужило опорою для последнего Земельного Акта, выяснило, что огромное большинство ирландских землевладельцев взыскивает вовсе не чрезмерную ренту, и сам Гладстон, в недавней речи в Лидсе, указал на возрастания депозитов ирландских фермеров в банках в течение последних тридцати лет с 5 миллионов фунтов на 30 миллионов. Отношение между фермерами и землевладельцами тут действительно ненормальное, но оно проистекает от иных, чисто местных причин. Штейн верно характеризует их, когда он говорит, что тут идет вековая борьба между началом ирландской поземельной собственности, основанной на кланном, или родовом, устройстве, и началом английской личной и аристократической собственности. Ирландский народ был насильственно лишен земли: до нынешнего столетия католикам запрещалось даже иметь поземельную собственность. Между тем ирландцы искони считали и доселе считают себя настоящими владельцами почвы; поселянин к ней привязан и стремится к ней всеми силами. Гладстон характеризовал это стремление, назвавши его неутолимым "алканием земли". Но этому алканию нет исхода, ибо поземельная собственность находится связанною в чужих руках. Естественным выходом из этого положения было бы уничтожение этой связности, то есть отмена законов о наследстве, воспрещающих ее отчуждение; ибо, если полезно сохранение семейного имущества, то это не должно совершаться в ущерб остальному народонаселению и преграждать ему путь к собственности. Когда известный порядок наследства ведет к сосредоточению собственности в немногих руках, то государство имеет полное право его отменить; в этом никто не сомневается. Но вместо того чтобы посягнуть на эту вековую основу английского гражданского быта, что в отношении к Ирландии пришло бы, может быть, даже слишком поздно, английские государственные люди предпочли сделать уступку требованиям ирландцев, давши фермерам известное право на землю. Отсюда произошел последний билль, на который однако сами его защитники в Англии смотрят с значительными опасениями. "Нельзя было бы впасть в большую ошибку, — писали в "Таймс"[204], - как вообразивши, что Ирландский Поземельный Билль был встречен с восторгом какою-либо значительною частью политических людей нашей страны. Он был принят как необходимость, оправданная существованием в Ирландии исключительных и прискорбных условий, к дурным последствиям которых должно быть приложено лекарство, в себе самом сомнительное и даже опасное". Но никогда никто от себя не скрывал, что положение вещей, которое Поземельный Билль имеет в виду установить в Ирландии, составляет отступление назад от начал образованных обществ. Не только Консерваторы, но и Либералы всех школ, исключая немногих Радикалов, зараженных антиэкономическими ересями иностранных революционных партий, признают, что уничтожение свободных договоров в отношении к земле, "вмешательство судилища для установления ренты и других предметов, которые обыкновенно предоставляются соглашению партий, а равно и многие другие постановления Билля, не могли бы быть терпимы ни в какой страны, кроме такой, где существующая система действовала так дурно, что всякий опыт может быть законным образом произведен. Как опыт, в случае иначе почти безнадежном, Поземельный Билль был изобретен и будет приложен".
Гладстон в речи, произнесенной в Лидсе, прямо заявил, что между Англиею и Ирландиею не может быть в этом отношении никакой параллели; а другой член кабинета, Фосетт, указал, в каком смысле должна происходить реформа поземельного законодательства в Англии: "есть одно правило, — сказал он, — которое мы не можем слишком упорно держать в своем уме; это именно то, что свобода составляет сущность либерализма. Если как либералы мы бросим взор на прошедшее, мы найдем, что величайшие наши политические победы были упрочены расширением свободы во всех направлениях. И как было в прошлом, так будет, я думаю, и в будущем. Возьмите, например, поземельный вопрос. Главная цель, к которой, как мне кажется, мы должны идти, есть большая свобода продавать, а следовательно и большая свобода покупать. Эта большая свобода может быть достигнута не только облегчением перехода земли из рук в руки, но и освобождением ее от множества стеснений, связанных с существующею системою субституций". При этом Фосетт настаивает на том, что правительство, стремясь к расширению поземельной собственности, не должно прибегать ни к каким искусственным мерам и еще менее связывать с этим какое-либо стеснение прав. "Если мы позаботимся о том, чтобы лишить поземельную собственность всяких несправедливых привилегий, — говорит он, — то мы не менее должны позаботиться о том, чтобы владение землею не приносило с собою каких-либо невыгод, которые не соединяются с другими видами собственности"[205].
Во всяком случае, когда вопрос идет о свободе собственности и об ее последствиях, то не на Англию и не на Ирландию следует указывать, ибо тут именно собственность не свободна. При установленном законами праве первородства, при всеобщем господстве субституций, наконец, при тех бесчисленных затруднениях, с которыми сопряжен всякий переход поземельной собственности в этих странах, о свободе ее говорить невозможно. Для примера надобно взять не Англию, а Францию, где эта система действует уже в продолжение целого столетия. Что же мы там видим? Вымогают ли землевладельцы у фермеров последнюю копейку, не оставляя им никакой прибыли? Ничуть не бывало. "Фермеру, — говорит Леруа-Болье, — досталась гораздо большая доля в увеличившемся земледельческом производстве, нежели землевладельцу. Не то чтобы собственно возрос размер процентов и барышей, которые он получает за свои издержки; но требования его и его семейства относительно удобств жизни необыкновенно возросли. Он считает действительною прибылью только то, что он может ежегодно откладывать, по вычете из дохода своего содержания и содержания своего хозяйства. Между тем он уже не довольствуется темным и узким жильем, редкою и бедною мебелью, умеренною и простою пищею, постоянною и суровою личною работою, к которым привыкли старые фермеры; ему нужна жизнь удобная, широкая, частью праздная, и на те расходы, которые она влечет за собою, он смотрит как на общие издержки, которые составляют его достояние, и которые он должен возвратить себе прежде всякой прибыли. Эти привычки сделались ныне общими в классе фермеров, и они поглощают собою весьма значительную часть увеличения валового дохода земель… Во многих местах удвоенная цена произведений не увеличила арендной платы даже на 10 или на 15 процентов, а в иных случаях она не помешала ей остаться неподвижною или даже понизиться"[206]. И во Франции в последние годы конкуренция Америки уменьшила доходность земледелия, но последствие этого переворота состояло не в том, что фермеры попали в руки землевладельцев, а в том, что землевладельцы гоняются за фермерами и не могут их добыть.
Очевидно, следовательно, что свобода собственности не имеет тех последствий, которые приписывает ей Штейн, а потому государству, кроме совершенно исключительных случаев, нет никакой нужды вмешиваться в договорные отношения. Фермер, который чувствует себя стесненным тем, что он хозяйничает на чужой земле, имеет полное право требовать, чтобы ему открыта была возможность приобрести свой собственный участок. Но находить приобретение собственного участка невыгодным и хотеть быть совместным хозяином на чужой земле, есть ни с чем не сообразное притязание.
Основательнее ли опасение, что землевладелец, силою вещей, попадает в полную зависимость от своих кредиторов и таким образом поземельная собственность порабощается денежным капиталом?
Штейн уверяет, что землевладелец волею или неволею должен войти в неоплатные долги. К этому ведут семейные разделы, недоплаты при покупке, которые остаются долгом на имение, потребность в капитале для улучшений, наконец, необходимость временных уплат при обороте (стр. 166 и след.). Частный поземельный кредит не в состоянии удовлетворить всем этим потребностям, ибо он дает взаймы по 5 процентов с полупроцентом погашения, тогда как поземельная собственность в Европе приносит не более 27, или 3-х процентов (стр. 192). Последствием же этих долгов является то, что землевладелец становится в служебное отношение к капиталисту, а под конец совершенно даже лишается земли, которая переходит к последнему. Но этим самым уничтожается основное требование государственного порядка, состоящее в прочности поземельной собственности, требование, которое в германском мире искони порождало связь полноправного гражданина с землею, на чем основывались и обязанности его к обществу. Поэтому здесь государство во имя собственных интересов должно вступиться, ограждая землевладельца от притязаний кредиторов и охраняя в его руках поземельную собственность, которой устойчивость составляет главный залог общественного благоденствия (стр. 147–152).
Итак, землевладелец, который в отношении к фермеру являлся капиталистом, в отношении к капиталисту представляется работником, и притом то и другое в силу рокового закона. Трудно понять такую двуличность; но еще труднее согласиться с тем, что тут есть роковая необходимость. От землевладельца всегда зависит держаться относительно долгов в пределах умеренности и благоразумия; если же у него долги возрастают так, что они почти равняются доходам, то лучше продать имение, нежели оставаться в таком положении. Охотники всегда найдутся, ибо, если земля капитализируется из 2-х или 3-х процентов, тогда как капитал приносит 5, то это означает, что земля имеет такую притягательную силу, которая побуждает денежных людей помещать в нее свои капиталы даже за низкие проценты. Государству же решительно нет никакой выгоды удерживать землю в руках прежнего задолжавшего владельца и помешать ей перейти в руки другого, более денежного, а потому имеющего более средств извлечь из нее настоящую пользу. Связь землевладения с гражданскою полноправностью, которую Штейн считает принадлежностью германского племени, относится к первобытным временам или к средневековому порядку, в котором частное право смешивалось с публичным. Отличительная же черта нового государства, как весьма хорошо было выяснено самим Штейном, состоит в разделении частного права и публичного. Новое государство держится уже не сословным порядком, который присваивал землю известному классу людей; провозгласивши начало свободы, оно тем самым допускает беспрепятственное передвижение граждан из одного класса в другой, а с тем вместе и переход земель из рук в руки. Самое политическое право не связывается уже с тем или другим видом собственности. Там, где существует ценз как признак политической правоспособности, он основывается на уплате известной суммы податей, и государству совершенно все равно, кто их платит. Приобретение имущества, дающее правоспособность, оно предоставляет свободной деятельности лиц, не заботясь об их ограждении от собственной их хозяйственной несостоятельности. Такое разделение частного права и публичного, соответствующее истинным началам государственного устройства, одно отвечает и требованиям человеческой свободы, которая в неприкосновенности частного права видит главный свой оплот, а на вмешательство государства в эту область должна смотреть не иначе, как с крайним недоброжелательством и опасением. Без сомнения, разорившемуся и обремененному долгами помещику всегда приятно, если государство оградит его от притязания кредиторов; еще приятнее, если ему на общественный счет дан будет дешевый кредит, какого он не может получить от частных лиц; но это может быть сделано только в ущерб и кредиторам, и обществу.
В одном лишь случае государство могло бы вступиться и оградить должника от неумеренных притязаний кредиторов, именно, когда сельское ростовщичество грозит обезземелением крестьянскому населению. Но тут оно смотрит на крестьян как на малолетних, которых следует опекать, а потому подобная охрана может быть допущена единственно в виде исключения, когда она вызывается крайностью. В обществе, где господствует начало свободы, каждый должен искать опоры в самом себе; в обществе промышленном, особенно где земля требует интенсивной обработки, землевладелец должен быть хорошим хозяином и уметь вести свои дела. Если он запутывается, пускай он откажется от поземельной собственности; это будет выгоднее и для него, и для государства, которое может опираться только на людей, способных стоять на своих ногах. Ему нужны землевладельцы, но именно как наиболее независимый и прочный элемент общественного порядка, а не как класс, который оно должно ограждать от разорения.
Со стороны денежного капитала едва ли землевладению грозит какая-либо опасность. Господство капитала может повлечь за собою разве только переход земель из одних рук в другие. Там, где наследство делится поровну между детьми, можно даже скорее опасаться излишнего раздробления, нежели излишнего сосредоточения поземельной собственности. Но имея в руках законы о наследстве, государство всегда может действовать в том или другом смысле, смотря по тому, на что указывают обстоятельства. Никакой особенной административной деятельности в отношении к поземельной собственности от него не требуется.
Что же касается, наконец, до опасности, грозящей европейскому землевладению со стороны иностранной конкуренции, то в этом отношении действительно может произойти некоторый подрыв. ибо громадные пространства девственной почвы Северной Америки могут обрабатываться при гораздо более благоприятных условиях, нежели это возможно в Европе, а дешевизна перевозки уравнивает расстояния. Но и против этого зла у государства есть надлежащее оружие — таможенные пошлины. Надобно только заметить, что это оружие совершенно одинаково относится к земледелию и к фабрикам. Особенностей, вызываемых поземельною собственностью, тут нет никаких. Еще менее можно видеть в этом какое-либо последствие свободной собственности. Иностранная конкуренция может точно так же подорвать и несвободную собственность, даже в гораздо большей степени, ибо свобода, возвышая производство, дает большую возможность выдерживать соперничество. Имея это в виду, государство должно взвесить, что для народного хозяйства выгоднее: ограждение ли землевладельцев от иностранного соперничества или дешевизна средств жизни? Безусловного ответа на этот вопрос нельзя дать, ибо охранение положенных в землю капиталов и некоторое, по крайней мере, уравнение условий производства могут быть желательны в видах общей пользы; но как общее правило можно думать, что дешевизна жизненных средств составляет такое благо для массы народонаселения, которое всегда будет значительно склонять весы в эту сторону. Во всяком случае, едва ли можно видеть существенный ущерб для народного хозяйства и для государства в том, что хлеб будет очень дешев, или что мясо будет доступно всем.
Итак, мы не можем разделять опасений Штейна насчет гибельных последствий, которыми грозит европейским обществам свободная собственность. Мы полагаем, напротив, что свободная промышленность непременно влечет за собою свободную собственность и что только через это народное хозяйство способно достигнуть высшего своего развития. Можно допустить ограничения свободного перехода во имя семейного начала и прав завещателя; можно допустить и большее или меньшее распространение общественной собственности рядом с частною: это зависит от местных и временных условий. Но вообще вмешательство государства в область частной собственности столь же мало оправдывается экономически, как и юридически. Только чрезвычайные обстоятельства могут вызывать подобные меры, и всегда в них следует видеть исключение, а никак не правило.
Глава VII. ЗАКОНЫ МЕНЫ
Произведенная вещь поступает в оборот. Только на самых низких ступенях экономического развития господствует домашнее хозяйство, где человек производит все исключительно для собственного потребления. На высших ступенях, при разделении занятий, каждый производит для других и получает взамен от других то, что ему потребно. Мена становится определяющим началом всего промышленного быта. От нее зависит и самое производство, ибо товар производится в виду обмена.
Всякая мена основана на определении сравнительного достоинства товаров — их ценности. Ходячим мерилом этого достоинства является исключительно для этого предназначенный товар — деньги, или заменяющие их знаки. От каких же данных зависит это определение?
Со времени Адама Смита экономисты различают двоякую ценность произведений: потребительную и меновую. Первая есть достоинство предмета в отношении к тем потребностям, которым он удовлетворяет, или к той пользе, которую он приносит; вторая есть достоинство предмета, определяемое количеством других товаров, которые можно за него получить. Меновая ценность, выраженная в деньгах, называется ценою.
Эти два рода ценностей не совпадают. Есть предметы в высшей степени полезные, и которые однако не имеют никакой меновой ценности. Это те, которые не произведены и не усвоены человеком, а находятся в природе в неограниченном количестве, так что каждый может ими пользоваться беспрепятственно. Таковы свет, воздух. Меновую ценность имеют только те предметы, которые находятся в обладании человека, будучи им усвоены или произведены.
В силу чего же эти предметы получают меновую ценность? Единственно в силу того, что они нужны другим, и что другие готовы дать за них свои собственные произведения. Что никому не нужно, то не имеет меновой ценности. Следовательно, основанием меновой ценности является все-таки ценность потребительная. А потому утверждать, что для определения первой необходимо совершенно отвлечься от последней, так чтобы в меновой ценности не оставалось ни единого атома потребительной ценности, значит исходить от чистой бессмыслицы. Мы увидим далее, что именно на этом начале строит всю свою экономическую теорию Карл Маркс. Справедливо, что при сравнении полезности двух обменивающихся товаров, необходимо сделать отвлечение от их разнокачественности и вознести их к общему мерилу, которое и служит основанием сравнения; но отвлекаясь от специальной полезности предметов, мы получаем только понятие об общей полезности, которая и выражается в меновой ценности и находит своего представителя в деньгах.
Полезность предмета, или способность его удовлетворять человеческим потребностям, составляет таким образом первый и необходимый фактор в определении ценности. На ней основывается ее требование, или спрос. В силу этого начала, чем больше требование, тем выше ценность произведения, и всякое усиление требования влечет за собою возвышение ценности. Таков основной экономический закон, имеющий силу всегда и везде.
Человеческие потребности, составляющие источник спроса, изменчивы и разнообразны до бесконечности. Есть потребности необходимые и потребности роскоши, потребности разлитые в массе, и потребности, составляющие достояние немногих. Между теми и другими идет непрерывная, хотя и вечно изменяющаяся лестница. Отсюда вытекает другой основной экономический закон, которым определяется весь оборот, именно, что меновая ценность предметов есть не постоянная, а изменяющаяся величина. А потому невозможно упрочить ценность, как требуют Прудон и за ним другие социалисты. Для этого надобно было бы предварительно упрочить потребности, что немыслимо. Все подобные попытки грешат в самом своем основании.
Не одними однако потребностями определяется спрос произведений. Для того чтобы какое бы то ни было требование могло служить источником мены, необходимо, чтобы требующий имел с своей стороны предмет, который бы он мог дать взамен приобретаемого товара. Экономическое требование зависит не только от потребностей, но и от покупной силы потребителей. И тут является непрерывная лестница, расширяющаяся к низу и суживающаяся к верху. В массе покупная сила каждого отдельного лица невелика, но совокупность ее громадна. Напротив, чем выше мы восходим по общественной лестнице, тем больше становится покупная сила отдельных лиц, но зато тем более суживается их круг. Отсюда третий закон экономического оборота, что чем дешевле товар, тем более у него сбыта, и наоборот, самые дорогие товары имеют наименьшее количество покупателей.
Таковы законы, управляющие требованием. Последнее составляет однако лишь один из двух элементов мены. Другим элементом является предлагаемый товар, могущий удовлетворить потребности. Требованию соответствует предложение.
Очевидно, что при одинаковом требовании ценность товара будет тем выше, чем он реже, а потому чем труднее его получить. Если все не могут быть удовлетворены, то удовлетворятся только те, которые в состоянии заплатить высшую цену. Остальные принуждены будут или вовсе отказаться от удовлетворения потребности или довольствоваться меньшим количеством. Покупная сила, выражающаяся в количестве денег или предметов, которое потребители готовы дать за известный товар, обращаясь на меньшее количество произведений, естественно возвышает их ценность, и наоборот, чем эта сила распределяется на большее количество предлагаемых произведений, тем ниже ценность последних. Произведения, находящиеся в изобилии, чтобы получить сбыт, должны искать большого круга покупателей, или удовлетворить одной и той же покупной силе большим количеством произведений. И то и другое ведет к понижению ценности товара. Отсюда вытекает опять основной экономический закон, что чем больше предложение, тем ниже ценность товара. Предложение действует в обратном смысле против требования.
Количество предлагаемых произведений зависит отчасти от самого их свойства, или от количества, в каком они существуют в природе, отчасти от большей или меньшей деятельности производства. Есть предметы, которые могут быть производимы в неограниченном количестве, и есть другие, которые не могут быть произвольно умножены. К последним принадлежат редкие произведения природы, а также человеческие произведения, требующие исключительных способностей. Такого рода предметы, находясь всегда в ограниченном количестве, неизбежно получают монопольную цену, и чем больше на них требование, тем выше их цена. Это прямо вытекает из означенного выше закона.
То же самое имеет место относительно тех произведений, которые, хотя и могут быть произвольно умножаемы, но не иначе как с большими усилиями и тратами. В таком случае товары, производимые при более благоприятных условиях, неизбежно приобретают монопольную цену. Ибо опять же в силу основного экономического закона все находящиеся на рынке товары, если нет препятствующих обстоятельств, стремятся к уравнению в цене. Так как каждый ищет своей выгоды, то никто не станет покупать дороже, если он тут же может купить дешевле, и наоборот, ни для кого не выгодно держать высшую цену против соседей, ибо он этим может отбить покупателей. Тысячи различных обстоятельств, доверие, привычка, неопытность, могут видоизменять эти начала, но общее стремление всегда таково.
Что касается до предметов, которые могут быть произвольно умножаемы, то естественное стремление промышленности состоит в том, чтобы производить их столько, сколько нужно для удовлетворения всех потребностей. Пока требование не удовлетворено вполне, цена стоит высокая, а потому производство представляется выгодным. Вследствие этого сюда устремляется промышленная деятельность, ищущая прибыли; производство увеличивается, и цены падают. Границею этого падения является граница самой промышленной выгоды. Цена произведения должна вознаграждать издержки производства и дать обыкновенный барыш предпринимателю. Если она падает ниже, то производство становится невыгодным; вследствие этого оно сокращается, и цена произведения опять поднимается до того уровня, при котором она может дать предпринимателю надлежащее вознаграждение. Этот уровень составляет нормальную цену всех произвольно умножаемых произведений, цену, к которой они стремятся среди колебаний в ту и другую сторону и к которой они рано или поздно непременно приходят. Поэтому некоторые экономисты называют ее естественною ценою произведений.
В итоге, мы имеем два фактора, действующих в противоположном направлении, и от взаимного отношения которых зависит цена произведений. Общий закон формулируется так, что ценность товаров определяется отношением предложения к требованию. Так как этот закон вытекает из основных свойств производства и потребления, то его можно назвать естественным законом промышленного оборота.
В основании его лежит то начало личного интереса, которое составляет исходную точку и движущую пружину всей промышленной деятельности. Каждая из двух меняющихся сторон имеет в виду исключительно свою собственную выгоду. Покупщик старается купить как можно дешевле; продавец старается продать как можно дороже. Мена состоится только тогда, когда выгода будет обоюдная, то есть, когда каждая из двух сторон найдет свой расчет в том, чтобы приобрести чужой товар в замене своего. При этом выгода может быть больше на той или на другой стороне; колебания могут быть значительные; но в общей сложности, или в сумме многих сделок, установляется та цена, которая вытекает из общих условий рынка, при взаимодействии противоположных элементов.
Эти два фактора имеют однако же не одинаковое значение. Требование составляет начало и конец всего процесса. Оно вызывает производство и оно же составляет его цель. Предложение является здесь только средством. Оно существует в виду требования и имеет целью его удовлетворение. Силою требования определяются как количество, так и качество производимых товаров, а равно и цена, которую покупатель готов за них дать. Предположение соразмеряется с этими данными, причем, побуждаемое выгодою, оно стремится понизить цену до границы, допускаемой издержками производства.
Но если так, то нельзя не признать одностороннею теорию, которая обращает внимание исключительно на предложение и определяет ценность единственно издержками производства. Такова знаменитая в экономической науке теория, которая ценность произведений сводит к количеству положенного на них труда. Эта теория, зачатки которой находятся уже у Адама Смита, имеет основателем своим Рикардо. Так как социалисты строят свое учение на том же начале, хотя и в извращенном виде, то мы должны на ней остановиться.
Рикардо прежде всего устраняет из своего исследования те предметы, которых ценность зависит от их редкости и определяется исключительно вкусом и средствами покупателей. Эти предметы, по его мнению, составляют столь незначительную часть находящихся в обороте товаров, что их можно оставить без внимания, ограничиваясь теми, которые могут быть произвольно умножаемы[207].
Относительно последних Рикардо не отвергает влияния предложения и требования, но он утверждает, что эта причина имеет лишь временное, преходящее значение; окончательно же цена товаров определяется издержками производства. Это и есть цена естественная, в отличие от цены ходячей (гл. XXX, ср. гл. IV).
Чем же определяются издержки производства?
Согласно с общепринятым в политической экономии разделением, Рикардо признает три деятеля производства: землю, капитал и труд; но влияние на определение ценности произведений он приписывает единственно труду, причем он настаивает на том, что он говорит не об абсолютной, а лишь об относительной ценности, которая определяется сравнением одного предмета с другим (гл. I, отд. 2 и 6). В ценность товара входят и процент с капитала и поземельная рента, но пропорциональное отношение ценности одного произведения к ценности другого определяется почти исключительно большим или меньшим количеством положенного на них труда. Хотя труд имеет и различное качество, которое оплачивается различно, однако тут скоро установляется известная сравнительная лестница, которая мало изменяется, а потому имеет мало влияния и на изменение ценностей (гл. I, отд. 2). Не имеет влияния и высота заработной платы, ибо при свободе передвижения она одинакова во всех отраслях. Какое бы работник ни получал вознаграждение за свой труд, везде он соразмеряется с количеством труда, а потому сравнительное отношение проистекающей отсюда ценности товаров остается то же. Возвышение заработной платы ведет лишь к увеличению доли труда на счет капитала, но оно не изменяет сравнительной ценности произведений (гл. I, отд. 3).
По той же причине не следует принимать в расчет и большей или меньшей высоты процентов с капитала. Так как эта высота одинакова во всех отраслях, то она не может иметь влияния на сравнительную ценность товаров. Общее возвышение процента соответственно уменьшает долю труда, но пропорция остается та же. Большая же или меньшая ценность самых капиталов, употребленных на производство, действительно имеет влияние на ценность произведений; но так как ценность капиталов в свою очередь определяется количеством труда, положенного на их производство, то и здесь труд является единственным определяющим началом, с тою лишь оговоркою, что надобно принимать в расчет не один труд, употребленный на непосредственное производство известного товара, но и тот, который был положен на производство необходимых для него машин и орудий (гл. I, отд. 3).
Говоря о капитале, Рикардо указывает однако на одно обстоятельство, которое значительно видоизменяет его теорию. В ценность машин и орудий, образующих так называемый стоячий капитал производства, входит не только заработная плата, соразмерная с количеством положенного на них труда, но и процент с капитала, употребленного на их производство. Этот новый элемент нарушает пропорцию, и чем больше в производстве употребляется стоячего капитала, тем это нарушение будет больше. Отсюда различие между производствами, употребляющими значительную часть стоячего капитала, и производствами, действующими главным образом посредством капитала оборотного, состоящего в заработной плате. В последних цена произведений зависит исключительно от заработной платы с присоединением к ней обыкновенного процента с капитала; в первых же к этому прибавляется процент с прежде употребленного капитала, а потому сравнительная ценность произведений в обоих не будет совершенно пропорциональна количеству положенного в них труда. Рента же вовсе не есть элемент цены; она составляет только ту часть общей, определяемой независимо от нее цены, которая достается землевладельцу как плата за большую доходность его земель (гл. II).
Такова теория Рикардо. Несмотря на ее односторонность, невозможно отказать ей в значительных научных достоинствах. Знаменитый экономист стоит на почве чисто научного наследования; он наблюдает явления и старается отыскать их причины. Он не отвергает ни процента с капитала, ни поземельной ренты; он доказывает только, что они имеют весьма мало или вовсе не имеют влияния на сравнительную ценность произведений. Из его аргументации невозможно вывести никаких заключений в пользу социализма. Преобладающее значение труда в определении цен признается им как факт, вытекающий из существующего порядка вещей, а отнюдь не как требование, долженствующее изменить весь этот порядок.
Тем не менее в его доводах были стороны, которые могли подать к ложным выводам. К этому вело уже то преобладающее значение, которое давалось издержкам производства, с устранением требования как совершенно второстепенного элемента. Между тем из теории поземельной ренты Рикардо явствует, что самые издержки производства определяются требованием. Ибо в силу чего становится возможно обработка худших земель? Единственно в силу возвышения цен от увеличившегося требования. Поэтому, когда Рикардо говорит, что ценность хлеба возвышается вследствие большого труда, употребленного на худших землях (гл. II), и прибавляет, что без этого умножения труда цена хлеба не могла бы возвыситься (гл. VI), он очевидно принимает следствие за причину. Если бы худшие земли не обрабатывались, то цена хлеба стояла бы еще выше, ибо при одинаковом требовании предложение было бы меньше. Как говорит сам Рикардо в другом месте, «возвышение ходячей цены на хлеб есть единственное, что поощряет производство, ибо, — замечает он, — можно считать непогрешимым началом, что единственная вещь, которая может поощрить производство какого-либо товара, есть избыток его ходячей цены против цены естественной или необходимой» (гл. XXXII). Из этого ясно, что большее требование, а не большее количество употребленного труда составляет причину возвышения цены хлеба; возможность же приложения большого количество труда является только последствием этого возвышения.
Но еще более, нежели этим односторонним взглядом на издержки производства, Рикардо подал повод к недоразумениям тем, что он окончательно смешал абсолютную ценность с относительною. Мы видели, что доказывая преобладающее влияние количества употребленного труда на ценность товаров, он весьма ясно настаивал на том, что он говорит только о ценности относительной, не отрицая, что в нее могут входить и другие элементы. Какую бы долю в ценности товаров ни составлял процент с капитала, будь это 1/10 или 1/20, так как процент везде один и тот же, то отношение не изменяется. Между тем, в дополнительных главах к своему сочинению, он прямо признает, что «труд есть общее мерило, которым определяется действительная и относительная ценность» товаров. Вследствие этого он стал утверждать, что естественные силы работают даром, а потому увеличивают полезность, но не меновую ценность произведений (гл. XX), тогда как по собственной его теории поземельная рента составляет плату за употребление производительных и не погибающих сил земли. Хотя бы высота цен на хлеб зависела не от поземельной ренты, но все же последняя входит, как составная часть, в цену хлеба, получаемого с лучших земель; следовательно, эта цена определяется не одним количеством положенного в производство труда.
То, что для Рикардо было только следствием недоразумения, то для социалистов сделалось основанием всех их выводов. Они утверждают, что труд составляет абсолютно единственный источник и мерило всякой ценности, а потому они отвергают все, что от него не происходит. И процент с капитала, и поземельная рента, все это объявляется беззаконным похищением того, что создано трудом.
Такое воззрение, конечно, не могло быть плодом внимательного наблюдения явлений и точного исследования фактов. Опытная почва покидается тут совершенно. Все, что существует в действительности, отрицается во имя одностороннего начала, которое, если не находит себе приложения в настоящем порядке, то должно осуществиться в переустроенном обществе.
Основатель этой теории, Прудон, прямо становится на эту точку зрения. Сравнивши отношения ценностей с пропорциями химического соединения тел, он указывает на то, что химики, которым опыт открывает эти пропорции, не знают их причин. «Общественная экономия, напротив, — говорит он, — которой никакое исследование a posteriori не могло бы непосредственно раскрыть закон пропорциональности ценностей, может постигнуть его в самой силе ее производящей… Эта сила есть труд… Труд и единственно труд производит все элементы богатства и сочетает их до последних частичек по закону пропорциональности, изменчивому, но достоверному»[208].
Можно ожидать, что высказывая подобное положение, автор подтвердит его строгими доказательствами; таково требование науки. Где нет фактических исследований, там необходим логический вывод. Между тем ни того, ни другого мы не находим у Прудона и его последователей. Начало, принятое на веру, но не выведенное логическим путем и еще менее подкрепленное опытом, выдается за абсолютную истину, с которою все должно сообразоваться. И все последующие социалисты один за другим повторяют ту же тему, точно так же избавляя себя от всякого доказательства. Мы видели уже, что Родбертус выставляет в виде аксиомы, что экономическое значение имеет один труд, и что все, что не произведено трудом, принадлежит к естественным, а не к экономическим благам. Лассаль возвеличивает Рикардо как провозвестника величайшего экономического принципа, но признавая его непоследовательным, тщательно обходит его аргументацию и сам не представляет ничего взамен[209]. Наконец, главный корифей современного социализма, Карл Маркс, на том же начале строит всю свою систему, но прибегает при этом к такой софистике, которая доказывает только всю шаткость принятых им оснований. Разбор теории Маркса покажет нам, насколько это начало может иметь притязания на научное значение[210].
Маркс отправляется от различия потребительной ценности и меновой. Первая представляет собою полезность товара, вторая — то количественное отношение, в котором обмениваются друг на друга различные полезные предметы. Это отношение указывает на то, что в обоих существует нечто общее, находящееся и здесь и там в равном количестве. Это общее должно быть отлично от разного качества товаров, следовательно и от их полезности, которая заключается именно в их качестве. Поэтому, чтобы получить меновую ценность, надобно сделать отвлечение от всякой потребительной ценности. «Как потребительные ценности, — говорит Маркс, — товары прежде всего являются с различным качеством; как меновые ценности, они могут быть только разного количества, следовательно они не содержат в себе ни единого атома потребительной ценности».
Что же остается в обменивающихся товарах за исключением их полезности? То, что и те и другие суть произведения труда. На этом только основании может происходить уравнение. Однако и труд берется здесь не со стороны его полезности, ибо, исключивши полезность предмета, мы исключили и полезность труда. Остается один «отвлеченный человеческий труд», или трата рабочей силы, измеряемая временем. Это и есть истинное мерило меновой ценности, и ничего другого в ней не заключается[211].
Такова аргументация Маркса. В ней есть как будто попытка сделать логический вывод; но эта попытка обнаруживает только полный недостаток логики и тем самым обличает совершенную несостоятельность этой теории. Нечего говорить о том, что в действительности не происходит и не может происходить ничего подобного. Никто никогда не меняет товаров, отвлекаясь от их полезности, ибо мена происходит именно вследствие того, что каждой стороне нужен товар, находящийся в руках другой, и эта потребность составляет существенный элемент в определении ценности. Но и чисто логически такой вывод представляется нелепым. Невозможно отвлекаться от того, что составляет основание всего процесса. Сказать, что в меновой ценности нет ни единого атома потребительной ценности, значит утверждать, что бесполезные вещи должны меняться совершенно так же, как и полезные, а это — чистая нелепость. Затем не видать, почему, за исключением полезности, в товарах остается одно только качество, именно, что они являются произведениями труда; как будто не могут меняться произведения природы в различных пропорциях, смотря, например, по их величине или редкости. Наконец, когда мы отвлекаемся от самой полезности труда и берем в расчет единственно трату силы, измеряемую временем, то здесь уже теряется всякий смысл. Обезьяна, которая в басне катает бревна, должна, по этой теории, получить совершенно такую же плату, как и самый полезный работник. Вследствие этого сам Маркс принужден признать, что работа, воплощаемая в меновой ценности, должна быть работа полезная (стр. 16, 17). Но если так, то определяя меновую ценность товаров, мы не отвлекаемся от всякой полезности, а напротив, должны принимать ее в соображение, и тогда вся теория рушится в самом основании.
Не меньшие несообразности оказываются и в приложении принятого Марксом начала. Прежде всего против него говорит тот очевидный факт, что различного качества работа оплачивается и не может не оплачиваться разно, между тем как по теории, каждый час рабочего времени должен иметь одинаковую цену, какова бы ни была работа. Маркс не решился последовательно провести свое начало, как это делает, например, Прудон, который отвергает всякое право таланта на высшую плату. Маркс требует, напротив, чтобы более сложная или высшего качества работа сводилась к единице простой (стр. 19). Но каким образом возможно произвести эту операцию? На это у Маркса нет ответа. Он просто ссылается на опыт, указывая на то, что этот процесс постоянно происходит «за спиною производителей». Между тем в действительности этот процесс происходит именно в силу того начала, которое устраняется Марксом. Качественно высшая работа оплачивается выше, вследствие того что ее произведения ценятся дороже: от цены произведений зависит и цена работы; оценка же произведений совершается посредством предложения и требования. На это указывал уже Адам Смит, на которого ссылается и Рикардо[212]. Если же мы устраним предложение и требование и отвлечемся от всякой полезности, то мы потеряем вместе с тем и всякое мерило; тогда не будет никакой возможности свести качество на количество. Сам Маркс признает, что качество работы определяется ценою произведений, когда он говорит, что «хотя товар может быть произведением самой сложной работы, однако ценность приравнивает его к произведению простой работы, а потому сама представляет только известное количество простой работы» (стр. 19). Но это возможно, только когда ценность определяется независимо от работы, именно, предложением и требованием; если же ценность произведений должна определяться положенною на них работою, а работа, в свою очередь, должна определяться ценностью произведений, то мы вращаемся в логическом круге, как и делает Маркс.
Даже простая работа ценится не одним продолжением времени, но и ее достоинством. «Может казаться, — говорит Маркс, — что если ценность товаров определяется истраченным на его производство количеством работы, то чем ленивее и неискуснее человек, тем ценнее его товар, ибо тем более времени он употребил на его приготовление» (стр. 13). Это затруднение устраняется тем, что в расчет берется среднее рабочее время. «Совокупная рабочая сила общества, — говорит Маркс, — изображающаяся в ценностях товарного мира, считается одною и тою же человеческою рабочею силою, хотя она состоит из бесчисленного множества индивидуальных рабочих сил. Каждая из этих индивидуальных рабочих сил есть такая же человеческая рабочая сила, как и другая, насколько она носит на себе характер общественной средней рабочей силы и действует как таковая средняя рабочая сила» (Там же).
Итак, нормою должна служить не действительная рабочая сила, а средняя, то есть воображаемая рабочая сила, определяемая посредством статистических выводов из всех работ, совершающихся в обществе, пожалуй даже во всем человечестве, ибо товарный мир простирается на весь земной шар. Какое же однако мерило имеем мы для сведения бесчисленных, обращенных на разные товары работ к одной единице, представляющей среднюю общественную рабочую силу? Мы можем определить для каждой отдельной отрасли, что в состоянии сделать средний работник в данное время и в данной местности. Для разных местностей и для разных условий это делается уже гораздо затруднительнее; но какой есть способ свести к средней единице все разнородные работы, совершающиеся в обществе, если не брать в расчет их цены, которая должна определяться именно этою среднею нормою? Об этом Маркс умалчивает. Ясно только, что интерес рабочих будет состоять в том, чтобы эта средняя норма определялась как можно ниже, ибо через это они при наименьшей работе будут получать наибольшую плату; это будет конкуренция лени. И при всем том, установить эту среднюю норму можно только определивши количество товара, которое может быть произведено в данное время. Следовательно, количество произведенного товара будет окончательно определяющим началом его ценности, между тем как по теории требуется наоборот, чтобы мерилом ценности служило отнюдь не количество товара, а единственно работа, измеряемая временем. «Чем больше производительная сила работы, — говорит Маркс, — чем меньше рабочее время, потребное для производства известного предмета, тем меньше кристаллизованная в нем масса работы, тем меньше его ценность» (стр. 15). И тут мы опять вращаемся в круге.
Таким образом, единица рабочего времени, которая должна получиться из вывода среднего общественного рабочего времени, оказывается фикциею. Но этот фиктивный ее характер увеличивается еще в бесконечно больших размерах через то, что это среднее время, по учению Маркса, должно представлять не действительное среднее рабочее время, а потребное, или общественно-необходимое среднее рабочее время (стр. 14). В самом деле, товар может быть произведен в гораздо большем количестве, нежели нужно: в таком случае, говорит Маркс, в расчет принимается только то количество работы, которое было потребно для производства нужного количества товара, и это количество работы распределяется на все количество произведенного товара; излишек же работы пропадает даром (стр. 86). Такое же последствие имеет введение всякого усовершенствования, дозволяющего в меньшее время производить больше товара: излишек времени, который был употреблен на производство прежнего, еще не сбытого товара или который употребляется на производство товара по старому способу, опять же пропадает даром. Час работы ручного ткача, по введении паровой машины, представляет собою примерно только половину общественно-необходимого рабочего часа, а потому и ценится только в половину (стр. 14, 86).
Ясно, что этим способом в определение цены вводится исключенное прежде начало, именно, потребность или спрос. Мерилом ценности является не действительная трата силы, измеряемая временем, как уверял Маркс, а потребная трата силы, то есть работа, насколько она оказывается нужною. Откинувши полезность работы, мы снова к ней возвращаемся, но таким путем, который кроме полного хаоса ни к чему не может нас привести. В самом деле, почему мы можем знать, какое количество работы потребно для общества? Точное определение тут совершенно немыслимо; мы можем только прийти к приблизительному расчету, принявши в соображение существующее требование на товар, то есть ту полезность, которую приписывают ему потребители, и ту цену, которую они готовы за него дать. Требование на работу существует настолько, насколько есть требование на товар. Если же мы, откинув требование на товар, как несущественное для определения цены, захотим определить требование работы, мы очевидно сделаем непозволительный скачок и будем витать в облаках. Отвлекаться от требования и принимать за начало потребное, значит просто играть словами и издеваться над читателем. Между тем на этом основано все учение Маркса. Построенное на нелепости, оно не может породить ничего, кроме нескончаемых противоречий. Те, которые приписывают ему малейшее научное значение, тем самым обнаруживают только полную свою неспособность понимать то, что они читают[213].
Явная невозможность устранить требование <и> его удовлетворение из числа элементов, определяющих ценность товаров, привела Шеффле к попытке сочетать оба начала. Он настаивает на том, что политико-экономическое определение ценности работы и произведений должно быть двоякое: оно должно принимать во внимание, с одной стороны, издержки, с другой стороны, полезность. Издержки, по его мнению, могут быть сведены к работе, ибо производительное потребление капитала разлагается на сумму прежде произведенных работ. Различные же работы должны быть приведены к единой общественной рабочей силе посредством сведения квалифицированной работы к простой и измерения всех работ рабочим временем[214]. Все это однако, говорит Шеффле, составляет только исходную точку, которая впоследствии должна видоизмениться оценкою пользы (стр. 311, 312).
Итак, мы получаем мерило, которое в сущности не есть мерило, ибо оно само должно измениться совершенно иного рода соображениями. Вследствие этого к прежним противоречиям прибавляются только новые, и вся эта система, пытающаяся сделать мерилом ценностей единицу рабочего времени, окончательно разрушается своею внутреннею несостоятельностью.
Последуем за аргументацией Шеффле.
Первый шаг и тут составляет сведение «квалифицированной» работы к простой. Шеффле относится к этому вопросу не так поверхностно, как Маркс. Хотя он уверяет, что эта задача разрешима и. что Родбертус и Маркс достаточно ее выяснили, однако он сознается, что разрешение вовсе не так легко, как кажется. Очевидно, что нельзя установить одну и ту же единицу времени для работы истощающей, опасной, требующей дорогой подготовки, наконец, прилежной, и для работы легкой, укрепляющей, образующей или даже ленивой. Для того чтобы достигнуть надлежащей оценки, говорит Шеффле, нужно 1) основать ее на строго научном физиологическом исследовании потребления мускулов и нервов; 2) определить для каждой отрасли особое количество работы как эквивалент нормального рабочего дня; 3) обеспечить надлежащее употребление времени требованием наименьших пределов исполненной работы; 4) принять в соображение неблагоприятное действие непроизводительных вспомогательных средств в отдельных производствах, а также влияние времен года и т. п. Без всего этого, говорит Шеффле, «невозможно было бы достигнуть политико-экономического и справедливого сведения частиц работы на доли действительного общественного совокупного рабочего времени, следовательно, и справедливого определения прав на доли дохода» (стр. 316).
Шеффле не сомневается, что когда-нибудь удастся разрешить эту многосложную задачу и определить различные работы как эквиваленты различной траты личной субстанции, ибо, замечает он, если уже нынешнее индивидуалистическое производство достигает, хотя и несовершенным образом, неизвестной классификации ценности различных работ, то почему же более рациональная, более единая и основанная на более научных данных оценка осталась бы без результата? Нельзя однако же от себя скрывать, прибавляет он, что этот вопрос едва только представляет начало разрешения и требует еще значительной научной обработки (стр. 317).
Мы, с своей стороны, полагаем, напротив, что именно при такой постановке вопроса он никогда не получит разрешения. Существующее индивидуалистическое производство может в этом отношении достигнуть известных результатов, потому что оно выбирает для этого единственный путь, способный привести к цели: оно ценность работы определяет ценностью произведений. Если же мы вместо того захотим на основании строго научных данных свести ценность работы к известной трате личной рабочей силы, или личной субстанции, как выражается Шеффле, то мы вовлечемся только в нескончаемые противоречия. Желательно знать, на основании каких строго научных данных можно измерить количественную трату ума, сметливости, ловкости, умения, таланта? Даже трата физической силы бесконечно различна для различных особей. Одна и та же работа требует более усилий от слабого, нежели от сильного, от неумелого, нежели от умелого. Еще менее возможно вычислить и измерить все разнообразие благоприятных или неблагоприятных условий. Установить твердое мерило, принявши за основание бесконечно изменяющуюся единицу, — совершенно немыслимая задача. И если мы ко всему этому прибавим, что даже «непроизводительные», по выражению Шеффле, но служащие обществу профессиональные работы, например ученых и художников, должны, по этой теории, «быть точно так же приведены к единицам нормального рабочего времени» (стр. 318). то чудовищность всех этих предположений раскрывается нам вполне. Когда Шеффле хочет деньги заменить единицею рабочего дня, он забывает, что фунт золота всегда и при всех условиях есть фунт золота, вследствие чего он и может быть мерилом цены, тогда как рабочий день представляет собою совершенно различную трату силы и совершенно различное количество и качество работы; он разнится не только по отношению к различным отраслям производства, но и по отношению к лицам и условиям, среди которых происходит работа. Как же может он быть мерилом ценностей?
Итак, с первого шага оказывается уже невозможность этим путем установить какое бы то ни было мерило. Но к этой невозможности прибавляется новая, вследствие необходимости сообразить издержки с приносимою ими пользою. Выгодность предприятия состоит в том, чтобы получить наибольшую пользу при наименьших издержках. Суждение об этом отношении, говорит Шеффле, и есть экономическое определение ценности. Всякий, кто не принимает этого в соображение, разоряется (стр. 278–280). С этой точки зрения при определении единицы рабочего времени надобно иметь в виду наименьшие издержки. А между тем для установления общего мерила необходимо, чтобы издержки определялись средние. Но средние не суть наименьшие, а наименьшие не суть средние, и когда Шеффле разом требует определения «средней наименьшей траты работы» (стр. 274, 315 и др.), то он доказывает только, что для него не существует то, что на человеческом языке называется противоречием. Из этих двух эпитетов каждый исключает другой.
С экономической точки зрения разница между этими двумя способами определения издержек состоит в том, что плата за работу на основании наименьших возможных издержек для достижения известной пользы будет выгодна для общества, а плата на основании средних задержек будет, напротив, весьма невыгодна. Все производство, которого стоимость превышает среднюю цифру, будет в убыток. Если, например, два работника произвели 8 фунтов какого-либо товара в 4 часа, два других в 8 часов, а два в 12, то в среднем вывод 1 фунт будет равняться одному часу работы. В таком случае первые два за произведенные ими 8 фунтов получат 4, а последние за свои 8 получат 12. Ясно, что последние работали с выгодою для себя, но в убыток обществу, первые наоборот. А потому общее стремление работников будет состоять в том, чтобы стать в последний разряд, то есть производить как можно менее в наибольшее количество времени. Частное производство, при таких условиях, не могло бы существовать.
Затем спрашивается: каким образом определить эту среднюю цифру издержек? Сам Шеффле видит в этом величайшие трудности. «Высота ее, — говорит он, — зависит от внешних и от общественных случайностей, от состояния техники, от большего или меньшего прилежания, умения и образования народонаселения, от различной доброты рядом друг с другом употребляемых производительных средств. И все эти коэффициенты общественно-необходимого рабочего времени суть изменяющиеся, частью даже в высшей степени изменяющиеся величины!» (стр. 317). И тут Шеффле не отчаивается в возможности решить эту, по его выражению, «в высшей степени трудную и богатую отношениями задачу. Для ее разрешения, — говорит он, — потребуются необыкновенно остроумные комбинации метод и ухищрений». Но «как мало, — восклицает он тут же, — эта сторона проблемы продумана до конца даже первыми социал-преобразовательными мыслителями!» Надобно прибавить, что и сам Шеффле тут ровно ничего не додумал.
И при всем том мы еще только в начале задачи. Главная часть ее впереди; ибо предстоит не только определить средние наименьшие издержки, но и соразмерить эту цифру с потребностями. Издержки производства, как мы уже видели, составляют лишь точку отправления для определения ценности товаров. На них можно остановиться только тогда, когда произведения, стоившие одинаковых издержек, требуются в равной степени. Если же одно требуется более другого, то меньшее количество первого должно приравниваться как меновой эквивалент к большему количеству последнего, имеющего меньшую полезную ценность (стр. 311).
Таким образом, мы должны в каждом случае определить «величину и настоятельность общественной потребности, называемой ныне спросом» (стр. 312), и на этом основании увеличить или уменьшить определенную издержками производства цену произведений.
Спрашивается прежде всего: на что это нужно при социалистическом производстве? В действительности, значительный и настоятельный спрос, например на предметы первой необходимости, вовсе не увеличивает цены произведений, если предложение идет с ним в уровень. Только при недостатке товара цены поднимаются, а при избытке понижаются, и это колебание служит признаком размера требования, с которым соображается и производство. В социалистическом же порядке, какой предполагается теориею Шеффле, государство распоряжается всем; следовательно, от него зависит держать предложение в уровень с спросом, по крайней мере относительно предметов произвольно умножаемых, и если оно этого не делает, то вина лежит на нем, а не на потребителях, которых заставляют платить высшую цену, потому только что государство не позаботилось об удовлетворении их нужд.
Затем является вопрос: в состоянии ли государство исполнить возлагаемую на него задачу? При частном производстве цены служат указателем потребностей; здесь же, напротив, самые цены должны устанавливаться сообразно с исследованною наперед потребностью. Для этого надобно прежде всего, чтобы государство точно знало силу и величину всех частных потребностей. Шеффле полагает, что при правильной статистике всех заявлений эта часть задачи разрешается всего легче, причем он замечает только, что ее не надобно представлять себе уже слишком легкою (стр. 319). Можно думать, напротив, что при бесконечном разнообразии и изменчивости потребностей, определить их заранее вовсе не легко. Конечно, задача упрощается тем, что доходы потребителей низводятся до уровня простой заработной платы, а потому требования становятся несравненно однообразнее, нежели теперь (319). Еще более она упрощается тем, что по теории Шеффле, государство само определяет потребности, которым оно должно удовлетворять, сокращая излишние и неразумные и водворяя те, которые оно признает полезными для общества (стр. 320). Но, как замечает далее сам Шеффле, «против этого воспрянет сокровеннейшая природа человека; неискоренимая сила личного влечения к свободе, то есть нравственная природа человека, должна быть убита, прежде нежели большинство допустит, чтобы раз и навсегда было определено, что, где, как и когда дозволено есть, себя вести, останавливаться, путешествовать, разговаривать, научаться. Наверное, говорит Шеффле, терроризм, который захотел бы личную свободу потребностей оттеснить назад за пределы нынешней свободы среднего состояния, не мог бы продержаться более четверти года» (стр. 344).
Положим однако, что государству удалось бы узнать или определить заранее все потребности; что же из этого выйдет? Заявления будут бесконечно разнообразны, не только относительно количества и качества, но и относительно цен. Одни будут требовать известного количества произведений по одной цене, другие по другой, причем все, без сомнения, будут предлагать цену возможно низкую. Как же поступит тут правительство? Если оно установит среднюю цену, то предлагавшие более низкую цену не станут покупать, или купят произведение в меньшем количестве. Если оно, имея в виду удовлетворение всех потребностей, понизит цену против издержек производства, то оно останется в убытке; если же, наконец, но повысит цену, то вместо удовлетворения потребности оно сократит последнюю и тогда произведенное количество останется без сбыта, то есть опять же будет убыток.
Во всяком случае при таком порядке потребность не может быть правильным регулятором цен, ибо тут нет взаимодействия двух независимых друг от друга элементов, которые среди колебаний постепенно уравновешиваются. И потребности и цены, все находится в руках государства, которое по произволу может, понижая цены даже ниже издержек производства, возбуждать потребность, и наоборот, возвышая цены, сокращать потребность (стр. 344–345). Шеффле ссылается на то, что это делается и в настоящее время. Но когда частные производители повышают и понижают цены, они делают это в виду барыша, и если они плохо разочли свой барыш, то они разоряются. Государство же в подобных операциях, без сомнения, будет весьма часто терпеть убыток, но оно от этого не разорится, а разложит свой убыток на рабочих. В таком случае, по теории Шеффле, ценность рабочего дня сокращается; из него делается вычет, соответствующий понесенному обществом убытку (стр. 342, 346). Точно так же уменьшается ценность рабочего дня в тех отраслях, где сокращается требование на работу, и наоборот, возвышается ценность там, где увеличивается требование. Через это рабочие понуждаются переходить из одной отрасли в другую (стр. 346). То есть то, что выдается за неизменное мерило ценностей, будет постоянно колебаться, не только вследствие вечно изменяющихся потребностей, но и вследствие большей или меньшей выгодности всех производимых государством экономических операций. Вместо целого рабочего дня рабочий получает квитанцию на полдня, потому что государство в прошедшем году ошиблось в расчетах по каким-то другим отраслям производства. Ясно, что рабочий день превращается в чисто фиктивную единицу. Вместо того чтобы измерять что бы то ни было, он сам постоянно изменяется вследствие влияния совершенно посторонних обстоятельств. А вместе с этою единицею изменяется и ценность товаров, насколько она определяется издержками производства. При вычете прежних убытков из рабочего дня, можно даже недоумевать, каким образом следует на основании произведенных издержек определять цену новых произведений: должно ли принимать в расчет полный рабочий день или сокращенный, за который работник получил плату? Если мы примем последнее, то прежние убытки не будут возмещены ценностью новых произведений; если первое, то в определение новой ценности войдут не только настоящие издержки производства, но и убытки по всем прежним операциям, не имеющим даже ничего общего с данным производством. Тут является новый элемент, совершенно уже неопределенный, для которого невозможно подыскать никакого мерила.
В сущности, при таком порядке не требуется даже никакого мерила и никаких законов, ибо тут господствует чистый произвол. Правительство может устанавливать таксы по своему усмотрению, по той простой причине, что тут уничтожается всякая мена. Государство является единственным производителем, и из его магазинов рабочие по предъявлении квитанций берут все, что им нужно, по цене, установленной правительством. Так как конкуренции нет, то они волею или неволею принуждены сообразоваться с этою ценою. Все, что им дозволяется, это — сокращать свое потребление. Если же нет мены, то нет и меновой ценности, а потому трактовать о ней совершенно бесполезно. Социалисты заимствовали это понятие у экономистов, которые извлекли его из наблюдения жизненных явлений. Но к социалистическому порядку, не имеющему ничего общего с явлениями жизни, а представляющему только воображаемое устройство, это понятие неприменимо, и когда социалисты, пародируя научные приемы, стараются дать ему точное определение, оно в их руках, при ближайшем рассмотрении, оказывается просто миражем. Когда же они на этом мираже строят все свое экономическое здание, как делают Прудон и Маркс, то очевидно, что это здание является не более как воздушным замком. Система, основанная на призраке, сама нечто иное, как призрак.
Глава VIII. КОНКУРЕНЦИЯ
Правильная мена возможна только под условием свободы. Всякая мена предполагает две независимые друг от друга стороны, из которых каждая ищет приобрести от другой то, что ей нужно, за возможно меньшую плату; а так как свободный человек сам судья своих нужд и того, что он готов дать за приобретаемое, то очевидно, что нормальное решение вопроса заключается в обоюдном соглашении. Договор составляет естественную форму мены, и эта форма господствует на практике с тех пор, как существует торговля. В этой области основное начало юридического и экономического порядка находит вполне законное свое приложение.
Только под условием свободы возможно и правильное действие экономических законов, управляющих меною. Между предложением и требованием тогда только установляется естественное равновесие, когда оба деятеля не стесняются ничем. Всякое стеснение предложения ведет к его уменьшению, а вследствие того к ненормальному возвышению цены предмета, что, в свою очередь, производит уменьшение требования. Наоборот, стеснение требования ведет к упадку цен, и вследствие того к уменьшению производства. Наконец, произвольное установление цены влечет за собою либо уменьшение требования, если цена положена слишком высокая, либо уменьшение производства, если цена положена слишком низкая. В первом случае оказывается недостаток сбыта для произведений, во втором случае в результате является недостаток в удовлетворении потребностей. Законы мены продолжают действовать и при стеснениях, ибо от естественных законов уйти нельзя, но они действуют неправильно, вследствие чего потребности не удовлетворяются надлежащим образом.
Напротив, при свободных отношениях взаимодействие обоих факторов мало-помалу приводит их к естественному равновесию, причем главным регулятором является требование. С усилением его возвышаются цены, возвышение же цен, будучи источником прибыли, привлекает новые промышленные силы: производство вследствие этого увеличивается, а при увеличенном предложении цены снова падают до тех пор, пока восстановится нарушенное равновесие. Наоборот, с уменьшением требования цены падают, вследствие чего производство сокращается, а с уменьшением предложения цены опять растут. Таким образом, при нормальных условиях, там где нет никаких посторонних препятствующих причин, экономическая свобода в себе самой заключает начало, определяющее правильное отношение предложения к требованию, из которого вытекает нормальная при данных условиях цена произведений. Это вытекающее из свободы начало, которое ведет к естественному равновесию между предложением и требованием или к возможно полному удовлетворению требования по возможно низкой цене, есть конкуренция или промышленное состязание. При свободных отношениях каждый в силу личного интереса старается получить за свой товар возможно высшую цену. Но это стремление находит себе противодействие в личном интересе других. Под влиянием конкуренции каждый продавец, желающий сбыть свой товар, ценит его не дороже, а дешевле своих соперников. Иначе он не привлечет, а отобьет покупателей. Единственною границею являются здесь издержки производства, ниже которых нельзя продать товар, не потерпевши убытка, и к этой границе соперничество неудержимо приводит цены всех товаров, которые могут быть произведены в произвольном количестве.
Эти благодетельные последствия промышленного состязания издавна были замечены экономистами, которые сделали из него краеугольный камень своей системы. Бастиа в особенности прославлял конкуренцию, как верховное начало, производящее всеобщую гармонию интересов. И точно, выгоды ее как относительно производства, так и относительно распределения и потребления богатства, неисчислимы.
Прежде всего ничто так не содействует возбуждению промышленных сил. Если вообще личный интерес побуждает человека производить больше и лучше ввиду получения большей выгоды, то этот стимул действует несравненно сильнее, когда есть опасность быть превзойденным на данном поприще и вследствие того лишиться ожидаемой прибыли. Наоборот, нет ничего, что бы так способствовало умалению энергии в производителях, как монополия. Она дает человеку уверенность в получении прибыли без особенного труда; монополист просто пользуется выгодою своего положения. Только с появлением соперников это преимущество исчезает; тут оказывается необходимость напрягать все свои силы, чтобы идти с ними в уровень и даже по возможности их превзойти. Свободному состязанию человечество обязано всеми чудесами, которыми одарила его промышленность нового времени. Оно побуждает каждого предпринимателя работать неутомимо и изыскивать все средства, чтобы производить как можно больше и лучше. Какое отсюда проистекло развитие промышленного производства и торговых оборотов, об этом излишне распространяться; все это слишком известно.
Но не одно производство, а также и распределение богатства получает от конкуренции громадную пользу. В самом деле, что заставляет продавцов, при усилившемся требовании, понижать цену произведений? Если бы не было конкуренции, то производители находились бы в положении монополистов, получающих огромные барыши вследствие независящих от них обстоятельств. Но именно эти барыши привлекают новые силы, а конкуренция ведет к понижению цен. Таким образом, выгоды немногих распределяется между всеми производителями. То же самое имеет место при всяком новом изобретении или улучшении, которое дозволяет с меньшими издержками производить больше и лучше. Первые, прилагающие к делу новые способы, получают громадные прибыли; но конкуренция заставляет их понижать цены соответственно уменьшенным издержкам и таким образом делиться своими выгодами с другими.
Всего более выигрывают от этого потребители. Проистекающее от конкуренции уменьшение цен составляет чистый их барыш. Они получают возможность покупать товар у тех, которые доставляют его по более низкой цене или лучшего качества. Вследствие конкуренции продавец принужден довольствоваться платою за издержки производства, а все те выгоды, которые проистекают от обращения сих природы на пользу человека, достаются потребителям даром. Бастиа чрезвычайно наглядно изобразил это изумительное последствие промышленного состязания. Значение всякого изобретения, говорит он, состоит в замене человеческого труда действием сил природы. Но первый нововводитель, который пользуется этими силами, получает за них монопольную плату, ибо он производит с меньшими издержками, а берет за свои произведения ту же цену, что и другие. Когда же новый способ входит в общее употребление, то конкуренция заставляет всех понижать цены до пределов издержек производства, и тогда излишняя работа естественных сил достается потребителю даром. Таким образом, несмотря на то что орудия производства находятся в частных руках, конкуренция делает силы природы общим достоянием человечества[215].
Эти великие и благотворные результаты конкуренции не получаются однако без жертв. Цель достигается не иначе, как путем борьбы, а во всякой борьбе слабейшие остаются в накладе. Выгодная для сильных, конкуренция разорительна для тех, которые не в состоянии идти вслед за другими. Поэтому защитники равенства всеми силами ополчаются против этого начала. Социалисты направляют на него все свои громы. О благодетельных результатах промышленного состязания упоминается вскользь, а бедствия, проистекающие от борьбы интересов, выставляются в самом ярком свете. В особенности на этом поприще отличался Луи Блан. Он преследовал конкуренцию как злейшего врага не только работников, но и капиталистов. По его мнению, она является для народа системою истребления, для мещанства вечно действующею причиною бедности и разорения. Под влиянием безграничного соперничества постоянное понижение заработной платы становится общим и необходимым фактом. Работник лишается средств жизни, семейство разрушается, дети гибнут от преждевременной и непосильной работы. А с другой стороны, разоряется и масса предпринимателей. «Дешевизна, — говорит Луи Блан, — вот великое слово, в котором сосредоточиваются, по мнению экономистов школы Смитов и Сеев, все благодеяния безграничного состязания. Но зачем упорно смотреть на результаты дешевизны только относительно минутной выгоды, которую получает от нее потребитель? Дешевизна приносит пользу потребляющим, только бросая в среду производящих семена самой разорительной анархии. Дешевизна — это молот, которым богатые производители раздавливают беднейших. Дешевизна — это ловушка, в которую смелые спекулянты заставляют падать трудолюбивых людей. Дешевизна — это смертный приговор фабриканта, который не в состоянии приобрести дорогую машину, доступную более богатым его соперникам. Дешевизна— это исполнитель казней, совершаемых монополиею, это насос, высасывающий среднюю промышленность, среднюю торговлю, среднюю собственность, одним словом, это уничтожение мещанства в пользу нескольких промышленных олигархов». Луи Блан не хотел однако совершенно уничтожить дешевизну; но он утверждал, что свойство дурных начал состоит в том, что они добро превращают в зло. «В системе конкуренции, — говорит он, — дешевизна есть только временное и лицемерное благодеяние. Она держится, пока есть борьба; как же скоро богатый выбил с поля всех своих соперников, цены опять поднимаются. Конкуренция ведет к монополии; по той же причине дешевизна ведет к чрезмерным ценам. Таким образом, то, что между производителями было оружием войны, то рано или поздно становится причиною бедности для самих потребителей»[216].
Едва ли нужно доказывать, что вся эта риторическая аргументация страдает крайним преувеличением. В действительности, мы не видим ни постоянного понижения заработной платы под влиянием конкуренции, ни разорения массы предпринимателей, ни безмерного возвышения цен, ни монополий как результатов промышленной борьбы. Все это не более как декламация, с помощью которой социалисты, по своему обыкновению, отдельные случаи возводят в общее правило. Нет сомнения, что фабрикант, который остается при первобытных орудиях, когда другие работают усовершенствованными машинами, не в состоянии выдержать соперничество и должен наконец прекратить производство. Но таков удел всех отстающих от общего движения. Виновато в этом не соперничество, а совершенствование человечества. Можно помочь разорившемуся фабриканту, но нельзя сделать, чтобы он получал доход с производства, которое перестало быть выгодным. Окончательно польза от этой перемены достается потребителю, и эта выгода не временная и не лицемерная, как утверждает Луи Блан, а прочная и действительная. Всякое уменьшение издержек производства под влиянием конкуренции становится вечным достоянием человечества. Конкуренция является орудием прогресса. Она ускоряет общее движение, побуждает способнейших идти вперед и заставляет остальных напрягать все свои силы, чтобы следовать за ними. Отсюда ясно, что уничтожение конкуренции было бы уничтожением сильнейшего побуждения к совершенствованию. Это значило бы задержать передовых, с тем чтобы они шли в уровень с отсталыми. Такая система не что иное, как отрицание развития. Явная нелепость подобного воззрения привела новейших социалистов кафедры к более осторожной критике. Не отрицая важных и благодетельных последствий конкуренции, они утверждают однако, что экономисты не довольно обращают внимания на темные ее стороны; они полагают, что эту форму состязания, которую они считают только временным произведением нынешнего промышленного быта, можно заменить другими, не имеющими ее недостатков. Образцом такой критики может служить Адольф Вагнер, который в нескольких наглядных положениях сгруппировал все, что можно сказать против конкуренции[217].
Выгодную сторону промышленного состязания Вагнер видит главным образом в производстве. Усовершенствование техники, уменьшение вследствие того издержек производства и притом в интересе целого, ибо тут получается даровое содействие сил природы, приложение к делу возможно высшей степени мысли и деятельности, приманка чрезвычайного барыша, проистекающего от уменьшения издержек или от увеличения сбыта, таковы последствия, которые может иметь свободное соперничество. При этом однако, замечает Вагнер, не надобно забывать, во-первых, что эти выгоды вследствие проистекающего от конкуренции неправильного распределения богатства не всегда идут в пользу массы, и, во-вторых, что в действительности не всегда оказываются эти последствия, ибо вместо конкуренции между производителями может произойти сделка, и тогда установится фактическая монополия.
Но если в этих пределах признаются выгоды конкуренции, то отсюда не следует, говорит Вагнер, что эта система составляет, как утверждают ее защитники, единственное естественное состояние народного хозяйства. Подобный вывод не что иное, как софизм самого худшего свойства, и все последствия, которые из него выводятся, точно так же ложны, как он сам.
Софизм в доводах защитников конкуренции Вагнер видит в том, что у них происходит смешение понятий на счет самого существа промышленного интереса, составляющего движущую пружину состязания. Интерес признается естественною силою, действующею подобно тяжести по непреложным законам, между тем как в действительности это не более как человеческое влечение, которое служит побуждением для воли, но может быть руководимо разумом и не снимает с человека нравственной ответственности за его действия. Кроме того фактически достоверно, что эта система явилась плодом новейшей истории, и не видать, почему бы мы должны были признать ее окончательным результатом исторического развития. Напротив, можно думать, что она, как и всякое историческое явление, зависимое от категорий пространства и времени, составляет нечто преходящее, приспособленное только к известному состоянию общества. Одним словом, нынешняя система свободной конкуренции, по мнению Вагнера, есть историческая, а никак не логическая или естественная категория. В особенности признание нынешних юридических оснований этой системы, именно начал личной свободы и частной собственности, как естественных, логически необходимых и даже единственно необходимых границ конкуренции, по его уверению, ничто иное, как совершенно произвольный логический круг.
Если же самое начало ложно, продолжает Вагнер, то столь же неверны и все выводимые из него последствия, а именно: что основанный на свободной конкуренции промышленный быт, будучи произведением естественной необходимости, удовлетворителен, неизменен и оправдывается в себе самом; что конкуренция, доставляя победу способнейшим, тем самым производит справедливое, то есть согласное с достоинством каждого лица распределение народного богатства; что свобода и стремление к собственной пользе, которую каждый понимает лучше всех других, составляют необходимое требование народного хозяйства; что поэтому единственная здравая хозяйственная политика состоит в предоставлении промышленности самой себе, всякое же вмешательство государства не только вредно, но несправедливо и противоестественно; что задача государства в области народного хозяйства заключается единственно в защите от насилия, порядок же в промышленном мире должен установляться самою свободною конкуренциею, которая в результате своем приводит к полной гармонии хозяйственных интересов, вследствие чего в ней одной следует искать лекарства от всех зол.
Этот оптимистический взгляд на систему свободной конкуренции основан, по мнению Вагнера, на ложных и недоказанных аксиомах и положениях. Кроме того он выведен чисто умозрительным путем, без всякого внимания к действительности, и совершенно упускает из виду невыгодные последствия конкуренции, между тем как приложимость его к явлениям промышленного мира должна быть доказана опытом, путем наведения, причем неизбежно должны будут оказаться и те вредные последствия системы, которые здесь остаются в тени.
Сам Вагнер противополагает этому воззрению следующие положения: 1) что личный интерес не один определяет действия человека в промышленной области, но что рядом с ним являются и другие, нравственные побуждения, частью хорошие, частью дурные; 2) что система свободной конкуренции сама производит в промышленном обороте многие неправильности, бедствия и дисгармонии, которые вытекают из самой ее природы; 3) что система частного хозяйства вообще, и еще более при свободной конкуренции, не в состоянии удовлетворить всем потребностям, а именно, она или вовсе не удовлетворяет, или недостаточно удовлетворяет потребностям общественным.
Что касается в особенности до вредных последствий свободной конкуренции, то они, по мнению Вагнера, состоят в следующем: 1) победа способнейших при всех своих выгодах заключает в себе, с одной стороны, опасность фактической монополии, а с другой стороны, нередко покупается ценою значительного вреда для массы населения. В оправдание ее нельзя ссылаться на необходимость, проистекающую из естественного неравенства сил, ибо в человеке естественное неравенство сил может быть в значительной степени сглажено воспитанием. Кроме того в человеческих обществах к естественному неравенству присоединяется чисто искусственное, происходящее от неравенства умственного развития и имущественного положения. При таких условиях задача государства состоит именно в том, чтобы защитить слабых против сильных, а не предавать первых без разбора на жертву конкуренции, в которой они должны погибнуть. 2) При системе конкуренции побеждают не только способнейшие, но часто и бессовестнейшие, которые пользуются всеми средствами, чтобы нажиться, а это ведет к общему падению нравственности, ибо не только дурные делаются еще хуже, но и совестливые, чтобы держаться на общем уровне, принуждены за ними следовать и им подражать. 3) В системе свободной конкуренции крупное производство побеждает мелкое, что особенно ярко проявляется в обрабатывающей промышленности. Вследствие этого уменьшается число самостоятельных хозяев, и общество разделяется на противоположные классы крупных предпринимателей и наемных рабочих. Таким образом, неравенство идет возрастая, и установляются вредные для общества отношения подчинения и господства. В общем итоге, заключает Вагнер, и принимая особенно во внимание, что слабейшие элементы составляют огромное большинство народа, нельзя не прийти к заключению, что свободная конкуренция не должна обсуждаться исключительно со стороны ее выгод для производства и что во всяком случае на нее нельзя смотреть как на окончательное завершение промышленного развития. Она требует и поправки и восполнения.
Такова критика Вагнера. Тут прежде всего представляется вопрос: следует ли признать свободную конкуренцию естественным состоянием народного хозяйства, или она является только искусственным произведением известного промышленного быта? Этот вопрос сводится к следующему: вытекает ли свобода из самого естества человека или она составляет случайный и мимолетный плод известной исторической эпохи? Конкуренция не что иное, как явление свободы на промышленном поприще; следовательно, если мы свободу считаем принадлежностью самой природы человека, то мы конкуренцию должны считать естественным состоянием человеческих обществ; если же мы в конкуренции будем видеть только временное историческое явление, то мы и свободу должны будем признать не более как историческою категориею. Возражение Вагнера, что конкуренция фактически является плодом новейшего развития, совершенно одинаково прилагается к свободе. Одно начало держится и падает вместе с другим. Поэтому, если мы в свободе, а не в рабстве видим завершение человеческого развития, то то же самое мы должны сказать и о конкуренции.
Сам Вагнер говорит, что «признание личной свободы всех людей в государстве одно соответствует нравственному существу человека и составляет для общежития первостепенное требование гуманности и культуры» (§ 216). Но он утверждает, что это не более как формальное начало, которого содержание и объем должны определяться историческим развитием. Характеристическая же черта новейшей системы конкуренции состоит, по его мнению, в том, что здесь свобода является безграничною, чего в общественном интересе допустить нельзя (§ 217).
Но разве в самом деле система конкуренции есть господство безграничной свободы? Разве тут, напротив, свобода одного не ограничивается совершенно одинаковою свободою других? Производитель весьма охотно взял бы за свои произведения высшую цену, но так как он не может помешать другому продавать свой товар дешевле, то он сам принужден сообразоваться с положением рынка. Единственная свобода, которая предоставляется здесь человеку, есть право производить лучше и дешевле других, и эта свобода в одинаковой степени принадлежит всем. Производитель, вступающий в состязание с другими, никого не насилует, никого не прогоняет с рынка, никого не заставляет покупать свой товар: он только предлагает свои произведения, и от покупателя зависит купить их у него или у другого. Говорить при таких условиях о безграничной и анархической свободе значит заменять мысль фразою.
В этой системе не отрицаются и нравственные побуждения. Видеть в конкуренции естественное состояние человеческих обществ вовсе не значит признавать, что она действует, как и физическая сила, помимо человеческой воли и без всякой ответственности человека за свои действия. Свобода составляет принадлежность не физической силы, а именно воли; это не физическое, а нравственное начало, и где есть свобода, там есть и ответственность. Поэтому, когда Вагнер системе конкуренции противополагает существование в человеке нравственных побуждений, то это возражение бьет совершенно мимо. Производить лучше и дешевле других вовсе не есть безнравственный поступок. Если же на этом поприще допускаются безнравственные побуждения, то это происходит не от того что этого требует конкуренция, а от того что человек как свободное существо сам является судьею своих побуждений, и всякое вмешательство государства в эту область составляет ничем не оправданное насилие совести. Возражение Вагнера тогда только имело бы силу, если бы мы, по его примеру, допустили возможность принудительной нравственности. В этом случае действительно уничтожилась бы конкуренция, но единственно вследствие того, что этим самым уничтожилась бы свобода.
Наконец, система конкуренции не исключает в известных случаях и вмешательства государства. Благодетельные последствия этой системы оказываются только там, где конкуренция фактически возможна; если же вследствие исключительных условий конкуренция исчезает, и вместо ее на деле водворяется монополия, то исчезают вместе с тем и благодетельные ее последствия. Тогда вмешательство власти может сделаться необходимостью. Но виновата в этом не конкуренция, а напротив, отсутствие конкуренции. Как характеристический пример полного устранения конкуренции посредством сделок, слияний и фактических монополий Вагнер, вслед за другими, приводит историю частных железных дорог в Северной Америке, Великобритании и Франции (§ 128, примеч. 8). Но именно к железным дорогам система конкуренции по самым условиям дела неприложима. По одному и тому же направлению нормальным образом может быть проложена только одна железная дорога. Если будут построены две, то это будет совершенно бесполезная трата капитала, которая должна быть возмещена доходами с публики. Во всяком случае две дороги легко могут слиться или вступить в сделку, а для третьей нет уже места. Железные дороги по существу своему не допускают безграничного производства; это общественное предприятие, которое неизбежно должно составлять монополию. Последняя установляется вовсе не вследствие конкуренции, а силою вещей. Поэтому вмешательство государства здесь совершенно необходимо.
Точно так же уместно оно и во всех тех случаях, где дело идет об удовлетворении потребностей общества как целого, ибо удовлетворение этих потребностей лежит именно на обязанности государства. Если на деле оказывается, что система конкуренции достаточна для достижения этой цели, то государство может ею пользоваться, и это делается в огромном большинстве случаев; но оно всегда вправе изыскивать другие пути. И это не составляет нарушения конкуренции, точно так же как не нарушает конкуренции право всякого потребителя удовлетворять своим нуждам по собственному усмотрению, покупать произведения на рынке, заказывать их искусному мастеру или делать их у себя дома. Конкуренция есть право предлагать другим свои произведения, а отнюдь не право заставлять других приобретать произведения тем, а не другим путем. Поэтому, когда Вагнер системе конкуренции противополагает недостаточность ее для удовлетворения общественных потребностей, то это опять возражение, которое теоретически бьет мимо; практически же оно противоречит всему тому, что нам известно из опыта. В этом отношении можно сослаться на самого Вагнера. «Насколько вещественные блага нужны, как прямое средство для государственных целей, — говорит он, — настолько в развитом народном хозяйстве, как общее правило, лучше, чтобы государство покупало их в свободном обороте или приобретало их по заказу от частных лиц. Ибо здесь, как удостоверяет опыт, государство редко с успехом соперничает с частными хозяйствами в обыкновенном промышленном производстве, и частная промышленность охотно поставляет эти произведения по заказу. Поэтому государству большею частью выгодно отказаться от собственного производства этих предметов». Вагнер делает исключение лишь для тех случаев, когда государству нужны специальные вещи, которые потребляются только им, или же когда надобно сделать опыт или, наконец, когда конкуренция частных лиц очень мала, а контроль затруднителен. «Однако и тут, — замечает он, — а тем паче в большей части других областей, развитая частная промышленность с выгодою заменяет государственное хозяйство»[218]. Таким образом, частная промышленность при системе конкуренции, как удостоверяет опыт, не только не оказывается недостаточною для удовлетворения государственных потребностей, но удовлетворяет их лучше самого государства даже там, где она, по-видимому, всего менее к тому способна. Зачем же, спрашивается, делать такие возражения, которые сам автор признает несостоятельными?
Совершенно иное значение имеет та критика, которая направлена против конкуренции на собственной ее почве. Если бы действительно оказалось, что конкуренция разоряет массу в пользу немногих, что она подрывает нравственность и ведет к большему и большему неравенству между людьми, то следовало бы признать, что темные ее стороны перевешивают ее выгоды и что это начало во всяком случае должно быть ограничено. Но при ближайшем рассмотрении легко увидеть, что и эти доводы построены на весьма шатких основаниях.
Нельзя прежде всего не заметить, что Вагнер, ополчаясь против экономистов за то, что они выгоды конкуренции выводят чисто умозрительным путем, не обращая внимания на действительность, сам делает совершенно то же самое, когда говорит о ее недостатках. Он прямо даже в этом признается: «…именно в этих вопросах, — замечает он, — дедуктивная метода, правильно приложенная, достаточно доказательна», причем он обращает внимание на то, что здесь имеется в виду не столько исследование явлений, происходящих от приложения известного начала, сколько указание на стремления, вытекающие из этого начала (§ 134, примеч. 2). Но в таком случае, за что же ополчаться на умозрительные выводы вообще и на экономистов в особенности? Разве только затем, чтобы предварительно набросить на них тень, а затем самому втихомолку идти тою же дорогою? Тут же Вагнер признает, что за недостатком полной и достоверной экономической и социальной статистики невозможно даже сделать строго научного вывода из опыта; поэтому в подтверждение умозрительных выводов надобно довольствоваться ссылкою на «ежедневное наблюдение». Но ведь это значит отказываться от научного вывода. Известно, что все мыслители, которые исследовали и прилагали опытную методу, считают ежедневное наблюдение самым несовершенным научным доказательством. И если уже ссылаться на ежедневное наблюдение, то никак нельзя упрекнуть экономистов в недостаточном к нему внимании. Ежедневное наблюдение громогласно, на всех концах земли подтверждает правильность их умозрительных выводов. Везде конкуренция привлекает промышленные силы к выгодным производствам, понижает цены произведений и доставляет потребителям возможность приобретать товары самым выгодным для них образом. С другой стороны, экономисты вовсе не скрывают от себя темных сторон конкуренции; но они не придают им того преувеличенного значения, какое приписывает им Вагнер. «Повторяю, — говорит Бастиа, — я не отрицаю, не игнорирую и, так же как другие, горюю о страданиях, которые конкуренция приносит людям; но разве это причина закрывать глаза на приносимую ею пользу?… И какое есть в мире прогрессивное начало, которого благодетельное действие не было бы, особенно в начале, перемешано с многими страданиями и бедствиями?»[219]
Взглянем же на те темные стороны конкуренции, на которые указывает Вагнер.
Не станем распространяться о странном мнении, будто неравенство сил и способностей не составляет естественной принадлежности человеческой природы и, насколько оно существует, должно по возможности сглаживаться культурою. Сам Вагнер указывает на то, что не только это неравенство не исчезает вследствие культуры, но напротив, к естественному неравенству присоединяются еще другие, проистекающие из чисто человеческих отношений. Неравенство на высших ступенях развития несомненно больше, нежели на низших. Достигнет ли когда-нибудь человечество такого идеального состояния, где все будут равны и по способностям, и по развитию, и по имуществу, об этом бесполезно говорить; это значило бы предаваться праздным фантазиям. Факт тот, что неравенство всегда было и есть, что оно составляет плод всего исторического развития человечества и что уничтожить его нет никакой возможности. Спрашивается: как же должно относиться к нему государство? Должно ли оно защищать слабых против сильных, как требует Вагнер?
Несомненно должно, как скоро сильный хочет насиловать слабого. В этом и состоит задача права, и это именно делается в системе конкуренции, которая допускает только свободное состязание и исключает насилие. Единственное право, которое она дает человеку, состоит в том, чтобы производить дешевле и лучше других. При таких условиях ограничить конкуренцию во имя защиты слабых значит помешать способнейшим производить лучше и дешевле, нежели другие. Есть ли в этом малейший смысл?
Существуют два способа уравнения неравных сил: можно стараться слабейших поднять к уровню сильнейших или можно сильнейших низвести до уровня слабейших. Когда государство старается поднять уровень слабейших юридическою защитою, распространением образования, устранением препятствий приобретению материальных средств, наконец введением вспомогательных учреждений, находящихся в общем пользовании, то против этого ничего нельзя сказать. Подобный образ действия везде принят и совершенно совместен с системою конкуренции. Но если бы государство захотело поступать наоборот, и вместо того чтобы поднимать общий уровень слабейших, вздумало бы способных низвести на степень неспособных, ограничивая свободную их деятельность и их производительность, то это было бы чудовищное посягательство и на свободу человека, и на общественные интересы, и на требования развития. Общество подвигается вперед единственно через то, что есть в нем способнейшие люди, которые идут впереди других и тем самым заставляют остальных следовать за собою. Задерживать их значит останавливать развитие. В настоящем случае представляется к этому тем менее поводов, что вся деятельность этих лиц, хотя она движется личным интересом, обращается однако силою вещей на общую пользу. Высшая способность оказывается в том, что производитель лучше других умеет удовлетворить потребностям публики. Выигрывает от этого масса потребителей, которые при ограничении конкуренции принуждаются покупать дороже и хуже, нежели при свободе.
Отсюда ясно, что уверение Вагнера, будто конкуренция нередко влечет за собою большой материальный вред для массы народонаселения, идет наперекор очевидности. Дешевизна произведений и даровое действие сил природы на пользу человека бесспорно полезны для массы. Пострадать от этого могут некоторые производители, которые не в состоянии держаться на высоте общего уровня. Эти производители несомненно должны или разориться или отказаться от своего производства. Но продолжение дорогого производства не может быть выгодно ни для них самих, ни для массы потребителей. Самостоятельным хозяином может быть только тот, кто в состоянии удовлетворить наличным потребностям общества. Если же он производит дороже и хуже других, то он должен отказаться от самостоятельного производства и искать себе иного, более подходящего занятия. Конкуренция устраняет здесь именно то, что невыгодно для народного хозяйства. И это устранение совершается не насильственным путем, а силою вещей. Судьей является здесь потребитель, который дает предпочтение лучшему и дешевейшему товару. Поэтому всякое ограничение конкуренции есть вместе с тем ограничение прав потребителя и замена суждения лиц, пользующихся произведениями, суждением власти. Это подать, налагаемая на массу в пользу немногих.
Таковым представляется ограничение конкуренции даже и в том случае, который может найти себе оправдание в потребностях народного развития, именно, когда ограничивается конкуренция иностранцев в пользу туземного производства. Такого рода меры вызываются стремлением поднять уровень народной производительности, которая без защиты от соперничества иностранцев, находящихся в лучших условиях, не могла бы пустить корни и подняться на надлежащую высоту. Зреющая промышленность, как несовершеннолетний, нуждается в опеке. Но и тут эта опека водворяется в ущерб потребителям, которые должны уплачивать не только таможенную пошлину за иностранные товары, но и лишнюю цену туземного товара, получающего характер монополии. И тут это ничто иное как подать, налагаемая на массу в пользу немногих. Это становится совершенно очевидным, когда пошлиною облагаются предметы общей потребности, например железо. Все потребители железа, то есть масса народа, должны платить лишние деньги за потребляемый товар, и эта лишняя плата идет в пользу владельцев рудников. Государство в видах развития народного хозяйства может прибегать к такого рода ограничениям; но оно не должно скрывать от себя настоящего их характера.
Итак, ущерб, наносимый промышленным состязанием масс народонаселения, ничто иное как фикция. Вывести его из начала конкуренции, как пытается делать Вагнер, нет возможности.
Столь же несостоятельно и другое возражение, будто конкуренция ведет к победе худших элементов над лучшими, а вследствие того к падению нравственности в народе. Приводимый Вагнером пример относится к биржевой игре, где нередко люди обогащаются весьма нечистыми путями. Но биржевая игра и конкуренция — две разные вещи. Неправильное обогащение может происходить всякого рода путями, как при конкуренции, так и без конкуренции. Не на биржевой игре, а на правильной торговле основано народное хозяйство, а потому существенный вопрос состоит в том, кто в общем итоге является победителем в правильной торговле: те ли, которые обманывают потребителя, поставляя ему плохой товар, или те, которые честно ведут свое дело? На этот вопрос едва ли может быть два ответа. Честность в торговле составляет силу; она привлекает доверие. Потребитель охотно платит дороже купцу, когда он уверен, что всегда получит от него хороший товар. Те же, которые ищут обогащения обманом, весьма часто собственным опытом убеждаются, что бесчестность есть вместе и плохой расчет. И чем шире конкуренция, тем необходимее становится честное ведение дела. Подобно тому как она вытесняет с рынка неспособных, она вытесняет и тех, которые действуют обманом. Отсюда общее явление, что чем ниже промышленность, чем меньше в ней состязания, тем более господствует в ней обман. Наоборот, чем выше промышленное развитие народа и чем шире состязание, тем правильнее ведется дело. Конкуренция не только не влечет за собою упадка нравственности, а напротив, она всего более способствует водворению в торговом мире честных привычек, без которых правильное ведение крупных оборотов совершенно немыслимо. С развитием торговли нравственный элемент доверия становится все более и более преобладающим, а доверие все основано на честности.
Наконец, совершенно неверно положение, будто конкуренция непременно дает победу крупным производствам над мелкими. Сам Вагнер признает, что это явление обнаруживается не во всех отраслях, а главным образом в промышленности обрабатывающей или, вернее, в фабричной. Но почему же оно оказывается именно тут? Потому что это требуется самым развитием промышленности и совершенствованием техники. Невозможно продолжать первобытное ручное производство, когда можно производить в тысячу раз лучше и дешевле с помощью паровых машин. Конкуренция только обнаруживает это положение дел, и не на ней лежит вина. Можно устанавливать какие угодно ограничения, они не в состоянии сделать, чтобы невыгодное производство было выгодным, а выгодное невыгодным. Это признают даже те писатели, которые, вообще, вовсе не являются друзьями конкуренции. Так например, Брентано, говоря о законодательных попытках старых цехов защитить ремесленное производство против конкуренции крупных капиталов, прибавляет: «…но ни этот закон, ни все другие старания цехов не могли задержать хода развития, которое, особенно вследствие целого ряда технических изобретений, перевело всю промышленность в руки крупных капиталов. Ремесла, а с ними и цехи, более и более теряли свое значение, и в своем стремлении изменить естественное течение вещей они делались только предметами ненависти и презрения»[220].
Поэтому и относительное уменьшение числа самостоятельных хозяев в обрабатывающей промышленности следует приписать не конкуренции, а изменению условий производства. А так как это изменение выгодно для народного хозяйства, то об этом нечего и жалеть. Нет никакой нужды, чтобы в обществе было как можно более самостоятельных хозяев. Приказчики, смотрители, техники и высшие рабочие на фабриках столь же полезны и могут иметь такое же, если не еще более обеспеченное положение. Социалисты, стремящиеся к уничтожению всех частных хозяйств и к сосредоточению всей промышленности в руках казны, всего менее вправе делать подобный упрек конкуренции. Вредное действие на народное хозяйство оказалось бы единственно в том случае, если бы действительно конкуренция вела, с одной стороны, к большему и большему сосредоточению богатства в руках немногих, а с другой стороны, к большему и большему обеднению массы; но именно этого мы не видим. В подтверждение своего взгляда ни Вагнер, ни другие писатели, разделяющие его теорию, не приводят никаких фактов. Напротив, факт тот, что конкуренция понижает барыши предпринимателей и разливает благосостояние в массах. Временные бедствия, проистекающие от изменения условий производства, исчезают, как скоро промышленность входит в правильную колею, и именно под влиянием конкуренции уступают место широкому развитию народного богатства. Мы подробнее увидим это ниже, когда будем говорить о распределении богатства.
Частных бедствий, конечно, отрицать невозможно, и никто не думает их отрицать. Где есть борьба, там неизбежны и страдания. В конкуренции проявляется не только борьба различных промышленных сил, но и борьба старого порядка с новым. В этой борьбе старое неминуемо должно погибнуть, ибо оно не соответствует более потребностям времени; новое обыкновенно водворяется только ценою страданий. Но когда говорят, что конкуренция рядом с гармониею интересов производит и дисгармонию, то надобно спросить: каков же окончательный ее результат? К чему она ведет? Ответом на этот вопрос служит самая цель конкуренции. Из-за чего соперничают производители? К чему они стремятся? К тому, чтобы производить как можно дешевле и лучше. Каждый из них старается приманить к себе потребителей высшим качеством и большею дешевизною произведений. Цель, следовательно, состоит в удовлетворении потребителя, и победителем в борьбе остается тот, кто лучше других достигает этого результата. Но этот результат и есть цель всей хозяйственной деятельности человека. В удовлетворении потребителей заключается именно та высшая гармония интересов, к которой стремится все промышленное развитие. Борьба является здесь только средством. Таким образом, в системе конкуренции противоположность интересов составляет лишь преходящий момент; окончательный результат состоит в высшем их соглашении.
Нельзя ли однако достигнуть этого результата иным путем, минуя ненавистную борьбу и избавляя человечество от страданий? Никоим образом. Борьба составляет необходимое последствие свободы, а вместе и необходимое условие всякого человеческого совершенствования; уничтожить ее можно только уничтоживши как свободу, так и развитие. Все, что можно и должно требовать, это то, чтобы борьба была мирная, а не насильственная, а в этом и состоит система конкуренции. Только этим путем на промышленном поприще может быть достигнута цель человеческой деятельности. Для того чтобы потребитель был удовлетворен, необходимо соперничество производителей, из которых каждый, наперерыв перед другими, старается доставить ему то, что ему нужно. При такой системе, которая есть система свободы, потребитель является высшим судьею всей промышленной деятельности; он может выбирать себе то, что ему потребно, и в этом состоит гармония интересов. Как же скоро этот порядок устраняется и заменяется другим, так потребитель теряет свое выгодное положение. Он перестает быть судьею, а должен довольствоваться тем, что ему дают. Следовательно, он остается неудовлетворенным, и гармония интересов не достигается. С устранением соперничества становится невозможным достижение цели промышленного производства. Потребитель ставится в положение невесты, которая берет жениха не по собственному выбору, а получает его из рук опекуна.
Все эти столь очевидные положения делаются, если можно, еще доказательнее, если мы сравним конкуренцию с противоположным ей началом, то есть с монополиею. Всякое ограничение конкуренции есть в большей или меньшей степени установление монополии. Монополия же, как известно, ведет к эксплуатации потребителя производителем. Последний, не имея соперников, лишается всякого побуждения к совершенствованию. Ему не за чем стараться угодить потребителю, ибо он знает, что потребитель принужден брать то, что ему дают. Таким образом, отношения здесь совершенно меняются: если в системе конкуренции потребитель был судьею производителя, то здесь он становится в зависимость от последнего, и чем более стеснено соперничество, чем шире монополия, тем эта зависимость больше. Если бы все промышленное производство сосредоточивалось в руках одного монополиста, то потребители сделались бы полными рабами.
К этому именно ведут все социалистические системы. Они стремятся установить величайшую из всех монополий, монополию государства. Тут исчезает всякая конкуренция; потребителю негде взять что бы то ни было, иначе как из казенных магазинов. Он не только принужден довольствоваться тем, что ему дают, но самые его потребности определяются государством. Из верховного судьи всего промышленного производства он превращается в страдательное орудие чужой воли. Государство, с своей стороны, не имеет никакого интереса в возможно лучшем и дешевейшем производстве. Убытков оно не терпит, ибо, если оно сделало неправильный расчет, то оно потерю распределяет на работников или на потребителей. Доходы свои оно получает из общей массы, взимая сперва все для себя нужное и затем предоставляя остальное производителям, которые должны довольствоваться остатками. Единственная узда состоит в опасении возбудить неудовольствие публики. Но через это всякий мелкий вопрос промышленного производства возводится на степень политического события. При системе конкуренции плохое или слишком дорогое произведение просто не покупается; потребитель может искать в другом месте. Здесь же всякий другой путь ему прегражден, и он принужден вести войну с казенным управлением. Вместо мирной борьбы свободного состязания, на всех пунктах должна возгореться политическая борьба из-за экономических интересов. Если ко всему этому прибавить, что эта монополия неизбежно должна находиться в руках господствующей партии, то сделается очевидным, что подобное устройство представляет нечто чудовищное, несовместное ни с какими гарантами права и ни с какими промышленными успехами. Можно, по примеру Шеффле, мечтать о замене существующей конкуренции системою испытаний и премий: эти мечты доказывают только, что сами социалисты не видят возможности обойтись без состязания, которое одно напрягает все человеческие силы и способности; но они естественное состязание хотят заменить искусственным, при котором судьею является не потребитель, имеющий ближайший интерес в деле, а чиновник, равно чуждый интересам производства и потребления. Как уже было указано выше, подобная система неизбежно ведет к господству бюрократического формализма, личных искательств и, наконец, неразлучного с владычеством чиновничества непотизма.
Менее всего при таком порядке может быть достигнута та гармония интересов, во имя которой ратуют социалисты. Гармония в промышленной области состоит в возможно лучшем удовлетворении потребителя с выгодою для производителей. Эта цель достигается там, где производители принуждены состязаться между собою, чтобы получить награду из рук потребителей, то есть при системе конкуренции. Но она не достигается там, где потребители совершенно устраняются от решения вопроса, а производителем является монополист, полновластно распоряжающийся как производством, так и потреблением. То, что в системе конкуренции составляет главное, именно, удовлетворение потребителя, то здесь становится зависимым началом. Замена суда потребителя судом чиновника, свободы — опекою, конкуренции — монополиею, таковы существенные черты социалистического порядка. О промышленном развитии тут не может быть речи, и еще менее может быть речь о надлежащем удовлетворении человеческих нужд.
Глава IX. ДОХОД
В цене произведений заключается как возвращение затраченного капитала, так и доход производителей. За вычетом капитала все остальное образует доход, который распределяется между производителями. Некоторые из них однако получили уже свое вознаграждение заранее, в виде аванса; вследствие этого то, что для них составляете доход, то для других является тратою капитала, которая возмещается в цене произведений. Но этот аванс не изменяет расчета, а имеет лишь то последствие, что затраченный таким образом капитал должен возвратиться с прибавлением к нему процентов, которые составляют с него доход.
Спрашивается: в какой пропорции и по какому закону совершается распределение дохода между производителями?
Мы видели, что в производстве участвуют четыре деятеля: природа, капитал, труд и направляющая воля. Сообразно с этим существуют четыре вида промышленного дохода: поземельная рента, процент с капитала, заработная плата и прибыль предприятия. Рассмотрим отдельно каждый из них.
1. Поземельная рента
Под именем поземельной ренты разумеется плата за землю как орудие производства. Этот доход принадлежит землевладельцу как землевладельцу[221].
В экономической науке с теориею поземельной ренты неразрывно связано имя Рикардо. Мы видели уже выше эту теорию. Она заключается в том, что поземельная рента составляет плату за действие производительных и непогибающих сил природы, плату, которая получается тогда, когда возвышение цен на произведения земли заставляет перейти к обработке земель худшего качества и с менее выгодным положением. Эти последние не приносят ренты, а вознаграждают только затраченные в них капитал и труд; лучшие же или ближайшие к сбыту земли представляют избыток дохода, который идет землевладельцу и составляет поземельную ренту. Последняя равняется таким образом разности между доходностью земель первого и второго разряда. Когда вследствие умножения народонаселения и увеличившихся потребностей цена произведений земли поднимается еще выше, то производители находят выгодным перейти к обработке земель третьего разряда; тогда земли второго разряда вследствие большей доходности начинают также приносить ренту, а рента с земель первого разряда соответственно возвышается. Таким образом, поземельная рента равняется всегда разности между доходностью данного участка и доходностью земель последнего разряда, не приносящих никакой ренты, а только вознаграждающих капитал и труд.
То же самое действие имеет последовательное обращение на один и тот же участок капиталов, приносящих все менее и менее дохода, что, как мы видели, составляет необходимое явление в интенсивном хозяйстве. Возвышение цен делает выгодным приложение к земле капиталов даже с меньшим доходом; прежний же капитал вследствие этого дает избыток, образующий ренту.
Все это вытекает, как необходимое следствие, из умножения народонаселения. А так как по естественному ходу вещей народонаселение постоянно растет, количество же земли остается одно и то же, то поземельная рента, по учению Рикардо, должна постоянно возвышаться. Таким образом, поземельный собственник как монополист, имеющий в руках производство предметов первой необходимости, один пользуется выгодами, проистекающими от развития народной жизни.
Против этой теории последовали весьма существенные возражения. Они хорошо резюмированы у Леруа-Болье[222].
Прежде всего, фактически неверно, что обработка земель исторически идет от лучших к худшим, как предполагал Рикардо. Напротив, самые тучные земли, дающие наиболее дохода, обыкновенно поступают в обработку позднее, ибо они требуют некоторого умения и приложения капитала, для того чтобы привести их в надлежащее состояние. На это обстоятельство указал в особенности американский экономист Кэри.
Этим однако не опровергается основное положение Рикардо, именно, что большее плодородие почвы и выгоды местности дают известным участкам преимущество, которое и выражается в поземельной ренте. Это положение остается верным, каким бы порядком ни шла последовательная обработка земли. Если земледелие позднее переходит к более плодородным почвам, и последние оказываются достаточными для удовлетворения потребностей, то менее плодородные покидаются или перестают приносить ренту. Закон от этого не изменяется. У самого Рикардо изображение последовательного развития земледелия имело значение более гипотезы, служащей для выяснения закона, нежели исторического факта. Гораздо важнее другое обстоятельство, которое более существенным образом видоизменяет теорию Рикардо, именно, что только на первобытных ступенях земледелия производительность почвы зависит исключительно от сил природы. На высших ступенях главным деятелем является положенный в землю капитал. Мы уже говорили об этом выше. Посредством капитала бесплодные почвы обращаются в плодородные. Самые производительные силы земли истощаются; человек должен с помощью труда и капитала возвратить природе то, что он у нее отнял. Вследствие этого поземельная рента перестает быть платою за действие усвоенных человеком сил природы: существеннейшую часть ее составляет процент с положенного в землю капитала, и эти два элемента так тесно связываются друг с другом, что их нельзя даже разделить.
Кроме того, с расширением промышленности и торговли невозможность увеличить пространство земли, состоящей во владении данного общества, перестает иметь существенное значение, ибо с местными произведениями могут конкурировать произведения плодородных земель, находящихся в других местах земного шара. Только искусственными стеснениями туземные землевладельцы ограждают себя от иностранного соперничества. За ними, конечно, остается выгода положения, но и эта выгода значительно сокращается с умножением капитала и с усовершенствованием путей сообщения. При удешевлении перевозки близость расстояния теряет в значительной степени свое преимущество. Если прибавить к этому, что именно на близких расстояниях от больших центров господствует интенсивное хозяйство, требующее огромных издержек и удобрений, которые выписываются нередко из далеких стран, тогда как конкурирующие отдаленные, но первобытные почвы дают обильные жатвы почти без всяких расходов, то легко убедиться, что выгода, проистекающая от близости расстояния, может перевешиваться другими условиями и даже низойти на степень нуля.
Европа в последние годы испытала на себе действие этих новых элементов. Конкуренция Америки при удешевлении средств перевозки заставила английских и французских землевладельцев значительно понизить получаемую ими ренту. В Англии это понижение произошло в размере от 10 до 20 процентов. Один герцог Бедфорд в прошедшем году уменьшил свой доход на 70 000 фунтов. А так как удешевление может идти еще далее, то и дальнейшее понижение ренты представляется весьма вероятным.
При таких условиях не только нельзя сказать вместе с последователями Рикардо, что землевладельцы в качестве монополистов одни пользуются выгодами, проистекающими от умножения народонаселения и богатства, но можно, напротив, опасаться, что землевладение сделается слишком невыгодным помещением капитала. Мы видели эти опасения у Штейна. Уже в настоящее время рассчитывают, что происшедшее в нынешнем столетии возвышение поземельной ренты едва равняется обыкновенным процентам с положенного в землю капитала[223]. С понижением же ренты затраты сделаются еще непроизводительнее и рискованнее. А между тем только большая или меньшая верность дохода с земли может до некоторой степени уравновесить те значительные прибыли, которые нередко получаются при помещении капиталов в другие предприятия. Если и на эту верность нельзя рассчитывать, то на стороне землевладения останется одно нравственное положение, которым люди могут дорожить, хотя бы оно было сопряжено с материальным ущербом. А так как уменьшение дохода землевладельцев при понижении цен идет в пользу массы населения, то государство, с своей стороны, не может не дорожить этими нравственными выгодами, которые заставляют высшие массы довольствоваться меньшею долею дохода, нежели какая приходилась бы им в силу простого действия экономических законов. Мы здесь опять приходим к тому положению, что для государства нет никакого расчета взять в свои руки эту мнимую монополию. На низших ступенях, когда действуют одни естественные силы, при обилии земель, она имеет мало значения и едва достаточна для привлечения к земледелию образованных элементов; на высших же ступенях она может поддерживаться только постоянным вкладом капитала, приносящего меньшие проценты, нежели в других отраслях.
Конечно, есть условия, при которых землевладельцы могут получить более или менее значительные выгоды: цены на земли растут, когда вследствие умножения народонаселения или улучшения средств перевозки земледельческим произведениям открывается новый сбыт. Таков закон для всех отраслей производства: усилившееся требование возвышает ценность произведений, а вместе и доход производителей. Но точно так же доход может падать, когда вместо сбыта является внешняя конкуренция, понижающая цены. Так например, в Англии арендная плата за землю после 1815 г. понизилась на 50 %. То же самое произошло и после отмены хлебных законов и, наконец, как сказано, в новейшее время вследствие конкуренции Америки. Временные колебания могут быть в ту или другую сторону, но общий ход — указанный выше.
В итоге, теория Рикардо, верная, если принять в соображение одни силы природы, существенно видоизменяется действием капитала, который, умножая производство, восстановляя истощающиеся естественные силы, превращая бесплодные земли в плодородные, и наконец, удешевляя издержки перевоза, делает неравенство естественных условий второстепенным фактором промышленного производства. Некоторое значение это неравенство всегда сохраняет, вследствие чего на лучших землях рента все-таки выше, нежели на худших. И в этом отношении теория Рикардо остается верною. Но, во-первых, это неравенство проистекает не только от естественных условий, но и от положенного в землю капитала. Во-вторых, оно с развитием земледелия идет не увеличиваясь, а уменьшаясь. Плодородие почвы не может возвышаться до бесконечности, и предел его скорее достигается на лучших землях, нежели на худших. Последние посредством усовершенствованной обработки постепенно переходят в высший разряд и через это приближаются к первым. Так например, по исчислениям Пасси, в некоторых местностях Франции с 1829 г. по 1852 арендная плата за лучшие земли возвысилась на 32 %, а за худшие на 250 и даже на 500 %[224]. Таким образом, доход землевладельца получается не столько от того, что сделано природою, сколько от того, что сделано самим человеком.
Совершенно с иной точки зрения восстает против теории Рикардо Родбертус. Принимая за аксиому основное положение Рикардо, что ценность произведений определяется количеством положенной в них работы, но извращая смысл этого положения, он выводит отсюда, что капиталист совокупно с землевладельцем, пользуясь монополиею, берут себе в виде поземельной ренты и процента с капитала часть того, что принадлежит рабочим. Распределение же между ними этого похищенного достояния определяется особенностями земледельческой и обрабатывающей промышленности. Доля, причитающаяся каждой из них в совокупном <наборе> произведений, в силу общего экономического закона соразмерна с количеством положенной в произведения работы, как в той, так и в другой. Та же пропорция существует и между доходами землевладельца и капиталиста. Так например, если количество работы, положенной в произведения земледелия и обрабатывающей промышленности, одинаково, то и доля, причитающаяся владельцам этих произведений в силу права собственности, будет одинаковой. Но отношение этой доли к затраченному капиталу будет разное, вследствие того что обрабатывающая промышленность принуждена делать большие затраты, нежели земледельческая. Первая кроме издержек на орудия производства и на заработную плату покупает еще материал; второй же материал дается природою. А так как отношение прибыли к затраченному капиталу составляет процент, и в действительности этот процент исчисляется одинаково для обеих отраслей, причем за норму принимается промышленность обрабатывающая, то очевидно, что в земледелии всегда останется излишек дохода, соответствующий сбережению на покупку материала. Этот именно избыток представляется в виде поземельной ренты, которую землевладелец получает с земледельческого дохода, за вычетом обыкновенного процента с затраченного капитала. Из этого ясно, заключает Родбертус, что поземельная рента существует всегда, какова бы ни была ценность произведений и каковы бы ни были издержки производства. Она проистекает не из различия доходности земель, как утверждает Рикардо, а из того, что капиталист и землевладелец присваивают себе часть того, что принадлежит работникам, причем землевладелец, не имея надобности покупать материалы, получает большую прибыль в сравнении с своими издержками; одна часть этой прибыли представляется доходом с затраченного капитала, другая же часть, составляющая излишек, является доходом от земли[225].
Эта запутанная софистика представляет живой пример способа аргументации Родбертуса. Не станем говорить о совершенно произвольном положении, что ценность произведений определяется исключительно количеством положенной в них работы, то есть заработного платою и тратою орудий, не принимая в расчет процента с капитала и дохода с земли. Этот вопрос мы уже разбирали выше. Но из чего следует, что доход собственников соразмеряется точно так же с количеством положенной в произведения работы, а не с сделанными ими затратами? Если в обрабатывающей промышленности капиталист исчисляет свою прибыль соразмерно с своими издержками, то и землевладелец должен делать то же самое, и если на одной стороне окажется избыток дохода, то при свободном передвижении капиталов положение их скоро уравняется. Сам Родбертус признает, что и в земледелии прибыль с капитала исчисляется на основании общеупотребительного в обрабатывающей промышленности процента; в силу чего же это совершается? Причина та, что если в одной отрасли прибыль больше, нежели в другой, то капиталы устремляются туда, где производство выгоднее, до тех пор пока не установится общий уровень. При таких условиях, если бы действительно капиталисту в обрабатывающей промышленности приходилось получать одинаковую прибыль при больших затратах, то единственным результатом такого порядка вещей было бы то, что значительная часть капиталов перешла бы к земледелию, пока не восстановился бы уровень. Избытка не оказалось бы никакого.
Мало того, если мы, как требует Родбертус, при исчислении доли каждого производителя должны отправляться не от отдельных отраслей, а от совокупного производства, разделяя между производителями окончательный результат, полученный в цене произведений, то мы неизбежно придем к заключению, что прибыль землевладельца в сравнении с капиталистом должна быть не больше, а меньше. В самом деле, отчего капиталист в обрабатывающей промышленности принужден делать большие затраты? Оттого что он покупает материалы у владельца земледельческих произведений. Но по этой теории, покупая у последнего материалы, он дает ему вперед то, что должно причитаться ему, только когда произведение поступит в руки потребителя. Если же капиталист делает землевладельцу аванс и на этот аванс насчитывает известный процент прибыли, то этот процент должен быть уплачен ему никем иным, как тем самым лицом, кому делается аванс, то есть землевладельцем. Через это доля последнего должна не увеличиться, а уменьшиться. Из своего дохода он должен вознаградить капиталиста за сделанную в его пользу затрату. Опять избытка не окажется.
Таким образом, с какой стороны мы ни возьмем теорию Родбертуса, поземельная рента ею не объясняется. В теории Рикардо при некоторой ее односторонности видна ясная мысль и понимание дела. У Родбертуса кроме кривых понятий, вытекающих из странного сочетания фантастических представлений с противоречащими им явлениями жизни, мы ничего не находим.
В действительности, поземельная рента определяется, с одной стороны, ценою произведений, с другой стороны, отношением земли к другим деятелям производства. Землевладелец получает как плату за землю ту долю дохода с произведений, которая остается за вычетом заработной платы, процента с капитала и прибыли предпринимателя. Там, где цена произведений вознаграждает только текущие издержки и дает обыкновенную прибыль, поземельная рента доходит до нуля. В таких случаях хозяин может сам пользоваться землею, которая дает ему вознаграждение за положенные в нее труд и капитал; но сдавать ее в аренду он не может, ибо никто ее не возьмет, иначе как себе в убыток. Если с землею соединился капитал постоянный, то известная поземельная рента, составляющая процент с этого капитала, принадлежит уже к издержкам производства; иначе затрата капитала не окупится. Такого рода рента составляет наименьший предел безубыточного производства. Затем по мере возвышения цены произведений при одинаковых других условиях возвышается и рента, а так как цена зависит от предложения и требования, то основной закон экономического оборота является вместе и определяющим началом дохода.
Распределение этого дохода между различными деятелями, участвующими в производстве, зависит от взаимного их экономического отношения. В производствах, связанных с землею, это отношение определяется тою мерою, в какой требуется содействие других деятелей, и тою платою, которую они берут за это содействие.
Первое находится в обратном отношении к качествам самой земли, разумея под этим словом все доставляемые ею выгоды. Чем выше качества земли, тем меньше требуется участие других деятелей для одинакового количества произведений.
К числу этих качеств принадлежит прежде всего производительность почвы. На плодородной почве при меньших издержках получается большее количество произведений, а потому поземельная рента при одинаковых других условиях здесь выше, нежели в других местах. Производительность почвы может увеличиваться вследствие технических усовершенствований, которые дают возможность извлекать из действия сил природы большие результаты. В таком случае с землею соединяется капитал, и тогда при исчислении ренты надобно принять в расчет проценты с этого капитала. Если капитала положено много, то возвышение ренты может быть мнимое. Рента исчисляется на известное пространство земли, которое всегда остается одно и то же, а потому может казаться, что рента растет, тогда как в сущности она составляет доход с гораздо большего капитала, положенного в землю. Вследствие этого доход собственно с земли в действительности может быть даже меньше прежнего, тогда как номинально, сравнительно с данным пространством, он представляется больше.
Кроме плодородия почвы к качествам земли принадлежит выгодность положения, то есть близость или дальность от мест сбыта, а также удобство и дешевизна сообщений. Земли, находящиеся ближе к месту сбыта или пользующиеся более удобными и дешевыми сообщениями, приносят более дохода, нежели те, которые не имеют этих преимуществ. Издержки для доставления произведений на рынок тут меньше, следовательно требуется меньшее участие труда и капитала, соразмерно с чем уменьшается и доля последних в доходе, получаемом с произведений.
Эта доля зависит не только от меры, к какой требуется участие других деятелей в производстве, но и от высоты той платы, которую они взимают за это участие. Высота же платы определяется опять законом предложения и требования. Чем больше земли в сравнении с народонаселением, тем выше будет заработная плата и тем меньше останется для ренты, и наоборот. То же самое имеет место и в отношении к капиталу. Когда говорят, что высота процента с капитала в земледелии всегда определяется высотою процента в обрабатывающей промышленности, то упускают из виду, что требование капитала в земледелии возвышает процент и в других отраслях, так же как и наоборот, требование капиталов в других отраслях, уменьшая предложение их в земледелии, тем самым поддерживает высоту процента, хотя бы при уменьшении количества земли рента имела стремление к возвышению. Наконец, тот же закон управляет и отношением поземельной ренты к прибыли предпринимателя. Тут является отношение предпринимателя, с одной стороны, к земле, с другой стороны, к капиталу. Там, где предприятия обращаются преимущественно на землю, там неизбежно растет поземельная рента, которая может достигнуть даже неестественной высоты вследствие конкуренции соискателей. Предприниматель готов иногда довольствоваться самым малым, лишь бы получить клочок земли. Таково отчасти положение дел в Ирландии. Там же, где рядом с земледелием возникают и всякого рода другие предприятия и где поэтому небольшой капиталист не поставлен в необходимость влагать свой капитал непременно в землю, а может выбирать между различными отраслями, там поземельная рента держится на умеренной высоте, и положение предпринимателя становится выгоднее. Это именно замечается в странах, где производительность развивается равномерно. В Англии и Франции, как мы видели, положение фермера в настоящее время несравненно лучше, нежели прежде; увеличение производительности земли идет главным образом в его пользу. А с другой стороны, от этого не страдает и землевладелец, ибо, если конкуренция других отраслей в требовании труда, капитала и предприимчивости ведет к понижению поземельной ренты, то это стремление уравновешивается возрастающим требованием на произведения земли, которое рождается при развитии других отраслей производства. Тут является новый сбыт, вследствие которого возвышается цена произведений, а соразмерно с этим и поземельная рента. Таким образом, обоюдная выгода достигается всесторонним развитием производства, а так как развитие других отраслей зависит главным образом от накопления капиталов, то и в этом отношении возрастание капитала является существеннейшим условием народного богатства.
2. Процент с капитала
Процент составляет вознаграждение за выгоды, доставляемые употреблением капитала. Всего яснее это выражается в ссудах, когда капиталист и предприниматель являются двумя разными лицами. Предприниматель получает чужой капитал на время и обязан его возвратить; но сверх того он должен вознаградить капиталиста за выгоды, доставленные ему в промежуточный срок употреблением капитала. Это вознаграждение, сравненное с капитальною суммою, называется процентом. При употреблении капитала самим хозяином та же выгода получается им самим. Поэтому и здесь на капитал насчитывается известный процент, который входит в состав издержек производства. Иначе хозяин, сам употребляя свой капитал, лишился бы той выгоды, которую он получает при отдаче его в чужие руки. Высотою процента при ссудах определяется и высота процента при собственном употреблении. Таким образом капитал, находясь в обороте, дает рост. Это и служит выражением того основного экономического факта, что капитал является деятелем производства.
Процент с капитала есть по этому самому явление мировое. С тех пор как существуют на свете ссуды, существуют и проценты.
Никогда ни один народ без них не обходился, и все стремления уничтожить проценты, придавая ссудам чисто нравственный характер благотворительности, оказывались тщетными, ибо вознаграждение за употребление капитала необходимо вытекает из самых коренных законов и условий экономического быта.
Уже в древнейшем законодательстве Индии, в законах Ману, мы находим постановления о росте. Там прямо говорится, что кто берет два процента в месяц даже с Брамина, тот не повинен в беззаконной прибыли. У евреев воспрещено было взимание роста с соотечественников, но дозволено было брать проценты с иностранцев. У греков при их воззрении на деятельность и обязанности гражданина отдача денег за проценты подвергалась осуждению; Аристотель считал взимание роста, так же как и торговые обороты, противоестественным способом обогащения. Тем не менее еще Солоном разрешено было брать проценты по обоюдному соглашению без всякого ограничения. В Риме была установлена им законная норма. Только в средние века под влиянием церкви, которая, опираясь на еврейский закон, ратовала против всякого роста, произошла реакция и в светском законодательстве. Но настоятельные потребности промышленности нового времени заставили отказаться от этого взгляда. Новая философия права, равно как и положительное законодательство всех европейских народов, признали процент с капитала правомерным способом получения дохода.
В настоящее время одни социалисты считают процент явлением незаконным. Прудон объявил производительность капитала фикциею, а получаемый с него доход вымогательством, проистекающим из права собственности. Нормальный экономический порядок, по его теории, должен быть основан на взаимности услуг, которые должны уравновешиваться без всякой прибыли для кого бы то ни было. Поэтому и кредит, который ничто иное, как мена, должен быть даровой. Все производители, обмениваясь своими произведениями, кредитуют друг друга, не взимая за это никакой особенной платы. Разница состоит лишь в том, что одни отдают свои произведения зараз, а другие в несколько сроков. На этом Прудон основывал свой знаменитый проект менового банка, который должен был сделаться всеобщим посредником мены без помощи денег, пуская в ход бумаги, представляющие ценность обменивающихся произведений, и взимая за это лишь плату необходимую для покрытия издержек. Из этого банка он совершенно устранял государство: все должно было быть основано на взаимности производителей[226].
Против этой теории дарового кредита восстал Бастиа. Отправляясь, точно так же как Прудон, от проявляющейся в обороте взаимности услуг, он доказывал, что тот, кто дает другому кредит, то есть предоставляет срок для уплаты, тем самым оказывает услугу, за которую он должен быть вознагражден. Не все равно, платить за произведения немедленно или через год, через два, три или четыре года. Получающий отсрочку тем самым приобретает выгоду, за которую он должен заплатить. Иначе всякий захотел бы получить кредит, и никто не хотел бы его давать. И чем долее срок, тем плата очевидно должна быть больше. В этом и состоит процент. Там, где оборот основан не на благотворительности, а на расчете, процент с капитала составляет необходимую принадлежность всякой кредитной сделки. Это вознаграждение за оказанную услугу, именно, за право употреблять в течение известного времени чужой капитал[227].
Эта аргументация совершенно уничтожала теорию Прудона. Вызванный на бой, знаменитый социалист метался во все стороны, но прямого ответа на поставленный ему вопрос он не мог дать. И точно, с точки зрения частного обмена услуг, на которую становился Прудон, доводы Бастиа были неотразимы. Это и было признано Луи Бланом, который, допуская невозможность уничтожить процент с капитала при системе частного производства, в свою очередь пытался опровергнуть Бастиа с точки зрения кредита государственного.
В силу чего, говорит Луи Блан, должник платит процент кредитору? Единственно в силу того, что он нуждается в средствах работы, или в орудиях производства, которые находятся в руках другого. Но справедлив ли такой порядок вещей, в котором средства работы, долженствующие быть во владении всех, усвоены некоторыми? Всякий, рождаясь, приносит с собою право на жизнь; но право на жизнь осуществляется только возможностью работать; возможность же работать зависит от обладания орудиями производства. Следовательно, если множество людей, рождаясь на свет, находят орудия производства в руках некоторых, то они через это самое становятся рабами последних. Утверждают, что счастливые обладатели капитала, давая его взаймы, оказывают услугу тем, которые в нем нуждаются. Но каким образом приобрели они возможность оказывать эту услугу и почему другие в ней нуждаются? Говорят, что капитал есть произведение труда и что уплата процентов составляет вознаграждение за предшествующий труд. Но в таком случае надобно рассмотреть, действительно ли капиталист приобрел капитал своим собственным трудом. Если он выиграл его на бирже или обогатился обманом, то это будет вознаграждение игры и обмана, а не труда. Экономисты, доказывающие законность процента, всегда имеют в виду капитал как вещь, а не капиталиста как лицо, между тем как все дело именно в последнем. Никто не отрицает пользы капитала, но отрицают справедливость присвоения его немногим. При такой системе обманщик и игрок получают такое же вознаграждение, как и честный работник. Последний действительно должен получить вознаграждение, но в качестве работника, а не капиталиста. Следовательно, необходимо прийти к такой системе, где вознаграждался бы один труд, но вознаграждался бы вполне. Это возможно только при таком общественном устройстве, где орудия производства составляют достояние всех, и всякий, рождаясь членом общества, тем самым приобретает на них известное право. Здесь только возможно и осуществление дарового кредита, который иначе остается чистою химерою[228]. Нетрудно видеть всю слабость этих доводов. Луи Блан утверждает, что каждый, рождаясь, приносит с собою право на жизнь; но из этого отнюдь не следует, что каждый просто в силу рождения имеет право требовать от других, чтобы они доставляли ему средства работы. Акт рождения никому не дает права на произведенные чужим трудом орудия производства. Тот, кто, являясь на свет, находит эти орудия в руках других людей, может обратиться к последним не с требованием, а с просьбою, и если он получит от них то, что ему нужно, он обязан вознаградить их за оказанную ему услугу. При этом нет никакой нужды исследовать, каким образом кредитор приобрел находящийся в руках его капитал: достаточно того, что он законный его владелец и что он оказывает должнику услугу, за которую последний обязан его вознаградить. Для должника совершенно даже безразлично происхождение получаемого взаймы капитала. От кого бы он его ни получил, он одинаково обязан вознаградить владельца. Если процент с капитала, приобретенного собственным трудом, имеет законное основание, как допускает Луи Блан, то этим самым признается в принципе законность всякого процента. Вопреки уверению Луи Блана, тут дело идет не о нравственных качествах лиц, а об экономических отношениях. Но и эти отношения управляются справедливостью, которая требует, чтобы оказанные услуги вознаграждались. Она не может признать правильным, чтобы капитал, произведенный трудом одних, отдавался другим даром, в силу какого-то присущего им от рождения права. По этому самому она не может признать правильным и то, чтобы орудия производства, созданные трудом отдельных лиц, становились достоянием всех. В нормальном порядке капитал как произведение труда должен принадлежать тому, кто его произвел или к кому он перешел по добровольному соглашению с производителем. Если владелец ссужает им нового работника, нуждающегося в орудиях производства, то он имеет право требовать вознаграждения. Система Луи Блана в сущности уничтожает всякий кредит, ибо там, где орудия производства принадлежат целому обществу и все производство становится общественным, там работник не нуждается ни в какой ссуде капитала: он обречен на то, чтобы вечно оставаться при одной заработной плате. Процент исчезает просто потому, что исчезают ссуды и займы. Общество, или государство, является тут единственным производителем; в руках его остается весь капитал; работникам же оно раздает не капитал, а работу. Но и в этом случае общество все-таки получает с своего капитала прибыль; иначе капитал употреблялся бы непроизводительно. Разница лишь та, что эта прибыль исчисляется не на основании экономических законов, а чисто произвольно. Государство берет то, что ему нужно, а остальное раздает работникам в виде заработной платы. Если Луи Блан признает противоречием водворение дарового кредита при системе индивидуализма, то еще большим противоречием представляется установление дарового кредита при такой системе, которая исключает всякий кредит и которая сама ничто иное, как колоссальное противоречие.
Еще менее основательны те возражения, которые делает Род-бертус против теории Бастиа[229]. Родбертус признает совершенно согласным с справедливостью, что предприниматель платит капиталисту известный процент за ссужаемый ему капитал. Но вопрос, по его мнению, состоит вовсе не в этом, а в том, что капиталист вместе с предпринимателем неправильно присваивают себе львиную часть произведений рабочего. При дележе добычи предприниматель, без сомнения, может уделить часть своей прибыли капиталисту; но в силу чего приобрел он право на эту прибыль? Единственно в силу того, что работники, пущенные по миру голодными и нагими, принуждены довольствоваться насущным куском хлеба, предоставляя предпринимателям и капиталистам значительнейшую часть того, что произведено их руками. Когда Бастиа, говорит Родбертус, ставит вопрос между рабочим, произведшим орудие, и другим рабочим, получающим это орудие в ссуду, то он этим затемняет только истинное существо дела, изображая спор вовсе не между теми сторонами, которые ведут его в действительности, а между такими, которые живут в мире между собою.
На деле, ложная постановка вопроса является только у Родбертуса, который, по своему обыкновению, делая диверсию в сторону, старается путем софизмов избегнуть неотразимой аргументации Бастиа. Вопрос о закономерности роста касается ссуды вообще, а вовсе не тех лиц, кому и кем она производится. Предприниматель ли занимает у капиталиста, или рабочий у рабочего, это совершенно безразлично. Вопрос состоит единственно в том, правомерно ли при ссуде капитала требовать не только его возвращения полностью, но и платы за употребление его в течение известного срока? Родбертус признает, что предприниматель по справедливости обязан уплатить процент капиталисту; но ведь предпринимателями могут быть и рабочие, и они же могут быть и кредиторами предприятия, как доказывает пример рабочих товариществ, которые выпускают облигации, расходящиеся в рабочем классе. Что же тогда? Изменяется ли этим положение вопроса? Если же в этом случае рост как плата за употребление капитала правомерен, то он правомерен и вообще, и тогда никоим образом невозможно сказать, что капиталист, взимая процент, присваивает себе то, что ему не принадлежит. Все эти возражения ничто иное, как декламация. При распределении дохода капиталисту принадлежит процент, предпринимателю прибыль, а рабочим заработная плата. Если же рабочий является предпринимателем, то ему принадлежит и прибыль, а процент он все-таки должен уплатить капиталисту, у которого он занял деньги. Этого требует самая строгая справедливость. Другой вопрос: берет ли капиталист много или мало? Тут дело идет уже не о закономерности роста, а об его высоте. Но и тут вопрос решается в общем итоге не произволом, а экономическими законами. Ходячая высота процента определяется опять же отношением предложения к требованию. Чем больше спрос на капитал, тем выше процент, и наоборот, чем больше предложение, тем он ниже. Рост стоит высоко при редкости капиталов; он понижается при их изобилии. Спрос же на капитал определяется отношением его к другим деятелям производства.
Главным определяющим началом является здесь отношение капитала к народонаселению. От численности народонаселения зависит количество рабочих рук, требующих работы; требование же работы есть вместе требование необходимого для работы капитала. С своей стороны, капитал, для того чтобы быть производительным, требует рабочих рук. Чем их больше, тем ниже заработная плата и тем выше процент с капитала; наоборот, чем их меньше в сравнении с капиталом, тем выше заработная плата и тем ниже процент. Поэтому, если народонаселение умножается быстрее, нежели капитал, то заработная плата понижается, а доход капиталистов растет. Но это понижение не может идти далее того, что нужно для содержания рабочих; иначе количество их уменьшается от голода и болезней, до тех пор пока установится такое отношение, которое даст им возможность жить. Такое же явление происходит и тогда, когда предложение капиталов внезапно уменьшается, например вследствие экономических или политических кризисов, которые не только уничтожают многие из обращающихся капиталов, но заставляют и остальные скрываться под влиянием страха. Наоборот, если капитал умножается быстрее, нежели народонаселение, то заработная плата растет, а процент с капитала понижается. Это и есть то отношение, которое господствует у всех прогрессивных народов. В течении истории мы видим, что процент с капитала, несмотря на значительные колебания и на различие местных условий, постепенно понижается, и это свидетельствует об экономическом развитии человечества. В новейшее время в особенности быстрое умножение капиталов повело к чрезвычайному падению процента в государствах Западной Европы. Многие капиталисты принуждены довольствоваться помещением капиталов даже из-за двух процентов. Для крупных капиталов тут все-таки остается довольно значительный доход; но мелкие капиталисты должны добавлять недостающее своим трудом. Если такое положение, с одной стороны, содействует производительности, то, с другой стороны, нельзя не признать, что слишком значительное понижение процента составляет вообще препятствие дальнейшему приращению капитала, а вследствие того и промышленному развитию общества.
Отношение капитала к народонаселению не есть, впрочем, единственный фактор, определяющий высоту процента. Независимо от случайных обстоятельств, могущих иметь влияние на возвышение или понижение роста, тут играет роль и отношение капитала к остальным двум деятелям производства, к земле и к предприимчивости. В странах новых, где земли много и она при малых издержках дает обильную жатву, а между тем обеспечен и внешний сбыт, является спрос одновременно на капитал и на рабочие силы. При таких условиях и заработная плата, и процент с капитала могут стоять на значительной высоте. Обилие естественных богатств дает обоим деятелям возможность возвыситься на счет поземельной ренты. То же самое имеет место и в старых обществах, если в них внезапно открывается поприще для новых предприятий. И тут является значительный спрос как на капитал, так и на рабочие руки. Новые предприятия всегда дают большую прибыль, из которой предприниматель может уделить часть капиталистам и рабочим, с тем чтобы привлечь их к своему делу. Тут покоряются человеку новые силы природы, и это действует точно так же, как и обработка новых земель. Таковы именно были результаты построения в Европе железных дорог. Но такой усиленный спрос на капиталы составляет явление временное. Он продолжается до тех пор, пока новая отрасль не переполнится; а так как значительность прибыли, с своей стороны, содействует приращению капиталов, то за возвышением процента опять следует его понижение. Постоянным фактором остается отношение капитала к народонаселению, вследствие чего главная задача экономической политики должна состоять в содействии возможно быстрому приращению капиталов. В богатых и образованных странах это делается само собою. Где капиталы находятся в изобилии, а народонаселение, с своей стороны, имеет привычки воздержности и бережливости, там капитализация идет с неимоверною быстротою, и соответственно этому понижается процент. Предел этому понижению лежит в возможности поместить свои капиталы в других странах, где капиталы скудны и естественные богатства мало разработаны. В настоящее время громадное количество английских и французских капиталов помещены за границею, а так как предприятия все расширяются и капиталы ищут новых помещений, то пределом этого расширения является лишь разработка богатств всего земного шара.
Отсюда видно, до какой степени превратны все возгласы социалистов против тирании капитала и против закономерности процентов. Эта мнимая тирания есть высшее благодеяние для человеческого рода. Из всех деятелей производства один капитал способен умножаться безгранично, и всегда благотворно для общества. Только в его умножении заключается спасение и от истощения земли, и от чрезмерного приращения народонаселения. Доход же с капитала составляет необходимое условие его умножения. Доход вызывает сбережения и дает возможность сберегать. Высота процента доказывает только, что капиталов мало и что требуется их умножение, и лишь путем этого естественного умножения, а не какими-либо произвольными постановлениями или искусственными мерами, возможно поднять высоту заработной платы. Предложения социалистов идут совершенно наперекор той цели, которую они имеют в виду. С уничтожением процентов уничтожилось бы всякое побуждение к приращению капитала; вместо того чтобы расти, он остановился бы или пошел назад. Последствием была бы всеобщая бедность. При таком условии единственным исходом представляется перевод всех капиталов в руки государства, которое в качестве монополиста имело бы возможность брать ту прибыль, какую ему заблагорассудится, не стесняясь отношением предложения к требованию. Однако и тут сохранился бы закон отношения капитала к народонаселению; чем более стало бы брать себе государство, тем менее оставалось бы для рабочих и тем ниже стояла бы заработная плата. А так как при государственном хозяйстве неизбежно должно уменьшиться производство, а умножению народонаселения не полагается никаких преград, то естественно, что и этот порядок еще быстрее поведет к всеобщей бедности. Если бы когда-либо возможно было хотя временное осуществление социализма, то он разрушил бы себя собственным противоречием.
3. Заработная плата
Заработная плата есть вознаграждение работника за его труд. При существующем экономическом строе, основанном на свободе, эта плата определяется рыночною ценою работы и установляется договором между нанимателем и нанимаемым.
Известно, что социалисты восстают против такого способа вознаграждения. По их теории труд составляет единственный источник ценности товаров, а между тем, продавая его на рынке, работник получает только часть произведенной им ценности в виде наемной платы. Социалисты видят даже нечто бесчестное в том, что труд, который служит началом всякого производства и неразрывно связан с лицом работника, покупается и продается как простой товар и подчиняется общим всем произведениям законам мены[230].
Окончательное свое выражение это воззрение нашло у Маркса. Отправляясь от того положения, что ценность всех товаров определяется количеством вложенного в них труда, Маркс утверждает, что и самый труд, как скоро он обращается в товар, следует тому же закону. Меновая его ценность определяется количеством труда, необходимая для поддержания рабочей силы, то есть для содержания работника. Но так как труд по своей природе есть вместе с тем источник всякой производительности, то он производит гораздо более того, что он сам стоит. Рабочий может работать, например, двенадцать часов, а для производства всего потребного для его содержания достаточно примерно шести. Эти шесть часов и представляют меновую ценность работы, тогда как в ценность произведенного ею товара входит не меновая, а потребительная ее ценность, равняющаяся двенадцати часам действительно произведенной работы. Следовательно, покупая труд за сумму, равняющуюся шестичасовой работе, и продавая произведенный этим трудом товар за сумму, равняющуюся двенадцатичасовой работе, капиталист или предприниматель получает излишек, который он неправильно похищает у рабочего и присваивает себе. Отсюда прибыль, которая составляет плод производительности работы, но которая ускользает от рабочего, вследствие того что он принужден свою рабочую силу продавать по рыночной цене[231].
Выше было уже опровергнуто то ложное положение, на котором покоится вся эта аргументация, именно, что труд есть единственная производительная сила и что ценность произведений определяется исключительно количеством вложенного в них труда. В действительности прибыль капиталиста и предпринимателя составляет законно принадлежащее им вознаграждение за их участие в производстве, а вовсе не излишек, отбираемый у рабочего. Но к этому софизму присоединяются здесь другие. Чтобы дать своему выводу какую-нибудь логическую окраску, Маркс предполагает, что на рынке покупается не работа, а рабочая сила, ценность которой определяется необходимыми для содержания ее издержками. Между тем на деле продается и покупается вовсе не рабочая сила, которая остается при рабочем, а единственно ее употребление, то есть работа в течение известного количества часов. Если рабочий обязался работать двенадцать часов, то предприниматель купил именно двенадцатичасовую работу; а никак не шестичасовую. За эту двенадцатичасовую работу он заплатил деньги в виде заработной платы, и именно эта сумма вошла в ценность произведенного товара как часть издержек производства. По теории Маркса продается исключительно меновая ценность рабочей силы, за которую работник получает плату, а покупается потребительная ее ценность, то есть употребление ее как производительной силы, чем и определяется цена произведений. Глупый работник об этом не догадывается, но капиталист на этом основывает все свои расчеты. Между тем по собственному учению Маркса в меновую ценность какого бы то ни было товара не входит ни единого атома потребительной ценности. Если мы примем это учение, то мы должны будем сказать, что и в ценность произведенного работою товара не входит ни единого атома потребительной ценности купленной на рынке работы, а единственно меновая ценность последней. Если же мы скажем, что ценность произведенного товара определяется потребительною ценностью работы, то мы должны будем признать, что именно эта ценность куплена предпринимателем и что за нее он заплатил работнику. Какого бы начала мы ни держались, расчет должен быть один. Предполагать же, что работник продает одну ценность, а предприниматель покупает другую, что один продает шестичасовую работу, а другой покупает двенадцатичасовую, значит отказаться от объяснения явлений какими бы то ни было экономическими законами и прибегать к чистой бессмыслице, не имеющей даже и призрака основания. Все учение Маркса, которого выдают за великого экономиста, зиждется на этом софизме.
Итак, в заработной плате выражается участие работника в производстве. Что в этой форме бесчестного, трудно понять человеку. не довольствующемуся фразами. Эта форма есть договор двух равноправных лиц, обменивающихся услугами. Один предлагает свою работу, физическую или умственную, другой взамен этой работы дает деньги. Величайшие произведения искусства в этой форме обращаются на рынке, так же как и самый ничтожный товар. Те, которые восстают на заработную плату и требуют непосредственного участия работника в прибылях предприятия, не видят, что именно первый способ уплаты всего выгоднее для работника, а последний для него немыслим. В заработной плате работник получает вознаграждение немедленно и без риска; это аванс, который делает ему предприниматель и который возмещается последнему, может быть, только через много лет, а иногда и не возмещается вовсе. Если бы работник, участвующий в постройке фабрики, должен был получать свое вознаграждение из продажи готовых уже изделий, то он умер бы с голоду. Работник не может ждать; ему нужно питаться, пока затрата на постройку возместится ценностью произведений. Работник не может также ставить свое вознаграждение в зависимость от чужой способности и от чужого хозяйства. Успех предприятия зависит от умения предпринимателя, который по этому самому берет и весь риск на себя. Работник же получает свою плату, каков бы ни был исход дела, будет ли то барыш или убыток. Два работника, работающие на двух соседних фабриках, получают равное вознаграждение за одинаковый труд, а между тем одна фабрика под разумным руководством может процветать, а другая при дурном хозяйстве может давать убыток. По меткому выражению Леруа-Болье, заработная плата есть как бы страховая премия против возможной неспособности или случайной ошибки того, кто заказывает и направляет работу. В ней, говорит тот же автор, заключается то, что лежит в основании почти всех человеческих соглашений: «…я требую платы сообразно с своим трудом и с своею заслугою, а не с удачею того, кто заказывает мне работу»[232].
Но если работник получает свою плату в виде аванса и без всякого риска, то очевидно, что он не может иметь притязания на такую же долю в произведении, как тот, кто делает аванс и берет на себя риск. Утверждать, как делают социалисты, что предприниматель и капиталист присваивают себе то, что принадлежит рабочим, значит намеренно закрывать глаза на самые справедливые требования, вытекающие из условий производства. Получая плату прежде, нежели продано произведение, рабочий должен сделать уступку даже из той доли, которая составляет вознаграждение за его труд.
Чем же определяется высота этой доли? Здесь мы встречаемся с продолжающимся доселе спором насчет того, есть ли труд такой же товар, как и все другие, а потому должен ли он покупаться и продаваться совершенно так же, как и прочие товары? С устранением социалистического воззрения на труд как на единственный источник ценности остается еще рассмотреть: не имеет ли труд таких особенностей, которые отличают его от других предметов купли и продажи, и не требуется ли для него иная оценка?
Этот вопрос был поднят в Англии в 1860 г., на съезде Союза для преуспеяния Общественных Наук по поводу доклада о рабочих союзах и забастовках[233]; с тех пор он сделался предметом горячей полемики в литературе. Фабриканты, восстававшие против стачек и забастовок, утверждали, что труд — такой же точно товар, как и другие, а потому подлежит рыночной оценке на основании предложения и требования. Сторонники рабочих, напротив, старались доказать, что хотя труд может быть назван товаром, так как он продается и покупается на рынке, однако он имеет такие особенности, которые не позволяют обходиться с ним, как с другими товарами.
В чем же состоят эти особенности?
Некоторые утверждали, что работа в отличие от других предметов купли и продажи есть живой товар, а потому невозможно ставить ее на одну доску с мертвыми вещами. Но признак жизни не устанавливает никакого существенного отличия одного товара от другого. Живые существа, например лошади и коровы, продаются совершенно на том же основании, как и неодушевленные предметы. Человек же как живое существо даже вовсе не продается; на рынке продается не человек, а его труд, и в этом отношении совершенно все равно, продается ли труд или произведения труда. Продающие свои произведения — точно так же живые люди, как и продающие свою работу; для тех и других продажа составляет источник жизненных средств. Покупщик же в обоих случаях ценит приобретаемое по той пользе, которую оно ему приносит. Следовательно, с этой точки зрения, нельзя найти никакой разницы между продажею работы и продажею произведений.
Другие видели различие в том, что работа как употребление силы есть нечто невидимое и неосязаемое; отсюда выводили, что она никак не может быть приравнена к материальным предметам. Но против этого было замечено, что когда нанимается дом или лошадь, то употребление этих предметов точно так же составляет нечто невидимое и неосязаемое. Следовательно, и с этой стороны между работою и другими товарами никакого различия не оказывается.
Столь же несостоятелен и другой сходный с этим довод, будто работа в отличие от других товаров существует во времени, а потому не может сберегаться; каждая минута, в которую рабочая сила остается без употребления, говорят защитники этого мнения, пропадает безвозвратно, а с тем вместе пропадает и работа. Но то же самое относится к употреблению всех вещей. Дом, который стоит без нанимателей, лошадь, остающаяся без работы, находятся совершенно в том же положении.
Брентано, который сделал свод различных взглядов по этому вопросу, отвергая все предыдущие объяснения, видит единственное, но, по его мнению, существенное различие между работою и другими товарами в том, что работа неразрывно связана с самым лицом продавца. Капитал, который ближе всего подходит к труду, так как оба составляют орудия производства, отличается однако от последнего тем, что он может быть продан отдельно от владеющего им лица. Работа же, будучи продана покупателю, дает последнему власть и над лицом продавца, ибо, кто покупает употребление вещи, тот становится владельцем самой употребляемой вещи. А так как в работе проявляется весь человек, своим телом, разумом и чувствами, то покупщик работы приобретает власть над всем физическим, умственным, нравственным и общественным бытом рабочего. И это владычество, по уверению Брентано, безгранично: покупщик работы распоряжается по своему произволу и свободою, и всем лицом рабочего, лишая его всякого влияния на определение условий своего существования. Между тем подобное положение противоречит нравственному существу человека, который должен быть всегда целью и никогда не может быть низведен на степень простого средства. А потому невозможно приравнивать работу к другим товарам, а следует ценить ее сообразно с этою ее особенностью[234].
Высказывая такой взгляд, Брентано восстает против господствующего в политической экономии стремления делать общие положения на основании отвлеченных выводов; но он сам впадает здесь в то же самое прегрешение, и притом с тем отягчающим обстоятельством, что сделанный им вывод радикально ложен. В самом деле, если мы сравним наем работы с ближе всего подходящим к нему наймом капитала, то мы увидим, что покупка употребления вещи не влечет за собою непременно власти над самою вещью. Орудие производства можно нанять и с тем условием, что оно будет употребляться самим хозяином. Так например, паровую молотилку можно нанять с условием, что хозяин ставит машиниста и рабочих, которые приводят ее в действие. Плуг нанимается вместе с плугарем. Владелец молотильной машины может даже работать у себя дома, с тем чтобы ему подвозили чужой хлеб, как делается на мельницах. Точно так же и рабочий может или работать на чужой фабрике чужими орудиями, или же у себя дома с чужим материалом и чужими орудиями, или же, наконец, он может обрабатывать чужой материал своими собственными орудиями. Все эти случаи встречаются в жизни, и везде определение платы как за употребление орудий, так и за работу производится совершенно одинаковым способом, именно, взаимным соглашением, на основании закона предложения и требования. Особенность работы состоит единственно в том, что соответствующая капиталу рабочая сила при экономическом быте, основанном на свободе, не может быть ни продана, ни отдана другому в употребление: употребляет ее всегда сам работник. А потому наниматель не приобретает над последним никакой власти. Власть над лицом имеют только рабовладельцы; как же скоро рабочий становится свободным лицом, так вместе с тем признается, что распоряжаться своим трудом может только он сам и никто другой. Установление условий найма должно совершаться не иначе, как по обоюдному соглашению.
Еще менее можно допустить, что с работою отчуждается весь человек, как уверяет Брентано. Такое всецелое отчуждение лица и есть рабство. Свобода отличается от рабства именно тем, что отчуждается не лицо и не рабочая сила, а лишь частное употребление этой силы, и притом не иначе как по воле ее хозяина. Это выяснено с совершенною очевидностью как правоведением, так и философиею[235]. Точно говоря, покупщик приобретает только результат употребления силы. Работает ли нанимающийся поштучно или поденно, работает ли он на фабрики или дома, с своими или с чужими орудиями, все это совершенно безразлично для определения заработной платы, и нанимающий столь же мало имеет власти над лицом работника в одном случае, как и в другом. Работник, работающий у себя дома и располагающий своим временем, может находиться в гораздо худшем положении, нежели нанимающийся на фабрике. Вознаграждение его определяется не большею или меньшею зависимостью его от нанимателя, а положением рынка. Когда спрос на товар и на работу мал, он волею или неволею принужден довольствоваться ничтожною платою, как бы он свободно ни располагал своим лицом.
Сам Брентано опровергает свое воззрение, когда он признает, что посредством ремесленных или рабочих союзов рабочие уравниваются с продавцами других товаров. Если бы действительно покупка употребления вещи непременно влекла за собою власть над самою вещью, если бы, продавая свой труд, работник тем самым отдавал себя всецело в руки хозяина, то никакие союзы не могли бы помочь этому злу. Если же союзы уравнивают рабочих с продавцами других товаров, то это значит, что невыгодное положение работника происходит вовсе не от этой особенности работы, неразрывно с нею связанной, а от совершенно других причин. И точно, Брентано тут же приводит другую причину, не имеющую ничего общего с указанною им особенностью, но гораздо более верную, именно, что при общей бедности низшего населения, рабочие, побуждаемые голодом, нередко принуждены бывают согласиться на невыгодные для них условия. Эта причина действительно существует, но она не составляет особенности работы как товара. Известно, что и продавцы других товаров нередко принуждены бывают продавать свои произведения в убыток; при неблагоприятных условиях они даже вконец разоряются. Они могут получать и значительные выгоды; но то же самое бывает и с рабочими; при усиленном спросе на работу даже беднейшие работники могут иметь весьма хорошие заработки. И тут, следовательно, особенности не оказывается никакой. В обоих случаях цена определяется не особенностями того или другого товара, а состоянием рынка, то есть предложением и требованием.
Таким образом, и к заработной плате прилагается тот же самый закон, которым управляются все экономические отношения: чем больше рабочих рук в сравнении с требованием, тем заработная плата стоит ниже; наоборот, чем их меньше, тем она выше.
Не стремится ли однако народонаселение насытить всегда требование так, что заработная плата неизбежно понижается до низшего своего уровня?
Экономисты, преимущественно английской школы, и в приложении к труду различали ценность естественную и ходячую. Только последняя, по их мнению, определяется предложением и требованием; первая же состоит в зависимости от средств пропитания. «Естественная цена работы, — говорит Рикардо, — есть та, которая доставляет рабочим вообще средства существовать и продолжать свое племя без умножения и без сокращения их числа»[236]. Научные основания этого учения были формулированы в знаменитой теории Мальтуса. Он доказывал, что народонаселение всегда имеет стремление умножаться быстрее, нежели средства существования. Первое растет в геометрической пропорции, последние — в арифметической. Поэтому, как скоро возвышение заработной платы поднимает уровень благосостояния рабочего класса, так вместе с тем умножается и народонаселение, до тех пор пока увеличение количества рабочих рук не низведет опять заработную плату на прежнюю ее высоту. Когда же, наоборот, заработная плата понижается так, что рабочие не имеют уже достаточных средств существования, то голод и болезни уменьшают их число, пока опять не восстановится нормальное отношение.
Отсюда и экономисты, и социалисты выводили заключение, что несмотря на колебания в ту и другую сторону заработная плата под влиянием предложения и требования всегда стремится к естественному уровню, доставляющему не более как насущный хлеб рабочему и его семейству. Лассаль называл это «железным экономическим законом», против которого недействительны никакие частные меры. Только радикальное изменение всего общественного строя в состоянии его устранить[237].
Но если таков действительно «железный экономический закон», то его не устранит и самое коренное изменение общественного строя. Можно обобрать землевладельцев, капиталистов и предпринимателей, и всю принадлежащую им прибыль присвоить рабочим; от этого, по признанному всеми расчету, доход каждого рабочего увеличится весьма немногим. Но как бы он ни увеличился, в силу «железного экономического закона» народонаселение будет возрастать быстрее; следовательно, через короткое время все опять низойдут на прежний уровень. Разница против прежнего будет состоять лишь в том, что теперь уже не у кого будет брать; все равно будут нищими. Кроме того с уничтожением капиталистов и предпринимателей иссякнет главный источник умножения капиталов, то есть единственное, что может служить противовесом умножению народонаселения. Голодная смерть будет свирепствовать уже без всяких преград. Таков неизбежный исход социализма. Он не только бессилен против указанного им зла, но он необходимо должен сделать зло еще худшим.
Лекарство заключается не в изменении общественного строя, а единственно в привычках и предусмотрительности человека. Сам Лассаль признает, что в состав необходимых средств существования работников входит не только скудное пропитание, но и все то, что в данное время принадлежит к привычному образу жизни рабочего класса и что образует общий уровень его быта. Только при возможности держаться на этом уровне рабочий основывает новую семью, вследствие чего при нормальных условиях заработная плата постоянно держится на данной высоте. Отсюда ясно, что этот так называемый «железный экономический закон» вовсе не есть нечто неотразимое и непреложное, как закон физической природы. Он прилагается к свободным существам, а потому действие его в значительной степени зависит от предусмотрительности этих существ.
Выведенное Мальтусом отношение между умножением народонаселения и умножением средств пропитания составляет не более как лежащее в физической природе стремление, которое существенно видоизменяется действием человеческой воли. Это признавалось и самим ее автором. Даже в пределах одной и той же страны при воздержности и предусмотрительности народонаселения количество рабочих рук может идти в уровень с умножением средств пропитания. Капитал и изобретательность, обращенные на землю, могут увеличивать производительность ее даже в большей мере, нежели требуется приростом народонаселения. Если же мы примем во внимание, что обработка непочатых пространств в других местах земного шара совокупно с удешевлением перевозки может значительно понизить ценность произведений земли, а с другой стороны, что умножение капиталов ведет к возвышению заработной платы и к удешевлению всех тех предметов потребления, которые могут производиться в неограниченном количестве, то мы несомненно придем к заключению, что то, что называют естественною ценою работы, вовсе не ограничивается скудными средствами пропитания, а может идти гораздо выше. Там, где капитал растет быстрее, нежели народонаселение, общий уровень быта рабочего класса постепенно поднимается, и этот результат в значительной степени зависит от собственной предусмотрительности рабочих. Он достигается в том случае, если они избыток заработной платы обращают на улучшение своего быта, а не на чрезмерное умножение семейств.
Не всякое, впрочем, умножение капитала непременно ведет к возвышению заработной платы. Капитал разделяется на стоячий и оборотный: только увеличение последнего непосредственно имеет это действие. Умножение же первого может, по крайней мере временно, даже уменьшить требование на рабочие руки. Таково бывает на первых порах следствие введения машин. Но это следствие имеет преходящее значение. Выгоды, проистекающие от употребления машин, привлекают капиталы, а так как приведение в действие машин требует рабочих рук и стоячий капитал не обходится без оборотного, то умножение первого в конце концов все-таки приводит к умножению последнего, а потому и к возвышению заработной платы.
Это отношение стоячего капитала к оборотному привело английских экономистов к учению о так называемом «фонде заработной платы», из которого уплачивается работа. Возвышение платы зависит, по этой теории, не от умножения капитала вообще, а от умножения именно этой части капитала. Отсюда выводили, что заработная плата не может произвольно повышаться, ибо, если бы она повысилась для одних, то рабочего фонда не хватило бы на всех, и тогда некоторые должны бы были остаться вовсе без платы[238].
Против этой теории в новейшее время последовали с разных сторон возражения. Утверждают, что единственный фонд, из которого производится заработная плата, есть общий народный доход, и что нет закона, безусловно определяющего ту часть этого дохода, которая должна принадлежать рабочим. Весьма поэтому возможно повышение заработной платы на счет доходов потребителей или прибылей предпринимателей. Доход остается тот же, но распределение его изменяется[239].
Возражатели забывают, что рабочие не получают своей платы непосредственно из общего народного дохода. Уплата производится в виде аванса, который впоследствии возмещается предпринимателю из доходов предприятия. А для аванса требуется известный капитал, или фонд, который потом снова пополняется из доходов. Поэтому нельзя сказать вместе с Леруа-Болье, что «фонд заработной платы существовал только в смутном уме некоторых экономистов, которые авторитетом своего имени навязали другим странные выражения, прикрывающие ложные понятия». Фонд действительно существует; он составляет часть оборотного капитала предприятия, и всякая правильная бухгалтерия обнаруживает, каким образом он образуется и пополняется. Это делается путем сбережений. Предприниматель не уделяет работникам часть того дохода, который получается при содействии этой самой работы, ибо этот доход получается после. Чтобы увеличить заработную плату, надобно отложить часть предшествующих доходов, превративши их в оборотный капитал предприятия. В преуспевающей отрасли это делается легко, ибо тут постоянно оказываются более или менее значительные сбережения, которые могут быть употреблены на то или другое назначение. С этой стороны справедливо, что рабочий фонд не составляет неподвижной и неизменной суммы, исключающей в данную минуту всякую возможность увеличения. Он всегда может пополняться сбережениями из доходов; но для этого необходимо, чтобы самые доходы оставляли избыток. Иначе предприниматель вместо увеличения капитала предпочтет сократить производство. Некоторые рабочие могут получить большую плату, но другие останутся без работы.
Таким образом, увеличение оборотного капитала зависит от дохода, а так как заработная плата уплачивается предпринимателем, то главную роль играет здесь прибыль предприятия. Следовательно, тут надобно принять в соображение не только отношение капитала к народонаселению, но и отношение его к другим деятелям производства. Выше было уже указано на то, что высокая прибыль, которая получается при обработке новых земель, а также при открытии новых поприщ для деятельности или при особенно благоприятных обстоятельствах, поднимает требование как на капитал, так и на работу и с тем вместе возвышает размер процентов и заработную плату. Здесь же лежит источник сбережений, а вместе и побуждение к новым затратам. Напротив, в отраслях, где прибыль низка в сравнении с другими производствами, является скорее стремление к сокращению производства и к уменьшению затрат. В таком случае рабочие принуждены или довольствоваться меньшею заработного платою или оставаться частью без занятий.
Кроме прибыли предприятия оборотный капитал, необходимый для увеличения заработной платы, может пополняться и из поземельной ренты. Но это делается только тогда, когда прибыль недостаточна: в таком случае арендатор, принужденный увеличить заработную плату, требует соразмерного сокращения ренты. А так как возвышение заработной платы не является здесь последствием увеличения прибыли, следовательно, спроса на работу в данной отрасли, то оно может быть вызвано только сторонними причинами, именно, увеличением прибылей в других отраслях, через что усиливается вообще требование на работу. Так, например, в Англии после 1871 г. значительный подъем фабричной промышленности повысил в ней заработную плату, и это повело к повышению заработной платы и в земледелии; но так как в последнем не было особенно благоприятных условий, то окончательно возвышение пало на поземельную ренту, которая соответственно понизилась. И тут, следовательно, первою причиною повышения заработной платы является увеличение прибыли, которое дает возможность увеличить оборотный капитал и тем удовлетворить требование работы.
Мы видим, что и в этих отношениях все окончательно зависит не от человеческого произвола, а от экономических условий и управляющих ими законов. Человек может только наблюдать эти условия и пользоваться ими. Этим объясняется удача или неудача рабочих агитаций в пользу возвышения заработной платы. Удача оказывается там, где требование совпадает с экономическими условиями, неудача там, где оно идет им наперекор.
Мы к этому вопросу возвратимся ниже, а теперь переходим к четвертому и последнему элементу дохода, к прибыли предприятия.
4. Прибыль предприятия
Прибыль предприятия составляет ту часть дохода, которая остается за вычетом издержек производства, а в отраслях, связанных с землею, и за вычетом поземельной ренты. Этот излишек образуется из нескольких элементов. В состав его входят: 1) вознаграждение предпринимателя за труд управления; 2) премия таланта; 3) страховая премия за риск; 4) внешние обстоятельства.
Не всякий предприниматель несет на себе труд управления. В товариществах обыкновенно дело ведется одним или немногими; остальные же, давая свое имя, свой капитал и участвуя в риске, получают соответствующую долю прибыли. Это особенно видно в акционерных обществах, где акционер, не участвуя в управлении, имеет однако право на дивиденд. В таких случаях вознаграждение за труд выделяется из прибыли и, по крайней мере частью, относится к издержкам производства; частью же оно может состоять и в известной доле в барышах.
Размер этого вознаграждения определяется опять же законом предложения и требования. Требование зависит от высоты прибыли: чем больше прибыль, тем больше можно дать вознаграждения за руководство предприятием. Предложение же зависит от количества образованных сил в народе. Чем менее распространено образование в промышленном классе, тем труднее найти человека, способного управлять предприятием, и тем выше ценится его труд. Это относится в особенности к тем предприятиям, которые кроме навыка и некоторой смышлености требуют более или менее значительной подготовки, знаний, просвещенного взгляда на промышленные условия и отношения. С распространением образования в обществе этого рода труд имеет стремление к понижению. Конкуренция становится сильнее; многие лица, получившие известное умственное развитие и не довольствующиеся механическим трудом, ищут занятий и готовы понизить свои притязания.
Совершенно иное значение имеет второй элемент, входящий в состав прибыли предприятия, — премия таланта. Это элемент чисто личный, а потому не поддающийся никакому определению. Талант выражается именно в том, что лицо выделяется из среды своих конкурентов. В какой мере оно способно возвыситься, это определяется исключительно успехом, то есть количеством получаемой прибыли. В других отраслях человеческой деятельности, например в искусстве, сила таланта выражается в достоинстве произведений, и этим определяется получаемое за них материальное вознаграждение; в промышленности же весь талант состоит в способности получать прибыль. Поэтому здесь талант ценится по приносимому им доходу, а не доход по степени таланта. Это то же самое начало, которое прилагается и к оценке земли: ценность земли определяется приносимым ею доходом, тогда как в капитале, наоборот, количество дохода определяется ценностью капитала. Причина та, что талант, так же как и земля, составляет естественную, хотя и развитую культурою силу, которая сама по себе не подлежит оценке и ценится лишь по приносимой ею выгоде. Но в таланте еще более, нежели в земле, данное природою обрабатывается и получает новую ценность от культуры. Здесь собственною деятельностью лица создается несуществовавший прежде духовный капитал. Этот капитал сам по себе даже независимо от материальных средств, которыми он располагает, становится источником прибыли. Имя внушает доверие, доставляет кредит, привлекает потребителей. Фирма переходит из рода в род и продается как товар. И хотя для поддержания ее нужна новая деятельность, но все же эта деятельность только восполняет первую. Поддерживать дом вовсе не то, что его основать. Последнее требует гораздо более умения, таланта и деятельности.
Поприщем таланта являются в особенности новые предприятия. Всего чаще колоссальные богатства составляются теми, которые первые устремляются по неизведанному еще пути; следующим за ними достается уже не более, как обыкновенная прибыль. Промышленный талант состоит именно в том, чтобы разгадать, куда следует идти. Надобно сообразить, что нужно потребителям и какая может получиться прибыль от неизвестных еще потребностей. Нередко значительные состояния составляются просто умением отгадать вкус публики в самых пустых вещах. Но тут есть и оборотная сторона. Многие, пускаясь в новые предприятия, разоряются вконец. Предприимчивость без таланта легко обращается в легкомыслие, которое влечет за собою свое наказание.
Из всего этого ясно, что самая существенная часть прибыли предпринимателя составляет справедливейшее вознаграждение лица, вознаграждение, на которое последнее имеет неотъемлемое право; а так как высота этого вознаграждения определяется исключительно успехом, то есть умением угадать потребности публики, то никогда нельзя сказать, что предприниматель получил больше, нежели следовало ему по справедливости. Поэтому, когда социалисты восстают против прибыли предпринимателя и видят в ней незаконное похищение чужой собственности, когда Родбертус уверяет, что предприниматель вместе с капиталистом берет себе львиную часть того, что по праву принадлежит рабочим, то в подобных возгласах можно видеть только декламацию, идущую наперекор и существу дела, и простому здравому смыслу. Предприниматель получает лишь ту прибыль, которая составляет плод собственной его промышленной способности. На двух соседних фабриках рабочие могут работать одинаково хорошо, но если на одной дело ведется расчетливо, а на другой нет, то первая принесет прибыль, а другая убыток. И это вознаграждение предпринимателя составляет величайшее благо для народного хозяйства. В нем заключается главная движущая пружина промышленного развития. Оно побуждает предпринимателей пролагать новые пути; в виду его создаются как вещественные, так и невещественные капиталы, которые, оплодотворяя народный труд, составляют беспрерывно накопляющиеся источники производительной деятельности. Каждая нарождающаяся способность является новым производительным центром, откуда истекает богатство, разливающееся потом на все народонаселение. Никто не теряет? а напротив, все выигрывают от существования этих вожатаев промышленных сил страны, от количества и качества которых окончательно зависит весь успех народного производства.
Столь же справедливо входит в состав прибыли и страховая премия за риск. Когда есть шансы на потери от чисто внешних причин, то невозможно довольствоваться обыкновенною прибылью: надобно положить что-нибудь на покрытие возможных убытков. На этом основано всякое страхование. И чем больше риск, тем выше должна быть премия; иначе никто не стал бы влагать свой капитал и труд в рискованные предприятия. Но если премия рассчитывается равно для всех предприятий, стоящих в одинаковых условиях, то пользуются ею не все одинаково, ибо шансы не равно распределяются на всех: одни получают барыш, а другие убыток. Поэтому при расчете на средние шансы одни предприниматели будут все-таки стоять ниже, а другие выше, то есть одни разорятся от чрезмерных убытков, а другие получат более, нежели средние выгоды. Таков общий закон вероятностей. Рассчитывают, например, что из 100 промышленников и торговцев 20 быстро исчезают, 50 или 60 остаются в одном и том же положении и только 10 или 15 имеют полный успех[240].
Многое тут зависит и от таланта, который из рискованных предприятий умеет извлечь все шансы успеха. Чем выше стоит промышленность, тем сильнее выступает именно этот последний элемент. На низших ступенях риск в значительной степени определяется действием внешних, физических сил; с высшим же развитием против этих влияний учреждается организованное страхование, вследствие которого они теряют почти всякое значение. Таково страхование от огня, от града, от морских крушений. Здесь страховая премия точно так же уплачивается из прибыли, но она входит уже в состав постоянных издержек производства. Получает ее не сам предприниматель, а постороннее лицо, которое обеспечивает его от грозящей опасности. Взамен того на высших ступенях промышленного развития является риск, зависящий чисто от экономических условий и не подлежащий общему определению. Чем обширнее рынок, тем более действуют на него различные экономические влияния и тем труднее их сообразить. Здесь именно проявляется сила промышленного таланта, который с помощью расчетливости, дальновидности и предприимчивости умеет извлечь пользу из того, что для других составляет разорение.
То же самое относится наконец и к чистым случайностям, или конъюнктурам, которые в значительной степени влияют на прибыль предприятия. Против действия случайностей ополчилась в новейшее время социалистическая литература. Первый поднял этот вопрос Лассаль. В своей полемике против Шульце-Делича он утверждал, что капитал образуется вовсе не путем cбережений, а, как он выражался, счастливыми общественными соотношениями. В доказательство он ссылался на поднятие цены поземельной собственности, а также акций железных дорог совершенно помимо деятельности владельцев, просто вследствие возрастания народонаселения и усилившегося оборота. Конъюнктура, говорил Лассаль, и связанная с нею спекуляция, — это «сверхъестественное, метафизическое гадание будущих действий неизвестных обстоятельств» — управляют всем нашим экономическим бытом, и тем сильнее действуют на отдельное лицо, чем теснее связь его с целым. Поэтому владычество их проявляется в усиленной степени с расширением сношений и оборота. Здесь исчезает уже всякая возможность что-либо предугадывать, ибо сумма неизвестных обстоятельств в каждое данное время бесконечно превышает сумму известных. И чем основательнее и точнее оценка известных обстоятельств, на которых разумный спекулятор строит свой расчет, тем больше вероятия, что бесконечно превышающая их сумма неизвестных обстоятельств изменит этот расчет. Поэтому, чем вернее расчет, тем более он имеет против себя вероятия. Отсюда тот весьма часто наблюдаемый факт, что в торговой карьере именно умные спекуляторы терпят крушение, тогда как глупые преуспевают. По мнению Лассаля, такое господство случая уничтожает свободу и ответственность человека. Восстановить их можно только устранением или ограничением этой роковой власти, то есть распределением случайностей на целое общество[241].
В том же смысле высказывается и Адольф Вагнер. Под именем конъюнктуры, говорит он, разумеется совокупность технических, экономических, общественных и юридических условий, действующих на оборот и определяющих цену произведений. С увеличивающимся разделением труда и с развитием оборота конъюнктура получает все более и более значения; она становится одним из важнейших факторов экономической жизни. В этом состоит отличительный признак современного порядка. Отсюда проистекает то, что производитель приобретает выгоды, которых он не заслужил, и терпит убытки, в которых он не виновен. Однако это влияние внешних обстоятельств нельзя бы еще было признать вредным в экономическом отношении, если бы 1) шансы более или менее уравнивались, так что при убытке с одной стороны можно было бы рассчитывать на барыш с другой, и 2) если бы действительно можно было рассчитывать шансы сколько-нибудь точным образом посредством наблюдения и труда. Но именно эти условия не исполнимы: шансы бесконечно изменчивы и не подлежат никакому расчету, вследствие чего спекуляция большею частью носит на себе характер чисто азартной игры. Вред, проистекающий от таких незаслуженных прибылей и потерь, по мнению Вагнера, нельзя отрицать. И если не доказана возможность устранить его совершенно, то следует подумать об его уменьшении, в особенности посредством податной системы, которая прибыли от конъюнктур в справедливом размере присваивала бы обществу[242].
Против этого воззрения надобно сказать прежде всего, что случайность составляет естественное и необходимое условие человеческой жизни. Она вытекает из взаимного отношения частных сил и существует везде, где есть частные силы. А так как и физическая природа, и человеческие общества состоят из частных сил, то и здесь и там случайность входит как необходимый элемент в определение всех жизненных отношений. В общем ходе природы и истории случайности сглаживаются, ибо, каковы бы ни были частные столкновения, во всех них выражаются общие законы, управляющие движением целого. Но в пределах этих законов остается место для бесконечного разнообразия частных отношений, которые составляют область случайности и игралищем которых является всякая частная сила.
В такой среде призван действовать человек. Влиянию случайностей подвержена как частная, так и общественная его жизнь; нет причины, почему бы от них изъята была одна экономическая область. Как разумное существо, человек может принимать против них меры, если они грозят ему опасностью; он может ограждать себя от разрушительных внешних влияний и распределять убыль на многих, там где шансы подлежат исчислению; но совершенно устранить их действие он не в силах. Если случайное несчастие может разрушить семейный быт и лишить человека высшего предмета его привязанности, если вследствие случайного обстоятельства может быть проиграно или выиграно сражение, от которого зависит судьба народов, если тысячи людей могут сделаться жертвами чужой оплошности или неразумия, то в силу чего можем мы требовать, чтобы в области приобретения богатства, имеющей в человеческой жизни лишь второстепенное значение, счастие и несчастие не играли никакой роли? Не значит ли это восставать на мировой закон, которым управляются и природа и судьба людей?
Против этого закона можно было бы еще возмущаться, если бы действительно им уничтожалась человеческая свобода, как утверждает Лассаль. Но на деле свобода не только им не уничтожается, а напротив, только под этим условием она может проявляться, ибо свобода принадлежит человеку именно как отдельному, самостоятельному существу, то есть как частной силе. Не будь случайности, человек составлял бы подчиненное звено в совокупной системе, управляемой общими и необходимыми законами; для свободы не оставалось бы места. В области же случайностей свобода состоит в умении применяться к обстоятельствам, пользоваться ими и по возможности управлять ими. Справедливо, что сумма неизвестных обстоятельств всегда бесконечно перевешивает сумму известных; это ни для кого не новость. Но когда к этой пошлой истине Лассаль прибавляет, что чем вернее и точнее расчет известных обстоятельств, тем больше вероятности неуспеха, то это уже такой чудовищный парадокс, который не осмеливаются повторять даже последователи знаменитого социалиста, хотя они рассуждают так, как будто бы это была сущая правда. В действительности человек в той более или менее тесной сфере, в которой он призван действовать, всегда может рассчитывать обстоятельства, и от этого расчета в огромном большинстве случаев зависит успех предприятия. Здесь всего более проявляется сила ума и в особенности степень промышленного таланта. Нет сомнения, что самый опытный торговец может ошибиться и понести потери. Но случайности бывают в ту и другую сторону, и среди колебаний, которым подвержены предприятия человека в течение всей его жизни, в его пользу остается один элемент, которым окончательно определяется успех или неуспех его промышленной деятельности. Этот элемент есть умение. Оно соответствует шансу банкомета, который окончательно всегда остается в выигрыше, потому что среди противоположных течений счастия и несчастия есть один удар, который принадлежит ему.
Поэтому, если в том или другом случае приобретение или потеря являются незаслуженными, то взявши совокупность предприятий человека, мы в значительном большинстве случаев найдем, что успех или неуспех был заслужен. Терпением, постоянством, умением переносить удары судьбы и пользоваться благоприятными обстоятельствами человек подвигается вперед на промышленном поприще, так же как и на всяком другом. И именно эти превратности всего более изощряют и поднимают человеческие способности, как умственные, так и нравственные. В них развиваются предусмотрительность, бережливость, внимание к малейшим внешним обстоятельствам, могущим влиять на успех предприятия; отсюда и побуждение знать дело во всех его подробностях, без чего невозможно рассчитывать шансы. Посредством страхования человек обеспечивает себя от таких случайностей, которых нельзя ни предвидеть, ни предотвратить; но затем остается громадное количество случайностей, в большей или меньшей степени подлежащих исследованию и расчету. А так как от этих случайностей зависит судьба человека, то он напрягает все свои силы для того, чтобы из благоприятных обстоятельств извлечь наибольшую для себя пользу и по возможности уберечься от дурных.
Конечно, бывают примеры незаслуженного счастия или несчастия, распространяющегося на целую жизнь. Но именно в промышленном мире эти примеры реже, нежели где-либо. Здесь заслуга заключается не в нравственных качествах, которые получают вознаграждение совершенно иного рода, а в промышленном таланте, который составляет источник прибыли. Промышленный же талант редко остается без материального вознаграждения. Трудно даже сказать, когда это бывает, ибо самое существование таланта обнаруживается успехом.
Во всяком случае, постигающие человека незаслуженные бедствия вызывают частную помощь, а не общие меры. Не в виду отдельных несчастий можно изменять целую систему общежития или строить новую. В общем же итоге не может быть сомнения, что указанное выше действие случайностей именно на частные промышленные силы в высшей степени полезно для народного хозяйства. Только этим путем поднимаются и изощряются промышленные способности человека. Обеспеченный от случайностей, он теряет главное побуждение к постоянно напряженному вниманию, к расчетливости, предусмотрительности, к соображениям всякого рода. Если бы справедливо было положение Лассаля, что чем вернее расчет, тем менее шансов успеха, то личная выгода всякого заключалась бы в том, чтобы ни о чем не думать и по возможности превратиться в идиота. К тому же должно привести и отнесение случайностей на счет государства. Человек сделается подчиненным звеном общей системы, а потому непременно будет иметь наклонность погрузиться в рутину и апатию. Народное хозяйство лишится всей той суммы ума и энергии, которая обращена была на предотвращение дурных шансов и на извлечение пользы из хороших. Оно превратилось бы в чистый механизм, где дурные шансы разлагались бы на всех, но именно вследствие этого встречали бы гораздо менее отпора, а потому имели бы несравненно большую силу, точно так же как и наоборот, благоприятные условия, разлагаясь на всех, ни для кого не составляли бы предмета усиленной предприимчивости.
Если бы государство вздумало путем налогов обратить случайности в свою пользу, оно не в состоянии было бы даже различить, что произошло от случайности и что от расчета. Есть, бесспорно, случаи, когда обогащение падает на человека совершенно неожиданно. Но обыкновенно предприимчивость обращается туда, где ожидается удача, и если успех венчает предприятие, то кто может сказать, какая тут доля принадлежит счастию и какая расчету? Так например, поднятие цен на квартиры и на городские земли обыкновенно выставляется как один из самых ярких примеров конъюнктуры, обогащающей людей помимо их деятельности. Но именно в этом случае, когда город растет и ожидается прилив народонаселения, предприниматели скупают земли и строят дома ввиду будущей прибыли. Нельзя сказать, что их ожидания всегда сбываются; случается, что целые компании разоряются. Но другие могут получить и прибыль. Скажет ли государство, что эта прибыль принадлежит ему, так как цены поднялись не вследствие личной деятельности строителей, а в силу общественных соотношений? В таком случае предприимчивость не будет вознаграждена, что равно противоречит справедливости и общественной пользе. А с другой стороны, государство должно будет вознаградить и неудачные предприятия, разложивши на всех убытки от плохой спекуляции, что еще более противоречит справедливости и общественной пользе. На деле государство теперь получает от конъюнктуры соответственную прибыль, ибо соразмерно с возвышением цен на предметы обложения возрастает и налог. Если же оно хочет иметь больше, если оно хочет присваивать себе всю прибыль от конъюнктуры, то рационально это возможно сделать лишь одним способом: оно само должно стать хозяином предприятия. Тогда оно будет равно нести и прибыль и убыток. В этом выражается истинное начало как юридического, так и экономического порядка, именно, что случайности падают на хозяина.
С юридической, так же как и с экономической, точки зрения, пока предприятие находится в частных руках, государство не имеет даже никакого права присваивать себе прибыль, проистекающую от случайностей. Положение социалистов, что человеку принадлежит в произведении лишь то, что он сам сделал, независимо от внешних влияний, лишено всякого основания. Человек всегда работает под влиянием окружающих его условий, от которых в значительной степени зависит успех его предприятия; но эти влияния, отражаясь на его произведении, не мешают ему быть хозяином своего произведения. Земледелец пашет и сеет; но не он ниспосылает солнечный свет и дождь, от которых зависит урожай. То же самое имеет место и относительно общественных условий, создаваемых государством или возникающих из общественных соотношений. Доход земледельца зависит не только от солнца и дождя, но и от требования на его произведения. Если в соседнем государстве неурожай или понижены таможенные пошлины, и вследствие этого ценность его произведений возвышается, то этот избыток дохода принадлежит ему, и никому другому, ибо вещь его, а не чужая. Цена произведений составляет нераздельную принадлежность самых произведений; она выражает собою то, что покупатель готов дать за вещь, потому что она ему нужна. Если потребность усилилась, он дает за нее больше, и этот избыток составляет прибыль хозяина, а не покупателя, и еще менее общества.
Противоположный взгляд ведет к чистой нелепости. Если мы скажем, что возвысившаяся ценность вещи принадлежит не ее хозяину, а тому, кто причинил возвышение, то мы должны будем сказать, что этот избыток принадлежит не продавцам, а покупателям, ибо возвышение произошло именно от усилившейся потребности покупателей. То есть мы должны признать, что кто готов заплатить за вещь больше, потому что она ему нужна, тот имеет право требовать этот излишек обратно от хозяина, что очевидно нелепо. Если же ближайшая причина возвышения цен, потребность, не рождает права на избыток дохода, то еще менее это право может возникнуть из более отдаленных причин, действующих на самые потребности. Если при усилении спроса на квартиры вследствие умножения народонаселения квартиранты, своим спросом поднимающие цены, не имеют права требовать от хозяев, чтобы они возвратили им избыток своих доходов, то еще менее имеет подобное право город, привлекающий квартирантов, или государство, в котором происходят эти экономические изменения. Идя этим путем, мы на каждом шагу будем наталкиваться на нелепости. Мы должны будем сказать, например, что государство, понижающее у себя таможенные пошлины, имеет право требовать от производителей тех стран, откуда оно получает товары, чтобы они отдавали ему проистекающий от этой меры избыток доходов. Для них это не более, как конъюнктура, а чужое государство — автор этой конъюнктуры.
И все это бесконечное шествие от нелепости к нелепости мы должны будем совершить для того, чтобы избежать самой простой и очевидной истины, именно, что цена вещи, будучи платою за уступку вещи, принадлежит хозяину и никому другому, а потому и все отражающиеся на цене случайности падают на хозяина, а не на посторонних. Римские юристы выражали это известною поговоркою: «случайности несет хозяин» (casum sentit dominus). Поэтому, если бы государство присваивало себе право на все конъюнктуры, то оно тем самым объявило бы себя хозяином всех вещей. К этому именно клонится социализм.
Глава X. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОГАТСТВА
Мы видели, что при господстве промышленной свободы, или, как выражаются социалисты, при обороте, предоставленном самому себе, доход каждого определяется взаимными отношениями различных деятелей производства, отношениями, которые вправляются законом предложения и требования. Таков вытекающий из экономической свободы способ распределения богатства. Спрашивается: справедливо ли подобное распределение?
Социалисты и социал-политики утверждают, что нет. По их мнению, богатство должно распределяться по достоинству или по заслугам каждого; свободные же отношения ведут к тому, что сильные имеют перевес над слабыми: вследствие этого имущие получают значительный доход, ничего не делая, тогда как неимущие, трудясь без устали в течение всей своей жизни, едва приобретают насущное пропитание.
Эта теория впервые была развита сен-симонистами, которые свои требования выразили в известной формуле: «каждому по способности и каждой способности по ее делам». Как прямое последствие такого взгляда сен-симонисты отвергали наследство и предоставляли государству право распределять орудия производства между способнейшими лицами. Этим однако далеко не достигалась предположенная цель: вместо справедливого распределения благ установлялось искусственное превосходство таланта, которому предоставлялось не только произведенное им самим, но и произведенное другими. А с другой стороны, этою системою водворялся безграничный деспотизм государства, которое становилось единственным судьею всех способностей и распределителем всех материальных благ. Мнимая справедливость сопровождалась полным подавлением свободы.
Защитники равенства не замедлили восстать против этого учения: «Появляется ли на свет неравенство, мать тирании, во имя успехов ума или во имя побед силы, — . писал Луи Блан, — не все ли это равно? В обоих случаях любовь исчезает, эгоизм торжествует и человеческое братство попрано ногами». Если принять за правило, что каждый должен быть вознагражден по способностям, то что делать с увечными, престарелыми, идиотами? А как скоро мы считаем себя обязанными помогать последним, так мы приходим уже к иному началу. Государство, по мнению Луи Блана, должно брать пример с семейства, где отец распределяет все блага между своими детьми сообразно с их нуждами, а не с их способностями. Поэтому формула сен-симонистов должна быть заменена другою: «каждый должен производить сообразно с своими силами и способностями, а потреблять сообразно с своими нуждами».
В этой новой теории о справедливости очевидно уже нет речи. Здесь господствующим началом является любовь. Каждый получает не то, что он произвел, а то, что произвели другие — система чисто коммунистическая. Но коммунизм, как заметил Прудон, не что иное, как эксплуатация сильного слабым. В формуле сен-симонистов способность являлась исключительно преобладающим началом; у Луи Блана, напротив, она становится в чисто служебное положение, порождая для лица только обязанность усиленно работать для других. Ясно, что на такой системе нельзя построить ни промышленности, ни государства.
Сам Прудон, как мы уже видели, признавал справедливость истинным основанием промышленного порядка; существо же справедливости, которую он отождествлял с общественностью, он полагал в равенстве, не пропорциональном, как сен-симонисты, а арифметическом. Правда, говорит он, состоит в признании за другим равной с нами личности. Это равенство составляет основание всякого общения. А так как все люди находятся в общении между собою, то все должны получать одинаковое вознаграждение под условием одинаковой работы. Ни способность, ни собственность не могут дать одному какое бы то ни было преимущество перед другими. Единственным мерилом получаемого дохода должно служить количество положенного в произведения труда.
Мы уже разбирали эту теорию с юридической точки зрения и видели всю ее несостоятельность. Экономически она столь же мало выдерживает критику. Промышленное общество может существовать между лицами совершенно неравными, и по имуществу и по способностям. Справедливость не только не отвергает принадлежащей имуществу и таланту доли в произведенных ценностях, а напротив, требует для них соответственного вознаграждения, согласно с формулою: каждому свое. По закону правды распределение общественных благ должно совершаться не поголовно, а сообразно с тем, что каждый внес в общество. Поэтому производители могут требовать участия в произведениях не только по количеству, но и по качеству труда, а равно и по количеству своего материального вклада. Как заметил уже Аристотель, несправедливо, чтобы тот, кто в товарищество вкладывает одну долю из ста, получал столько же, сколько тот, кто вложил все остальное[243]. Последовательно проводя свою теорию, Прудон должен бы был отвергать даже лишнюю плату за большее количество труда, ибо, если высшее качество не имеет права на высшее вознаграждение, то в силу чего можно требовать высшего вознаграждения за большее количество? Как скоро признается, что товарищи получают равное вознаграждение только «под условием равной работы», так участие их в полученных произведениях определяется уже не отвлеченным качеством товарищей, или равных членов общества, а различным вкладом их в общество. Но в таком случае, если один приносит высший талант, а другой только обыкновенный труд, если один вкладывает капитал, а другой ничего, то один может требовать большего вознаграждения, нежели другой, и тогда уже о равенстве нет речи. Этого шага Прудон не решился однако сделать, вследствие чего его теория разрушается внутренним противоречием.
Из социалистических школ фурьеристы ближе всех подошли к истинному понятию о справедливом распределении богатства. Признавая в производстве участие трех деятелей, труда, таланта и капитала, Фурье закон распределения формулировал так: «каждому по его капиталу, труду и таланту». Но Фурье ошибался, когда он полагал, что можно раз навсегда определить долю каждого деятеля. В своей системе он назначал 5/12 труду, 4/12 капиталу и 1/12 таланту. Эти цифры совершенно произвольны. С изменением экономических условий изменяется и значение различных деятелей в производстве, а с тем вместе и участие их в произведениях. Ничего постоянного и определенного тут не может быть.
Это признается и новейшими социалистами кафедры. А как скоро это признается, так оказывается совершенная невозможность установить какое бы то ни было начало для распределения богатства, исключая свободы. Вследствие этого социалисты кафедры поставлены в значительное затруднение, когда им приходится формулировать то, что они считают требованиями справедливости. Так, Адольф Вагнер постоянно восстает против незаслуженного дохода; он осуждает существующее распределение, которое, по его мнению, противоречит справедливости, возвышая доход капиталиста на счет других; он прямо даже заявляет, что принадлежащий отдельным лицам капитал часто не что иное, как доход рабочих, несправедливо у них отнятый. Но тут же он сознается, что при подобных суждениях можно руководствоваться «только неопределенным критерием, который в отдельных случаях оставляет нас совершенно на мели». Если капиталисты иногда притесняют рабочих, то случается и наоборот, что рабочие притесняют капиталистов; а так как доля каждого в производстве не составляет нечто определенное и не может быть принципиально выведена, то и здесь остается только довольствоваться «необходимым мерилом справедливой оценки». При этом однако Вагнер замечает, что в общем итоге, руководствуясь воззрениями известного времени или страны, а также беспристрастным взвешиванием заслуг и интересов противоположных сторон, наконец, даже совестью отдельных лиц и целого народа, можно найти достаточные точки опоры для решения[244].
При таких неопределенных основаниях можно, конечно, вывести все, что угодно; но будет ли это иметь малейшее научное значение? И когда признается, что доля каждого деятеля не есть нечто постоянное и не может быть определена, то возможно ли рядом с этим утверждать, что капитал часто не что иное, как доход рабочих, несправедливо у них отнятый? Говоря о договоре, мы уже заметили, что Вагнер основывает свои требования на том самом начале, которое он отвергает, ибо на практике воззрения времени и справедливая оценка руководствуются средними, установляющи-мися в жизни отношениями, а последние определяются свободою. Без этого всякое практическое мерило исчезает, и мы обретаемся в полном тумане.
Еще сбивчивее Шмоллер, который ратует за господство «распределяющей правды» в народном хозяйстве. Он видит в этом необходимое требование нравственности, причем он ссылается даже на Аристотеля. Шмоллер формулирует это начало так, что «доход и имущество должны соответствовать добродетелям и заслугам». Это та самая теория, замечает он, «которую уже Аристотель развивал в своей этике, когда он настаивал на том, что распределяющая правда еще важнее правды уравнивающей. Все, говорит он, (то есть Аристотель — Б.Н.), согласны в том, что распределение наслаждений должно производиться по достоинству лиц; в этом состоит правда; но в чем заключается достоинство, об этом идет спор. Демократы указывают на свободу, олигархи — на богатство или на благородное происхождение, приверженцы аристократии — на добродетель. Следовательно, — заключает Шмоллер, — добродетель должна господствовать». И этот, по уверению Шмоллера, выставленный Аристотелем и другими мыслителями идеал представляется необходимым не только с нравственной, но и с экономической точки зрения, ибо чем более человек имеет уверенности, что добродетель награждается и в этой жизни и что трудолюбие не пропадает даром, тем более он напрягает свои силы для деятельности. Шмоллер соглашается однако, что практическое осуществление этого идеала возможно лишь в самых общих чертах (nur ganz unge-lahr), и это, по его мнению, составляет самое сильное оружие против социалистов. Он признает также, что это мерило должно прилагаться не к отдельным лицам, а к целым семействам, и даже не к отдельным семействам, а к целым классам. Поэтому оно не противоречит существованию наследственного права, сохраняющего имущество постоянно в одном и том же классе. Началу распределяющей правды, с этой точки зрения, противоречит лишь такое распределение имущества, которое даже и приблизительно не соответствует добродетелям, знаниям и заслугам различных общественных классов[245].
При такой постановке вопрос, конечно, становится довольно невинным. Когда сен-симонисты провозглашали начало распределяющей правды в экономическом порядке, они смело и открыто вывели прямо вытекающее из него последствие, именно, отрицание наследства. У Шмоллера же всякая последовательность исчезает. Выставляется начало, которое должно владычествовать в промышленном мире, но рядом с этим объявляется, что оно к отдельным лицам неприложимо и вообще осуществимо лишь в самых общих чертах. В таких пределах оно существующему порядку не угрожает, ибо всегда можно с достаточным правдоподобием утверждать, что доходы взятых в совокупности классов землевладельцев, капиталистов и предпринимателей «в самых общих чертах» соответствуют их добродетелям и заслугам. При отсутствии всякого мерила доказать противное невозможно. Представляется даже совершенно невероятным, чтобы целый класс, не обладающий ни нравственными, ни экономическими качествами, соответствующими его положению, мог на нем продержаться: он быстро придет в упадок просто силою вещей, а не вследствие приложения начала правды распределяющей. Непонятно только, какое побуждение к труду может извлечь отдельное лицо из такого начала, которое к отдельным лицам неприложимо. Мысль, что и в этой жизни добродетель и трудолюбие приблизительно, в самых общих чертах награждаются в приложении к целым классам, едва ли кого-нибудь может подвинуть к деятельности или утешить в несчастии.
Непонятно также, какую роль тут должна играть добродетель. Становясь на нравственную точку зрения в политической экономии, Шмоллер последовательно делает нравственное начало мерилом распределения богатства. Но именно тут оказывается, что это мерило совершенно неприложимо. Человеколюбие, самоотвержение составляют источник не дохода, а скорее расхода. Тот, кто продает имение и раздает деньги нищим, приобретает сокровище на небе, но никто никогда не утверждал, что он этим самым приобретает сокровище на земле. Шмоллер ссылается на Аристотеля; но именно Аристотель мог бы предохранить его от подобного смешения понятий. Аристотель прямо обличает ложное умозаключение тех, которые, опираясь на какое-нибудь превосходство, требуют себе того, что к этому превосходству вовсе не относится. Во всяком распределении, говорит греческий философ, надобно принимать в соображение именно то превосходство, которое относится к делу. Так например, если кто-нибудь лучше других играет на флейте, но ниже других красотою и благородством рождения, то несмотря на то что красота и благородство рождения суть высшие качества, нежели игра на флейте, ему все-таки следует предоставить лучшую флейту[246]. То же самое прилагается и к добродетели. Из того, что один человек добродетельнее другого, вовсе не следует, что он должен получать более дохода. Начало правды распределяющей отнюдь этого не требует.
Вообще, ссылка Шмоллера на Аристотеля весьма неудачна. Надобно полагать, что почтенный профессор и социал-политик мало знаком с греческим философом, ибо даже цитаты приведены у него совершенно превратно. Аристотель, как мы видели, разделял правду на два вида: на правду уравнивающую и распределяющую. Первая следует арифметической пропорции, когда равное меняется и на равное, вторая — пропорции геометрической, когда те или другие блага распределяются соразмерно с достоинством лиц. Именно в том самом месте «Никомаховой этики», на которое указывает Шмоллер, Аристотель говорит, что во всех гражданских обязательствах, то есть в области промышленного оборота, господствует не распределяющая, а уравнивающая правда, причем совершенно все равно, добрый ли человек взял лишнее у злого, или злой у доброго: судья исправляет неправильность, не обращая никакого внимания на нравственные качества лиц. Распределяющая же правда прилагается там, где распределяются блага, общие всем в государстве, и тут распределение совершается сообразно с теми качествами, которые имеют значение в государстве[247]. Когда Шмоллер в приведенной выше цитате говорит, что Аристотель стоит за распределение наслаждений сообразно с добродетелью, то надобно заметить, что слово «наслаждение» есть не более как вставка, происшедшая вероятно по недоразумению, но во всяком случае неуместная в писаниях ученого[248]. Из самой приводимой им фразы Шмоллер мог бы видеть, о чем тут идет речь. Демократия, олигархия и аристократия спорят не о распределении наслаждений, а о распределении государственной власти, как явствует еще более из «Политики», где можно видеть и о какой добродетели говорит Аристотель. Добродетель зла, на которую ссылаются аристократы, есть добродетель гражданина, на основании которой можно требовать преимущественного участия в государственной власти, в силу того что она более всех других качеств имеет значение для государственного благоустройства. О распределении же наслаждений тут нет и помину. А потому нет ни малейшего повода приписывать Аристотелю тот нравственно-экономический идеал, который носится в смутном уме нынешних социал-политиков.
Теория Аристотеля с юридической стороны совершенно верна. Как юридическое начало, в гражданском обороте господствует правда уравнивающая, а не распределяющая. Тут идет дело не о распределении общего всем имущества, а о взаимных отношениях свободных, следовательно самостоятельных и равных между собою лиц. Мена есть отдача равного за равное по оценке сторон. Так как эта оценка существенно определяется потребностью и расчетом, а то и другое имеет характер субъективный, то решающим началом является здесь воля лиц. Поэтому сделки, основанные на обоюдном соглашении, охраняются правом. Если же одна из сторон помимо воли другой присваивает себе лишнее, например путем обмана, то судья обязан исправить. Таковы с юридической точки зрения требования справедливости, и ни одно общество, признающее свободу своих членов, не может руководиться иными правилами.
Однако за этою формальною стороною скрывается другая. Воля юридически признается решающим началом, но чем на деле руководится эта воля в своих решениях? Она ищет своей выгоды; но возможность достижения выгоды зависит не от ее произвола, а от общих экономических условий среды и управляющих ими законов. Таким образом, субъективное начало в своих действиях определяется объективными факторами, от которых в сумме случаев зависит приобретаемая каждым польза. Через это мена превращается в орудие общего распределения богатства между различными классами производителей. Как же скоро является распределение, так вместе с тем возникает вопрос о справедливости этого распределения. Но справедливость должна рассматриваться здесь не с юридической, не с нравственной, а чисто с экономической точки зрения. Смешение этих различных сфер ведет к бесконечной путанице понятий, от которой происходит значительная часть социалистических фантасмагорий.
Что же такое справедливость с экономической точки зрения? Общее начало справедливости выражается в известной формуле: каждому свое. Если приложить эту формулу к распределению дохода между различными деятелями производства, то справедливым мы должны признать такое распределение, которое дает каждому деятелю доход сообразный с его значением в производстве. На этом основании социалисты, приписывающие производительную силу единственно труду, последовательно признают несправедливым такое распределение, которое известную часть дохода предоставляет другим деятелям: с их точки зрения, это доля, похищенная у рабочих. Но мы видели, что это воззрение не выдерживает критики. Нет сомнения, что и другим деятелям нельзя отказать в известном значении в производстве, а потому и им должна принадлежать своя доля дохода. Спрашивается: какая это доля и чем она определяется?
Цель всего производства состоит в удовлетворении потребностей. Следовательно, значение каждого деятеля в производстве определяется способностью его содействовать достижению этой цели, то есть способностью его удовлетворять потребностям. Эта способность зависит 1) от степени самой потребности; 2) от количества сил, могущих доставить ей удовлетворение. Чем больше потребность, тем большее экономическое значение имеет то, что может ее удовлетворить; наоборот, чем больше количество соперничающих сил, тем очевидно меньше значение каждой из них. А так как оба эти фактора бесконечно изменчивы, то ясно, что никакой определенной цифры тут быть не может; доля каждого деятеля должна повышаться или понижаться соответственно изменению, с одной стороны, потребностей, с другой стороны количества тех сил, которые способны дать им удовлетворение.
Мы приходим здесь с другой точки зрения к тому самому закону предложения и требования, которым управляется весь экономический порядок при господстве свободы. Этот закон оказывается чистым выражением распределяющей правды в промышленном производстве.
Против этого возражают, что при таком порядке господствует не справедливость, а сила, ибо сильнейшие в борьбе естественно имеют перевес над слабейшими, вследствие чего является возможность несправедливых вымогательств как с той, так и с другой стороны. Некоторые прямо даже говорят, что установление заработной платы есть вопрос силы (eine Machtfrage) между работниками и предпринимателями, вследствие чего и взаимные их договоры должны рассматриваться как договоры двух независимых держав[249].
Для решения этого вопроса надобно спросить: о какой силе идет тут речь? Не о физической конечно, которая сдерживается юридическим законом, а об экономической силе, то есть о способности удовлетворять потребностям. Но экономическая сила как деятель производства и есть именно то, что дает право на соответствующий доход с производства. Чем больше сила, тем больше она производит и тем больше должна быть ее доля в произведениях. А с другой стороны, чем меньше количество потребных сил, тем больше значение каждой. Если капиталист получает много, а работник мало, то это происходит оттого, что капиталистов мало, а работников много. Обратное явление происходит там, где количественное отношение изменяется. Из этого уже можно видеть, до какой степени неверны все эти аналогии с воюющими державами и вообще уподобление экономических отношений физическим. В самом деле, возможно ли представить себе, чтобы воюющая держава была тем слабее, чем больше у нее войска? А между тем именно в таком положении находятся рабочие, когда есть избыток рук. Если они не в состоянии выдержать борьбу, то это происходит оттого, что капитала мало, и требование его со стороны рабочих рук сильнее, нежели требование рабочих рук со стороны капитала. Наоборот, когда капитал умножается и вследствие того увеличивается требование рабочих рук, с чем вместе повышается заработная плата и поднимается благосостояние рабочих, то последние весьма легко могут выдерживать борьбу, ибо капиталистам при остановке работы грозит неминуемое разорение. Говорить о вымогательстве можно в отдельных случаях, когда есть мерило для сравнения, именно, установившийся в силу предложения и требования размер платы; но самый этот размер установляется не путем вымогательства, а вследствие естественного отношения экономических деятелей, которым определяется экономически справедливое распределение между ними дохода.
Нет сомнения, что при таком порядке существующая заработная плата может иногда быть недостаточна для удовлетворения нужд рабочих. Тот предприниматель, который ее повышает, делает хорошо; но это вопрос не экономической справедливости, а человеколюбия и благотворительности. Предприниматель может значительную часть своих доходов употребить на улучшение быта рабочих; он волен даже раздать им все свое имение. Все это чрезвычайно похвально; но при этом не следует упускать из вида, что он раздает то, что принадлежит ему, а не им. Смешение нравственной точки зрения с экономическою и тут ведет к путанице понятий. Благотворительность смешивается с справедливостью, и то, что может быть только свободным даром, выдается за право, которое можно вынуждать даже насилием.
Существенное различие между справедливостью и благотворительностью выражается в противоположности формул сен-симонистов и Луи Блана: «каждому по способности» и «каждому по потребностям». В одном случае распределение сообразуется с производством, в другом случае с потреблением. Одним началом определяется то, что человек имеет право требовать, другим то, что он волен дать. Но очевидно, что он вправе дать лишь то, что принадлежит ему, а не другому. Следовательно, надобно прежде всего определить то, что ему принадлежит; принадлежит же ему с точки зрения экономического дохода то, что он приобретает как участник производства. Таким образом, справедливость предшествует благотворительности. Первая относится к распределению дохода, вторая — к употреблению распределенного. При этом никому не возбраняется отказаться от части своего дохода в пользу другого. Но это опять же чисто личное дело; принудительная уступка не что иное, как конфискация, недопустимая в правильном гражданском, так же как и в экономическом порядке. Общество, признающее начало свободы, не может держаться в распределении богатства иного начала, кроме справедливости. Благотворительность, частная и общественная, наступает потом, как помощь тем, которые по неспособности или вследствие неблагоприятных обстоятельств не могли получить необходимого.
Отсюда ясно, до какой степени неосновательны нападки социалистов кафедры на господствующую экономическую теорию, которую постоянно упрекают в том, что она обращает внимание исключительно на производство и упускает из вида распределение. Справедливое распределение есть именно то, которое сообразуется с производством. Вследствие этого господствующее учение восстает против всех искусственных мер, привилегий и монополий, которые, стесняя одних в пользу других, дают последним возможность получать несоответствующий их значению в производстве доход. Но с другой стороны, оно с таким же основанием восстает и против всех мер, имеющих в виду изменить распределение в <пользу> потребностей и таким образом заменить справедливость благотворительностью. Это и есть то нравственное воззрение в политической экономии, которое, смешивая различные сферы и начала, путает все понятия и тем самым вносит смуту в умы.
Если же мы должны признать распределение дохода, соразмерное с участием в производстве, основным экономическим законом, то ясно, что равенство имуществ никогда не может быть плодом свободной экономической деятельности. Когда социалисты провозглашают равенство началом экономического порядка, то они говорят не об экономических деятелях, а о каких-то единицах, витающих на воздухе. Экономические силы неравны, а потому не могут быть равны и результаты их деятельности, и это неравенство будет тем больше, чем больше неравенство сил. Выше было уже замечено, что на низших ступенях оно меньше, нежели на высших. Причина та, что экономические силы менее развиты. Первоначально господствует всеобщая бедность; только мало-помалу накопляется богатство. И это накопление идет неравномерно вследствие того, что неравномерно развиваются самые силы, его производящие. Вопреки мнению социалистов богатство производится не физическим трудом, который является здесь только орудием, а главным образом приложением умственных способностей к промышленному производству. А так как умственное развитие составляет достояние немногих и только мало-помалу распространяется на массу, то и накопление богатства по естественному закону идет тем же путем. Отсюда противоположность богатых и бедных, которая остается и на высших ступенях, ибо неравномерное распределение умственных сил в обществе никогда не может быть изглажено. Как бы высоко ни поднялся уровень массы, богатство все-таки будет сосредоточиваться главным образом в тех слоях общества, где господствует умственное развитие. Это не мешает отдельным лицам свободно переходить из одной сферы в другую. Между противоположными крайностями установляется бесчисленное множество посредствующих ступеней, в которых выражается все бесконечное разнообразие жизненных сил и проистекающих отсюда имущественных отношений. По этой лестнице в силу свободы люди беспрерывно передвигаются вверх и вниз, сообразно с своею деятельностью и с теми условиями, в которые они поставлены.
Спрашивается: полезно ли такое неравенство в экономическом отношении? Если оно проистекает из естественного закона, то оно несомненно полезно. Это тот необходимый путь, который ведет к развитию народного богатства. Неравенство происходит оттого, что высшие силы приобретают более, нежели низшие; а это составляет единственное условие, при котором возможно развитие высших сил. Они возбуждаются именно перспективою достижения высших материальных благ. Вся их энергия напрягается в этом стремлении, и это идет на общую пользу, ибо материальное благосостояние народа зависит главным образом от деятельности лиц, направляющих промышленное движение, изыскивающих новые пути и обогащающих страну тем самым, что они обогащают себя. Не только то, что они сами имеют, способствует поднятию общего уровня, но еще более то, что они в силу экономических законов приобретают для других. Мы видели, что конкуренция имеет своим последствием понижение цены произведений до предела издержек производства. Вследствие этого весь приобретенный человеческою деятельностью избыток, все сделанные промышленностью завоевания становятся достоянием всех.
Это благотворное действие неравных сил относится не к одним только промышленным талантам, но точно так же и к накоплению капитала. Выше было доказано, что от накопления капитала зависит все народное богатство. Первое условие благосостояния состоит в том, чтобы капитал умножался быстрее, нежели народонаселение. Но именно этому требованию отвечает образование класса капиталистов, для которых накопление капитала составляет главную цель их деятельности. И чем крупнее капиталы, тем лучше достигается цель, ибо чем больше доходы, тем легче совершается накопление. Крупные капиталы производят больше, сберегают больше и довольствуются меньшим процентом. Накопление же капитала ведет, как мы видели, к поднятию заработной платы; следовательно, этим самым возвышается благосостояние массы.
Совершенно обратное действие имело бы то равенство, о котором мечтают социалисты. Вся цель их состоит в том, чтобы высшие силы низвести на степень низших. Но этим самым подрываются главные источники развития. Силы не возбуждаются, а задерживаются. Для промышленного развития недостаточно существования отвлеченных способностей; надобно, чтобы эти способности имели побуждение к деятельности и чтобы они орудовали значительными средствами. При равенстве и то и другое у них отнимается. Следовательно, общество лишается всего того избытка богатства, который производится именно действием высших его сил. И этот избыток не вознаграждается деятельностью низших, ибо последние не производят больше, оттого что первые производят меньше.
Уменьшается только общая производительность, а с тем вместе и общее благосостояние.
То же самое прилагается к накоплению капиталов. Уравнение ведет к тому, что главный источник сбережений сокращается, вследствие чего умаляется совокупный капитал общества, следовательно, уменьшается не только производство, но и самая заработная плата и связанное с нею благосостояние массы. Этим полагается преграда всякому промышленному успеху. На низших ступенях экономического быта, где скудость капиталов восполняется непочатым богатством естественных сил и редкое народонаселение возрастает медленно, можно еще встретить более или менее равномерно распределенное благосостояние. Но как скоро экономическое развитие общества получило более энергический толчок, как скоро вследствие того силы природы истощаются, а народонаселение растет, так быстрое накопление капиталов становится необходимым условием народного богатства. Оно служит единственным противовесом возрастанию народонаселения. Быстрое же накопление капиталов является плодом неравенства, которое, само будучи произведением высшего экономического развития, таким образом носит в себе свое собственное врачевание. При таких условиях всякое искусственное уравнение было бы только насильственным возвращением к первобытному безразличию, где разнообразные промышленные силы еще не определились и не выделились из общей массы. Но при изменившихся отношениях подобная попытка не могла бы достигнуть цели. Она не возвратила бы общество в первобытное состояние, из которого оно вышло, а произвела бы только всеобщую нищету.
Нет сомнения однако, что это увеличивающееся неравенство имеет свои темные стороны, которых нельзя отрицать. Противники его указывают на то, что оно развивает в людях стремление к материальной наживе в ущерб нравственным качествам. Отсюда те примеры скандалезных богатств, которые развращающим образом действуют на общество. А так как это стремление имеет целью личное наслаждение, то с этим сопряжено страшное развитие роскоши, ведущее к совершенно непроизводительной трате народного богатства. Всему этому, говорят, нет места при большем равенстве имуществ, которое, воздерживая прихоти, уменьшает стремление к материальным благам и вместе с тем дает возможность обратить избыток богатства на более полезные для общества предметы.
В этих возражениях есть доля истины, но лекарство против указанного зла лежит вовсе не там, где его ищут. Что одностороннее стремление к обогащению может повести к нравственному упадку и породит безобразные явления по части наживы, это не подлежит спору. Преобладание материальных наклонностей над нравственными составляет признанную всеми болезнь нашего времени. Но это доказывает только необходимость противовеса односторонним стремлениям, a никак не насильственного обуздания последних. Человеческая жизнь слагается из различных элементов; задача состоит в гармоническом их соглашении. Где один из этих элементов оскудел, в обществе неизбежно чувствуется разлад. Нравственный упадок в особенности всегда сопровождается самыми печальными явлениями. Но причины этого упадка кроются не в порожденном экономическою свободою стремлении к материальным благам, а в ослаблении тех начал, из которых истекают нравственные побуждения человека. Эти начала даются религиею, философиею, искусством. Где все эти идеальные сферы лишаются внутренней жизни или теряют свое влияние на общество, там стремление к обогащению остается единственным интересом человека. Это менее причина, нежели следствие. А потому и лекарство против указанного зла лежит не в обуздании материальных стремлений, а в нравственном возрождении общества пробуждением в нем высших интересов. Без этого тщетны все попытки действовать на людей. Нравственное же возрождение возможно только путем свободы. А так как свобода есть вместе с тем начало экономического развития, то оба направления весьма хорошо совмещаются, и нет никакой нужды подавлять одни стремления во имя других. Человек может обогащаться промышленною деятельностью, не нарушая нравственных требований, а напротив, употребляя избыток своего богатства для нравственных целей. Свободе, как экономической, так и нравственной, противоречит только социалистическое подчинение обеих сфер государству; подобная система, стесняя экономическую свободу во имя нравственного начала, тем самым делает нравственность принудительною, в противоречие с истинным ее существом. Но экономической свободе не противоречит нравственная проповедь и действие общественного мнения, не противоречит и деятельность церкви в самых широких размерах, из чего однако не следует, что обе сферы должны смешиваться. Экономическая наука столь же мало может подчиняться нравственности, как и религии. Жизни и свободе предоставляется соглашение обоих начал.
Что касается до роскоши, то и она составляет совершенно законное явление в области человеческих отношений. Всякая промышленная деятельность основана на стремлении к обогащению. Но человек не ищет обогащения просто ради накопления денег: такое явление представляется уродством. Обогащаясь, человек хочет сделать полезное употребление из своих средств; вместе с тем он работает для себя: он хочет украсить свою жизнь. Это украшение жизни и есть роскошь. Чем больше богатство, тем больше и роскошь. Отсюда ясно, что ограничение роскоши равносильно отнятию у богатых людей одного из главных побуждений к дальнейшей промышленной деятельности, а это не может не отразиться пагубным образом на народном хозяйстве, которого существенный интерес состоит в том, чтобы именно крупные капиталы не переставали быть производительными. Следовательно, роскошь не только не приносит ущерба народному хозяйству, а напротив, составляет в нем необходимый элемент. Без нее промышленное развитие народа всегда остается на низкой ступени.
Нет сомнения, что есть роскошь чрезмерная, безумная, лишенная изящества. Но против нее опять-таки существует только одно разумное лекарство, именно, развитие в обществе чувства изящного путем свободы. Не лишать человека средств, а направлять его к тому, чтобы он делал из них хорошее употребление, такова единственная политика совместная с свободою и с достоинством человека. Вместе с тем это единственная политика, достигающая цели. Известный разряд богатых людей потому предается нелепой роскоши, что таков их вкус. Иного они не понимают, а потому иное их не удовлетворяет. Для того чтобы они удовлетворялись более изящными наслаждениями, надобно, чтобы вкус к истинно изящному был развит в окружающем их обществе, а этому именно содействует хорошо направленная роскошь. Высшую роскошь составляют художественные произведения, и только при постоянном обхождении с ними развивается утонченное их понимание. Нужна изящная обстановка жизни для того, чтобы развивался вкус к изящному. А это дается нелегко, особенно в сложной и обставленной разнообразными условиями жизни новых народов. У греков чувство изящного было природным даром; простота отношений античного мира и великолепная окружавшая их природа способствовали изощрению этого дарования. У новых народов, которые ведут более домашнюю жизнь и у которых отношения несравненно сложнее, изящество достигается с гораздо большим трудом, а между тем роскошь, распространяясь на множество неизвестных древним мелочей, приобретает гораздо более широкие размеры. Дать ей идеальное назначение в украшении жизни тем важнее, что именно в богатых обществах чувство изящного составляет один из необходимых нравственных элементов общежития. Оно заставляет человека с омерзением отворачиваться от всего низкого и грязного и обращаться с любовью к высокому и благородному. Следовательно, содействуя развитию этого чувства, хорошо направленная роскошь и в нравственном отношении играет существенную роль в человеческой жизни. Обставленный роскошью быт, проникнутый изяществом, составляет высшую красоту человеческой жизни с внешней ее стороны. Если этот идеал доступен немногим, то все же полезно, чтобы он существовал как образец для других и как удовлетворение тем более обеспеченным классам, которые призваны к высшему духовному развитию. Народ, среди которого распространено изящество жизни, может этим гордиться.
Таким образом, все нападки на неравенство имуществ с точки зрения незаслуженных богатств, чрезмерной роскоши и проистекающего отсюда нравственного упадка, лишены основания. Если человек обогащается неправильно, то против этого есть юридический закон; если он стремится исключительно к материальным благам, пренебрегая нравственными требованиями, то против этого есть нравственный суд общества, без которого тщетны всякие принудительные меры. Наконец, если он безумно расточает свое богатство, то в этом судья он один, ибо он волен делать из своего достояния все, что ему угодно; общество с своей стороны может только лишить его того уважения, которое должно оказываться единственно разумным силам, и которое при низком общественном уровне слишком часто достается на долю золотому тельцу. Без сомнения, желательно, чтобы богатые делали хорошее употребление из своих средств; но эта цель может быть достигнута только путем нравственного совершенствования общества, а не стеснением экономической свободы и проистекающего из нее неравенства.
Иное дело, если бы действительно, как уверяют некоторые, обогащение одних вело к обеднению других, и приобретаемое богатыми отнималось у бедных. Противники экономической свободы утверждают, что она неизбежно ведет к развитию двух противоположных крайностей богатства и нищеты, с уничтожением именно тех средних состояний, умножение которых всего желательнее в правильном народном хозяйстве. Мы видели уже эти нарекания в вопросе о конкуренции и там заметили, что они происходят от неверного обобщения некоторых частных явлений. Несмотря на то что этот взгляд весьма настойчиво поддерживается социалистами и социал-политиками, никто из них не мог привести доказательств в его пользу. Шмоллер, близко знакомый с статистикою, решается высказать эту мысль только в виде сомнения против слишком оптимистического взгляда на вещи. Отдельные факты и наблюдения в путешествиях и в обращении с торговым миром, говорит он, а также и общий ход современной промышленности дают более вероятности предположению, что крупные состояния растут быстрее, нежели общий уровень; можно также думать, что класс людей, живущих поденною платою, многочисленнее, нежели несколько десятков лет тому назад[250]. Между тем факты далеко не оправдывают этих сомнений. В 1880 г. вышло сочинение Леруа-Болье, в котором на основании тщательно собранных статистических данных подробно исследуется вопрос о распределении богатства: результат его изысканий совершенно противоположен тем предположениям, которые высказывает Шмоллер. Приведем некоторые цифры[251].
Прежде всего нас поражает сравнительно ничтожное количество крупных состояний даже в самых богатых странах. В Англии, как известно, поземельная собственность в силу майоратов и субституций искусственным образом удерживается в руках богатых землевладельцев; поэтому отсюда нельзя сделать никаких выводов в пользу или против проистекающего из экономической свободы неравенства: в английском землевладельческом классе неравенство является последствием юридического, внеэкономического порядка. Что же касается собственно до промышленных состояний, то на основании таблиц обложения подоходным налогом, которые показывают доходы обыкновенно на одну треть ниже действительности, оказывается, что в 1877 г. было 381972 лица, имевших официально доход свыше 150 фунтов (по настоящему курсу около 1500 руб.). Из них 272000 обладали доходом не свыше 300 фунтов, что соответствует мелкой промышленности и торговле. Затем средняя промышленность, с доходом от 300 до 1000 фунтов, заключала в себе 88000 человек. Крупные промышленники, с доходом от 1000 до 10000 фунтов, были в числе 21000 человек. Наконец, огромные состояния свыше 10000 фунтов дохода находились в руках не более 1122 лиц, из которых только 86 имели доход свыше 50000 фунтов. Мы видим здесь постепенную лестницу, сообразно с общим законом распределения благ не только в имущественном, но и в физическом мире.
Во Франции подоходный налог не существует, а потому нет таких точных указаний. Приходится довольствоваться отдельными категориями лиц и предметов. Относительно поземельной собственности последняя полная опись обложенных участков (cotes foncieres) была составлена в 1858 г. В то время из 13000000 участков 6686000 были обложены податью не свыше 5 франков, что соответствовало чистому доходу от 40 до 80 франков, смотря по местностям. Из остальных 6 1/2 миллионов 2 миллиона были обложены податью не свыше 10 франков, что соответствовало доходу от 40 до 160 франков; затем другие 2 миллиона были обложены податью до 20 франков с чистого дохода не свыше 320 франков. Наконец, из остающихся 2 1/2 миллионов огромное большинство не превышало 500 франков обложения и 8000 франков дохода. Только 37000 участков обложены были податью от 500 до 1000 франков, и только 15000 платили более 1000 франков. Число участков, конечно, более числа собственников, ибо одно лицо может владеть несколькими участками; но в общем итоге, по мнению Леруа-Болье, во Франции нет более 50 или 60 тысяч человек, имеющих поземельную собственность, городскую или сельскую, приносящую свыше 6 или 7 тысяч франков дохода. Можно полагать, что половина всего поземельного дохода во Франции принадлежит мелкой собственности, имеющей не более 1000 франков дохода, четверть — средней, имеющей от 1000 до 3000 франков дохода, наконец последняя четверть — тому, что можно назвать крупною собственностью, приносящею свыше 3000 франков дохода.
Вернее можно судить о распределении доходов по статистике налога на квартиры в больших городах, особенно в Париже. На основании этих данных богатый класс в Париже, платящий за квартиры свыше 3000 франков официальной оценки или 4000 в действительности, что приблизительно соответствует доходу от 32000 франков, заключает в себе не более 14858 податных лиц; из них 9985 имеют доход от 32000 до 64000 франков, 3049 — от 64000 до 130000 франков, 1413 — от 130000 до 266000 франков. Вообще, по исчислениям Леруа-Болье, очень богатый класс, состоящий из лиц, имеющих свыше 133000 франков дохода, представляет 3/1000 всего парижского народонаселения, богатый класс с доходом от 32000 до 133000 франков составляет 20/1000, зажиточный класс с доходом от 6000 до 32000 франков — 96/1000, средний класс с доходом от 2400 до 6000 франков — 197/1000, наконец, маленькие доходы ниже 2400 франков принадлежат двум третям всего народонаселения.
Таким образом, как и следовало ожидать, количество богатых лиц уменьшается по мере увеличения состояния; разрыва на две противоположные крайности не видать. И при всем том количество зажиточных людей так ничтожно, что, по исчислению Леруа-Болье, если бы государство вздумало конфисковать все доходы свыше 7000 франков и распределить их между остальными, то доля последних увеличилась бы не более, как на 10 или на 12 процентов. То же самое прилагается и к Германии. В Пруссии исследования о подоходном налоге дают возможность определить и самое движение доходов. В течение шести лет, от 1872 до 1878 г., народонаселение в Пруссии увеличилось на 7 1/2 процентов, а доходы на 16 процентов. Но в особенности это улучшение постигло мелкие и средние доходы. Класс людей с скудными доходами (ниже 525 марок) увеличился с 6242000 на 6664000, то есть около 7 процентов, средний же доход человека поднялся с 202 марок на 210, то есть почти на 4 %. Разряд лиц с мелкими доходами от 525 до 2000 марок с 16217000 человек возвысился до 17390767, то есть тоже приблизительно на 7 %, средний же доход в этом разряде поднялся с 245 марок на 254 (около 3,7 %). Затем количество лиц с умеренным доходом от 2000 до 6000 марок увеличился уже не на 7, а на 20 процентов, а именно с 1191100 до 1437000 человек, средний же доход поднялся с 866 марок на 881, то есть около 1,7 %. Еще более увеличился количественно следующий класс, именуемый средним и имеющий от 6000 до 20000 марок дохода: с 146000 человек он увеличился до 225000, следовательно, на 50 %; но средний доход их упал с 2646 марок на 2630, уменьшение впрочем весьма ничтожное и далеко не соответствующее количественной прибавки лиц. Количество лиц с крупными доходами от 20000 до 100000 марок в оба периода было несравненно меньше предыдущих; в 1872 г. оно равнялось 22120 человекам, а в 1878 г. — 27920. Следовательно, оно прибавилось на 20 %, но средний доход увеличился весьма незначительно: с 10229 марок он поднялся до 10365, то есть на 1,3 %. Наконец, и высшая категория лиц, имеющих более 100000 марок дохода, численно увеличилась, именно, с 1300 до 1800 человек, но средний их доход упал с 62403 марок на 56539 марок.
Надобно заметить, что именно в этот период вследствие вызванной удачною войною спекулятивной горячки основалось много колоссальных состояний; наступивший же затем биржевой кризис разорит преимущественно средних людей. Но вообще, этот кризис менее всего отозвался на мелких и умеренных доходах, которые идут все возрастая. «Из этих частных случаев, — говорит Леруа-Болье, — с которыми можно бы было сблизить много других аналогических, можно вывести общее заключение, именно, что возвышение очень маленьких и средних доходов в образованной стране идет безостановочно, что это явление, продолжающееся без перерыва; может быть замедление подъемного движения, но нет никогда полной остановки. Улучшение быта, или поднятие уровня низших и средних классов, — факт постоянный. Промышленные, торговые и финансовые кризисы гораздо более постигают высшие, нежели низшие сферы… Одним крупным доходам и особенно очень крупным свойственно в виде целых разрядов, идти попятным ходом или стоять на месте. Те, которые не знают этих истин, — заключает Леруа-Болье, — и те, которые не умели вывести их из разнообразия современных фактов, ничего не понимают в экономическом движении современного мира».
Надобно притом заметить, что хотя крупные капиталы легче увеличиваются, нежели мелкие, но зато они нелегко удерживаются в одних руках в течение нескольких поколений. Жизненный опыт гласит, что поддержать крупное состояние почти так же трудно, как и основать его. Нужно значительное умение, чтобы получать большой доход с обширных предприятий. Это умение редко передается из рода в род. Если же прибавить к этому, что крупные капиталы часто дробятся по наследству и что большой доход есть вместе и большой соблазн, то понятно, что количество крупных состояний вообще весьма невелико. Основанные на большие капиталы предприятия могут долго держаться, но обыкновенно они переходят в другие руки. Есть, конечно, обстоятельства, при которых крупные капиталы растут с необыкновенною быстротою. Когда в обществе открываются новые поприща для промышленной деятельности, требующие громадных затрат, предприимчивые люди в короткое время составляют себе колоссальные состояния, хотя и тут нередко те, которые легко обогащаются, легко и разоряются. В обыкновенном же ходе вещей быстрый рост крупных капиталов находит себе постоянное противодействие в присущем им стремлении к дроблению.
С другой стороны, навстречу этому движению идет постоянное поднятие уровня массы. Это относится не только к мелким капиталам, но и к рабочему классу. На этот счет в той же книге Леруа-Болье собрано множество данных, которые едва ли оставляют место для сомнения.
В Англии в течение XVIII века заработная плата увеличилась почти вдвое, между тем как цена хлеба понизилась. Такое же повышение произошло и в XIX столетии, хотя с промежутками обратного хода. Если сравнить заработную плату с ценностью зернового хлеба, то оказывается, что при Елизавете можно было заработать квартер (11 четвериков) пшеницы в 48 дней, в XVII веке — в 43 дня, в первой половине XVIII— в 32, с 1815 по 1850 г. — в 19 дней, в 60-х годах — в 15 или не более 20, а в настоящую минуту еще в меньшее время[252].
То же самое относится и к Франции. В конце XVII века нужно было от 30 до 32 рабочих дней, чтобы заработать гектолитр зернового хлеба (3, 8 четверика), в 1819 г. достаточно было от 16 до 18 дней, ныне нужно не более 10 или 11. Сообразно с этим возрастает потребление пшеницы: в 1825 г. потреблялось на человека 1 53/100 гектолитра, в 1835 г. — 1 59/100, в 1852 — 1 85/100, в 1866 — 2 2/100, наконец, в 1880 г. — 2 27/100, то есть в течение 56 лет потребление возросло на 50 %, между тем как не только не уменьшилось, но увеличилось еще потребление мяса. Рассчитывают, что с 1820 г. до 1870 г., потребление вообще растительных веществ увеличилось во Франции на 20 % на человека, потребление животных веществ — на 30 %, туземных напитков — на 80 %, а потребление разных веществ утроилось. В 1812 г. потребление мяса равнялось 17 16/100 килограмма на душу, в 1862 г. — 25 10/100 килограмма. И это увеличение относится не к одним высшим классам, а главным образом к низшим. В Мюлузе, где большинство населения состоит из рабочих, в 1857 г. потреблялось мяса 55 20/100 килограмма на душу, в 1877 г. — 4 60/100 И если ценность мяса в это время возросла, то еще в большей степени возросла заработная плата. Рассчитывают, что в 1760 г. ежегодный заработок семейства земледельческих рабочих равнялся 126 франкам, в 1788 г. — 161 франку, в 1813 г. — 400 франкам, в 1840 г. — 500; ныне же он доходит до 800 или 900 франков; то есть с конца XVIII века заработная плата повысилась на 400 процентов, между тем как доход с поземельной собственности возрос только на 140 процентов. В новейшее время в особенности заметно это повышение. Рабочие без харчей, получавшие прежде 1 франков 50 сантимов, теперь получают 3 франка в обыкновенное время и до 7 франков во время уборки. Рабочие с харчами, получавшие от 1 франков до 1 франков 25 сантимов, теперь получают от 1 франка 75 сантимов до 2 франков, и пища гораздо лучше. В виноделии с 1855 г. заработная плата удвоилась: с 1 франка или 1 франка 25 сантимов она поднялась до 2 франков или 2 франков 50 сантимов[253].
Общий уровень заработной платы во Франции в последние 50 лет поднялся на 80 и даже на 100 процентов. Вследствие этого постоянно увеличивается благосостояние рабочего класса. Об улучшении жилищ свидетельствует постоянное уменьшение количества Домов с 1, 2 и 3 отверстиями и умножение имеющих 4 или 5. В Мюлузе с 1854 до 1877 г. Общество рабочих домов продало 945 домов, более нежели на 4 миллиона франков, и все эти дома были куплены рабочими. Около четверти народонаселения в них живет. Об удешевлении всех предметов, производимых на фабриках или привозимых издалека, и говорить ничего. Конкуренция капиталов и удешевление средств перевозки делают их доступными для массы.
Рядом с этим уменьшается и количество рабочих часов. Лет сорок тому назад рабочий день простирался до 15, 16 и даже 17 часов; ныне он не превышает 11 и даже 10. Работа женщин и детей ограничена законом. Вообще, рабочий имеет более досуга при больших средствах. Хороший рабочий всегда может сделать сбережения. В Англии в последние десять лет при далеко не благоприятных условиях промышленности депозиты в сберегательных кассах возросли с 51 миллиона на 76 миллионов фунтов, то есть они равняются почти 2 миллиардам франков. В Австрии они доходят до 1 1/2 миллиарда; во Франции они равняются 1 миллиарду 621 миллионам франков, но здесь кроме того рабочий класс имеет привычку на свои сбережения покупать различные фонды, преимущественно государственные.
С этим связано, наконец, и уменьшение пауперизма. В Англии, где ведется на этот счет весьма точная статистика, было в 1849 г. 934419 человек, получавших пособия, на народонаселение в 17552000 душ, а в 1878 г. получавших пособия было всего 742703 на народонаселение в 24854000 душ. Таким образом, количество бедных уменьшилось на 20 %, тогда как народонаселение увеличилось на 30 %. С 1849 по 1859 г. было 5 бедных на 1000 жителей, с 1869 по 1878 — всего 4, а в последние четыре года этого десятилетия даже не более 3-х. Эти цифры ясно доказывают, что крайность бедности не увеличивается с развитием общего богатства, а наоборот.
Столь же несомненно и преуспеяние средних классов. Относительно фермеров выше было уже замечено, что и в Англии и во Франции благосостояние их, а вместе и жизненные требования значительно возвысились. Они живут лучше, тратят больше и все-таки имеют излишек, из которого образуются их сбережения. Что касается до движимых капиталов, то постоянно размножающиеся акционерные общества доставляют самым мелким капиталистам участие в барышах обширных предприятий. Через это мелким капиталам дается возможность конкурировать с крупными, и если последние и тут остаются средоточием промышленной деятельности, то они достигают своей цели, только призывая к себе на помощь средние состояния, составляющие массу вкладов.
Можно было бы думать, что по крайней мере количество самостоятельных хозяев уменьшается с развитием крупной промышленности; но и тут статистические цифры опровергают это предположение. Во Франции в 1791 г. число лиц, имевших промышленные патенты, равнялось 659812; в 1822 г. их было 955000, в 1878 — 1631000. Из числа патентованных в 1872 г. было 1302000 лиц, принадлежавших к мелкой и средней торговле и плативших 51000000 франков налога, тогда как в списке крупных торговцев было не более 16710 лиц с 6000000 франков налога. По исчислению Блока, из 1000 лиц, занимающихся земледелием, 524 работают на себя и 476 на других; в числе последних находятся 143 фермера, 56 половников и только 277 поденщиков. В Англии в 1845 г. было 148000 промышленников и торговцев, плативших подоходный налог; в 1877 г. их было около 382000. В Пруссии по промышленной переписи 1875 г. было 1667104 промышленных предприятия (кроме сельскохозяйственных) с 3625918 занятых в них лиц. Из этого числа 1623951 предприятие (то есть 97 %) с 2246959 лицами (62 %) принадлежали к мелким промыслам, занимающим не более 5 лиц, и только 43513 предприятий с 1378959 лицами относились к разряду более или менее крупных.
Ввиду всех этих фактов возможно ли утверждать, что экономическая свобода ведет к развитию двух противоположных крайностей богатства и бедности? Если мы взглянем на богатые страны, которые ранее других ввели у себя экономическую свободу, то нас поражает, напротив, постепенное распространение благосостояния в массах. В первую пору развития крупной фабричной промышленности можно было еще ошибаться на этот счет. В ту эпоху действительно, с одной стороны составлялись громадные состояния, а с другой стороны, развивался фабричный пролетариат, представлявший ужасающие явления. Но теперь можно уже убедиться, что накопившееся богатство не осталось в руках немногих, а разлилось повсюду, поднимая в особенности благосостояние тех, которые сперва служили ему как бы механическими орудиями. Не станем говорить об Англии, где искусственные стеснения мешают свободному передвижению поземельной собственности. С другой стороны, не станем указывать и на Соединенные Штаты, где рабочее население при полной экономической свободе стоит на высоте, неизвестной в других местах. Могут возразить, что в Америке необыкновенно благоприятные условия противодействуют пагубному влиянию свободы: непочатые еще силы природы, необъятные тучные пространства, а рядом с этим обилие капиталов и чрезвычайная энергия населения, все это поднимает заработок рабочего в большей степени, нежели это возможно в иной среде. Но и в старой Европе есть страна, которая ранее других ввела у себя полную экономическую свободу и которая однако пользуется неслыханным материальным благосостоянием. Эта страна есть Франция. Тут не только мы не замечаем крайностей богатства и бедности и проистекающих отсюда смут, но видим напротив, что социальные вопросы, здесь впервые возбужденные, теряют всякую почву вследствие того, что уровень массы поднимается сам собою, без всяких искусственных мер. В особенности же процветают средние классы, составляющие главное зерно современной французской демократии. Тут является стремление не к развитию крайностей, а напротив, к постепенному уравнению состояний. В целом обществе разлита такая масса материального богатства, как, может быть, ни в одной другой европейской стране. Особенно этот подъем обнаружился с тех пор, как к внутренней экономической свободе присоединилась внешняя. Не всякая страна в состоянии ее вынести, но нет сомнения, что при высоком материальном развитии возможно широкая свобода составляет идеал экономического быта. Именно вследствие этих условий Франция после войны 1871 г. могла без труда выплатить такую громадную контрибуцию, которая представлялась почти сказкою, и затем в несколько лет подняться снова на такую степень материального процветания, которая поражает нас изумлением.
Современная Франция служит самым сильным фактическим доводом против социализма. Она доказывает, что для врачевания бедности и для поднятия уровня массы не нужно никаких искусственных мер, никакого общественного переустройства; достаточно свободы. Если временно свободное отношение экономических сил вызывает прискорбные явления, если массы как будто понижаются под давлением гнетущего их капитала, то в дальнейшем движении самый этот капитал сообщает им неслыханный подъем. Противоречия разрешаются действием тех самых законов, которыми они были названы. И разлад и примирение составляют последующие периоды одного и того же исторического процесса, управляемого началом экономической свободы.
Окончательный результат этого процесса состоит в относительном уравнении состояний, не задержанием высших сил и не возвращением к первобытному безразличию, а медленным, хотя и верным поднятием общего уровня и в особенности умножением средних классов, составляющих посредствующее звено между крайностями. Этим водворяется гармоническое отношение сил, а между тем сохраняется бесконечное разнообразие жизни, составляющее плод высшего развития; здесь каждой деятельности открывается самый широкий простор и достигается возможно полное удовлетворение всех потребностей, тогда как искусственные меры, подавляющие свободу и ограничивающие собственность, способны произвести только обращение промышленности вспять и возвращение к первобытной нищете среди несравненно худших условий.
Этим историческим процессом разрешается и рабочий вопрос, составляющий главную болезнь нашего времени. Об нем мы поговорим в следующей главе.
Глава XI. РАБОЧИЙ ВОПРОС
Социализм как теория существует издревле. Он являлся и на Востоке, и в Греции, и в средние века, и в новое время. С тех пор как люди начали думать об общественном устройстве, всегда находились мыслители, представлявшие себе идеал совершенства помимо всех условий человеческого существования. Платон в своем государстве требовал для воинов общения жен и имуществ. На заре нового времени Томас Мор и Кампанелла, вдохновляясь теми же идеалами, изображали блаженное состояние человеческого общества, в котором устранена главная причина раздоров и бедствий, частная собственность. Нередко эти мечты связывались и с религиозными воззрениями, которые их последователи пытались даже проводить в жизнь. Такова была попытка анабаптистов. Но все это были преходящие явления, не имевшие существенного значения в истории человечества. Только к новейшее время социализм занял видное место как явление жизни. Только теперь мечтание утопистов, попавши на восприимчивую почву, разрослись в мировую теорию и породили требования, грозящие сокрушить весь существующий общественный строй.
Причины этого успеха понятны, если мы взглянем на современное состояние европейских обществ. Социализм задает себе целью поднять благосостояние масс; он обещает им невиданные блага; а только в наше время народные массы, получивши свободу, сделались самостоятельною общественною силою. Пока существовало крепостное право и сохранялись привилегии высших сословий, желания и требования низших классов не шли далее устранения тяготевшего над ними гнета. Мечты о полном общественном переустройстве мало их трогали; ближайшие практические задачи слишком живо давали себя чувствовать. Но с конца XVIII века на Западе водворилась общая свобода. Прежние преграды пали, и демократия, достигшая невиданных прежде размеров, завоевывала себе все большее и большее место в общественной жизни.
На первых порах однако же положение рабочего класса от этого мало улучшилось. Гражданские и политические права не дают еще материального благосостояния. И вот явились мыслители, которые стали говорить, что дело вовсе не в политических правах, а в отношениях собственности, что юридическое равенство ничего не значит без равенства имущественного и что только путем полного экономического переворота возможно поднять рабочий класс на тот уровень, который требуется его человеческим достоинством. Понятно, что подобные теории жадно воспринимались голодающею толпою и находили в ней страстных последователей. На почве демократической свободы социализм сделался грозною силою. Не раз современные общества трепетали перед его появлением. И чем менее в этих утопиях было смысла, чем резче они противоречили человеческой природе и всем действительным условиям общественной жизни, тем они казались страшнее. Фанатизм распаленной ложными учениями толпы готов был посягнуть на все, что дорого человеку и гражданину. Говорили о новом нашествии варваров, грозящем погубить все плоды современного просвещения.
К этим общим политическим причинам присоединились причины экономические. Вместе с свободою появилась и крупная промышленность. Основались фабрики, действующие паровыми машинами, собирающие вокруг себя массу рабочего люда. И этот переворот на первых порах сопровождался значительными страданиями и бедствиями. Многие мелкие производства рушились, и хозяева их остались без куска хлеба. Лишились пропитания и рабочие, которые под сенью старого цехового устройства пользовались привилегированным положением. Машины стали заменять людей, вместо взрослых работников, прошедших через учение и тем приобретших право на производство своего ремесла, начали употреблять женщин и детей, нередко за самую ничтожную плату. А так как машины представляли собою значительный капитал, доход с которого зависел от постоянства и продолжительности их действия, то фабриканты старались по возможности удлинить время работы. Несчастных детей заставляли работать при машинах по 17 и 18 часов в сутки, в ущерб их силам и здоровью. Подрастающее поколение гибло преждевременно; семейная жизнь разрушалась, и самые взрослые работники, прикованные в течение всей своей жизни, без малейшего отдыха, к однообразному занятию, сделавшись как бы принадлежностью машины, тупели и истощались среди этого нового, вызванного человеческою изобретательностью порядка, который, казалось, доставлял одним несметные богатства лишь с тем, чтобы погрузить других в еще большие бедствия.
Вопль отчаяния поднялся из среды рабочего класса, и этот вопль отозвался в сердцах всех друзей человечества. И правительства и частные лица, государственные люди и филантропы принялись за исследование положения рабочих. Когда истина раскрылась во всей своей наготе, ужас и негодование распространились в обществе. Не одни мечтатели, но самые просвещенные и гуманные люди начали думать, что при таком порядке вещей оставаться невозможно, что одна свобода ни к чему не ведет и что необходимо коренное общественное преобразование, которое дало бы освобожденным массам возможность выйти из своего бедственного состояния И улучшить свой экономический быт. В страданиях рабочего класса социализм нашел самую сильную свою опору.
Последующее время показало однако, что для врачевания значительной части этих зол не нужно никакого общественного переустройства. Некоторых частных мер, которые могут быть приняты и при существующем порядке, достаточно было для устранения вопиющих злоупотреблений; общее же развитие благосостояния, которое явилось последствием нового промышленного движения, довершило остальное. Мы видели в предыдущей главе, до какой степени под влиянием неслыханного прежде умножения капиталов и производительности и при соответствующем удешевлении средств перевозки и предметов потребления поднялся уровень рабочего класса в Западной Европе. Рабочий в настоящее время получает больше, работает меньше и пользуется такими средствами жизни, как никогда прежде. Он имеет и значительный досуг, и средства для образования, и в случае постигающего его несчастья помощь от многочисленных учреждений, возникших с этою целью в новейшее время. Он имеет и свои сбережения, которые растут с каждым годом. В настоящее время рабочий договаривается уже с хозяином на равной ноте. Голод не заставляет его соглашаться на всякие условия, и если кому приходится выдерживать, настаивая на своих требованиях, то скорее хозяин разорится, нежели работник погибнет. А так как умножение капитала и средств, доставляемых изобретательностью, идет, все возрастая в гораздо быстрейшей прогрессии, нежели умножение народонаселения, то поднятию уровня рабочего класса не предвидится границ. Если рабочий вопрос заключается в постепенном улучшении быта рабочего населения и в устранении гнетущих его зол, то можно сказать, что этот вопрос решен свободою. Конечно, всех бедствий, постигающих человека, уничтожить нельзя; условия земной жизни этого не допускают. Мы не можем даже сказать, исчезнет ли когда-нибудь бедность со всеми ее печальными последствиями. В настоящее время мы находимся еще в начале свободного промышленного развития, а потому слишком смело было бы предсказывать его окончательные результаты. Но мы можем наверное сказать, что человечество находится на правильном пути, который приведет его к большему и большему благосостоянию.
Сами социалисты не отрицают этого постепенного улучшения быта рабочего класса, но они находят, что этим нельзя довольствоваться. «Что вас морочат мнимыми сравнениями вашего положения с положением рабочих в прежние века! — восклицает Лассаль. — Лучше ли вам теперь, нежели рабочим за 80, за 200, за 300 лет, какое значение имеет этот вопрос для вас и какое удовлетворение может он вам дать? Все человеческие страдания и лишения и все человеческие удовлетворения, а потому и всякое человеческое положение измеряются только сравнением с положением, в котором находятся люди того же времени в отношении к привычным потребностям жизни. Следовательно, положение каждого класса измеряется только отношением его к положению других классов в то же самое время. Поэтому, если бы даже было вполне доказано, что уровень необходимых жизненных потребностей в различные времена поднялся и что неизвестные прежде удовлетворения стали привычною потребностью, с чем вместе появились и неизвестные прежде лишения и страдания, — все же ваше человеческое положение в эти различные времена осталось одно и то же, а именно таково: вечно плясать на низшем краю привычной в данное время жизненной необходимости, то немного поднимаясь над нею, то опускаясь ниже ее»[254].
Эти строки ярко характеризуют дух современного социализма. Тут взывается уже не к разуму, а к страсти… Когда древние философы рассуждали о земном счастии, они говорили человеку: «не смотри на тех, кому жить лучше тебя, а смотри на тех, кому хуже, и ты будешь доволен своею судьбою». Социалисты же говорят рабочему: «какое тебе дело, что жизнь идет вперед, что судьба твоя улучшается? Пока есть на свете люди, которые богаче тебя, ты должен чувствовать себя несчастным». Очевидно, только полное равенство может удовлетворить этому требованию. А так как возвести массу к уровню высших классов немыслимо, ибо сам Лассаль признает, что разделивши все имущество богатых между бедными, получается самая ничтожная прибавка, то остается понизить богатых к уровню бедных, дабы последние не чувствовали себя несчастными при сравнении. Этого и домогается социализм; орудием же ему служит возбуждение в массах чувства зависти, которое становится господствующим элементом человеческой жизни. Иного смысла слова Лассаля не имеют.
К зависти присоединяется ненависть. Капиталист и предприниматель описываются в самых черных красках как обманщики, грабители и кровопийцы. Вся книга Карла Маркса, евангелие нынешнего социализма, посвящена этому изображению. Никогда еще самая ядовитая злоба не проявлялась с такою мрачною энергиею. Всякая тень человеческого чувства тут исчезает. Этим можно измерить тот громадный шаг, который сделал так называемый научный социализм после человеколюбивых мечтателей, наивно провозглашавших всеобщее братство. Мы возвращаемся к временам Бабефа и Марата. Народным массам прямо говорят, что бездушные богачи, пользуясь их невежеством, бесчеловечно их грабят, и что они должны помочь себе силою. Лассаль указывает им на всеобщее право голоса как на средство захватить государственную власть в свои руки и этим путем обратить в свою пользу все блага земли. Карл Маркс объявляет, что времена созрели: «…час капиталистической собственности пробил; экспроприаторы сами экспроприируются… Насилие, — говорит он, — служит повивальною бабкою для всякого старого общества, чреватого новым; оно само есть экономическое начало»[255]. Мудрено ли, что плодом социалистической проповеди являются те страшные злодеяния, которые заставляют нас содрогаться при виде того безобразия, до какого может низойти человеческая природа? Таков неизбежный результат этих учений: бессильные для созидания, они всю свою энергию проявляют в разрушении, и с этою целью стараются вызвать весь запас злобы и ненависти, который таится в человеческом сердце.
Но для того чтобы фанатизировать людей, недостаточно возбуждать их страсти: нужно еще извратить их понятия. И это совершается с необыкновенною последовательностью. История, политическая экономия, право, нравственность, политика, все призывается на помощь и все представляется в превратном виде, для того чтобы сбить с толку непривыкшие к умственной работе головы. Работников уверяют, что физический труд составляет единственный источник ценностей, а что поэтому все произведения принадлежат им и никому другому. Если землевладелец, капиталист и предприниматель присваивают их себе, вознаграждая работников единственно заработного платою, то это не что иное, как насилие и обман, порождаемые ложным юридическим порядком, который все земные блага предоставляет немногим тунеядцам, в ущерб истинным производителям. Утверждают, что предоставленная себе, то есть свободная, промышленность есть зло; что по существу дела промышленность должна находиться в руках общества, которое составляет единое органическое целое, безусловно подчиняющее себе членов; вследствие этого все орудия производства должны по праву принадлежать ему, и если ими владеют частные люди, то последние являются не более как должностными лицами, действующими от имени общества и обязанными давать ему отчет в своем управлении. Утверждают, что свободный договор есть призрак, а наследство несправедливость, что правда состоит не в воздаянии каждому того, что ему принадлежит, а в подведении всех к общему уровню. Утверждают, что провозглашенные революциею начала свободы и равенства не ограничиваются равноправностью, но требуют и равенства материальных благ; а рядом с этим признают, что единственный источник права лежит в воле народной, вследствие чего решение минутного большинства может безусловно отменить всякое приобретенное право. Призывается на помощь даже философия Гегеля и заимствованными из нее понятиями доказывается, что собственность, капитал, конкуренция, наследство, ничто иное как исторические категории, которые должны улетучиться в высшем синтезе, состоящем в полном поглощении лица целым. Работнику указывают на современное демократическое движение, все более и более поднимающее массы; ему говорят, что сама история поставила его на вершину человечества, что он владыка современного мира, что союз рабочих есть церковь будущего, что им в силу всеобщего права голоса принадлежит и государство, а так как государству все должно подчиняться, так как оно всемогуще, то столь же всемогущ владычествующий в нем рабочий.
Мудрено ли посредством такого сплетения софизмов, обставленных целым аппаратом мнимой учености и провозглашаемых с невозмутимою самоуверенностью, подействовать на неприготовленные умы? И наука, и сама история по-видимому подтверждают то, что внушают страсти и к чему влекут интересы. Рабочий вопрос становится величайшим вопросом дня. Тут дело идет уже не о медленном и постепенном улучшении быта рабочего класса, а о пересоздании всего общественного порядка на невиданных прежде основаниях: надобно поставить наверху то, что доселе стояло внизу, уравнять все состояния, уничтожить частную деятельность и подчинить всякую личную свободу и всякое частное право всепоглащающему единству государства.
Противодействовать этому направлению можно только распространением здравых научных понятий, ибо к чему служат внешние принудительные меры, когда умы не в порядке? Надобно лечить зло в самом его источнике, а не довольствоваться уничтожением наружных его признаков. К сожалению, современная наука не только не стоит на высоте своего призвания, но в лице многих своих представителей сама поддается социалистической софистике и тем способствует ее распространенно. В Германии в особенности социалисты кафедры и социал-политики произвели такую путаницу понятий, которая, парализуя влияние истинно научных учений, действует совершенно на руку социалистам. Индивидуализм, то есть промышленная свобода, признается отжившим началом, которое должно уступить место органическому подчинению частей целому. Вслед за социалистами существующий юридический строй, составляющий плод всей истории человечества, объявляется временною историческою категориею, которая не может иметь притязания на безусловное значение в жизни. Выставляются мнимые нравственные требования, которые будто бы должны владычествовать и в промышленной сфере, и тут же откровенно, хотя без малейших доказательств, объясняют, что нравственность может быть принудительною и что от усмотрения общества зависит, каким путем оно хочет достигнуть своей цели, принуждением или убеждением. При этом пионеры будущего считают совершенно излишним тратить время и труд на философские и исторические исследования, без которых однако истинные основы общественной жизни, свобода, право, нравственность, государство, не могут быть установлены на твердых и разумных началах. Метафизика откидывается в сторону как старый хлам, или же из нее произвольно берутся отрывочные понятия, которые должны служить заданной наперед цели. С другой стороны, отвергаются с презрением и уроки истории, ибо человечеству не суждено же вечно быть обезьяною: оно может придумать и что-нибудь совершенно новое, досель невиданное. Окончательно все сводится к бесконечно разнообразным практическим соображениям, которые могут изменяться, смотря по месту, времени и обстоятельствам, а главное смотря по фантазии социал-политика или следующей за ним толпы. Иногда же вместо философии и истории на помощь призываются естественные науки, и тогда уже происходит такой хаос, который совершенно сбивает с толку сколько-нибудь нетвердые умы. Наконец, прямо даже объявляют социализм идеалом человечества, и если при этом стараются доказать, что этот идеал может быть достигнут только долговременным историческим процессом, то подобные оговорки имеют мало силы против социалистической агитации, стремящейся ускорить движение. Что может возразить рабочий, когда социалисты, ссылаясь на исторические примеры, говорят ему, что насилие всегда было повивальною бабкою старого порядка и чреватого новым?
Таким образом, современное смутное состояние умов, которого корень лежит главным образом в односторонне понятом реализме, лишающем человека всяких твердых жизненных начал и всякой разумной опоры в своих суждениях, способствует тому, чтобы поставить рабочий вопрос на ложную почву и дать ему превратное направление. С одной стороны, является исполненная фанатизма фаланга социалистов, которые, вдыхая ненависть и разжигая страсти, стараются направить массы к разрушению всего существующего, с другой стороны, оказывается полная шаткость умов, потерявших свое равновесие и не знающих за что ухватиться. При таком положении социализм непременно бы осуществился, если бы он был осуществим. Но дело в том, что в мире существует нечто такое, что еще могущественнее его, а именно сила вещей, о которую всегда разбивались и будут разбиваться все социалистические утопии и которая среди смут и шатания неминуемо ведет человечество единственным путем, совместным с человеческою природою и с правильным развитием обществ.
Если есть положение, которое одинаково подтверждается и теориею, и жизнью, так это то, что высшее развитие человечества возможно только на почве свободы. В особенности это справедливо там, где все зависит от личной деятельности и инициативы. В промышленности, так же как в науке и искусстве, свобода составляет основное начало, из которого все истекает. Без сомнения, она нередко приносит с собою разлад; развитие не обходится без страданий. Но она же излечивает те раны, которые она наносит, и только с ее помощью возможно их врачевание. Социализм, подавляющий лицо во имя целого, ведет к всеобщему разорению; одна свобода, открывающая полный простор всем человеческим силам и всему бесконечному разнообразию жизни, в состоянии поднять уровень масс. В этом и заключается истинное разрешение рабочего вопроса, разрешение, подготовленное всею предыдущею историею, и от которого человечество не может отказаться, не отрекшись от самого себя, от своей природы, от своего разума, от законов своего развития.
Мы видели уже, каким путем совершается этот подъем. Надобно, чтобы капитал рос быстрее, нежели народонаселение. С умножением капиталов, с одной стороны, возрастает заработная плата, а с другой стороны, уменьшается цена произведений. И то и другое служит на пользу рабочему классу, которого благосостояние через это поднимается. А так как умножению капиталов нельзя положить предела, так как нет пределов и изобретательности, сокращающей издержки производства, то невозможно предвидеть, на чем может остановиться материальное благосостояние человечества. Всякие гадания на этот счет не что иное, как праздные мечты. Ясно одно: это то, что будущее рабочего класса в значительной степени находится в его собственных руках, и относительно накопления капиталов и относительно правильного приращения народонаселения. Конечно, главным источником умножения капиталов в народном хозяйстве служат сбережения высших классов. Но и рабочие участвуют в этом процессе и участвуют с каждым годом более. Они сами мало-помалу становятся капиталистами, и это для них тем важнее, что именно накопляемый их собственными сбережениями капитал служит им важнейшим подспорьем в жизни и охраною против постигающих их несчастий. На это давно уже указывают истинные друзья рабочего класса. «Тот, кто говорит вам, — взывал к рабочим Франклин, — что вы можете сделаться богатыми, иначе как трудолюбием и бережливостью, того не слушайте: он отравитель!» С таким же поучением обратился в наше время к рабочим почтенный Шульце-Делич, основатель кредитных товариществ в Германии. Социалисты, напротив, всеми силами ополчаются против сбережений. Они смело уверяют, что рабочий не может и даже не должен сберегать, что он, сберегая, крадет у других и превращается в презренного мещанина. Лассаль с неистовою бранью опрокинулся на Шульце-Делича за его проповедь в пользу бережливости. Вообще, этот поход социалистов против сбережений составляет одну из любопытных страниц современного помрачения умов. Из любви к низшим классам отрицается единственное средство улучшить их быт.
В действительности, все рабочие союзы и все учреждения для рабочих основаны на сбережениях. До чего могут простираться последние доказывается теми громадными суммами, которые лежат в сберегательных кассах или которые состоят в распоряжении рабочих товариществ в Западной Европе. Это доказывается, с другой стороны, и теми значительными суммами, которые тратятся рабочими на спиртные напитки во всех европейских государствах. Первые их поддерживают, вторые их разоряют. Где нет привычки к сбережениям, там народ вечно останется на краю нищеты. Напротив, там где эта привычка распространена, там развитие рабочего класса совершается неизбежно, неуклонно, правильным путем; там не нужно никаких общественных переворотов. Отсюда ярость социалистов.
Точно так же в руках рабочих находится и другое средство против бедности, именно, воздержание от несоразмерного с средствами размножения. Экономисты, в особенности Милль, настоятельно указывают на необходимость предусмотрительности при основании новых семейств. И в этом отношении можно сказать, что там, где в народе нет заботы о будущей судьбе детей, где люди легкомысленно размножаются, полагаясь на волю Божию или на общество, там рабочий класс никогда не выйдет из пределов нищеты. Громадное различие между положением английских рабочих и ирландских объясняют тем, что первые воспользовались возвышением заработной платы для увеличения своего благосостояния, а вторые для умножения семейств. Однако и против этой, по-видимому, столь очевидной истины слышатся возражения. Брентано утверждает, что подобная предусмотрительность возможно только в кругу замкнутого общества, которое может действовать на своих членов, возвышая в них самоотвержение в пользу целого, но которое вместе с тем именно ввиду этой цели обязано ограждать их от внешней конкуренции, так чтобы они имели возможность предвидеть будущее состояние рынка и спрос на рабочие силы. По его мнению, личное воздержание ни к чему не ведет; нужно общее соглашение[256]. Но разве воздержание требуется в интересах целого? Оно проистекает из заботы о судьбе детей. Кто производит на свет человека, тот обязан позаботиться о том, чтобы ему было хорошо жить. Легкомыслие в этом отношении отражается и на самих родителях: рабочему, обремененному большим семейством, труднее жить, нежели имеющему малое количество детей. Конечно, единичные примеры не имеют значения для массы; но из единичных случаев образуются нравы, а именно в нравах главное дело. Учреждения же, с своей стороны, могут способствовать упрочению нравов. С этой точки зрения, все социалистические проекты должны быть безусловно осуждены. Все, что разрывает наследственную связь поколений, все, что ведет к тому, чтобы человек заботу о детях сваливал на общество, должно быть признано экономическим злом. Этим подрывается главнейшее побуждение к предусмотрительности.
Трудолюбие, бережливость, воздержание суть личные качества, составляющие первый и главный источник промышленного преуспеяния. Только при распространении их в массе возможно поднятие ее уровня. Но для того чтобы эти качества принесли свои плоды, необходимо одно условие — свобода, ибо только при этом условии могут проявляться силы каждого, и открывается простор для деятельности лица. Несправедливо, что свобода пригодна только для избранных натур, а не для массы средних людей, как уверяет Брентано. Избранные натуры, без сомнения, достигают при свободе высшего положения, которого они без того были бы лишены, и это служит к пользе как их собственной, так и окружающего их общества. Но их успех не мешает массе подниматься к среднему уровню, а это все, что требуется. Одними усилиями выходящих из ряда людей не могут удовлетворяться потребности всего человечества. В промышленности, как и на всех других поприщах, избранные натуры являются не более как пионерами, указывающими путь. Масса же человеческих потребностей удовлетворяется массою средних сил, которые только при свободе получают должное вознаграждение. Каждый находит здесь свое место: средний рабочий пользуется увеличенным благосостоянием, а способнейшие натуры выдвигаются вперед и вступают в ряды капиталистов и предпринимателей.
Этим не ограничивается действие свободы. Она не только открывает простор существующим силам, но она доставляет им вместе с тем и средство, с помощью которого они могут достигать возможно высших результатов. Это средство заключается в свободном соединении лиц. Нет сомнения, что отдельный рабочий менее в состоянии отстаивать свои интересы и более подвержен всякого рода случайностям, нежели в соединении с другими. Современная практика вполне подтвердила эту старую истину. Отсюда громадное развитие рабочих товариществ, составляющее характеристическую черту нашего времени. Некоторые, как например Брентано, видят в товариществах необходимую поправку свободы. По их мнению, они доставляют слабым то, что свободное соперничество дает сильным. В действительности же это вовсе не поправка, а высшее проявление свободы, и как всякое проявление свободы эти союзы имеют свои выгодные и свои невыгодные стороны. Которые из них перевешивают, это зависит от свойства соединяющихся лиц, от условий, среди которых они действуют, и, наконец, от тех задач, которые они себе поставляют.
Безусловно полезны столь распространенные ныне общества взаимной помощи. В одной Франции в 1877 г. их было 6078 с капиталом свыше 80 миллионов франков и с 945649 товарищами, из которых 131176 почетных и 814473 действительных. В 1860 г. обществ было только 4083, а членов 530802. В 1869 г., до отторжения Эльзас-Лотарингии, было более обществ, именно 6139, но с гораздо меньшим капиталом, именно в 55133000 франков[257]. Прогресс, как видно, громадный, и он идет все возрастая. 31 декабря 1879 г. было уже 6525 обществ с капиталом в 92 миллиона франков[258]. Эти общества составляются, впрочем, не из одних рабочих; в них вносят свои вклады лица из высших классов, которые состоят в них почетными членами, но не пользуются пособиями. Цель этих обществ заключается в помощи больным, увечным, неисцелимым и выздоравливающим, в застраховании жизни, в выдаче пенсий престарелым, вдовам и сиротам, наконец, в издержках на похороны членов. В некоторых местах эти общества доставляют своим членам также дешевую пищу и квартиры. Связывая не только рабочих взаимною помощью, но и высшие классы с низшими делами человеколюбия, они составляют одно из лучших проявлений духа свободного общения.
Более ограниченную задачу, хотя не менее существенное значение, имеют общества потребления, образующиеся среди самих рабочих. Они покупают предметы потребления оптом и продают их своим членам в розницу. Получаемая от этого прибыль, по отчислении известной части в резервный фонд, раздается в виде дивиденда членам, соразмерно с их потреблением. Не нуждаясь в выставке товара и в публикациях и имея всегда готовых покупщиков, эти общества при хорошем ведении дела могут получать значительные барыши. Они распространены особенно в Англии, где число их достигает 2000. Но и в Германии в 1877 г. их было более 600. Почин в этом деле принадлежит знаменитым Рочдельским Пионерам, которые, начавши в 1844 г. с капитала в 28 фунтов стерлингов при 28 членах, имели в 1878 г. капитал в 292344 фунта при 10187 членах[259]. Дела этого общества шли так блистательно, что оно могло основать множество различных учреждений, госпиталь, кабинеты для чтения, даже фабрики, о чем будет речь ниже. Таким образом, задача их значительно разрослась.
На тех же началах основаны общества закупки материалов для производства, распространенные также в Англии и в Германии. Они имеют в виду не собственно рабочих, а главным образом мелких ремесленников, которые, соединяясь, получают возможность выгодно закупать наилучший материал и тем поддерживать свой промысел. Но косвенно это отражается и на рабочем классе, ибо способнейшим работникам дается возможность заводить свои предприятия и таким образом повышаться на общественной лестнице.
Такое же значение имеют и товарищества для народного кредита, получившие такое громадное развитие в Германии под влиянием Шульце-Делича. В 1878 г. их было 1841 в Германской Империи и более 1000 в Австрии. Из них 929 обществ, представивших свои счеты, имели собственного капитала на 110700000 марок; выданные же ими ссуды простирались до суммы свыше 1550000000 марок[260]. Эти цифры показывают, насколько Лассаль был прав, когда он утверждал, что подобные товарищества ни к чему не ведут, так как рабочие ими не пользуются, а мелкие производители не в состоянии соперничать с крупными. Блистательная пропаганда Лассаля принесла рабочему классу только зло, направивши его на ложную дорогу, между тем как создания Шульце-Делича, основанные на здравых экономических началах, процветают более и более, содействуя благосостоянию бесчисленного множества мелкого люда.
В Англии все эти учреждения для рабочих примыкают к так называемым ремесленным союзам (Trades' Unions). Этим именем обозначаются постоянные соединения большего или меньшего количества рабочих одного ремесла или нескольких близких друг к другу ремесел. В этих союзах некоторые писатели, как например Брентано, видят всеобщее лекарство против зол, порождаемых конкуренциею, и единственное практическое средство разрешить рабочий вопрос. С помощью их, говорит упомянутый автор, рабочий как продавец своего товара становится на ряду со всеми другими продавцами, тогда как в разобщенном состоянии особенности работы как товара отдают его в руки капиталиста. Только в союзе с другими, путем совокупного действия, он может сокращать, когда нужно, предложение, поддерживать и даже повышать цены, выговаривать себе выгодные условия, одним словом, вступать в соглашения с хозяином как равный с равным. Та свобода сделок, которая для одинокого рабочего является не более как фикциею, при этом условии становится действительностью. Ремесленным союзам, по мнению Брентано, английские рабочие обязаны тем возвышением общего уровня, которое выпало им на долю в наше время[261].
С другой стороны, ремесленные союзы подвергались ожесточенным нападкам. Многие утверждали, что цель их противоречит законам политической экономии, ибо они хотят искусственно возвышать заработную плату, помимо предложения и требования. Самые защитники ремесленных союзов признавали, что они стремятся быть диктаторами на промышленном рынке. Упрекали их в особенности в том, что они действуют террором, причем указывали на насилия и преступления, которыми сопровождались некоторые руководимые союзами стачки. Наконец, доказывали, что главное их орудие, забастовки, или повальное прекращение работы, приносит разорение как им самим, так и всему народному хозяйству.
Столь противоположные взгляды вызвали фактические исследования и со стороны ученых обществ, и со стороны парламентских комиссий. В общем итоге эти исследования оказались благоприятными ремесленным союзам. Не подлежит сомнению, что деятельность их в значительной мере способствовала улучшению быта рабочих. То, что с гораздо большим трудом могло быть достигнуто личными усилиями, то легко достигалось в союзе. Они содействовали устранению многочисленных злоупотреблений, которыми нередко подвергаются со стороны хозяев рабочие, взятые в одиночку; они настаивали на введении правил, облегчающих работу; они возбуждали и поддерживали законодательные вопросы, имевшие целью ограждение слабых и беззащитных. Ремесленные союзы весьма много способствовали и распространению в английском рабочем классе не только практического смысла, но и нравственного чувства. Те насилия, которыми в прежние времена сопровождались стачки, становятся более и более редкими. Опыт многому научил рабочих; они увидели, что неудачные забастовки приносят громадный вред им самим, а потому они стали гораздо осторожнее в этом деле. Руководители ремесленных союзов скорее воздерживают их, нежели возбуждают. Но всего замечательнее то, что английские ремесленные союзы упорно устраняются от всякой политической и социальной пропаганды. Не только религия и политика строго исключаются из их прений, но социализм с его фантастическими планами находит в них весьма мало последователей. Ремесленные союзы держатся чисто практической почвы; они не только не отвергают экономических законов, но напротив, признают их вполне и хотят ими пользоваться. «Все ремесленные союзы желают действовать на основании начала предложения и требования, — говорил один из их представителей на съезде Общества для преуспеяния общественной науки в Глазго, — но они должны соединяться, чтобы друг друга поддерживать и регулировать предложение, каждый в своем ремесле»[262]. То же самое признают и руководители передового в этом деле Союза Механиков: «…предложение и требование, — говорят они, — определяют заработную плату; в этом не может быть сомнения. Поэтому мы и не предполагаем установить какое-нибудь мерило для заработной платы; мы не стоим за постоянную твердую норму; вообще, мы вовсе не хлопочем о заработной плате, по крайней мере не прямо. Наша цель состоит главным образом в том, чтобы регулировать самое предложение, от которого зависит заработная плата»[263]. Поэтому в настоящее время у ремесленных союзов принято за правило требовать возвышения заработной платы, только когда торговля идет вперед, то есть когда самое положение рынка вызывает такое возвышение; они хотят пользоваться обстоятельствами, а не насиловать их. Однако же в этом стремлении регулировать предложение работы заключается и слабая сторона ремесленных союзов. Все старания их защитников оправдать их в этом отношении оказываются тщетными.
Действие на предложение касается, с одной стороны, собственных членов ремесленных союзов, с другой стороны, посторонних лиц.
Относительно собственных членов ремесленные союзы держатся правила, что работа составляет общее достояние всего ремесла, а потому должна распределяться поровну между всеми. Отсюда стремление воспретить поштучную работу и не допускать работы сверх положенного времени, хотя бы и за повышенную плату. «Рабочие, — говорят они, — должны отказаться от денежной выгоды в пользу совокупного своего сословия»[264]. Но это значит низводить высших к уровню низших, полагать всех на прокрустово ложе. Способнейшим и усерднейшим работникам воспрещается опережать своих товарищей (to best their mates). От этого неизбежно должно страдать самое производство. Известно, что поштучная плата во многих случаях составляет самый выгодный способ вознаграждения, как для хозяина, так и для работника. Отсюда то противодействие, которое эти требования встречают среди хозяев. Отсюда также стремление способнейших работников сбросить с себя эти оковы. Сам Брентано признает, что лучшие работники уходят из союзов; в них остается только масса средних сил[265].
С другой стороны, к участию в них не допускаются и те, которые стоят ниже среднего уровня. Чтобы быть членом союза, надобно в течение известного, положенного срока выучиться ремеслу и сверх того получать установленный наименьший размер заработной платы. Поэтому в них вступают только достигшие полной умелости работники; масса неумелых остается вне их. Но так как существенная цель союзов заключается в ограничении предложения работы, то главное их стремление идет на то, чтобы устранить конкуренцию неумелых и присвоить себе исключительно привилегию труда в своем ремесле.
Это обнаружилось уже при самом возникновении ремесленных союзов. Первые союзы образовались в конце прошедшего столетия с целью поддержать вышедший из употребления закон Елизаветы, которым ограничивалось количество учеников в каждом ремесле. Между тем этот закон, имевший в виду старое цеховое устройство, был совершенно неприменим к новому фабричному производству, которое вследствие изобретения машин выдвинулось на первый план. А потому рабочие, которые соединялись для поддержания обветшавшего закона, являлись представителями старого, несостоятельного порядка против нового. Они действовали совершенно в том же духе, как и цеховые мастера, которые точно так же стояли за устав Елизаветы и ополчались против беззаконных нововведений фабрикантов. Непонятно поэтому, каким образом Брентано, который с презрением отзывается об этих бессильных попытках старых, привилегированных корпораций, может находить те же самые требования ремесленных союзов совершенно естественными и законными. Неужели для хозяев и рабочих нужно иметь двоякого рода меру и весы?
И это стремление ограничить число учеников и сделать работу исключительною привилегиею выученных мастеров не было только мимолетным явлением переходного времени. Оно продолжается и доселе, ибо без этого нет возможности регулировать предложение, как выражаются члены ремесленных союзов. «Владельцы ли капиталов или люди ремесла должны определять количество учеников, вступающих в ремесло? — говорил в Глазго приведенный выше представитель ремесленных союзов. Он полагает, что в здешнем городе есть три или четыре сотни малярных учеников, которые портят дело, но работают дешевле и делают мастеров бесценным товаром на рынке. — Если неумелые люди являются на рынок, то умелые из него вытесняются; ибо неумелые ценятся дешевле, нежели умелые»[266]. То же самое повторяли представители ремесленных союзов перед парламентскою комиссиею. «Мы того мнения, что если в каком-либо ремесле есть свободное место, то незанятый взрослый работник, принадлежащий к этому ремеслу, имеет на него право, прежде нежели в это ремесло вводятся новые силы. Пока есть в ремесле незанятые рабочие, число рабочих не должно быть увеличено новыми, или же произойдет большее предложение, нежели требуется спросом. Мы стремимся к тому, чтобы посредством ограничения числа учеников на нашем рынке предупредить перевес предложения над требованием. Как рабочие, воспитанные для ремесла и посвятившие известное число лет его изучению, мы в некотором отношении имеем право на приспособление предложения к требованию»[267].
Брентано, приводя эти доводы, находит, что весьма трудно против них что-нибудь сказать. Казалось бы, напротив, что сказать можно весьма многое и весьма веское. Зачем нужно употреблять умелую и дорогую работу там, где достаточна неумелая и дешевая? На это указано уже в докладе комиссии Общества для преуспеяния Общественной Науки, докладе, весьма благоприятном ремесленным союзам и возбудившем указанные выше прения. Если даже работа исполнена хуже, но потребитель этим довольствуется, лишь бы заплатить дешевле, то кому до этого дело? От потребителя зависит требовать лучшей работы и платить за нее дороже.
А с другой стороны, если будут исключены новые силы, то куда они денутся? Они вступают в ремесло, потому что находят это для себя наиболее выгодным. Ограничивая их число, их заставляют искать другой, менее выгодной работы. Что же если и там число рабочих будет ограничено? Очевидно, что мы с этою системою возвращаемся к старым, привилегированным цехам. «Достижение цели ремесленных союзов, — говорит Брентано, — необходимо предполагает ограничение конкуренции»[268]. Но ограничение конкуренции всегда совершается в ущерб кому-нибудь. Исключающим, без сомнения, лучше, но исключенным неизбежно от этого хуже. Вследствие того в среде самого рабочего сословия, как признает и Брентано[269], образуются два класса, ученые и неученые работники, из которых первые, смыкая свои ряды, стараются отстоять свое привилегированное право на работу как против хозяев, так и против низших рабочих. Политика ремесленных союзов совершенно тождественна с политикою всякой замкнутой аристократии, которая, с одной стороны, оберегает себя от наплыва новых элементов, а с другой стороны, внутри себя ревниво охраняет всеобщее равенство, мешая выдвигаться вперед всякому выдающемуся члену. Таковы же были и старинные цехи, которые смыкались, с одной стороны, против городского патрициата, с другой стороны, против подъема низших классов и соперничества посторонних элементов. Сходство с цехами, которое Брентано проводит только относительно товарищеского духа, обнаруживается и в стремлении ремесленных союзов не дозволять людям другого, даже близкого ремесла, производить однородную с ними работу. Так например, каменотесы, каменщики и штукатуры, несмотря на близость их занятий, не позволяют ни друг другу, ни посторонним исполнять то, что, по их мнению, принадлежит к области каждого отдельного ремесла, ибо через это может произойти понижение заработной платы. При слиянии в одно общество различных отраслей механического ремесла в 1851 г. было постановлено, чтобы работники отнюдь не переходили из одной отрасли в другую. Этот образцовый ремесленный союз прямо высказал мысль, что каждый должен работать в той отрасли, в которой он воспитан[270]. Таким образом, полагается начало разделению каст.
К счастью, господствующее в современном обществе начало свободы не допускает осуществления этих стремлений. Ремесленные союзы не могут уже выхлопатывать себе законодательных привилегий, как прежние цехи; они принуждены действовать исключительно нравственным давлением. Но тут опять мы встречаемся с одною из самых темных сторон ремесленных союзов. Отношения их к лицам, не принадлежащим к союзам или неповинующимся их предписаниям, никоим образом не могут быть оправданы. В настоящее время, с улучшением нравов, выводятся уже те ужасные насилия, которыми ознаменовался первый период деятельности ремесленных союзов, убийства, поджоги, обливание серною кислотою, выкалывание глаз; но их заменила не менее действительная система «мирных притеснений», за которыми уследить нельзя и которые делают жизнь невыносимою. Вокруг фабрики, где произошла забастовка, ставится кордон, и посторонним рабочим мешают к ней подходить. С неповинующимся работником прекращаются всякие сношения; он становится отверженником общества. Иногда у него тайно похищаются орудия. На парламентском следствии многие работники, будучи допрошены насчет постигающих их притеснений, отказались отвечать или объявили, что они только в том случае дадут объяснения, если им доставят средства выселиться из отечества. Самое же обыкновенное средство, явно провозглашаемое, состоит в том, что члены союзов, когда они в достаточном количестве, а потому могут произвести напор, отказываются работать с нечленами, особенно же с теми, которые принимали работу у осужденных союзами фабрикантов. Этот способ действия весьма мало согласный с духом братства и даже с простыми требованиями свободы и общежития, защитники союзов стараются оправдать тем, что непринадлежность к союзу показывает недостаток чувства долга и что весьма позволительно принимать репрессивные меры против тех, которые становятся на узкую и эгоистическую точку зрения[271]. С меньшим пафосом, хотя и не с большею основательностью, сами члены союзов объясняют свое поведение тем, что они чувствуют себя неловко среди толпы рабочих, у которых есть недостаток общественного духа[272]. Вернее сказать, это весьма некрасивый способ отделаться от тех, которые мешают, и с этой стороны нельзя не согласиться с заявлением фабрикантов в 1852 г., что «правила и способы действия союзов одинаково враждебны как свободной деятельности и справедливым правам ремесленника и рабочих классов, так и честному контролю, который каждый хозяин вправе иметь над своим заведением»[273].
Средство, употребляемое против хозяев, которые не хотят идти на условия рабочих, состоит как известно, в забастовке. Много толковали о забастовках; исчисляли те громадные суммы, которые теряются для обеих партий и для народного хозяйства вследствие прекращения работы. С своей стороны ремесленные союзы указывали на то, что даже небольшое повышение заработной платы приносит им выгоды, далеко перевешивающие издержки. Но все эти расчеты, как признает и Брентано, совершенно праздны. Часто дело идет вовсе не о понижении или повышении платы, а о других условиях. Самое повышение платы, если требование предъявляется во время успешного производства, может быть достигнуто и без забастовки, ибо спрос на работу без того растет. В противном случае, забастовка обыкновенно не удается, и тогда все издержки составляют чистый убыток. А издержки громадны, ибо нужно содержать массы людей, которые сидят сложа руки. Когда в 1852 г. механические фабрики были заперты вследствие требований, предъявленных Союзом Механиков насчет отмены поштучной платы и сверхурочного рабочего времени, траты общества простирались до 40000 фунтов; все его капиталы исчезли, а между тем дело было проиграно: вследствие полного истощения средств, товарищество принуждено было отказаться от своих притязаний и согласиться на все условия фабрикантов. «Каков бы впрочем ни был результат, — говорит Брентано, — остаются ли работники победителями или побежденными, остановка работы всегда имеет для них ужасные последствия»[274]. В доказательство можно привести множество примеров. Ввиду этого один из друзей рабочего класса, Ледло, на прениях в Глазго в 1860 г. высказал мнение, что «забастовки и распущения рабочих, или, иными словами, частные коммерческие войны, суть остатки варварства среди цивилизации и позор для современного общественного быта; что допущение их оправдывается, только пока нет уполномоченных судилищ для решения коммерческих споров; что такие судилища должны быть установлены, и что когда это совершится, публика будет вправе настаивать на мерах уголовного законодательства против забастовок и распущения рабочих»[275].
Такого рода судилища установлены ныне в Англии под именем Третейских и Примирительных палат (Boards of Conciliation and Arbitration). Первоначально они возникли частным образом. Основателями их были два лица, занимающие почетное место в истории английского рабочего класса, Мунделла и Кеттль. Успех этих учреждений повел к узаконению их в 1871 году парламентским актом, причем однако самое установление палат, а равно и подчинение им спорящих сторон, были предоставлены добровольному соглашению лиц. При господстве начала промышленной свободы иначе быть не может, и на практике этого совершенно достаточно как для решения, так и для предупреждения большей части споров. Третейские палаты разбирают не только вопросы о заработной плате, но и все другие условия работы, требующие обоюдного соглашения. Большее и большее распространение их в Англии и проистекающее отсюда сближение между хозяевами и рабочими служат явным доказательством пользы этих учреждений.
Брентано, который весьма за них стоит, видит в них высшее завершение организации ремесленных союзов. Но подобные учреждения могут существовать и помимо всяких рабочих союзов. Во Франции, как известно, несмотря на то что рабочие союзы до последнего времени не допускались, давно установлены так называемые советы сведущих людей (Conseils de prud'hommes), составленные наполовину из хозяев и наполовину из рабочих, для решения возникающих между ними споров. Конечно, в Англии в настоящее время при общем распространении ремесленных союзов весьма удобно примкнуть к существующей уже организации. Но самые ремесленные союзы, как признает и Брентано, должны существенно измениться с введением Третейских палат: из боевого учреждения, говорит он, они должны сделаться мирным. То есть они должны перестать быть ремесленными союзами и превратиться в общества взаимной помощи. И точно, с установлением Третейских палат исчезает различие между членами союзов и другими работниками, а вместе с тем отпадает и главная цель союзов — регулирование предложения работы. Доказательством служат постановления приведенного у Брентано статута Третейской палаты в одной из колыбелей этого учреждения, в Вольвергамптоне. «Каждый хозяин, — сказано в статуте, — должен иметь право вести свое дело, особенно во всем что касается до поштучной платы, до учеников, до употребления машин и орудий и других подробностей верховного управления, тем способом, какой он считает для себя наиболее выгодным, если только это не противоречит статутам и не стесняет рабочих в их личной свободе». А в другом параграфе определено, что «ни хозяин, ни рабочие не должны делать человеку каких-либо затруднений за то, что он принадлежит или не принадлежит к ремесленному союзу»[276].
Эти начала совершенно верны, но они опровергают всю политику ремесленных союзов. Этим упраздняются их главные задачи и они сами становятся бесполезными. А если так, то невозможно видеть в ремесленных союзах единственное средство поднять уровень рабочего класса. Нельзя даже признать их необходимыми, как орудия борьбы на известной ступени развития. В самой Англии есть отрасли, которые никогда не образовали из себя ремесленных союзов, например домашняя прислуга, и которые однако значительно поднялись во всех отношениях, просто вследствие увеличения спроса. Точно так же и во Франции произошел общий подъем рабочего класса без всяких ремесленных союзов. Все, что можно сказать, это то, что при особенностях английского быта, с чисто практическим и склонным к самодеятельности характером английского народа, ремесленные союзы принесли существенную пользу. В Англии, в общем итоге, выгодные стороны получили перевес над вредными. Но никак нельзя сказать, что то же самое окажется и с перенесением ремесленных союзов на другую почву, при менее практическом и более склонном к увлечениям характере народа. Тут социалистические стремления легко могут найти себе доступ, и борьба, всегда сопровождаемая страданиями и нищетою, может принять такой острый характер, что промышленный порядок превратится в полную анархию. Поэтому возможность распространения ремесленных союзов на другие страны представляется весьма гадательною. Во всяком случае, если они представляют для рабочего класса одно из орудий, доставляемых свободою, то никак нельзя считать их единственным лекарством против всех гнетущих его зол.
Успех Третейских палат, заменяющих борьбу примирением, скорее заставляет думать о другом средстве, которое некоторые считают также всеобщею панацеею против пауперизма, именно, о приобщении рабочих к выгодам предприятия. Эта система принимает различные формы. Иногда работники становятся акционерами самого предприятия, помещая в него свои сбережения; иногда же они получают в виде дивиденда только известную долю чистой прибыли без всякого участия в капитале; или, наконец, все ограничивается премиями, наградами и тому подобными прибавками к постоянной плате. Последняя форма практикуется давно и не составляет собственно участия в предприятии; первые же две в новейшее время стали распространяться в промышленном мире, особенно во Франции, и сделались предметом тщательных исследований. Бемерт собрал на этот счет множество фактических данных[277]. Защитники этой системы видят в ней всю будущность рабочего класса. «Социальный вопрос перестал быть вопросом, — восклицал по этому поводу в 1867 г. известный статистик Энгель, — разрешение его может считаться совершившимся; переведение этого разрешения в практическую жизнь уже началось».
Действительно, в пользу этой системы можно сказать весьма многое. Вместо противоположности интересов тут установляется их соглашение: рабочие делаются товарищами предпринимателя. От этого несомненно выигрывает самое предприятие: является большее усердие, большая бережливость; отпадает необходимость постоянного надзора, при котором все-таки невозможно за всем уследить. Заинтересованные в деле рабочие сами друг за другом следят. При таких условиях предприниматель не только не остается внакладе, но получает еще большую прибыль, нежели прежде, а рабочие с своей стороны имеют огромные выгоды, не только материальные? но и нравственные. В публикованных Бемертом ответах рабочих людей дома Биллон и Исаак в Женеве особенно указывают на совершившееся в них превращение со времени введения этой системы. Рабочий, получающий даже высокую плату, редко делает сбережения, а большею частью тратит свой излишек. Здесь же он принужден сберегать, ибо дивиденд идет на составление для него капитала, который служит ему подспорьем в старости и помощью в несчастии. Перед ним открывается новая перспектива; он видит возможность идти вперед и устроить не только свою собственную судьбу, но и судьбу детей. Никакие существующие при фабриках вспомогательные учреждения, предоставляющие рабочим известную ренту из общего капитала, не в состоянии этого заменить. «Не общая, а личная собственность, — говорят хозяева упомянутого дома, — имеет высшую заманчивость, служит побуждением к прогрессу, пробуждает семейное чувство и внушает доверие к будущему… Рента манит к потреблению, капитал к производству. Рента прекращается с жизнью получателя; капитал живет и продолжает действовать в детях и внуках»[278].
Замечательнейший пример успеха подобной системы представляет знаменитый дом Леклер (Leclaire) в Париже, от которого изошел почин всего этого движения. Подрядчик малярных работ Леклер, который в 1826 г. начал дело почти ни с чем, с 1842 г. приобщил рабочих к своему предприятию и через это довел его до такого процветания, что по смерти своей, в 1872 г., он оставил состояние в 1200000 франков. Между тем рабочим с 1842 до 1876 г. роздано было дивиденда 1760017 франков. Часть этой суммы поступила учрежденному между рабочими обществу взаимного вспомоществования, которое в 1877 г. обладало имуществом в 933652 франка и состояло наполовину собственником акций, составляющих ныне основной капитал предприятия.
Несмотря однако на столь блистательные результаты в частности едва ли эта система может рассчитывать на всеобщее распространение. Она имеет свою оборотную сторону и требует таких условий, которые не везде встречаются.
Критиками было уже замечено, что участие рабочих в предприятии имеет совершенно иное значение там, где главные издержки состоят в заработной плате, и там, где преобладающую роль играет стоячий капитал: в первом случае их доля, а следовательно и интерес их в производстве несравненно больше. Весьма существенна также большая или меньшая возможность правильного надзора; где надзор труден, там приобщение рабочих к прибылям предприятия составляет одно из лучших средств побудить их к добросовестному труду и к сбережению материала. Наконец, весьма важно знать, от чего зависит главным образом успех предприятия: от умелости рабочих или от оборотливости хозяина. Все эти различные условия делают то, что эта система не в одинаковой степени приложима ко всем предприятиям[279].
Но кроме того есть возражения и более общего свойства. Участие в прибыли предполагает контроль над ведением дела, а между тем значительное большинство защитников этой системы стоит за безусловное устранение всякого вмешательства рабочих в ход предприятия. «Власть руководителя, — говорит де Курси, — должна оставаться неприкосновенною и сохраняться всецело, и работники не должны вмешиваться в ведение дела». Это признается даже таким пунктом, о котором и спорить нельзя, ибо несостоятельность противоположного взгляда очевидна. В доме Биллон и Исаак рабочие состоят акционерами предприятия, а между тем в циркуляре, которым предлагалось им участие в прибыли, прямо было сказано: «…эта система должна быть основана на доверии и честности с обеих сторон, равно как и на авторитете и на свободе предпринимателей. Что касается в особенности до ведения дела и до счетоводства, то мы никоим образом не отступим от правил, которых мы держались до сих пор и о которых свидетельствуют наши книги». Рабочие же с своей стороны замечают: «…представленное против участия в прибыли возражение, что рабочие будут вмешиваться в управление делом, не имеет силы… Рабочие находят вмешательство совершенно излишним и не имеют к тому никакого поползновения»[280].
Все это однако очень хорошо, пока дело процветает и есть полное доверие к хозяину; но что делать, если этих условий нет и рабочие начинают настаивать на своем праве, как участники в предприятии? В акционерном обществе, правление которым акционеры недовольны, может быть всегда смещено; разбираемая же система вся основана на том, что предприниматель остается верховным хозяином предприятия, а рабочие только к нему приобщаются. Следовательно, сместить его они не вправе, а между тем в силу учреждения с этим предприятием связаны у них существенные интересы, так что они не могут его покинуть, иначе как лишившись приобретенных прежде выгод. Очевидно, что положение тут безвыходное: если не восстановится доверие, то предприятие сделается поприщем постоянной внутренней борьбы, а это, конечно, не может содействовать его успеху.
Столь же единодушно, как устранение рабочих от участия в контроле, признается и невозможность возлагать на них убытки. Между тем, как было замечено уже Прудоном, кто получает барыши, тот по справедливости должен нести убытки. Это и делают рабочие в тех случаях, когда они становятся акционерами предприятия. Но тогда возникает вопрос: хорошо ли, чтобы рабочие свои небольшие сбережения помещали в сопряженные с риском предприятия, в которых они могут все потерять? Не лучше ли класть их в сберегательные кассы, где помещение верно и обеспечение прочно? А так как ведение дела все-таки зависит не от них, а от умения и оборотливости хозяина, то очевидно, что превращение рабочих в пайщиков только в весьма редких случаях может представлять гарантии прочного успеха.
Если же, как обыкновенно делается, рабочим раздается известная доля прибыли без участия их в убытках, то подобное распределение дохода может иметь двоякое значение: или оно означает, что вознаграждение работников, то есть заработная плата, делится на две части, на постоянную и подвижную, одну получаемую им во всяком случае, другую соразмеряющуюся с выгодами предприятия, или же дивиденд составляет излишек, сверх собственно принадлежащего рабочим вознаграждения. Но первая из этих систем вовсе не лежит в интересах рабочего класса. Подвижность заработной платы, выгодная для предпринимателей, обременительна для рабочих. В Англии в некоторых рудниках принято за правило повышать или понижать заработную плату, смотря по рыночной цене железа, и рабочие жалуются на такой порядок. Они предпочитают пользоваться постоянной платой, предоставляя предпринимателям весь риск, проистекающий от колебания цен. При таких условиях они правильнее могут устроить свою жизнь, тогда как случайные излишки обыкновенно расточаются. Той же политики держатся ремесленные союзы, и эту цель между прочим имели в виду зачинатели системы Третейских палат[281].
В действительности на фабриках, где рабочие получают известную долю дохода, постоянная заработная плата нисколько не ниже, нежели в остальных. Из этого видно, что раздаваемый дивиденд не рассматривается как часть заработной платы, а составляет излишек, даруемый предпринимателем. Большею частью он даже не выдается рабочим на руки, а поступает в особую кассу как обязательное сбережение. Но если так, то вся эта система представляет не более как благотворительное учреждение, зависящее исключительно от человеколюбия хозяина. Можно сколько угодно настаивать на том, что участие в выгодах должно быть не делом милости, а постоянным установлением; это не изменяет существа дела. Разного рода благотворительные учреждения, кассы и т. п., на которые частные лица жертвуют свои капиталы, суть тоже постоянные установления, но они все-таки остаются делами человеколюбия. Защитники этой системы прямо даже признают, что она должна иметь в виду воспитание рабочих[282] и что только при этой точке зрения уместно устранение последних от всякого вмешательства в ведение дела. Хозяин является тут патроном, которому верят на слово. Он по собственному почину уделяет рабочим часть своих барышей в видах будущего их обеспечения; он ежегодно объявляет им, сколько им приходится получить, а им остается только пользоваться его благодеяниями и работать усердно, чтобы заслужить его попечения, не вмешиваясь в самое ведение дела и не пытаясь проверять его показания.
В этой заботе о судьбе подчиненных предприниматель находит однако и свою выгоду. Этим рабочие поощряются к труду и установляется полезная для предприятия нравственная связь между ними и хозяином. Отдавая им часть своей прибыли, хозяин нередко тем самым увеличивает остальную. Участие в барышах действует даже сильнее, нежели премии и награды; но зато оно не везде возможно. Эта система уместна лишь там, где предприятие стоит твердо, где нет большого риска и где существует постоянная связь и полное взаимное доверие между хозяином и рабочими. Здесь личное доверие и личная инициатива играют важнейшую роль. Но именно потому эта система не может быть учреждением всеобщим. Там же, где требуемые условия существуют, приобщение рабочих к прибылям предприятия может быть в высшей степени полезно как воспитательное учреждение для рабочего класса и как средство руководить им в собственном его интересе. Не надобно только забывать, что тут стороны неравны; это не товарищество на равных правах: тут есть патрон <и> клиенты, воспитатель и воспитанники, благодетель и получающие благодеяния.
Поэтому односторонние друзья рабочего класса и не стоят за этот способ решения задачи. Не в нем они видят будущность рабочего класса, а в производительных товариществах, составленных исключительно из рабочих. Подобные товарищества существуют не в одних мечтаниях социалистов. Они могут возникнуть и сами собою, на собственные сбережения, и по собственной инициативе рабочих. Для этого не нужно общественного переворота; достаточно признаваемой ныне свободы. В жизни встречаются тому многочисленные примеры; некоторые товарищества даже весьма успешно ведут свои дела. Друзья рабочего класса надеются, что с поднятием его уровня эти предприятия примут все более и более широкие размеры, пока они, наконец, совершенно вытеснят собою личную предприимчивость. Противоположность между предпринимателями и рабочими исчезнет вследствие того, что исчезнет отдельный класс предпринимателей. Рабочие сами будут хозяевами своих фабрик, и все при водворении полного равенства соединятся узами общего братства. Мы имеем тут новую всеобщую панацею, окончательно разрешающую рабочий вопрос. Даже Милль пришел к убеждению, что в этом заключается будущность человеческого рода.
Опыт рабочих товариществ не оправдывает однако этих слишком смелых ожиданий. Во Франции в 1848 г. государство дало 3 миллиона на основание рабочих товариществ. Их в то время возникло до 45, но почти все они рушились вследствие плохого ведения дела. Впоследствии образовались новые, уже на собственные средства, но те из них, которые успели удержаться, представляют не более как замыкающиеся в тесном кругу акционерные компании, нанимающие сторонних работников под именем пособников (auxiliaires). Вместо прославляемого равенства тут господствует полное неравенство. Вигано, который в кооперации видит новое откровение и даже искупление, говорит о них: «…в моих посещениях Парижа, когда я собирал сведения об этих обществах, я с сожалением должен был убедиться, что они большею частью с значительными затруднениями принимают рабочих, которых они употребляют, и что они таким образом запятнаны аристократизмом и даже духом спекуляции. Я не стану называть производительные товарищества, которые сами будучи составлены из 30 или 40 членов, употребляют несколько сот работников, не считающихся товарищами»[283].
Такой же оборот приняли рабочие товарищества и в Англии. Руководители ремесленных союзов в прежнее время сильно хлопотали об основании подобных предприятий. Они думали этим способом возбудить конкуренцию против фабрикантов и дать работу остающимся без дела при забастовках. Но все подобные попытки или рушились, или превратились в обыкновенные фабрики.
В Англии есть однако рабочие товарищества, достигшие высокой степени процветания. Таковы приведенные выше Рочдельские Пионеры, которые, начавши с общества потребления, впоследствии основали несколько заведений для производства. Но их пример лучше всего обнаруживает истинное существо этих союзов. С одной стороны, вследствие продажи акций в обществе явились акционеры не работающие на фабрике; с другой стороны, при недостатке рук общество принуждено было нанимать рабочих, которые не состояли в нем акционерами. И когда возник вопрос: следует ли последним дать участие в прибылях предприятия? — то этот вопрос на общем собрании был решен отрицательно. Акционеры оказались истинными акционерами. Лассаль, повествуя об этом событии, приводит его как доказательство, что крупные вопросы не могут решаться частными мерами или усилиями. «Что выигрывает рабочий класс в совокупности, — восклицает он, — работник как таковой от того, что он работает для предпринимателя из рабочих или для предпринимателя из мещан? Ничего! Вы переменили только предпринимателей, в пользу которых идет ваша работа. Но работа и рабочий класс от этого не получили свободы! Что же он при этом выигрывает? Он выигрывает только развращение, порчу, которая теперь охватывает его самого и превращает рабочих против рабочих в выжимающих предпринимателей… Рабочие с средствами рабочих и с образом мыслей предпринимателей — это та противная карикатура, в которую превратились эти рабочие»[284].
Напрасна надежда, что этот порядок вещей может измениться с высшим развитием. В самом существе рабочих товариществ есть условия, которые не позволяют им сделаться всеобщею формою промышленного производства. Товарищества вообще, как уже было указано выше, экономически менее выгодны, нежели единоличное управление. Там, где требуется строгий порядок, где все основано на точном расчете и на внимательном наблюдении за колебаниями рынка, единство мысли и воли составляет важнейшее условие успеха. Всякое стеснение и всякий контроль являются тут препятствиями. С другой стороны, и там где есть риск и где возможность прибыли зависит исключительно от предприимчивости, личное начало точно так же не может быть ничем заменено. Акционерные общества в состоянии соперничать с отдельными лицами единственно потому, что они берут в свои руки такие значительные предприятия, для которых у отдельных лиц недостает средств. Общею формою промышленного устройства они никоим образом не могут сделаться. Рабочие же товарищества не имеют и этой выгоды. Они составляются не из капиталистов, а из рабочих, следовательно, не обладают значительными средствами. Ограничиваясь по необходимости более или менее тесными пределами и подверженные всем невыгодам многоличного управления, они редко в состоянии выдержать соперничество отдельных предпринимателей.
К этому присоединяется, наконец, и то, что рабочие принадлежат к наименее образованному классу общества. У них недостает ни знания, ни многосторонности мысли, необходимых для ведения сколько-нибудь обширного предприятия. Без сомнения, между ними есть люди с замечательными способностями; многие фабриканты вышли из среды рабочих. Если товарищество составляется из такого рода людей или находится под их управлением, то нет причины, почему бы оно не имело успеха. Но большинство членов, от которого окончательно зависит решение дел, состоит из людей, стоящих ниже среднего уровня образованных классов. И чем недоверчивее они привыкли относиться к предпринимателям, тем более помех, как показывает опыт, встречают в них распорядители из их собственной среды. По общему свойству человеческого рода дисциплина и единодушие, господствующие там, где нужно стоять против общего врага, исчезают и уступают место розни, как скоро приходится вести дело самостоятельно. А рознь в рабочем товариществе равносильна его разрушению. С своей стороны руководители, если они действительно способные люди, тяготятся не всегда разумным контролем товарищей и обыкновенно стремятся основать свои собственные предприятия. К этому ведет самый характер промышленного производства. Промышленное предприятие есть, по существу своему, частное дело, а потому руководитель, если он чувствует свои силы, легко может иметь поползновение взять его в свои руки или основать новое на свои собственные средства и на свой риск. Это нередко и происходит в действительности; товарищеские предприятия превращаются в личные. Если же образуется союз людей действительно способных, друг друга знающих и друг другу доверяющих, то они замыкаются в своем ограниченном кругу и принимают посторонних уже просто по найму. Через это в среде самих рабочих товариществ образуется та противоположность предпринимателей и рабочих, которую тщетно стараются искоренить.
Эта противоположность лежит в самом существе дела, и все, что ни придумывают для ее устранения, восстановляет ее только в новом виде. Основание ее заключается в различных задачах физического и умственного труда. Эти задачи не только требуют разных способностей и разных людей, но они неизбежно ведут к образованию в обществе двух раздельных классов, соответствующих различным потребностям общежития. Пока человечество существует на земле, оно обречено на постоянную борьбу с природою. Не только покорение природы, но и удержание ее в покорности требует массы физического труда. Этот труд составляет жизненное призвание огромного большинства человеческого рода. С другой стороны, для руководства физическим трудом необходима значительная доля труда умственного. Этот труд всегда составлял и составляет задачу меньшинства. Вместо количества тут преобладает качество, вместо экстенсивного начала интенсивное. Оба элемента равно необходимы в человеческих обществах; нет возможности обойтись ни без количества, ни без качества, и еще менее возможно слить их воедино. Они искони существовали и до конца веков будут существовать в человечестве. Какое бы мы ни представляли себе идеальное состояние общежития, борьба с природою посредством физического труда всегда будет составлять жизненную задачу огромного большинства людей, и эта задача неизбежно должна налагать свою печать на все их существование. Никакие измышления, никакие планы общественного переустройства не в состоянии сделать, чтобы люди, преданные физическому труду, имели такое же умственное развитие, как люди, преданные умственному труду. Конечно, могут быть исключения; гении рождаются в самых низких сферах; но исключения только подтверждают правило. С другой стороны, не подлежит сомнению, что в нормальном порядке люди, посвящающие себя умственному труду, должны быть руководителями, а люди, преданные физическому труду, должны быть руководимы. Отсюда различное общественное положение этих двух классов. Всякое старание извратить этот естественный порядок ведет к общественным смутам. Можно и должно заботиться о благосостоянии рабочего класса, стремиться к постепенному поднятию его уровня; но нет возможности сравнять его с высшими слоями, ибо у него есть свое особенное человеческое призвание, которое дает ему соответствующее этому призванию место в человеческих обществах.
Чем же определяется принадлежность лица к тому или другому классу, а с тем вместе высшее или низшее его положение на общественной лестнице?
Главным определяющим началом является здесь экономическое положение, в котором находится человек. Умственное развитие требует приготовления и досуга; оно может быть уделом только тех, которые обеспечены материально. Обеспечение же дается деятельностью предшествующих поколений; полученное от них наследие доставляет меньшинству возможность выделиться из общей массы и образовать особую сферу, где господствуют духовные интересы. Таков естественный закон человеческого развития, закон, который, вытекая из основных свойств человеческой природы, ведет к необходимому для общежития разделению противоположных элементов, имеющих каждый свое место и свое назначение в целом.
Эта необходимость с самых ранних пор присуща человеческим обществам. Первое условие для возникновения государства состоит в образовании руководящего зерна. В силу этой потребности на низших ступенях общественного быта возвышение меньшинства совершается путем принуждения. Отсюда происхождение рабства; отсюда и привилегии, которые даруются высшим классам для охранения их положения. Но с высшим развитием этот принудительный порядок уступает место свободе, и тогда размещение совершается само собою, в силу экономических законов. Иерархия, образующаяся свободным движением промышленных сил, служит предварительным определяющим началом и для распределения сил духовных: и тут сохраняется общий закон, в силу которого духовная жизнь человечества развивается на материальных основах. Но вместе с тем является и высшее начало, видоизменяющее эти отношения. Как свободное существо, человек не связан роковым образом с данным порядком; он собственною деятельностью может передвигаться из одного разряда в другой. На высших ступенях развития общественные классы не разделяются уже твердою юридическою гранью. Способнейшие люди из низших слоев беспрепятственно вступают в ряды высших, и наоборот, неспособные из высших спускаются в низшие. Под влиянием экономической свободы происходит взаимный обмен сил; каждая получает свойственное ей место сообразно с ее природою, с ее средствами и с ее отношениями к окружающим условиям. Ни для кого нет рокового предопределения, осуждающего его вечно оставаться на той точке, на которую он поставлен своим рождением, но есть бесконечно различные точки отправления, есть и различные сферы, между которыми люди могут двигаться свободно, переходя из одной в другую, но не иначе как соображаясь с существующим жизненным строем и с теми законами, которыми он управляется. Этим только путем необходимое разнообразие жизни примиряется с столь же необходимым в жизни порядком и с высшими требованиями свободы.
Задача состоит, следовательно, не в том, чтобы уничтожить один элемент в пользу другого или сгладить между ними всякое различие, а в том, чтобы привести их к гармоническому соглашению. В чем же должно состоять это соглашение?
Обсуждая взаимные отношения общественных классов, Милль говорит, что на этот счет существуют две системы: зависимость и самостоятельность. Первая, говорит он, в идеальном представлении имеет некоторые привлекательные стороны, хотя в действительности владычествующие классы всегда пользовались своим положением для своих собственных выгод, а не для блага подчиненных. Вторая же есть единственная возможная в настоящее время. Рабочие классы в Европе вышли из того возраста, когда их можно было водить на помочах. Они почувствовали свою самостоятельность, и это чувство укореняется в них более и более. Возвратиться к отжившему порядку нет уже возможности. В системе самостоятельности лежит вся будущность рабочего класса[285].
С этим взглядом можно согласиться, если под именем зависимости разуметь юридическое подчинение, а под именем самостоятельности — свободу. Система зависимости принадлежит известному периоду исторической жизни, из которого зреющие народы рано или поздно выходят. Торопить этот выход не всегда желательно; надобно знать, как рабочие классы воспользуются своею самостоятельностью. Но когда государство достигло такой степени зрелости, что оно может водворить у себя начало свободы, тогда следует тем решительнее вступить на этот путь, что только при системе самостоятельности возможно существенное поднятие уровня рабочего класса. Никакие государственные меры, никакие попечения со стороны высших классов не в состоянии этого сделать; главная движущая пружина экономического успеха заключается в самодеятельности, а самодеятельность немыслима без самостоятельности. Но самостоятельность не исключает добровольно признаваемого превосходства, а потому и свободного подчинения высшему руководству. В этом состоит необходимое условие всякой успешной деятельности и всякого разумного порядка. Никакое совокупное предприятие не может идти без внутренней дисциплины, подчиняющей низшие силы высшим. Все дело в том, чтобы отношения были свободные, а не принудительные. Разумная свобода, которая дает человеку самостоятельность, не состоит в отрицании всякого авторитета и в требовании всеобщего равенства. Где есть разум, там есть сознание порядка, а вместе и сознание своего места, связанное с уважением и к тому, что стоит выше, и к тому, что стоит ниже, по закону правды: каждому свое.
С этим только ограничением можно говорить о самостоятельности низших классов как об идеале человеческого общежития. Самостоятельность может быть положительная или отрицательная, совместная с порядком или разрушающая всякий порядок, самостоятельность, порождающая борьбу, или самостоятельность, ведущая к согласию. Которая из них преобладает в обществе, это зависит уже не от экономических условий, а от нравственного духа, господствующего в обоих классах. В этом отношении от высших классов требуется еще более, нежели от низших. Нужна значительная нравственная сила, чтобы при господстве свободы удержать свое превосходство и заставить низших признать себя руководителями. Если со стороны рабочих требуются самоограничение, доверие и уважение, то со стороны предпринимателей необходимо не только сознание своего нравственного долга, но и живая любовь, побуждающая людей заботиться о нуждах окружающих и содействовать, по мере сил, их благоденствию.
Очевидно, что тут вопрос выходит уже из пределов экономической сферы и переходит в область нравственную. Но это не значит, что следует экономическую науку преобразовать на основании нравственных начал. Экономическая наука, с которою согласна и жизненная практика, дала свое решение. Это решение есть свобода; иного и быть не может. Только путем свободы возможно постепенное поднятие уровня рабочего класса, составляющее цель экономического развития. Свобода же дает и все необходимые для того средства. Из предыдущего ясно, что тут общей панацеи нет и не может быть; но есть множество различных комбинаций, которые ведут к желанной цели. Могут учреждаться в различных видах рабочие товарищества и вспомогательные кассы; при благоприятных условиях могут существовать даже рабочие товарищества для производства; могут везде вводиться примирительные палаты; наконец, рабочие могут быть в той или другой форме приобщены к прибылям предприятия. Разнообразие жизненных условий влечет за собою разнообразие учреждений; но все это может держаться единственно началом свободы. На той же почве должно совершаться и развитие нравственного духа, оживляющего эти учреждения и связывающего высших и низших в одно живое и духовное целое. И тут свобода является главным двигателем, ибо она составляет необходимое условие нравственности. Но развитие в обществе нравственного духа, составляющего высшую связь всех его элементов, зависит уже не от экономических условий, а от высших, духовных начал, среди которых главную роль играют философия и религия.
Когда в обществе сверху донизу распространяются материалистические учения, не полагающие человеку иной цели, кроме возможно большего наслаждения в жизни, когда отрицается метафизика, составляющая единственное философское основание нравственности, когда в особенности в массах подрываются религиозные верования, которые служат для них главным источником нравственной жизни, тогда тщетны все толки о нравственных требованиях и о нравственном единении людей. Современное состояние европейских обществ свидетельствует об этом до очевидности. Можно сколько угодно провозглашать начало братства; на деле при господстве материалистических взглядов стремление к наживе все-таки будет господствующею чертою и наверху и внизу, и все, что препятствует наживе, сделается предметом самой ожесточенной ненависти. Отсюда то взаимное озлобление общественных классов, которое мы видим в настоящее время в Западной Европе, особенно в Германии, где извращение понятий достигло самых крайних своих пределов. Когда руководителями рабочего класса являются проповедники, вдохновляющиеся Лассалем и Карлом Марксом, о нравственных началах не может быть речи. На устах будет любовь, а в сердцах будут кипеть зависть и ненависть, и общественные массы, вместо того чтобы соединяться в дружной деятельности на общую пользу, будут расходиться более и более.
Помочь этому злу можно только восстановлением в человеке идеальных начал, не только религиозных, но также, и даже еще более, философских, ибо при современном умственном развитии человечества невозможно надеяться, что религия без помощи философии способна утвердить свое владычество над умами. Высшие классы, от которых исходит умственное руководство, движутся не темными инстинктами, не влечениями сердца, а разумно сознанными началами. Но для того чтобы философия и религия могли действовать на практическом поприще и принести настоящую пользу, необходимо, чтобы они поняли истинные условия экономической жизни, то есть чтобы они твердо стали на почву экономической свободы и признали самостоятельное значение вытекающего из нее экономического порядка. Если же, вместо того, идеальные требования относятся враждебно к истинным началам экономической науки и к основанному на них экономическому строю, если на свободные промышленные отношения хотят наложить руку и переделать их во имя нравственных и религиозных воззрений, то вместо желанной гармонии произойдет лишь больший разлад. В этом состоит результат всей деятельности социалистов кафедры, которые пытаются возвести экономическую науку к высшему синтезу, но не владея основаниями этого синтеза, производят только сугубую путаницу понятий. К тому же клонится и проповедь религиозных социалистов, распространяющихся ныне как между католиками, так и между протестантами. Стремление подчинить экономическую область религиозным началам ведет лишь к колебанию существующих основ общежития и дает совершенно ложное направление человеческой мысли и воле. Высший синтез может быть достигнут только свободным соглашением самостоятельных элементов, а не насильственным подчинением одного другому. Истинная задача философии и религии состоит не в том, чтобы переделать экономические отношения на новый лад, а в том, чтобы развить в обществе тот нравственный дух, который один может дать высшее значение экономической свободе, сделав ее орудием для достижения духовных целей человечества.
Какую же роль играет во всем этом государство? На него социалисты устремляют все свое внимание, от него ожидают всех благ; что же оно может дать?
Ответом на этот вопрос будет следующая книга.
Книга III.Государство
Глава I. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Вопрос о значении государства и об объеме его деятельности в настоящее время выдвинулся на первый план. От него ставится в зависимость решение экономических задач. Он играет главную роль в том общем синтезе общественных наук, о котором мечтают социалисты и социологи. "Я не думаю, — говорит один из социализирующих современных экономистов, Лавелэ, — что уважаемые авторы классической школы, Смит, Рикардо, Милль, ошиблись в своих теоретических выводах. По моему мнению, исключая некоторых исправлений в подробностях, установленные ими истины остаются достоянием науки; но по-моему, недостаточно и ошибочно самое понятие о науке, признанное ими и их последователями. Без сомнения, экономист должен знать так называемые естественные законы, управлявшие производством, распределением и потреблением ценностей, то есть сцепление причин и следствий, проявляющееся в этой области человеческой деятельности. Но это не более как первый шаг и, так сказать, способ изучения науки, подобно чтению в литературе и употребление микроскопа в физиологии. Настоящий же предмет исследования — гражданские законы и их последствия. Экономия может быть названа "политическою" лишь под тем условием, что она будет заниматься государством. Роль государства и общественные распорядки, которые обыкновенно исключались из экономических исследований, составляют в них, напротив, самое существенное дело"[286].
Как же приступить к этому исследованию? Станем ли мы руководствоваться опытом? Но в таком случае мы примем за норму государство, как оно есть, и тогда мы не уйдем от существующего порядка, и социализм останется ни при чем. Вследствие этого социалисты вовсе и не думают держаться указаний опыта. Критикуя современный экономический быт и требуя полного его переустройства, они, напротив, совершенно отрешаются от действительности.
Государству, как оно есть, они противополагают государство, как оно должно быть; факт должен быть пересоздан во имя идеи.
Но откуда же мы возьмем идею государства, особенно если мы отреклись от метафизики? Примем ли мы на веру господствующие современные понятия как последний результат человеческого развития? Но мы встречаем тут столь противоположные мнения, что извлечь из них какую-нибудь общепризнанную истину нет возможности. И где ручательство, что господствующее ныне воззрение завтра не уступит место совершенно иному? На наших глазах происходят такие удивительные скачки из одной крайности в другую, что держаться господствующего мнения весьма опасно: оно как раз ускользнет из рук или превратится в противоположное. Четверть века тому назад в воздухе носилась реакция против государственной опеки; все бредили самостоятельною деятельностью общества. В 1860 г., известный французский ученый и публицист Лабулэ, издавая свое сочинение "Государство и его границы", предсказывал, что не пройдет десяти лет, и все будут признавать истиною, что государство имеет естественные границы, которые оно не должно переступать"[287]. Предсказание однако не сбылось, и в настоящее время многие расширяют деятельность государства далеко за пределы того, что требовали защитники его в прежнее время. Где же уловить идею государства?
Для того чтобы знать, какая именно идея составляет плод человеческого развития, надобно, очевидно, проследить развитие этой идеи в истории. Без этого тщетны будут все ссылки на современность. Взглянем же на историю, ограничиваясь, разумеется, самым кратким очерком. Подробности читатель найдет в сочинении, в котором специально исследуется этот предмет. Здесь мы изложим только главные результаты[288].
Уже древние оставили нам философское учение о государстве. Известно, что древнее государство отличалось от нового тем, что оно в несравненно большей степени подчиняло себе личность. Древний гражданин жил для государства. Частная жизнь, обеспеченная рабством, служила ему только средством для исполнения гражданских обязанностей. Этот характер гражданского быта, проистекавший из всего миросозерцания античного мира, в котором личность не получила еще полного своего развития, отразился и на учениях тех великих мыслителей, которые всего полнее выразили собою античное воззрение. У Платона в особенности государство вполне уподобляется отдельному лицу; идеальное устройство политического тела изображается по аналогии с физическим организмом. В нем являются те же главные составные части и то же отношение членов к целому. Члены не имеют самостоятельного значения, а существуют единственно для исполнения своего общественного призвания. Вследствие этого в государстве Платона воины, которые и суть настоящие граждане, не имеют ни личной собственности, ни семейства. У них не должно быть ничего своего, дабы этим не отвлекать их от служения отечеству. И жены, и дети, и имущество, все должно быть общее.
Однако уже Аристотель заметил, что такое чрезмерное единство противоречит природе вещей. Государство по существу своему должно быть менее едино, нежели семья, и еще менее, нежели отдельный человек. Вследствие этого Аристотель, сообразно с тем, что представляла действительность, признавал частную собственность и семейную жизнь. Но и Аристотель как истинный Грек видел в государстве высшую цель всего человеческого существования. Государство, говорит он, не есть только местный союз, как село; оно образуется не для ограждения людей от обид и не для взаимной помощи, но все это должно предшествовать, для того чтобы существовало государство. Последнее же определяется высшим совершенством жизни: государство есть союз родов и сел для жизни совершенной и самобытной. И хотя по порядку физического происхождения отдельное лицо предшествует государству, однако по природе, или по своей сущности, государство предшествует лицу, ибо природа целого определяет природу частей, а не наоборот. Только в целом каждая часть получает свое назначение. Человек только в государстве, под управлением правды и закона, становится в истинном смысле человеком. Поэтому человек по природе своей есть животное политическое.
Таковы были воззрения глубочайших мыслителей древности. Но уже в то время личность начала предъявлять свои права, и это повело к разложению органического взгляда на государство, а вместе и к падению основанного на нем политического быта. Разложение началось уже с софистов, которые от общего перешли к частному, от идеального к реальному. Проповедь их внесла в греческую жизнь такой разлад, от которого она никогда не оправилась. Тщетно следовавшие за ними великие философы старались в идеальной форме восстановить завещанные преданием начала политического быта; жизнь шла своим чередом, и мысль следовала тому же направлению. Эпикурейцы в более систематической форме возобновили индивидуалистические учения софистов; с своей стороны стоики, исходя от нравственного начала, распространяли политическое общение на все человечество и тем самым подрывали еще более основы государственного союза. Только внешняя власть могла сдержать стремящиеся врозь элементы; но и она наконец оказалась бессильною. Политический быт разлагался более и более, а мышление отвернулось от земли и ушло в область религиозную. Древний мир пал, уступая место новой исторической жизни.
Таково было развитие идеи государства в классической древности. Совершенно обратным порядком идет мышление нового времени. Там мысль исходила от объекта и затем перешла к субъекту; здесь, напротив, она исходит от субъекта и затем переходит к объекту. Там точкою отправления было государство как объективный организм, созданный самою природою вещей; только в дальнейшем движении поглощенная им личность предъявляет свои права и постепенно разлагает этот порядок. Здесь, наоборот, точкою отправления служат субъективные требования лица, которые постепенно ведут к восстановлению необходимого для удовлетворения их общественного строя и, наконец, к идее государства как высшего единства общественной жизни. Таким образом, конец древнего мышления составляет начало нового, и конец нового представляет возвращение к началу древнего. То был процесс разложения; здесь, напротив, мы имеем процесс постепенного сложения разошедшихся врозь элементов, но уже в иной форме, нежели прежде, ибо отдельные элементы, получивши полное развитие, приобрели самостоятельность и не могут уже быть поглощены целым, как в древности. Возвращение к первобытной слитности немыслимо.
В этом новом процессе мысль идет сначала чисто отвлеченным путем. Отправляясь от общих свойств и потребностей человеческой природы, она силою логической необходимости выводит из них один за другим все существенные элементы государственного порядка: власть, закон, свободу и цель, или идею, связывающую все элементы в одно органическое целое. Но этот умственный процесс является вместе и выражением жизненного хода, ибо то, что умозрительно представляется логическою необходимостью, то самое в жизни вырабатывается как практическая потребность. Государство в идее и государство в действительности составляются из одних и тех же элементов, и необходимая связь их и здесь и там одинакова. Разница заключается лишь в том, что одностороннее развитие известного элемента в идее может вести к последствиям, несовместным с требованиями жизни, которая всегда содержит в себе совокупность всех жизненных сил, а потому оказывает противодействие одностороннему направлению. А с другой стороны, данная действительность может заключать в себе условия, дающие преобладание одному элементу преимущественно перед другими и потому не допускающие полного развития остальных: в этом случае идея может обладать большею полнотою, нежели жизнь. Но так как у народов, в среде которых совершается умственный процесс, мысль и жизнь находятся в постоянном взаимодействии, то в общем итоге теоретический ход и практический неизбежно совпадают. Однако мысль идет быстрее, нежели жизнь; поэтому теоретический ее ход представляет собою движение вперед; практические же потребности служат ему, с одной стороны, средством осуществления, с другой стороны задержкою и поправкою.
Первая потребность государственного порядка состоит в установлении власти; это центр, около которого собираются все другие элементы. Государство отличается от других союзов именно тем, что ему принадлежит верховная власть на земле. На практике эта потребность выразилась в том, что на развалинах средневекового порядка, где господствовали частные силы, везде в Европе водворилась абсолютная власть, сосредоточенная главным образом в лице монарха как представителя государственного единства. Чтобы вывести общество из анархии, нужно было прежде всего сдержать стремящиеся врозь элементы внешнею силою, которая не подлежала бы спору. В теории эта потребность выражалась в ряде учений, типическим представителем которых является Гоббс. По его системе, основное свойство человека, вытекающее из его природы, есть стремление к самосохранению. Но так как это стремление одинаково присуще всем, и каждый в естественном состоянии является единственным судьею того, что ему нужно для самосохранения, то отсюда неизбежно рождаются беспрерывные столкновения между людьми; возгорается война всех против всех. Между тем подобное состояние противоречит главной цели человека; при всеобщей войне самосохранение становится невозможным. Следовательно, нужно выйти из анархии и искать мира. А для водворения мира необходимо отказаться от самоуправства и подчинить свою волю воле одного или нескольких лиц, которых решение признавалось бы безусловным законом. Такое устройство и есть государство, в котором правителю принадлежит верховная, абсолютная власть над подданными.
Очевидно однако, что установлением внешнего мира не ограничиваются потребности общежития. Может быть мир, который хуже войны. Если, как заметил Спиноза, под именем мира разуметь рабство, варварство и пустыню, то для человека нет ничего ужаснее мира. Вследствие этого уже в самой школе общежития, признававшей государство необходимым условием самосохранения, явились мыслители, которые восстали против учения Гоббса во имя других элементов государственной жизни. С одной стороны, указывали на то, что необходимая в государстве власть должна руководствоваться не произволом, а высшим законом, охраняющим права и благосостояние всех; с другой стороны, утверждали, что и в государственном порядке должна проявляться неотъемлемо принадлежащая человеку свобода. Эти два начала, закон и свобода, в дальнейшем развитии сделались основаниями двух противоположных школ, нравственной и индивидуалистической, между которыми разделяется политическая мысль в XVIII столетии.
Нравственная школа господствовала в Германии, где типическим ее представителем был Вольф. В этой системе источником юридического и политического порядка является нравственный закон, который государство призвано осуществить. Отсюда смешение права с нравственностью; отсюда система государственной опеки, с целью утвердить нравственный порядок и водворить всеобщее благосостояние; отсюда, наконец, и стремление расширить пределы государства, которое по идее должно обнимать собою все человечество и только в силу практических потребностей ограничивается более тесным пространством. Все эти признаки мы находим не только в теории, но и на практике в политическом быте Германской Империи в XVIII веке.
С другой стороны, индивидуалистическая теория произвела ряд систем, которые нашли свое практическое приложение в революциях английской, американской и, наконец, французской. Всего последовательнее и нагляднее она выразилась в учении о правах человека. Отдельному лицу по этому воззрению приписываются прирожденные ему в качестве человека и неотъемлемо принадлежащие ему права, которых общество не вправе касаться. Государство призвано только охранять их от нарушения. Само оно образуется единственно в силу соглашения отдельных воль; основанием его служит договор, который не только предполагается в начале, но и возобновляется беспрерывно. Из договора же проистекает и власть, которая получает всю свою силу от воли народной, а потому состоит всегда в зависимости от последней.
Таким образом, государство в этом воззрении является не более как договорным соединением лиц; оно низводится на степень простого товарищества. А так как все эти лица сохраняют неотъемлемо принадлежащие им права, которых никто их лишить не может, так как они вследствие того сами всегда остаются судьями своих прав и обязанностей, то ясно, что подобному союзу всегда грозит разрушение. Государство как единое, постоянное целое не может держаться на этих основаниях.
Это и понял Руссо, который первым условием общественного договора положил отречение от всех прирожденных прав и получение их обратно уже из рук государства. Но так как и Руссо в своем общественном договоре все-таки хотел сохранить неприкосновенным верховенство личной свободы, устроивши общество так, чтобы каждый, повинуясь целому, повиновался бы только своей собственной воле, то в изобретенном им политическом порядке не могло оказаться ничего, кроме внутренних противоречий, которые проявились в ряде совершенно немыслимых положений. На почве индивидуалистических теорий XVIII века необходимое для человеческого общежития примирение свободы с порядком не могло совершиться, ибо закон все-таки ставился в полную зависимость от свободы. Чтобы понять внутреннюю, неразрывную связь этих двух начал, надобно было возвыситься к идее государства как высшего союза, сочетающего в себе противоположные элементы. Философское разрешение этой задачи было делом немецкого идеализма.
И тут мысль проходит через различные ступени. Немецкий идеализм исходит от субъективного начала и затем уж возвышается к началам объективным. В школе Канта, положившего основание этому направлению, господствует еще в значительной степени индивидуалистическое воззрение. Государство понимается уже как союз необходимый; вступление в него составляет обязанность для человека. Но эта необходимость ограничивается охранением права. Отсюда распространенное в школе Канта учение о юридическом государстве, которого единственная задача заключается в охранении права. Все остальное выходит из пределов его ведомства и предоставляется свободной деятельности лиц.
Такое ограничение противоречит однако и явлениям истории, и всестороннему развитию идеи государства. И точно, эта узкая точка зрения была оставлена, как скоро идеализм, развивая присущие ему начала, перешел на объективную почву. Государство было понято как организм, носящий в себе внутреннюю свою цель — общее благо, в котором заключается не только охранение права, но и содействие всем другим целям человека. Фихте первый, еще стоя на субъективной точке зрения, назвал государство организмом. Историческая школа с своей стороны высказала мысль, что право и государство суть органические произведения народной жизни. Наконец, высшее свое выражение это воззрение нашло у Гегеля. Он определил государство как полное осуществление нравственной идеи, или как сознающий себя нравственный дух, в котором субъективная воля теснейшим образом связывается с объективною[289]. Расчленяясь на свои моменты, идея образует цельный общественный организм; носителем ее является народный дух, который осуществляет ее в истории. В силу этой верховной идеи в государстве все частные цели подчиняются высшей, общей цели — общественному благу; но подчиняясь, они не поглощаются ею. В пределах государства сохраняются другие союзы, имеющие свои самостоятельные цели и свои сферы деятельности. Таковы семейство и гражданское общество. Самостоятельным союзом является и церковь, в которой воплощается нравственно-религиозное начало. В особенности важно определение гражданского общества, которое Гегель резко отличал от государства. В первом он видел союз, основанный на взаимодействии частных целей, исходящих из отдельных лиц, в последнем — осуществление общественной цели. И хотя частное должно подчиняться общему, однако, говорит Гегель, "конкретная свобода состоит в том, что личная индивидуальность и ее частные интересы должны получить полное свое развитие и признание своего права в системе семейства и гражданского общества", что не мешает им видеть в государстве выражение их собственного духа и действовать для него по собственному побуждению. В этом признании самостоятельности субъективного момента Гегель видел главное отличие нового государства от древнего[290]. Таким образом, возвращаясь к идеальным определениям греческих мыслителей и понимая вместе с ними государство как высшее осуществление нравственного духа, Гегель вполне сознавал необходимость сохранить за личностью ее права и тем упрочить результаты, добытые всем предшествующим ходом всемирной истории.
Но если идеализм в полноте своих определений оставляет должное место и значение каждому из общественных элементов, то при одностороннем понимании он несомненно ведет к поглощению лица обществом. Нужно было сделать еще один шаг, стать на исключительную точку зрения общей идеи, отрешиться вполне от действительности, понять историю как ряд преходящих моментов, не оставляющих никакого положительного результата, и все улетучивалось в идеальном представлении конечной цели, которой все личное и частное должно быть принесено в жертву. Этот шаг сделали гегельянцы, вступившие на почву социализма. Таковы Лассаль и Карл Маркс. Тут уже государство становится всеобъемлющим и всеподавляющим. Лассаль с презрением отзывается о господствующем среди мещанства понятии о государстве, противополагая ему то понятие, которое должно сделаться достоянием рабочего класса. Мещанство, говорит он, не имеет иной нравственной идеи, кроме облегчения каждому лицу беспрепятственного употребления его сил. Сообразно с этим оно цель государства полагает единственно в охранении свободы и собственности, понятие, говорит Лассаль, приличное только ночному сторожу, которого вся задача состоит в ограждении от воров и разбойников. Государство действительно могло бы этим ограничиться, если бы все были равно сильны, равно умны, равно образованны и равно богаты; но так как этого нет, то нравственная идея мещанства ведет неизбежно к тому, что сильнейшие, умнейшие, образованнейшие и богатейшие выжимают соки из слабейших. Напротив, рабочий класс вследствие самого своего беспомощного положения понимает недостаточность мещанской идеи и видит необходимость восполнить личную деятельность солидарностью интересов, общностью и взаимностью развития. В этом он и полагает истинную задачу государства. Последнее представляет собою единение лиц в таком нравственном целом, которое в миллионы раз увеличивает их силы. Поэтому и цель его состоит в том, чтобы соединением сил дать лицам возможность достигнуть таких целей, которых они никогда бы не могли достигнуть собственными средствами. Государство должно воспитать человека к свободе, возвести его на высшую степень образования, сделать истинно человеческую культуру действительностью. Лассаль обещает работникам, что последовательное проведение этого взгляда произведет такой подъем духа и даст человечеству такую сумму счастия, образования, благосостояния и свободы, в сравнении с которою все, что доселе существовало в истории, представляется не более как бледною тенью[291]. Сообразно с этим он утверждает, что столь любимое мещанами понятие о гражданском обществе есть не более как преходящая историческая категория[292]. Все окончательно должно улетучиться в государстве, перед которым бессильны всякие личные и частные права. Личное право получает свое бытие единственно от общего духа и держится только последним; как же скоро общий дух, представляемый государством, требует его отмены, так оно должно исчезнуть, не оставив по себе и следа и не предъявляя притязания ни на какое вознаграждение[293].
С такими же требованиями и ожиданиями обращаются к государству и французские социалисты. Оно должно взять в свои руки все орудия производства и установлением справедливого распределения земных благ уравнять и осчастливить весь человеческий род. Один Прудон, доводя утопию до крайних пределов, воображал, что все общественные отношения могут быть приведены к точности математических формул, с усвоением которых общественным сознанием правительства сделаются излишними. При таком порядке научный социализм должен заступить место власти человека над человеком. Однако и Прудон, объявляя себя анархистом, заменял только государство обществом, которое в его системе является собственником не только всех орудий производства и всех изделий как произведений совокупного труда, но даже и всякой способности, ибо и талант, по его теории, получает свое бытие единственно от общества. Как скоро человек явился на свет, так он себе уже не принадлежит; он играет роль материи в руках мастера. Вследствие этого и произведения труда не принадлежат рабочему; только что они созданы, общество требует их себе. Рабочему не принадлежит и цена их, ибо он состоит в отношении к обществу в положении неоплатного должника[294].
Очевидно, что в этой теории государство уничтожается лишь затем, чтобы восстановиться в исполинских размерах под другим именем. То, что называется анархиею, в сущности не что иное, как самый колоссальный деспотизм. Трудно встретить большую несообразность.
Весь социализм как система представляет собою только доведенный до нелепой крайности идеализм. Таково его место и значение в общем движении человеческой мысли. Все частные силы и цели исчезают здесь в идеальном представлении целого, безусловно владычествующего над частями. Здравый смысл, история и действительность приносятся в жертву утопии. Но самая эта крайность и обнаруживающиеся в ней бесконечные внутренние противоречия должны были произвести реакцию и притом в двояком смысле: реакцию действительности против мечтаний и реакцию свободы против всепоглощающего деспотизма государства. И точно, движение произошло именно в этом направлении: рационализм заменяется реализмом, идее государства противополагается идея общества.
Этот новый период в развитии мысли, который, в противоположность предыдущему ходу, идет не от закона к явлениям, а от явлений к закону, не принес с собою однако новых начал ни в науке, ни в жизни. Начало личности, которое многими противополагалось, как единственно реальное, метафизической идее государства, было уже вполне изведано и исчерпано философиею XVIII века. Понятие об обществе точно так же было всесторонне наследовано в различных школах немецкого идеализма у Краузе, у Гербарта, у Гегеля. Наконец, начало народности, играющее такую видную роль в современной истории, было, как известно, впервые сознано и развито опять же немецким идеализмом. Современные реалисты-практики исполняют на деле только то, что было предначертано их метафизическими предшественниками. Оказалось, что рационализм в своих логических выводах выражал необходимость, лежащую в самой природе вещей. Реализм, развиваясь, в свою очередь становится на различные точки зрения; он переходит один за другим все элементы государства; но все эти шаги представляют только возвращение к тем или другим взглядам, уже известным прежде. И это происходит не от недостатка в исследованиях, а от самого существа дела. Иначе и быть не может, ибо рационализм раскрывает нам то, что лежит в разумной природе человека, а это и составляет источник всех жизненных явлений; следовательно, изучая историю и действительность, мы не найдем ничего другого.
Значение и заслуга реализма состоят не в изыскании новых начал, а в исследовании их приложения. И тут однако он в основных чертах повторяет только то, что уже было добыто его предшественниками. Если были рационалистические школы, которые воображали, что достаточно провозгласить начала, чтобы провести их в жизнь и создать новый порядок вещей, то более зрелый и всесторонний рационализм в себе самом нашел лекарство против столь поверхностного взгляда. Идея развития была со всех сторон разработана метафизикою; опираясь на нее, историческая школа, равно как и философская, вполне выяснили значение места и времени для жизненных явлений. Новому реализму оставалось только следовать по тому же пути. И он сделал это с полною добросовестностью. В настоящее время для всякого, кто имеет какое-нибудь поднятие о науке и практике, стало очевидным, что общие начала не прилагаются к жизни без подготовки, что осуществление их требует местных и временных условий, которые являются плодом народной жизни, а не создаются произвольно. Реалистическою школою эти условия были исследованы с такою полнотою, как никогда прежде. Собрано громадное количество материала; изучен до мельчайших подробностей политический и общественный быт целых стран, которые представляются типическими в том или другом отношении. Реалистическая наука может справедливо гордиться такими произведениями, как сочинение Токвиля об Америке и книга Гнейста об Англии.
Но сильный в исследовании частностей, реализм по самому своему характеру слаб в обработке общих начал, и чем более он отрекается от метафизики, тем он является слабее. Такова судьба всякого одностороннего направления. А между тем именно в общественных науках всего важнее общие начала, ибо они дают смысл явлениям и руководят деятельностью человека. Тут нельзя успокоиться на том, что так делается в мире; надобно знать, действительно ли так делается, как следует? Реалисты не могут избегнуть этого вопроса; но при плохой разработке общих начал нет ничего легче, как дать на него неправильный ответ. И чем более накопляется частностей, тем труднее их осилить и сделать из них верный вывод, тем скорее можно дать неподобающее значение тому или другому явлению. Можно частное принять за общее, временное за вечное, и наоборот. Впасть в ошибку тем легче, что приходится взвешивать выгоды и невыгоды различных учреждений, не имея никакого твердого мерила и никаких признанных всеми весов. Поэтому, на реалистической почве столь же, если не более, возможны односторонние учения, как и на метафизической. Окончательно приходится принимать субъективное мерило за отсутствием объективного, то есть руководствоваться личным вкусом, а вкусы, как известно, разнообразны до бесконечности. Однако и здесь сила вещей берет свое. И тут главные односторонности взглядов определяются присущею самим вещам противоположностью начал. Вследствие этого мы находим здесь ту же самую противоположность, которая является и на рационалистической почве, ибо, как сказано, существенные элементы и здесь и там одинаковы: с одной стороны развивается индивидуалистическая теория, с другой стороны теория нравственная.
Индивидуалистическая теория представляет возвращение к точке зрения XVIII века, но она становится уже на практическую почву. Вместо теоретических разглагольствований о свободе и о правах человека указываются неисчислимые выгоды самодеятельности. Выставляется и типический образец основанного на ней общественного быта — Соединенные Штаты. Эту именно точку зрения во многих своих сочинениях развивал, между прочим, Лабулэ. Все в этой системе предоставляется свободным усилиям общества как совокупности частных лиц; за государством остается только охранение порядка. Это то воззрение, которое Лассаль называл понятиями ночного сторожа и против которого он возражал, что оно было бы приложимо единственно в том случае, если бы все были одинаково сильны, умны, образованны и богаты. Можно прибавить, что оно было бы верно, если бы у всей этой массы лиц, соединенных в общество, не было никаких совокупных интересов, требующих общего управления. Противникам этого взгляда не трудно было исторически и фактически доказать всю пользу, проистекающую от деятельности государства. В такой исключительности это воззрение оказывается вполне несостоятельным. Самодеятельность бесспорно составляет один из существеннейших элементов всякого образованного общежития; но для нее остается весьма значительный простор и без умаления деятельности государства.
В совершенно противоположную крайность впадает нравственная теория. Если в индивидуализме преувеличивается начало свободы, то здесь, напротив, оно чрезмерно умаляется. Нравственная теория, господствующая ныне в Германии, является возвращением на положительной почве к теории Вольфа. Поэтому она страдает теми же коренными недостатками. И в ней происходит смешение нравственности не только с правом, но и с экономическими началами и вследствие того извращение тех и других. Право перестает быть выражением свободы; оно становится орудием для осуществления путем принуждения всех общественных целей, которым во имя нравственного начала вполне подчиняются личные. Это не более как внешняя механика, в которой нуждается нравственность, чтобы осуществиться в мире и найти истинный путь к добру. Право и нравственность представляются с этой точки зрения как две формы одного и того же определения личной воли, одно действующее изнутри, другое извне. Вследствие этого с частным правом произвольно связывается понятие о нравственной обязанности, и частное право возводится на степень публичного. Точно так же и экономическая деятельность перестает быть проявлением личной энергии; она становится исполнением нравственного долга: предприниматель и работник превращаются в должностных лиц, на которых возлагается известное общественное служение. При таком воззрении опека государства принимает все более и более обширные размеры. По выражению Иеринга, одного из главных представителей этого направления, "прогресс в развитии права и государства состоит в постоянном возвышении требований, которые оба предъявляют лицу. Общество становится все прихотливее и взыскательнее, ибо каждая удовлетворенная потребность носит в себе зачаток новой"[295]. Самое государство является здесь только орудием в руках нового Левиафана, Общества, которое представляется столь же беспредельным, сколько неопределенным.
Оно образует цельное органическое или даже сверхорганическое тело, которое простирается на всю землю и заключает в себе все человеческие цели. На возглас лица "мир существует для меня", оно отвечает "ты существуешь для мира! У тебя нет ничего для тебя одного; везде общество является твоим партнером, который требует участия во всем, что ты имеешь, в тебе самом, в твоей рабочей силе, в твоем теле, в твоих детях, в твоем имуществе"[296]. Общество через посредство государства направляет самостоятельные движения всех своих членов и производит из них общее движение, сообразное с сохранением целого и частей, обращая на пользу целого все бесконечное разнообразие случайностей. Оно распределяет каждому права и обязанности, смотря по его призванию и назначение в общем организме, оно устраивает каждый орган и каждое занятие по его внутренней целесообразности в жизни целого. Личный элемент должен быть воспитан для общей задачи, соединен с другими элементами в одну совокупную силу и слит с ними в единое мышление, чувство и волю. Одним словом, отдельное лицо становится тут органом мифического тела; свобода состоит единственно в исполнении общественного назначения. По теории Шеффле. реальною наименьшею единицею является даже вовсе не лицо, а учреждение, составленное из лиц и имуществ; лицо же получается только путем анализа и отвлечения. Это и не более как элемент общественной ткани[297].
Столь чудовищные выводы очевидно совпадают с требованиями социалистов. Нравственный реализм подает руку самому крайнему идеализму. В этом выражается глубочайшее внутреннее его противоречие. В самом деле, эта школа хочет держаться на реальной почве, а между тем исходною точкою служит для нее начало вовсе не реальное, а идеальное, и во имя этого начала она хочет переделать весь действительный мир. Отсюда двойственное направление у представителей этой школы: с одной стороны, они хотят нравственность, а с нею и право превратить, вопреки существу их, в чисто реальные начала; с другой стороны, стараясь уловить нравственность, которая есть обращенное к действительности метафизическое требование, они принуждены возвышаться в покинутый ими идеальный мир и там тщетно искать какой-нибудь твердой опоры для своих представлений. Особенно ярко это противоречие выразилось у Шеффле. Он признает, что "живая этика, сила нравственности и права, имеет свою последнюю опору в неизгладимой отличительной черте нашего человеческого существа. Без действия идеалистических мотивов история культуры не могла бы сообщить нравственное направление нашему эмпирически человеческому общественному быту". Нравственность и право, говорит он далее, "развиваются из своего зародыша, из априорных элементов человеческого духа". Но рядом с этим он утверждает, что "хотя факты этики развиваются под могучим влиянием идеального и религиозного стремления нашей духовной природы, однако же по своему содержанию они принадлежат к эмпирическому развитию нашей общественной природы. Материальные начала этики имеют эмпирический характер". И эта последняя точка зрения приводит его, наконец, к тому, что он прямо отвергает всякие, по его выражению, трансцендентальные подтасовки: "Мы отрекаемся, — говорит он, — от всякого мистического объяснения права и нравственности и основываем оба начала на духовной и физической силе, точнее, на стремлении к самосохранению исторических носителей физического и духовного превосходства"[298]. Выше мы видели у Иеринга вывод права из силы и все проистекающие отсюда несообразности и колебания; здесь же самая нравственность выводится из силы, притом не только умственной, но и физической. Трудно найти пример более уродливого извращения понятий.
Очевидно, что эти две противоположные школы, развивающиеся на почве реализма, представляют собою два противоположные элемента человеческого общежития; ясно и то, что для правильного понимания общественных отношений требуется их сочетание. В действительности это сочетание всегда существует; всесторонне изучая явления, мы найдем в них все то разнообразие отношений, которое вытекает из взаимодействия обоих элементов. Но уже самое это разнообразие указывает на необходимость высшего мерила. Мы не можем довольствоваться действительностью; мы должны обсудить самую закономерность действительности, а для этого необходимо от явлений возвыситься к началам. Сочетание противоположностей с точки зрения чисто практической не в состоянии привести ни к чему, кроме эклектического сопоставления разнородных систем на основании личного вкуса; ибо, как уже было замечено выше, там, где нет общего мерила, от личного вкуса зависит, которому из бесчисленного множества частных соображений мы отдадим предпочтение. Для того чтобы от субъективных взглядов возвыситься к объективным, от случайного и внешнего сочетания элементов к систематическому пониманию внутренней их связи, нужно установить твердые начала, которые могли бы служить нам руководством при обсуждении явлений. А для этого, в свою очередь, необходимо отрешиться от чисто реалистической точки зрения и вступить в область метафизики. Ибо те начала, на которых строится человеческое общежитие, свобода, право, нравственность, суть начала метафизические, имеющие свой корень в метафизической природе человека, раскрываемой нам самосознанием. Только там мы найдем и причину явлений, и мерило для их оценки.
Предшествующее развитие философской мысли дает нам уже все данные для решения этой задачи, а подвинутое реализмом изучение явлений истории и жизни служит им проверкою и подтверждением. Мы имеем тут два пути, восполняющие друг друга, и оба равно необходимые. Ибо только те начала имеют в себе внутреннюю силу, которые способны осуществиться в действительном мире; идеалы не падают с неба, а служат высшим выражением того, что готовится жизнью. А с другой стороны, в бесконечном разнообразии действительности, где в беспрерывно изменяющихся сочетаниях перемешиваются добро и зло, только те явления заслуживают одобрения и подражания, которые соответствуют признанным разумом началам общественного порядка. Только в этих началах человек может обрести руководство и для своей дальнейшей деятельности, ибо они одни указывают ему не только то, что есть, но и то, что должно быть. Таким образом, сочетание умозрения и опыта, восполняющих друг друга, одно в состоянии дать человеку твердые основания как для теоретического понимания явлений, так и для практической деятельности, и только в этом сочетании можно обрести тот высший синтез всех общественных наук, к которому стремится современная мысль.
На этой почве нас занимает прежде всего вопрос о значении государства и об его отношении к обществу. Что же такое государство? Каковы его природа и свойства?
Мы видели, что к обществу вообще и к экономическому обществу в особенности понятие об организме неприложимо. Посмотрим, приложимо ли оно к государству, и если приложимо, то в каком смысле? Идеалистическая философия выработала это понятие, противопоставив его индивидуалистическому взгляду, который видит в государстве одно внешнее соединение лиц, сохраняющих каждое свою самостоятельность и связанных единственно договором. Оправдывается ли это воззрение фактами?
Организмом в собственном смысле мы называем единое тело, которого части служат органами целого или орудиями для его жизненных отправлений. Следовательно, понятие об организме приложимо единственно к такому предмету, который представляется как единое тело, имеющее внутреннюю жизнь, или как живая особь. Таково ли государство?
Государство есть постоянный союз лиц, действующих как одно целое. Это факт. Все государства в мире носят на себе этот признак. В этом смысле можно сказать, что государство составляет единое общественное тело. Но этот термин употребляется здесь только в переносном значении. Телом в собственном смысле называется вещь, которой части имеют постоянную физическую связь. Такой связи нет между особями, образующими государство. Каждая из них живет и движется отдельно от других. Тут связь не физическая, а духовная. Поэтому государство может быть названо телом только в переносном смысле, не как физическое, а как духовное тело. В чем же состоит эта связь?
Она не дается единством физического происхождения. Последнее, бесспорно, рождает общность народного духа, которая составляет важнейшую опору государственного порядка; но само оно не образует политической связи. Люди, принадлежащие к одной народности, могут быть членами разных государств, и наоборот, одно и то же государство может заключать в себе разные народности. Эти два начала не совпадают.
Постоянная связь не дается и единством интересов, хотя последнее составляет также необходимое условие для установления прочного государственного союза. Единство интересов существует и между различными государствами, находящимися в постоянных торговых отношениях или имеющими общих врагов. Для установления политической связи нужно, чтобы к единству интересов прибавилось нечто иное.
Недостаточно и единства мыслей и верований. На этом начале может основаться не конкретный, а отвлеченный человеческий союз, представляющий постоянную связь мыслей и чувств, а не действий. Такова по существу своему церковь; это союз верующих, соединенных общим отношением к Божеству. Однако и церковь не ограничивается такого рода отвлеченным единством; в конкретных своих проявлениях она к единству веры присоединяет единство управления, то есть к общению мыслей присовокупляется союз воль.
Последнее и составляет истинное основание всякого прочного общественного соединения. Общественная связь состоит в том, что люди соединяют свои воли для совокупного действия. Из такого соединения образуется единое целое, когда в нем установляется единая постоянная воля, которая считается волею всего союза и которой подчиняются воли отдельных членов. Подобный союз можно в переносном смысле назвать духовным или нравственным телом, принимая слово "нравственный" в смысле всего, что относится к воле, а таково именно государство.
Отсюда ясно, что понятие об организме приложимо единственно к такому союзу, в котором существует единство воль, ибо только подобный союз образует то, что можно назвать общественным телом. Но при этом всякое уподобление физическому организму, а тем более всякие построения на основании аналогий, совершенно неуместны. Физическая связь, соединяющая части материальной особи, тут не существует, а есть связь совершенно иного рода и связь нравственная, из которой вытекают своего рода отношения, не имеющие ни малейшего подобия в материальном мире.
Сущность этих отношений состоит в том, что соединяются свободные лица, из которых каждое, с одной стороны, является само себе целью и абсолютным центром своих действий, а с другой стороны, признает над собою господство высшего закона, связывающего его волю с волею других. Оба эти начала, свобода с вытекающим из нее правом и господствующий над нею нравственный закон, в основании своем суть начала метафизические, а так как ими определяются все общественные отношения, то очевидно, что мы вращаемся здесь в чисто метафизической области, совершенно выходящей из пределов физических явлений. А потому чем более мы отрекаемся от метафизики, тем менее мы поймем общественные отношения. Отсюда все несообразности современной социологии.
Метафизическими началами определяется и общественное единство. То целое, которого свободные лица являются членами, не есть нечто видимое и осязаемое, как физическое тело; единство тут чисто мыслимое. А между тем мы этому мыслимому существу присваиваем права и обязанности, мы признаем его лицом, мы приписываем ему волю, и хотя в действительности эта воля может выразиться только в воле единичных особей, однако мы волю этих особей признаем волею целого; и только на этом основании мы ей подчиняемся, ибо воля другого единичного существа для нас нисколько не обязательна. Отсюда учение о так называемых юридических или нравственных лицах, которые можно назвать юридическими фикциями, но фикциями, вытекающими из самой природы вещей. Для последователей реализма они остаются совершенно непонятными, а между тем они созданы и поддерживаются жизненною необходимостью.
В самом деле, все это бесконечно сложное метафизическое построение, все это признание невидимых и неосязаемых, реально не существующих, а чисто воображаемых лиц, не есть одно пустое мечтание. Это мировой факт. Человечество этим искони жило, живет и всегда будет жить, ибо эти начала составляют неизгладимую потребность его сверхчувственной природы. Даже в наш реалистический век эта потребность проявляется с неотразимою силою. Господствующее ныне начало народности не что иное, как стремление превратить общую, неопределенную духовную стихию в единое, хотя и мыслимое лицо, представляющее собою всю последовательную цепь сменяющихся поколений. Этому метафизическому лицу под именем отечества человек всегда приносил и готов приносить в жертву все свои блага, даже самую свою жизнь. С этого мирового факта современные социологи взяли и свое понятие об общественном организме; но стараясь метафизический факт низвести на степень физического явления, они извращают его существо, и на место идеальной действительности ставят только уродливые создания собственного воображения. Чем же определяется в человеческих обществах отношение их членов к идеальному целому? Тем началом, которое связывает лица и составляет основание их соединения, а именно, тою целью, которая имеется в виду. Люди соединяют свои воли для совокупного действия, а всякое действие предполагает известную цель; во имя общей цели свобода подчиняется закону. Эти цели могут быть разнообразны; они бывают частные и общие, временные и постоянные. Отсюда бесконечное разнообразие союзов. Временная цель образует случайные и преходящие соединения; постоянная цель создает прочные союзы. Если цель идет на несколько поколений, то установляется юридическое лицо, которое сохраняется неизменным при непрерывной смене входящих в состав его физических лиц. Через это оно получает объективное, независимое от их воли значение. И чем необходимее цель, чем она шире и чем глубже она лежит в потребностях человеческой природы, тем более объективный характер получают основанные на ней союзы. Вновь появляющиеся на свет лица рождаются уже их членами и пребывают в них в течение всей своей жизни. Тут образуются связи, которые, не уничтожая свободы человека, охватывают однако все стороны его существования. Подобные союзы перестают уже быть созданиями субъективной воли; они становятся объективными явлениями всемирного духа, к которым лицо примыкает и в которых оно находит исполнение своего человеческого назначения.
Из всех этих целей высшая — цель государственная; поэтому государство является верховным союзом на земле. Все другие цели — частные и ограниченные. Цель семейного союза состоит в счастии преходящих существ, с смертью которых союз разрушается и заменяется новым. Цели гражданских союзов все имеют характер частный или местный. Цель союза церковного по своему нравственному значению — высшая, какая существует для человека; но она точно так же имеет характер односторонний и отвлеченный: она ограничивается нравственно-религиозною областью и не простирается на то бесчисленное сплетение отношений, которое образует светское общество и управляется началами права. Одна государственная цель совокупляет в себе все общественные интересы. В ней неразрывно связываются оба противоположные начала общежития, нравственность и право. Через это однако нравственность в собственном смысле не делается принудительною, ибо личная нравственность остается вне сферы государственной деятельности. Но осуществляя общее благо, которое есть нравственное начало, государство тем самым дает нравственности объективный характер; оно вносит ее в область юридическую. Для частного лица нравственная деятельность составляет явление его свободы; для государства и его органов осуществление общего блага составляет не только нравственную, но и юридическую обязанность.
Это понятие о государстве как о верховном союзе, соединяющем в себе все общественные цели, было развито идеалистическою философиею, и оно вполне соответствует явлениям жизни. Все государства в мире всегда так понимали свою задачу и действовали в этом смысле. Стремление же ограничить деятельность государства тою или другою областью всегда было плодом одностороннего развития мысли, которое шло наперекор действительности и устранялось более полным пониманием предмета.
Это не значит однако, что цель государства должна поглощать в себе остальные. Напротив, все частные цели остаются каждая в своей сфере, ибо только через это сохраняются и свобода человека, и самостоятельность отдельных союзов. Государство же берет на себя исполнение той совокупной цели, которая осуществляется совокупными силами. Государство есть союз, воздвигающийся над другими, а не поглощающий их в себе. Но для того чтобы сохранялась гармония в целом, необходимо, чтобы частные цели подчинялись общей. Поэтому государство должно властвовать над другими союзами. В этом именно состоит его отличительный признак. Государство есть союз, облеченный верховною властью.
По идее, эта власть принадлежит целому над частями. Именно поэтому она и есть верховная. Но так как целое есть лицо мыслимое, а не реальное, то оно нуждается в органе, выражающем его волю. Это опять одно из тех метафизических представлений, которые необходимо вытекают из самого существа предмета.
Устройство этого органа может быть различно. Власть может сосредоточиваться в одном лице или присваиваться многим; она может даже образовать целую систему учреждений, призываемых к совокупному решению. Об этом будет речь ниже. Но каково бы ни было ее устройство, верховная власть одна не в состоянии осуществлять государственную цель. Она в свою очередь нуждается в органах, из которых каждый имеет свое назначение, сообразно с расчленением самой государственной идеи, или той совокупной цели, которую требуется осуществить. Отсюда возникает система органов, или организм учреждений, замещаемых лицами, которые являются служителями государства, призванными исполнять верховную его волю. Вследствие этого государство может быть названо организмом, причем однако не надобно забывать, что это организм не физический, а нравственный, основанный на единении воль. Идея тут иная, нежели в физическом организме, а потому и расчленение иное. Всякие аналогии тут опять неуместны.
Этим органическим строением не исчерпывается однако существо государства. Кроме органического элемента есть в нем и элемент неорганический. Государство не представляет собою только систему учреждений, это союз свободных лиц, а свобода по существу своему есть начало неорганическое. Свободное лицо не может быть только органом целого, единицею, занимающею указанное ей место и исполняющею указанное ей назначение. Оно — само себе цель и абсолютное начало своих действий. Таковым оно остается и в государстве. Повинуясь верховной его власти, оно сохраняет в значительной степени право действовать по собственному усмотрению и по собственной инициативе. Если это право ему не предоставлено, то свобода исчезает. Поэтому во всяком государстве несмотря на органический его характер всегда существует область, где частное преобладает над общим, и чем шире свобода, тем обширнее эта область. Это относится не только к сферам, принадлежащим к другим союзам, но и к чисто политическим отношениям. Влияние общественного мнения, газеты, политические собрания, партии, все это — явления неорганической стороны политического порядка. Жизнь государства состоит во взаимодействии обоих элементов, причем однако органическое начало всегда должно оставаться преобладающим, ибо оно составляет истинное существо политического союза. Свобода настолько может получить в нем простор, насколько она способна сочетаться с органическим началом. Только в революционные времена неорганический элемент берет перевес; но именно поэтому подобный порядок не может быть продолжителен. Революции являются лишь переходными моментами в государственной жизни и скоро уступают место нормальному ходу, который состоит в правильном развитии законного порядка. Государство как организм держится преобладанием органического строя над бродячими стихиями, а так как этот организм осуществляет в себе высшие цели человека, то прочность органического строения составляет самый существенный интерес граждан.
Таковы основные черты политического союза. Совершенно иной характер имеет гражданское общество. Для того чтобы определить его значение, мы должны прежде всего рассмотреть: что называется обществом в отличие от государства? Этот вопрос имеет существенную важность именно в настоящее время, где под именем общества воздвигаются всякого рода туманные представления, посредством которых стараются уничтожить самостоятельное значение лица. Точное установление понятий тут вдвойне необходимо.
Обществом в обширном смысле называется всякое постоянное и даже временное человеческое соединение, в какой бы форме оно ни происходило. В этом смысле государство будет известного рода обществом. В этом смысле можно говорить о человеческом обществе как о явлении, обнимающем все человечество. Но это не более как самое отвлеченное родовое название, в котором не заключается ничего, кроме обозначения известной связи между людьми. Между тем именно это отвлеченное понятие принимается некоторыми современными писателями за реальное тело, даже за организм, которому приписываются известные требования и права над отдельными лицами.
Это воззрение возникло впервые на почве идеализма. В этой области при некоторой неясности мыслей легко было смешать отвлеченное понятие с действительным предметом. Именно это и произошло в школе Краузе, у которого смутные представления об организме и органических отношениях слишком часто заменяли точность определений. Один из самых выдающихся представителей этой школы, Аренс, видит в обществе внешний организм человечества, который в свою очередь развивается в двойном ряде организмов: с одной стороны, в личных союзах, идущих в восходящем порядке от единичного лица к целому человечеству, с другой стороны, в частных организмах, осуществляющих в себе различные человеческие цели. К числу последних принадлежит и государство, задача которого состоит в осуществлении права. Таким образом, государство является как будто отдельным, частным союзом среди других, и таким именно оно признается Аренсом. Но так как под именем права в этой школе разумеется совокупность всех зависящих от человека условий для осуществления человеческих целей, то с этой стороны государство становится верховным распорядителем всех общественных сфер. Оно не только доставляет им все нужные средства для исполнения их назначения, но оно сохраняет между ними должный порядок, удерживая каждый отдельный организм на принадлежащем ему месте и устанавливая между ними органические отношения. Вследствие этого Аренс прямо говорит, что "конечная цель государства столь же всеобъемлюща и всемирна, как и самое человеческое назначение"[299].
Это идеалистическое воззрение, которое грешит, с одной стороны, смутным представлением об организме, с другой стороны, неверным определением права, а вследствие того и государства, было усвоено реалистами нравственной школы. Но у последних отвлеченное понятие об обществе превратилось уже в общественное тело, развивающее из себя свои элементы и органы наподобие физического организма. Мы видели те безобразные представления, к которым эти аналогии привели Шеффле. Государство является здесь центральным аппаратом, органом воли и силы, аналогическим с центральною частью двигательной нервной системы. Только неполному еще развитию совокупного тела человеческого рода приписывается то, что эти центральные органы являются пока рассеянными и самостоятельными, в виде отдельных государств: с дальнейшим совершенствованием все эти разбросанные части должны совокупиться воедино, и тогда, без сомнения, установится один общий центральный орган для всего человечества[300].
Можно спросить: где же мы обретаем совокупное органическое тело, если все части доселе находятся в разброде? Никто никогда не видал, чтобы руки и ноги или части нервной системы и мускульной возникали отдельно и затем соединялись в общий организм. Сам Шеффле, говоря о развитии человечества, уподобляет его не росту отдельного организма, а развитию целого животного царства, над которым в дальнейшем движении воздвигается новое царство личностей. Но разве животное царство составляет единый организм? Почему же царство личностей вдруг превратилось в единое общественное тело? Напрасно Шеффле ссылается на то, что в человеке заложены такие способности, в силу которых "раздробленное и преходящее единство органической жизни может переходить и действительно переходит в нового рода общение жизни, обнимающее всю землю и не прекращающееся в течении всей земной истории"[301]. В действительности мы не видим такого всеобъемлющего общения, которое бы из всего человеческого рода образовало единое общественное тело. Можно спорить о том, считать ли это представление идеалом будущего или нет, но нельзя говорить о нем как о чем-то существующем и строить на этой гипотезе целое фантастическое здание. И это выдается за реализм!
Того же направления держится и Иеринг. Он определяет общество как "действительную организацию жизни для и через других я — в силу того, что единичное лицо только через других есть лучшее, что оно есть, — вместе с тем как необходимую форму жизни для себя; поэтому оно в действительности составляет форму человеческой жизни вообще. Человеческая и общественная жизнь равнозначительны". Отсюда Иеринг выводит, что "понятие об обществе только отчасти совпадает с понятием о государстве", именно "настолько, насколько общественная цель для своего осуществления нуждается в принуждении. А в этом она нуждается лишь в незначительной степени… Государство с своим правом вмешивается только здесь и там, насколько это неизбежно, чтобы предохранить от нарушения тот порядок, который эти цели сами себе создали"… "Но и географически, — продолжает Иеринг, — области общества и государства не совпадают; последнее кончается пределами своей территории, первое распространяется на всю землю. Ибо положение "каждый существует для других" имеет силу для всего человечества, и направление общественного движения неудержимо идет к тому, чтобы осуществить его географически все в больших размерах". Однако же это самое стремление ведет и к расширению государства. Общество, говорит Иеринг, должно иметь гарантии, что каждый на своем месте будет исполнять то требование, на котором зиждется все бытие общественного союза, требование, выражающееся в формуле "ты существуешь для меня"! Эти гарантии оно находит в принуждении. Поэтому, "собственно говоря, государство и общество должны бы друг друга покрывать, и как последнее распространяет свои руки на всю землю, так и государство, если бы оно захотело быть тем, что оно есть по своей идее, должно бы обнимать весь мир". К этому на деле и стремится государство, которое идет все расширяясь; "будущность человеческого рода состоит в постоянно возрастающем сближении между государством и обществом до тех пор, пока рука об руку с обществом государство распространится на всю землю". Вместе с тем государство должно поглотить в себе и все цели общества. "Если, — говорит Иеринг, — можно сделать заключение от прошедшего к будущему, то в конце вещей оно воспримет в себя совокупное общество". И оба вместе в этом процессе постоянно возвышают свои требования в отношении к лицу; общество становится все прихотливее и требовательнее, пока наконец лицо в отчаянии восклицает: "Довольно притеснения! Я устало быть вьючным скотом общества! Между мною и им должна существовать граница, за которою оно не вправе вмешиваться в мои отношения, область свободы, которая исключительно должна принадлежать мне и которую общество обязано уважать". Но общество, опираясь на реалистическую науку, отвечает, что такой области нет и что напрасно ее искать[302].
Мы видим здесь, каким образом нравственное правило, что каждый существует для других, правило, обращающееся к человеческой совести и осуществляемое посредством человеческой свободы, в руках реалистической науки превращается в собирательное существо, которое предъявляет лицу свои требования и эти требования проводит путем принуждения до тех пор, пока, наконец, охватывая человека со всех сторон и не оставляя ему ни единой точки, где бы он мог свободно вздохнуть, оно душит его в своих объятиях. Подобное общество было бы чем-то ужасающим для свободного существа, если бы оно не было чистым мифом. Это и было замечено Иерингу Даном.
Сам родоначальник или по крайней мере один из родоначальников органической теории, Аренс, в позднейшее время увидел несостоятельность того понятия об обществе, которое он полагал в основание своей системы. Он старался заменить его более конкретным представлением. "Понятие об обществе, — говорит он, — есть нечто туманное, отвлеченное и чисто формальное, которое должно получить свое содержание лишь от живого целого. Это высшее живое целое есть народ в единстве своей естественно-духовной совокупной личности… Государством не исчерпывается весь жизненный порядок народа. Этот порядок образует единый в себе и расчленяющийся совокупный организм; в котором, подобно тому что происходит и в физическом организме человека, существует столько особых организмов с центральными органами, сколько есть существенно различных отправлений для главных жизненных целей. Все эти организмы захватывают друг друга; государство же между ними является как юридический порядок силы и власти, который посредством единства и общности права дает совокупной народной жизни внешним образом познаваемое, единое и замкнутое в себе совокупное устройство"[303].
Как видно, ложный взгляд Аренса на право и государство остался прежний. Но понятие об обществе изменилось значительно к лучшему.
Здесь мы имеем уже осязательный предмет для мысли и исследования; из туманных отвлеченностей мы спускаемся в область действительности. Народ не есть отвлеченное понятие, это живая единица, существующая и действующая в истории. Но тут возникает вопрос: что такое народ в отличие от государства? И можно ли действительно признавать его цельным организмом?
Слово народ, как известно, имеет двоякое значение: этнографическое и политическое. Народом в этнографическом смысле называется совокупность людей, имеющих общее происхождение и говорящих одним языком. Здесь связью единиц является общая духовная стихия, не имеющая никакой внешней организации, но по этому самому подобная единица не может быть названа ни организмом, ни телом. Как уже было замечено выше, одна и та же народность может входить в разные государства, и наоборот, в одном государстве могут быть разные народности. Для того чтобы народ в этнографическом смысле образовал то, что может называться единым телом, или общественным организмом, надобно, чтобы он сделался народом в политическом смысле, то есть чтобы он устроился в государство. Но здесь организация состоит именно в образовании государства, следовательно, она не существует помимо его. Поэтому нельзя говорить о народе как организме, которого государство есть часть, а можно говорить о государстве как организме, в котором проявляется известная народность. Государство есть именно народ как единое целое.
Справедливо однако, что в этом целом кроме государственного устройства есть и другие элементы, и здесь-то мы должны искать истинного понятия об обществе в отличие от государства. Сам Аренс кроме общества в обширном смысле, заключающего в себе все отправления народной жизни, признает и общество в тесном смысле, которое он определяет как договорное соединение лиц для достижения совокупной цели совокупными усилиями[304]. Общественным правом он называет нормы, определяющие деятельность этих мелких единиц. Однако Аренс не развил этой точки зрения, становясь на нее, он усвоил себе только то, что с гораздо большею полнотою было выработано Робертом Молем, который понятие об обществе как совокупности частных союзов противопоставил, с одной стороны, отдельным лицам, с другой стороны, государству как единому целому.
Моль различает в каждом человеческом обществе, составляющем самостоятельный союз, три различные сферы или состояния: 1) многообразие отдельных личностей и их взаимные отношения; 2) организованное их единство, связывающее отдельные воли в совокупную волю, вооруженную совокупною силою и преследующую совокупные цели, это и есть государство; 3) стоящие между обоими постоянные, самородные частные союзы (naturwuchsige Genossenschaften), центром которых служит известный интерес. Эти союзы могут быть организованные и неорганизованные; во всяком случае как самородные создания, группирующиеся около отдельного интереса, они существенно отличаются как от единичного лица, которое всегда остается само себе центром, так и от государства, представляющего единство целого. Совокупность их Моль называет обществом в тесном смысле. Сюда он причисляет сословия, общины, расы, общественные классы, возникающие из отношений труда и собственности, религиозные общества и т. д.[305]
Против этого взгляда последовали однако весьма существенные возражения. Они хорошо изложены у Трейчке[306]. Прежде всего не видать, что есть общего во всех этих союзах? То, что каждый из них представляет собою известный интерес, не может служить связующим признаком, ибо интересы могут относиться к совершенно разнородным сферам, например интересы религиозные и экономические. Не может служить общим признаком и тождественность устройства, ибо одни из них организованы, а другие нет. Наконец, если эти союзы существенно отличаются от государства, то не видать, где граница их в отношении к частной жизни. Выставленные Молем отличительные черты, как то постоянство, значительность, распространение, как чисто количественные определения недостаточны для отделения этих союзов от частных товариществ и соединений, которые управляются началами частного права. В особенности неорганизованные совокупления лиц ничем не отличаются от частных отношений. Отсюда Трейчке выводит, что под именем общества надобно разуметь не одни постоянные союзы, но и всю совокупность частных отношений. В противоположность государству, которое представляет собою единство народной жизни, обществом будет называться совокупность "разнообразных частных стремлений частей народа, та сеть всякого рода зависимостей, которая возникает из оборота" (стр. 81). В государстве господствует начало общее, в обществе — частное. Отсюда и разделение права на публичное и частное. Конечно, граница между ними подвижная: во всякое время могут встретиться посредствующие члены, о причислении которых к публичному или к частному праву можно спорить. Некоторые из них могут даже носить смешанный характер, но из этого не образуется самостоятельная юридическая область, управляемая своеобразными нормами. Существующее и признанное всеми разделение достаточно.
Почти к тем же результатам приходит и Лоренц Штейн в своих исследованиях об обществе. Он точно так же исходит от противоположности между отдельным лицом и единством лиц. Оба элемента являются как постоянные, непреложные факторы общественной жизни, состоящие друг к другу в необходимых отношениях, которые истекают из самой их природы. Лицо представляет самостоятельную единицу, но для достижения своих целей оно нуждается в соединении с другими. Соединение отдельных лиц с отдельными лицами в области материальной образует народное хозяйство, в области духовной — общество. Вследствие органического характера как лица, так и окружающей его внешней природы, общество является организмом, в котором каждое лицо по своей природе остается само себе целью и старается свои отношения к другим обратить на собственную пользу. Это начало, в силу которого каждый член общества все относит к себе, называется личным интересом, оно проникает все общественные отношения. Общество исходит от лица и возвращается к лицу; высшее развитие лица и удовлетворение его интересов составляет здесь верховную цель. Между тем интересы лиц друг другу противоположны. Отсюда возникает борьба, которая неизбежно ведет к распадению общества. А так как подобный исход противоречит собственным задачам человека, то из этого рождается необходимость нового, высшего начала, которое бы сдерживало противоположные интересы и имело в виду благо не частей, а целого. Такое начало является в государстве. В нем осуществляется новый организм, возвышающийся над разнородными стремлениями общества, а потому независимый от последних и имеющий начало в самом себе. Такого рода организм называется личностью. Поэтому можно определить государство как единство людей, ставшее самостоятельною и самодеятельною личностью. Эти два организма, общественный и государственный, неразрывно связаны друг с другом; взаимным их отношением определяется все историческое движение народов[307].
В этом учении Штейна мы видим дальнейшую разработку начал, положенных уже Гегелем, который, как известно, изображал развитие общественных союзов в трех ступенях. Первую составляет семейство, союз естественный, где общее начало и личное находятся еще в состоянии первобытной слитности. Вторую образует гражданское общество, где лицо, выделившись из семейства, становится самостоятельным центром и вместе с тем вступает в частные отношения с другим таковым же лицом. Здесь развивается система частных потребностей, которая определяется правом и завершается возникновением частных союзов, или корпораций. Наконец, третью ступень составляет государство как высший организм, осуществляющий идею общественного единства[308]. Гегель шел чисто умозрительным путем, развивая логически определения идеи, но здесь, как и везде, правильное логическое построение совпадает с действительностью. Изучая фактические явления и распределяя их по внутренним признакам, мы приходим к тем же самым результатам, как и умозрительная философия.
Гегель не назвал однако гражданского общества организмом, подобно Штейну, он это название присвоил исключительно государству, и в этом он был прав. Если гражданское общество представляет некоторые явления, указывающие на распределение различных общественных отправлений между различными группами людей, каковы, например, сословия, то все же нельзя назвать организмом такое устройство, где части преобладают над целым и где отдельное лицо с его частными правами и интересами составляет основное начало. В гражданском обществе неорганический элемент преобладает над органическим, тогда как в государстве, как мы видели, происходит обратное явление.
Точно так же Гегель был прав, когда он в гражданское общество ввел систему экономических отношений, управляемых юридическими нормами. Штейн отделяет экономический порядок от общества, принимая последнее только как известное устройство порядка нравственного, но он тут же признает, что в обществе порядок духовной жизни установляется под влиянием собственности и ее распределения, и сам он далее определяет общество как порядок, возникающий из взаимодействия материального и чисто духовного порядка. Содержание понятия об обществе, говорит он, получается только тогда, когда мы исследуем взаимное отношение обоих его факторов[309].
В противоположную односторонность впадают те, которые понятие об обществе ограничивают исключительно экономическим производством, как делает, например, Эшер[310]. Экономический интерес составляет, бесспорно, один из важнейших элементов в гражданских отношениях, но им не исчерпывается их содержание. Лицо имеет и другие интересы, которые оно осуществляет частным образом под охраною права, и все это входит в область того, что в противоположность государству можно назвать обществом. Если мы, держась опытного пути, отправимся от различения явлений по их существенным признакам, то всего вернее определить общество вместе с Трейчке как совокупность частных отношений, возникающих из свободной деятельности лиц. Но в таком случае следует различить политическое общество и гражданское, ибо и в политическом союзе, как мы видели, есть частные отношения, возникающие из свободной деятельности лиц. С этой точки зрения мы политическим обществом в тесном смысле назовем то, что мы выше назвали неорганическим элементом государства, то есть свободную деятельность лиц на политическом поприще. Гражданским же обществом мы назовем совокупность отношений, принадлежащих к частной сфере и определяемых частным правом. Это и есть область противоположная государству, вследствие чего последнему следует противополагать не общество вообще, а именно гражданское общество. Эта противоположность лежит в самой природе вещей. Философски она полагается логически необходимою противоположностью частного и общего, членов и целого, свободного единичного лица и общего духа, юридически она выражается в признанной всеми мировой противоположности частного права и публичного, наконец, фактически — в противоположении частной жизни общественной. Каждый из этих двух противоположных, но равно необходимых элементов человеческого сожительства образует свой особый мир человеческих отношений: люди, с одной стороны, относятся друг к другу как отдельные лица к отдельным же лицам, с другой стороны, состоя членами общих духовных союзов, они относятся к последним как члены к целому. И эти двоякого рода отношения всегда должны существовать рядом, не уничтожая друг друга. Без первых исчезает самостоятельность, следовательно, и свобода лица, без последних исчезает единство. Мы видим здесь приложение того, что уже было указано выше, когда мы говорили о свободе.
Но так как эти две области находятся в постоянном взаимодействии, то между ними неизбежно образуются посредствующие формации. С одной стороны, из среды гражданского общества возникают частные союзы, имеющие постоянный, а потому более или менее публичный характер, с другой стороны, государство, подпадая под влияние этих союзов или превращая их в свои органы, дает им политическое значение. Отсюда двойственный характер этих союзов, вследствие которого Моль хотел дать им особое место в области юридических наук. Сюда принадлежат, например, сословия, которые отличаются друг от друга и гражданскими, и политическими правами, вследствие чего их относят то к частному, то к публичному праву. Характер их не всегда одинаков. Есть эпохи, когда сословия имеют преобладающее политическое значение, и другие, когда они нисходят на степень простых гражданских состояний, подлежащих общему праву. Точно так же и местные союзы, общины, в течении исторической жизни изменяют свою юридическую природу. Они могут быть патриархальными, когда в обществе господствует родовой быт, договорными, когда отношения зиждутся на частном праве, наконец, государственными, когда они становятся членами и органами высшего политического союза. Все эти изменения проистекают оттого, что исторически изменяются самые отношения гражданского общества к государству. Первое может либо подчиняться последнему до того, что оно теряет свою самостоятельность, либо наоборот, оно может поглощать в себе государство, или же, наконец, оба союза могут стоять рядом, так что гражданское общество подчиняется государству, но сохраняет при этом свою относительную самостоятельность. Об этом мы подробнее поговорим ниже.
Из всех этих свободно возникающих частных союзов есть однако один, который имеет совершенно особенный характер, именно, церковь. Аренс, Моль и Штейн не выделяют ее из ряда других общественных союзов, но уже Трейчке заметил, что если нельзя смешать ее с государством и отнести ее к области политического права, то, с другой стороны, "серьезные сомнения насчет уместности отнесения ее к частному праву возбуждаются и первоначальным соединением права и религии у всех народов, и тою ролью, которую церковь играла и до сих пор играет как политическая сила и, наконец, тою особенностью, которая отличает ее от всех других союзов, обращенных на духовные интересы, ее способностью двигать и управлять массами и даже целыми народами" (стр. 56). В особенности явление римско-католической церкви, существующей в течение тысячелетий как единое, цельное тело, распространяющееся на всю землю и заключающее в себе многие государства, приводит Трейчке к убеждению, что в настоящее время публичное право христианских народов распадается на две параллельных отрасли, на государственное и на церковное право.
Надобно к этому прибавить, что публичность в обоих случаях — совершенно различного рода. Государство обнимает все стороны человеческой жизни, церковь — только одну; государство есть союз принудительный, церковь — союз свободный. С этой стороны церковь имеет признаки общие с гражданским обществом, она стоит с ним на одной почве, и, так же как последнее, она во внешних своих отношениях подчиняется государству. Но, с другой стороны, она является прямо противоположною гражданскому обществу. Там господствует интерес частный, тут — интерес всеобщий; там лица относятся друг к другу как самостоятельные единицы к самостоятельным единицам, здесь все они связываются в единое духовное тело общим отношением к Божеству. По идее, церковь есть установление всемирное, только в силу человеческого несовершенства она распадается на отдельные союзы и в низшей своей форме является даже как частное товарищество. Мы имеем здесь указанную философиею противоположность частного и отвлеченно общего начал, и оба эти начала как сами по себе, в силу внутренней своей ограниченности, так и вследствие противоречий, возникающих из отношения их друг к другу, ведут к необходимости высшего, связующего их единства. Это высшее единство представляется государством, которое, соединяя в себе нравственное начало, осуществляемое церковью, с юридическим началом, которым управляется гражданское общество, подчиняет оба противоположные союза единой общественной цели и тем устанавливает гармонию в человеческой жизни.
Если мы к этим трем союзам прибавим четвертый, семейство, которое составляет первоначальную, естественную основу человеческих обществ и которое, хотя в качестве частного союза входит в состав гражданского общества, но вследствие своего нравственно-органического характера сохраняет самостоятельное значение, то мы получим следующее общее построение человеческого общежития. 1) Низшую ступень составляет союз естественный, семейство, которое в первоначальном единстве содержит все человеческие цели и обнимает всю человеческую жизнь. 2) Среднюю ступень образуют два противоположные союза, отвлеченно общий и частный, церковь и гражданское общество, одна стремящаяся обнять весь мир и выйти даже за пределы земного бытия, другое стремящееся, напротив, к раздроблению на мелкие единицы. 3) Последнюю и высшую ступень составляет опять единый союз, государство, которое призвано объединить всю человеческую жизнь, а потому заключает в себе все человеческие цели, но так, что оно не поглощает в себе другие союзы, а оставляет им надлежащий простор, каждому в его сфере, подчиняя их только высшему общественному единству.
Этим значением государства и положением его среди других союзов определяются как его задачи, так и границы его деятельности. Этот вопрос мы рассмотрим в следующей главе.
Глава II. ЦЕЛЬ И ГРАНИЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В предыдущей главе мы видели, что современная политическая мысль распадается на два главных направления, индивидуалистическое и нравственное, из которых первое старается по возможности стеснить деятельность государства, а второе расширяет его безмерно. Рассмотрим оба воззрения.
Индивидуалистическая теория не нова. Еще Локк выводил государство из потребности охранения собственности и отрицал у него право выходить за пределы предоставленной ему с этою целью власти. Физиократы с экономической точки зрения провозглашали начало правительственного невмешательства (laissez faire, laissez passer), и Адам Смит в своем бессмертном творении проводил тот же взгляд, который остался лозунгом классических экономистов до нашего времени. Из публицистов XVIII века Томас Пейн, указывая на Соединенные Штаты, утверждал, что общество само в состояния делать почти все, что обыкновенно возлагается на правительство. Последнее, по его мнению, большею частью не только не помогает обществу, а напротив, мешает ему развиваться. В действительности оно нужно только для весьма немногих случаев, когда общественная самодеятельность оказывается недостаточною[311]. Мы видели, что и в школе Канта эта индивидуалистическая точка зрения привела к учению о юридическом государстве (Rechtsstaat), которого единственною целью полагается охранение права. Никто с большею полнотою и последовательностью не высказал этого взгляда, как Вильгельм Гумбольдт, в юношеской брошюре, которая осталась неизданною при его жизни и появилась в свет только в 1851 г.[312] Беглый обзор доводов знаменитого писателя всего лучше познакомит нас с идеалистическими основаниями индивидуализма.
Высшая цель человека, по мнению Гумбольдта, состоит в полном и гармоническом развитии его сил. Первое условие для этого есть свобода, а затем неразрывно связанное с свободою разнообразие положений, вследствие которого каждый самобытно усваивает себе окружающее его многообразие жизни. Здесь только может развиваться в человеке та оригинальность, которая делает его самостоятельным лицом, особенным выражением духовного человеческого естества. На этом зиждется его величие. А потому "высшим идеалом человеческого сожительства представляется такой порядок, в котором каждый развивается единственно из себя и для себя". Истинный разум, говорит Гумбольдт, не может желать человеку иного состояния, кроме такого, где не только каждый пользуется самою неограниченною свободою развиваться из себя, в своей особенности, но где и физическая природа получает от человеческих рук именно тот образ, который налагает на нее каждая единичная особь, самостоятельно и произвольно, по мере своих потребностей и своих наклонностей, ограничиваясь только пределами своей силы и своего права. От этого основного правила разум может отступать лишь настолько, насколько это необходимо для его собственного охранения. Оно должно лежать в основании всякой здравой политики.
Государство в своей деятельности может преследовать двоякую цель: отрицательную и положительную. Первая состоит в устранении зла, или в установлении безопасности, вторая в содействии благосостоянию граждан. Но только первая соответствует изложенным выше началам; вторая же, заключающая в себе все меры относительно народонаселения, продовольствия, промышленности, общественного призрения и т. д., вместо ожидаемой пользы приносит только вред.
В доказательство Гумбольдт указывает на те последствия, которые влечет за собою правительственная регламентация. На все отрасли жизни налагается печать однообразия, следовательно, устраняется главное условие развития — многосторонность стремлений. Люди отучаются от самодеятельности и привыкают во всем полагаться на правительство, а это неизбежно влечет за собою ослабление энергии и упадок народных сил. Всякая деятельность вследствие этого превращается в механическую рутину, ибо она совершается не по свободному влечению, а по внешнему принуждению. В особенности полагается преграда развитию индивидуальности, то есть именно тому, что составляет высшую цель человеческого развития. А с другой стороны, этим бездарно осложняется государственное управление; оно превращается в бюрократический механизм, причем правительство, которое по самому своему положению не в состоянии соображать все частные случаи, а может действовать не иначе как общими мерами, беспрерывно и неизбежно впадает в грубые ошибки. В результате оказывается извращение истинного отношения вещей: здесь имеются в виду не люди, призванные действовать, а единственно плоды деятельности. Все направлено на наслаждение; люди же являются не самостоятельными и самодеятельными единицами, а орудиями для достижения цели. Но именно при такой постановке дела цель не достигается, ибо наслаждение испытывается людьми, и если вместо того, чтобы ощущать удовольствие в самодеятельности, они получают его извне, то оно тем самым умаляется. Во имя счастия человек лишается высшего возможного для него счастия, которое состоит в сознании высшего напряжения сил.
Из всего этого Гумбольдт выводит, что государство должно отказаться от всякого попечения о благосостоянии граждан. Единственною его целью должно быть охранение безопасности, то есть обеспеченность законной свободы. Однако и в этом случае оно не должно расширять свою деятельность через меру. Тут необходимо разобрать, какие средства государство вправе употреблять для достижения этой цели.
В видах охранения безопасности государство может 1) довольствоваться пресечением преступлений, это законное его право, и тут деятельность его ограничивается необходимым. 2) Оно может стремиться к предупреждению зла и принимать для этого все нужные меры. 3) Наконец, оно может действовать на самый характер граждан, стараясь дать ему направление, соответствующее цели; это делается посредством воспитания, религии и попечения о нравах. Но последнего рода меры всего стеснительнее для свободы граждан, а потому они должны быть безусловно отвергнуты. Общественное воспитание еще более, нежели забота о благосостоянии, налагает на характеры однообразную печать и мешает многостороннему развитию человека. Притом как средство для достижения безопасности оно несоразмерно с целью. Точно так же вредно действует и вмешательство власти в религиозную сферу. Полная духовная свобода одна способна развить в народе ту силу духа, без которой нет высшего совершенствования. Наконец, и нравы исправляются только свободою; принуждение же превращает народ в толпу рабов, получающих прокормление от господина.
Что касается до предупреждения зла, то здесь надобно различать запрещение опасных действий и предупреждение преступлений. Относительно первого закон должен взвешивать, с одной стороны, величину грозящего вреда, а с другой стороны, зло, проистекающее из стеснения свободы. Так как эти начала изменчивы, то общего правила тут нельзя установить: надобно держаться среднего пути. Предупреждение же преступлений, касаясь не действий, а воли, должно быть совершенно отвергнуто. Все меры правительства, имеющие в виду действовать на волю преступника, могут принести только вред.
Устанавливая эту теорию как норму для деятельности государства, Гумбольдт делает из нее одно только исключение, именно, для малолетних и умалишенных, которые не в состоянии сами собою управлять, а потому нуждаются в чужой опеке. Здесь государство должно вступаться в видах предупреждения злоупотреблений.
Таково учение Гумбольдта. Точка отправления, очевидно, тут чисто индивидуалистическая. Все остальное последовательно выводится из основного начала. Но в этом именно заключается односторонность теории. Несправедливо, что высшая цель человека — развиваться из себя и для себя. Напротив, высшее, разумное начало в человеке проявляется в деятельности на пользу других, в служении общим целям, и только в этой деятельности и в этом служении развиваются высшие его способности. Обособляясь и преследуя эгоистические цели, человек всегда остается на низшей ступени; только в соединении с другими он становится в истинном смысле человеком. Это соединение может совершаться в виде свободных товариществ, что допускает и Гумбольдт; но не эти случайные союзы поднимают человека на настоящую высоту его призвания. Он должен чувствовать себя членом прочного, органического союза, воплощающего в себе те высшие цели, которым он служит, а таким именно является государство. В нем осуществляется идея отечества, для которого лучшие люди во все времена жили и умирали. На политическом поприще проявлялись высшие дары, какими природа наградила человека. Но для того чтобы государство могло быть для гражданина высшею целью его деятельности и стремлений, оно не должно ограничиваться ролью полицейского служителя. За полицию никто добровольно не отдаст своей жизни; она не в состоянии вызвать в людях любовь и самоотвержение. Чтобы воодушевить граждан, нужно иное начало: надобно, чтобы они в государстве видели воплощение тех высших идей, которым человек призван служить; надобно, чтобы они находили в нем поприще, на котором могли бы проявляться их высшие способности.
С другой стороны, если для людей, богато одаренных природою и имеющих все средства для проявления своих способностей, государство представляет высшее поприще как для внутреннего развития, так и для внешней деятельности, то еще необходимее оно для тех, которые относительно средств и способностей стоят ниже среднего уровня. Разнообразие положений, о котором говорит Гумбольдт, ведет к тому, что многие не в состоянии идти наряду с другими, им надобно помочь. Без сомнения, это делается и частными усилиями, но они не всегда достаточны. В особенности когда дело идет о благосостоянии масс, бывают необходимы общие меры, а их может принять только государство.
Наконец, и для среднего уровня людей государство с его широкою деятельностью, с его заботою о благосостоянии всех во многих отношениях представляется необходимым. Не говоря об идее отечества, которая имеет одинаковое значение для всех, для малых и для великих, но и с чисто практической точки зрения восполнение частной деятельности государственною нередко является насущною потребностью граждан. При разделении занятий каждый имеет свою отрасль, в которой он сведущ; в остальном он принужден полагаться на других. А так как он сам не в состоянии все проверять, то во многих случаях весьма полезно иметь гарантии, что он не будет обманут или не подвергнется опасности. Такие гарантии может дать одно государство. Из этой потребности проистекают постановления насчет мер и весов, насчет медиков, аптек, заразительных болезней, опасных построек и т. д.
К этой отрицательной деятельности присоединяется и положительная. Общежитие состоит в соединении сил, есть вещи, которые требуют совокупной деятельности всех или многих. По мнению Гумбольдта, все это следует предоставить свободным товариществам, которые могут простираться даже на целый народ. Подобное товарищество, очевидно, будет иметь цель не случайную, а постоянную; но постоянное товарищество, обнимающее целый народ, и есть государство. Не за чем искать другого, когда оно существует в действительности.
Нет сомнения, что излишняя регламентация со стороны государства и вмешательство его во все дела могут действовать вредно. Гумбольдт прав, когда он говорит, что этим подрывается самодеятельность, и тем самым умаляются материальные и нравственные силы народа, который привыкает во всем обращаться к правительству, вместо того чтобы полагаться на самого себя. Но это доказывает только необходимость рядом с деятельностью государства предоставить возможно широкий простор и личной свободе. Цель общественной жизни состоит в гармоническом соглашении обоих элементов, а не в пожертвовании одним в пользу другого.
К этому привела сама практика. Вследствие того многие из писателей, вышедших из школы Канта, как то Фрис, Круг, Роттек, признавая охранение права существенною целью, государства, рядом с этим допускали ввиду практических потребностей и другие, посторонние цели. Точно так же в позднейшее время Моль несмотря на то, что точка отправления его — чисто индивидуалистическая, прямо отвергает ограничение целей государства охранением права. Определяя существо юридического государства нового времени (название, которое он, впрочем, сам признает весьма неточным), Моль говорит, что здесь человек в противоположность всяким теократическим взглядам становится на точку зрения трезвого благоразумия. Исходное начало составляет единичное лицо с его целями и интересами. Затем там, где личные силы оказываются недостаточными, образуются частные союзы, совокупность которых называется обществом. "Личное обособление, — говорит Моль, — остается правилом, общественный же круг является восполнением по необходимости. И точно то же, — продолжает он, — имеет место ступенью выше относительно государства. Только недостаточность общественных союзов и потребность порядка и охранения права между ними ведет в всеобъемлющему и единому в себе государству. И здесь правилом остается самодеятельность лиц и затем, во второй степени, общественных кругов; но то и другое восполняется и приводится в порядок единою мыслью и совокупною волею государства". Вследствие этого, оставаясь в значительной мере на индивидуалистической точке зрения, Моль приписывает государству не одно охранение права, а содействие всем человеческим целям[313].
Практические потребности новейшего времени неудержимо влекут государство по этому пути. Если, с одной стороны, является реакция против излишней регламентации, против болезненной страсти всем управлять, то, с другой стороны, там, где деятельность государства ограничивалась слишком тесными пределами, практика настойчиво требует ее расширения. Разительный пример в этом отношении представляет Англия. Здесь нелюбовь к вмешательству государства возведена была в догмат; все должно было делаться собственными усилиями общества. А между тем в последние пятьдесят лет под влиянием настоятельной практической необходимости государство постоянно расширяло свое ведомство. Не только по всем отраслям управления издавались новые законы, которыми установлялся контроль государства над частною деятельностью, но создавались и новые учреждения, которые должны были служить органами правительственной власти. Оказалось, что жизнь не все сама разрешает, что нужно иногда и действие сверху[314].
Исключительные сторонники индивидуализма, как Лабулэ, постоянно ссылаются на Соединенные Штаты. Но этот пример может служить лишь весьма недостаточным подтверждением их теории. В Соединенных Штатах, бесспорно, личная самодеятельность достигает таких размеров, как нигде в Европе, и дает в материальном отношении изумительные результаты. Но, во-первых, нельзя упускать из виду, что Америка представляет для этого исключительно благоприятные условия. Громадные пространства и непочатые еще несметные богатства страны доставляют здесь личной самодеятельности такое поприще и такой простор, каких нет в старых государствах Европы. Человек, которому плохо живется в одном месте, легко может уйти в другое, где он всегда найдет и занятие, и средства жизни и даже возможность возвышаться на общественной лестнице. К этому присоединяется, во-вторых, характер народа, одаренного необыкновенною энергиею и предприимчивостью. Государству нет никакой нужды брать на себя то, что уже удовлетворительно исполняется частными усилиями. Поэтому чем предприимчивее народ, тем более оно может ограничивать свою деятельность. Но нельзя возвести это в общее правило: при ином характере народа будет иное отношение. И за всем тем эта изумительная самодеятельность американцев имеет свою оборотную сторону. Она составляет одностороннюю черту характера, которая развивается в ущерб другим человеческим свойствам. Отсюда происходит преобладание материальных стремлений над духовными, на которое жалуются и в Европе, но которое в еще гораздо сильнейшей степени проявляется в Америке. А этим неизбежно устанавливается довольно низкий умственный и нравственный уровень в обществе. Отсюда проистекает преобладание частных интересов над общественными в самой политической жизни. Политика, как и все остальное, становится предметом частной предприимчивости. Главная цель политических деятелей заключается в приобретении выгодных мест. Развиваются подкупы и взятки, составляющие язву управления. При таких условиях только возможно большее ограничение деятельности государства охраняет граждан от невыносимых притеснений. Если бы американские чиновники имели право распоряжаться так, как делается в Европе, то жизнь в Соединенных Штатах сделалась бы нестерпимою. И все-таки даже в Северной Америке государство не ограничивается охранением права. Уединенное положение страны, которой нечего опасаться соседей, дозволяет ему довольствоваться наименьшею тратою сил, что опять способствует развитию личной самодеятельности; но всякий раз, как этого требует действительный или предполагаемый общественный интерес, государство в Соединенных Штатах смело вступается в область частной предприимчивости. Доказательством служит система охранительных тарифов, которые имеют в виду покровительство отечественной промышленности, и притом к выгоде Севера и в ущерб Югу. Последняя война показала также, к чему ведет противоположение частных интересов государственным. Там, где единая государственная власть, каково бы впрочем ни было ее устройство, не возвышается над всеми как абсолютное начало, которому все обязаны повиноваться, там важнейшие внутренние вопросы решаются не мирным гражданским путем, а силою оружия.
Итак, Северная Америка не может служить ни нормою, ни доказательством в пользу индивидуалистической теории. Она доказывает только, что государственную деятельность нельзя подвести под известные, всюду приложимые рамки. При одних условиях ведомство государства будет шире, при других оно может быть теснее. Где есть значительные естественные богатства и обилие капиталов, где народонаселение деятельно и энергично, где государство не опасается могучих соседей, там деятельность его может ограничиваться наименьшими размерами, причем, однако, оно всегда остается представителем совокупных интересов народа, а не одной только какой-нибудь стороны общественной жизни, а потому оно всегда вправе вступаться, там где это требуется общим благом.
Все выше сказанное не позволяет нам согласиться с теми из новейших публицистов, которые уже не во имя идеальных начал, а стоя на почве действительности возвращаются к односторонне индивидуалистической точке зрения и требуют возможно большего ограничения государственной деятельности. Сюда принадлежит Лабулэ в указанном выше сочинении. Он допускает необходимость сильной власти, признавая в государстве высшего представителя народности и правды; но чтобы действовать благотворно, говорит он, государство должно быть введено в свои естественные границы. Когда оно их преступает, оно становится тираниею, оно является зловредным, разорительным и слабым. В чем же состоят эти границы? Они полагаются личными правами граждан, имеющими предметом личную совесть, мысль и деятельность. Это те права, которые освящены "Объявлением прав" Французской революции[315]. Сюда Лабулэ причисляет не только свободу совести, свободу промышленности и гарантии свободы лица, но и свободу печати, свободу товариществ в самом широком размере, свободу преподавания на всех ступенях, наконец, даже свободу муниципальную[316]. И этим правам он придает безусловное значение. Он восстает против теории, соразмеряющей права государства с общественною необходимостью и признающей расширение свободы по мере развития. С этой точки зрения, говорит он, можно всегда отказать народу в свободе под предлогом, что он недостаточно зрел. Надобно, напротив, сказать, что государство вправе касаться личной свободы лишь настолько, насколько она нарушает свободу других. Здесь только можно обрести незыблемую основу, на которой можно построить общественное здание[317].
Очевидно, что эти границы слишком тесны. С одной стороны, свобода печати и свобода товариществ, касаясь политической области, бесспорно входят в круг ведомства государства. Едва ли можно отрицать и то, что свобода преподавания и свобода муниципальная, затрагивая самые существенные государственные интересы, не могут быть вполне предоставлены частной самодеятельности. Муниципальная свобода вовсе даже не принадлежит к области личных прав. С другой стороны, нет сомнения, что местные и временные условия требуют различного вмешательства государства в сферу частной деятельности. Безусловного правила тут установить нельзя, и государство всегда остается судьею этой границы. Становиться на иную точку зрения значит намеренно не понять изменяющихся потребностей истории и жизни; последовательно мы придем к отрицанию самого развития. По мнению Лабулэ, развитие состоит в том, что параллельно усиливаются и самодеятельность лиц, и деятельность государства в принадлежащей ему сфере, как будто это две независимые области, не имеющие между собою ничего общего. Между тем, в действительности, при постоянном взаимодействии обоих элементов, историческое развитие общества как единого целого попеременно ведет к преобладанию то одного, то другого. В своей односторонности Лабулэ возвращается к давно осужденным теориям XVIII века. Этим он думает достигнуть ясности мысли. И точно, односторонняя мысль может быть очень ясна, но единственно вследствие того, что она по своей ограниченности перестает быть верною.
Замечательнее сочинение другого писателя того же направления, именно, венгерского публициста Этвеша, на которого ссылается и Лабулэ. Его взгляды заслуживают внимания как характеризующие движение мысли в современную эпоху. Этвеш прямо становится на точку зрения нашего времени и признает, что существенная его задача заключается в разрешении противоположности между государством и обществом. Социалисты искали решения этой задачи в полном подчинении лица целому; но подобная система, уничтожая свободу, а вместе и возможность прогресса, идет наперекор самым первым потребностям человека; она неосуществима на деле. Поэтому надобно искать другого исхода, а именно: противоположность между государством и обществом может быть уничтожена, если государство будет устроено на тех же самых началах, которые служат основанием современного общества[318]. Какие же это начала?
Исходною точкою для определения их Этвеш принимает два положения, по его мнению несомненные: во-первых, что человек никогда не смотрит на государство как на цель, а всегда видит в нем только средство для достижения своих личных целей; во-вторых, что никто для достижения своих целей не употребляет средств более отдаленных, пока он ближайших не признал недостаточными. Первое положение вытекает из того, что каждый по своей природе сознательно или бессознательно стремится к личному своему счастию, а в остальном видит только средство для достижения этой цели. К числу этих средств принадлежит и государство, которого цель следует искать не в идее, а в реальном начале, именно, в потребностях лица. В действительности так всегда и бывает, доказательством чему служит то, что властвующие в государстве всегда обращали его в орудие для своих личных интересов. Второе же положение ведет к тому, что государство должно рассматриваться только как восполнение того, что не может быть сделано иным путем. Этого нельзя сказать о тех целях, которые обыкновенно ему приписываются, как-то: осуществление нравственного закона, забота о благосостоянии, взаимная помощь. Все это может быть достигнуто и другими союзами. Государству же принадлежит единственно то, что достижимо не иначе как через его посредство и что притом составляет цель для всех и каждого из его членов. Такова безопасность (Sicherheit), под которою однако следует разуметь не одно только ограждение лиц и имущества от внешнего насилия, но охранение всех благ, принадлежащих лицу, духовных так же, как материальных. Таким образом, забота государства распространяется на все человеческие блага, но она заключается не в том, чтобы доставлять их гражданам, а в том, чтобы обеспечить им приобретенное собственными усилиями. А так как приобретение собственными силами возможно только под условием свободы, то главная цель государства состоит в охранении личной свободы граждан. Это и есть владычествующая идея современности. Осуществление этой идеи зависит не от того или другого образа правления; ибо, какое бы участие в правлении ни предоставлялось лицу, это участие во всяком случае ничтожно, и лицо остается безусловно подчиненным государственной власти. Поэтому единственная прочная гарантия личной свободы состоит в том, чтобы круг деятельности государственной власти был по возможности ограничен. Этвеш прямо даже полагает осуществление личной свободы в государстве целью новой цивилизации, в отличие от древней, которая, наоборот, подчиняла лицо государству[319].
Если мы взглянем на основания этого воззрения, то мы увидим в нем те же самые односторонние начала, которые господствовали в XVIII веке: признание лица исходною точкою и целью всего общественного развития и низведение всего остального на степень средства. Но от перенесения на реалистическую почву эти начала не сделались более верными. Несправедливо, что человек по своей природе имеет в виду только собственное счастие, а во всем остальном, в том числе и в государстве, видит только средства для достижения этой цели. Пожертвование жизнью за отечество есть факт, который прямо противоречит такому взгляду. Этвеш признает, что счастие человека состоит не в одних материальных, но и в духовных благах; а к числу этих благ принадлежит величие и благоденствие отечества, которое дорого каждому истинному гражданину, не в личных только видах, а как объективная цель, которой он готов приносить в жертву все, что ему наиболее ценно, даже самую жизнь. А так как в государстве воплощается идея отечества, то очевидно, что оно составляет для человека не только средство, но и цель. Факты показывают притом, что отечество для человека дороже, нежели те мелкие гражданские союзы, к которым он примыкает, как то сословия и общины. А потому государство никак не может рассматриваться лишь как восполнение последних. Ясно также, что нет никакого основания приписывать ему единственно такие цели, которые могут быть достигнуты исключительно им, а никаким другим союзом. Сам Этвеш приписывает государству заботу обо всех интересах человека; но он эту заботу ограничивает единственно их охранением или обеспечением. Но что такое обеспечение? С этим началом можно идти весьма далеко. Известно, что Фихте, отправляясь от обеспечения целей человека, последовательно пришел к чисто социалистическому государству. Когда под именем безопасности разумеется ограждение лиц и имуществ от насилия, то это понятно; но каким образом обеспечиваются человеку духовные блага? К этой категории, по признанию самого Этвеша, принадлежат религия, обычаи предков, воспоминания столетий, крепкая национальность (II, стр. 105). Само государство принадлежит к этим благам, а потому возможно большее ограничение его деятельности никак не может быть выведено из подобного начала. Еще менее можно все это свести к охранению личной свободы. Для этого надобно было бы доказать, что личная свобода составляет единственный источник всех человеческих благ; но сам Этвеш признает, что свобода получает настоящее свое развитие только в обществе, а потому обеспечивается усовершенствованием общественного состояния и прежде всего государства (стр. 182). Справедливо, что человек все лично ему принадлежащее должен приобретать сам, а не получать из рук государства, но есть и такие блага, которые он не может сам себе доставить и которые по самому своему свойству требуют совокупных усилий, а потому и вмешательства государства. Дело в том, что человеческое общежитие создается из двух противоположных начал, личного и общего. Отсюда и противоположность между обществом и государством. Задача как науки, так и практики состоит не в том, чтобы уничтожить одно в пользу другого, а в том, чтобы привести их к гармоническому соглашению, указавши каждому принадлежащее ему место и восполняя одно другим. Устроение же государства на началах, господствующих в обществе, столь же противоречит истинному его существу и ведет к таким же односторонним выводам, как и обратное устроение общества на началах, господствующих в государстве. Первая односторонность однако менее опасна, нежели вторая. Чрезмерное ограничение деятельности государства, чего едва ли следует ожидать на практике, может, имеет некоторые невыгодные последствия, но все же тут сохраняется коренное начало всякой деятельности и всякого развития — свобода. Напротив, распространение на общество начал, господствующих в государстве, и вследствие того чрезмерное расширение деятельности последнего, прямо ведет к подавлению свободы, а потому к уничтожению самого источника жизни и развития. Таков именно характер социализма. Мы видели уже ту идею государства, которую Лассаль считал достоянием рабочего класса. В противоположность индивидуалистической теории здесь гражданское общество как преходящий момент улетучивается в государстве. Последнее является представителем солидарности интересов, общности и взаимности развития, начал, которые должны заменить недостаточную по своей природе личную деятельность. Государство в борьбе человека с природою должно вести его к высшему развитию и к свободе. В одиночестве человек беспомощен; только соединяясь с другими, он может победить бедность, невежество, бессилие, бедствия всякого рода, одним словом, все, что делает человека несвободным, и это соединение людей осуществляется именно в государстве, которого цель состоит поэтому не в том, чтобы защищать свободу и собственность отдельного лица, а в том, чтобы поставить лицо в такое положение, где бы оно могло достигнуть высшего развития. Государство призвано воспитать человеческий род к свободе; в этом состоит нравственное его существо, его истинная и высшая задача[320].
Как видно, Лассаль, развивая эту теорию, также ставил себе целью свободу. Но под этим словом он понимал вовсе не то, что разумеется под ним обыкновенно. Свободою он называл не истекающее из воли начало личной самодеятельности, а избавление человека от гнета внешних условий. Ясно однако, что последнее может быть уделом и рабов. И точно, люди, которые сами по себе ничего не значат и которые все приобретают только в государстве и через посредство государства, находятся в положении рабов. Они подлежат вечной опеке. Нужды нет, что по теории лицо порабощается не частному человеку, как в гражданском рабстве, а целому обществу, которого каждый сам состоит членом: мы знаем, что общество как целое есть не более как идея и что в действительности общественная власть всегда предоставляется известным лицам. Самое демократическое устройство ведет лишь к тому, что Властвует большинство, которое при всепоглощающей силе государства беспрепятственно может поработить себе меньшинство и вымогать из него все, что ему угодно. В этом и заключается вся сущность социализма. Лассаль даже весьма откровенно в этом признается. Не только от государства требуется, чтобы оно всю свою мысль и деятельность обратило на улучшение положения низшего класса, но работникам прямо объявляется, что государство есть их союз, что оно принадлежит им, а не высшим классам, ибо они составляют 96 процентов всего народонаселения[321]. Они прямо призываются к тому, чтобы посредством всеобщей подачи голосов взять власть в свои руки и, орудуя ею, обратить государственные средства в свою пользу. Государственные же средства, по социалистической теории, обнимают собою все, что ныне составляет достояние частных лиц. У последних не остается ничего своего. У них отнимается собственность, ибо орудия производства должны перейти в руки государства. У них отнимается свобода, ибо всякая частная деятельность для них заперта: они волею или неволею принуждены делаться чиновниками государства, вполне зависимыми от своего начальства и без всякой возможности выбора. Если владычествующая партия может утешать себя тем, что, держа власть в своих руках, она извлекает из нее пользу, то меньшинство, которое лишено и этой выгоды, находится уже в состоянии полного порабощения. Частное рабство в сравнении с таким положением может представляться завидным состоянием. В последнем есть по крайней мере личные нравственные связи, которые смягчают жесткость юридического отношения и делают подчас положение раба даже привольным. Социалистическое же устройство душит человека со всех сторон, запирая ему всякий исход.
Таков неизбежный результат поглощения личности государством, поглощения, которое лежит в основании всех социалистических теорий. Те, которые в избежание этого исхода заменяют государство обществом, как Шеффле, или даже проповедуют анархию, как Прудон, сами не понимают, что говорят. Социалистический порядок в отличие от экономического состоит в замене личной собственности общею и частного производства — общественным. Для этого требуется известная организация, которая притом должна быть единою, ибо при разделении труда различные отрасли должны действовать согласно, и каждая из них служит органом общества как цельного организма; организованное же общественное единство и есть государство. Поэтому как скоро мы личную деятельность и личный интерес хотим заменить общественными началами, так мы неизбежно приходим к всемогуществу государства, а с тем вместе к отрицанию человеческой свободы.
К тому же результату приходят и те социал-политики, которые, не выставляя точно формулированной социалистической программы, ограничиваются неопределенным расширением деятельности государства, или общества, во имя все возрастающих нравственных требований. Таков, как мы видели, Иеринг. Тут вместо более или менее ясной цели представляется полный туман, который заслоняет от нас картину будущего. Но и здесь порабощение лица государству сознательно или бессознательно является конечною целью, к которой направлена вся теория. К этому ведет требование, чтобы с частными правами соединялись нравственные обязанности, которые по воле общества могут получить принудительный характер. Еще более к этому ведет возведение частного права на степень общественного и понимание частной деятельности как общественной должности, начала, распространенные во всей этой школе. Отрицание частного права как такового есть уничтожение именно той сферы, которая предоставляется свободе лица; смешение же нравственности с правом есть поражение свободы в самом заветном ее тайнике, в области совести, откуда истекает весь внутренний мир человека. Таким образом, лицо и во внешних своих отношениях, и во внутренних своих помыслах обращается в орудие общества. Мы видели, как у Иеринга измученный и изнемогающий под бременем царь земли восклицает, наконец, что он устал быть вьючным скотом общества, и требует себе хотя малейшей области, где бы он мог быть свободен, и как хозяин этого вьючного скота, налагая на него все большую и большую ношу, безжалостно отвечает ему, что таких границ нет и что никто их не укажет. Всего любопытнее то, что все это совершается для блага того самого лица, которое издыхает под бременем, и притом во имя нравственности, которой неотъемлемое условие есть свобода и которая без свободы исчезает или извращается в противоположное. Бесконечное внутреннее противоречие, лежащее в основании всего этого воззрения, обнаруживается здесь вполне.
Напрасно думают избежать этих последствий, прибегнув к началу пользы и требуя, чтобы в каждом данном случае взвешивались противоположные доводы и на этом основании решалось, что полезнее: взять ли известное дело в руки государства или предоставить его частным лицам[322]? Мы видели уже, что взвешивать доводы можно только имея какое-нибудь общее мерило; если же мерила нет, то мы теряемся среди хаоса разнородных соображений, и все окончательно сводится к личному вкусу. При таких условиях нет ничего легче, как по влечению сердца предъявлять требования, прямо ведущие к уничтожению свободы, как делают социал-политики, которые возлагают на государство осуществление нравственных начал в экономической области. Какая польза в том, что существующие условия жизни представляют, по признанию самих защитников этой теории, неодолимые препятствия практическому приложению их идеала и что вследствие этого осуществление его отдаляется в неопределенное будущее? Важно то, что этот идеал имеется в виду и что мы, по теории, должны идти к нему, а не к чему-нибудь другому. Раз мы двинулись по этому пути, требования общества и государства, как говорит нам Иеринг, будут все возрастать, и лицо неизбежно превратится, наконец, в вьючного скота, издыхающего под бременем. Раньше или позднее совершится с ним этот процесс, это зависит единственно от благоусмотрения государства, которое одно имеет здесь решающий голос ибо, по учению социал-политиков, также как и социалистов, государство есть все и может вступаться во все. Это высказывается ими с полною откровенностью: "как скоро государство, — говорит Брентано, — есть действительно устроение народа, и правительство — естественный центр народной жизни, то не может быть речи о вмешательстве государства, когда государство исполняет народную волю. Ибо ни о каком человеке, действующем сообразно с своею волею, нельзя сказать, что он, не имея на то права, вступается в свои собственные дела. Термин "государственное вмешательство" предполагает поэтому такое состояние государства, каким оно не должно быть, государство, которое есть нечто другое, нежели устроение народа, правительство, которое не составляет естественного средоточия народной жизни, оба нечто народу чуждое"[323].
Когда такие чудовищные положения высказываются писателем, даже непричастным социализму, то они служат обличением того направления, к которому он примыкает. В XVIII веке Руссо утверждал, что закон, исходящий из общей воли, не может быть несправедлив, ибо никто не может быть несправедлив относительно самого себя. Но и Руссо видел необходимость гарантий для лица. Поэтому он законными считал лишь те постановления общества, в которых лично участвуют все; он не допускал решений по частным вопросам и требовал, чтобы закон совершенно одинаково касался всех; он ограничивал верховную власть пределами общих соглашений; он исключал из государства партии, и при всем том он признавал, что народ весьма часто может ошибаться, а потому заявлял о необходимости премудрого законодателя. На деле, те границы, которые Руссо полагал своей общей воле, неосуществимы; они не имеют ни теоретического, ни практического значения; но они свидетельствуют по крайней мере о том, что знаменитый писатель понимал последствия своего требования и старался их избегнуть. Он не останавливался на том, что общая воля всегда права, потому что она решает только собственное свое дело; он видел, что народ состоит из разных частей и что одной части может приходиться весьма плохо от действий другой. Государство точно есть устроение народа, но государство выходит из пределов своего ведомства, когда оно вместо того, чтобы ограничиваться решением государственных дел, вступается в частные. В государстве народ является как единое целое, которому принадлежит верховная власть, оно в общественной жизни верховный распорядитель, но оно не одно существует на земле. В пределах единства есть место для отдельных лиц и для частных союзов; и те и другие требуют свободы и самостоятельности, и эта свобода и самостоятельность должны быть уважаемы. Нарушение этого правила есть деспотизм, то есть выступление власти из законных своих границ. Конечно, формально верховная власть, будучи верховною, может все себе позволить, на нее нет апелляции. Тем не менее в посягательстве на частное право можно видеть только злоупотребление власти. Как бы ни колебалась практика, теоретически мы имеем возможность положить границу государственной деятельности. Но эта граница лежит не в неопределенном начале пользы, а в законных правах заключающихся в государстве лиц и союзов. Здесь только мы находим мерило, на основании которого мы можем решить занимающую нас задачу.
Права отдельных лиц принадлежат им как членам тех или других союзов, семейного, гражданского, церковного. Поэтому вопрос сводится к самостоятельности последних. В истории этот вопрос проходит через различные фазы; мы коснемся этого впоследствии. Здесь же мы ограничимся существующими отношениями; посмотрим, насколько они соответствуют теоретическим требованиям.
Первоначальный, естественный союз есть семейство. В нем как в источнике всего человеческого общежития заключаются уже все элементы последнего. С одной стороны, оно является союзом юридическим и как таковой входит в состав гражданского общества; с другой стороны, оно содержит в себе нравственный элемент и в этом отношении находится под влиянием церкви. На низших ступенях общественного развития семейство играет и политическую роль. Впоследствии это значение его отпадает, и оно становится исключительно частным союзом, но нравственный его характер дает ему особое место в ряду гражданских отношений. Если вступление в брак совершается по воле лиц, то все дальнейшие условия семейной жизни и взаимные права и обязанности членов семьи не зависят уже от их личной воли. Отношения мужа к жене и родителей к детям определяются не договором, а общим законом. Этот закон при разрушении отдельных семейств сохраняет общий тип нравственно-органического союза, вытекающего из самой природы человека и равно необходимого для физического и для нравственного его существования. Но именно потому этот закон установляется не преходящею волею членов семьи, а получается от других, высших союзов, имеющих более постоянный характер, от церкви или от государства.
Нравственный характер семейства ведет к подчинению его церкви. Это мы и видим во всех обществах, где в большей или меньшей степени господствуют теократические начала. Но так как семейство есть вместе с тем гражданский союз, а гражданские отношения в обществах с светским характером не подлежат ведению церкви, то рано или поздно семейные законы переходят в ведомство государства. Последнее, однако, не поступает здесь произвольно. Задача его состоит в том, чтобы согласить нравственный тип семейства, выработанный нравственно-религиозным сознанием общества, с требованиями личной свободы, вытекающими из гражданского порядка. Поэтому какое бы светское направление ни приняло семейное законодательство, государство не может не соображаться с воззрениями церкви, иначе оно посягнет на совесть граждан, на что оно не имеет права. Тип семейства, который лежит в основании всех европейских законодательств, есть все-таки тип христианский. Отсюда, без сомнения, могут произойти столкновения между государством и церковью, но эти столкновения неизбежны при существовании разнородных союзов. Этим ограждается свобода человека; разрешение же их принадлежит не праву, а политике, ибо здесь необходимо принять во внимание существующие условия жизни и нравственное состояние общества.
Устанавливая нормы, которыми определяются права и обязанности членов семьи, государство вместе с тем защищает проистекающие из них права от нарушения. Когда нарушаются права взрослого, защита дается по требованию обиженного судом. Но в семье есть и малолетние, относительно которых могут быть злоупотребления родительской власти и которые сами себя защищать не в состоянии. Тут требуется восполнение этого недостатка. Государство, устанавливающее нормы, берет на себя и защиту. Но вступаясь во внутренние отношения семьи, оно неизбежно приходит в столкновение с семейным началом. Родительская власть составляет необходимую принадлежность семейного союза, а по своему нравственному характеру она в значительной степени руководствуется усмотрением. Поэтому злоупотреблениями могут считаться только самые крайние случаи, и только в этих случаях может быть допущено вмешательство государства. Иначе это будет посягательство на семейное начало, что ведет к разрушению нравственной связи, которою держится союз.
В больших размерах требуется защита малолетних там, где родительская власть исчезла и заменяется опекою. Опекун, которому вверены интересы малолетнего, может обратить их в свою собственную пользу, поэтому здесь необходим контроль. Он может быть вверен тем мелким союзам, к которым принадлежат лица, — сословиям или общинам; но высшую инстанцию и тут составляет государство, которое является верховным хранителем установленных им норм.
Таковы правомерные отношения государства к семейству. Они ограничиваются установлением норм и защитою прав. Всякое дальнейшее вмешательство государства в семейную жизнь есть деспотизм. Основное правило то, что семейный быт должен оставаться неприкосновенным.
То же самое относится и к столь тесно связанному с семейным началом наследственному праву. Последнее касается не одних только членов собственно так называемой семьи, но и всего родства, которое не что иное, как расширенная семья. И то и другое вместе образует созданный самою природою кровный союз, основанный на естественной связи людей. И тут государству принадлежит установление норм и защита вытекающих из них прав. Но и тут, устанавливая нормы, государство должно руководствоваться началами, лежащими в самом союзе. Как уже было указано выше, оно призвано примирить свободу завещания с правами наследников. При этом оно не может не иметь в виду и политические соображения, ибо от гражданского порядка зависит политический быт. Но эти сторонние соображения могут только придать больший вес правам той или другой стороны, но никогда не могут их заменить. Государство, которое из политических видов присвоило бы себе частное наследство, явилось бы грабителем. Даже при разрешении обоюдных притязаний частных лиц первенствующее значение принадлежит не политическим целям, а вырабатывающимся в самой семейной жизни началам, которые выражаются в семейных нравах. Законодательство, которое пошло бы им наперекор, опять же посягнуло бы на самые заветные чувства граждан и рисковало бы даже остаться вовсе без приложения. Такова была судьба, постигшая закон Петра Великого о майоратах.
Итак, в отношении к кровному союзу границы государственной деятельности определяются свойствами этого союза, который создается не государством, а самою природою. Если государству принадлежит определение вытекающих из него гражданских отношений, то развитие высшей, нравственной его стороны, от которой зависят и гражданские права, принадлежит главным образом церкви. Вопрос о границах деятельности государства приводит нас таким образом к вопросу об отношениях государства к церкви.
Тут являются начала совершенно иного рода, нежели те, которыми определяются отношения государства к кровному союзу. Церковь есть тоже союз самостоятельный. Религиозное начало, на котором она зиждется, не подлежит ведению государства. Отношения человека к Богу составляют дело внутреннее, они определяются совестью, и всякое посягательство на них со стороны государственной власти есть деспотизм. И тут основное правило состоит в том, что права совести должны оставаться неприкосновенными. Но эти отношения не ограничиваются одним личным поклонением. Из них образуется постоянный, преемственный союз, связывающий миллионы людей в течение многих веков в одно нравственное целое. Устройство этого целого и отношения его членов в существе своем определяются лежащим в основании их религиозным началом, а потому точно так же не подлежат ведению государства. Последнее не призвано устанавливать здесь нормы, как в семейном праве; церковь сама себе дает закон. Но так как этот закон действует в пределах государства и касается его граждан, то государство как верховный устроитель общественного порядка не может оставить его без внимания. Оно одно может дать ему юридическую силу и оно же властно отвергнуть то, что несовместно с основами гражданского строя. Отсюда право государства не терпеть внутри себя сект и учений, действующих разрушительно на общественный быт. В каких размерах должно прилагаться это право, это вопрос, который зависит от усмотрения. Иные государства допускают в себе большую свободу, другие меньшую; во всяком случае государственная власть является здесь верховным судьею. Отсюда опять же могут произойти столкновения, но где есть самостоятельные союзы, там столкновения неизбежны. И тут вопрос решается не правом, а политикою. Задача состоит в том, чтобы согласить неотъемлемо принадлежащие человеку права совести с неотъемлемо принадлежащею государству охраною общественного порядка. Государство действует здесь не положительно, а отрицательно; оно оставляет неприкосновенными внутренние помыслы, но воспрещает общественное проявление учений, разрушающих существующие основы общежития.
Этою отрицательною деятельностью не ограничиваются однако отношения государства в церкви. Религия составляет один из самых существенных интересов народа, а потому она не может оставаться чуждою государству как верховному блюстителю всех общественных интересов. Государство нуждается в церкви и для себя самого. Политический порядок есть в значительной степени порядок нравственный, ибо таковым является осуществляемое в нем начало общего блага; государство держится не одними юридическими установлениями, но и нравственным духом граждан. Между тем главный источник нравственности, личная совесть, не подлежит его ведению, а напротив, находится под сильнейшим влиянием церкви. Всемирный опыт, так же как и здравая философия, удостоверяют нас, что религия и нравственность находятся в самой тесной связи. И та и другая имеет один источник — совесть. Религия, связывая человека с Богом, вместе с тем подчиняет его нравственному закону и побуждает его к подвигам добра, и наоборот, нравственность, приводя человека к сознанию высшего, господствующего над ним закона, заставляет его обращаться к абсолютному источнику этого закона — к Божеству. Поэтому церковь является союзом не только религиозным, но и нравственным; отсюда и могучее ее действие на человеческие сердца. В особенности эта связь важна для массы, которая в непосредственном своем чувстве не разделяет обоих начал и не может искать опоры в отвлеченных философских понятиях. Она важна и для образованных классов, ибо полнота нравственной жизни дается только совокупностью ее элементов, восполняющих друг друга. Понятно поэтому, что для государства, не имеющего возможности влиять на совесть, в высшей степени важно иметь содействие церкви. Отсюда двоякое положительное отношение государства к церкви: с одной стороны, оно оказывает ей содействие как существенному интересу народа, с другой стороны, оно получает от нее содействие, пользуясь нравственным ее влиянием на верующих.
Этим двояким отношением определяется и положение церкви в государстве. Содействие государства обнаруживается прежде всего в определении юридической стороны церковного союза. Для достижения своих целей церковь нуждается в материальных средствах. Как владелец имущества она может являться юридическим лицом. А так как определение имущественных отношений и в особенности возведение союзов или учреждений на степень юридических лиц зависит от государства, то с этой стороны права церкви установляются государством. Оно по своему усмотрению оставляет церковь на степени простого товарищества или признает ее юридическим лицом; оно же определяет границы и способы приобретения имуществ.
Еще более от него зависит политическое положение церкви, которая может быть либо единственною допущенною в государстве, либо господствующею, либо признанною наравне с другими, либо признанною, хотя и с меньшими правами, либо, наконец, просто терпимою. Церковь может также получать от государства различные льготы и пособия. Во всем этом государство руководствуется тем значением, которое имеет церковь для гражданского и политического строя; определение же степени этого значения зависит исключительно от государства, которое таким образом является верховным судьею в решении всех этих вопросов. Единственную границу его власти составляет внутреннее устроение церкви, которого государство не имеет права касаться самовольно. Смешение этих двух сторон, внутреннего церковного устройства и внешнего положения церкви в государстве, было причиною того противодействия, которое встретило "Гражданское устройство духовенства" во времена Французской революции и которое привело, наконец, к отмене этого закона. С другой стороны, предоставление церкви известного политического положения неизбежно открывает в ней простор влиянию государства. Это выражается особенно в способе назначения членов духовенства. Получая пособия от государства и делаясь некоторым образом должностными лицами, они тем самым становятся от него в зависимость. Но так как церковь есть самостоятельный союз, то подобное вмешательство в ее внутреннее управление не может происходить иначе, как с ее согласия. Разумеется, чем политически слабее церковь, чем более она нуждается в покровительстве государственной власти, тем легче получить это согласие. Фактически возможно даже полное подчинение церкви государству. Напротив, чем устройство церкви самостоятельнее, тем более она относится к государству как равный к равному. В последнем случае определение взаимных отношений совершается в виде формальных договоров, или конкордатов. Таково именно положение католицизма. Характер церкви как независимого от государства союза проявляется в нем вполне. Конечно, государство, пользуясь своею властью, может преступить эти пределы, но такое вторжение в чужую область есть не право, а злоупотребление правом, и когда церковь оказывает сопротивление, то она не может не встретить одобрения со стороны беспристрастной науки.
Наконец, и в своих отношениях к гражданскому обществу государственная деятельность находит себе пределы в началах, вытекающих из самого существа этого союза. Мы видели уже, что гражданское общество должно рассматриваться как союз самостоятельный, образующийся из частных отношений отдельных лиц. Основное правило здесь то, что частная жизнь и частные отношения должны оставаться неприкосновенными. Вторжение государства в эту область опять же есть не более как деспотизм. Если началом самостоятельности церкви охраняется внутренняя свобода человека, то началом самостоятельности гражданского общества охраняется свобода внешняя. Где эта самостоятельность не признается, там свобода обращается в призрак. Но так как частные отношения ведут к беспрерывным столкновениям между людьми, то необходимо установление общих норм, которыми должны определяться взаимные права и обязанности лиц. Эти нормы могут установляться живущим в обществе обычаем, но рано или поздно эта неопределенная форма уступает место исходящему от власти закону, а так как в гражданском обществе нет единой возвышающейся над всеми власти, а именно подобная власть существует в государстве, то последнему принадлежит установление гражданских норм.
Однако и тут государство поступает не произвольно. Оно должно руководствоваться началами, составляющими самое существо гражданского общества. Эти начала, как мы уже видели, суть личность и вытекающие из нее права, то есть свобода и собственность. Государство, которое устанавливает гражданский закон на иных основаниях, поступает деспотически. В действительности именно на этих началах строились законодательства всех образованных народов, не только новых, но и древних. Вся римская юриспруденция представляла собою логическое их развитие. Отсюда ее классическое значение для гражданского права всех новых народов. Мы учимся у римлян правоведению, так же как у греков художеству.
Но устанавливая гражданский закон, государство дает только общую форму, в которую могут вмещаться права и обязанности лиц. Самое же приобретение прав, равно как и их прекращение, совершается свободною деятельностью единичных особей. Одна свобода составляет для человека прирожденное право, ибо она одна прямо вытекает из природы человека; все остальное есть приобретенное, но приобретенное свободою, а не силою государственной власти. Таким образом, государство устанавливает право собственности, но оно никому собственности не дает. Приобретение и отчуждение вещей является действием самих лиц на основании особых юридических актов, совершаемых по их воле в пределах положенной нормы. Точно так же государство устанавливает права по обязательствам, но этими нормами никто ни к чему не обязывается. Для этого нужны особые, добровольно заключаемые сделки, которые и служат основанием обязательств. Общая воля, воплощающаяся в государстве, ставит общие рамки, необходимые для предупреждения столкновений; частная же воля лиц наполняет эти рамки живым содержанием, и это содержание составляет действительность права.
Этому содержанию государство дает защиту. Всякое законное проявление воли на основании установленных норм охраняется государством. Но пока нарушение касается только приобретенного лицом права, защита дается единственно по требованию лица, которому предоставляется доказать нарушение. В этом состоит судопроизводство гражданское. Когда же отрицается не только право лица, но и самая норма, тогда защита принимает иной характер. Тут является посягательство уже на права государства, и тогда последнее берет на себя начинание и ведение защиты. В этом состоит судопроизводство уголовное. В виде исключения государство берет на себя и гражданскую защиту в тех случаях, когда частное лицо само себя защищать не в состоянии. Мы видели это в семейном праве относительно малолетних. То же самое относится к сумасшедшим. Ниже мы увидим и некоторые другие приложения этого начала.
Что касается до частных союзов, возникающих на почве гражданского общества, то они могут быть либо простыми товариществами, либо юридическими лицами, либо постоянными союзами с государственным значением, наконец, они могут иметь и смешанный характер. К первым прилагаются общие законы о гражданских товариществах; чем более они имеют частное значение, тем менее уместно вмешательство государства. Вторые, напротив, получают бытие свое единственно от государства, ибо юридическое лицо, становясь независимым от воли членов, не может получать свое бытие от последней. Но государство дает здесь только высшее юридическое освящение частной инициативе. Частным лицам принадлежит и указание цели, и доставление средств. Наконец, союзы с политическим значением организуются и получают свои права от государства, ибо они в большей или меньшей степени состоят его органами. Государство не входит с ними в соглашения, как с церковью, ибо оно составляет для них высшее единство. Насколько они имеют общественный, а не частный характер, настолько они являются его членами, а потому оно господствует над ними как целое над частями.
Таковы отношения государства к другим союзам. Везде оно является верховным распорядителем, но не с тем, чтобы подчинить все частные союзы своим целям, а с тем, чтобы дать им охрану и защиту на основании начал, присущих собственной их природе и вырабатываемых собственною их жизнью. Если бы этим ограничивалась деятельность государства, то были бы правы те, которые единственною его целью признают охранение юридического порядка. Но кроме этой доставляемой им защиты государство имеет и собственную свою область, исключительно ему принадлежащую. Такова область общих интересов, которые существенно отличаются от частных, хотя находятся в постоянном взаимодействии с последними. Есть интересы чисто личные, которые удовлетворяются самостоятельною деятельностью каждого. Есть и такие, которые требуют частного соединения сил, они составляют предмет деятельности частных товариществ и союзов. Наконец, есть и такие, которые касаются всех и которые по этому самому удовлетворяются совокупною деятельностью общества. Последние естественно состоят в ведомстве государства. Сюда принадлежит прежде всего безопасность, которая необходимо требует общих мер. Сюда же относится попечение о благосостоянии, как материальном, так и духовном. Наконец, сюда же относится все, что касается народа как единого целого, его исторического призвания и его положения среди других.
Насчет последнего пункта разногласия нет. Никто не сомневается в том, что международные отношения должны ведаться государством, а не частными лицами. Точно так же нет сомнения и относительно безопасности. Все признают ее законною целью государственной деятельности. Разногласие существует только насчет попечения о благосостоянии граждан, материальном и духовном. Тут только являются противоположные взгляды: одни хотят слишком малого, другие требуют слишком многого.
Слишком малым ограничивают деятельность государства те, которые совершенно исключают этот предмет из области его ведения. Самая жизнь показывает несостоятельность этого взгляда, ибо есть предметы, которые по существу своему требуют общих и притом принудительных мер. Такова, например, монетная система. Она составляет потребность торгового оборота, а между тем очевидно, нет возможности предоставить ее частным лицам. Таковы же пути сообщения, которые находятся в пользовании всех, а потому неизбежно должны состоять или в ведении, или под контролем общества как целого. Все, что составляет совокупный интерес граждан, должно ведаться совокупным обществом, а совокупное общество и есть государство.
С другой стороны, слишком многого требуют те, которые попечение о благосостоянии распространяют на все частные интересы, так что частная сфера поглощается общественною или по крайней мере вполне подчиняется ей. Таковы стремления социалистов.
Истинное отношение состоит в том, что частная деятельность должна оставаться вполне самостоятельною. Государство только содействует ей и восполняет ее по мере возможности, там где она оказывается недостаточною. Это признают и социалисты кафедры, когда они не совсем последовательно становятся на почву здравой теории и жизненного опыта[324].
Отсюда следует прежде всего, что государство не обязано доставлять гражданам средства существования. Это дело частное. Каждый отыскивает себе работу и добывает себе пропитание сам. Когда в силу несчастного стечения обстоятельств человек не в состоянии пропитаться, он взывает к помощи ближних. Тогда наступает призвание благотворительности, сначала частной, а за недостатком последней, общественной. Государство в видах человеколюбия не может не прийти на помощь страждущим гражданам. Но благотворительность не становится для них правом; она действует по мере сил и возможности. Государственная благотворительность в особенности никогда не должна забывать, что она свои средства получает не добровольно, а принудительно, и что употребление их на пользу отдельных лиц может быть оправдано только крайними обстоятельствами, когда нужда вопиющая, а частные средства оказываются недостаточными. Расширение ее за эти пределы было бы узаконением правила, что частные лица могут жить на счет общества, то есть принудительно на счет своих сограждан, а подобное правило совместно только с социализмом.
Всякое превращение благотворительности в право непременно влечет за собою это последствие; оно возможно только при замене частной промышленности общественною, и окончательно — только при полном порабощении лица. К этому именно ведет провозглашенное в 1848 г. право на труд, или то обеспечение каждому лицу средств существования, на котором Фихте строил свое "замкнутое торговое государство". В самом деле, для того чтобы государство могло доставлять работу всем нуждающимся в ней, надобно, чтобы оно держало всю промышленность в своих руках; необходимо, чтобы оно управляло и сбытом, ибо окончательно всякая работа оплачивается потребителем. Обязаться доставлять всем работу государство может только на счет потребителей, заставляя последних покупать произведения по назначенной им цене, или, что то же самое, платить подати, которыми оплачивается труд. Но очевидно, что потребители могут на это согласиться единственно под условием, что государство обяжется с своей стороны удовлетворять всем их потребностям. Принять же на себя подобное обязательство государство в свою очередь может лишь под условием, что труд сделается принудительным. Чтобы доставлять всем работу и удовлетворять всем потребностям, государство должно сделаться полновластным распорядителем личности и имущества граждан. К этому именно результату пришел Фихте в своем Замкнутом торговом государстве. Все это было с необыкновенною последовательностью выведено из принятого им начала. И точно, как скоро я требую от другого, чтобы он обеспечил мне средства жизни, так я должен предоставить ему распоряжение моим лицом и моею деятельностью. То, что при поверхностном взгляде представлялось правом, на деле оказывается порабощением.
Но если государство не обязано доставлять гражданам работу, то еще менее оно обязано кого-либо наделять землею или давать кому-либо орудия производства. Довольно распространенное у нас мнение, будто государство должно заботиться о том, чтобы каждый крестьянин имел клочок земли, составляет не более как остаток крепостного права. Землею наделяют рабов; свободный человек приобретает ее сам. Пока крестьяне были крепостные, их наделяли землею помещики и государство. При освобождении справедливость требовала, чтобы сословие, которое посвящает себя обработке земли, а между тем в течение нескольких веков было лишено возможности ее приобретать, не было пущено по миру с голыми руками. Тут надел был необходим, но это был последний. С получением свободы наступает для каждого пора самому заботиться о себе и о своем потомстве. Государство столь же мало обязано давать крестьянам землю, как оно обязано давать ремесленникам и фабрикантам орудия производства. Все это чисто социалистические требования, несовместные с существованием свободы и правильного гражданского порядка.
Это не мешает государству, когда у него есть лишние земли, продавать или раздавать их нуждающемуся в них населению. Подобная сделка может быть выгодна для обеих сторон. Такого рода содействие благосостоянию крестьянского населения прямо указано находящимися в руках государства средствами и зависит от их размера. Мы к этому возвратимся ниже; теперь же взглянем на общий характер тех мер, которыми государство может способствовать благосостоянию граждан.
Вообще, содействие государства частным интересам может состоять либо в определении условий для частной деятельности, либо в собственной деятельности государства. Первое имеет целью устранение вреда, могущего произойти для одних от необдуманных или неосторожных действий других. Государство не вмешивается в частную деятельность и не распоряжается ею, но оно полагает некоторые общие ограничения и условия, которые равно относятся ко всем.
Подобные меры могут быть как отрицательные, так и положительные. Первые состоят в воспрещениях всякого рода. Сюда относится множество полицейских мер, принимаемых в видах безопасности, порядка и здоровья. Вторые состоят в предписаниях разного рода. И то и другое бывает равно необходимо для достижения одной и той же цели. Так например, в видах безопасности воспрещается скорая езда на улицах и предписывается ездить ночью с фонарями. В видах чистоты и здоровья воспрещается сваливать нечистоты на площадях и предписывается вывозить их в указанные места.
Государство может положить и особенные условия для занятий, требующих специального приготовления, например для медиков, аптекарей, учителей, адвокатов. От них требуется экзамен как доказательство знания. Причина та, что нуждающиеся в их услугах, не будучи специалистами, не в состоянии судить о степени их способности, а между тем деятельность лиц, не обладающих надлежащею подготовкою, может иметь весьма пагубные последствия для тех, которые им вверяются; Государство в этом случае дает удостоверение, которое служит ручательством и устраняет неспособных.
Во всех этого рода мерах, касающихся частных лиц, государство может держаться двоякого рода политики: оно может действовать либо предупреждением, либо пресечением. Которая из этих двух систем заслуживает предпочтения? Либералы единогласно стоят за систему пресечения; социалисты кафедры, напротив, утверждают, что начало предупреждения должно преобладать в развитом государстве. "Удачное предупреждение, — говорит Ад. Вагнер, — с точки зрения права есть высшее; с точки зрения пользы и практического интереса как отдельных лиц, так и целого народного хозяйства оно точно так же есть важнейшее. Поэтому должно стремиться к тому, чтоб сделать предупреждение возможно правильным и достаточным, с тем чтобы пресечение стало не нужным. Чем выше стоят народное хозяйство и культура, чем более расширяется в особенности разделение труда, народного и международного, чем сложнее становятся отношения и формы оборота, тем необходимее делается предупреждение, ибо наступившее уже нарушение права действует вреднее"[325].
Это воззрение совершенно упускает из виду потребности свободы. Следует сказать наоборот, что именно с точки зрения права, предупреждение несомненно составляет низшую форму, ибо оно более стесняет свободу, которая должна быть правилом, а не исключением. Всеобщая система предупреждения, о которой мечтает Вагнер, была бы равносильна поставлению всего общества под самую невыносимую полицейскую опеку. Но, с другой стороны, столь же несомненно, что точка зрения пользы заставляет иногда отступать от этого начала. Там, где зло неотвратимо и неисправимо, пресечение пришло бы слишком поздно. Так например, когда строится частный пароход, предназначенный для перевозки за море тысяч людей, и от плохого его устройства могут погибнуть экипаж и пассажиры, то правительство вправе требовать, чтобы он был пущен в море не иначе, как с правительственного разрешения, по предварительном осмотре техниками. Сама практика привела к этому английское законодательство. Но если бы правительство вздумало тоже самое правило прилагать ко всем каретам, выезжающим на улицу, то это было бы самое притеснительное и совершенно даже невыполнимое распоряжение. Конечно, тут всегда есть область, предоставленная усмотрению; там, где прилагается начало пользы, нельзя постановить твердых границ. Но основным началом во всяком образованном государстве должно быть то, что предупреждение составляет не правило, а исключение; иначе исчезнет свобода. Поэтому никак нельзя согласиться с Вагнером, что высшее развитие общества требует все большего и большего расширения системы предупреждения. Если высшее развитие осложняет отношения, то оно доставляет вместе с тем большие средства отвращать зло частными усилиями. В публике распространяются разнообразные сведения и вырабатываются известные нравы и привычки, которые заменяют государственную опеку. Последняя нужнее для общества мало образованного, нежели для образованного, так же как частная опека нужна для малолетних, а не для взрослых.
В обеих системах, как предупреждения, так и пресечения, государству принадлежит надзор за исполнением установленных им правил. Этот надзор вверяется или общим правительственным местам, или особым, назначенным к тому органам. Во всяком случае кроме постановлений, ограничивающих частную деятельность, тут является и собственная деятельность органов государства. Но здесь эта деятельность ограничивается наблюдением, преследованием, разрешениями. Гораздо более широкие размеры принимает она там, где самое исполнение принадлежит государству. Это бывает в тех случаях, где принимаются меры общие и отчасти принудительные, например при заразительных болезнях, или когда дается помощь из государственных средств, например в случае голода. Наконец, есть и такие предметы, которые по существу своему находятся в ведении государства. Сюда принадлежит все, что состоит в общем пользовании или требует общей системы, в особенности же то, что по природе своей образуют известного рода монополию. Таковы пути сообщения, почты, телеграфы, монетная система, таможни, карантины, пожарная полиция, водопроводы, благотворительные учреждения и т. д., а в другой области — публичные музеи и учебные заведения. Частью эти предметы находятся в управлении центральных властей, частью в ведении местных. Во всяком случае, тут общественная власть заменяет частную предприимчивость. Спрашивается: в какой мере это должно совершаться?
Этот вопрос относится собственно не к праву, а к политике. Право государства заведовать предметами, которые составляют общую потребность и находятся в пользовании всех, не подлежит сомнению. Но оно может найти более выгодным предоставить их под своим надзором частной предприимчивости, это дело усмотрения. В этом отношении надобно сказать, что государство, вообще, не должно брать на себя то, что может также хорошо быть исполнено частными силами. Если общественная потребность удовлетворяется сама собою, без отягощения публики, то нет нужды употреблять общественные средства. Государство никогда не должно забывать, что оно может поддерживать свои учреждения единственно на счет граждан, с помощью принудительных сборов. Прибегать к этому следует только в случае необходимости. Кроме того полезно, чтобы самодеятельности граждан было предоставлено возможно более обширное поприще. Чем более народ привыкает удовлетворять общие потребности частными средствами, тем более развиваются его силы, тем выше поднимается его благосостояние и тем более само государство находит средств и орудий для исполнения собственно ему принадлежащих задач. Наконец, надобно принять в соображение и то, что государство, действуя по необходимости общими мерами, во многих случаях не в состоянии так приноровиться к потребностям публики, как частные лица, которых вся выгода состоит в правильном удовлетворении этих потребностей. В особенности это относится к тем отраслям, где возможна конкуренция. Последняя, как уже было указано выше, сама собою в большинстве случаев ведет к наилучшему и наиболее дешевому удовлетворению потребителей. Поэтому чем шире конкуренция, тем скорее известная отрасль может быть предоставлена частной предприимчивости.
Мало того: даже там, где предмет по своему свойству составляет монополию, правительство может найти более выгодным отдать его в частные руки. Так, города отдают частным компаниям устройство водопроводов и газового освещения; государство отдает в частные руки железные дороги. Почему это делается? Потому что эти предприятия соединены с промышленною деятельностью, а всякая общественная власть по своей природе плохой промышленник. Но так как предприятие предназначено для удовлетворения общественных потребностей, то отдавая его в частные руки, общественная власть должна смотреть за тем, чтобы потребность действительно была удовлетворена и чтобы частные лица не воспользовались предоставленною им монополиею для получения неправильных выгод в ущерб публике. Поэтому общественной власти принадлежат здесь не только определение условий, но и постоянный контроль. Иначе предприятие может обратиться в орудие вымогательства со стороны владеющих им лиц.
На практике необходимость государственного контроля в железнодорожном деле в настоящее время выяснилась вполне. Нередко даже она выставляется как доказательство против частной предприимчивости. Если этот довод обращается против тех, которые хотят ограничить деятельность государства охранением права, то без сомнения он имеет полную силу. Но если им думают оправдать стремление расширить государственную деятельность в ущерб частной предприимчивости, то он бьет мимо. Железнодорожное дело служит доказательством не в пользу, а против государства как промышленного деятеля. По существу своему оно должно находиться в руках государства: оно составляет монополию; железные дороги состоят в общем пользовании и могут строиться только с помощью принудительного отчуждения земель. Государство дает концессию, обыкновенно на известное число лет, в виде временного владения, после чего дорога возвращается ему как настоящему собственнику. С другой стороны, частная предприимчивость находится здесь в самых невыгодных условиях. Она может действовать только через посредство обширных акционерных обществ, которых недостатки слишком известны. Конкуренция здесь устранена, а с нею вместе устраняется сильнейшее побуждение к хозяйственному ведению дела и к соблюдению интересов публики. Наконец, все дело движется в раз навсегда установленных рамках и под постоянным контролем власти, а нередко и при непосредственном ее вмешательстве. И несмотря на все это частные компании, в общем итоге, все-таки ведут свои дела лучше, нежели государство, когда оно берет предприятие в свои руки. Так например, в Бельгии расходы на казенных дорогах составляют 67 % общей прибыли, на частных — только 56 %; в Германии они составляют на первых 63 %, на вторых — 53, в Австро-Венгрии на первых — 69, на вторых — 63, в Швейцарии на первых — 70, на вторых — 60. В докладе, представленном Бельгийским палатам, это явление объясняется тем, что казенные дороги управляются и контролируются административным путем, а не коммерческим, а это неизбежно ведет к столкновениям и к потере денег[326].
Из этого не следует однако, что государство непременно должно отдавать железные дороги в частные руки. Иногда оно принуждено бывает оставлять их в своем управлении. Многое зависит от состоятельности частных компаний. Могут быть условия, при которых последним даже выгодно вести дело как можно хуже, с тем чтобы получить побольше казенных пособий. Мы это видим на своих глазах. Но в нормальном порядке отдача железных дорог в руки частных компаний под строгим контролем государства все-таки должно быть правилом, а собственное ведение дела исключением.
Обратное отношение представляется там, где дело не имеет коммерческого характера. Как скоро промышленная выгода отходит на задний план и главным началом является общественный интерес, так естественно отдать дело в руки высшего представителя этого интереса — государства. Но здесь возникает вопрос иного рода, именно: насколько государство может допустить конкуренцию частных лиц с учреждениями, находящимися в его ведении?
Поводы к устранению частной конкуренции могут быть разные. Есть предметы, где она устраняется по самому существу дела. Такова, например, монетная система. Государство должно иметь исключительное право чеканки; это составляет необходимое условие правильного оборота.
В других случаях по существу дела могла бы быть допущена конкуренция, но государство устраняет ее по финансовым соображениям. Взявши на себя удовлетворение известной общественной потребности, оно естественно желает, чтобы дело по возможности окупалось, а не падало бременем на плательщиков податей. Между тем, если бы оно допустило частную конкуренцию, то от него ушли бы именно выгоднейшие части дела, а невыгодные остались бы у него на руках. При своей многосложной администрации и неизбежных сопровождающих ее формальностях государство не в состоянии конкурировать с частными лицами, иначе как отказавшись от всякого барыша; но тогда бремя падет на плательщиков. Поэтому без стеснения частной предприимчивости иногда нельзя обойтись. Все, что можно сказать, это то, что следует избегать этой крайности везде, где это можно сделать без ущерба общественным интересам. Слишком стеснительные меры во всяком случае неуместны.
Наконец, частная конкуренция может быть устранена и по соображениям нематериального свойства. Этот вопрос имеет существенную важность для народного просвещения. Должно ли и в какой мере должно государство допускать существование частных учебных заведений рядом с своими?
Некоторые хотят отнять у государства всякое право вмешиваться в учебное дело, утверждая, что эта потребность вполне может быть удовлетворена частными усилиями. Вильгельм Гумбольдт, за которым следует Лабулэ, упрекает общественное воспитание в том, что оно налагает на молодое поколение печать однообразия и втесняет человека в узкие гражданские рамки, чем самым искажается высшая цель развития. Но если правильное воспитание юношества составляет общественную потребность, если эта потребность удовлетворяется главным образом заведениями, открытыми для всех, если, наконец, народное просвещение должно составлять общую систему, то нет сомнения, что оно должно находиться в руках государства. Это тем необходимее, что самое существование политического тела зависит от общего духа граждан, а этот дух всего более создается и поддерживается общественным воспитанием. Цель последнего состоит не в одном развитии духовного многообразия, а еще более в сведении многообразия к единству, необходимому для общественной жизни.
Нельзя однако не согласиться с тем, что при подобной системе на учащееся юношество может быть наложена печать казенного формализма. В общественных заведениях, особенно низших и средних, где по самому возрасту воспитанников допускается менее свободы, это даже в некоторой степени неизбежно. Поэтому весьма полезно рядом с казенными заведениями допускать и частные, облеченные равными правами. Этого требует и самый интерес воспитанников, ибо в частных заведениях возможно более внимательная заботливость о каждом отдельном лице, нежели в общественных заведениях, где неизбежно господствуют общие приемы и однообразные отношения.
Вопрос становится затруднительнее, когда дело идет о заведениях высшего разряда. Высшие школы и университеты не могут учреждаться и содержаться средствами отдельных лиц. Обыкновенно с этою целью составляются постоянные общества; главную же роль играет тут церковь. Частным лицам при хорошем устройстве государственных школ и при надлежащей свободе преподавания нет никакого интереса конкурировать с последними; для церкви же в высшей степени важно иметь влияние на воспитание юношества, особенно там, где светское преподавание идет вразрез с церковными стремлениями. Известно, что по этому поводу во Франции в течение последних пятидесяти лет шла постоянная борьба между католическим духовенством и Университетом. Духовенство и его сторонники, ссылаясь на свободу преподавания, требовали для себя права учреждать особые школы, рядом с государственными. В 1850 г. это стремление осуществилось относительно средних школ, в 1873 г. относительно высших. В Бельгии уже прежде основаны были два свободных университета, католический и либеральный.
Противники этой системы указывают на то, что при таком устройстве высшее преподавание получает крайне одностороннее направление; граждане воспитываются в исключительном духе партий, в ущерб общественному единению. Этому доводу невозможно отказать в значительной вескости. Воспитание в духе партий нельзя признать желательным. Нормальный порядок состоит в том, что образованное юношество стекается в высшие учебные заведения и получает в них воспитание однородное, что не исключает различия направлений в среде преподавателей и учащихся. Дело государства — предоставить преподаванию достаточно широкую свободу, для того чтобы различные взгляды, совместные с общественным порядком, находили в нем своих представителей. Из борьбы мнений вытекает крепкий общий дух, который юноши выносят с собою из школы и переносят в жизнь. Но, с другой стороны, нельзя не признать, что когда раздвоение существует в жизни, трудно помешать ему проявиться и в школе. Свободное государство не может отказать церкви в праве действовать путем свободы на воспитание. При таких условиях допущение конкурирующих школ составляет зло неизбежное, которое имеет однако и свою хорошую сторону, ибо конкуренция заставляет самое государство заботиться о поднятии своих школ, которые при монополии легко могут погрузиться в рутину. И тут надобно сказать, что это вопрос не права, а политики. Право государства не только учреждать высшие учебные заведения, но и не допускать конкуренции в видах общественной пользы, едва ли может быть оспорено. Но не всегда полезно пользоваться своим правом. В свободном обществе исключение свободы может быть оправдано лишь в крайних случаях.
На основании всего сказанного мы можем, наконец, решить вопрос, поставленный в предыдущей книге: каково нормальное отношение государства к промышленности вообще и к интересам рабочего класса в особенности?
Известно, что в прежние времена регламентация промышленности доходила в европейских государствах до крайних размеров. Такой способ действия оправдывался тем, что при цеховом устройстве промышленность составляла привилегию. Раздавая или поддерживая привилегии, государство естественно должно было заботиться о том, чтобы потребности публики удовлетворялись как следует, иначе эта система обратилась бы в орудие вымогательства. Кроме того в правительственной регламентации видели и способ воспитания промышленности. Такова была точка зрения меркантильной системы. Но с водворением промышленной свободы все это миновало. Теперь государство не вмешивается уже в производство. Тем не менее оно сохраняет возможность сильнейшим образом действовать на промышленность теми средствами, которые находятся у него в руках и которых нельзя у него оспаривать. Эти средства суть пути сообщения и международные сношения.
Мы видели уже, что пути сообщения по существу своему должны состоять в управлении или под ближайшим контролем государства. Между тем от них в значительной степени зависит промышленное развитие страны. Производство обусловливается сбытом. Проведение железной дороги поднимает производительность тех местностей, через которые она проходит, направлением ее определяется движение торговли, от высоты тарифов зависит возможность конкуренции. Все это находится в руках государства, которое ввиду поднятия промышленности в будущем нередко налагает на себя даже весьма значительные жертвы в настоящем. Таково значение гарантий, которые даются железнодорожным предприятиям. И тут однако государство не может поступать произвольно, под опасением напрасной потери сил и средств. Оно должно следить за естественным развитием промышленных сил. Его задача — содействовать и предусматривать. Если же оно хочет дать искусственное направление промышленности и торговле, оно вместо пользы принесет стране только вред. Те местности или отрасли, которым следовало содействовать, заглохнут, а вызванные к искусственной жизни не будут процветать. Можно проводить сколько угодно железных дорог и по каким угодно местностям, они не будут приносить дохода и лягут тяжелым бременем на финансы. За примерами ходить не далеко.
То же самое следует сказать и о международных сношениях. И здесь государство имеет в руках могущественный рычаг для действия на промышленные силы. Повышением или понижением таможенных пошлин оно может устранить иностранное соперничество или допустить его в каких угодно размерах; посредством торговых договоров и приобретением колоний оно может открыть туземной промышленности новые пути. Право его оказать покровительство последней едва ли может быть оспорено. Если ограничение внутреннего соперничества представляется несправедливым, как относительно потребителя, которого заставляют покупать дороже, так и относительно устраняемого производителя, которому мешают заниматься тем, чем он хочет, если тут подобное ограничение не может оправдываться даже и общественною пользою, ибо государству все равно, тот или другой из его граждан получает выгоду, то часть по крайней мере этих возражений падает, когда дело идет об иностранном соперничестве. Государство обязано соблюдать выгоды только своих, а не чужеземных производителей и потребителей. Здесь точка зрения национальных интересов вполне приложима, и у государства нельзя отнять право ею руководствоваться. Вопрос состоит лишь в том, насколько она в действительности может оказаться полезною?
Известно, что начало свободы торговли до сих пор одно из самых спорных в экономической науке. Пределы настоящего труда не позволяют нам обсуждать его подробно. Но говоря о деятельности государства в промышленной области, мы не можем не сказать о нем несколько слов.
Защитники свободы торговли несомненно правы, когда они утверждают, что покровительственные пошлины падают тяжелым налогом на потребителя, который составляет все-таки цель всякой промышленной деятельности. Потребитель принужден покупать по дорогой цене нередко даже худшие туземные произведения, тогда как он мог бы купить дешево лучшие иностранные. От этого, без сомнения, выигрывает туземный производитель, в пользу которого установляется известная монополия, но он выигрывает на счет другого, и притом нередко далеко не соразмерно с потерею. Если, например, я могу купить иностранное изделие за 5 рублей, а для того чтобы туземный производитель мог получить 1 рубль барыша, я принужден платить 10, то очевидно, что прибыль будет равняться рублю и потеря пяти. Все это математически верно, а потому всякое ограничение свободы торговли, дающее одним возможность приобретать на счет других, должно рассматриваться как юридическое и экономическое зло.
С другой стороны, столь же несомненно, что всякая вновь зарождающаяся или не достигшая еще надлежащего развития промышленность нуждается в покровительстве. Иначе она не в состоянии выдержать соперничество и должна погибнуть. А так как развитие промышленных сил составляет существенный интерес страны, и этот интерес отражается на благосостоянии всей массы народа, то в этих видах позволительно принести некоторые жертвы. Но именно тут, где жертвы состоят в налогах, взимаемых с одних в пользу других, надобно быть весьма осторожным. Искусственно развиваемая отрасль, для которой нет надлежащих местных условий, составляет чистую потерю для всех, следовательно ведет к общему обеднению. Точно так же и покровительство отрасли, способной стоять на собственных ногах, не только составляет несправедливое отягощение потребителей, но дает искусственное направление промышленным силам, которые естественно стремятся туда, где им представляется более выгоды. Вообще, следует сказать, что свобода торговли составляет идеал промышленного быта, и чем выше стоит производство, тем более оно должно приближаться к этому идеалу. От усмотрения правительства зависит определить в каждом данном случае, насколько существующие условия дозволяют идти в этом направлении.
Кроме указанных средств в руках государства есть и другие орудия, которые могут иметь значительное влияние на промышленное развитие страны. Такова монетная система. От правильности ее зависит верность и устойчивость торговых оборотов. Но здесь вся задача правительства заключается в установлении правильной системы. Всякое от нее уклонение есть зло, которое вредным образом действует на промышленность и которое может быть оправдано только силою обстоятельств. Там, где это уклонение совершилось, главная забота правительства должна состоять в том, чтобы возвратиться по возможности к нормальному пути. Это относится в особенности к заменяющим монету бумажным деньгам, которые доставляют государству весьма легкое средство поддержать свои финансы, но зато падают вдвойне тяжелым бременем на промышленность и на торговлю. Мы возвратимся к этому подробнее в следующей главе.
Не станем говорить об обеспеченности собственности и о юридической верности сделок. Все это начала, которые имеют значение сами по себе и которые только косвенно влияют на промышленность. Во всяком случае, существенная их важность для народного хозяйства не подлежит сомнению.
Что касается до рабочего вопроса, то в этом отношении в настоящее время всего более взывают к помощи государства, но именно здесь оно всего менее может удовлетворить желаниям, особенно в том виде, в каком они формулируются. Выше было доказано, что положение рабочего класса зависит главным образом от отношения капитала к народонаселению. Между тем ни увеличение капитала, ни прирост народонаселения не находятся в руках государства. Над экономическими законами оно не властно. По существу своему оно не призвано быть всеобщим опекуном и благодетелем. Мы видели, что не его дело доставлять людям работу и наделять граждан собственностью. В свободном обществе благосостояние каждого класса зависит от собственной его деятельности. Государство может только оказать содействие и помощь в пределах принадлежащего ему ведомства. Таким образом, разрешить рабочий вопрос оно не в силах: оно может только частными мерами способствовать его разрешению, и в этом отношении, хотя деятельность его по необходимости ограничена, однако она не маловажна.
Прежде всего здесь представляется вопрос об отношении рабочих к хозяевам. Общим правилом должно быть, что государство в частные сделки не вмешивается. Это область гражданских, а не государственных отношений. Частная деятельность определяется частными соглашениями. Однако есть лица, которые сами за себя стоять не могут. Таковы малолетние. Мы видели, что и в семейной жизни государство является их защитником и опекуном. То же самое имеет место и здесь. Отсюда законы, ограничивающие работу детей на фабриках относительно возраста, числа рабочих часов и рода работ. Со стороны государства нередко учреждается и особое наблюдение за исполнением установленных правил. Нет сомнения, что эти законы оказали значительное благодеяние человечеству.
К тому же разряду новейшие законодательства относят и женщин. И им оказывается особая защита ограничением числа рабочих часов и воспрещением работ особенно трудных, например в рудниках. Хотя женщина как взрослая может располагать собою, однако во внимание к слабости пола законодательства не сочли возможным приравнять ее'к мужчинам. И в семейной области, и в политической она пользуется меньшими правами, а потому ей следует оказать большую защиту. Нельзя не сказать однако, что в этом проявляется своего рода опека, которая идет наперекор современным требованиям равноправности женщин.
В совершенно иное отношение государство становится к взрослым мужчинам. Здесь оно обыкновенно берет на себя только ту защиту, которая дается общими юридическими нормами. В пределах же установленных норм каждый должен сам стоять за свои интересы. Положение мужчины может быть весьма тяжелое; он нередко бывает принужден согласиться на невыгодные для него условия. Но государство не поставлено над ним опекуном и не призвано заботиться о его судьбе. Свобода имеет свою оборотную сторону, с которою надобно мириться.
Некоторые законодательства сочли однако возможным и тут положить известные ограничения. Во Франции в 1848 г. под влиянием социалистических требований работа на фабриках и для взрослых мужчин была ограничена 12 часами. В позднейшее время Швейцария последовала тому же примеру: высшим пределом работы на фабриках положено было 11 часов.
Этих постановлений нельзя одобрить. В пользу их говорят, что ограничение числа рабочих часов по необходимости должно быть общею мерою. Частные сделки тут бессильны, ибо при конкуренции производителей одни не могут отставать от других. Но дело в том, что законодательная норма, для того чтобы обнять все случаи и не стеснить жизни, должна ограничиться установлением наивысшего предела, а наивысший предел всегда служит только для исключительных случаев. Поэтому на практике законный размер рабочих часов лишен всякого значения. Так например, во Франции число рабочих часов в действительности не идет выше 10 или 10 1/2, так что закон, в сущности, оказывается безвредным, потому только, что он бесполезен.
Вследствие этого английское законодательство, которое относительно работы детей и женщин шло впереди всех, благоразумно воздержалось от установления каких бы то ни было ограничений для работы взрослых мужчин. Единственное, что оно сочло возможным сделать, это воспретить те способы исполнения обязательств, которые могут вести к обману. Сюда относится обычай платить рабочим предметами потребления, покупаемыми у хозяина (truck system), или рассчитывать их в содержимых хозяином кабаках. Давая защиту юридическим сделкам, государство вправе требовать, чтобы сделки были честны, а потому оно может устранить те способы действия, которые ведут к нарушению этого начала.
Английское законодательство, равно как и французское, пришло, как мы видели, и к установлению третейских судов для разбора пререканий между хозяевами и работниками. Здесь государство поступает совершенно сообразно с своим назначением. Содействовать примирительному решению дел установлением законных правил и придачею юридической силы приговорам — такова истинная задача государства.
Этим не ограничивается его деятельность. Оно может принимать общие и принудительные меры там, где дело идет не о частных сделках, а об общих условиях, среди которых совершается производство. Таковы меры относительно безопасности и здоровья. Мы видели, что они принадлежат к предметам законного ведомства государства. Оно может действовать и запрещениями, и предписаниями, и надзором. С этой стороны законодательной деятельности открывается обширное поле, и то, что сделано до сих пор, послужило к значительному улучшению судьбы рабочего класса.
В связи с этим находится и вопрос об ответственности хозяев за происшедшие в их заведениях несчастия, вопрос, который опять же может быть решен только государством. Это дело законодательства и суда.
В какой степени может и должно государство содействовать учреждениям, имеющим в виду доставлять пособия рабочему классу? И тут оно не может оставаться равнодушным. Всякая мера, клонящаяся к улучшению быта рабочих без ущерба здравым экономическим и политическим началам, должна встретить в нем содействие. Здесь интерес государства усиливается еще тем, что в случае крайности помощь все-таки падет на него. Но необходимо разобрать, что может и должно делать государство и что должно быть предоставлено свободе и частной инициативе?
Есть учреждения, которые по самому их свойству полезно сосредоточить в руках государства. Таковы сберегательные кассы. Здесь не имеется в виду барыш, следовательно, нельзя полагаться на частную предприимчивость. С другой стороны, тут требуется полная обеспеченность вкладов, что опять в частном предприятии не легко достижимо. Вследствие этого государство обыкновенно берет их в свои руки, как учреждения общественной пользы, и жертвует даже более или менее значительные суммы на управление.
В некоторых странах государством учреждены и мелкие ссудные кассы. Таковы во Франции так называемые Monts de Piete. Цель их — давать по умеренным процентам ссуды под залог движимостей, с тем чтобы противодействовать ростовщичеству. Но их операции по необходимости ограничены довольно тесными пределами. Кредит, основанный на доверии к лицу, выходит из нормальной области действия правительственных учреждений, которые по существу своему руководствуются общими началами и не могут входить в соображение личных обстоятельств. Этого рода ссуды, имеющие гораздо более обширное значение, нежели первые, должны поэтому быть предоставлены частным банкам, каковые существуют в Шотландии, или частным товариществам, наподобие тех, которые основаны в Германии Шульце-Деличем. И тут государству позволительно сделать некоторые затраты, когда нужно взять инициативу общеполезного дела или дать ему толчок. Так например, в 1848 г. французское правительство ассигновало 3 миллиона франков для выдачи ссуд возникавшим тогда рабочим товариществам. Но именно неудача этих предприятий показывает, что государство только с крайнею осторожностью должно тратить общественные деньги на помощь, всегда сопряженную с риском, особенно когда она дается лицам малоимущим. Кредит, вообще, служит посредником между желающими поместить свои капиталы и желающими их получить. И тут и там все дело держится коммерческим расчетом и личным доверием. Государство же получает свои средства с плательщиков податей путем принуждения, коммерческий расчет ему чужд, и в рассмотрение личной состоятельности каждого оно входить не может. Поэтому все подобного рода операции в нормальном порядке должны оставаться принадлежностью частной предприимчивости. Как средство подвинуть рабочий вопрос такая система ссуд, если бы она приняла сколько-нибудь обширные размеры, тем менее уместна, что этим установилась бы в пользу рабочих привилегия, которая окончательно пала бы на плательщиков податей. Рабочим не возбраняется конкурировать в предприятиях с капиталистами, но для приобретения капиталов они не должны обращаться к государству и делать податные лица своею дойною коровою. Это было бы обратное отношение против господствовавшего во времена крепостного права, когда низшие классы служили средством для обогащения высших. И то и другое равно противоречит справедливости.
Все эти возражения не прилагаются к вспомогательным кассам, которые составляются взносами самих работников, иногда при участии хозяев и посторонних лиц. Но здесь весьма важно сохранить начало личной инициативы, которое, с одной стороны, развивает предусмотрительность, а с другой стороны, ведет к установлению нравственной связи между различными общественными классами. Замена этих начал государственною опекою вовсе нежелательна. Государство и тут может восполнять недостающее, но оно никак не должно становиться на место общественной самодеятельности. На практике все подобного рода учреждения до сих пор заведуются частными лицами, либо в форме рабочих союзов, как в Англии, либо обществами взаимной помощи, либо, наконец, в виде учреждений, состоящих при фабриках и заводах. Но в последнее время германское правительство заявило намерение вступить на иной путь. Оно предложило парламенту закон об обязательном страховании рабочих от несчастий. По этому проекту все управление этим учреждением должно сосредоточиться в руках государства, которое дает от себя и треть страховой платы; остальные же две трети взимаются с хозяев. Видимая цель предложения состояла в том, чтобы отвлечь рабочих от социализма, показавши им, что государство заботится об их судьбе. В этом смысле предполагается даже принять целый ряд мер, которых означенный закон должен быть только началом. Парламент не утвердил представленного ему проекта; он не согласился принять треть страховой суммы на счет государства и требовал, чтобы она уплачивалась самими рабочими. Но правительство не отказалось от своих планов. На последних выборах этот вопрос был главным центром, около которого вращалась борьба партий. Победа, как известно, осталась пока на стороне оппозиции.
Нельзя не сказать, что германское правительство вступает здесь на весьма опасный путь. Желание отвлечь массы от социализма, без сомнения, весьма законно, но эта цель может быть достигнута только распространением здравых понятий об экономических началах и об отношениях государства к обществу. Когда же правительство, с одной стороны, поддерживает социалистов кафедры, а с другой стороны, внушает работникам, что они всего должны ожидать от государства, то через это зло только усугубляется. Государственный социализм не есть средство бороться с социализмом революционным. Последний настаивает именно на том, что государство призвано удовлетворять всем нуждам; он толкует рабочим, что, взявши власть в свои руки посредством всеобщей подачи голосов, они могут обратить все общественные средства на свою пользу. Современная политика германского правительства, которое одною рукою дарует всеобщее право голоса, а другою обращает государственные деньги на помощь рабочему классу, составляет первый шаг к осуществлению социалистической программы. Всего удивительнее то, что это направление поддерживается охранительною партиею. Когда консерваторы из ненависти к либералам протягивают руку социалистам, то общественному строю грозит опасность в самых его основах.
Общим правилом должно быть, что государственные средства могут идти на помощь частным лицам только в крайних случаях и ограничиваясь возможно тесными размерами. На этом начале должна быть основана общественная благотворительность, имеющая в виду доставление пособий рабочему классу. Всякое отступление от него порождает громадное зло. В этом отношении поучительным примером служат законы о бедных в Англии до реформы 1834 г., которая, наконец, устроила помощь так, что она перестала быть приманкою для праздности или способом переводить деньги плательщиков в руки фабрикантов. Расширение государственной деятельности в этой области всего менее уместно, ибо государство не в состоянии исследовать личные обстоятельства каждого, что именно требуется при благотворительности. Поэтому и здесь частная деятельность должна быть основным правилом; за недостатком же частной благотворительности это дело всего удобнее возложить на мелкие общественные союзы, где люди ближе знают друг друга И лучше могут вникать в частные обстоятельства, именно, на общины и приходы.
Иногда однако же бывает необходимо прибегнуть и к государственной помощи. Когда бедствие значительно и распространяется на обширные пространства, тогда средства мелких союзов становятся недостаточными: нужно принимать общие меры и черпать из государственной казны. Это и делается в случае голода. То же самое происходит, когда вследствие чрезмерного умножения народонаселения рабочие не могут найти на местах достаточных средств пропитания. В таком случае остается один исход — эмиграция. А так как нищенствующее население не имеет возможности выселяться на собственные средства, то приходится опять же прибегать к помощи государства. На этом основании английское правительство в 1847 г. дало значительные суммы на выселение ирландцев. Но и тут надобно сказать, что подобное пособие должно быть не правилом, а исключением. Только значительный размер бедствия оправдывает такое употребление государственных денег. В обыкновенное же время выселение должно совершаться на собственное иждивение переселенцев. Иначе это будет обращение общественных средств на частные нужды.
Есть однако государственные средства, которые по самому своему свойству могут служить пособием нуждающемуся рабочему населению, именно те, которые не получаются с граждан путем принуждения, а состоят в руках государства, иногда даже без всякой пользы. Если у государства есть обширные пустопорожние земли, требующие обработки, то всего полезнее раздавать их на льготных условиях новым поселенцам и в этих видах направить туда избыток рук из слишком густо населенных местностей. Целью должно быть не наделение каждого крестьянина землею: как уже было сказано выше, это — фантастическое представление, унаследованное от крепостного права и неприложимое к свободному обществу. Истинная цель состоит в том, чтобы дать исход избытку сил в известных местностях и тем поднять благосостояние как выселяющихся, которые приобретают новое поле для своего труда, так и остающихся, которые с уменьшением рабочих рук получают возможность повысить заработную плату или снимать земли на более льготных условиях. Государство, имеющее в руках такое орудие, обеспечено против пролетариата. Отсюда важность приобретения колоний, которые открывают новые поприща для свободных сил. Даже завоевание пустынных земель имеет в этом отношении существенное значение: они составляют запас для будущего.
В этих пределах разрешение рабочего вопроса становится в некоторую зависимость от деятельности государства. Последнее не заменяет частной предприимчивости; оно не властно над законами, управляющими экономическим развитием обществ; оно может только в отдельных случаях подать руку помощи и установить те общие условия промышленного быта, которые создаются совокупными средствами союза. В этом отношении влияние государства ограничено. Но своею внешнею деятельностью оно может открывать новые поприща избытку внутренних сил и тем самым уравновешивать их распределение и умерять крайности богатства и бедности. В этом состоит существенная его задача, задача, которую оно может исполнить, не вторгаясь в промышленную область, не посягая на частную предприимчивость, не нарушая экономических законов, наконец, не обирая одних в пользу других. Государство не в состоянии сделать все; но оно может сделать многое, способствуя свободному движению сил, от которого окончательно зависит благосостояние человеческих обществ и решение возникающих в этой области вопросов.
Глава III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
В предыдущей главе мы не раз упоминали о том, что государственные средства суть средства плательщиков. Потребности государства удовлетворяются сборами с частных лиц. Этим путем частная собственность по воле государства превращается в общественную. Спрашивается: на каких началах это совершается и какие тут есть гарантии для граждан? Этот вопрос имеет существенную важность, ибо, как бы ни прочна была собственность, если государство посредством податей может брать все, что ему угодно, то все частное достояние лиц легко может перейти в его руки, и приобретенное одними может быть обращено на пользу других.
Мы коснемся государственных средств только со стороны имущественной, которая одна имеет значение для права собственности. Личные повинности как политические, так и хозяйственные остаются вне пределов нашего исследования. Итак, рассмотрим, какими материальными средствами обладает государство для удовлетворения своих нужд?
Как союз самостоятельный, образующий юридическое лицо, государство имеет свои собственные имущества, некоторые из них составляют источник дохода и таким образом служат средствами для удовлетворения государственных потребностей. Это, так сказать, частнохозяйственный способ получения дохода, которым государство пользуется наравне с частными лицами. Сюда принадлежат главным образом имущества недвижимые, земли, рудники, леса. Некоторые государства имеют и свои фабрики, но последние содержатся не в финансовых видах. Мы видим, что по своей природе государство не промышленник; практика подтверждает это неопровержимым образом. Казенные фабрики обыкновенно служат либо для удовлетворения специальных нужд, например пороховые заводы, либо для производства образцовых изделий, например в иных местах фарфоровые заводы. О монополиях будет речь ниже.
Что касается до означенных трех разрядов недвижимых иму-ществ, то каждый из них имеет свой характер, от которого зависит способность его быть самостоятельным источником государственного дохода.
Земли, по общему признанию, могут служить государству не для собственной обработки, а единственно для раздачи внаймы, Неспособность к промышленному производству устраняет собственное хозяйство. Государство может быть только землевладельцем, получающим известную ренту. Но вопрос заключается в том: выгодно ли ему сохранять земли в своих руках и не полезнее ли продавать их частным лицам, которые могут извлечь из них большую прибыль?
До последнего времени этот вопрос большею частью разрешался теориею в смысле отчуждения. Даже экономисты, вовсе не разделяющие крайних взглядов либеральной школы и вполне сознающие высокое значение государства, склоняются к этому исходу. В финансовом отношении поземельная рента представляет меньший процент с капитала, нежели тот, который государство платит по своим долгам; следовательно, выгодно продать земли и уплатить долги. В экономическом же отношении государству как землевладельцу недостает личного интереса, недостает и хозяйственности; землевладение в его руках не ведет к образованию новых капиталов. "Поэтому, — говорит Лоренц Штейн, — политическая экономия должна требовать то, что допускают финансы, именно, чтобы государственные земли переходили из государственного владения в частное. Для сельскохозяйственных имуществ это можно в настоящее время считать общепризнанным началом". В этих видах управление государственными имуществами должно быть устроено так, чтобы оно "приготовляло переход сельскохозяйственных земель в частную собственность"[327].
В новейшее время против этого взгляда произошла реакция, главным образом с социал-политической точки зрения. Мы рассматривали выше вопрос о национализации поземельной собственности, то есть о переводе ее всецело в руки государства. Те из социалистов кафедры, которые не идут так далеко, считают однако полезным сохранение земель в руках государства в видах ограничения размеров частной собственности[328].
Мы видели уже, что эта социалистическая или полусоциалистическая точка зрения не может быть признана правильною. Частная собственность составляет основание всего гражданского порядка, а потому не должна быть ни ограничена, ни еще менее устранена; напротив, она должна получить полное развитие. Поэтому можно признать, что переход государственных земель в частную собственность составляет идеальную цель государственного хозяйства. Но иной вопрос: когда выгодно и полезно совершить такое отчуждение? В этом отношении и финансовые, и экономические соображения требуют большой осторожности, иначе общественная польза легко может быть принесена в жертву частным интересам.
В финансовом отношении нет сомнения, что доход с государственных земель обыкновенно меньше, нежели тот процент, который государство платит за свои долги. Но, с другой стороны, отчуждая земли, государство лишается того возвышения поземельной ренты, которое происходит вследствие умножения капиталов и народонаселения. Правда, государство в виде подати продолжает получать часть этой возвышенной ренты, на что указывает Штейн; но часть не есть целое. Следовательно, вопрос сводится к тому, когда можно ожидать, что прекратится естественное возвышение ренты? Можно полагать, что этот момент наступает тогда, когда иностранный хлеб в состоянии соперничать на внутренних рынках с туземным. При таком условии конкуренция может поддерживаться только усилением производительности земли и переходом к интенсивному хозяйству, а для этого требуется положение в землю капитала. Но последнее не есть уже дело государства; тут нужен прежде всего хозяйственный расчет. Поэтому как скоро земледелие переходит от экстенсивного хозяйства к интенсивному, так переход государственных имуществ в частные руки становится хозяйственною потребностью. К этому присоединяется и то соображение, что с умножением капиталов и с усовершенствованием средств сообщения, цена иностранного хлеба может еще понизиться, с чем вместе должна понизиться и поземельная рента. Следовательно, государство вместо увеличения доходов может ожидать их понижения. При таких обстоятельствах сохранение земель в руках государства становится безусловно невыгодным.
Против этого можно возразить, что государственные земли составляют достояние не одного, а многих поколений; не следует ли поэтому беречь их для будущего, с тем чтобы постепенно распределять их между нуждающимися в земле? Но мы видели уже, что обращение земель, требующих капитала и интенсивной обработки, в пособие нуждающимся представляет самый невыгодный способ благотворительности. Оно вредно и для народного хозяйства, в котором через это задерживается направление капиталов к земледелию. Наконец, оно несправедливо в отношении к существующему поколению, которое ограничивается в своей деятельности и лишается возможности прилагать свой капитал и труд наиболее производительным способом, чем самым, с другой стороны, уменьшается и достояние будущих поколений. Таким образом, и с экономической точки зрения следует сказать, что с наступлением интенсивной культуры настает пора перехода государственных земель в частные руки.
Все это относится однако единственно к землям обработанным. В ином виде представляется вопрос относительно пустопорожних земель, раздаваемых под новые поселения. Здесь вопрос собственно не финансовый, а экономический, ибо в настоящем эти земли не приносят дохода, а в будущем доход зависит от общего экономического подъема, который может быть только следствием привлечения на место трудолюбивого и промышленного населения. Эта именно цель имеется в виду при раздаче пустопорожних земель. Тут спрашивается: что выгоднее, раздавать их в срочное владение, в потомственное или, наконец, в полную собственность? Выгоднее очевидно то, что наиболее содействует достижению цели, то есть развитию промышленных сил. Нет сомнения, что полная собственность более этому содействует, нежели временное владение, а потому она должна получить предпочтение. Потомственная же аренда, которую в последнее время стали проповедовать некоторые социалисты кафедры[329], есть не более как собственность, лишенная свободы, а потому не удовлетворяющая ни юридическим, ни хозяйственным требованиям. Это возвращение к средневековому порядку.
Раздавая пустопорожние земли, государство должно однако иметь в виду и будущее. Этого требуют равно экономические и финансовые соображения. С одной стороны, полезно сохранить запас для новых поселенцев, с другой стороны, здесь именно государство может ожидать возвышения поземельной ренты, следовательно, приращения доходов. Неразборчивая же раздача земель, особенно лицам, которые не поселяются на месте и не обрабатывают их сами, приносит одинаковый вред и государству, и народному хозяйству. Без сомнения, правительство вправе находящиеся в руках его земли обращать в награду людям, оказавшим услуги отечеству, но когда подобная раздача возводится в систему, то ее нельзя назвать иначе, как расхищением государственной казны.
Итак, мы в обоих рассмотренных нами случаях приходим к одинаковым результатам, именно, что казенные земли должны переходить в частные руки, но не иначе как постепенно, по мере нужды, улучшая время и сохраняя по возможности запас для будущего, там где есть надежда на возвышение цен. Таковы требования здравой экономической и финансовой политики.
Еще менее, нежели землями, государство способно управлять рудниками, здесь промышленный характер становится уже на первый план: требуется приложение значительного капитала, хозяйственное ведение дела, коммерческий расчет. А так как эти качества всего менее можно найти в казенном управлении, то казенные рудники обыкновенно не в состоянии соперничать с частными. Вместо прибыли они приносят убыток. При таких условиях отчуждение их становится требованием не только экономическим, но и финансовым. Это признают даже социалисты кафедры, которые вообще стоят за расширение государственной деятельности в ущерб частной. "Большая деятельность и бережливость, лучшее коммерческое ведение дела, — говорит Адольф Вагнер, — суть специфические преимущества частных предприятий, особенно важные теперь, когда вследствие совершенно изменившейся системы путей сообщения, конкуренция на всемирном рынке становится решающим фактором для рудников и заводов. Неизбежная тяжеловесность казенного производства, ведение дела чиновниками, из которых именно самые дельные при настоящем возвышенном уровне технического образования имеют часто особенную наклонность делать рискованные опыты с казенными деньгами, к чему горное производство представляет столько искушений, огромное значение коммерческой стороны дела и многое другое говорит в итоге за систему отчуждения государственных рудников"[330].
Однако и тут следует поступать с большою осторожностью. Минеральные богатства страны составляют для нее один из важнейших источников благосостояния и дохода; легкомысленное их расхищение не может не считаться величайшим экономическим злом. Осторожность здесь тем нужнее, что раз нанесенное зло неисправимо, ибо минеральные богатства не восстановляются, и разработка их становится все затруднительнее. Лучше сохранять их до поры до времени, нежели истощать их с убытком для себя. Сохранение же их всего надежнее в руках государства. Главные условия частной промышленности заключаются в обилии капиталов, в распространении технического образования и в высоко развитом промышленном духе. Где этих условий нет, передача рудников в частные руки нередко поведет лишь к бесплодной трате денег, к легкой наживе некоторых и к разорению многих. Даже казенное управление лучше частной предприимчивости, не обладающей достаточными средствами и умением.
Нельзя одобрить и отчуждение рудников иностранным компаниям. Это значит делать минеральные богатства страны источником дохода для иностранцев, предоставляя будущей туземной промышленности более бедные и с большим трудом добываемые остатки. Иностранным компаниям можно передавать железные дороги, которые по истечении известного числа лет возвращаются в том же виде государству. Но истощенные минеральные богатства не возвращаются, и если они не превращены в туземные капиталы, то они потеряны для народного хозяйства. Передача же их в срочное владение ведет лишь к тому, что временный обладатель старается извлечь из них возможно большую выгоду в ущерб будущему. Конечно, тут безусловного правила положить нельзя. Где дело идет о пользе, всегда могут встретиться частные соображения, склоняющие весы в противоположную сторону. Могут быть условия, при которых выгодно отдать рудник иностранной компании; но во всяком случае, это должно быть не правилом, а исключением.
Совершенно иной характер, нежели рудники, имеют леса. Можно сказать, что это единственное хозяйственное дело, где казенное управление совершенно уместно. Причина та, что здесь дело идет не столько о получении промышленного дохода, сколько о сохранении лесных богатств страны, к чему государство гораздо способнее, нежели частные лица. Последние всегда увлекаются временною выгодою и готовы даже жертвовать будущим в виду настоящего. Отсюда столь часто встречающееся истребление лесов, которое действует вредно на общее хозяйство, ибо оно уменьшает обилие вод и изменяет самые климатические условия страны. Отсюда стремление европейских государств установить правила даже для частных лесов: предписывается ведение правильных порубок и воспрещается самовольное их уничтожение. Нет сомнения однако, что подобная система составляет вторжение в область частного хозяйства, вторжение, которое может быть оправдано исключительным характером отрасли, но которое во всяком случае является стеснением частной свободы, а потому экономическим злом. Если есть средство избавить себя от необходимости подобной меры, то государство должно к нему прибегнуть, а это средство заключается именно в сохранении за государством количества лесов достаточного для удовлетворения народно-хозяйственной потребности. При таком условии стеснение частной промышленности становится излишним. Для государства же ведение лесного хозяйства не может быть убыточно, ибо тут не требуется ни предприимчивости, ни особенной расчетливости; нужна только однообразно и правильно действующая система, к чему казенное управление весьма способно. Не требуется даже приложение значительных капиталов, доход с лесного хозяйства легко может покрывать издержки. В силу этих соображений желательно не только сохранение значительной части лесов в руках государства, но и по возможности расширение казенного владения.
Таковы главные средства, которые государство почерпает из собственных имуществ. Но так как они совершенно недостаточны для удовлетворения общественных потребностей, то казна волею или неволею принуждена прибегать к сборам с частных лиц. Эти сборы могут получаться двояким путем: или в виде вознаграждения за действия, совершаемые в пользу отдельных лиц (Gebtihren), или в виде налогов, взимаемых для удовлетворения общественных потребностей. Первая форма представляет нечто среднее между частнохозяйственным и истинно государственным способом получения доходов. Вторая же составляет принадлежность государства как верховного союза, в ней выражается власть его над гражданами.
К первому разряду относятся всякого рода сборы и таксы, взимаемые при разных действиях суда и администрации. Здесь имеется в виду, чтобы издержки управления хотя отчасти возмещались теми, которые непосредственно пользуются услугами правительственных лиц и учреждений. Легкость взимания этих сборов делает их удобным средством для получения денег, но так как они одинаково взыскиваются со всех, то размер их должен быть весьма незначителен. Иначе они падали бы невыносимым бременем на бедных. Так например, значительные судебные издержки делают суд недоступным для низшего класса, чем очевидно нарушается справедливость. Вследствие этого вся эта система составляет весьма ничтожную отрасль государственных доходов.
К той же категории следует отнести и разные пошлины, взимаемые при совершении частных актов, как то гербовый сбор, пошлины с отчуждаемых недвижимых имуществ и, наконец, с наследства. Некоторые финансисты отделяют большую часть этих сборов от предыдущего разряда и причисляют их к податям. Признаком различия считают соразмерность взимаемых пошлин с переходящим из рук в руки имуществом. В этом виде пошлина является налогом на оборот[331]. Нельзя отрицать однако, что этот вид пошлин имеет существенную связь с предыдущими. Оборот, с которого они взимаются, есть оборот не экономический, а юридический, и тот же характер носит облагаемое здесь приобретение (Erwerb): тут передается известное право, которое облагается сбором в пользу государства, потому что оно требует защиты, следовательно, издержек. В действительности эта защита может и не потребоваться: пока право не нарушено, государство не вступается. Тем не менее последнее всегда должно быть наготове; учреждения должны существовать, следовательно, и содержаться. Всякий юридический документ представляет собою не только право на вещь, но и право на защиту, и чем более сделок, тем шире и сложнее должна быть организация последней. Поэтому государство имеет право требовать, чтобы всякий, приобретающий право на защиту, уделял что-нибудь на содержание необходимых для нее учреждений. А так как чем больше защищаемое имущество, тем больше интерес в защите, то здесь является возможность соразмерить пошлину с ценностью предмета. Отсюда пропорциональность, которая приближает эти пошлины к системе податей.
Несмотря однако на это внешнее сходство с податями, пошлины с гражданских актов сохраняют свой чисто юридический характер, и в этом состоит существенный их недостаток. Они падают не на доход, а на капитал, следовательно, в экономическом отношении вредны. Мы увидим далее, что экономически могут быть оправданы только подати, падающие на доход, ибо они одни не уменьшают народного богатства и не затрудняют необходимого для экономической жизни оборота. Мало того: даже и в юридическом отношении пошлины, поражающие имущество при его переходе из рук в руки, могут сделаться опасными для частного достояния. Если они достигают значительных размеров, они могут обратиться в средство переводить частное имущество в руки государства. На это именно указывают социалисты и те социал-политики, которые мечтают об ограничении частной собственности. Главным орудием для достижения этой цели должны служить пошлины на наследство. Облагая в значительных размерах прямое наследство и в еще больших размерах наследство боковых родственников, наконец, совершенно устраняя дальние степени, государство может мало-помалу присвоить себе большую часть недвижимых имуществ. Мы уже говорили об этих планах и видели, что они составляют ни более ни менее как систему организованного государственного грабежа. Государство берет себе то, что ему не принадлежит. Оно защиту права обращает в конфискацию права. Без сомнения, оно может, не нарушая справедливости, взимать известную пошлину с наследства, но не более как со всякой другой юридической сделки, требующей защиты. Высший ее размер для боковых линий может равняться годовому доходу, ибо боковой родственник, получающий имущество, которое дотоле ему не принадлежало, легко в состоянии уделить годовой доход государству. В прямой же линии пошлина должна быть по необходимости меньше, ибо иначе наследник может остаться без средств или принужден будет отдать государству часть своего капитала.
Вообще, здравая финансовая политика требует не увеличения, а возможного уменьшения пошлин с юридических актов. Существующие в европейских государствах пошлины не достигают размеров конфискации, но они поражают капитал и затрудняют оборот. Поэтому лучшие финансисты требуют отмены по крайней мере тех из них, которых тяжесть слишком чувствительно падает на отдельные лица. Если государство для защиты прав принуждено содержать сложную и дорого стоящую организацию, то лучше взимать для этого постоянную подать, нежели пользоваться случайными сделками и переходами имущества для получения сборов, которые и без того не могут покрыть всех расходов казны. Во всяком случае все эти доходы составляют для государства не более как подспорье.
Выше в финансовом отношении стоят те таксы, которые взимаются за удовлетворение экономических потребностей общества, но и они имеют ограниченное значение. Сюда принадлежат сборы почтовые, телеграфные, шоссейные, доходы с казенных железных дорог. Здесь могут быть три случая: или эти сборы не покрывают издержек, или они равняются последним, или, наконец, они их превышают. В первом случае недостаток покрывается налогами, это жертва, которая приносится для удовлетворения общественных потребностей. Второй случай выражает собою порядок, который можно назвать нормальным: экономическая потребность должна сама себя окупать, и тут еще более, нежели при частной конкуренции, издержками производства должна определяться цена произведений, ибо государство имеет в виду удовлетворение общественной потребности, а не получение выгоды. Вследствие этого избыток дохода, который является в третьем случае, принимает характер налога на известного рода потребление. Здесь рождается вопрос: составляет ли означенное потребление удобный предмет для обложения и не падает ли сбор неравномерно на жителей? Этот вопрос может быть решен только сравнением со всею остальною системою налогов. Такса, превышающая издержки, может быть оправдана лишь тогда, когда она не стесняет производства и не падает на классы, и без того обремененные податями. Иначе она должна быть понижена.
Это приводит нас к главному источнику государственных доходов, к податям. Они составляют важнейшую отрасль финансового управления, не только в финансовом, но и в экономическом и юридическом отношении, ибо здесь государство приходит в ближайшее столкновение с частным хозяйством и с собственностью граждан.
Общие теоретические основания податной системы весьма просты. Государство есть союз, имеющий целью удовлетворение общих потребностей. Общие потребности очевидно должны удовлетворяться на общие средства. А так как собственных средств государства для этого недостаточно, то удовлетворение должно совершаться посредством сборов с граждан. Эти сборы по самому своему свойству имеют характер принудительный. Каждый член общества обязан участвовать в общих расходах и не может от этого уклоняться. Но по этому самому он имеет право требовать, чтобы сборы шли на удовлетворение общих потребностей, а ни на что другое. Только этим может быть оправдано отнятие частной собственности.
На каких же основаниях распределяются налоги между гражданами?
Налог есть принудительное имущественное отношение граждан к государству; принудительные же отношения граждан как между собою, так и к государству, составляют область права. Основное начало права есть правда; следовательно, правда должна быть определяющим началом в системе налогов. А так как равенство составляет коренной признак правды, то высшее требование правды в этой области заключается в том, чтобы налоги равномерно разлагались на всех.
Какое же равенство имеется здесь в виду? Мы видели, что правда разделяется на два вида: на правду уравнивающую и правду распределяющую. Первая управляется началом равенства арифметического, вторая — началом равенства пропорционального. Которое из двух должно служить основанием системы податей?
От арифметического равенства отправляются те, которые в подати видят плату за оказанные государством услуги. Здесь берется в расчет то самое начало, которое господствует в гражданском обороте, именно, воздаяние равного за равное, за большее — больше, за меньшее — меньше. В приложении к имуществу и это начало ведет к пропорциональности податей, ибо за защиту большего имущества взимается большая плата. Но защита имущества не составляет единственной задачи государства: оно защищает и лица; оно удовлетворяет и другим общим потребностям, к которым понятие о взаимности услуг неприложимо. Вообще, это понятие уместно только там, где дело идет о взаимных отношениях независимых и равных друг другу лиц; между тем государство относится к гражданам не как равное к равному, а как целое к членам. Отношения же целого к членам управляются началом правды распределяющей, следовательно, геометрическая пропорция составляет коренное правило при распределении налогов. А так как налог есть отношение имущественное, ибо им определяется отношение частных имуществ к общим потребностям, то приложение к нему начала правды распределяющей ведет к требованию, чтобы каждый платил подати соразмерно с своим имуществом. Это и есть начало пропорциональности налогов, которое и в науке, и в практике признается идеальным выражением справедливости.
С каким же имуществом должны соразмеряться налоги? Налог есть ежегодно возобновляемый сбор; он составляет постоянный доход государства. Следовательно, он должен падать на ту долю частного имущества, которая возобновляется ежегодно, то есть на доход. Государственный доход извлекается из частного. Отсюда общее правило, что налоги не должны падать на капитал. Подобный налог юридически представляется несправедливым, а экономически вредным: он несправедлив, ибо он падает исключительно на владеющих материальным капиталом, обходя доход, получаемый с капитала духовного, он вреден, ибо он поражает производительность в самом ее источнике и тем умаляет промышленные силы страны. По известному сравнению Монтескье, это — способ действия диких народов, которые рубят дерево, чтобы сорвать плод.
Таковы простые и ясные начала податной системы, начала, признанные наукою и с которыми, по возможности, соображаются законодательства. Видеть в них нечто коммунистическое, как делает, например, Ад. Вагнер[332], значит играть словами. На пропорциональности основаны и акционерные компании, которых однако никто не считает явлениями коммунизма. Те начала, которые проповедуют социалисты, имеют совершенно иной характер. По их теории, средства на удовлетворение государственных потребностей должны получаться не с частных лиц, а из общего дохода. Так как все производство должно сосредоточиваться в руках государства, то последнее имеет полную возможность взять себе предварительно то, что ему нужно, и затем остальное распределить между гражданами соразмерно с их работою. Таким образом, доход каждого уменьшается в совершенно одинаковой степени, и без всяких издержек и хлопот достигается полная пропорциональность[333].
В этой системе не общее хозяйство образуется из частных, а наоборот, частные составляют только остаток общего. Вместо того чтобы государственные потребности удовлетворять взносами частных лиц, здесь частные лица удовлетворяются тем, что им дает государство. Пропорциональность достигается, но единственно уничтожением свободы и самостоятельной деятельности граждан. В таком виде задача, без сомнения, значительно упрощается: уравнять материально рабов не мудрено; трудно уравнять свободных людей. Тут не требуется и особенных издержек для взимания податей, но опять же единственно потому, что тут нет никаких податей. Зато государство берет на себя все издержки производства. А так как в руках казны эти издержки всегда громадны и будут тем больше, чем обширнее производство, то можно полагать, что за вычетом потребного для общества, частным лицам не остается почти ничего. Гражданам не приходится платить податей, потому что они уже заранее кругом обобраны.
Развивая эту систему, Шеффле ссылается на то, что и в настоящее время государство не довольствуется прямыми податями, взимаемыми с частных доходов, а прибегает к косвенным налогам, которые захватывают имущество на пути к потреблению, то есть, по выражению Шеффле, оно, так же как и в социалистической теории, "черпает большими ведрами из социального потока благ" (aus dem socialem Guterstrom) прежде, нежели эти блага распределились между частными лицами, только оно делает это с большими издержками и с нарушением справедливости. Почему же однако это делается с большими издержками и почему тут не может быть соблюдена полная пропорциональность, как в социалистической системе? Именно потому что косвенные налоги, так же как и прямые, берутся не из общего потока, а с имущества частных лиц. Где бы казна ни захватила это имущество, в производстве, в обороте или в потреблении, оно все-таки есть имущество частное, ибо оно произведено частною деятельностью и находится в частных руках; а потому и тут нет того коммунистического характера, который Шеффле приписывает косвенным налогам. Социальный же поток благ, из которого государство черпает полными ведрами, — не что иное, как метафора, а с метафор налоги не взимаются.
Если чисто социалистическая точка зрения ведет к уничтожению налогов вследствие уничтожения самых частных хозяйств, с которых они берутся, то социал-политическая точка зрения преследует иные цели. Она признает самостоятельность частных хозяйств и истекающую отсюда систему податей, но она требует, чтобы государство, распределяя подати, не ограничивалось финансовою задачею, то есть удовлетворением общественных потребностей посредством возможно справедливого распределения тяжестей, а имело бы в виду социальные цели, именно, уравнение имуществ[334].
Можно сказать, что эта последняя точка зрения в некотором отношении даже хуже предыдущей. Та по крайней мере полагает себе идеальною целью справедливость, хотя она осуществляет ее совершенно превратным образом, здесь же сознательно полагается целью несправедливость. Государство должно пользоваться своею властью, для того чтобы отнимать у одних и давать другим. Нельзя не признать, что тут есть фальшь в самом принципе. В истории мы видим классы, обремененные податями, и другие, от них изъятые. Это происходит главным образом оттого, что государство придает последним иное значение, нежели податных сил. Так по средневековому воззрению дворянство давало государству свою службу, духовенство — свои молитвы, третье сословие — свои деньги. Но высшее государственное развитие ведет к уничтожению этих различий и вследствие того к распределению общественных тяжестей равномерно на всех. Это процесс медленный, в котором государство идет, соображаясь с практическою возможностью. Нередко при полном юридическом равенстве главное бремя податей все-таки остается на массе, потому что она в своей совокупности представляет несравненно большую податную силу, нежели ничтожное меньшинство зажиточных классов. Но высшею целью все-таки остается справедливость, то есть пропорциональное равенство. Требовать же, чтобы государство воспользовалось податною системою для уравнения состояний, значит делать его безусловным распорядителем частной собственности и частной жизни, чем оно в благоустроенном обществе никогда не должно быть. Это извращение нравственного существа государства, обращение правомерной и благодетельной власти в насилие и беззаконие.
Поэтому нельзя признать правильным и прогрессивный налог, за который стояли и отчасти доселе стоят некоторые даже значительные экономисты. В пользу его говорят, что богатому легче нести тяжести, нежели бедному. Лишение известной доли дохода для последнего чувствительнее, нежели для первого, ибо он принужден бывает сокращать даже необходимые расходы, тогда как богатый теряет только излишек. Но тяжесть податей не может соразмеряться с субъективным чувством, которое не подлежит оценке. Для человека, стоящего на известном уровне жизни, лишение известной доли дохода может быть даже чувствительнее, нежели для более бедного, не имеющего тех же потребностей. Если основанием для распределения налогов должна служить справедливость, то тяжесть их не может соразмеряться ни с чем иным, кроме имущества. Иначе мы впадем в область чистого произвола, ибо нет причины, почему бы прогрессия остановилась на известном пределе, почему бы она не была больше или меньше. При такой системе от воли государства зависит отнять у зажиточных классов все, что ему угодно. По выражению Милля, это — "обложение пристрастное, которое равнялось бы смягченной форме грабежа"[335].
Нельзя согласиться и с доводом Штейна, который, бывши долго противником прогрессивного налога, окончательно склонился в его пользу, хотя в ограниченном размере. Причину высшего обложения крупных капиталов он полагает в том, что больший капитал, давая больший избыток над потребностями, имеет и большую силу для образования новых капиталов. Эту-то высшую силу следует облагать соразмерно с ее производительностью[336].
Эта теория имеет как будто некоторую заманчивость, а между тем она страдает весьма существенными недостатками. Если сила капитала означает его производительность, то последняя выражается именно в доходе, а потому, когда капитал облагается соразмерно с приносимым им доходом, то он облагается сообразно с своею силою. Это и есть пропорциональный налог. Но если мы под силою капитала будем разуметь не способность его приносить доход и способность давать излишек за удовлетворением потребностей, то мы не только потеряем всякое мерило, но мы будем облагать то, что менее всего подлежит обложению. В самом деле, в силу чего от дохода остается излишек, который обращается в новый капитал? Единственно в силу сбережения. Капитал не сам собою рождает новый капитал, это происходит не иначе, как через посредство человеческой бережливости. Облагать же бережливость и несправедливо, и не хозяйственно. Сколько человеку нужно на удовлетворение его потребностей и сколько он в состоянии сберечь, об этом никто судить не может: это дело чисто личное. А потому государство не имеет ни малейшей возможности установить здесь какое бы то ни было мерило: всякое будет чистым произволом. Но облагать бережливость и притом совершенно произвольным путем в высшей степени вредно для народного хозяйства. Существеннейший интерес как общества, так и государства состоит, напротив, в том, чтобы бережливость по возможности поощрялась: ей следует дать полный простор. Чем быстрее растут в стране капиталы, тем выше общее благосостояние. Сберегаемый излишек заплатил уже государству свою дань, уделивши ему соразмерную часть общей суммы дохода; остальное должно находиться в полном распоряжении лица. Через это накопляемый капитал делается источником нового дохода как для самого владельца, так и для государства, которое с этого нового дохода будет взимать новую подать. Облагая в высшем размере этот излишек, государство тем самым умаляет прирост капиталов и подрывает источник собственных своих будущих доходов. Это опять способ действия диких народов, которые рубят дерево, чтобы сорвать плод.
Рядом с усиленным обложением крупных доходов социальная точка зрения требует и освобождения мелких. Еще Бентам предлагал изъять от податей наименьший размер дохода, необходимый для существования, и ту же сумму вычитывать и из всех высших доходов, признавая ее свободною от подати. Милль поддерживает это предложение, считая несправедливым облагать в одинаковой мере необходимое и излишек. За то же начало стоит и Штейн, который существенным требованием свободы признает возможность возвышаться по общественной лестнице и видит противоречие этому требованию в податной системе, облагающей необходимое и тем лишающей человека возможности приобретать излишек. Это освобождение наименьшего размера средств существования он называет "социальным изъятием от податей" (die sociale Steuerfreiheit)[337].
Этот последний довод нельзя признать основательным. Возможность для рабочих классов возвышаться по общественной лестнице должна вытекать из всего экономического быта, а не из дарованной им привилегии. Главным определяющим началом является здесь не податная система, а отношение капитала к народонаселению, от чего зависит высота заработной платы. Изъятие пролетариев от податей может даже идти наперекор цели, способствуя их умножению. Вообще, влияние государства в этом деле должно быть более отрицательное, нежели положительное. Первая и главная его задача состоит в том, чтобы относительно всех соблюдать справедливость, открывая равное поприще для всех и не обременяя одних в ущерб другим. Как же скоро мы становимся на точку зрения справедливости, так нет сомнения, что богатые и бедные равно должны нести общественные тяжести, каждый соразмерно с своими средствами, ибо все равно суть граждане государства. Привилегированного изъятия от податей не должно быть ни для кого, ибо оно составляет изъятие от гражданских обязанностей. Как все одинаково призываются к защите отечества, так все одинаково должны помогать ему своими средствами. В этом состоит достоинство гражданина, которого не должен быть лишен и пролетарий. С другой стороны, однако, нельзя не согласиться, что уплата податей может быть чрезвычайно обременительна для человека, едва имеющего насущный хлеб. Если во имя справедливости все должны быть обложены равномерно, то человеколюбие может требовать изъятия. Но тут уже мы становимся не на точку зрения государственных финансов, а на точку зрения благотворительности.
Благотворительность же касается не целых классов, а отдельных лиц. Во имя человеколюбия можно, конечно, допустить изъятие от налогов для тех лиц, которых крайняя бедность будет доказана. Здесь вопрос переносится на практическую почву. Он решается участием местных органов в распределении податей.
При существовании косвенных налогов, падающих преимущественно на низшие классы, вопрос об изъятии наименьшего необходимого дохода от прямых податей может представляться и требованием справедливости. Тут уже дело идет не о привилегии, а об уравнении. В действительности косвенные налоги весьма часто имеют именно этот характер; в таком случае, справедливо снять с низших классов соответствующее бремя прямых податей. Такая замена прямых налогов косвенными в обложении низших классов представляет, как мы увидим далее, весьма существенные выгоды. К этому рано или поздно склоняется финансовая система, соображающая идеальные требования справедливости с действительными средствами плательщиков.
Мы приходим здесь к вопросу об отношении теоретических начал финансового управления к практическому их приложению. В теории все кажется просто и ясно: надобно взимать налоги пропорционально доходу каждого, таково высшее требование правды. Но как скоро мы хотим осуществить это начало в действительном мире, так перед нами возникают бесчисленные затруднения. Если мы взглянем на то, что происходит в жизни, мы увидим, что расстояние между теориею и практикою весьма значительно. Теория отправляется от чистых начал справедливости, практика же берет деньги там, где их можно найти. Между этими двумя направлениями происходит взаимодействие, которого история чрезвычайно поучительна. Случалось, что практика, откинув в сторону всякие понятия о соразмерности податей, старалась взвалить все бремя на те классы, которые менее всего были в состоянии за себя стоять. Но через это государство уничтожало главные источники своих доходов, а так как с неимущих ничего не возьмешь, то с возрастанием расходов оно все-таки принуждено было искать денег там, где они обретались, то есть приблизиться к требованиям справедливости. С другой стороны, случалось и то, что государство, совершенно покинув практическую почву, задавалось чисто идеальными требованиями. Такое явление было в первую Французскую революцию. Но тут настоятельная нужда заставляла его снова возвратиться на землю и принять в соображение жизненные условия. Из этого двоякого течения возникла в европейских государствах система податей, которая, далеко не представляя осуществление идеала, приближается к нему однако настолько, насколько позволяют существующие практические данные и местные особенности каждой страны.
Главная трудность для установления пропорционального налога заключается в невозможности определить доход каждого. Есть доходы, которые подлежат приблизительно верной оценке, но другие совершенно ей не поддаются. Если правительство захочет само определить все доходы, то обложение будет и стеснительно, и произвольно, и неравномерно. Свободное движение жизни с ее бесконечным разнообразием ускользает от правительственного контроля. Вследствие этого законодательства, устанавливающие общую подать с дохода, принуждены довольствоваться собственным показанием лиц. Но тут является другого рода препятствие. Так как проверить собственные показания в большинстве случаев весьма затруднительно, то в результате честные граждане облагаются в большей мере против бесчестных. Терпимою эта неравномерность становится только тогда, когда подать поглощает собою лишь весьма небольшую часть дохода: тогда нет слишком больших побуждений к утайке. К этому и приходят современные законодательства. Но в таком случае подоходный налог не в состоянии удовлетворить всем потребностям государства. По общему признанию, он может только восполнять, а не заменять другие налоги. Следовательно, надобно искать иного пути.
Этот путь состоит в разделении податей по источникам дохода. Надобно взять каждую отрасль отдельно и по некоторым внешним признакам стараться определить ее доходность. Разумеется, тут можно принять в расчет только среднюю доходность производства. Но именно это определение средней доходности по внешним признакам представляет громадные затруднения. Отсюда рождается сложная система податей, которая старается обнять все источники дохода, но может сделать это лишь весьма неравномерно, ибо они неодинаково поддаются определению. Теоретическое требование остается идеалом для законодателя, но практика приближается к нему только издалека. Она должна принять в соображение и возможность справедливой оценки, и большую или меньшую стеснительность взимания, и необходимые при этом издержки, и, наконец, экономические требования общества. Подать должна быть не только справедлива, но и возможно менее стеснительна для промышленности и для частной жизни. Иначе она может обратиться в невыносимый полицейский гнет и парализовать все промышленное развитие страны. Здесь область, где вторжение государства в частную жизнь и в частную деятельность грозит серьезною опасностью свободе граждан.
Из различных источников дохода всего более, по-видимому, поддается правильной оценке земля. Она представляет объект видимый и неизменный, производство здесь однообразное и явное. Однако и тут определение настоящего дохода сопряжено с значительными затруднениями. Точное определение совершается посредством кадастра, операции сложной и трудной, требующей громадных издержек и возможной только при весьма искусном личном составе. Во Франции кадастрация земель продолжалась более сорока лет, поглотила 150 миллионов франков и все-таки не привела к удовлетворительным результатам. Оказалось, что сделанные в начале оценки были весьма неточны. Кроме того, с течением времени в доходности земель произошли значительные перемены, вследствие которых кадастральные цифры перестали соответствовать действительности. Требовался пересмотр, но тут представилось новое затруднение. Поземельный налог менее всех допускает изменение цифр. Он поглощает известную часть дохода, доходом же определяется самая ценность земли, которая представляет соответствующий доходу капитал. Вследствие этого налог ложится на землю как постоянная гипотека, на столько уменьшающая ценность и доходность участка; при переходе имений из рук в руки уплачивается ценность, соответствующая доходу за вычетом подати. Если подать низка, покупщик платит больше, если она высока, он платит меньше. При таких условиях всякое изменение подати несправедливо изменяет положение владельца: возвышение налога отнимает у него часть капитала, понижение составляет для него чистый подарок. Точно так же и при разделах, когда выделяемая сумма остается долгом на имении, всякое возвышение подати несправедливо поражает остающегося владельца, ибо она падает на него целиком, тогда как в сущности он владеет только частью ценности имения. К этому надобно прибавить, что земледелие требует долгосрочного кредита, а чтобы пользоваться им, надобно рассчитывать на постоянство дохода, следовательно и на постоянство податей. По всем этим причинам некоторые весьма значительные экономисты, например Ипполит Пасси, безусловно противятся всякому изменению поземельного налога, как бы он ни был неравномерен. Они утверждают, что эта неравномерность сделалась уже достоянием жизни и что всякое ее изменение будет нарушением приспособившихся к ней интересов.
Законодательства, как французское, так и прусское, стараются разрешить вопрос тем, что поземельный налог обращается в подать, взимаемую путем распределения. Общая сумма налога остается неизменною, приблизительно неизменным остается и распределение ее по областям, внутри же областей распределение по округам, общинам и, наконец, по отдельным лицам предоставляется местным комиссиям, которые принимают за основание кадастральные данные, но соображаются и с изменяющимися обстоятельствами. Таким образом, колебания происходят лишь в ограниченных размерах, через что уменьшается их вредное действие. Но настоящее уравнение через это все-таки не достигается, и вопрос о пересмотре кадастра остается открытым. Во Франции он возбужден, но ввиду значительных представляющихся при этом затруднений, к нему доселе не решаются приступить.
Теоретически, конечно, невозможно стоять за безусловную неизменность налога. Это значило бы признать раз установившуюся случайность за норму и лишить государство законно принадлежащего ему источника дохода. Но ввиду того что интересы приспособляются к существующему порядку, нельзя не признать, что тут следует поступать с крайнею осторожностью и постепенностью. Иначе вместо желанной равномерности получится несправедливое отягощение одних и облегчение других.
Гораздо меньше затруднений представляет подать с строений, тесно связанная с поземельным налогом. Она имеет в виду обложение дохода, получаемого с домов. Поэтому она должна сообразоваться с наемною платою, за вычетом издержек и погашения. Но так как дома отдаются внаймы и составляют предмет дохода главным образом в городах, то это подать по существу своему городская. В селах же, за исключением пригородных дач, она естественно должна соединяться с поземельным налогом.
Подать с жилищ может однако иметь и другое значение. Даже когда законодатель прямо имеет в виду обложить доход домовладельца, она легко может быть перенесена на нанимателя посредством возвышения наемной платы. Против этого законы бессильны. Но иногда законодатель прямо имеет в виду обложить не хозяина, а нанимателя. В таком случае налог перестает быть податью с недвижимого имущества, он становится налогом на движимость. И тут он падает на доход, а так как этот доход может проистекать либо от промышленного капитала, либо от личной деятельности владельца, то и налог на наемное помещение принимает двоякий характер: налог на промышленные помещения составляет существенный элемент общего промышленного налога, налог же на жилые помещения составляет форму личного налога на хозяина. Через это мы от недвижимой собственности переходим к другим источникам дохода.
Промышленным налогом облагается доход с промышленного капитала. Если по внешним признакам нелегко определить доходность земли, то здесь эта трудность несравненно больше. Один стоячий капитал подлежит оценке, оборотный же капитал ускользает от всякого определения. Поэтому чем больше в предприятии преобладает последний, тем менее оно подлежит правильному обложению. Торговые обороты и кредитные операции, которые приносят иногда громадные доходы, можно сказать, менее всего участвуют в удовлетворении государственных потребностей. Самый доход с стоячего капитала до такой степени зависит от состояния рынка и от более или менее хозяйственного ведения дела, что постоянной нормы тут установить невозможно, а потому государство принуждено довольствоваться весьма слабым обложением. Сравнительно с земледелием промышленность несет мало тяжестей.
Главная форма, в которой совершается обложение, есть патент. Установляются многочисленные разряды, отчасти по местностям, отчасти по объему производства, и по ним распределяются различные предприятия. Местные разряды имеют значение преимущественно для ремесел, которые пользуются местным сбытом и которых доходность зависит поэтому от густоты населения. Для фабрик и заводов, сбывающих свои произведения на дальних рынках, местное положение не имеет значения. Тут принимаются в расчет обширность помещения, количество машин и орудий, число рабочих. Во Франции, где это законодательство получило наибольшее развитие, к постоянной цифре поразрядного налога прибавляется изменяющаяся такса, соразмерная с наемного ценностью помещения. Из всего этого образуется весьма сложная система, которой затруднительность в применении видна из того, что пререкания по патентному сбору количеством дел превышают вдвое пререкания по всем остальным прямым податям, а если принять в расчет сумму тех и других, то превышение оказывается в 14 раз. И при всем том равномерность все-таки не достигается, и значительнейшая часть промышленных доходов почти совершенно ускользает от обложения.
Совершенно не подлежат патентному сбору те доходы с капиталов, которые получаются с долговых обязательств, частных или государственных. Спрашивается: не следует ли обложить их особым налогом?
Что касается до частных ссуд, то в огромном большинстве случаев они делаются для промышленных целей, все равно происходит ли это путем личных сделок <или> через посредство банков. Ссужаемый капитал помещается в промышленное предприятие и облагается вместе с последним. Поэтому особый налог на ссуды равнялся бы двойному обложению. Уплачивать его приходилось бы все-таки заемщику, ибо неизбежным последствием подобного налога было бы возвышение процента. А так как, с другой стороны, этому налогу не подлежали бы промышленники, работающие с своим собственным капиталом, то очевидно, что тут водворилась бы неравномерность самого худшего свойства. Бремя пало бы единственно на нуждающихся, и кредит сделался бы дороже.
Несправедливость двойного обложения не имеет места там, где промышленный налог взимается с дохода за вычетом долгов. Если в акционерном предприятии облагается дивиденд, то нет причины не облагать и облигации, ибо дивиденд получается за вычетом процентов по облигациям. Но так как акционерные предприятия через это были бы поставлены в иные условия, нежели другие, то обыкновенно этот способ обложения к ним не применяется. Доход с акций облагается только общим подоходным налогом.
Наконец, вовсе не входит в состав промышленных предприятий капитал, ссужаемый государству. Но тут возникает вопрос: насколько государство имеет право облагать налогом своих собственных кредиторов? Нет сомнения, что особого налога на доход с государственных кредитных бумаг не может быть. Государство обязалось платить известный процент по заключаемым им займам, облагать этот доход налогом значит произвольно уменьшать процент, то есть отказываться от исполнения своих обязательств. Но, с другой стороны, если все доходы одинаково облагаются общим налогом, то несправедливо делать исключение для государственных кредиторов. Через это они были бы поставлены в более выгодное положение, нежели прежде, ибо кредит, даваемый государству, соразмеряется с тою прибылью, которую можно получить в других отраслях производства. Если последние облагаются новым налогом, то нет причины делать изъятие для первого. Надобно только заметить, что подобное обложение может невыгодно отразиться на будущем кредите государства. При заключении новых займов кредиторы будут принимать во внимание не только существующее обложение, но и возможность повышения налога. В особенности это невыгодно для государств, которые заключают займы иностранные.
В общем итоге очевидно, что по самому свойству капитала, обложение его всегда незначительно. Государство не может существенно увеличить промышленные налоги, иначе как в ущерб и самому себе и экономическому развитию общества. И чем выше налог, тем скорее большинство капиталов ускользнет от обложения. Подать будет падать крайне неравномерно, промышленность будет стеснена и получит неправильный ход, кредит вздорожает, капитализация сократится, а между тем государство с огромными издержками все-таки получит лишь весьма небольшой доход. Вследствие этого легкость обложения составляет здесь коренное начало финансового управления.
Совершенно иной характер имеют подати на труд. Тут можно опасаться лишь одного, именно, чтобы они не были слишком тяжелы. Таковыми, действительно, они обыкновенно бывают в странах, где при недостатке капиталов и при обилии земли труд составляет главный источник дохода.
Правомерность обложения труда не подлежит сомнению. Мы видели уже, что все граждане должны нести свою долю тяжестей, следовательно, и трудящиеся. И чем большее участие в производстве падает на долю труда в сравнении с землею и капиталом, тем эта тяжесть должна быть больше. Поэтому в бедных странах главное бремя податей неизбежно лежит на рабочем классе. Это бремя может быть чрезвычайно велико; тут главный вопрос состоит в том: каким образом можно сделать его возможно более равномерным?
Самую обыкновенную форму обложения труда составляет поголовная подать. Основание ее заключается в том, что физические силы людей приблизительно равны, а потому и получаемый с них доход облагается одинаково. Сама практика приводит к этому законодательства, которые значительную часть податного бремени возлагают на физический труд. В этом отношении история русской податной системы весьма поучительна. В древности у нас существовала посошная подать. При подвижности населения иная система была неприложима, ибо земля составляет постоянный, видимый податной объект, а бродячие рабочие силы уловить было невозможно. Но, с другой стороны, земля получала хозяйственное значение единственно вследствие приложения к ней рабочих рук. Громадные пустынные пространства не приносили никакого дохода. Отсюда необходимость облагать только обработанные земля. Но так как при беспрерывных переходах населения количество обработанных земель постоянно менялось, то из этого не могло выработаться никакой правильной системы. Вследствие того с развитием государственных потребностей пришлось искать иного исхода и перенести податное бремя на настоящий предмет обложения, то есть на рабочие руки. И точно, Московское государство, с одной стороны, прикрепляет рабочих к местам, с другой стороны, заменяет постепенно поземельную подать иными формами, падающими на лица. Первым шагом в этом направлении было введение подворной подати. Двор был центром обработанного пространства земли, а потому, казалось, мог служить единицею обложения. Но при переходах или побегах крестьян самые дворы нередко оставались пусты. Притом же для избежания налога в одних дворах сосредоточивалось много рабочих рук, а другие покидались. Поэтому законодательство силою вещей окончательно принуждено было сделать податным объектом то, что приносило настоящий доход, то есть рабочую силу. При Петре введена была подушная подать, причем, однако, душа была принята только за единицу обложения, самое же распределение было предоставлено обществам. Таким образом, земля обратилась в придаток к рабочей силе; а так как души, или тягла, облагались одинаково, то каждая единица наделялась равным с другими количеством земли.
Все это однако могло быть более или менее разумно, только пока земли было много и она не имела самостоятельной цены. С увеличением же народонаселения и с соответствующим уменьшением свободных земель распределение податей единственно на основании рабочей силы должно было сделаться весьма неравномерным. В одном месте земли было мало, в другом много; в одном месте она почти без труда давала обильную жатву, в другом и при значительном труде получался скудный урожай. Вследствие этого физический труд перестал быть настоящим мерилом дохода.
К неравномерности при изменившихся условиях присоединяется и стеснительность подати. Поголовная, или подушная, подать уместна там, где податные лица прикреплены к месту жительства, ибо тут их легко найти. Но как скоро в обществе водворяется свобода, так взимание личной подати значительно затрудняется. Надобно следить за лицами во всех их передвижениях, а это возможно только при весьма стеснительной системе, ограничивающей свободу движения граждан и подвергающей их обременительным формальностям.
Тем не менее сразу отменить личную подать не представляется ни справедливым, ни полезным для государства. Пока земля в сравнении с народонаселением находится в изобилии, а капиталы, напротив, скудны, труд занимает в производительности такое место, что снять с него податное бремя и перенести его на землю и промыслы нет возможности. Только при относительно высоком промышленном развитии и при умножении капиталов можно обойтись без прямых налогов на рабочую силу, ограничиваясь одними косвенными податями. Труд и в последнем случае продолжает подлежать налогу, ибо совершенное его изъятие было бы несправедливостью, но он облагается иным путем, о котором будет речь ниже. Самые прямые подати на труд не совершенно исчезают даже при высшем экономическом развитии, но они ограничиваются наименьшим размером. Так например, во Франции еще со времени Революции установлена личная подать (contribution personnelle), равняющаяся цене трехдневной работы с каждого лица. Этим утверждается коренное начало, что каждый гражданин должен не только косвенно, но и прямо участвовать своими средствами в удовлетворении общественных нужд.
Существенный недостаток всякой поголовной подати состоит в том, что она все лица облагает одинаково, а потому может постигнуть только низшую форму труда, физическую работу. Между тем высший труд дает и высший доход, и этот доход должен по справедливости был обложен. Но по каким признакам возможно это сделать? В самом лице нет признаков, по которым можно было бы судить о большей и меньшей доходности его работы. Чтобы прийти в этом отношении хотя бы к отдаленно верной оценке, существует только одно средство: надобно принять в соображение то, что человек на себя расходует. Это и стараются делать законодательства. Французский закон с личною податью соединяет так называемую подать с движимости (contribution mohiliere), которая соразмеряется с наемного платою за лично занимаемую владельцем квартиру. В Пруссии в 1820 г. взамен отмененных личных податей введена была классная подать (Klassensteuer), распределяющая податные лица по классам, сообразно с оценкою их хозяйственных расходов.
Французская система имеет ту выгоду, что она основывается на простом и ясном признаке, не требующем стеснительного вмешательства в частное хозяйство. Но как французская, так и прусская системы имеют ту невыгоду, что люди семейные, которых расходы увеличиваются несоразмерно с доходами, обременены более других. Кроме того обе системы поражают не один доход с труда, а также и всякие другие, уже обложенные податью. Очевидно, что землевладелец, капиталист, фабрикант, ремесленник производят свои расходы точно так же, как художник, врач или адвокат, хотя первые уже уплатили государству часть своих доходов, а вторые нет. Вследствие этого классная подать, падающая на потребление, является как бы видом общего подоходного налога. Так она и была понята в Пруссии, когда в 1857 г. там введен был подоходный налог. Классная подать, соразмеряющаяся с потреблением, оставлена была для доходов ниже 1000 талеров; доходы же, превышающие 1000 талеров, подчинены подоходному налогу.
Мы видели уже, что последний во всесторонне развитой финансовой системе может рассматриваться лишь как восполнение других. Только там, где прямые налоги почти не существуют, как в Англии, он заменяет их все. Здесь это ничто иное, как грубый способ оценки, первоначально введенный в виде временной меры вследствие финансовых нужд государства, но к которому общество более или менее привыкло. Там же, где существуют прямые подати, исчисляемые на основании более или менее точного измерения предполагаемого дохода, этот налог получает иное значение. По определению Штейна, он должен взиматься с разницы между исчисляемым и действительным доходом[338]. Эта разница происходит главным образом от личного элемента, от которого окончательно зависит большая или меньшая доходность предприятия. Это та часть, которую мы выше назвали прибылью предпринимателя. Но так как эта часть не может быть определена на основании внешних признаков, то здесь приходится прибегать к собственному показанию податного лица. В этом заключается отличительная черта подоходного налога. С другой стороны, однако, нет возможности ограничиться одними собственными показаниями облагаемых, через это открылся бы слишком большой простор бесчестности, которая прямо извлекала бы отсюда свои выгоды. Поэтому необходима проверка. Но эта проверка должна совершаться с крайнею осторожностью и с большим тактом, иначе она может обратиться в орудие притеснений и сделаться невыносимым вторжением в частную жизнь. Нет подати, которая нуждалась бы в более утонченном внимании к разнообразию жизненных обстоятельств, как именно эта. По выражению Штейна, она требует высокого политического развития граждан, она требует и чиновничества, равно одаренного высоким образованием и безупречною честностью; в этом смысле, говорит Штейн, "подоходный налог составляет идеал податной системы"[339].
Нет однако же необходимости облагать этот источник дохода отдельно от прочих. Прибыль предпринимателя не составляет отдельной отрасли производства, обыкновенно она входит как составная часть в другие отрасли. Поэтому и подоходный налог может не составлять особой подати, а входит в состав других податей. Это делается или в виде местной раскладки общей податной суммы по средствам плательщиков, или в виде особого прибавления к исчисляемой правительством подати, или, наконец, как особая форма обложения, в которую входит собственное показание лица. Если же устанавливается отдельный налог на все отрасли дохода, то справедливость требует, чтобы из действительного дохода, определенного на основании собственного показания лица, вычитался доход, облагаемый в прямых податях, иначе будет двойное обложение. Так и делается в Австрии. Установленный там в 1849 г. подоходный налог падает на землевладельцев в виде известной процентной прибавки к поземельному налогу; при исчислении же платы с промышленных предприятий вычитывается патентный сбор, и только излишек является в виде подоходного налога. Полностью облагаются только не подлежащие прямым податям доходы с личной деятельности и ренты с капиталов. В Пруссии таких исключений не делается, вследствие чего поземельный доход облагается вдвойне. На это в настоящее время ссылается прусское правительство как на доказательство в пользу повышения пошлин, покровительствующих земледелию. Но какой смысл в том, чтобы один и тот же предмет облагать вдвойне и затем для уравнения давать ему особые привилегии в виде покровительственных пошлин?
Во всяком случае, как уже было замечено, подоходный налог вследствие низкого обложения может дать государству лишь сравнительно небольшой доход, и чем беднее страна, чем меньше в ней капиталов, тем этот доход будет меньше. В Англии, где он заменяет почти все прямые налоги, он давал в 1879 г. 9.250.000 фунтов на слишком 83 миллиона фунтов государственного дохода. Размер обложения здесь не более 1 1/5 % с дохода. В Австрии в 1878 г. этот налог давал 20 миллионов гульденов на слишком 325 миллионов гульденов дохода, в Пруссии — 30 миллионов марок на 713 миллионов марок дохода. А так как и другие прямые подати, в особенности падающие на промышленный капитал и на личный труд, облагают действительный доход лишь в весьма небольшой пропорции, то оказывается, что вся сумма прямых податей далеко не соответствует тому, что государство могло бы получать при равномерном обложении всех источников дохода. Поэтому при одних прямых податях государство не в состоянии справиться с своею задачею, они не доставляют ему достаточных средств для удовлетворения его потребностей. Опять, следовательно, нужно искать иных путей.
Кроме дохода предметом обложения может быть расход. Он производится из дохода, следовательно, указывает на средства плательщика. Мы видели уже, что в податях, падающих на лицо, государство имеет это в виду. Но всякая попытка прямого обложения расхода дает лишь весьма небольшие результаты. Уловить расход в частном хозяйстве нет никакой возможности, а всякое усиление фискальной деятельности в этом смысле ведет к такому невыносимому вмешательству в частную жизнь, что государство должно от этого безусловно отказаться. Есть некоторые предметы потребления, которых прямое обложение относительно легко. Таковы выставлявшиеся на показ предметы роскоши: лошади, экипажи, прислуга. Именно вследствие этого законодательства не раз пытались облагать их податями. Но только в очень богатых странах эти налоги дают суммы, хотя сколько-нибудь окупающие хлопоты и издержки. В Англии они сохранились до сих пор. Во Франции же, где они были установлены во времена Революции, они по своей бездоходности были отменены уже при Наполеоне I, в 1806 г. В Пруссии этот налог был введен в 1810 г., после Иенского погрома, когда государство принуждено было напрягать все свои средства для своего возрождения, но он приносил так мало, что причиненные им стеснения вовсе не окупались, а потому он был отменен в 1814 г., еще до окончания войны с Наполеоном, как скоро обстоятельства приняли благоприятный оборот.
Чтобы обложить надлежащим образом потребление, надобно застигнуть его прежде, нежели предметы перешли в руки потребителей. Такова цель косвенных налогов, которые взимаются с предметов потребления при производстве, провозе или продаже. Косвенными они называются потому, что они по своему назначению должны падать на потребление, но уплачиваются производителем или продавцом, которые вознаграждают себя в цене произведений.
Косвенные налоги во всех государствах составляют один из важнейших источников дохода. Они служат необходимым восполнением прямых податей и только с их помощью государство в состоянии удовлетворять своим потребностям. В первую Французскую революцию Учредительное Собрание во имя теоретических начал отменило их, но Наполеон, который держался практики, принужден был их восстановить. В самом деле, выгоды их громадны как для казны, так и для плательщиков. Несмотря на значительные издержки взимание их не представляет особенного труда и дает весьма крупные суммы. Плательщикам же эта система доставляет то преимущество, что они не связаны срочною уплатою. Исключая предметы первой необходимости, которые всегда нужны, потребитель волен распоряжаться своими издержками. Он покупает, когда ему удобно, он может даже сокращать свои расходы. Входя в цену произведений, подать становится незаметною.
Есть однако и оборотная сторона, которая заставила многих даже значительных экономистов выступить противниками косвенных податей. Если бы налог мог распространяться на все предметы потребления, соразмерно с их ценностью, то он падал бы равномерно на всех потребителей. Но именно этого невозможно достигнуть. Обложение всех предметов совершенно немыслимо, надобно довольствоваться теми, которые находятся в наибольшем употреблении. Но так как потребление последних не увеличивается соразмерно с доходом и налог фактически не может соразмеряться с ценою произведений, то некоторые по крайней мере из этих податей падают тяжелее на низшие классы, нежели на высшие. Социалисты воспользовались этим обстоятельством, чтобы провозгласить незаконность всех косвенных податей. Лассаль объявил, что они составляют злокозненное изобретение достигшего власти мещанства, которое этим путем сваливает все податное бремя на рабочие классы[340]. Внимательное рассмотрение предмета убеждает нас однако, что при надлежащем устройстве косвенных податей большая часть этих возражений падает; возгласы же социалистов, по обыкновению, оказываются пустою декламациею. Главные формы косвенных налогов суть таможенные пошлины и акциз. Иногда они принимают и форму казенной монополии, в каком случае они перестают уже быть чистым налогом, а составляют нечто среднее между податью и собственным производством.
Таможенные пошлины могут взиматься со всех предметов, привозимых из-за границы, причем государство может соразмерять налог с качеством и ценою произведения. Тут, следовательно, понятие о неравномерности налога вовсе не прилагается. Государство может даже совершенно освободить от пошлин предметы первой необходимости, потребляемые низшими классами, и обложить главным образом предметы роскоши. Но здесь являются соображения совершенно иного рода, которыми определяется таможенная политика.
Относительно предметов, которые не производятся внутри государства, надобно принять в расчет, что возвышение цены ведет к сокращению потребления; следовательно, при высокой пошлине казна получит менее, нежели при низкой. От этого, конечно, не выиграет ни государство, ни потребитель, оба, напротив, будут в чистом убытке. Отсюда ясно, что высота таможенной пошлины в этом случае не произвольна, она должна соразмеряться с потреблением. С чисто финансовой точки зрения пошлина должна быть понижена настолько, чтобы она не мешала потреблению; в этом заключается вместе с тем и выгода потребителя.
Что касается до предметов, которые производятся внутри страны, то здесь надобно постоянно иметь в виду, что всякая таможенная пошлина возвышает цену внутренних произведений, следовательно, тут является двойственный налог, один в пользу казны, другой в пользу туземного производителя. Но если налог в пользу государства составляет требование справедливости, то никак нельзя сказать того же о налоге в пользу частного производителя. Подобный налог может оправдываться экономическими соображениями, о чем было уже сказано выше, но целью все-таки должно быть возможное понижение пошлины. К этому ведет и сама покровительственная система, если она действует правильно; ибо по мере того как цель ее достигается и туземная промышленность развивается настолько, что она может соперничать с иностранною, ввоз иностранных изделий сокращается, а при таких условиях понижение пошлины становится необходимостью, иначе казна не получит дохода и потребитель будет только напрасно обложен в пользу производителя.
В предыдущие века таможни существовали и внутри государств. Но они до такой степени стесняли промышленность, что отмена их может считаться одною из важнейших мер, содействовавших экономическому развитию новых обществ. В настоящее время внутренние таможни сохраняются в некоторых государствах только вокруг более или менее значительных городов для взимания городских пошлин с ввозимых предметов потребления. Во Франции этот налог носит название octroi. Хотя он падает на предметы первой необходимости, но так как жительство в больших городах не обязательно и поселяются в них только те, которым это выгодно или приятно, то и этот налог нельзя признать неравномерным. Происходящее от него вздорожание предметов потребления падает главным образом на зажиточные классы, которые принуждаются более дорогою ценою оплачивать необходимую для них прислугу и работу. В экономическом же отношении эта пошлина имеет ту выгоду, что она противодействует чрезмерному привлечению народонаселения к большим городам. Следовательно, и эта форма косвенного налога не может быть осуждена.
Остается акциз, от которого не может уйти ни один потребитель. О равномерном обложении потребления тут не может быть речи, ибо огромное большинство предметов потребления ему не подлежит. Акциз по необходимости должен ограничиться немногими статьями и притом такими, которых потребление весьма распространено. Иначе доход не окупит издержек и не вознаградит за стеснения. Но здесь надобно различать, на какие предметы падает акциз: на предметы необходимости или на такие, которые могут считаться излишком?
Акциз, падающий на предметы необходимости, бесспорно составляет весьма тяжелое бремя для низших классов, тем более что он падает неравномерно. Потребление этих предметов не возрастает соразмерно с доходом. Здесь вполне применимы возражения экономистов. Поэтому надобно прийти к заключению, что подобные налоги или вовсе должны быть отменены или должны взиматься в весьма небольших размерах. Наиболее легкий из них есть налог на соль. Людьми она потребляется в небольшом количестве, а потому оплачивается без затруднения, употребление же ее для скотоводства составляет самый удобный способ взимания налога с этой отрасли промышленности. Конечно, и соляной налог, если он достигает значительных размеров, может сделаться тяжелым бременем для народа. Таковым он был в старой Франции, где он к тому же сопровождался неслыханными фискальными притеснениями. Учредительное Собрание отменило его вместе с другими косвенными налогами, но Наполеон его восстановил, и самые демократические правления не пытались его уничтожить. Для государства он составляет весьма важное подспорье. В особенности там, где финансы находятся не в цветущем состоянии, отмена этого налога не может не считаться ошибкою.
Если предметы необходимости должны облагаться акцизом в возможно меньших размерах, то нельзя сказать того же о предметах, составляющих излишек. Здесь возражения, предъявляемые против косвенных налогов, теряют большую часть своего значения. Главные из этих предметов суть сахар, табак и вино.
Что сахар должен быть отнесен к предметам роскоши, в этом едва ли может быть сомнение. Ссылаться на то, что он входит в обычное потребление рабочего класса, как делает Лассаль, значит утверждать, что уровень жизни рабочего класса так высок, что он включает в себе и предметы роскоши. Во всяком случае, если бы налог сделался тяжел, то весьма легко сократить потребление без всякого ущерба для каких бы то ни было существенных потребностей жизни. С другой стороны, столь же несомненно, что потребление этого предмета возрастает по мере дохода. Конечно, точных статистических цифр привести невозможно, но достаточно сравнить потребление сахара в богатых домах и в бедных, чтобы в этом убедиться. Следовательно, это предмет во всех отношениях удобный для акциза. И тут здравая финансовая политика должна соображаться с интересом потребителей. Цель казны состоит в том, чтоб получить как можно более дохода, но эта цель достигается не чрезмерным повышением налога, которое ведет к совращению потребления, а такою цифрою, которая, не стесняя плательщиков, оставляет достаточный простор для развития потребления.
Еще в большей степени все эти соображения применяются к табаку. Тут уже нет ничего, кроме чистой прихоти. А так как эта прихоть весьма распространена, то нет предмета, который представлял бы лучший источник дохода для государства. Поэтому правительства обращают на него особенное внимание. Но здесь является трудность двоякого рода: с одной стороны, нелегко соразмерить налог с ценностью произведения, что необходимо для равномерного обложения, с другой стороны, при высокой пошлине развивается контрабанда, за которою мудрено уследить. Избежать этих затруднений можно только системою монополии. Казна берет продажу табака в исключительное свое ведение. Ввиду финансовых целей делается в этом случае изъятие из начала свободной промышленности. Государство присваивает себе известную отрасль, с тем чтобы облегчить тяжесть, падающую на остальные. Без сомнения, производство в этой отрасли через это значительно стесняется; частные лица, возделывающие табак, могут продавать его только в казну, а потому все производство должно состоять под его надзором. Но это жертва, которую промышленность приносит государству и. которая до некоторой степени искупается для производителей возможностью правильного сбыта, а вследствие того и более постоянным доходом. Во всяком случае, казенная монополия является только в виде изъятия из общего порядка, а так как эта система всего удобнее прилагается к табаку, который не составляет предмета необходимости и которого продажа не требует особенного коммерческого расчета, то многие значительные финансисты, не только практики, но и теоретики, высказываются за эту меру[341].
Наконец и вино, а в особенности спиртные напитки, только в весьма небольших размерах могут считаться жизненною необходимостью. Более значительное их потребление составляет излишек, нередко даже и порок. Хотя государство, вообще, не призвано искоренять пороки, да и не в состоянии этого сделать, но когда собственная его финансовая выгода совпадает с ограничением порочной наклонности, то этим преимуществом нельзя пренебрегать. Вредною эта система может сделаться лишь в том случае, когда правительство, вместо того чтобы ограничивать порочную наклонность, старается ее развивать в видах финансовой прибыли. Но это дело уже не теории, а приложения. Теория говорит только, что крепкие напитки составляют один из лучших предметов обложения, наиболее выгодный для казны и наименее стеснительный для граждан, которые поражаются в своем излишке и притом добровольно.
Можно спросить: не падает ли этот налог неравномерно на граждан? Спиртные напитки, которые, особенно в странах, не производящих виноградного вина, составляют главный источник казенного дохода, потребляются преимущественно низшими классами; налог же на вина высшего качества весьма трудно соразмерить с их ценностью. Нет сомнения однако, что при обложении напитков высшие классы несут свою весьма значительную долю налога, особенно там, где потребляются главным образом иностранные вина, которые оплачиваются таможенного пошлиною. Когда Лассаль ссылается на то, что таможенные пошлины, например с шампанского, составляют весьма ничтожную сумму общего налога, он упускает из виду численное отношение различных классов народонаселения. Если из 17 миллионов жителей Пруссии в 1863 г. только 11400 человек имели более 2000 талеров дохода, то мудрено ли, что налог на шампанское давал ничтожный доход, а налог на водку весьма значительный? И тут государство не вольно взимать ту сумму, какую ему угодно. Возвышая пошлину, оно сокращает потребление и тем делает подрыв самому себе, с отягощением потребителей. В косвенных налогах в конце концов распоряжается не государство, а потребитель. Если получаются большие суммы с продажи спиртных напитков, то это происходит единственно оттого, что низшие классы много пьют, а так как никто их к этому не принуждает, то несправедливого тут нет ничего. Значительность суммы служит только признаком, что у рабочего класса есть значительные излишки.
Из всего этого ясно, что косвенные налоги, падающие на предметы услаждения, не могут считаться обременительными для низших классов. Напротив, они составляют один из лучших источников государственных доходов и всего более облегчают тяжесть податей. Прямые подати скорее даже могут сделаться обременительными для граждан, ибо они способствуют возвышению цен на предметы первой необходимости. Так, высота поземельной подати отражается на цене земледельческих произведений. Промышленный налог принимается в расчет фабрикантом как издержка производства, которая должна оплачиваться прибылью. Вследствие этого Лассаль, ополчаясь против косвенных налогов, причислял к ним и все прямые подати, утверждая, что окончательно они все там падают на рабочие классы. Исключение он делал только для подоходного налога, который, по его мнению, один несется теми самыми лицами, которые им обложены[342]. Как будто подать с дохода землевладельца, взимаемая на основании предварительного исчисления, непременно должна возмещаться в цене произведений, а та же подать, взимаемая на основании собственного показания владельца, не может иметь этого действия! Подобные доводы сами себя опровергают.
Верно здесь то, что прямые налоги, точно так же как и косвенные, могут возмещаться возвышенною ценою произведений и вследствие того оплачиваться не теми лицами, с которых они взимаются, а окончательно потребителями. В этом состоят перемещение податей, вопрос, над которым нередко задумывались и экономисты, и финансисты. Государство, по общему признанию, должно заботиться о справедливом распределении тяжестей; но какая есть возможность справедливого распределения, когда то лицо, которое облагается податью, имеет возможность свалить ее на другого, возвысив цену пускаемого в оборот предмета? Многие ввиду этого старались выяснить, при каких именно условиях возможно перемещение и какие подати окончательно падают на самих плательщиков. Другие экономисты, напротив, утверждают, что всякая подать составляет часть издержек производства, ибо она принимается в расчет производителем, точно так же как процент с капитала и заработная плата, а потому она непременно входит в цену произведений и окончательно оплачивается покупателем. При таком взгляде весь вопрос о перемещении податей становится праздным, он заменяется вопросом о производстве податей. Каждый производитель, по этой теории, должен в цене своего произведения воспроизвести все издержки производства, в том числе и подати; если он не в состоянии это сделать, то он продает в убыток, и подать не окупается. В этом состоит начало и конец всей податной политики[343].
Справедливо ли однако, что всякая подать в конце концов непременно оплачивается потребителем? В действительности это далеко не всегда бывает. Если поземельный налог, как признается и защитниками этой теории, ложится на землю в виде гипотечного долга, которым на столько уменьшается капитальная ценность имения, то очевидно, что он не возмещается в цене произведений: иначе он не имел бы никакого влияния на ценность земли. Верно то, что всякий, платящий подати с своего производства, старается вознаградить себя в цене произведений, но это не всегда удается. Надобно знать, готовы ли потребители платить высшую цену за то же количество произведений. Обыкновенно повышение цены ведет к сокращению потребления. В таком случае часть податного бремени непременно падает на производителей. Чтобы повысить цену, надобно уменьшить предложение, то есть сократить производство, а на это требуется время. Чем больше стоячий капитал, тем труднее это сделать. Надобно притом, чтоб существовали другие, более выгодные отрасли, в которые капиталы могли бы переходить. Однако, если подать тяжела, то в течение более или менее продолжительного времени это непременно совершится, ибо капиталы всегда стремятся туда, где получается более дохода. Тогда действительно ценность произведений возвысится, и подать падет на потребителей.
Таким образом, вопрос о перемещении податей сводится к вопросу о перемещении промышленных сил. Каковы бы ни были подати, промышленность всегда к ним окончательно приспособляется. Как вода, вытесняемая плывущим по ней судном, она по своей природе стремится к известному уровню. В земледельческой промышленности это делается отчасти через сокращение производства, отчасти через то, что с доходом соразмеряется самая ценность земли. В других отраслях это совершается перемещением капиталов. Подать является здесь как лишняя издержка или как отягчающее условие, с которым соображается распределение промышленных сил. И этим самым достигается справедливость, ибо несмотря на неравное бремя податей доходы окончательно уравновешиваются. Чего государство с своим грубым и однообразно действующим механизмом не в состоянии достигнуть, то делается свободным передвижением бесконечно разнообразных и всюду проникающих промышленных сил, действующих под влиянием личного интереса. Финансовая система находит здесь необходимую поправку, без которой даже приблизительное осуществление требований справедливости осталось бы не более как мечтою.
Приспособление промышленности к податной системе требует однако же времени. Перемещение сил совершается не вдруг, равновесие установляется постепенно. Когда же оно установилось, то всякий новый налог, нарушая его, вместе с тем нарушает и справедливость. Тут требуется новое перемещение сил, и пока оно не совершилось, одни через меру отягчены против других. Иногда подать с формальной стороны представляется неоспоримым требованием уравнительного обложения, а в приложении она имеет совершенно обратное действие. Что может, например, казаться справедливее, как обложить податью земли, дотоле от нее изъятые? Но на деле промышленность приспособилась уже к этому изъятию, соображаясь с ним, покупатели дороже платили за привилегированные земли и в результате получают с своего капитала совершенно одинаковый доход с другими. Следовательно, обложение их налогом, лишивши их части обычного дохода, будет равносильно отнятию у них части капитала. Очевидно, что вместо справедливого уравнения тут происходит несправедливое отягчение. На этом основании когда в Пруссии в 1851 г. поземельная подать была распространена на привилегированные земли, то владельцы получили от государства вознаграждение.
Отсюда проистекает и часто повторяемое правило, что всякая старая подать хороша, а всякая новая дурна, правило, которое можно принять однако не иначе, как с ограничениями. Справедливо, что промышленность приспособляется ко всякой податной системе, но если податная система дурна, то и промышленность получает ложное направление, а это не может не действовать вредно как на экономический быт, так и на финансовое положение страны. Всякая подать составляет лишнее неблагоприятное условие для той отрасли, на которой она лежит; она действует как препятствие, и чем она тяжелее, тем более задерживается правильное развитие. Поэтому существенная задача государства состоит в установлении возможно уравнительной и легко переносимой системы податей. Но стремясь к этой цели, оно должно действовать с крайнею осторожностью. Оно никогда не должно забывать, что оно имеет дело с свободными силами, которые следуют собственным своим законам и в значительной степени ускользают от его влияния. Устанавливая новую подать или повышая старую, государство не может даже знать, на кого окончательно падет бремя, ибо перемещение податей зависит от экономических отношений, которые не только не поддаются регулированию, но не могут даже быть предусмотрены. Во всяком случае новая подать является злом, ибо она нарушает установившееся экономическое равновесие, а через это она неизбежно ведет к несправедливому обложению и к потере сил и капиталов. Только время исправляет эти недостатки. При таких условиях коренным правилом финансовой политики должно быть, с своей стороны, приспособление к экономическому развитию общества. Где есть взаимодействие двух самостоятельных элементов, там необходимо должно быть обоюдное приспособление. В приложении к финансам это требование заключается в том, что возвышение податей должно следовать за развитием благосостояния. Где увеличиваются доходы, могут увеличиваться и подати. В этом отношении косвенные налоги имеют огромное преимущество перед прямыми. Они без всякого повышения цифры платежа растут сами собою вследствие увеличивающегося потребления. Правительству не нужно исследовать состояние плательщиков, оно обнаруживается само собою в возрастании доходов казны. Поэтому возрастающая доходность косвенных налогов служит самым верным мерилом благосостояния общества.
Означенное правило финансовой политики прилагается и к обложению различных общественных классов. На низших ступенях экономического развития, где капитал почти не существует, а земля имеет значение только вследствие приложения к ней рабочих рук, главное податное бремя естественно падает на труд, который служит здесь важнейшим деятелем производства. А так как при отсутствии капитала добровольное привлечение труда к производству немыслимо, то на этих ступенях установляется рабство. Свободный труд является только с умножением капитала, вместо насилия труд привлекается платою. Однако и здесь пока капитал еще незначителен и в народном хозяйстве количественное начало преобладает над качественным, главное податное бремя все-таки остается на рабочих классах. На это именно, как мы видели, указывает Лассаль, который приписывает этот порядок эгоизму мещанства, желающего свалить податное бремя на других. Но им же самим приведенные цифры обнаруживают истинную причину этого явления. Там, где рабочие составляют 96 % всего народонаселения, а люди, имеющие доход свыше 2000 талеров, не достигают и 0,07 %, там податное бремя, падающее на зажиточные классы, естественно должно составлять самую ничтожную долю государственных доходов, и если бы государство несмотря на то захотело увеличить это бремя, облегчив низшие классы, оно достигло бы результатов совершенно противоположных тем, которые оно имело в виду.
Облегчение низших классов бесспорно составляет одну из важнейших задач финансовой политики. Но когда снимается тяжесть, надобно знать, на что пойдет образующийся через это излишек? Если на возвышение бытового уровня рабочего класса, то цель достигнута. Но возвышение бытового уровня составляет плод медленного развития нравов. У классов, не имеющих привычки к сбережениям, внезапно приобретенный избыток обыкновенно идет либо на излишества, либо, что еще хуже, на умножение народонаселения. В таком случае получится обратное действие против того, которое предполагалось. Через некоторое время количество рабочих рук увеличится, заработная плата понизится, и положение будет хуже, нежели прежде. Выше мы видели, что главное условие для развития благосостояния заключается в том, чтобы капитал возрастал быстрее, нежели народонаселение. В этом отношении податное бремя, лежащее на низших классах, служит для них сдержкою размножения, а для высших побуждением к капитализации. Если эта сдержка будет снята, то народонаселение умножится. А между тем возрастание капитала не только не получит соразмерного ускорения, а напротив, замедлится. Ибо снятое с низших классов бремя падет на высшие, то есть именно на те, которые, по признанию самих социалистов, имеют привычку капитализировать[344]. Напрасно ожидать, что это поведет к сокращению проистекающих от излишка ненужных расходов. И у зажиточных классов есть свой бытовой уровень, который установляется нравами и который понижается лишь тогда, когда пресекается самый источник доходов. В общем итоге расходы высших классов сократятся только тогда, когда не будет более излишка, то есть когда прекратится умножение капитала. Между тем не только прекращение, но даже всякое замедление в приращении капитала составляет бедствие для страны. Если умножению народонаселения дан будет толчок, а умножению капитала положено будет препятствие, то в конце концов окажется всеобщее разорение. Это и есть единственный плод ложно понятого человеколюбия, или стремления к отвлеченной справедливости, не соображающегося с действительными условиями жизни.
Здравая финансовая политика и тут должна следовать за ходом экономического развития. Облегчение низших классов может быть только результатом умножения капиталов. Чем меньше народный капитал, тем медленнее он растет, ибо тем менее остается избытка. Напротив, чем он значительнее, тем быстрее его рост и тем более он может принять на себя общественных тяжестей. Когда же вследствие приращения капитала в государственных доходах оказывается избыток, тогда является возможность облегчить бремя низших классов, отменив все те подати, которые поражают необходимое, и оставив лишь те, которые падают на излишек. Этим достигается справедливость и вместе с тем установляется такая финансовая система, которая при разнообразии обложения легко падает на все общественные классы. Полная соразмерность обложения с чисто финансовой точки зрения и тут не достигается, ибо никакая финансовая система при существующих у государства средствах не в состоянии ее достигнуть; но промышленность и потребление, не стесненные в своих действиях, приспособляются к неизбежным неравенствам закона и производят то равномерное распределение общественных тяжестей, которое составляет идеальную цель всякой правильной финансовой политики.
С обложением высших классов связан и политический вопрос. Налогом отнимается у частных лиц известная доля их собственности. Если это делается помимо их воли, то частная собственность, составляющая неотъемлемое достояние лиц, находится в полном распоряжении государственной власти. Такой порядок противоречит правомерным отношениям между государством и гражданским обществом. Идеально правомерный порядок устанавливается лишь там, где обе заинтересованные стороны участвуют в решении. Если, с одной стороны, частная собственность составляет неотъемлемое право граждан и если, с другой стороны, оказывается необходимым удалить часть ее на государственные нужды, то плательщики должны призываться к обсуждению этих нужд, и подати должны взиматься не иначе, как с их согласия. Таково чисто теоретическое требование, которое выражается в известном английском изречении, что представительство должно соответствовать обложению. Однако же это требование является не более как выражением отвлеченной теории, или идеального порядка. Даже в Англии оно не прилагается вполне. В действительности оно встречается с другим столь же существенным требованием, которое значительно его видоизменяет. А именно, для того чтобы решить, что нужно для государства, необходимо основательно понимать государственные потребности, а это невозможно без более или менее широкого теоретического и практического образования. Низшие классы, которые несут значительную часть податного бремени, не обладают этим качеством, поэтому, только на весьма высокой степени политического развития является возможность распространить на них право голоса. Пока они к этому не приготовлены самою политическою жизнью, представительство по необходимости ограничивается высшими классами. Вследствие этого отношение представительства к обложению на практике получает иное значение: установление или поддержание представительного порядка становится в зависимость от обложения высших классов.
Там, где подати более или менее равномерно разлагаются на всех, где нет различия податных и неподатных сословий, там высшие классы, подчиняясь налогу, естественно стремятся к тому, чтобы их призывали к совету при обложении. При таком порядке для взимания податей обыкновенно требуется согласие плательщиков. Из этого правила вытекла вся конституционная жизнь Англии. Наоборот, где высшие классы вследствие исторических и политических условий лишены представительного права, там они в силу означенного начала освобождаются и от платежа податей. Тут является различие между податными сословиями и неподатными. Все бремя податей ложится на низшие классы, и граница обложения определяется единственно невозможностью брать с них более, нежели они могут дать. Вместе с тем здесь открывается обширное поле всякого рода притеснениям и злоупотреблениям. Беззастенчивое правительство может довести народ до нищеты. Старый порядок во Франции служит тому живым примером. Но это бедственное положение народа проистекает не столько от преимуществ, дарованных высшим классам, сколько от беззащитности низших. При данных началах политического быта уравнение было бы только распространением одинакового деспотизма на всех. Привилегии служат здесь убежищем свободы. Они должны пасть только тогда, когда развитие политической жизни дозволяет введение представительного порядка. Только при этом условии равенство, сочетаясь с свободою, не является выражением общего бесправия.
Мы приходим к коренному вопросу о значении свободы в государстве, но прежде, нежели мы им займемся, мы должны бросить взгляд на государственный кредит, который находится в тесной связи со всею финансового системою и оказывает значительное влияние на развитие промышленности. На нем всего яснее отражается отношение государства к промышленным силам страны.
Кредит нужен государству в двояком отношении: для расплат и для расходов. Для расплат он требуется там, где текущие расходы предшествуют доходам, и нужно только выиграть срок. Это делается посредством временных займов. Отсюда проистекает текущий долг, которого форма есть краткосрочный вексель.
Совершенно иное значение имеют займы, которые делаются для расходов чрезвычайных. Этого рода затраты производятся не только для настоящего, но и ввиду будущего, а потому уплата их распределяется на многие лета. Наличным плательщикам было бы слишком тяжело нести на себе все это бремя. А так как государство запасных капиталов не держит, ибо это было бы совершенно непроизводительным сбережением, то оно принуждено бывает опять же прибегать к займам. Оно ищет капиталов там, где они обретаются, то есть у частных лиц, обязываясь платить только проценты, и погашая долг постепенно, по мере возможности. Отсюда проистекает долг утвержденный, который во всех европейских государствах достигает громадных сумм.
При такой системе на текущие доходы падает только уплата процентов и погашения. Но эта уплата все-таки должна производиться путем налогов, ибо у государства нет иного источника для покрытия своих расходов. Если проценты по займам уплачиваются посредством новых займов, то государство идет в разорение. Отсюда ясно, что всякий заем оправдывается только тогда, когда финансовая система дозволяет возвышение податей или когда естественное их приращение дает избыток, из которого могут уплачиваться проценты.
Конечно, это правило не безусловно. Есть обстоятельства, когда государство вынуждено приносить всевозможные жертвы, предоставляя будущему выпутываться из денежных затруднений. Когда дело идет о защите отечества, правильность финансовой системы становится задачею второстепенною. Точно так же, когда решаются мировые вопросы, от которых зависит судьба человечества, или когда в международном обществе происходит перемещение политических сил, которое отражается на малом и на великом, государство, играющее историческую роль, не может оставаться безучастным. Франция вытерпела страшное нашествие, потеряла две области и заплатила пять миллиардов контрибуции за то, что дозволила невыгодное для нее изменение политического равновесия. Но вне этих случаев крайней нужды, требующих напряжения всех наличных средств, всякий чрезвычайный расход должен сопровождаться соответствующим возвышением податей. Иначе он ведет к разорению. Предприятие, которое не в состоянии уплачивать своих процентов из текущих доходов, дает не прибыль, а убыток. Точно так же и война, которая затевается для поддержания или для расширения внешнего влияния, если она не оплачивается приростом податей, обыкновенно ведет к умалению этого влияния. Даже временная удача не приносит пользы. Фактически влияние всегда соразмеряется с средствами, если средства умаляются, то умаляется и влияние. Можно сказать, что только то влияние прочно, которое опирается на прочную финансовую систему.
Едва ли нужно распространяться о том, как часто правительства грешат против этих начал. Вместо возвышения податей для уплаты долгов, они делают все новые долги. Но так как явные займы не всегда возможны, ибо капиталы или вовсе не идут на вызов или идут на весьма невыгодных условиях, то прибегают к другому средству: и капитал и проценты падают на текущий долг, который находится в полном распоряжении правительства. Временно затруднение таким способом устраняется, но зато производится расстройство не только всей финансовой системы, но и всего экономического быта страны.
Текущий долг, как сказано, уплачивается векселями. Они могут быть срочные или на предъявителя, процентные или беспроцентные. Из этих различных видов беспроцентные векселя на предъявителя имеют совершенно иной характер, нежели другие. Все векселя, в большей или меньшей степени, могут заменять собою денежное обращение; но это свойство принадлежит по преимуществу беспроцентным векселям на предъявителя. В этом именно заключается существенное их значение, ибо вексель, представляющий не денежный знак, а ссуду, всегда приносит проценты. Обращение беспроцентных векселей основано единственно на том, что за них всегда можно получить металлические деньги, а между тем они для обращения удобнее звонкой монеты.
Подобные векселя могут выпускаться и частными банками. Защитники неограниченной свободы кредита утверждают даже, что это составляет такую же совершенно законную банковую операцию, как и все другие, а потому они требуют, чтобы выпуск беспроцентных билетов на предъявителя был предоставлен частной предприимчивости. Но против этого справедливо возражают, что все обыкновенные банковые операции основаны на взаимном доверии банкового учреждения и тех лиц, которые дают или получают от него ссуды, билеты же, обращающиеся в публике в качестве монеты, имеют совершенно иной характер: публика не знает ни банков, ни их дел, и весьма часто может потерпеть от легкомысленного выпуска, как это доказывается многочисленными примерами. Беспроцентные билеты на предъявителя по существу своему составляют не ссуды, а часть монетной системы; а так как монетная система находится в руках государства, то и выпуск этого рода билетов должен составлять монополии государства. Последнее одно в состоянии сделать их настоящею заменою звонкой монеты. Сообщая им законную ценность, принимая их в уплату податей, наконец, обеспечивая их всем своим достоянием, оно возводит их на степень настоящих денежных знаков. Вместо металлических денег являются бумажные, более дешевые и удобные.
Понятно, что через это государству открывается новый, самостоятельный источник дохода. В случае недостатка денег ему не нужно прибегать к обременительным займам: стоит напечатать бумажек и пустить их в обращение. Этим и пользуются нередко правительства, чтобы выйти из денежных затруднений. Но самая легкость этого средства делает его крайне опасным. Нет более верного способа прийти к финансовому и экономическому расстройству.
Количество денежных знаков, требующихся в обращении, зависит от количества оборотов. При металлическом обращении, если рынок переполнен, монета дешевеет и уходит в другие страны, где она более требуется. Бумажные же деньги в другие государства уходить не могут, ибо они не имеют там хода, или по крайней мере они уходят в весьма ограниченном количестве, насколько они нужны для расплат с выпускающим их государством. Поэтому если рынок переполнен, то они предъявляются к обмену на звонкую монету, и тогда последняя отсылается за границу в размере, необходимом для восстановления равновесия между требованием и обращением.
Отсюда ясно, что первое и необходимое условие правильного выпуска бумажных денег состоит в возможности постоянно обменивать их на звонкую монету. А для этого надобно всегда иметь в запасе известное количество металлических знаков, которое должно соразмеряться с потребностями рынка. Это именно и делают банкиры при выпуске векселей: беспрерывно получая и выдавая ссуды, они соображают свои выдачи и свои денежные запасы с ходом промышленности. То же самое должно иметь место и при выпуске беспроцентных билетов на предъявителя. Если, с одной стороны, эти билеты носят на себе характер денег, то, с другой стороны, они все-таки не перестают быть векселями, и в этом отношении они тесно связаны с рыночным обращением и составляют предмет банкирских операций. Количество их должно постоянно приспособляться к потребностям оборота, то увеличиваясь, то уменьшаясь, что производится посредством выдачи ссуд и обратного их получения. Таким образом, государство, выпускающее бумажные деньги, должно само сделаться банкиром.
Между тем государство по своей природе вовсе не призвано быть банкиром. В этом деле более всего требуется коммерческий расчет, который совершенно ему чужд. Тут необходимо также личное доверие и знание частных отношений, которые могут быть только достоянием коммерческих людей, а никак не чиновничества, имеющего другие свойства и иное призвание. Таким образом, если монетная сторона бумажных денег ведет к тому, что они становятся монополиею в руках государства, то коммерческая их сторона, напротив, делает государство неспособным к правильному ведению этого дела.
Мало того: самая цель, которую государство имеет в виду при выпуске бумажных денег, противоречит требованиям правильного денежного обращения. Государство выпускает кредитные билеты не с тем, чтобы удовлетворить потребностям оборота, а с тем чтобы облегчить себе расплату при производстве своих расходов. Но тут-то именно кроется крайне опасная сторона этого дела. Когда банкир выпускает беспроцентные бумаги, он делает это не иначе, как под учет верных векселей, следовательно, он получает в другой форме то, что он выдает. И если он при этом имеет еще достаточный металлический запас, который образуется путем вкладов, то обеспечение здесь двойное. Государство же выпускает бумажные деньги не взамен того, что оно получает, а для уплаты расходов. Тут ничего не остается для обеспечения выдаваемого векселя; а так как государственные расходы все растут и в затруднительных обстоятельствах достигают громадных размеров, то государство вынуждено бывает наконец прекратить обмен своих кредитных билетов на звонкую монету. Бумажные деньги получают принудительное обращение. К этому рано или поздно приходят все правительства, прибегающие к этому средству.
Если эта мера служит только временною передышкою, если она является способом перенести внезапно нагрянувший кризис, то она производит лишь некоторое экономическое замешательство, не оставляя по себе дурных следов. Но весьма часто при бумажноденежном обращении прекращение обмена на звонкую монету становится хроническим недугом, и тогда все народное хозяйство, пораженное в своем регуляторе, получает неправильное развитие. Прекращение обмена означает, что звонкой монеты стало слишком мало в сравнении с количеством выпущенных бумажных денег. Поэтому цена последних падает, а так как по закону они ходят наравне с металлическими, то платить ими выгоднее, нежели металлом. Вследствие этого звонкая монета уходит из обращения, и водворяется чисто бумажно-денежное хозяйство. Низкая же цена бумажных денег естественно ведет к вздорожанию всех покупаемых на них предметов. А с другой стороны, уменьшаются доходы государства, ибо подати уплачиваются потерявшими цену бумажками. Вследствие этого правительство принуждено прибегать к новым выпускам, что вызывается и потребностями оборота, ибо при уменьшенной цене знаков требуется их большее количество. Но эти новые выпуски ведут к дальнейшему падению курса. Крайним пределом этого движения является полное банкротство, какое пережила Франция во времена Революции, когда за тысячу франков ассигнациями нельзя было купить пары сапог.
Этот крайний предел разорения, конечно, наступает редко. Но если нет полного разорения, то всегда есть соразмерное с падением курса общее обеднение. Всякий, у кого в руках находятся денежные капиталы, лишается части своего достояния. Это касается не только владельцев государственных облигаций, но и всех частных кредиторов, имеющих суммы в банках или у частных лиц. Должники, напротив, выигрывают, ибо они могут заплатить дешевыми деньгами те суммы, которые они получили по настоящей цене. Понижение курса действует как перевод имущества из рук настоящих собственников в руки заемщиков. А так как капитал составляет плод труда и сбережений и правильный его прирост является существеннейшею потребностью народного хозяйства, то понятно, что этою системою экономическое развитие народа поражается в самом своем корне. Кто трудился и сберегал, кто накопил себе капитал для будущего, тот внезапно, вследствие финансовых операций казны, лишается, может быть, половины своего достояния. Если же государство, пришедши к более правильному взгляду на денежное обращение, хочет восстановить упавший курс, то происходит обратное явление: выигрывают кредиторы, а теряют должники, которые принуждены заплатить вдвое против того, что они получили. Колебание мерила, которым измеряются все сделки, вносит полный хаос во все юридические и экономические отношения.
Этим поражается и торговля, для которой правильная монетная система составляет насущную потребность. Вся торговля зиждется на расчете, а где нет прочного мерила, нет и верного расчета. Место правильной торговли заступают риск и спекуляция. Иностранцы от этого выигрывают, ибо вследствие упадка цены денег все туземные произведения продаются дешевле, а иностранные покупаются дороже; но соответственно этому теряют туземные производители и потребители. А так как правильное развитие торговли и возможно выгодный сбыт составляют первое условие экономического развития, то и в этом отношении система бумажно-денежного обращения действует пагубным образом на народное хозяйство.
Понятно поэтому, что все государства, которые имеют в виду сохранение твердой финансовой системы, отказываются от такого обоюдоострого оружия. "Это было бы самым опасным подарком, — говорит по этому поводу французский министр финансов Фульд в 1849 г., - и вы не найдете благоразумного человека, который захотел бы его принять. Как! Вы дали бы нам власть фабриковать монету: но тут-то мы бы и стали печатать ассигнации! И как скоро мы были бы вооружены этою машиною, вы каждый день приставляли бы нам пистолет к горлу, чтобы употребить ее для той или другой потребности, и тогда никто не захотел бы брать вашу бумагу… Вы сказали: "Государство дает другим право делать то, чего оно не хочет делать само". Конечно, мы не хотим делать это сами, и я не думаю, чтобы нашелся благоразумный государственный человек, который захотел бы взять на себя управление финансами с тою страшною властью, которую вы хотите ему дать… Если бы мы согласились, уступая всем побуждениям, исходящим от единого собрания, оставаться обладателями того рокового орудия, которое вы нам предлагаете, мы скоро разрушили бы кредит государства".
Невозможно утверждать, как иногда делают у нас, что правительство, пользующееся полным доверием народа, может в этом отношении позволить себе более, нежели другое. Чем больше доверия, тем опаснее каждый шаг, ибо всего легче идти по наклонной плоскости, где нет никаких препятствий. Доверие не заменяет математики, а здесь именно нужна математика. Оборот требует прочного мерила ценностей, а таким мерилом может быть единственно товар, имеющий ценность сам по себе, а не бумага, произвольно размножаемая типографским станком. Последняя может заменить денежные знаки лишь в той мере, в какой обеспечено постоянное превращение ее в звонкую монету. Как же скоро это условие нарушено, и бумаги выпущено более, нежели требуется законами денежного обращения, то никакая сила не помешает уходу звонкой монеты и упадку ценности бумаг. Капиталист, оказавший доверие своему правительству, все-таки потеряет значительную часть своего состояния, между тем как скептик, который доверия не оказал и поместил свои сбережения в иностранных металлических фондах, не только сохранил свое состояние, но даже его сравнительно увеличил. Как уже было замечено выше, тут всего яснее обнаруживается, что экономические законы независимы от воли государственной власти.
Но если государство в видах прочности финансовой и денежной системы должно отказаться от выпуска бумаг, заменяющих деньги, и если, с другой стороны, подобный выпуск не может быть предоставлен частной конкуренции, которая в свою очередь может вести к разорению, то кому же должна быть вверена эта операция? Замена части звонкой монеты кредитными знаками представляет существенную экономическую выгоду, которой государство не может себя лишить; каким же образом осуществить это требование без ущерба для государства и для общества? Современные европейские государства разрешают эту задачу тем, что выпуск беспроцентных билетов на предъявителя разрешается привилегированному банку, находящемуся под контролем правительства. Этим способом коммерческая сторона дела, состоящая в кредитной операции, связывается с административною стороною, заключающеюся в требовании единства и прочности монетной системы. Банк выпускает кредитные знаки только при учете, следовательно соображаясь с требованиями рынка и обеспечивая себя верными бумагами. Если бы он захотел расширить свои выпуски более, нежели следует, то контроль государства может положить этому предел. И наоборот, если бы государство захотело воспользоваться банковыми операциями для своих собственных целей, то в независимом положении банка оно встретит отпор. Значительность банкового капитала, дарованная ему привилегия и самое свойство его действий служат ручательством за основательность его операций, а с другой стороны, обоюдная сдержка, проистекающая из совместного существования правительственной деятельности и частного предприятия, составляет возможно надежную гарантию против увлечений.
Против этого говорят, что, даруя банку такую привилегию, государство обращает в частную пользу то, что должно принадлежать обществу как целому. Через это не только частные интересы получают перевес над общественным, но создается привилегированная денежная аристократия, которая становится регулятором денежного обращения и вследствие того владыкою промышленного мира.
Что дарованная банку привилегия составляет значительную выгоду для акционеров, в этом не может быть сомнения. Исключительное право выпускать беспроцентные бумаги становится источником прибыли, которая принадлежала бы государству, если бы последнее сохранило это право в своих руках. Но дело в том, что государство не может получить эту прибыль иначе, как с величайшею опасностью для кредита и для торговли; предоставление же ее банку сторицею окупается теми выгодами, которые привилегированный банк доставляет и обществу и государству. Этим не только дается твердое основание монетной системе, но вместе с тем упрочивается и удешевляется торговый кредит. Имея в своей привилегии особый источник барышей, банк может держать свой учет ниже, нежели при иных условиях, а это отражается на всех промышленных предприятиях. Кроме того, становясь общим регулятором денежного обращения, он может воздерживать легкомысленные увлечения частного кредита. Наконец, он приходит на помощь частным банкам, когда последние колеблются или нуждаются в поддержке. С другой стороны, привилегированный банк оказывает значительные услуги и государству. Последнее не только возлагает на него попечение о правильности денежного оборота, но оно может сделать его своим кассиром, как это водится, например, в Англии. Банк выгодно учитывает текущий долг правительства, а в трудные времена приходит ему на помощь своими ссудами. Государство может даже взамен дарованной банку привилегии выговорить себе те или другие выгоды, например известное количество беспроцентных ссуд, как предлагает Милль, или известную долю чистой прибыли, как это делается в Пруссии. Где все дело основано на взаимном соглашении, там всегда возможно соблюсти обоюдную пользу.
Что касается до создания денежной аристократии, то подобная аристократия составляет необходимое произведение и условие всякого высоко стоящего промышленного быта. Мы видели уже, что все развитие промышленности зависит от накопления капиталов; с накоплением же капиталов и с расширением предприятий необходимо рождается денежная аристократия, которая становится во главе промышленного мира. Это делается само собою, даже без всяких привилегированных банков. Дом Ротшильда не пользуется никакими привилегиями, а между тем это сила, с которою должны считаться европейские державы. Когда же эта аристократия, вступая в союз с правительством, становится посредником между ним и промышленным обществом, то это именно та роль, которая принадлежит ей по самому ее существу. Этим государству и обществу оказывается услуга, а не наносится вред. Поэтому в самых демократических странах люди, понимающие дело, не только не восстают против подобной привилегии, а напротив, дорожат ею как самым верным оплотом общественного благосостояния. "Я думаю без сомнения, что мы — демократия, — говорил в 1848 г. Леон Фоше, — но я не хотел бы, чтобы эта демократия оставалась в состоянии пыли. Я желаю, чтобы в стране возникали могущественные товарищества и чтобы эти товарищества становились средством группировать рассеянные силы; я желаю, чтобы перед правительством было, когда нужно, нечто такое, что сопротивляется и что держится крепче, нежели отдельные лица. Я думаю, что в демократии есть нечто более опасное, нежели самые могущественные товарищества, — это зависть, которая отвергает всякое возвышенное положение в порядке политическом, в порядке промышленном, в организации кредита".
Заметим однако, что если прочная денежная аристократия составляет один из важнейших элементов экономического быта и во многих случаях является наиболее надежным посредником между государством и обществом, то этим элементом можно пользоваться только там, где он существует. Денежная аристократия, как и всякая другая, не создается произвольно, а вырабатывается жизнью. Созданные государством аристократии представляют мимолетные явления, на которых ничего нельзя основать и которые исчезают при первом дуновении ветра. Прочно только то, что стоит на своих собственных ногах. Для возникновения подобной аристократии недостаточно даже одного денежного богатства: нужны прочные коммерческие нравы, широкое образование, ясное сознание государственных и общественных потребностей. Где этих условий нет, там и учреждение привилегированного банка будет только дутым предприятием, которое послужит к обогащению некоторых и к ущербу всех. Если же в стране недостает денежных капиталов даже для обыкновенных промышленных предприятий, если не только казна с своими займами, но и частные лица принуждены обратиться к иностранным капиталистам и от них заимствовать нужные фонды, то о привилегированном банке еще менее может быть речи. Это значило бы прямо отдать себя в руки иностранных капиталистов, чего независимое государство, разумеется, потерпеть не может.
При таких условиях государству остается только взять бумажно-денежное обращение в свои руки, несмотря на все сопряженные с этим делом опасности и неудобства. Оно принуждено действовать таким образом, уступая необходимости. В отношении к младенческой промышленности оно играет роль опекуна и должно брать на себя то, что оно, в сущности, не в состоянии исполнить надлежащим образом. В таком положении государство неизбежно наталкивается на бумажно-денежное хозяйство со всеми его пагубными последствиями. И чем обширнее его власть, чем менее развиты его силы, тем искушение больше и тем труднее ему противостоять. Единственное, что остается гражданам, это надеяться на благоразумие правительства, на его бережливость и на усвоение им здравых экономических начал.
Но если практика заставляет иногда отступать от требований теории, то никогда не следует забывать, что подобное отступление вызывается несостоятельностью практики, а не теории. Сосредоточение кредита в руках государства служит признаком младенческого состояния промышленного быта, оно составляет принадлежность низших ступеней экономического развития. На высших же ступенях, когда промышленность становится самостоятельною силою, она вступает и в принадлежащие ей права: тогда государство слагает с себя неподобающее ему бремя. Совершенно отказаться от него оно не может, ибо вопрос здесь не только коммерческий, но и административный. Но по этому самому этот вопрос не может быть решен ни исключительною деятельностью государства, ни свободою частной предприимчивости, а единственно взаимодействием и взаимным ограничением обоих элементов, государственного и общественного.
Глава IV. СВОБОДА В ГОСУДАРСТВЕ
Мы видели, что цель государства ограниченная: оно вращается в области общих интересов и не должно вторгаться в частную жизнь. Отдельные союзы, в которые слагается человеческое общежитие, должны сохранять свою самостоятельность. Между тем государство владычествует и над частною жизнью, и над отдельными союзами. Что же ручается за то, что оно не переступит своих пределов и не явится распорядителем в принадлежащей ему области?
Опасность в этом отношении увеличивается тем, что и в собственной сфере государство нуждается в средствах, и эти средства оно получает сборами с частных лиц. А так как исключительно от его воли зависит определение общественных нужд и количества потребных на них средств, то оно является полным владыкою собственности. Государство может брать у частных лиц все, что оно считает нужным, и употреблять деньги по своему усмотрению. Где же гарантия права собственности?
Этой гарантии нельзя искать в правах частных лиц и союзов. Хотя теоретически ведомство государства ограничивается этими правами, но формально отдельные лица и союзы подчинены ему безусловно. Учение о неотчуждаемых и ненарушимых правах человека, которые государство должно только охранять, но которых оно не смеет касаться, есть учение анархическое. Необходимым его следствием является постановление французской конституции 1793 г., что как скоро права народа нарушены, так восстание составляет не только для всего народа, но и для каждой части народа священнейшее из прав и необходимейшую из обязанностей. При таком порядке каждый делается судьею своих собственных прав и обязанностей, начало, при котором общежитие немыслимо. В здравой теории, так же как и в практике, свобода тогда только становится правом, когда она признается законом, а установление закона принадлежит государству. Поэтому от государства зависит определение прав как отдельных лиц, так и входящих в него союзов. По своей природе оно является верховным союзом на земле.
Необходимость такого верховного союза вытекает из самого существа человеческого общежития. Для того чтобы в обществе было единство, чтобы оно не раздиралось противоборствующими друг другу стремлениями, требуется установление единой, владычествующей воли, которой все безусловно должны подчиняться. На нее не может быть апелляции, ибо в таком случае явилась бы новая, высшая воля, которой приговор был бы все-таки окончательным. Эта воля должна быть едина, как едино самое общество. Все заключающиеся в нем частные лица и союзы обязаны ей повиноваться, ибо частное должно подчиняться общему. Иначе общество распадется врозь.
Но где же при таком порядке гарантия свободы? А гарантия нужна, ибо без нее свобода перестает быть правом. Свободою по милости хозяина могут пользоваться и рабы; полноправные лица должны быть ограждены законом. В частных правах эта гарантия заключаться не может, ибо они подчиняются праву общему, следовательно, обеспечение может лежать только в самом общем праве, именно, в таком устройстве, которое давало бы заинтересованным лицам известное влияние на решение общих дел.
Подобная гарантия не представляет собою нечто искусственное, напротив, она вытекает из самой природы государственного союза. Государство не есть только система правительственных учреждений, это живое единство народа. Народ же, по крайней мере на высших ступенях развития, состоит из свободных лиц, а как скоро является союз свободных лиц, так отсюда вытекает участие каждого из них в общих решениях. Личная свобода состоит в праве человека распоряжаться собою и своими действиями; свобода в союзе с другими, или свобода общественная, выражается в праве совокупно с другими участвовать в решении общих дел. Никакое отдельное лицо, если оно не признается представителем всех, не может иметь притязания решать по своему усмотрению то, что касается других, но каждый свободный член общества вправе участвовать в решениях, которые касаются и его. В частных товариществах это признается безусловно, точно так же и в соединениях людей, имеющих характер постоянных союзов, каково государство, это требование логически вытекает из начала свободы, как необходимое его следствие. Свобода политическая является завершением и восполнением свободы личной.
Политическая свобода имеет однако совершенно иной характер, нежели свобода личная. Последняя дает право распоряжаться собою, первая дает право распоряжаться другими. В совокупном решении меньшинство обязано подчиняться большинству. Голос призванных к совету имеет влияние на судьбу всех. Очевидно, что тут являются отношения совершенно иного рода, нежели в области личных прав. Отдельное лицо может распоряжаться собою как ему угодно; если оно ведет порочную жизнь, если оно разоряется, то последствия его поведения падают на него одного: другим до этого нет дела. Но от несправедливого или необдуманного решения общего дела страдают и те, которые не принимали в нем участия, даже и те, которые ему противились. И чем выше союз, тем больше опасность, ибо тем сложнее дела и тем затруднительнее их решение. Особенно в союзе, имеющем всеобщий и принудительный характер, каково государство, решение общих дел может иметь роковое значение для всех членов. В частном товариществе меньшинство точно так же обязано подчиняться большинству, и необдуманное решение может иметь последствием разорение многих. Но здесь каждый волен вступать или не вступать в товарищество. Кто недоволен решением собрания акционеров, тот может продать свои акции и не вверять обществу своих капиталов. Тут все основано на частном соглашении, и каждый получает голос соразмерно с своим вкладом. В государстве же отношения совершенно иные: это не добровольно составляемое товарищество, в нем люди рождаются и умирают. Государство служит связью многих следующих друг за другом поколений. Самые интересы его имеют бесконечно высшее значение, нежели те, которые связывают частные товарищества. Как верховный союз на земле, оно является носителем всех высших начал человеческой жизни, исторических преданий, права, нравственности, материального и духовного благосостояния масс, всемирно исторического призвания живущего в нем народа. Государство не есть случайное создание субъективной воли, оно представляет собою объективный организм, который воплощает в себе мировые идеи, развивающиеся в истории человечества. Понятно, что для обсуждения всех возникающих отсюда вопросов недостаточно быть свободным членом союза: надобно понимать сущность этих вопросов, для того чтобы быть в состоянии их обсуждать. Иначе все высшие интересы человечества подвергаются опасности. Из всего этого следует, что для участия в решении государственных дел кроме свободы требуется и способность. Если свобода составляет источник политического права, то способность является необходимым его условием. А так как способность к обсуждению государственных вопросов не прирождена человеку, так как для этого необходимы и образование и знакомство с государственными делами, качества, которые не находятся у всех и всего менее распространены в массе, то очевидно, что не может быть речи о всеобщем праве голоса как неотъемлемом политическом праве граждан. Призвание способных к участию в решениях государственной власти является вопросом исторического развития. Оно определяется степенью умственного и политического образования народа. Чем скуднее это образование, чем более оно сосредоточивается в небольшом кружке лиц, тем труднее призвать даже последних к участию в решении общих дел, ибо через это общий интерес легко может обратиться в орудие частных видов. Именно вследствие этого массы охотнее вверяют свою судьбу одному лицу, высоко стоящему над всеми, нежели немногим. В этом заключается значение самодержавной монархии. Политическая свобода представляет идеал государственного развития, но она не может считаться постоянною его принадлежностью.
Поэтому не может быть речи и о замене личной свободы политическою. Мы видели, что Руссо требовал, чтобы члены общества передали последнему все свои права, с тем чтобы получить их обратно в виде участия в совокупных решениях. Это значит отречься от основания, для того чтобы получить частное и условное следствие. Свобода составляет принадлежность лица, поэтому истинная свобода есть свобода личная: она вытекает из природы человека как разумно-нравственного существа и дает ему право распоряжаться собою независимо от чужой воли. Политическая же свобода рождает не отношения независимости, а отношения власти и подчинения, причем доля власти ничтожная, а подчинение всецелое. Какою заменою утраты независимости может служить человеку приобретение десяти или двадцатимиллионной доли власти, соединенной с обязанностью безусловно повиноваться тому, что решат другие? Политическая свобода может быть не заменою, а лишь гарантиею и восполнением свободы личной. Свобода, которой корень лежит в самоопределяющейся воле отдельного лица, переносится здесь в новую область, где человек перестает быть независимым лицом, а становится частицею целого. И тут он сохраняет свою свободу, ибо он не перестает быть человеком, но эта свобода по необходимости стесняется и ограничивается этими новыми отношениями.
Из этого опять же очевидно следует, что свобода гражданская по существу своему должна быть шире свободы политической. А потому нельзя не признать проявляющегося у социалистов и полусоциалистов стремления стеснить гражданскую свободу и расширить свободу политическую извращением истинных начал общественной жизни. Требовать, чтобы промышленность подчинялась государству, и вместе с тем стремиться к тому, чтобы политическое право распространялось на всех и общие дела решались собором, значит идти наперекор самым явным указаниям здравого смысла. С точки зрения политической науки это должно быть признано абсурдом. Можно проповедовать расширение государственной деятельности в области частных интересов, но тогда не надобно говорить о свободе, следовательно, и о расширении вытекающего из свободы политического права. Как же скоро мы требуем расширения права, так мы прежде всего должны позаботиться об ограждении настоящего его источника, свободы, а для этого необходимо ограничить деятельность государства чисто политическою областью. Одна система исключает другую. В приложении к жизни эти противоречащие требования ведут к беспредельному деспотизму толпы, то есть к худшему политическому устройству, какое только способен изобрести человеческий ум. В действительности такое устройство, о каком мечтают социалисты, никогда не существовало. Везде, где прочно установлялась широкая политическая свобода, она водворялась на основании еще более широкой свободы гражданской. Таков закон в особенности для новых народов. Примером могут служить Соединенные Штаты.
Личное право не исчезает однако и в области государственной. Человек как свободное существо никогда не может быть только членом целого, он всегда остается вместе и самостоятельным лицом. На политической почве это начало проявляется в двояком виде: как гарантия права гражданского и как выражение того, что мы выше назвали неорганическим элементом государственной жизни.
К первому разряду относятся все те постановления, которыми обеспечивается неприкосновенность личности и собственности. Эта неприкосновенность, разумеется, не может быть безусловною. И личная свобода и собственность подвергаются стеснениям и ограничениям во имя государственных требований. Но важно то, чтобы это совершалось по закону, а не по произволу, чтобы стеснение происходило в силу действительных потребностей, а не по прихоти власти. Для этого и нужны гарантии.
Главная состоит в том, что личность и собственность ставятся под защиту независимого суда, и гражданин получает право требовать этой защиты. Таков смысл знаменитейшего в этом роде постановления, английского habeas corpus. В Англии, как и везде, полиция не может быть лишена права арестовать людей по подозрению, иначе она не могла бы исполнять своих обязанностей. Но арестованный имеет право обратиться к судье, который посредством предписания habeas corpus требует, чтобы заключенный был ему предъявлен для рассмотрения причин ареста.
Защита, даруемая судом, имеет то значение, что суд в своих действиях обязан руководиться законом, тогда как администрация руководствуется усмотрением. Последней по самой ее задаче всегда необходимо присуща известная доля произвола: она имеет в виду не охранение права, а достижение практических целей. Но и суд тогда только в состоянии служит действительною гарантиею для лица, когда он является вполне независимым как от правительственной власти, так и от владычествующей партии. Отсюда высокое значение несменяемости судей. Нарушение этого начала составляет первый шаг к деспотизму, а установление его служит признаком появления в обществе свободы. Это начало может существовать даже при отсутствии настоящей политической свободы. Самоограничение самодержавной власти равно благодетельно и для нее самой, и для подданных. Оно служит доказательством, что правительство имеет в виду не собственную только прихоть, а истинную пользу страны.
Что же ручается однако за то, что власть не будет действовать помимо суда? Есть случаи, когда это бывает даже необходимо. Именно потому, что суд обязан держаться строгих начал закона, он не может отвечать всем изменчивым потребностям жизни. Как скоро в обществе являются смуты, так рождается необходимость большего стеснения свободы, нежели то, которое допускается в нормальном порядке. Власть при таких обстоятельствах должна не только пресекать, но и предупреждать преступления, а это можно делать, только действуя по усмотрению. Тут временно устраняются гарантии, которые даются судебного защитою, и администрация вступает в свои права. Это признается во всех государствах в мире, каково бы ни было их политическое устройство. В настоящее время в Ирландии приостановлены гарантии личных прав, а в Германии в силу данного парламентом полномочия административным путем высылаются социалисты. Ненормальное состояние общества всегда вызывает чрезвычайные меры. Протестовать против этого и требовать, чтобы правительство держалось строго законного пути, когда в обществе господствует смута, значит не понимать первых условий общественного порядка. Но там, где есть представительные собрания, правительство принимает эти меры не иначе, как с их согласия и с ответственностью за их приложение. Политическая свобода дает личному праву новую, высшую гарантию, которой нет при ином устройстве. Без нее есть больше опасности, что административная власть, которая по необходимости должна часто руководствоваться указаниями низших органов, может злоупотреблять своими полномочиями. Тут можно советовать только большую осторожность, которая всего нужнее именно там, где злоупотреблений может быть больше.
Точно так же политическая свобода дает высшую гарантию и собственности, особенно относительно обложения граждан податями. Об этом мы уже говорили выше, а потому не станем возвращаться к этому вопросу. Заметим только, что эта гарантия, для того чтобы она могла служить действительною охраною интересов различных общественных классов, требует весьма сложного политического устройства. С одной стороны, там, где высшие классы в силу принадлежащей им способности одни призываются к решению государственных дел, легко может случиться, что податное бремя при господстве частных интересов падет преимущественно на низшее народонаселение. Наоборот, при всеобщем праве голоса, которое придает решающее значение демократической массе, высшие классы лишаются гарантии. Тут податное бремя может быть взвалено главным образом на последних, посредством прогрессивного налога или иным путем. Вопрос разрешается тем, что между противоположными элементами должен быть высший судья. Таков монарх, которого всегдашнее призвание состоит в сохранении равновесия и справедливости между различными частями государственного организма.
Итак, гарантии личных прав возможны и без политической свободы, но последняя дает им высшее обеспечение. Политические права составляют завершение всего юридического здания.
Совершенно иное значение имеют те личные права, которые являются выражением неорганического элемента государственной жизни. Таковы свобода печати, свобода собраний и товариществ, наконец, право прошения. Тут дело идет уже не об обеспечении гражданской свободы, а о деятельности в политической области. Пользуясь этими правами, граждане получают возможность влиять на решение государственных вопросов, но не посредством обсуждения их в организованных учреждениях, а путем свободного выражения мыслей. Они действуют тут не как члены целого в органической связи с другими, а как отдельные лица, самостоятельно выступающие на политическом поприще. Но именно вследствие своего политического характера все эти права могут получить сколько-нибудь широкое развитие единственно на почве политической свободы, только при ней они приобретают настоящее свое значение. Это значение заключается в том, что в неорганической деятельности вырабатываются элементы, которые должны занять свое место в организованных учреждениях. Для того чтобы граждане, призванные к выборам, сознательно исполняли свои обязанности, необходимо, чтобы они были к тому приготовлены, а приготовление совершается путем свободного обмена мыслей. Но если организованных учреждений нет, то неорганизованная деятельность производит лишь брожение, которому нет исхода. Свобода, которой не дано правильного течения, становится революционною. И наоборот, только при свободных учреждениях гласное обсуждение практических государственных вопросов может совершаться с некоторою основательностью, ибо тут только самая государственная жизнь течет гласно и все элементы суждения находятся на лице. Где этого нет, неорганическая деятельность превращается в праздную болтовню, которая скорее может сбить общество с толку, нежели приготовить его к здравому обсуждению общественных дел.
Все это вполне прилагается к свободе печати. Многие воображают, что она возможна всегда и везде и что она всегда и везде действует благотворно. Это значит держаться чисто отвлеченных начал и не принимать во внимание условий действительной жизни. Такого рода общие положения менее применимы к политическому быту, который необходимо соображается с состоянием среды и с изменяющимися обстоятельствами.
Свобода мысли и слова, без сомнения, составляет одно из драгоценнейших достояний человечества. Без нее нет настоящего умственного развития и те правительства, которые ее подавляют, действуют во вред духовной жизни народа и подрывают собственную свою силу, ибо они лишают себя образованных орудий. Но истинная свобода мысли, приносящая плод, проявляется в зрелых и обдуманных произведениях, требующих знаний и труда. Такой характер имеют главным образом книги. Только ими подвигается умственное развитие человечества. Совершенно иной характер носит на себе журнал. Это не столько выражение зрелой мысли, сколько орудие борьбы. Журнал день за днем следит за текущими событиями, стараясь угодить публике, произнося свои суждения на лету. И эта деятельность имеет свою полезную сторону там, где люди, обладающие основательным политическим образованием и знакомые с практическим делом, становятся руководителями общества и приготовляют его к решению подлежащих его суждению вопросов. Но непременное для этого условие заключается в том, чтобы политическое образование было распространено в обществе и чтобы государственные дела были ему знакомы. А то и другое возможно единственно при политической свободе. Здесь поэтому журнализм имеет настоящую свою почву, и здесь он необходим, ибо иначе нельзя действовать на общественное мнение, хотя и тут он всегда имеет свои весьма непривлекательные стороны. Из массы журналов, появляющихся в свободных странах, немногие приобретают действительный вес и значение. Большинство же составляют летучие предприятия, которые стараются поддержать себя тем, что приходится по вкусу неразборчивой публике; скандалами, задором, потачкою страстям. Только широко разлитое политическое образование и окрепшие политические нравы в состоянии исправить проистекающее отсюда зло. Чем ниже, напротив, умственное состояние общества и чем моложе в нем политическая жизнь, тем это зло опаснее и тем труднее приложить к нему лекарство. Нужны прочные органические учреждения для того, чтобы рядом с ними могло быть допущено широкое развитие элемента неорганического.
Безусловные друзья журнализма любят ссылаться на то, что истина всегда торжествует, но истина нередко торжествует только после кровавых испытаний, которые показывают народу, что он сбился с настоящего пути. Способность убеждаться не жизненным опытом, а отвлеченными доводами, составляет плод высшего умственного образования, для этого требуется не только ширина взгляда, способного охватить различные стороны вопроса, но также искренняя любовь к истине, составляющая достояние немногих. Масса же публики убеждается тем, что ей по плечу и что говорит ее минутному настроению. Когда же известные доводы повторяются ей ежедневно, настойчиво и страстно, с недобросовестным умолчанием обо всем, что им противоречит, то увлечь ее на ложный путь весьма немудрено. Нет более сильного орудия разрушения, как журнализм среди неустановившегося общества.
Но если и при политической свободе журнализм имеет свои опасные стороны, то эти стороны выступают еще ярче там, где нет органических учреждений, которые вводят свободу в правильную колею. Здесь уже свобода печати превращается в хаотическое брожение мыслей, лишенных всякой твердой опоры. Тут нет ни политических нравов, ни политического образования, способных служить противовесом этой бесконечной безурядице. Те немногие люди, которые среди малообразованного общества приготовлены к обсуждению политических вопросов и которые могли бы быть руководителями общественного мнения, предпочитают всякое другое поприще, где деятельность не ограничивается пустыми словами, а представляет собою настоящее дело. При таких условиях журналистика в огромном большинстве случаев попадает в руки людей, не имеющих ни практических знаний, ни теоретического образования, и для которых ежедневная болтовня составляет выгодное ремесло. Из этого ремесла они стараются извлечь наибольшую пользу, давая публике пищу весьма невысокого качества, но приходящуюся по ее вкусу и приправленную пряностями, возбуждающими неприхотливый аппетит. Этим самым публика более и более приучается к пошлости и отвыкает от более возвышенных требований. Легкое чтение журналов заменяет всякую другую умственную пищу, требующую некоторого труда и размышления. Если при политической свободе журнализм в малообразованном обществе может обратиться в орудие разрушения, то без политической свободы он становится орудием умственного разврата.
Как же помочь этому злу, там где оно уже вкоренилось и вошло в общественные нравы? Правительства прибегают иногда к системе предостережений, за которыми следует закрытие журналов. Но практика показывает, что с этим оружием обращаться нелегко. Мысль принимает тончайшие извороты и ускользает от преследования. Если при самодержавном правлении невозможно отказаться от этого средства, то и полагаться на него слишком нельзя. Истинное лекарство лежит опять же единственно в свободных учреждениях. Только развитие органической стороны государственной жизни может дать правильное движение неорганическим ее элементам. Политическая свобода одна в состоянии распространить в обществе политическое образование и утвердить в нем политические нравы, способные противостоять ежедневному натиску неорганических начал. В свободных учреждениях общество обретает Центр, откуда исходит политическая жизнь. Вместо того чтобы довольствоваться пустою болтовнею журналов, оно призывается к настоящему делу. Руководителями его являются уже не самозванцы и неприготовленные писатели, потакающие страстям и расточающие лесть, а государственные люди, обсуждающие вопросы совокупно с народными представителями. Журналы отходят на задний план, они перестают быть просто частными предприятиями, а становятся органами партий, во главе которых стоят лица, облеченные доверием общества. Одним словом, органический рост заменяет неорганическое брожение. Свобода вводится в правильную колею, где мысли дается исход, а воле направление.
Еще более все эти соображения применяются к свободе собраний и товариществ. Живое слово действует еще сильнее, нежели печатное, а потому опасность для государственного порядка тут еще больше. Даже при свободных учреждениях эти права обыкновенно сдерживаются в весьма тесных пределах. Нужны крепкие политические нравы, чтобы допустить подобные проявления неорганических сил. Особенно свобода политических товариществ представляет для государства такие опасности, которые редко делают их терпимыми. Революционные клубы служат тому явным доказательством. Здесь неорганический элемент сам организуется и вступает в борьбу с элементом органическим. Является новое, самозванное государство, и первое, если не всегда побеждает, то всегда производит в обществе смуты и потрясения. Поэтому даже при самой широкой политической свободе здесь требуются значительные ограничения.
Таким образом, в области государственных отношений личное право получает настоящее свое развитие только при праве политическом. Неорганический элемент служит здесь не более как придатком элемента органического. Он приготовляет общество к тому, что оно призвано исполнить путем политического права. Коренное же значение свободы в государстве заключается в призвании граждан к участию в решении общественных дел.
Это участие имеет свои степени. Низшую ступень составляет участие в местном управлении, высшую — участие в делах государственных. Последнее называется политическою свободою в собственном смысле. Первое же может существовать при всяком правлении, величайший деспотизм соединяется иногда с значительною автономиею общин. Чем мельче единицы, чем менее в них самостоятельной силы и государственного значения, тем легче предоставить им заведование их внутренними делами. Но как скоро эти единицы становятся крупнее, как скоро они делаются местными центрами независимых сил, так они не могут уже быть безразличными для государственной власти, и тут рождается вопрос об отношении местного самоуправления к центральному правительству.
Этот вопрос, особенно в последнее тридцатилетие, подвергся тщательной разработке. В местном самоуправлении многие видели главную опору политической свободы. Отсутствию его во Франции приписывали крушение представительных учреждений при второй Империи. Наоборот, на Англию указывали, как на страну, где все парламентское правление вытекло из местных прав. Гнейст присоединил к этому учение о необходимости безвозмездного отправления местных должностей высшими классами; по его мнению, только этим путем последние могут приобрести достаточно силы, чтобы противостоять напору бюрократии и взять в свои руки парламентское правление. В исполнении общественных обязанностей он видит единственное твердое основание политических прав.
В этих воззрениях есть доля истины; но, по обыкновению, начало, на которое впервые обращено внимание, значительно преувеличивается. Нет сомнения, что местное самоуправление составляет существенную опору политической свободы. В нем образуются местные влияния, которые дают силу в политических выборах и служат преградою давлению власти. Там, где местное управление вполне находится в руках правительства, последнее приобретает возможность направлять политические выборы согласно с своими видами, вследствие чего самостоятельность представительного собрания исчезает. Мы видели тому пример во Франции во времена второй Империи. Несомненно также, что местное самоуправление служит весьма хорошею приготовительною школою для политической свободы. В нем граждане привыкают к совместному обсуждению и ведению общих дел, образуются политические нравы, выделываются люди. Но ни той, ни другой выгоде не следует придавать чрезмерного значения, во всяком случае от этого далеко до признания местного самоуправления главным источником политической свободы.
На практике представительные учреждения могут существовать и без всякого местного самоуправления. Это доказала та же Франция в самую блестящую эпоху своей парламентской жизни. Во времена Реставрации местные жители не имели никаких выборных прав, а при Людовике-Филиппе весьма не обширные. Централизация была всепоглощающим началом французской администрации, а между тем правительство все-таки не могло направлять выборы по своему усмотрению. Последние палаты времен Реставрации доказали это неопровержимым образом. Зажиточные классы, которые в то время исключительно пользовались политическими правами, всегда сохраняют известную независимость и нелегко поддаются давлению власти, идущей наперекор их политическим стремлениям. Если же при таком порядке произошли две революции, то виною тому было не отсутствие самоуправления: пала не свобода, лишенная корней, пали правительства, которые не находили поддержки в обществе. Впоследствии рушилась и свобода, но опять же по причинам чисто политическим: французское общество, испуганное социализмом, бросилось в объятия диктатуры и принесло ей в жертву все свои права.
Франция доказала также, что политические нравы и государственные люди могут вырабатываться помимо местных учреждений. Последние, бесспорно, составляют хорошую школу для представительного порядка, но нельзя признать эту школу безусловно необходимою.
С другой стороны, несправедливо, что вся политическая свобода Англии вытекла из местного самоуправления. История доказывает, что она явилась результатом борьбы аристократии с королем. Краеугольным камнем представительного порядка была Великая Хартия, вырванная баронами у Иоанна Безземельного. Конечно, бароны имели и местную силу, но таковую же, даже в гораздо больших размерах, имела аристократия на всем европейском материке, а между тем из этого никакой политической свободы не. выработалось. Разница заключалась именно в том, что английская аристократия домогалась не местной автономии, а политических прав, с помощью которых она сохранила и местную автономию; в других же странах она главным образом дорожила своею местною властью, вследствие чего она потеряла сперва политическое право, а затем и все остальное.
Из этого видно, что если местное самоуправление служит некоторою поддержкою политического права, то еще в гораздо большей степени политическое право служит опорою местного самоуправления. Которое из этих двух начал является преобладающим, это зависит от характера всего государственного строя. Преобладание местной автономии было господствующим началом в средние века: в то время общество дробилось на бесчисленные местные центры с самостоятельною жизнью. Преобладание центрального элемента составляет, напротив, отличительную черту государственной жизни нового времени. Здесь поэтому местное самоуправление отходит на второй план, иногда даже в слишком значительной степени. И чем упорнее в историческом движении местная жизнь сопротивлялась требованиям центра, тем беспощаднее она была подавлена. Отсюда развитие централизации на европейском материке. В Англии, напротив, местные центры никогда не стремились к обособлению; с самого начала королевская власть имела первенствующее значение, и вопрос шел не об отношении центра к областям, а об отношении центральной власти к центральному представительству. Именно потому политическая свобода пустила здесь прочные корни.
В настоящее время при громадном развитии государственной деятельности не может уже быть речи о том, чтобы основать политическую свободу на местных правах. Задача заключается лишь в соглашении обоих элементов, и в этом отношении местный элемент должен сообразоваться с центральным, а не центральный с местным. Последний может получить настолько развития, насколько это может быть допущено характером и значением центральной государственной власти.
Наибольший простор может быть предоставлен местному самоуправлению в федеративной республике. Здесь государственная деятельность доводятся до наименьших размеров, все идет снизу и по возможности предоставляется личной инициативе. Тут самое государство является не более как союзом отдельных местностей. Таким образом, и в центре, и на местах господствует один и тот же элемент, проникнутый одним и тем же духом. Однако и тут неизбежно является противоположность направлений. И в федеративной республике общее государственное начало имеет существенное значение, а с развитием общественной жизни это значение возрастает. Поэтому здесь рано или поздно возгорается борьба между двумя противоположными течениями, центральным и местным. На этом вращалась вся политика партий в Соединенных Штатах с самой первой поры их существования. История привела наконец к победе центра, однако же без уничтожения местной самостоятельности, которая при таком устройстве всегда остается одним из коренных начал политической жизни. То же самое явление повторилось и в Швейцарии.
Широкое развитие местное самоуправление может получить и при господстве аристократии. Связующим элементом государства служит здесь владычествующее сословие, которое, смыкаясь в центре, имеет преобладающее влияние и на местах. И тут опять местная автономия возможна потому, что и здесь, и там господствует один и тот же элемент, вместо противоположности направлений является взаимная поддержка. Можно сказать, что аристократия есть по преимуществу сословие, опирающееся на местное влияние. Главную его материальную опору составляет крупное землевладение, которое делает его средоточием областной жизни. Иногда этот местный характер получает перевес над государственными стремлениями, и тогда он ведет к разложению государства. Отсюда историческая борьба королей с аристократиею, борьба, которая в значительной степени оправдывается противогосударственными стремлениями последней. Если же аристократия, вместо того чтобы стремиться к обособлению, сохраняет политический дух и пользуется своим местным значением только как опорою для своей государственной деятельности, то она может сделаться преобладающею и в центре, и на местах, и тогда широкая местная автономия служит ей самым крепким оплотом как против вторжений бюрократических начал, так и против натиска демократии. Но для этого необходимо, чтобы местное управление носило аристократический характер. Здесь приложимо то начало, которое Гнейтс считает нормою для всякого местного самоуправления, именно, безвозмездное отправление общественных должностей высшим классом. С одной стороны, этим самым устраняются низшие слои, не обладающие достаточными средствами для того, чтобы посвящать себя общественной деятельности без вознаграждения, а с другой стороны, добросовестным исполнением общественных обязанностей аристократия приобретает себе право на преобладающее общественное положение. В свободном государстве она не может держаться ничем другим.
Типом подобного устройства является Англия, и заслуга Гнейста состоит в том, что он вполне это разъяснил. Но именно в этой типической форме обнаруживается свойство этой организации. Выборное начало, которым обыкновенно характеризуется самоуправление, здесь совершенно устранено или является элементом, разлагающим установленный веками порядок. Главный центр местного управления в английских графствах составляют мировые судьи, которые определяются правительством по представлению назначаемого пожизненно лорда-лейтенанта. Мировые судьи, безвозмездно отправляющие свою должность, заведуют и местными податями, и администрациею, и судом. А так как их может быть неопределенное количество, то в этом учреждении соединяется центр местной аристократии, которая таким образом держит все областное управление в своих руках. Понятно однако, что подобный порядок возможен только под двумя условиями: во-первых, чтобы деятельность государственной власти ограничивалась наименьшими размерами и, во-вторых, чтобы центральное правительство было устроено так, чтобы назначения всегда делались в духе преобладающего класса. Последнее достигается тем, что в центре владычествует тот самый элемент, который господствует и на местах. И тут, следовательно, ключ лежит в политической свободе, без нее все это здание обратилось бы в орудие центральной власти. Но политическая свобода должна иметь здесь аристократический характер, с ослаблением же аристократического элемента весь этот порядок неизбежно изменяется. Это мы и видим в Англии. Стремление новейшего законодательства состоит в том, чтобы управление мировых судей заменить выборным началом. А с другой стороны, с усилением государственных потребностей развивается деятельность центрального правительства, которое мало-помалу подчиняет областные власти своему контролю. Прежняя широкая местная автономия оставляла в запущении многие существенные стороны управления, вследствие чего потребовалось более энергическое действие сверху. Таким образом, областное управление в Англии постепенно приближается к тому типу, который господствует на европейском материке, именно, к сочетанию выборного начала с правительственным, хотя еще в значительной степени сохраняются старые аристократические учреждения. Пока аристократия сильна, эти учреждения продолжают быть необходимым звеном местной жизни.
В некоторых других государствах сохранились также следы аристократического самоуправления, но при отсутствии политической свободы они приняли иной характер. В Пруссии ландраты первоначально были выборные от дворянства для заведования местными делами, но правительство воспользовалось ими для своих целей, вследствие чего они превратились в коронных чиновников, однако с местным значением, ибо кандидаты на эту должность представляются землевладельцами или окружными собраниями, и при небольшом жаловании должность считается более почетною, нежели доходною. Через это ландратам обеспечивается некоторая независимость и сохраняется связь их с местною жизнью. Это учреждение оказало государству существенные услуги.
Еще более независимый характер имеют наши предводители дворянства. И на них правительство возлагает многие служебные обязанности. Можно сказать, что в настоящее время на предводителях дворянства лежит главным образом управление уездов. Но это должность чисто выборная и вполне безвозмездная. Аристократическое ее значение сохранилось неприкосновенным. С этим неизбежно соединены некоторые неудобства, ибо от безвозмездной и почетной службы нельзя требовать того же, что требуется от службы коронной. Тем не менее подобными остатками исторического права следует дорожить. Пока есть сословие, выставляющее среди себя людей, готовых бескорыстно нести общественную службу, его услугами надобно пользоваться. Тут есть элемент независимости и местного влияния, который дает местному самоуправлению особенный вес и который нельзя заменить ничем другим.
В особенности там, где выборные учреждения еще недостаточно окрепли, эти исторические элементы играют весьма важную роль. Они связывают прошедшее с будущим.
Но если этого рода должности, носящие аристократический характер, важны и как выражение исторических начал и как форма, в которой проявляется участие аристократического элемента в самоуправлении, то не в них все-таки лежит главный центр местных учреждений нового времени. Эти учреждения как в республиках, так и в монархиях слагаются из двух начал: выборного и правительственного. От правильного их сочетания зависит в значительной степени достоинство управления.
Это сочетание может быть двоякого рода: или управление остается нераздельным в руках государства и учреждаются только выборные советы при назначаемых правительством администраторах, или же дела разделяются между правительственными и выборными органами, так что последним предоставляется особый круг действия. В первом случае все исполнение сосредоточивается в руках правительственных чиновников, выборные же получают совещательный или решающий голос по делам, касающимся местности, причем иногда права их ограничиваются изданием общих постановлений, исходящих от временно созываемых собраний, как было в прежнее время во Франции, иногда же им предоставляется и участие в исполнительных действиях, в каком случае при местном правителе учреждается постоянный выборный совет, как установлено ныне во Франции по примеру Бельгии. При второй системе, то есть при раздельности ведомств, выборные представители, заведуя местными делами, сами выбирают из себя исполнительные органы, но круг их действия неизбежно теснее, ибо все, что составляет правительственный интерес, от них отходит. Таковы наши земские учреждения.
Которая из этих двух систем заслуживает предпочтение? Первая обеспечивает большее единство управления, вторая дает более самостоятельности местным элементам, суживая однако их круг действия. Перевес той или другой точки зрения зависит от местных и временных условий, но главным образом от развития политической свободы. В странах, где установилось облеченное широкими правами народное представительство, из которого исходит самая правительственная власть, нет необходимости разъединять местное управление. Здесь правительственный элемент и выборный не являются противоположными друг другу, ибо оба истекают из одного начала. При зависимости бюрократии от центрального представительства существенный интерес ее состоит в том, чтобы жить в согласии с представительством местным. А с другой стороны, при полной независимости местных учреждений они легко могут сделаться средоточием враждебной правительству оппозиции. Поэтому здесь французско-бельгийская система совершенно уместна. Напротив, там, где нет политической свободы, совместное заведование делами чиновничеством и земством неизбежно должно повести к преобладанию первого и к умалению последнего. Чтобы дать выборному началу некоторую самостоятельность, необходимо отвести ему особый круг действия. Но этот круг не может идти далее местных хозяйственных дел. Расширение ведомства будет иметь своим последствием не усиление, а опять же умаление местного самоуправления, ибо этим необходимо вызывается вмешательство правительственной власти, следовательно, подчинение выборного начала бюрократическому. Те, которые при таких условиях мечтают о возможно большем расширении местного самоуправления, упускают из виду самые существенные потребности государственной жизни. Правительство не может отказаться от заведования делами, которые принадлежат ему по самой природе государства, оно не может предоставить свою власть местным учреждениям. Правительство, бессильное на местах, будет бессильно и в центре. И если бы нашелся государственный человек, который решился бы на такую уступку, то за этим, как и за всякою ложною мерою, неминуемо должна последовать реакция. В конце концов, выборные убедятся, что, захотевши большего, они лишились меньшего.
Когда в обществе, обладающем уже достаточною долею местного самоуправления, является стремление к расширению свободы, то это стремление должно искать себе исхода не в местном самоуправлении, которое при развитии государственной жизни необходимо ограничивается более или менее тесными пределами, а единственно в политическом праве. Последнее составляет верховную цель для всех друзей свободы, понимающих потребности государства; но тут возникает вопрос иного рода: надобно знать, достаточно ли общество к этому приготовлено и не поведет ли подобный переворот к ослаблению власти, а вследствие того к анархическому состоянию, которое в свою очередь неминуемо должно вызвать сильнейшую реакцию?
Когда дело идет о признании свободы личной, для граждан не требуется особенного приготовления. Каждый взрослый человек вправе располагать собою, как ему угодно, и если он причиняет себе зло, то другим до этого нет дела. Однако и при водворении гражданской свободы необходимо переходное положение, для того чтобы не порвать установившихся отношений и постепенно перевести один экономический порядок в другой. Политическая же свобода требует гораздо большего. Мы видели, что тут нужна способность, а способность не приобретается по желанию, она вырабатывается жизнью. И чем выше государственный строй, чем сложнее отношения, тем самая способность должна быть больше. Поэтому свобода, пригодная для низших ступеней развития, оказывается непригодною для высших. Вследствие этого мы замечаем, что в историческом своем движении политическая свобода не идет равномерно упрочиваясь. За периодами процветания следуют периоды упадка. Иногда в течение целых веков политическая свобода исчезает, пока жизнь не подготовит новой, высшей ее формы. Беглый взгляд на историю покажет нам причины этих явлений.
Политическая свобода была и в древности, и в средние века, и в новое время. Мы находим ее даже у первобытных народов. Участие граждан в общественных делах свойственно человеческому общежитию, и когда эти дела весьма несложны, то ничто не мешает каждому подавать свой голос при их решении. Но вопрос состоит в том, до какой степени возможно согласовать это право с потребностями высшего государственного порядка, и тут мы видим, что для приготовления к этому человеческих обществ требуется долгий исторический процесс. Развитие государственной жизни начинается на Востоке, но Восток политической свободы не знал и доселе не знает. Она появляется только у классических народов, как результат всей предшествующей истории человечества. И здесь еще она заключается в весьма тесных границах. Это свобода городская, она основана на непосредственном участии каждого в общих делах. А так как в государственном строе для этого требуется высшая способность, то гражданин является лицом, специально посвящающим себя этим занятиям. Он всецело живет для государства, удовлетворение же частных потребностей возлагается на рабов. Политическая свобода в древних республиках вся покоилась на рабстве. Но самый этот узкий ее характер делал ее пригодною только для известной ступени развития. Она могла процветать, пока государственная жизнь вращалась в тесном городском кругу, и самые интересы при простоте отношений были несложны. Как же скоро неудержимое течение истории вывело классические государства на более широкое поприще, как скоро осложнились и интересы и отношения, так политическая свобода древнего мира оказалась неспособною к исполнению своей задачи. Римские граждане могли управлять Римом, но они не в состоянии были управлять целым завоеванным ими миром. При изменившихся условиях политическая свобода не могла удержаться, она по необходимости пала и уступила место единовластию.
Снова она возникла в средние века, но опять при иных условиях. Средневековая жизнь гораздо ближе подходила к тому, что могли дать люди при весьма невысокой степени образования. Государство разложилось, и на место его установился порядок, основанный на взаимных отношениях частных сил. Политическое право возникло здесь не из государственных требований, а из частного права. Но по этому самому это было право сильнейшего. Оно носило преимущественно аристократический характер, ибо военная аристократия завоевала себе высшее положение в обществе. Мало-помалу рядом с нею, хотя и на втором плане, становятся города, которые силою оружия умели отстоять свою независимость. А так как и землевладельцы, и города были рассеяны по всей земле, то для совокупных решений необходимо было представительство. Но представительное начало было здесь не более как сделкою между частными элементами. Каждый считал себя верховным владыкою у себя дома; подчинение общему центру, королю, основывалось не на государственных требованиях, а на частных отношениях и привилегиях. Вся средневековая жизнь состояла таким образом в бесконечных частных сделках и соглашениях. Вследствие этого Монтескье, который в необходимости сделок между независимыми элементами видел существо конституционного правления, утверждал, что эта система была изобретена в лесах Германии. Основанный германцами средневековый быт действительно представлял тому зачатки, но зачатки свойственные не государственному, а противогосударственному порядку. Система частных сделок, без высшей владычествующей над всеми власти, могла повести лишь к всеобщей анархии; и точно, такова картина, которую представляют нам средние века. Но именно поэтому подобный порядок не мог быть прочен. Политическая свобода, основанная на частном праве, в свою очередь пала и уступила место новому единовластию. Снова она возникла в средние века, но опять при иных условиях. Средневековая жизнь гораздо ближе подходила к тому, что могли дать люди при весьма невысокой степени образования. Государство разложилось, и на место его установился порядок, основанный на взаимных отношениях частных сил. Политическое право возникло здесь не из государственных требований, а из частного права. Но по этому самому это было право сильнейшего. Оно носило преимущественно аристократический характер, ибо военная аристократия завоевала себе высшее положение в обществе. Мало-помалу рядом с нею, хотя и на втором плане, становятся города, которые силою оружия умели отстоять свою независимость. А так как и землевладельцы, и города были рассеяны по всей земле, то для совокупных решений необходимо было представительство. Но представительное начало было здесь не более как сделкою между частными элементами. Каждый считал себя верховным владыкою у себя дома; подчинение общему центру, королю, основывалось не на государственных требованиях, а на частных отношениях и привилегиях. Вся средневековая жизнь состояла таким образом в бесконечных частных сделках и соглашениях. Вследствие этого Монтескье, который в необходимости сделок между независимыми элементами видел существо конституционного правления, утверждал, что эта система была изобретена в лесах Германии. Основанный германцами средневековой быт действительно представлял тому зачатки, но зачатки свойственные не государственному, противогосударственному порядку. Система частных сделок, без высшей владычествующей над всеми власти, могла повести лишь к всеобщей анархии; и точно, такова картина, которую представляют нам средние века. Но именно поэтому подобный порядок не мог быть прочен. Политическая свобода, основанная на частном праве, в свою очередь пала и уступила место новому единовластию.
Потребность усиления монархического начала была вызвана государственными стремлениями нового времени. Возрождающееся <государство> вело борьбу против анархических средневековых сил и наконец подчинило их себе. Очевидно, что это подчинение могло совершаться только в ущерб политической свободе. Вследствие этого первый период в истории нового времени характеризуется развитием абсолютизма.
Этот период для различных европейских народов был более или менее продолжителен, смотря по тому, насколько общественные элементы были подготовлены к государственной жизни, а с тем вместе и к политической свободе. Ранее всего он прекратился и наиболее поверхностные следы он оставил там, где уже в средние века вследствие дружного действия сословий успело сложиться прочное центральное представительство. Так было в Англии. Мы видели уже, что здесь аристократия была наиболее проникнута государственным духом и менее всего дорожила своими частными правами. Она не отделялась от народа, не стремилась к местной власти, а вкупе с городами отстаивала общие права против королевской власти. Поэтому здесь даже во времена самого сильного развития единодержавия, при Тюдорах7, представительные учреждения не исчезли совершенно. И когда наконец установившийся государственный порядок дозволил снова возвратиться к завещанным веками началам политической свободы, аристократия в союзе с городами сломила стремившуюся к абсолютизму королевскую власть и водворила то парламентское правление, которое поныне господствует в Англии. Но именно вследствие этого раннего развития политической свободы и связи ее с средневековыми учреждениями государственная жизнь Англии всего более сохранила следов средневекового порядка. Свобода водворилась в ущерб равенству; перевес аристократического начала повел к обездолению низших классов, и только громадное богатство, приобретенное всемирным владычеством на морях, могло служить противовесом этому злу.
Совершенно иной был ход политического развития во Франции. Здесь в аристократии преобладали противогосударственные стремления, усиливающаяся королевская власть вела против нее борьбу в союзе с горожанами. Борьба кончилась полною победою королей. Основанная на средневековых привилегиях политическая свобода рушилась окончательно, и когда она возникла снова, то уже на совершенно иной почве и из иной среды. Представителями ее явились прежние союзники королей, средние классы, которые во имя общих начал свободы и равенства требовали для народа политических прав. За средними классами последовали и низшие, вооруженные тем же началом общего права. Это и привело окончательно к водворению республики.
Наконец, в Германии, преобладание средневековой аристократии повело к полному бессилию центральной власти, вследствие чего Империя превратилась в союз разнородных владений. Но здесь сами местные владельцы, восторжествовавшие над центром, сделались представителями нового государственного начала. Вследствие этого и тут водворился абсолютизм, однако с сохранением исторических прав, насколько они были совместны с новым порядком. Отсюда двоякое течение жизни, которым определяется новейшее развитие политической свободы в Германии. С одной стороны, так же как во Франции, являются новые требования политической свободы, исходящие из средних классов, в 1848 г. эти стремления получили наконец верх и повели к повсеместному установлению конституционного порядка на почве общей гражданской свободы. С другой стороны, представители исторического права оказывают противодействие этому движению, и если они не в состоянии его остановить, то они в значительной степени могут его ослабить. Отсюда происходит шаткость политической свободы в Германии[345].
Таков всемирно-исторический ход развития свободы. Из него нетрудно усмотреть тот закон, которым управляется это движение Государство имеет свои требования, и политическая свобода может быть допущена в нем настолько, насколько она в состоянии им удовлетворить. Первое требование заключается в единстве управления, без которого общество распадается. Именно эту задачу призвана исполнить господствующая в государстве верховная власть. Наибольшим единством она несомненно обладает, когда она сосредоточивается в одном лице. Отсюда всемирное значение монархического начала для государственной жизни. Политическая же свобода может заменить его лишь в той мере, в какой она способна создать из себя требуемое государством единство управления. Иначе власть, разделяясь, слабеет, и в обществе водворяется анархия.
В некоторой степени политическая свобода всегда приносит с собою внутреннее разделение. Власть в свободных государствах распределяется между различными органами, и это служит важнейшею гарантиею свободы, ибо взаимное ограничение властей воздерживает произвол. С политическою свободою неразлучно связана и борьба партий, ибо здесь неизбежно обнаруживается различие взглядов на государственное управление, и от победы того или другого направления зависит самый ход государственных дел. Но эта борьба может быть плодотворна или пагубна смотря по тому, какой характер она на себе носит. Она плодотворна, если она выражает собою только неизбежное разномыслие при стремлении совокупными силами достигнуть общей государственной цели. Напротив, она становится источником неисцелимого разлада, как скоро она доходит до размеров крайнего ожесточения, и в особенности если она касается не подробностей управления, а самых основ государственного или общественного строя. Именно в свойствах этой борьбы проявляется политическая способность общества, от которой зависит и возможность политической свободы. Для того чтобы необходимое в государственной жизни единство управления не разрушилось приобщением к нему свободных элементов, надобно, чтобы в самых этих элементах единство преобладало над различиями. Где этого нет, там водворение политической свободы немыслимо. Из этого можно вывести общий закон, что чем меньше единства в обществе, тем сосредоточеннее должна быть власть. Этим законом управляется все государственное развитие древних и новых народов.
Отсюда ясно, почему в больших государствах водворение политической свободы встречает более препятствий, нежели в малых. Чем обширнее пространство, чем рассеяннее народонаселение, чем разнообразнее местные условия и общественные элементы, тем труднее установление внутренней их связи. Недостаток внутреннего единства должен заменяться единством внешним. Вследствие этого Монтескье утверждал, что большим государством свойственно деспотическое правление.
Ясно также, почему политическая свобода скорее водворяется там, где государство состоит из одной народности, нежели там, где их несколько. Господство одной народности над другими легче совмещается с самодержавием, нежели с представительным порядком, который призывает к политической деятельности подчиненные элементы. Конечно, если господствующая народность имеет значительный перевес и количеством и образованием, то она справится с своею задачею. Но там, где свободные учреждения еще юны и политическая жизнь еще не окрепла, сплоченное и враждебное государству меньшинство может причинить неисчислимый вред.
Наконец, тем же законом объясняется и отношение к политической свободе различных общественных классов. Последний вопрос — самый существенный из всех. Давно повторяют, что политическая свобода не висит на воздухе, что она должна иметь корни в народной жизни. Это сделалось даже общим местом. Но почва, на которой произрастают эти корни, не составляет однородной массы, она разделяется на слои, и каждый из этих слоев дает им особое питание. Наслоение же зависит от распределения собственности, которое, в свою очередь, определяется движением промышленных сил. Мы приходим здесь к вопросу о влиянии промышленного быта на государство и об отношении гражданской свободы и ее последствий к свободе политической.
Всякое общество вследствие естественного движения промышленных сил и происходящего отсюда неравенства разделяется на возвышающиеся друг над другом слои, все равно, смыкаются ли эти слои в определенно организованные сословия или остаются они в виде общественных классов с неопределенными и подвижными границами. Таков общий закон человеческой жизни, закон, которого действие может прекратиться только при совершенно немыслимом всеобщем уничтожении свободы. Пока на земле существует свободная промышленная деятельность и порождаемая ею собственность, до тех пор будут и различные общественные классы, каждый с своим особенным характером, проистекающим из его положения. Не только количество, но и виды собственности влияют на этот характер. Из различных деятелей производства землевладение имеет значение по преимуществу аристократическое, капитал и умственный труд свойственны средним классам, наконец, физическая работа составляет принадлежность демократической массы. Как же скоро существуют в обществе различные классы с определенными свойствами, так необходимо принять их в расчет и уделить им сообразное с этими свойствами место в государственном организме. Только поверхностная теория делает свои вычисления с отвлеченными единицами. Истинная наука, равно как и здравая практика, отправляются от конкретных явлений; там, где есть различие элементов, они признают различие и в их действии, а равно и в той роли, которая уделяется им в общем движении. Сама жизнь ведет к этому неудержимо. История руководствуется не отвлеченным схематизмом: деятелями в ней являются различные классы с их особенностями, из которых рождается различное их отношение как друг к другу, так и к политической свободе.
Из этих классов наиболее государственное значение имеет аристократия. Это сословие по преимуществу политическое, и таковым оно было во все времена истории. Аристократия способна иметь в себе и наиболее внутреннего единства. Состоя из относительно небольшого количества лиц, связанных общими интересами, а нередко и общею организациею, она представляет такую среду, которая при всегда господствующем в ней охранительном духе является самою твердою опорою государственного порядка. Вместе с тем она составляет независимую силу, сдерживающую произвол административных властей. Аристократия, проникнутая истинно политическим духом, не отделяющаяся от других сословий, а напротив, подающая им руку, становится вождем народа в приобретении политических прав. Такую роль она играла в Англии, и именно при таком условии политическая свобода всего легче может водвориться в обществе.
Но аристократия имеет и свою оборотную сторону. Привилегированное ее положение нередко ведет к тому, что она свои частные интересы предпочитает общественному. И чем она могущественнее, чем менее она встречает перед собою преград, тем эта опасность больше. Вместо соединения с другими классами во имя общих интересов является сословная рознь, вместо внутреннего единства — взаимное соперничество и вражда. При таком направлении аристократия перестает быть опорою государственного порядка, она становится враждебным ему элементом. Таковою именно в значительной степени была средневековая аристократия: она дорожила не столько общим правом, сколько своими частными привилегиями, отсюда борьба королей с вельможами. Там, где победа осталась за последними, государство или разложилось, или пало. Польша служит тому живым примером. Там же, где государственные требования взяли верх, аристократия покорилась своей участи, отказалась от политических прав, но зато она с тем большим упорством <боролась> за неприкосновенность своих сословных преимуществ. Между тем именно эти преимущества, разделяя сословия и возбуждая вражду низших, служат главным препятствием дружной их деятельности, а потому и развитию политической свободы. Как скоро аристократия променяла политические права на привилегии, так она перестает уже быть вождем народа на пути политического развития. Эта роль выпадает на долю средних классов.
Через это однако не уничтожается значение аристократического начала в политической жизни. Аристократия может потерять свое первенствующее положение, она может даже перестать быть отдельным сословием, она все-таки не перестает быть одним из существенных составных элементов государства и общества. Материальною ее основою служит крупная поземельная собственность, которая обладающему ею классу дает особенный характер и особое назначение в общественном строе. В нем развивается тот охранительный дух, который в соединении с высшим образованием и с независимостью положения составляет отличительную черту аристократического образа мыслей. Тут является, с одной стороны, сознание высших законов жизни, уважение к историческим началам, преданность престолу и религии, с другой стороны, чувство собственного достоинства, высоко развитые понятия о чести, привычка к возвышенному положению, ширина и изящество жизни при отсутствии всяких мелочных расчетов, одним словом, тут возникает целый нравственный мир с своим типическим характером, которого ничто не может заменить. Нет сомнения, что не всегда и не везде эти высокие свойства составляют принадлежность землевладения. Для этого кроме обладания имуществом требуется нравственная и умственная работа, которую не всякая аристократия на себя берет. Но верно то, что именно в этой среде и при таких условиях развиваются эти качества, которые делают аристократический элемент необходимою принадлежностью всякого просвещенного общественного быта. Если бы осуществилась мечта социалистов и социал-политиков насчет национализации земли, то государство, а с ним вместе и политическая свобода лишились бы в крупном землевладении одной из важнейших своих опор. Ниже это еще яснее окажется в приложении.
Но если землевладение составляет материальную основу аристократии, то историческая роль поземельной собственности в промышленном развитии человеческих обществ сама собою ведет к тому, что этот элемент, сначала первенствующий, впоследствии отодвигается на второй план и уступает первенство и инициативу политического движения все более и более развивающимся средним классам. Землевладение только на низших ступенях экономического быта составляет господствующий элемент народного хозяйства. Высшее развитие, как мы видели, основано на умножении капитала, а капитал находится в руках средних классов. Последние поэтому естественным ходом жизни выдвигаются вперед и рано или поздно непременно приходят к требованию политических прав. Промышленная свобода, накопляющееся богатство и развитие образования неминуемо к этому ведут. По своему положению, связывающему низшие классы с высшими, по вызываемой в них промышленного жизнью самодеятельности, по тем теоретическим требованиям, которые рождаются в них вследствие умственного труда, средние классы являются главною опорою конституционного порядка нового времени. От них исходило конституционное движение, охватившее Европу с конца прошедшего столетия. Даже в Англии в силу неотразимого хода вещей аристократический элемент стал отходить на задний план, и главными деятелями на политическом поприще являются средние классы. В настоящее время это яснее, нежели когда-либо.
Нет сомнения однако, что средние классы в общем итоге обладают меньшим политическим смыслом, нежели аристократия. Последняя есть сословие по существу своему государственное, первые же составляют сословие преимущественно промышленное. Между тем самый характер промышленной деятельности, исходящей из личной инициативы и требующей полной свободы, делает их менее способными понимать истинные потребности государства как высшего органического союза. Средние классы слишком склонны предаваться одностороннему и отрицательному либерализму, вести оппозицию, вместо того чтобы поддерживать власть. Как же скоро промышленный порядок подвергается малейшей опасности, так они охотно готовы отдать все свои права в руки неограниченного правительства, лишь бы оно доставило им возможность спокойно заниматься своими частными делами. С другой стороны, отвлеченный умственный труд нередко порождает чисто теоретическое направление, которое вредно, а иногда разрушительно действует на практику. Наконец, самая неопределенность границ, отделяющих средние классы от высших и низших, делает то, что они менее всех обладают внутренним единством. Средние классы несравненно рассыпчатее и подвижнее, нежели аристократия и даже нежели демократия. Для того чтобы победить все эти недостатки и сделать средние классы способными быть носителями государственных начал, нужно не только широко разлитое образование, но необходима и практическая школа, которая сделала бы государственные требования доступными массе средних людей. С этой стороны весьма важны отношения, в которых средние классы находятся к другим, как высшим, так и низшим.
Самое выгодное условие то, когда средние классы проходят свою практическую школу под руководством аристократии. Тогда они постепенно проникаются тем государственным смыслом, которым обладает последняя, и когда они наконец, оттесняя ее, выдвигаются на первый план, то они уже вполне в состоянии занять ее место в общем политическом движении. Таково именно было развитие политической свободы в Англии. И это долговременное шествие рука об руку, скрепляя союз обоих классов, служит самою надежною опорою представительных учреждений. Вместо взаимной вражды сословий, которая составляет главную помеху политической свободе, тут укореняется привычка входить в сделки, делать друг другу уступки и таким образом сохранять внутреннее единство, необходимое для государственного управления.
Можно сказать, что везде, где высшие и средние классы, которые составляют мыслящую часть общества, призываются к совокупной деятельности, их согласие служит важнейшим условием успеха. Счастлив тот народ, в котором аристократия и горожане подают друг другу руку для общего дела! Но не всегда это согласие возможно. Где исторически выработалась резкая противоположность взглядов, понятий, стремлений и чувств, там напрасно мечтать о союзе. Отсюда бессилие всех попыток так называемого слияния (fusion) во Франции. Дело состоит здесь не в примирении династий, что не имеет существенного значения, а в примирении стоящих за этими династиями высших и средних классов, что несравненно важнее. После крушения, постигшего Июльскую монархию, вожди прежнего большинства поняли необходимость искать опоры в других общественных классах. Наиболее охранительные из них затеяли с этою целью сближение с приверженцами старой законной монархии. Но предшествующая история провела слишком глубокую черту между этими двумя направлениями, и несмотря на внешнее примирение августейших особ вся эта попытка ограничилась лишь бесплодными интригами небольшого кружка людей. Огромное большинство средних классов обратилось в иную сторону.
Там, где история положила между высшими и средними классами такую грань, что всякий союз оказывается невозможным, последним остается либо держаться собственною силою, либо искать опоры в демократии. Но исключительное владычество средних классов столь же мало способно упрочить свободные учреждения, как и господство всякого другого общественного элемента, который захотел бы обойтись без союза с другими. И тут повторяется общий закон, что политическая свобода может поддерживаться только дружным действием различных общественных сил. Пренебрежение к этой истине именно и повело к падению Июльской монархии. Казалось, трудно было найти большее соединение талантов, как то, которое в то время выставили из себя средние классы, достигшие политического преобладания во Франции. А между тем все это здание рухнуло разом. Оказалось, что оно висело на воздухе. Замкнувшись в себе, средние классы лишились почвы. И этот исход неизбежно постигнет их всякий раз, как они захотят действовать особняком.
Что касается до опоры демократической массы, то невозможно отрицать, что она представляет значительные опасности. Низшие классы вообще менее других дорожат политическими правами. Занятые более материальными, нежели умственными интересами, они довольно равнодушны к политической свободе, и охотно сдают ее в руки власти, обеспечивающей их материальный быт. Единоличному управлению они часто более доверяют, нежели высшим и средним классам, с которыми разъединяет их противоположность богатства и бедности. Когда же демократическая масса выступает на сцену с своими собственными требованиями и интересами, то она является элементом разрушительным. Первая Французская революция представляла тому пример. Только долговременный жизненный опыт и широкое распространение в народе приобретенного веками умственного и материального богатства способны ввести демократию в условия правильной государственной жизни и сделать ее опорою политической свободы. Более всех она нуждается в школе, а потому когда средние классы, сами еще не искушенные в политической жизни, принуждены искать в ней поддержки, то государству грозит постоянная смена революций и диктатуры. Такова именно была судьба Франции с конца прошедшего столетия. Нужен был почти вековой процесс, чтобы образумить демагогов и скрепить союз демократии с средними классами на почве общей политической свободы. Отсюда произошла нынешняя мещанская республика. Можно предвидеть, что она продержится настолько, насколько будет прочен этот союз. Как же скоро демократия, забывши предшествующий опыт, захочет выступить на сцену с своими исключительными требованиями и стремлениями, так политическая свобода снова рушится, и Францию могут постигнуть кровавые перевороты, превосходящие все, что человечество видело до сих пор. Демократия, как и все другие общественные элементы, подлежит общему закону: в своей исключительности она бессильна и только в соединении с другими классами она способна создать прочный государственный порядок.
В результате мы видим, что общественная рознь подрывает политическую свободу, и только согласная деятельность различных общественных классов способна ее поддержать. Что же нужно для установления этого согласия?
Первое условие заключается в водворении общей гражданской свободы, или равноправности. Мы указали на то, что сословные привилегии, разъединяя общественные классы, составляют существенное препятствие развитию политической свободы. То же следует сказать и о крепостной зависимости. При средневековом порядке могущественная аристократия, опирающаяся на свою клиентелу, могла стоять во главе общества; в новом государственном строе это немыслимо. Как скоро приходится вступать в сделки с другими сословиями и действовать совокупными силами во имя свободы, так необходимо стать на почву общего права. Умаление и еще более угнетение других классов возбуждают вражду, притесненные обращаются к центру и там ищут защиты против удручающего их гнета и неравенства. В своей борьбе с аристократиею абсолютные монархи всегда находили самую сильную поддержку в средних и низших классах. Наоборот, английская аристократия обязана своим политическим положением именно тому, что она никогда не замыкалась в себе, не присваивала себе исключительных прав, не уклонялась от равного с другими сословиями несения общественных тяжестей и еще в средние века дала свободу своим крепостным. Старшие сыновья пэров наследуют их звание, но младшие совершенно приравниваются к остальным гражданам и сливаются с массою.
В государствах с сословным устройством водворение равноправности знаменует переход от одной общественной формации к другой. Вместо разъединенных элементов, связанных общим подчинением стоящей над ними власти, установляется слияние их на почве общей гражданской свободы. Необходимым последствием такого порядка рано или поздно является свобода политическая. Для высшего сословия в особенности она одна может заменить отмененные привилегии. Мы видели уже, что высшие классы, которые в большей или меньшей степени всегда носят на себе государственный характер, непременно стремятся или к привилегиям, или к политическим правам. Где нет ни того, ни другого, там властвует чистый деспотизм, явление редкое в истории и обыкновенно переходное. В правильном государственном порядке с отменою привилегий наступает пора развития политических прав, но уже не для одного высшего сословия, которое потеряло свою замкнутость и сливается с другими, а для всех классов, обладающих достаточною политическою способностью. Общегражданская свобода рождает в дальнейшем историческом движении свободу политическую.
В этом выражается опять тесная связь между государством и гражданским обществом. Каждый гражданский строй имеет соответствующий ему строй политический. Сохранить ту же самую политическую власть при совершенно изменившемся гражданском порядке нет возможности.
Не вдруг однако политическая перемена следует за преобразованием гражданским. Всякий новый быт должен упрочиться, для того чтобы принести свои плоды. Общегражданская свобода требует целой системы учреждений и гарантий, с которыми общество должно свыкнуться. Неизбежно разыгрывающиеся при всяком общественном переломе страсти должны улечься, изменившиеся отношения должны войти в нормальную колею. В такую пору в высшей степени важно иметь нераздельную и не подлежащую колебаниям власть, которая, стоя выше всяких частных интересов и партий, дает взволнованному обществу возможность успокоиться под ее сенью. При таких условиях требование политической свободы не может быть признано разумным и своевременным. История показывает, что народы, которые вместе с гражданскими преобразованиями приступали и к изменению политического строя, производили только всеобщий хаос. Разнузданные страсти разыгрывались на просторе, и государственный порядок подвергался полному крушению. Такова была судьба Франции во времена Революции.
Избегнуть подобной катастрофы можно только свойственною всем человеческим делам постепенностью хода. После водворения общей гражданской свободы естественною ступенью к новой политической жизни должно быть соединение различных общественных классов в общих местных учреждениях. Здесь они знакомятся друг с другом и привыкают действовать вместе. Здесь выделываются люди, образуются местные влияния, вырабатываются общие интересы, здесь практические потребности жизни возводятся в общественное сознание. Это необходимая ступень к политическому праву, но ступень, которая не может заменить последнего. Долговременное и исключительное погружение в местные интересы дает и людям и самому делу мелочной характер. Пока учреждения еще юны и требуют усиленного радения для приведения их в действие, они в состоянии воодушевить общество и дать ему толчок. Но как скоро дело вошло в обычную колею, так неизбежно наступает пора, когда внедряется рутина и начинают господствовать личные пререкания и дрязги. Чем ниже общественный уровень, тем с большею ясностью выступают эти явления. Вывести общество из этой душной атмосферы могут только политические права. Они самим местным учреждениям сообщают новую жизнь и новое значение. Местные интересы связываются с общими и через это получают несравненно большую ширину. Люди ищут местного влияния для политической деятельности, установляется живое взаимодействие между центром и окружностью. Одним словом, в общество вселяется новый дух, который поднимает его на новую высоту.
По каким же признакам можно судить, что настала пора сделать этот решительный шаг?
Так как способность составляет необходимое условие политического права, то надобно прежде всего знать, в какой мере она проявляется в ведении местных дел. Если выборные учреждения идут успешно и во главе их стоят люди даровитые, честные и образованные, то можно сказать, что общество созрело для политической свободы. Если же, наоборот, самоуправление движется хромая, если недостает людей и на местах, то трудно ожидать успеха от призвания их к высшей деятельности. Государство ничего не выиграет, а местные учреждения проиграют вследствие отвлечения к центру и без того уже слабых сил.
Эти признаки имеют однако лишь относительное значение. Чтобы прийти к правильному выводу, надобно сравнить выборные учреждения с правительственными и посмотреть, лучше ли ведутся дела чисто бюрократическим путем. Если в центре оказывается еще большее оскудение, нежели на местах, то государству может быть весьма полезно привлечение свежих элементов, ближе стоящих к действительной жизни, нежели столичное чиновничество. Этою выгодою, с которою связана и потребность политического воспитания общества, может уравновешиваться недостаток местных сил. Все, что следует в этом случае сказать, это то, что при невысоком уровне местного управления политическое право не может быть дано обществу в широких размерах. Тут необходимо весьма тщательное соблюдение постепенности.
Важнее вопрос: в какой мере местные деятели проникнуты охранительным духом и готовы поддерживать государственную власть? Если во всякую пору единство действия между органами власти и представителями общества составляет существенное условие правильного развития свободных учреждений, то тем более это условие необходимо там, где эти учреждения только что водворяются. Правительство, призывающее общество к содействию, должно быть уверено, что оно найдет в нем помощь, а не оппозицию; иначе в государстве водворится еще больший разлад, и новые учреждения не только не упрочатся, но неизбежно наступит сильнейшая реакция. Власть, обманутая в своих ожиданиях, разгонит не успевшее еще окрепнуть представительство, и на место свободы водворится чистый деспотизм. К этому именно ведет отрицательный либерализм: он способен разрушить, но он не в силах ничего создать. Прочный представительный порядок создается и утверждается лишь охранительными элементами, которые одни в состоянии установить требуемое единство власти и представительства. Поэтому распространение в обществе отрицательного либерализма служит сильнейшею помехою политической свободе, и та печать, которая действует в этом смысле, оказывает плохую услугу защищаемому ею делу.
По той же причине с введением свободных учреждений несовместны сколько-нибудь широкие преобразования в гражданской и административной области. Мы видели уже, что там, где общественные отношения изменяются, власть должна оставаться непоколебимою; наоборот, где власть изменяется, все остальное должно оставаться неприкосновенным. Для того чтобы дружным действием правительства и общества совершить какое-нибудь преобразование, надобно, чтобы оба элемента предварительно спелись, чтобы между ними установились прочные отношения, чтобы они привыкли к согласному движению. При введении представительного порядка именно на это должны быть устремлены все внимание и все усилия государственных людей и общественных деятелей. Все остальное должно быть отложено до более благоприятного времени, когда центр прочно усядется на своих новых основах и в состоянии будет правильно действовать на окружность.
Многое зависит и от самой правительственной власти. До сих пор мы говорили о необходимости внутреннего единства общественных элементов, но когда речь идет о согласном действии власти и представительства, то задача является обоюдною. Если призываемые к политическому праву общественные элементы должны поддерживать власть, то и власть с своей стороны должна относиться к обществу с доверием, а не враждебно. От этого в значительной степени зависит успех свободных учреждений. Там, где правительство смотрит на политическую свободу чисто отрицательно, где оно видит в ней не поддержку, а единственно отрицание своей воли, там очевидно новый порядок может водвориться лишь революционным путем, а это имеет неисчислимые последствия для всего политического развития народа. Тогда наступает тот внутренний разлад, который влечет за собою постоянные смены переворотов и реакций, до тех пор пока общество снова не обретет своего потерянного равновесия. Такой ход был почти неизбежен в ту пору, когда политическая свобода появилась на свет как новое начало, долженствующее разрушить весь старый порядок и создать новый мир. Но приобретенный человечеством опыт учит смотреть на дело иначе. Если, следуя указаниям истории и логики, мы будем видеть в политической свободе не вредное или разрушительное начало, а естественный и необходимый плод народного развития, тогда нет необходимости дожидаться, чтобы она стала силою, с которою надобно считаться, или, пожалуй, необузданною стихиею, которой приходится делать уступки. При таком взгляде на вещи власть сама может воспитывать народ к политической свободе, так же как она воспитывает его к гражданскому порядку, и чем правительство сильнее, тем легче это сделать. Вопрос сводится лишь к тому, достаточно ли зрело общество, для того чтобы вступить в этот высший фазис своей государственной жизни?
Этот вопрос решает сама власть, когда она провозглашает начало общей гражданской свободы и сообразно с этим переустраивает весь общественный быт. Этим самым порвана связь с прошедшим и указана дорога в будущее. И если разумная политика требует, чтобы новый быт упрочился прежде, нежели приняться за дальнейшую работу, то каждый истекший год и каждый сделанный в этом направлении шаг приближает народ к свободным учреждениям.
Само правительство, если оно понимает свое положение, начинает чувствовать в этом потребность. Свободным обществом невозможно управлять так же, как крепостным. Тут являются независимые элементы, с которыми надобно уметь справляться. Руководство сверху все-таки необходимо, и чем радикальнее изменились прежние отношения, тем оно нужнее. Общество без руководства бродит наобум, а естественный его руководитель есть правительство. Но руководить свободным обществом можно, только состоя с ним в живом общении, а это возможно единственно при свободных учреждениях. Чисто бюрократическое отношение к обществу ведет лишь к формальным заявлениям преданности и покорности, в которых одинаково отсутствуют и мысль и чувство. Только стоя лицом к лицу с представителями общества и совокупно с ними обсуждая государственные дела, правительство может дать им направление и получит от них поддержку. Власть, которая не захочет употреблять этого орудия, неизбежно упустить общественное руководство из своих рук. Оно достанется тем самозванным писателям, которые, обладая бойким пером и не пренебрегая никакими средствами, путем ежедневного повторения одних и тех же поверхностных суждений сумеют овладеть не созревшим еще сознанием публики. Тогда правительство, потерявши старые орудия и не создавши новых, будет тщетно искать магического слова, могущего угомонить вызванные им подземные силы.
Только в свободных учреждениях могут вырабатываться и люди, способные управлять свободным народом. Здесь только политические деятели научаются обращаться с независимыми силами и устремлять должное внимание на совокупность общественных интересов, здесь в постоянной борьбе мнений изощряются все высшие способности человека. Бюрократия может дать сведущих людей и хорошие орудия власти, но в этой узкой среде, где неизбежно господствуют формализм и рутина, редко развивается истинно государственный смысл. Образованные же бюрократы, одаренные более широким взглядом, сами обыкновенно бывают друзьями свободных учреждений. Вследствие этого в среде своих собственных слуг самодержавное правительство нередко находит затаенных врагов. Что касается до аристократии, то на почве гражданской свободы она может держаться лишь с помощью политических прав. К ним поэтому неизбежно будет стремиться всякая аристократия, понимающая свое государственное положение. Власть, отменившая привилегии и не заменившая их правами, встретить в ней не поддержку, а противодействие. Новые силы и новые орудия, необходимые для обновленного государственного строя, правительство может найти лишь в глубине общества, а для этого необходимо не только их вызвать, но и воспитать их, ибо государственные люди не создаются по мановению волшебного жезла: им нужна среда, в которой они вырабатываются, а такою средою в свободном обществе могут быть только свободные учреждения.
Наконец, нет сомнения, что политическая свобода, поднимая общественный дух и разливая к массе сознание государственных интересов, придает обществу новые силы и возводит народную жизнь на высшую ступень развития. Власть при самых благоприятных условиях может дать только то, что в состоянии дать власть, но она не может дать то, что дает свобода. А потому государство, которое хочет идти в уровень с другими, умевшими сочетать оба начала, волею или неволею должно вступить на тот же путь. Иначе оно останется побежденным в неравной борьбе. Правительство, которое заботится об истинных интересах государства, не может упускать этого из виду. Без сомнения, приобщение свободы к власти не всегда полезно для государства. Если между обоими элементами существует разлад, то вместо возрастающей силы произойдет обратное действие. Но задача политической жизни состоит именно в том, чтобы эти элементы действовали согласно, и эта задача, как показывает опыт, вовсе не может считаться неразрешимою: она зависит главным образом от доброй воли сторон, от взаимного уважения и от взаимных уступок.
Во всяком случае к этой цели следует стремиться, ибо она составляет высший цвет политической жизни и высший плод общественного развития. Политическая свобода не может считаться непременным требованием всякого разумного общественного быта, она не всегда и не везде применима. Участие общества в решении государственных дел возможно лишь под условием способности и внутреннего единства, которые не везде обретаются. Но высшее развитие общества само собою устраняет препятствия и восполняет недостатки. Особенно в наше время этот ход необыкновенно ускоряется материальными условиями жизни. При железных дорогах и телеграфах пространства исчезают, люди, прежде разъединенные, сходятся и узнают друг друга, в обществе установляется живой обмен мыслей, богатство растет и разливается в массах, образование становится более и более доступным всем, государственные и общественные вопросы обсуждаются на всех перекрестках. Необходимым условием и вместе естественным плодом такого порядка вещей является большее и большее развитие свободы, венец которой образует свобода политическая. Если на практике требование политической свободы не всегда может быть оправдано, то нельзя не признать, что она составляет идеал, который непременно ставит себе всякое развивающееся общество.
В какой же форме следует представить себе этот идеал? Об этом мы поговорим в следующей главе.
Глава V. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ
Политический идеал есть представление о наилучшем государственном устройстве при существующих условиях человеческой жизни.
Такого рода идеалы существуют всегда. Они не только витают в голове теоретиков, но они составляют ближайшую или отдаленную цель государственного развития каждой эпохи и каждого народа. Без идеалов нет человеческого развития, нет движения вперед, ибо когда преследуются даже чисто практические цели, все-таки надобно знать, к чему они ведут и к какому идеальному быту они нас приближают. Как разумное существо, человек непременно ставит себе эти вопросы и всегда по-своему на них отвечает.
В чем же состоит политический идеал, который может поставить себе образованный человек в наше время?
Разбирая этот вопрос, надобно прежде всего спросить: имеет ли каждый народ свой особый идеал или есть идеалы общие всему образованному человечеству?
Известно, что теократическая школа с де Местром во главе утверждала, будто каждый народ имеет свой особый, ему именно свойственный политический строй, которого зачатки вложены в него Провидением и который он призван развивать в течении всей своей истории. В доказательство ссылались на английскую конституцию, первоначальные элементы которой можно найти уже во времена переселения народов. На этот пример опирались, чтобы доказать всю тщету заимствованных и сочиненных конституций, которые являются как готовая рамка в голове мыслителя или законодателя и затем прилагаются к вовсе неприготовленной к ним жизни. Если это учение верно, то у каждого народа есть и свой политический идеал, ибо отрешиться от себя, выйти из своей природы он не может. Ему остается только осуществлять то, что вложено в него с самого начала и что представляется ему высшим совершенством человеческой жизни.
История однако обнаруживает несостоятельность этих воззрений. У весьма немногих народов можно в самом начале их существования найти зачатки того политического быта, который они устанавливают у себя в свою зрелую пору, а где есть эти зачатки, они до такой степени отличаются от позднейшего развития, что они почти неузнаваемы. Огромное большинство развивающихся народов проходит через различные гражданские состояния, которым соответствуют различные образы правления. Это мы видим и в древности, и в новое время. Так, Рим в течении своей истории прошел через монархию, аристократию, демократию и империю. А между тем римляне были одним из тех народов, которые крепче всего держались преданий и которые с наибольшею осторожностью изменяли свой гражданский и политический строй. Из новых же народов, если мы возьмем французов, которые играли столь видную роль в истории человечества, то мы увидим, что средневековая, аристократическая, раздробленная на мелкие единицы Франция вовсе не похожа на монархию времен Людовика XIV, и последняя столь же мало похожа на современную демократию, хотя все эти три формы политического быта составляют принадлежность одного и того же народа, который во всех этих фазах своего существования проявляется с своим особенным духом и с своим национальным характером.
Столь же существенные различия можно найти и у других народов. Все эти перемены определяются главным образом историческим развитием свободы, а так как каждому народу не уделен с самого начала известный размер свободы, от которого он не может отступить, так как свобода расширяется и суживается сообразно с духовным ростом народа и с развивающимися в нем потребностями, то очевидно, что народ не может быть связан каким бы то ни было образом правления. Политический быт, свойственный младенческому состоянию, столь же мало приходится зрелому возрасту, как одежда мальчика приходится взрослому. И если исторически развившиеся учреждения, игравшие первенствующую роль в истории народа, всегда имеют право на глубокое уважение, если существование их составляет для народа драгоценный клад, от которого он не может отрекаться, не отрекаясь от части самого себя, то из этого отнюдь не следует, что эти учреждения не могут видоизменяться и приспособляться к новым жизненным потребностям. Напротив, в этой эластичности заключается главное их достоинство. Руководить обществом может только правительство, которое умеет применяться к изменяющимся условиям жизни. Если бы власть осталась неизменною, когда все вокруг нее изменилось, то она тем самым показала бы себя неспособною идти вслед за развитием общества и была бы окончательно унесена неудержимым потоком событий. Такова была старая монархия во Франции.
Дух народный шире, нежели все гражданские и политические формы. Таковым он оказывается в своем внутреннем развитии, и еще более таковым он является в своей всемирно-исторической роли. Исторические народы суть носители тех идей, которые в преемственном порядке управляют судьбами человечества. Каждая из этих идей в свой черед находит в них свое отражение и всякий раз требует новых жизненных форм. Невозможно утверждать, как делала некогда немецкая философия, что каждый народ, выступающий на историческое поприще, представляет собою только один известный момент в развитии человечества. Факты доказывают несостоятельность этого взгляда. Если он до некоторой степени приложим к древности, то он совершенно опровергается историею нового времени. Христианские народы не один за другим, а совокупными силами разрешают общие задачи человечества, и когда новый народ вступает в их семью и становится историческим деятелем, он необходимо приобщается к общим воззрениям и к идеалам, господствующим в современном человечестве, что не мешает ему прилагать эти идеалы к жизни сообразно с своим характером и с своими местными условиями. Если же он свой собственный, выработанный им идеал вносит в общую жизнь человечества, то это может быть лишь такой идеал, на котором не лежит чисто народная печать, а который имеет общее значение для всех. Народ, который замкнулся бы в своих собственных понятиях и бытовых условиях, не придавая им общего значения и не видоизменяя их под влиянием общей жизни, тем самым перестал бы быть историческим народом. Он задохнулся бы в своей душной атмосфере, и вместо развития он погрузился бы в застой. Таковы именно племена Востока.
В действительности все европейские народы, не исключая и русского, прошли, как уже было указано выше, через три последовательные ступени общественного развития: через период средневековых вольностей и частных прав, через период подчиненного самодержавию сословного быта, наконец, через период общегражданской свободы, которая и есть господствующее в настоящее время начало. У каждого народа сочетание общественных элементов под влиянием владычествующих в данное время идей принимало своеобразный характер, но у всех в основании проглядывают общие черты. Русская история представляет в этом отношении наибольшие местные особенности, однако и тут при сколько-нибудь внимательном изучении невозможно не видеть аналогичного хода. Средневековые вольности служилых людей и городов, сословный быт, подчиненный самодержавной власти, наконец, столь недавно насажденная у нас общегражданская свобода, таковы три начала, которые последовательно управляют движением русской истории. Как же скоро общегражданская свобода становится основанием всего общественного быта, так неизбежно идеалом государственного устройства является свобода политическая. Жизненные условия и состояние общества могут не допускать осуществления ее в данную минуту, но идеалом она все-таки остается, ибо насажденное в жизненную почву начало должно дать свои плоды. На практике свобода может требовать значительных ограничений, но возведенная в идеал, она представляется во всей своей полноте, а эта полнота заключает в себе и свободу политическую, которая является как необходимый венец всего здания.
Понятно однако, что этот идеал не одинаково доступен высшим классам и низшим. Для идеального представления общественного быта недостаточно одних инстинктов, нужно разумное сознание. Притом инстинкты руководятся потребностями, а потребность политической свободы не одинакова для различных классов общества. Мы видели, что политическая свобода требует государственной способности, а эта способность даже у народов, стоящих на высокой степени образования, долго ограничивается одними высшими классами, низшие приобретают ее только медленно и постепенно. Вследствие этого последние довольствуются общегражданскою свободою, когда первые стремятся уже к свободе политической. Между общественным сознанием тех и других происходит разрыв, но разрыв неизбежный, ибо он вытекает из самого исторического развития народной жизни. Сетовать на это безрассудно, укорять же высшие классы за то, что они отторглись от народа и заимствовали чужеземные идеалы, значит обвинять их в том, что в них развивается высшее сознание, в силу которого они являются носителями общечеловеческих начал, изменяющих условия народного быта. В этом именно состоит настоящее их призвание и возложенное на них духовное служение обществу.
Конечно, когда дело идет о приложении, нельзя не принять во внимание требований, стремлений и инстинктов народных масс. Они составляют существеннейший элемент государственного строя, и все, что идет им наперекор, не может иметь надежды на прочный успех. Водворяясь в обществе, политическая свобода должна тщательно избегать всего, что может оскорбить народное чувство. Всего менее позволительно пренебрежение к тому, что дорого для масс. Презрение к своему и погоня за чужим служат признаком легкомыслия. Всякий, кто изучал условия политического быта, знает, что самое изящное чужеземное растение не пересаживается по произволу в новую среду: для него нужно приготовить почву; где ее нет, растение быстро погибнет. Но иное дело приложение, иное — идеал. Вполне сознавая всю трудность водворения политической свободы, образованные классы все-таки не могут не видеть в ней высшей цели народного развития, и если они от этого идеала отрекаются и довольствуются идеалом простонародья, то они отказываются именно от того, что ставит их выше масс и что составляет истинное их значение в государстве: они отказываются от умственного развития и от высших духовных потребностей человечества. Государство живет не одними делами рабочих рук и не одними инстинктами масс; ему столь же, если не более, необходим тот духовный элемент, который развивается в среде образованных классов, а этот элемент имеет свои идеальные требования, без которых он всегда остается на низшей ступени развития. К числу этих требований принадлежит идеальное представление свободы, которого нельзя отнять у образованных людей, иначе как низведя их на степень простонародья. Служа всем сердцем своему отечеству и вполне понимая его особенности и насущные его потребности, истинный гражданин никогда не откидывает от себя того высшего сознания общечеловеческих начал, которое одно делает образованного человека вполне человеком и которого присутствие в обществе дает высшую цену самой народной жизни.
Итак, вглядываясь в историю, мы должны признать, что все предшествующее развитие европейских народов делает государственное устройство, вмещающее в себе политическую свободу, идеалом для современного человека. Но может быть, это идеал только временный, соответствующий известному периоду исторического развития? Может быть, будущее готовит нам новые государственные формы, из которых политическая свобода будет исключена? Чтобы ответить на этот вопрос, надобно обратиться уже не к истории, а к теории государственного права. Возможно ли теоретически допустить, чтобы государственное устройство, вмещающее в себе политическую свободу, взятое отвлеченно, стояло ниже государственного устройства, исключающего это начало?
Многие у нас представляют себе политический идеал в такой форме, что государством управляет единая, нераздельная, неограниченная власть, всем распоряжающаяся по своему усмотрению; общество же ограничивается нравственным влиянием, с которым правительство, имеющее в виду благо народа, всегда должно соображаться. Через это избегаются все вредные последствия, проистекающие от разделения власти, устраняются борьба и владычество партий, интриги, взаимное недоверие, слабость правительства, одним словом, все то, что составляет оборотную сторону свободных учреждений в конституционных государствах; а между тем значение общественного мнения сохраняется во всей своей силе. Ссылаются на то, что самое неограниченное правительство не может нарушить коренных убеждений народа, не встретив сопротивления и не подвергая опасности собственное свое существование. С высшим развитием это влияние народной мысли должно сделаться прочнее и распространиться на все общественные интересы. При этом считают возможным допустить самую широкую свободу мнений, которым дается право беспрепятственно выражаться в печати и иным путем, лишь бы власть всегда сохраняла за собою право окончательного решения по всем вопросам.
Это воззрение грешит тем, что в нем и существо государства и взаимное отношение его элементов понимаются крайне поверхностно. Государство не есть чисто нравственный союз, как церковь; это союз по существу своему юридический, а потому все установляющиеся в нем отношения тогда только получают силу и прочность, когда они облекаются в юридические формы. Нет сомнения, что и в государстве нравственный элемент всегда сохраняет существенное свое значение; кто пренебрегает им, тот рискует возбудить всеобщее неудовольствие. Но постоянным деятелем в государственной жизни этот элемент становится только тогда, когда он соединяется с элементом юридическим. Общество, которое ограничивается одним нравственным влиянием, отказывается от участия в решении государственных вопросов.
Против этого нельзя ссылаться на то, что власть, посягающая на основы народной жизни, непременно встретит сопротивление. Конечно, если бы какое-либо правительство вздумало уничтожить народную религию или повально рубить головы по своей прихоти, то граждане, доведенные до отчаяния, пожалуй, схватились бы даже за оружие, чтобы положить конец невыносимому порядку вещей. Но из того, что безумствующая власть может довести подданных до отчаяния, нельзя сделать никакого вывода относительно правильного государственного порядка и ежедневного действия государственных учреждений. В минуты опасности народ готов подняться как один человек, но в обыкновенном течении жизни, если общество не имеет своих постоянных и законных органов, оно остается бессильным.
Нельзя ожидать, чтобы при высшем развитии было иначе. Высшее развитие ведет к тому, что политические вопросы более и более становятся доступны всем, они обсуждаются во всех слоях общества и из этого образуется то, что называют общественным мнением. Но как скоро общественное мнение приобретает известную силу, так оно необходимо требует себе исхода. Политическая мысль не то, что философское учение, которое ограничивается проповедью <и> убеждением. Политическая мысль имеет значение существенно практическое, она стремится действовать на волю. Поэтому как скоро в обществе является политическая мысль, так неизбежно рождается и стремление участвовать в решении дел. Воображать, что в каком бы то ни было обществе мысль и воля могут распределяться между различными органами, что мысль может принадлежать народу, а воля правительству, значит представлять себе народный дух в каком-то немыслимом раздвоении. И в отдельном лице, и в целом обществе мысль и воля тесно связаны и постоянно находятся во взаимодействии. В этом состоит нормальный порядок человеческой жизни, всякое между ними разделение есть признак слабости и внутреннего разлада. Распределять в государстве мысль и волю по различным органам, все равно что разрезать народную душу на две половины и сделать из государства нравственного урода.
В приложении это может повести лишь к извращению как мысли, так и воли. Общественная мысль, не находящая правильного исхода в организованных учреждениях, превращается в хаотическое брожение, среди которого истинными ее выразителями считаются те, которые кричат громче других. Результатом является владычество неорганического элемента государственной жизни над органическим. Там, где есть организованные учреждения, которые вводят общественную мысль в правильную колею, самый неорганический элемент получает свое место и значение в целом. Здесь же он должен заменить собою все, а потому становится на неподобающую ему высоту. А так как при таком порядке у представителей общественного мнения нет настоящего дела, и ответственности они не несут никакой, вследствие чего им не нужно ни сдержанности, ни дисциплины, так как все ограничивается случайным выражением личных мнений, то понятно, что из такого общественного быта ничего не может выйти, кроме полнейшего хаоса. С своей стороны правительство, принужденное соображаться с этими бродячими стихиями и не находя в них точки опоры, будет также бродить наобум, представляя непривлекательное зрелище государственных людей, выплясывающих либеральную или консервативную пляску перед самыми популярными или бойкими журналистами. Когда подумаешь, что серьезные люди могут, не шутя, признавать высшим политическим идеалом неограниченную власть, смягченную необузданною журналистикою, то в этом можно видеть только признак совершенно младенческого состояния политической мысли.
Столь же мало может служить заменою политического права какое бы то ни было расширение местного самоуправления. Если местные учреждения должны получить политический характер, то это поведет к раздроблению государства. Даже в свободных странах им запрещается выражать мнения по политическим делам, ибо это искажает истинное их значение и вносит политическую агитацию туда, где ее не должно быть. Всякий политический интерес есть общий всему государству, а потому как скоро допускается его обсуждение общественными органами, так следует требовать, чтобы это обсуждение происходило в центре. Если же местное самоуправление в нормальном порядке должно ограничиваться административною областью, то именно при самодержавном правлении всего менее можно допустить значительное его расширение. Мы уже видели, что это можно сделать только за счет правительственной власти, а в самодержавии требуется прежде всего сильная правительственная власть, которая составляет существенную принадлежность этого образа правления. Невозможно лишать его местных орудий, не исказивши самого его характера. Поддерживать неограниченную силу власти в центре и ослаблять ее на местах, значит задаваться двумя противоречащими друг другу целями. Это все равно, что если бы мы в животном организме стали безмерно развивать голову и сокращать руки и ноги. Власть нужна затем, чтобы действовать, а не затем, чтобы бездействовать.
Вообще, все эти старания заменить мировое развитие мысли и опыта веков чем-нибудь новым и небывалым ничто иное, как праздные фантазии. Можно в своем кабинете сочинять какие угодно проекты, будто бы приноровленные к народному духу; и действительная жизнь, равно как и здравая теория, не придадут этим измышлениям ни малейшей цены. И теория, и опыт равно говорят, что если для известного общества требуется самодержавная власть, то нечего толковать о широком развитии свободы. Самодержавная власть, которая дала бы значительный простор свободе, не вводя ее в организованные учреждения, тем самым вызвала бы в обществе полнейший хаос, подорвала бы собственные свои основы и в конце концов, для того чтобы дать правильный исход возбужденному ею волнению, принуждена была бы даровать народу политические права. Оставаться при таком порядке нет возможности.
Теория и опыт говорят нам также, что если народу нужно самодержавие, то рядом с этим необходим общественный быт, основанный на сословных привилегиях. Мы видели уже, что последние служат единственною возможною заменою политического права. Только исторические привилегии крепкого и связанного внутри себя аристократического сословия могут при неограниченном правлении сдерживать произвол бюрократии и доставлять некоторое ограждение свободе. А с другой стороны, они же служат поддержкою власти, которая в привилегированном сословии всегда видит первую опору престола и самого верного защитника государственных интересов против всяких бродячих стихий, легко находящих доступ в чиновничью среду. Из истории мы знаем, что прочное самодержавие никогда иначе и не существовало, как при сословном порядке. Неограниченная же власть при общем гражданском равенстве есть демократический цезаризм, правление, которое исторически вызывалось иногда временными потребностями общества, расшатанного внутренними переворотами, но которое никогда никакого прочного порядка вещей создать не могло. Всемогущая власть наверху и под нею безразличная и бесправная масса — это такой общественный быт, при котором немыслимы ни твердый порядок, ни правильное развитие учреждений, ни какие бы то ни было гарантии свободы. Всего более здесь приносятся в жертву интересы высших, образованных классов, то есть именно тех, которые дают государству и мысль, и волю, и орудия. Они раздавлены между деспотизмом сверху и демократиею снизу. Когда демократический цезаризм появлялся на политическом поприще, он всегда был орудием масс против высших классов. Но так как подобное орудие может быть только временною потребностью, то он исчезал при более спокойном состоянии общества, если не падал от собственной неустойчивости.
Вследствие этого диктаторы, мечтавшие об основании прочных династий, всегда старались окружить себя аристократическими элементами. Величайший представитель демократического цезаризма нового времени, Наполеон I, доказывая необходимость аристократии, говорил, что для управления государством нужно иметь двоякую точку опоры, так же как кораблю необходимы парус и кормило; если же правительство имеет только одну, то оно или опрокидывается или несется по воле волн. Но аристократии нельзя создать по произволу, ее создает история. Если же предшествующая история народа привела к такому общественному строю, в котором существуют только две силы, всемогущая власть и народная масса, то из подобного порядка вещей надобно как можно скорее искать исхода, ибо он не только не обеспечивает будущего, но не дает даже возможности разумным образом жить в настоящем. Единственный же из него исход заключается в политической свободе. Равенство, неуместное при самодержавии, при свободе получает настоящее свое значение.
Итак, с какой бы стороны мы ни рассматривали вопрос, всегда идеалом представляется нам такое государственное устройство, которое вмещает в себе политическую свободу. Спрашивается: какую же роль должно играть в государстве это начало? Должно ли оно служить основанием всего политического быта, или должно оно входить в него как один из составных элементов, сочетаясь с другими коренными началами государственной жизни? В первом случае идеалом будет демократическая республика, во втором — ограниченная монархия. Который же из этих двух образов правления в теории заслуживает предпочтение?
С первого взгляда может показаться, что если говорить об идеале, то нельзя признать иного, кроме демократической республики. Здесь только вполне осуществляются начала свободы и равенства, которые представляются плодом высшего политического развития; здесь все граждане как члены государства участвуют в общественных делах и интересы всех равно защищены; здесь самая власть не имеет иного источника, кроме народной воли, а потому никогда не может служить преградою требованиям последней; общее благо никогда не подчиняется частному. Если установлению демократической республики мешает политическая неспособность масс, то эта неспособность исчезает с успехами просвещения. Мы должны ожидать, что с совершенствованием человечества достаток и образование все более и более будут распространяться в массах, а потому чем выше будет общий уровень, тем более народная воля будет разумна и справедлива, следовательно, тем менее она будет нуждаться в каких-либо сдержках и преградах. С этой точки зрения демократическая республика представляется окончательною формою, к которой рано или поздно должны прийти все развивающиеся народы.
В этом взгляде есть известная доля истины, но еще большая доля односторонности. Нет сомнения, что с совершенствованием жизни и с распространением достатка и образования политическая способность масс должна увеличиваться. При таких условиях демократическая республика, немыслимая прежде в большом государстве, становится приложимою. Она может даже играть значительную историческую роль, ею могут воодушевляться благородные души, для которых свобода и равенство представляются высшими началами политической жизни. Но возвести ее в идеал все-таки нельзя иначе, как упустивши из виду самые существенные стороны человеческого общежития.
Человеческие общества составляются не из отвлеченных единиц, равных между собою. Эти единицы имеют различное содержание и различные интересы, которые соединяют их в отдельные группы и дают им различное значение в общем государственном организме. Какое бы мы ни представили себе высокое развитие человечества, непременное его условие заключается в свободе, а свобода, как мы видели, неизбежно ведет к неравенству как имущества, так и образования. Отсюда различие классов и противоположность интересов. Мы видели и назначение различных классов в общей жизни человечества. Есть классы, посвящающие себя физическому труду, и классы, преданные труду умственному, одни представляющие количественный, другие качественный элемент человеческих обществ, оба равно необходимые и восполняющие друг друга. Если же эти два элемента существуют в обществе и не могут быть уничтожены, то им необходимо предоставить различное положение в политическом строе. Уравнять их, подвести их под одну мерку, взявши за основание количество народонаселения, значит пожертвовать качеством количеству. Это и делает демократическая республика: она всем дает одинаковые права, причем меньшинство безусловно подчиняется большинству. Через это начало способности, составляющее первое требование государственного порядка, устраняется совершенно, и низшие классы становятся владыками высших. Каково бы ни было практическое приложение этих начал, нельзя не признать, что такое устройство по самой своей идее составляет извращение истинного отношения государственных элементов. В государстве, как и во всех человеческих учреждениях, высшее должно владычествовать над низшим, а не наоборот: таково необходимое условие правильного и успешного развития человеческих обществ.
Против этого нельзя возразить, что в представительном устройстве низшим классам предоставляется не решать самим дела, а только выбирать людей, на что они гораздо более способны, нежели на первое. В действительности, они выбирают людей не по их внутренним качествам, а сообразно с теми мнениями, которых держатся избираемые; следовательно, избиратели должны быть судьями мнений, а в демократии всегда перевес будет иметь то мнение, которое нисходит до понимания толпы или говорит ее страстям. Если в великие минуты народной жизни пробуждающиеся инстинкты масс иногда вернее указывают путь, нежели односторонние увлечения высших классов, то об обыкновенном течении государственных дел этого никак нельзя сказать. Тут требуется не инстинкт, а разумное исследование и обсуждение вопросов, а именно к этому масса совершенно неспособна.
Нельзя ссылаться и на то, что высшие массы, для того чтобы сохранить свой вес и свое положение, должны действовать путем убеждения. Способность убеждаться разумными доводами составляет редкий дар природы, требующий высокого развития ума и характера. Обыкновенно же люди убеждаются тем, чем они хотят убедиться, то есть тем, что льстит их наклонностям или их интересам. Путь убеждения во всяком свободном общественном порядке играет некоторую роль в приготовительных действиях, но не он решает дело. Существенное значение имеет тут не возможность убеждать, а право произносить окончательный приговор. Поэтому все политическое устройство сводится к вопросу: кому присваивается верховная власть, которой принадлежит окончательное решение? А так как в демократии власть по самому принципу принадлежит наименее образованной части общества, то ни при каком общественном развитии этот образ правления не может считаться политическим идеалом.
Это не мешает демократии занимать видное место в ряду политических учреждений. В историческом развитии человеческих обществ и особенно в практическом приложении важную роль играют не одни идеальные порядки, но также и даже еще более односторонние начала, которые приходятся к данному времени и месту. Есть народы, которые как бы по самой своей природе предназначены к демократическому устройству. Мы указывали уже на Соединенные Штаты. Где история не выработала аристократического элемента, а средние классы сливаются с массою, где довольство и образование распространены во всех слоях, а с другой стороны государство ограничивается весьма тесными пределами и все по возможности предоставляется личной самодеятельности, там демократия составляет единственный возможный образ правления. Однако и тут владычество наименее образованной части населения отзывается в одностороннем развитии всего общественного быта. Вследствие этого высшие классы большею частью удаляются от политического поприща, и на место их выступает особенный класс беззастенчивых аферистов, которых вся задача состоит в том, чтобы обрабатывать толпу. Уровень политической мысли и еще более политической нравственности значительно понижается. Вообще, демократия представляет собою по преимуществу господство посредственности, положение, которое с таким блеском было доказано Токвилем. Конечно, при энергическом и предприимчивом характере народа такого рода общественный быт может иметь свои хорошие стороны, но он никак не может быть предметом удивления и подражания.
Есть и такие народы, которых не собственная их природа, а история неотразимым ходом привела к демократии. Такова Франция. Когда аристократический элемент, привязанный к отжившему порядку, оказывается неспособным вступить на новую почву, когда и средние классы в свою очередь, пытавшись основать государственный строй на исключительном своем господстве, обнаружили свою несостоятельность, когда, наконец, и демократическая диктатура пала под бременем собственных ошибок, тогда народу не остается ничего более, как взять правление в свои руки. Все другие элементы износились, сохранилась неприкосновенною одна масса, которой естественно достается власть. Эта необходимость была понята тем великим государственным человеком, который не во имя убеждений, а во имя практической потребности, сделался основателем нынешней республики во Франции. Но провозглашая торжество демократии, он хорошо понимал и те единственные условия, при которых оно возможно. "Республика будет охранительною или ее вовсе не будет", — сказал он, завещая следующим за ним поколениям плоды своей многолетней опытности.
И точно, республика возможно лишь там, где демократия обладает высокою степенью сдержанности и самоограничения. И тут повторяется общий закон, что политическая свобода держится только при внутреннем единстве общества. В демократии это внутреннее единство требуется даже в большей мере, нежели где-либо, ибо политическая свобода составляет здесь начало и конец всего государственного строя. Поэтому республика возможна лишь там, где низшие классы, которые являются в ней владычествующими, не отделяются от других, не выступают с своими особенными интересами, а действуют заодно с высшими. Республика должна быть достаточно широка, чтобы меньшинству предоставлен был в ней полный простор. А это возможно только на почве свободы. Мало того: республиканское государство, так же как и все другие, не может обойтись без способности, способность же принадлежит не количеству, а качеству. А так как юридически качество подчиняется здесь количеству, то последнее должно добровольно признать над собою чужое руководство, иначе государство опять-таки не может держаться. Руководство со стороны аристократического элемента здесь немыслимо: аристократия слишком противоположна демократии, и преобладание ее повело бы к совершенно иному государственному строю, нежели республика. Но предводительство средних классов весьма возможно. Последние ближе стоят к демократии, они совершенно сливаются с нею низшими своими слоями, а потому являются естественными ее вожатаями. Демократия, которая признает над собою это руководство, имеет в себе залог прочности. Свобода для высших классов и предводительство средних, таковы необходимые условия всякой демократии, способной к государственной жизни. Это и есть та либеральная и мещанская республика, которая водворилась во Франции под председательством Тьера и которая одна имеет в себе условия существования. Всякое отступление от этих начал, всякое посягательство на свободу, всякое уничтожение сдержек умаляет эти условия, а потому ведет в падению республики. Власти, достигшие неоспоримого преобладания, обыкновенно воображают, что они усиливают себя тем, что уничтожают перед собою всякие преграды; но именно этим они себя подрывают.
Если бы вместо либеральной и мещанской республики провозглашена была республика демократическая, а тем паче социальная, то это было бы сигналом падения. Демократическая республика означает, что низшие классы хотят выступить на сцену сами по себе, с своими особенными интересами; социальная республика означает, что они хотят употребить принадлежащую им государственную власть для того, чтобы обратить богатство высших классов в свою пользу. Результатом подобной политики может быть только внутреннее разделение общества. И высшие и средние классы неизбежно сделаются врагами такого порядка вещей, который грозит самым существенным их интересам, они будут противодействовать ему всеми силами. И чем более в обществе разлиты богатство и образование, тем более сторонников будут иметь враги республики. Но как скоро на одной стороне является духовный элемент, а на другой только материальная сила, то исход не может быть сомнителен. Победа количества над качеством может повести лишь к временным судорогам, прочного порядка из этого выйти не может. Сила вещей возьмет свое, и неумолимый исторический закон восстановит те правильные отношения общественных элементов, которые никогда не должны были нарушаться, но он восстановит их в ущерб нарушителям, которые, показавши свою неспособность пользоваться властью, должны будут потерять свое преобладание. Трудно однако ожидать, чтобы в государстве, где власть имеет такую силу, как во Франции, самообладание масс могло долго держаться, и не явилось бы в них поползновение извлечь из нее всевозможные выгоды. Суровые уроки истории заставили французскую демократию быть сдержанною, но нет большего искушения, как обладание неограниченною властью. Нужны крепкие предания и высокое нравственное развитие, чтобы противостоять этому соблазну, ни тем, ни другим современные массы не отличаются. Немудрено, что униженная демократия сдерживает свои порывы; надобно знать, что с нею станется, если она сделается торжествующею вовне, так же как она сделалась господствующею внутри. Свойства парижского населения немного обещают для будущего. Появление демократии на политическом поприще бесспорно имеет глубокое историческое значение: демократия может оказать значительные услуги человечеству, разрушая отжившие порядки, поддерживая человеческие права, поднимая низшие классы; но противоестественный порядок вещей, подчиняющий высшее низшему, непременно возьмет свое и проявится в общественных потрясениях, которые поведут к восстановлению нормального политического быта.
Можно думать, что современное преобладание демократических стремлений в европейских обществах вообще составляет временное историческое явление. Оно обозначает постепенное поднятие низших классов, прежде обделенных; в этом состоит законное его значение в истории. Но человеческое развитие обыкновенно идет от одной крайности к другой. Развиваясь, одностороннее начало доходит наконец до той точки, когда оно из отрицаемого делается отрицающим. То, что было внизу, оказывается наверху. А так как это положение еще более неестественно, нежели первое, то вскоре обнаруживается его несостоятельность, и тогда начинается обратный ход, который вводит наконец данное начало в надлежащую колею. Можно предвидеть, что именно это и будет с демо-кратиею. В настоящее время она многим представляется идеалом; история низведет ее с этого подножия и поставит ее на то место, которое принадлежит ей по праву: из идеала она сделается одним из существенных, хотя не первенствующих элементов политического порядка.
В нормальном государственном устройстве количество не может властвовать над качеством. Последнее должно иметь свое собственное место и значение в целом. Голоса, по известному выражению, должны не только считаться, но и взвешиваться. Как же это устроить?
История представляет примеры республик, в которых аристократический элемент и демократический имели каждый свои особые органы и соединялись в общих учреждениях. Самым знаменитым и типическим образцом подобного устройства был Рим. Но история же показывает, что там, где рядом существуют два элемента без всякого посредствующего между ними звена, неизбежно происходит между ними постоянная борьба. Эта борьба не мешала Риму крепнуть, развиваться и наконец покорить вселенную. Но мы знаем, при каких политических условиях это могло совершиться. Во главе правления долго стояла могущественная аристократия, привязанная к законному порядку и одаренная необыкновенным политическим смыслом. Демократия только медленно и постепенно приобретала себе права, и в этой школе сама проникалась политическим духом. И несмотря на то как скоро главный центр государственной жизни от аристократии перешел к демократии, дело приняло совершенно иной оборот. Возбужден был аграрный вопрос, вместо закономерного хода явились революционные движения, и республика пала среди кровавых распрей.
Там, где два противоположных элемента должны действовать согласно, необходим между ними третий, посредствующий, который бы разрешал споры и смягчал столкновения. Посредником между противоположными элементами, на которые разделяется общество, может быть только стоящая над ними единая государственная власть, которая, имея в виду общую цель, взвешивает противоборствующие интересы, сдерживает неумеренные стремления и дает каждому подобающее ему место в общем организме. Но для того чтобы играть эту роль, власть должна быть независима от общественных стихий. Каждая из последних стремится к преобладанию и хочет обратить государственную деятельность на свою пользу, сдержать эти стремления и ввести их в должные границы может только власть, стоящая над ними. А так как эта власть по существу своему должна быть едина, то она воплощается в лице монарха, царствующего по собственному праву, а не по выбору той или другой части общества, что повело бы только к большему владычеству одного класса над другим.
Отсюда всемирное значение монархического начала в государственном быте. Общество по своей природе разделяется на противоположные элементы; свобода, как мы видели, не уменьшает, а увеличивает разнообразие жизни. Монарх же представляет непоколебимый центр, охраняющий интересы не той или другой только части, а всего государства, которое в нем сознает себя как единое тело. Власть составляет первое и основное начало государственного устройства, к ней примыкают уже все остальные. Поэтому монархия в истории была зачинательницею всего государственного развития. В течение многих веков она господствовала одна, и только мало-помалу к ней приобщались другие элементы, по мере того как они в свою очередь оказывались способными поддерживать необходимое в государстве единство. Когда же эти элементы из подчиненных становились владычествующими и, вступая друг с другом в борьбу, доводили государство до полного расстройства, то монархия воздвигалась опять как спасительница погибающего общества и снова занимала первенствующее место в государственном организме.
Таково политическое значение монархии. Отсюда то глубокое уважение, которое питали и питают к ней народы. Они видят в монархе представителя высшего порядка и единой общественной цели, беспристрастного судью, возвышающегося над частными интересами; он является для них высшим символом отечества. Отсюда и тот религиозный характер, который получает царская власть в глазах церкви и общества, которые в живом своем чувстве связывают все высшие начала жизни с верховным источником всякой жизни. Отсюда, наконец, уважение к монархическому началу всех тех мыслителей, которые глубже понимают задачи государства. Только легкомыслие может относиться к нему с пренебрежением.
Власть составляет однако же только первую, но не единственную потребность государства. Сильная власть всегда необходима, полезно, чтобы она имела свой особый орган, не подверженный колебаниям, но высшее общественное развитие требует, чтобы она уделяла возле себя место и свободе. Вследствие этого к монархическому началу присоединяется элемент народный, выражающийся в представительстве. И тут невозможно допустить совместное существование двух противоположных сил без всякой между ними связи. Нужно посредствующее звено, где же его найти? Оно дается самим общественным бытом, который, как мы видели, разделяется на противоположные элементы, аристократический и демократический. Если монарх является посредником между аристократию и демократиею, то с своей стороны аристократия является посредником между монархом и демократиею. Отсюда образ правления, смешанный из трех. В нем монарх представляет преимущественно начало власти, аристократия — начало закона и порядка, демократия — начало свободы. Если идеалом государственного быта должно считаться такое устройство, в котором все политические и общественные элементы призываются к совокупной деятельности для общей цели, то он осуществляется именно в этой форме. Нельзя выбросить ни одного из них, без того чтобы не оказался где-нибудь недостаток, и все устройство не приняло бы одностороннего характера.
Это идеальное значение смешанного правления было понято уже в древности. Платон в своих "Законах" говорит, что наилучшим в приложении к настоящей человеческой жизни правлением должно считаться смешанное из монархического и демократического. Полибий и Цицерон, как уже и прежде них некоторые пифагорейцы, прямо выставляли политическим идеалом смешение трех чистых форм, указывая на то, что здесь избегаются недостатки присущие каждой, и отдельные элементы, воздерживая друг друга, совокупными силами достигают общей цели. Но только в новое время это учение получило полное свое развитие и практическое приложение в государственной жизни. Только у новых народов монархическое начало выработалось в высшем своем значении не как замена свободы, а как совместное с свободою. Здесь только выработалось и представительство, которое заступило место господствовавшего у древних непосредственного участия народа в решении государственных дел. Теоретическое развитие этого учения принадлежит французам, прежде всего Монтескье, практический же образец смешанного правления в полном своем виде представила Англия, где из взаимодействия различных общественных элементов само собою вытекло то политическое устройство, которое всего более соответствует теоретическому идеалу. Отсюда то удивление, которое с половины прошедшего столетия возбуждала английская конституция на европейском материке. Это удивление нередко вело к легкомысленному подражанию и к перенесению английских учреждений на совершенно неприготовленную к ним почву, где будучи лишены корней, они не могли держаться, но оно имеет свое основание в идеальных требованиях политической жизни.
Существо этого образа правления состоит в том, что здесь верховная власть вверяется королю и парламенту, состоящему из двух палат, верхней и нижней.
Король является наследственным главою государства. В нем соединяются все отрасли власти. Он утверждает законы, которые без его согласия не имеют силы. Он назначает и сменяет министров. Он же назначает судей, и от его имени отправляется правосудие. Король есть лицо безответственное; ответственность же за все действия управления принимают на себя министры, которые поэтому должны скреплять своею подписью всякий правительственный акт.
В руках министерства находится правительственная власть. Палатам же предоставляется законодательная деятельность, рассмотрение бюджета и контроль над управлением. Из них верхняя палата представляет собою аристократическое начало. Всего более она носит на себе этот характер, когда она состоит из наследственных членов, как в Англии, что дает ей вместе с тем и наиболее независимое политическое положение. Но наследственная аристократия создается историею; там, где она потеряла свой вес и свое значение, ее нельзя ни искусственно восстановить, ни еще менее создать. Тогда остается составить верхнюю палату из пожизненных членов, назначаемых королем, как было во Франции во времена июльской монархии, или сделать ее выборною, как в Бельгии, хотя выборное начало по существу своему более свойственно демократии. Наконец, верхняя палата может иметь и смешанный характер, как в Пруссии. Во всяком случае здесь важно присутствие двоякого элемента: высших государственных сановников и крупного землевладения. Первые приносят сюда тот высший политический разум, который дается опытом в государственных делах, второе же составляет то общественное начало, которое по преимуществу носит на себе аристократический характер. И здесь опять оказывается существенная важность крупной поземельной собственности для государственной жизни. Она одна в состоянии дать обладающему ею классу то прочное и независимое положение, которое в соединении с образованием и с охранительным духом составляет самую надежную преграду как произволу власти, так и увлечениям толпы. Там, где крупная поземельная собственность лишена политического значения, государству трудно сохранить в себе равновесие. Если бы когда-либо все земли сделались достоянием казны, то о конституционной монархии не могло бы уже быть речи. Тут оставался бы только выбор между самодержавием, лишенным самой существенной нравственной задержки и опоры, и <бюрократией,> в руках которой находилось бы громадное государственное достояние с всеподавляющим влиянием на весь промышленный быт. И то и другое политически немыслимо.
Нижняя палата представляет собою демократическое начало. Однако и тут не должна владычествовать толпа, но главное место должно принадлежать средним классам. Последние не могут иметь своих представителей в верхней палате, ибо в таком случае демократия, оставленная без руководителей, будет источником смут и разлада. Мы видели уже, что только под руководством средних классов она способна быть правильным органом политической жизни. Это верно особенно в приложении к такому порядку, где требуется согласное действие различных общественных элементов. Поэтому нельзя признать нормальным устройство выборов в нижнюю палату на чисто демократическом начале всеобщей подачи голосов. Здесь средние классы лишаются своей самостоятельности и поглощаются массою. Правительство, которое из ненависти к обыкновенно господствующему в этих классах либерализму хочет опереться на толпу и вводит всеобщее право голоса, готовит государству неисчислимые затруднения в будущем. Мы говорим о Германии.
Гораздо более согласно с истинною целью государства, хотя также не может быть признано безусловно нормальным, совершенно обратное устройство, то есть исключение чистой демократии из политического представительства и призвание к нему одних средних классов на основании более или менее высокого ценза. Так как политическое право требует способности, а способность менее всего распространена в массе, то очевидно нельзя вручить этого права низшим классам, пока они не получили надлежащего развития. При зачинающихся свободных учреждениях основанный на цензе порядок можно считать вполне уместным. Но тут необходимо иметь в виду, что цена должен понижаться по мере распространения политической жизни в народе. Иначе представительство не достигнет настоящей цели. Вместо того чтобы собрать все политические силы страны в организованные учреждения, где они воспитываются и привыкают к совокупной деятельности, часть их оставляется вне всякой организации и через это становится источником брожения. Если эта часть велика, то все здание может опрокинуться, как и случилось во Франции с июльскою монархиею. Понижение ценза может дойти наконец до того, что вся масса граждан будет приобщена к политическому праву; но в таком случае необходимо разделение их на разряды по состоянию или по количеству платимых податей, с предоставлением каждому разряду особого участия в выборах, как делается в Пруссии. Только этим способом средние классы могут сохранить свое значение и не будут поглощены массою.
Таково устройство властей в конституционной монархии. Как же они действуют? Как скоро власть распределяется между различными, независимыми друг от друга органами, так является возможность столкновений; а между тем государственное управление требует единства. Как. же разрешается эта задача?
Управление, как сказано, находится в руках назначаемых королем министров, следовательно, вопрос сводится к тому, каким образом установить согласие между министерством и палатами?
Если противодействие государственным целям исходит из верхней палаты, то король имеет в руках самое действительное средство сломить сопротивление. Он может назначить такое количество новых членов, которое изменит большинство. Правительство, вооруженное таким правом, всегда имеет возможность, даже и не прибегая к нему, склонить верхнюю палату на необходимые уступки. А большего не требуется, ибо верхняя палата имеет скорее значение сдержки, нежели органа, облеченного инициативою.
Совершенно иное положение нижней палаты. И тут король имеет в руках средство побороть ее противодействие: он может распустить палату и произвести новые выборы. А так как это право ничем не ограничено, то всякая новая палата, в которой правительство встречает сопротивление, может подвергнуться той же участи. Ясно однако, что управление не может идти, если избиратели постоянно будут посылать в палату враждебное правительству большинство. Как же быть в таком случае? Вековая практика политической жизни привела англичан к единственному средству разрешить эту задачу: оно состоит в призвании к управлению вождей большинства. Кто требует известного направления политики, тот должен нести за нее ответственность. Оставить же министерство перед враждебным ему большинством, в котором оно встречает не опору, а противодействие, — это такой порядок вещей, с которым можно временно помириться как с печальною необходимостью, но который, продолжаясь, неизбежно вносит разлад не только в управление, но и в целый государственный строй. С другой стороны, составить министерство из так называемых деловых людей, чуждых всякой партии, значит обречь управление на бессилие. Если правительство, как и требуется конституционным порядком, должно опираться на общество, то единственное средство установить прочное согласие состоит в возложении власти и ответственности на вождей большинства. Это и есть то, что называется парламентским правлением, которое существует везде, где политическая свобода пустила глубокие и прочные корни.
Но если таков результат, к которому одинаково пришли и теория и практика, то обе убеждают нас, что этот порядок не везде приложим. Парламентское правление возможно лишь там, где образовались крепкие и проникнутые государственным духом партии, способные стать во главе управления. Если бы правительство должно было падать в руки каждого случайно составляющегося большинства, то оно сделалось бы игралищем страстей и предметом личных интриг и соискательств, а это быстро привело бы государство к полному расстройству. В организации обладающих государственным смыслом партий проявляется главным образом политическая способность общества. Где они слишком шатки и слабы или где они основаны не на твердых политических началах, а на личных отношениях, там общество до парламентского правления не доросло. Владычество парламентского большинства составляет венец политической жизни свободного народа, а никак не шаблон, одинаково прилагающийся всюду.
Из этого не следует, что там, где нет прочно установившихся партий, вовсе не может быть парламентской жизни. Только при парламентском устройстве партии могут приобрести надлежащую организацию и дисциплину, ибо здесь только является настоящая политическая деятельность и ответственность. Парламент нужен еще более для политического воспитания народа, нежели для государственного управления. Но там, где общественное сознание стоит еще на низкой ступени, где различные политические направления не установились, там и права парламента не могут быть широки. При таких условиях правительственная власть, зависящая от короля, неизбежно будет иметь преобладающее значение.
Нельзя не признать однако, что и при высоко развитом политическом быте господство партий имеет свои невыгоды. Политика через это получает одностороннее направление; заводится систематическая оппозиция, которая все свои усилия направляет к тому, чтобы действия правительства представить в невыгодном, а нередко даже и ложном свете; внутренняя борьба принимает острый характер; дух партии слишком часто заслоняет собою справедливость и патриотизм. Но все это составляет неизбежное последствие свободы, с которою всегда неразлучна борьба с своим ожесточением и с своими крайностями. Кто хочет не принадлежать ни к какой партии, тот должен отказаться от борьбы. Стоять вне партий может только человек, который не принимает участия в действии, а обсуждает его со стороны как беспристрастный наблюдатель. Да <и> тот неизбежно становится на ту или другую сторону, если у него является сколько-нибудь последовательный взгляд на предмет. Политические партии в зрелом обществе обозначают различные направления политической мысли, господство той или другой определяется отношением общественного сознания к современным задачам государственной жизни. Правительство, которое захотело бы стоять выше партий, должно было бы отказаться от всякого последовательного взгляда на свое дело, ему пришлось бы бродить ощупью или руководствоваться грубым эмпиризмом. Оно принуждено было бы довольствоваться и самыми посредственными орудиями; устраняя людей с убеждениями, оно должно было бы ограничиваться теми, которые за отсутствием мысли и характера безразлично относятся ко всякому делу. Нейтральность обыкновенно служит признаком бесцветности и бездарности. Проповедовать ее как высший плод политической мудрости значит обрекать государство на господство пошлости.
Это сделается еще яснее, если мы взглянем на существо тех партий, на которые обыкновенно разделяется общественное мнение. В каждом обществе политические партии имеют, без сомнения, свои особенности и свои оттенки, проистекающие из местных условий. Однако же везде есть некоторые общие черты, которые вытекают из самой природы развивающегося общества. Каждое общество имеет свой установленный строй жизни, которым оно держится, и везде вследствие движения человеческих дел в этом строе оказывается потребность перемен. Эта потребность не всеми чувствуется одинаково. Те, которых направление и интересы тесно связаны с господствующим порядком, стараются по возможности сохранить его неприкосновенным. Другие, напротив, более обращают внимание на недостатки существующего и придают преимущественное значение нововведениям. Отсюда две главные партии, на которые естественно разделяется всякое общество: партия охранительная и партия прогрессивная. Последняя обыкновенно именует себя либеральною, ибо свобода составляет главное орудие прогресса. Когда стремление к преобразованиям превращается в требование коренного изменения всего общественного строя, тогда прогрессивное направление становится радикальным. А с другой стороны, когда охранение принимает вид возвращения к отжившему порядку, тогда охранительная партия становится реакционною.
Таковы четыре главные направления, на которые обыкновенно разбивается общественная мысль. Они в большей или меньшей степени существуют везде, ибо они вытекают из самых условий общежития. Из этих партий две средние, охранительная и прогрессивная, принадлежат к нормальному течению политической жизни, крайние же выступают на сцену главным образом во времена смут и переворотов. Нормальный порядок состоит в том, что общественный строй изменяется постепенно. Всякое слишком быстрое движение неизбежно влечет за собою попятный ход: таков закон человеческого развития. Глубокие преобразования, для которых время приспело, всего легче совершаются неограниченною властью, стоящею выше общественных страстей и способною воздержать ожесточение борьбы. Как же скоро общество берется за них само, так неизбежны колебания из одной крайности в другую. В такие эпохи радикальная партия, в обыкновенное время удаленная от дел, становится иногда во главе правления и проводит свои идеалы; но это означает только, что вскоре затем наступит реакция. История не представляет примера господства радикалов, за которым не последовало бы обратное движение. Нередко реакция вызывается даже просто появлением радикализма на политическом поприще. Охраняя свои основы от его посягательств, общество готово поступиться даже законно приобретенными правами. Существенная задача реакционной партии состоит в том, чтобы восстановить преждевременно разрушенное и возвратить в правильную колею выбитое из нее общество. Это может сделать только сильная власть, вследствие чего реакционная партия всегда опирается на власть. Но когда эта задача совершена, реакция теряет свой смысл. Тогда наступает пора для господства средних направлений.
Охранительная партия, главный страж законного порядка, необходима во всяком обществе, прочно сидящем на своих основах. Где эта партия слаба, там общественный быт подвергается беспрерывным колебаниям и может рушиться со дня на день. Государственная жизнь вся основана на человеческой воле, а потому, где нет воли, твердо направленной на охранение существующего строя, там этот строй разваливается сам собою, от недостатка поддержки. В особенности это необходимо для учреждений новых, не успевших еще пустить глубокие корни. Юная свобода всего более нуждается в охранительных началах. Если в истории либералы нередко водворяли свободные учреждения, то упрочивали их всегда консерваторы. И сама либеральная партия, достигшая торжества, если она обладает политическою мудростью, всегда выдвигает из себя консервативный элемент, который охраняет приобретенное как от посягновений реакции, так и от нетерпеливых порывов толпы. Таковы были знаменитые вожди вигов в XVIII веке; таков был во Франции Казимир Перье. С другой стороны, охранительная партия, стоящая на высоте своего политического призвания, не должна оставаться глуха к новым потребностям жизни. Она должна обладать достаточною шириною и эластичностью политической мысли, для того чтобы понять, когда приспело время для нового движения вперед. Слишком упорное охранение существующего порядка может ускорить его падение, что и случилось во Франции с июльскою монархиею. Английская охранительная партия, напротив, представляет в этом отношении образец политической мудрости. Она не только всегда делала своевременные уступки, но и сама брала на себя почин преобразований. Она провела в 1829 г. билль об эманципации католиков и новейшую реформу избирательной системы. В свободном государстве только та охранительная партия способна стоять во главе управления, которая сама проникнута либеральным духом и понимает потребность прогресса.
Этому сочетанию охранительных начал с либеральными Англия обязана своей аристократии, которая, оберегая существующий общественный строй, всегда умела следовать за потребностями времени. Мы уже заметили, что в крупном землевладении охранительная партия всегда находит главную свою опору. Поземельная собственность по самой своей природе развивает в людях охранительный дух. Она связывает их интересы с вечными основами общежития, она приучает их к прочному порядку жизни и подчиняет их действию однообразных законов природы. Но мелкая собственность лишена обыкновенно тех высших духовных сил, которые требуются для политического руководства. Она слишком упорно держится старины, а иногда способна увлечься и в другую сторону. Крупная же поземельная собственность составляет главный духовный и материальный центр истинно охранительной партии. И здесь мы опять приходим к тому заключению, что требуемое социалистами уничтожение личной поземельной собственности лишило бы государство одной из самых существенных политических сил и важнейшей охраны порядка. Сосредоточение поземельной собственности в руках государства предало бы его на жертву всем потрясениям.
Совершенно иной характер имеет партия прогрессивная, или либеральная. Главную ее опору составляют промышленные состояния. Во все времена свобода исходила из городов. Основанная на капитале промышленность развивает в человеке ту предприимчивость и ту самодеятельность, главное условие которых заключается в свободе. Эти начала переносятся и на политическую область, где поэтому промышленные состояния и связанные с ними либеральные профессии являются главными двигателями прогресса. Но то, что дает им силу, составляет вместе и их слабость. В государственной жизни требуются иные свойства, нежели на промышленном поприще. Тут необходимы ширина взгляда, твердость характера, привязанность к порядку, умение соображать интересы целого, одним словом, нужны охранительные свойства, которыми либеральная партия не всегда обладает. Промышленные состояния скорее склонны к оппозиции, нежели к поддержанию власти, разве когда подвергаются опасности их материальные интересы. Дорожа свободою, они обыкновенно готовы все распускать и не понимают потребности общественных сдержек. Сливаясь, с одной стороны, с демократическою массою, а с другой, проникая и в аристократические слои, они имеют мало внутренней связи, а потому гораздо менее аристократии способны к необходимой в политических партиях дисциплине. Между тем, для того чтобы играть политическую роль и еще более для того чтобы управлять государством, необходимо высшее сознание государственных потребностей. Если охранительная партия должна быть проникнута либеральным духом, то еще более либеральная партия должна быть проникнута охранительным духом. Только при этом условии она способна стоять во главе управления. И чем моложе свободные учреждения, тем эта потребность сильнее, ибо тем более политический строй подвержен колебаниям и тем более здесь нужно сдержанности и осторожности. Либеральная партия, вечно волнующаяся, все критикующая, не умеющая ни оказать поддержку власти, ни умерить свои притязания, совершенно неспособна установить в обществе порядок, основанный на свободе. Напротив, она является главною ему помехою, ибо от преобладания ее ничего нельзя ожидать, кроме разлада.
И в этом отношении либеральная партия в Англии может служить образцом. Как уже было указано выше, главная причина ее политической зрелости заключается в том, что она прошла свою политическую школу под руководством аристократии, которая воспитала в ней истинно политический дух. Этой школы ничто не может заменить, и менее всего журнализм. Там, где либеральная партия воспитывается к политической жизни под руководством журнализма, в ней развиваются именно все те свойства, которые делают ее неспособною к государственной деятельности. Верхоглядство, раздражительность, нетерпимость, доведенный до уродливой крайности дух партии, полное отсутствие справедливости к противникам, намеренное искажение мыслей и фактов, одним словом, все, что характеризует ежедневную журнальную полемику, особенно в странах, где мало развита политическая жизнь, все это, как яд, всасывается читающею публикою и убивает в ней те здоровые качества ума и сердца, которые одни делают человека способным к плодотворной политической деятельности. Кто воображает себе, что общество может приготовиться к политической жизни и приобрести свободу под руководством журнализма, тот имеет весьма поверхностное понятие о политических делах. В войске нужны застрельщики и партизаны, но не под их предводительством ведутся кампании и выигрываются сражения. Свободные учреждения необходимы именно затем, чтобы эти разнузданные привычки заменить настоящею политическою школою.
Из всего этого ясно, что для юной свободы не может быть ничего вреднее, как распространение в обществе демократического чувства зависти и неприязни к высшим сословиям, чувства, которое столь часто раздувается беззастенчивым журнализмом. Общий закон, что политическая свобода возможна только при внутреннем единстве общества, всего более приложим к такому общественному состоянию, в котором свобода только что насаждается, а потому требует особенного ухода. Все, что разъединяет общественные классы, действует на нее гибельно, и чем менее общество политически зрело, тем более оно нуждается в руководстве и тем важнейшую роль играют в нем высшие классы, в особенности аристократия. Только дружным действием различных общественных элементов под руководством высших свобода может утвердиться в государстве и получить в нем правильное развитие.
Но еще <более> опаснейшим врагом политической свободы, нежели демократическая неприязнь низших к высшим, являются социальные стремления. Социальные идеалы совершенно противоположны идеалам политическим. Последние имеют в виду завершить основанное на самой природе человека здание свободы, первые же уничтожают свободу в самом ее корне. В этом фантастическом представлении личное начало совершенно устраняется, человек становится подчиненным звеном в общем механизме, чиновником, несущим государственную службу и вечно прикованным к своим обязанностям. Выхода для него нет, о самоопределении, о собственных планах, о самостоятельном устройстве своей жизни не может быть речи. Гражданское общество как самостоятельный союз исчезает, государство поглощает его всецело, проникая всюду, властвуя над всем. При таком порядке всякий разумный образ правления становится невозможным. Аристократическое начало уничтожено, устанавливается всеобщее равенство; следовательно, устраняется и то сочетание различных общественных элементов, которое лежит в основании смешанного правления. С другой стороны, немыслимо и соединение монархического начала с демократическим, ибо монархия перед безразличною, однородною массою, без всякого посредствующего звена, есть политическое создание, которое не в состоянии продержаться даже на короткое время. Вследствие этого социалисты самым решительным образом высказываются против всякого смешанного правления. "Из двух вещей одна! — восклицает Лассаль. — Или чистый абсолютизм, или всеобщая подача голосов! Об этих двух вещах можно при различии воззрений спорить; но то, что лежит между ними, во всяком случае невозможно, непоследовательно и нелогично"[346].
Не за тем однако же социалисты хотят установить всеобщее равенство, и формальное и материальное, чтобы сделать граждан слепыми орудиями единоличной воли. Идеал их составляет чистая демократия. Но именно при социалистическом порядке чистая демократия была бы самым ужасным деспотизмом, какой только может представить себе человеческое воображение; это деспотизм толпы, безгранично властвующей не только в области общественных отношений, но и над всею частною жизнью человека, над всеми его потребностями, средствами и деятельностью. Выше было доказано, что демократия терпима только при самой широкой свободе и при возможно большем ограничении государственной деятельности; здесь же происходит совершенно обратное: всякая свобода уничтожается, а деятельность государства расширяется безмерно. Всеобщее рабство соединяется с полновластием толпы. История никогда не представляла ничего подходящего к столь безобразному устройству. Несравненно сноснее деспотизм одного человека, ибо он всегда отдаленнее и мягче. Но возможно ли представить себе человека, в руках которого сосредоточивались бы не только все силы государства, но и все существующие в обществе материальные средства и руководство всею частною деятельностью граждан? Таким руководителем могло бы быть только Божество; вверенная же слабому человеку, подобная власть обратится в орудие самого нестерпимого гнета. А так как одному лицу подобное полновластие очевидно не по силам, то здесь неизбежно образуется привилегированное сословие мандаринов, в руках которых будет находиться действительное управление и которые будут неограниченно распоряжаться лицом и имуществом всех и каждого.
Но стоит ли говорить о несообразностях основанного на социализме политического быта, когда весь социализм ничто иное, как чистая несообразность? Мы вращаемся здесь в области утопий. Социализм опасен не с этой стороны, ибо утопии никогда не найдут приложения: он опасен тем, что устремляя мысли людей на фантастические цели, он извращает их понятия и возбуждает в них несбыточные надежды. Для правильного развития не только государственного строя, но и всей общественной жизни в высшей степени важно, чтобы был порядок в умах, чтобы люди смотрели на вещи, как они есть, и искали бы только возможного. В особенности это важно для политической свободы, которая, как мы видели, требует прежде всего внутреннего согласия общества. Это согласие может установиться только на почве теоретической возможности и практической осуществимости. Если же в призванных к политической жизни гражданах господствует полнейший хаос понятий, если они на задачи государства смотрят с совершенно превратной точки зрения, если они гоняются за неосуществимым и видят умножение богатства там, где есть только источник бедности, если вместо расширения свободы они готовы отдать ее на жертву общественному деспотизму, то выгоды от призвания общества к политической деятельности не будет никакой, и в результате окажется только разочарование всех здравомыслящих людей и полное расстройство государственного организма.
И этот умственный разлад не составляет еще главного зла, проистекающего от социальных стремлений. К хаосу умственному присоединяется хаос нравственный. Социализм не довольствуется идиллическим изображением будущего блаженства человеческого рода, он хочет провести свои идеалы в жизнь, а так как этому противится весь существующий общественный строй, то вся его деятельность направляется к устранению этого препятствия, то есть к разрушению установленного порядка. Тут он не ограничивается уже научною проповедью, он прямо взывает к страстям и к страстям самого низкого свойства. Он старается возбудить зависть и ненависть низших классов против высших, указывая бедным на богатых как на главную преграду их благосостоянию. Отсюда те чудовищные явления, которые у нас на глазах, отсюда те проповеди всеобщего убийства, при которых невольно спрашиваешь себя: каким образом подобные мысли и чувства могли когда-нибудь запасть в человеческую душу, не только что появиться на свет Божий? Отсюда те страшные злодеяния, которые наполняют скорбью сердца народов. Исступленный фанатизм соединяется с полнейшим безумием. Тут исчезают уже всякие следы умственного и нравственного развития, человек превращается в дикого зверя, жаждущего крови и истребляющего все, что попадается ему под руку.
Возможно ли думать о политической свободе, когда подобные явления становятся в обществе обычным делом? Политическая свобода требует внутреннего единства общественных элементов, а тут водворяется полный разлад; она требует дружного действия общественных классов, а тут поселяется между ними ненависть; она требует законного порядка и на улице, и в умах, а тут полный беспорядок мыслей переходит в беспорядок на площади. Пока социализм составляет общественное явление, с которым надобно бороться, о гарантиях свободы не может быть речи; только когда он сделается безвредным, может восстановиться правильное течение жизни. Внутренняя борьба, как уже было замечено, составляет необходимую принадлежность свободы, но борьба на общей почве и во имя общей цели; когда же борьба идет о самых основах общежития, то свобода исчезает. Тут приходится уже браться за оружие и защищать общество от разрушения. А так как военные действия требуют сосредоточенной власти, то при таких условиях естественно водворяется деспотизм. Этим объясняется то явление, что как скоро социализм выступает на политическое поприще, испуганное общество кидается в объятия диктатуры. Это мы видели во Франции в 1848 г. Тут действует не один близорукий страх, хотя есть за что бояться, когда все, что дорого человеку, может подвергнуться гибели. Истинная причина та, что диктатура всегда вызывается общественною опасностью. У самого практического и наименее боязливого народа в мире, у римлян, это было возведено даже на степень необходимого общественного учреждения: как скоро являлась опасность, провозглашалась диктатура. Но величайшая опасность та, которая грозит разрушением всему общественному строю, а именно это сулит социализм. Поэтому всякое усиление социалистического движения всегда непременно будет вызывать диктатуру. Общество зрелое, окрепшее умственно и политически может еще вынести борьбу мыслей, но как скоро борьба переходит в дело, так является необходимость практических мер, из которых наименьшая состоит в прекращении гарантий свободы.
Что касается до обществ, политически не созревших, то для них опасность от социализма, очевидно, еще больше. И тут надобно повторить неоднократно замеченное выше, что чем моложе свобода, чем новее учреждения, тем более они требуют защиты и тем менее они могут выносить внутренней борьбы. В несозревших еще обществах все, что вносит в них смуту, что колеблет умы, что сеет раздор между общественными классами, вместе с тем подрывает и свободные учреждения. Юная свобода не имеет большего врага, как социализм. А потому те, которые легкомысленно ему потакают, несут на себе тяжелую ответственность перед отечеством и перед свободою. Они отодвигают общество назад, воображая, что они подвигают его вперед. Когда в общество вселилось это зло, первая потребность состоит в том, чтобы вести с ним неустанную войну, и мыслью и делом, к этому должны быть направлены все общественные силы. О мирном развитии, о законном порядке, о расширении свободы может быть речь только тогда, когда противогражданские элементы окончательно побеждены, и в умах водворилось успокоение.
Таким образом, между политическими идеалами и социальными происходит борьба, которая особенно ярко выступает в наше время. Результатом ее не может быть победа социального идеала, который противоречит и логике и природе человека и на деле неосуществим, но она легко может повести к падению идеала политического. Однако это падение может быть только временное. Неудержимый ход истории возьмет свое. Во все времена бывали эпохи внутреннего разлада, которые как бы отодвигали человеческие общества назад. Но в своем закономерном движении человечество одолевает эти внутренние препятствия и постепенно осуществляет то, что искони лежит в его природе и что составляет цель его развития. Мы видели уже, что это искони присущее ему начало есть свобода, поэтому и целью развития не могут быть социальные утопии, уничтожающие ее в самом корне.
Что таков именно ход истории, что она ведет к осуществлению политических, а не социальных идеалов, это мы постараемся доказать в следующей главе, которою завершается наше исследование.
Глава VI. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Учение об историческом развитии человечества с прошедшего столетия сделалось достоянием науки. В прежнее время, если были попытки окинуть взором весь преемственный ход всемирной истории, то общий закон этого движения не был раскрыт. Некоторые, как Боссюэ, указывали на пути Провидения, руководящего человечеством на его историческом поприще; но так как пути Провидения остаются для нас тайною, то этим началом ничего не выясняется. Другие, стараясь отыскать в истории внутренние законы, останавливались на повторяющемся круговороте жизненных форм. Таково было воззрение знаменитого Вико, который первый пытался построить всемирную историю на разумных началах. Сравнивая новую историю с древнею, он и здесь и там видел повторение одного закона, движущего народы по известным ступеням и смыкающего конец с исходною точкою. Но и в этой теории отсутствует начало совершенствования, составляющее самую сущность исторического процесса. Оно было внесено в историю писателями XVIII века, исполненными надежд на будущее и веры в человечество. Перед ними впервые открылась перспектива бесконечного развития.
Это учение одновременно водворилось во Франции и в Германии, несмотря на противоположность направлений философской мысли в этих двух странах. Французская сенсуалистическая школа указывала преимущественно на успехи разума. В человечестве, так же как и в отдельном лице, она признавала постепенное изощрение разумных способностей и вследствие того совершенствование мышления, начиная с простейших ощущений и кончая сложнейшими научными задачами. Но в отдельном человеке изощрению есть предел, полагаемый самою жизнью, тогда как в человеческом роде развитие может простираться в неопределенную даль. Совершенствование же разума влечет за собою, с одной стороны, развитие нравственного сознания, с другой стороны, большее и большее покорение природы, следовательно, и распространение благосостояния, с которым сопряжено, наконец, и развитие политическое. С течением времени и с успехами цивилизации на все народы должны распространиться права человека, все должны сделаться причастны свободе и равенству. В своем знаменитом сочинении "Картина успехов человеческого разума" (Tableau des progres de l'esprit humain), которое было высшим выражением этого взгляда, Кондорсе утверждал, что при нынешнем состоянии человечества невозможно уже торжество старых врагов разума, предрассудков и тирании, а потому человечеству предстоит все большее и большее совершенствование, которому нельзя назначить предела.
Глубже взглянула на этот вопрос немецкая школа, которая в лице Гердера положила истинное основание философии истории. Вместо внешнего совершенствования, проистекающего от изощрения умственных способностей, исторический процесс был понят как развитие внутреннее, или как углубление в себя. Человечество, по этому учению, составляет одно целое, которое постепенно совершенствуется с самого начала своего существования. Задача истории — развить то, что составляет сущность природы человека, человечность (Humanitat), то есть свободу, разум и правду. Человек должен стать в полном смысле человеком. Это и есть осуществление отпечатленного на нем образа Божьего. Высшим выражением человечности является религия, связывающая человека с Божеством, и преимущественно высшая из всех религий, христианская. Она носит в себе тот идеал человечности, который человек призван осуществить. Однако полное достижение этой цели невозможно на земле, человек может только постепенно к ней приближаться. Но земная жизнь служит приготовлением к новой жизни, где человек явится уже в своем истинно человеческом виде, как подобие Божества.
И это воззрение несмотря на высоту мысли и на широкую постановку задачи страдает односторонностью. Внутреннее развитие понимается чисто с нравственной стороны, а потому оно прилагается только к совершенствованию отдельного лица, и цель полагается ему за гробом. Между тем, если человечество развивается как одно целое, то движущею пружиною и целью развития должна быть не природа единичного существа, а природа духа как общей субстанции, проявляющейся в совокупности единичных существ. Этот общий дух выражается в системе объективных определений, осуществление которых на земле составляет задачу истории. Отдельные же лица собственною деятельностью устанавливают эти определения и таким образом являются орудиями этого процесса. Так именно было понято историческое развитие немецкою идеалистическою школою, которая завершает собою все предшествующее развитие философии истории.
Начало этой теории положил Кант. В своей "Идее всеобщей истории с всемирно-гражданскою целью" (Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht) он исходит от того положения, что каково бы ни было понятие о свободе, явления свободы, как и все другие явления, подлежат общим законам. И отдельные лица и целые народы преследуют свои частные цели, но они бессознательно служат общим целям природы, которые достигаются в преемственном движении поколений. Основной закон природы, вытекающий из понятия о внутренней цели, состоит в том, что способности каждого существа назначены к тому, чтобы когда-нибудь достигнуть полного развития. Без этого они не имели бы смысла. Между тем способности человека могут достигнуть полного развития не в отдельных лицах, а лишь в целом роде. Эта задача и должна быть целью преемственной деятельности поколений. Одаривши человека разумом и неразлучною с ним свободною волею, природа тем самым указала ему, что он сам должен сознать и исполнить свою задачу, создавши из себя все то, чем он возвышается над механическим порядком жизни. Средством для достижения этой цели служит противоборство стремлений, которое, изощряя силы и способности человека, является главною движущею пружиною развития. Конечная же цель, к которой ведет это противоборство, состоит в установлении вполне правомерного гражданского порядка, основанного на взаимном ограничении свободы. Только при таком порядке возможно и осуществление вечного мира посредством общего союза государств. Это и есть идеал, к которому стремится человечество и к которому оно рано или поздно неизбежно должно прийти.
Эти мысли Канта, в которых исходную точку составляет еще субъективное начало, получили дальнейшую разработку в различных отраслях идеалистической школы. Вопрос об историческом развитии был исследован со всех сторон.
У последователей Шеллинга, согласно с общим направлением натурфилософии, преобладало понятие о развитии органическом. Так, Баадер противополагал эволюцию революции; в первой он видел органическое развитие положительных начал жизни, в последней — отрицательное направление, вызванное задержкою правильного движения. Задача политики состоит в том, чтобы, содействуя эволюции, уничтожить революцию. Идея органического развития была усвоена и историческою школою, которая, прилагая его к правоведению, рассматривала право как органическое проявление народной жизни.
С другой стороны, уже в философии Шеллинга выработалось понятие о диалектическом развитии, идущем от первоначального единства к раздвоению и от раздвоения обратно к единству. В теократической школе, составляющей нравственную отрасль идеализма, это понятие было связано с религиозным началом. По учению последователей этого направления человек первоначально находился в полном единении с Богом, затем произошло отпадение, после чего действием Духа Божьего снова постепенно восстановляется в нем утраченный образ Божества. На этом воззрении была построена философия истории Шлегеля.
Иначе взглянула на этот вопрос либеральная школа. Она сравнивала развитие человечества с различными возрастами лица. В младенчестве человек еще не отрывается от материи, в нем господствуют чувственные наклонности, для обуздания которых необходимо установление деспотической власти. В юности, напротив, преобладают идеальные стремления, с чем связано и восприятие высших начал безотчетным внутренним чувством. Это пора веры, вследствие чего здесь господствует теократия. Наконец, в зрелом возрасте развивается разум, и установляется основанный на разумных началах свободный гражданский порядок.
В системе Гегеля все эти различные отрасли идеализма нашли высшее свое средоточие, и понятие об историческом развитии человечества достигло самого полного своего философского выражения. По учению Гегеля, всемирная история представляет собою изображение мирового духа, который в этом процессе вырабатывает высшее самосознание. Существо духа, в отличие от материи, заключается в том, что он сам себе служит началом и сам из себя развивает свое содержание. В этом состоит его свобода, которая постепенно осуществляется во всемирной истории. В себе самом, по своей природе, дух свободен с самого начала своего существования, но на низших ступенях он погружен еще в материю и не сознает своей природы. Чтобы достигнуть самосознания, он должен оторваться от этого первоначального определения и сам себя сделать тем, что он есть уже в себе самом. Он должен свободною деятельностью перевести в жизнь свою внутреннюю природу. В этом состоит историческое развитие. Средством для осуществления этой цели служит свободная деятельность отдельных лиц. Каждое из них самопроизвольно полагает себе цели и стремится к их достижению, но бессознательно оно служит высшей цели духа, и те люди, которые лучше других понимают эту задачу, становятся главными историческими деятелями, это герои истории. Таким образом, субъективная свобода является средством, или орудием, исторического движения, цель же этого движения состоит в осуществлении объективных определений свободы, которых высшим выражением является государство. Однако и субъективная свобода, будучи принадлежностью человека как разумного существа, никогда не может быть низведена на степень простого средства, она всегда остается сама себе целью. Поэтому высшее историческое значение имеют только те объективные определения свободы, которые дают должное место субъективному элементу. Задача истории состоит в сочетании обоих начал. Осуществление этой задачи совершается не в виде простого органического роста, как в материальной природе; развитие духа представляет упорную борьбу с самим собою: он должен оторваться от первоначальных своих естественных определений и завоевать себе то, что лежит в его внутренней природе. В этом процессе он проходит через различные ступени, из которых каждая выражает собою известный результат, или известное выработанное духом сознание свободы. Затем этот результат, в свою очередь оказывается неполным и недостаточным, а потому уступает место новому, высшему. Говоря философским языком, данный исторический момент снимается и переходит в высший. Но через это он не уничтожается, снимание как деятельность мысли есть вместе сохранение и очищение. Историческое движение не есть отрицание прошедшего, а возведение его на высшую ступень. Содержание духа вечно, а потому прошедшее является вместе и настоящим. "Жизнь современного духа, — говорит Гегель, — представляет круговращение ступеней, которые с одной стороны стоят еще рядом, и только с другой стороны являются прошедшими. Те моменты, которые, по-видимому, дух оставит уже позади себя, он содержит и в настоящей своей глубине"[347].
Таковы были результаты, к которым пришел идеализм в своем развитии. Можно сказать, что человеческая мысль никогда не производила ничего глубокомысленнее этого воззрения, в котором охранительные начала и прогрессивные, субъективная свобода и объективный порядок жизни сочетаются в высшем философском синтезе. Фактическое изучение истории более и более подтверждает этот взгляд, и только современное отчуждение от философии, которое понизило в умах самую способность понимания, заставило исследователей обратиться к иным началам. Те социалисты, которые вышли из школы Гегеля и которые одни в настоящее время могут иметь притязание на некоторое философское значение, и не думают отвергать этих результатов, но они стараются приспособить их к своим целям, исказивши основные мысли великого философа и превративши исторический процесс в чистое отрицание.
Это ясно обнаруживается у Лассаля. Знаменитый агитатор объявляет философию Гегеля "квинтэссенциею всякой научности". Его основные начала и его метода, говорит он, должны остаться достоянием науки. Но он упрекает Гегеля в непоследовательном проведении своих начал. Вместо того чтобы признать выработанные историею формы преходящими моментами развития, Гегель понял их как моменты логические, то есть необходимые и вечно присущие духу. Вследствие этого он в свою философию права ввел категории собственности, договора, семейства, гражданского общества и т. д., как будто они составляют необходимые требования разума, между тем как все это не более как исторические категории, которые должны исчезнуть с высшим развитием[348]. Лассаль хотел даже написать философию истории в этом смысле, но он не успел этого сделать и вероятно никогда бы и не сделал. На деле, он довольствовался голословным объявлением собственности, договора, гражданского общества и т. д. историческими категориями. Только наследству он посвятил более обстоятельное исследование, но именно здесь требуемое доказательство им не представлено.
Смысл того упрека, который Лассаль делает Гегелю, весьма понятен, но понятна и вся его односторонность. Историческое развитие, как и всякое движение, заключает в себе двоякое начало: положительное и отрицательное. Положительную сторону составляют те элементы, которые лежат в природе духа и которые подлежат развитию. Отрицательное же начало является источником движения: оно переводит положительные элементы из одного состояния в другое, возводя их на высшую и высшую ступень, до тех пор пока не будет достигнута полнота определений. У Гегеля оба эти начала сочетаются неразрывно, а так как отрицание есть действие разума, то историческое развитие является вместе и развитием логическим. Но именно вследствие этого исторические категории необходимо суть вместе и категории логические. Они выражают собою различные стороны самой развивающейся сущности, которая постепенно излагает свои определения, восполняя одно другим и возводя их к конечной цели, состоящей в гармонии целого. Как же скоро эти определения понимаются только как исторические категории, так развитие положительного содержания исчезает, и остается одно отрицательное начало, которое одну за другою разбивает все жизненные формы и все улетучивает в неопределенном будущем. Такое понимание истории как чисто отрицательного процесса, конечно, не могло прийти в голову не только такому глубокому мыслителю, как Гегель, но даже и никакому философу, задающему себе целью понимание, а не отрицание явлений. Упрекая Гегеля в непоследовательном проведении своих собственных начал, Лассаль забывает коренное положение Гегеля, состоящее в том, что высшее отрицание есть отрицание отрицания, то есть восстановление в высшей форме первого положения. На этом основан весь исторический процесс. Путем отрицания одно определение переводится в другое, но одностороннее отрицание в свою очередь отрицается, вследствие чего на высшей ступени первоначальное определение снова появляется в иной форме, и этот процесс продолжается, пока не будет достигнута полнота определения.
Только при таком положительном взгляде на предмет история получает смысл, и начала, управляющие человеческою жизнью, находят в ней настоящую свою почву. Одностороннее же отрицание ведет к искажению явлений, к шаткости понятий, а вследствие того к колебанию всех основ общежития. Последовательно проводя этот взгляд, приходится вместе с Дюрингом разделить всю историю человечества на два периода: на прошедшее, которое должно быть уничтожено, и на будущее, которое должно когда-нибудь осуществиться. Но так как каждое поколение в свою очередь повторяет тот же прием, то создаваемое одним является на свет лишь затем, чтобы разрушиться другим. Всякая общая связь и всякая преемственность развития исчезают, следующие друг за другом поколения перестают быть звеньями общей исторической цепи. Каждое является оторванным от своего прошлого; начиная исключительно с себя, оно создает жизненные формы, которые так же бренны и преходящи, как оно само. История перестает быть изображением единого духа, она представляет не более как случайную последовательность исчезающих мгновений. Положительное содержание улетучилось, осталось одно бессмысленное и бесцельное отрицание.
Понятно, что социалисты могут держаться этого взгляда. Вращаясь в области утопий, они должны относиться отрицательно ко всей действительной человеческой жизни и ко всему, что выработано человечеством. Из исторического процесса они выхватывают одно отрицательное начало и им в своем безумии думают опровергнуть все существующее. Но если это понятно у социалистов, то что сказать о тех современных ученых, которые, не познакомившись даже с системою Гегеля и не потрудившись с своей стороны положить какое бы то ни было философское или историческое основание своему воззрению, без всякого смысла заимствуют у Лассаля выражение "историческая категория" и им пересыпают свои экономические и юридические рассуждения? Не есть ли это верх научного легкомыслия? И когда подобный прием употребляется людьми, занимающими видное место в ученой литературе, то не обозначает ли он прискорбный упадок современной науки?
Последовательно проведенное, отрицание должно привести к чистому нулю. Но такая последовательность уничтожила бы самую теорию, обнаруживши ее несостоятельность. Поэтому защитники отрицательного начала в истории употребляют его только как диалектическое орудие против всего существующего, к будущему оно не должно прилагаться. В будущем исторические категории должны исчезнуть, уступая место осуществлению того идеала, во имя которого отрицается все прошлое. Но идеал, который является не завершением, а отрицанием всего предыдущего хода, сам необходимо носит на себе отрицательный характер. И точно, социалисты берут одну только сторону человеческой природы и во имя ее отрицают все остальное как преходящее. Берется общее и отрицается все особенное, то есть именно то, что делает человека человеком. Вследствие этого должны исчезнуть собственность, договор, наследство, гражданское общество, одним словом, все, что истекает из деятельности единичного лица. Категория особенного как произведение средневекового порядка, по мнению Лассаля, должна быть искоренена. Понятно, что через это самое должна исчезнуть личность, а с нею вместе и свобода. На развалинах созданного человеком исторического мира воздвигается одна категория, которую Лассаль почему-то не считает чисто историческою, хотя она стоит совершенно наряду с другими и к ней могли бы прилагаться те же начала. Эта категория есть государство. У Гегеля государство является высшим из человеческих союзов, завершением общественного здания. У Лассаля же государство предназначено поглотить все остальное, кровля должна уничтожить здание. От государства требуется, чтобы оно сосредоточило в своих руках все находящееся ныне в частном владении, все частное должно сделаться общим.
В этом выводе мы опять видим прямое противоречие основным положениям Гегеля, которые признаются Лассалем за исходную точку и которые подтверждаются не только строго научным анализом, но даже простым здравым смыслом. По учению Гегеля, истинно общее есть то, которое совмещает в себе частное; общее же, отрицающее все частное, само ничто иное, как одностороннее, следовательно частное определение, которое как таковое в свою очередь отрицается. Государство, как оно было понято Гегелем, есть то государство, которое развивается в истории и существует в действительности; государство же в том виде, как оно понимается Лассалем, ничто иное, как отвлечение, лишенное и теоретического основания и жизненной почвы, а потому не заключающее в себе ни малейших условий существования.
Это отвлеченное понятие о государстве, отрицающем все частные категории, Лассаль связывает с наступающим владычеством низших классов. Он изображает историю как последовательную смену господствующих классов, смену, проистекающую от развития экономического быта. В средние века главным деятелем производства была поземельная собственность. Вследствие этого вершину общественного здания занимала поземельная аристократия, которая в силу присущего всем владычествующим классам стремления, присваивала себе все преимущества, а тяжести возлагала на других. Но с XVI века растет капитал, и эта новая промышленная сила производит наконец государственный переворот, вследствие которого власть переходит в руки средних классов. С Французскою революциею водворяется господство мещанства, которое в свою очередь присваивает политические права исключительно себе, а все тяжести посредством косвенных налогов сваливает на низшие классы. Наконец, с Февральскою революциею наступает новая, современная эра, которая знаменуется владычеством демократии. Но последняя в отличие от своих предшественников не исключает уже никого из своей среды. Рабочий класс заключает в себе всех, ибо все суть работники на общую пользу. Поэтому интересы его не противоречат требованиям нравственности и общего блага, как интересы высших классов; он не грязнет в эгоизме и не принужден заглушать в себе голос разума и совести. Рабочий является истинным представителем общего дела человечества. У него вырабатывается и совершенно иное понятие о государстве, нежели у мещанства. Последнее видит в государстве только ночного сторожа, ограждающего личность и собственность, рабочие же по самому своему беспомощному положению сознают недостаток единичных сил, а потому обращаются к государству с высшими требованиями. В их глазах оно представляет солидарность всех интересов, общность и взаимность развития, оно должно избавить человека от гнета бедности, невежества и нужды, оно должно воспитать его к свободе. Государство есть союз лиц, образующих одно нравственное целое, союз, который в миллионы раз умножает их силу. Осуществление этой идеи и есть задача настоящей эпохи, в этом состоит высокое призвание рабочего класса, который приобрел для этого и надлежащее орудие — всеобщее право голоса[349].
Несостоятельность этого исторического взгляда очевидна для всякого, кто знаком с действительным ходом истории. Справедливо, что в средние века господствовала поземельная аристократия, но и тогда уже в городах не только возрастало могущество средних классов, но отчасти водворялась и чистая демократия. Затем, с наступлением нового времени и аристократия, и города равно подчинились верховной государственной власти, которая потому именно возвысилась над всеми, что она представляла не интересы одного какого-либо сословия, а всех в совокупности. Даже там, где, как в Англии, аристократия сохранила свое политическое могущество, она могла стоять во главе государства лишь потому, что она не присваивала себе исключительных податных привилегий и не сваливала все тяжести на других, а подчинялась общему праву. Точно так же и средние классы, которые возрастали под сенью монархической власти, являлись представителями интересов всего народа. Третье сословие во Франции заключало в себе не одних горожан, но и все низшие классы. Таким оно и выступило во времена Французской революции, которая в "Правах человека и гражданина" провозгласила не сословное начало, а общее право. Выставлять Французскую революцию чисто мещанским переворотом, который перенес только политическую власть от одного сословия к другому, значит идти наперекор исторической очевидности. Последующее сосредоточение политического права в руках среднего класса было реакциею против революционных начал и сделкою с законною монархиею. Мало того: еще прежде Французской революции в Северной Америке водворилась чистая демократия на началах всеобщего права. Для приобщения низших классов к политической жизни не нужно было дожидаться 24 февраля 1848 г., оно совершилось уже в XVIII веке и притом с гораздо большею прочностью, нежели в Европе. Но Соединенные Штаты Лассаль как будто намеренно обходит, потому что североамериканская демократия, единственная, на которую можно, в сущности, ссылаться, ибо она одна имеет столетнее существование, вовсе не подходит под его идеал. В Америке демократия нисколько не разделяет взглядов Лассаля на государство, а напротив, держится именно тех понятий, которые Лассаль называет мещанскими, тогда как в Европе государственная деятельность расширялась главным образом под влиянием средних классов. Последнее совершалось однако же далеко не в тех размерах, как требует Лассаль, ибо средние классы никогда не делали государство орудием для обращения чужого достояния в свою пользу, к чему именно Лассаль побуждает низшие классы, несмотря на лицемерные уверения, что их интересы сливаются с интересами всех. Государство есть ваш союз, говорит он рабочим, ибо вы составляете 96 1/2 процентов всего населения, поэтому вы вправе пользоваться им для своих выгод. Мещанство может довольствоваться защитою, ибо оно стоит на своих ногах, но рабочие, которые ничего не имеют, должны всего ожидать от государства, и чтобы получить желаемое, они должны воспользоваться принадлежащим им правом голоса, которое обеспечивает за ними большинство.
Оказывается, следовательно, что рабочие, составляющие господствующий элемент современной эпохи, имеют и права и политическую власть, но лишены материальных средств и находятся в таком бедственном положении, что одно государство в состоянии подать им руку помощи. Откуда же такое противоречие? По теории Лассаля, обладание властью составляет плод предшествующего экономического развития. И точно, когда средние классы выступили на смену аристократии, то на их стороне был перевес и богатства и образования. Но в силу чего водворилось господство низших классов? Экономические ли успехи общества привели к тому, что рабочие руки сдвигались господствующею промышленного силою? Приобрели ли рабочие в свою очередь политическое первенство богатством и образованием? Ничуть не бывало: социалисты твердят постоянно, что свобода их мнимая, что они порабощены капиталом и находятся в более бедственном состоянии, нежели когда-либо. Но если так, то откуда же у них политическая сила? Каким образом фактически порабощенные могут юридически иметь в руках своих верховную власть?
Дело в том, что все это порабощение мнимое. Здесь обнаруживается коренная фальшь, заключающаяся в этих возгласах. Низшие классы выступили на политическое поприще и приобрели власть вовсе не вследствие каких-либо экономических перемен и не потому, что они приобретенным ими материальным и духовным достоянием стоять выше других и являются первенствующим элементом в государстве, а единственно в силу провозглашенного средними классами начала общей свободы, равной для всех. Это начало из области промышленной и гражданской было наконец перенесено в область политическую, и тогда демократия естественно сделалась преобладающею в государстве. Но по этому самому она возможна единственно под условием свободы. Всякая власть держится тем началом, которое дает ей бытие. Свобода, рождающая общее право, ограждает вместе с тем высшие классы от посягательства со стороны низших. В этом состоит вся сила североамериканской демократии. Напротив, если бы низшие классы, следуя внушениям социалистов, вздумали отрицать то начало, во имя которого они призваны к политическому праву, если бы они захотели воспользоваться властью для своих частных целей, то дело немедленно приняло бы иной оборот. Тут в острых явлениях обнаружилось бы противоречие между обладанием верховною властью и фактически низшим положением облеченного ею класса. В результате не фактическое положение было бы поднято к уровню права, что немыслимо и что при малейшей попытке повело бы к разрушению общества, а наоборот, право низошло бы на уровень фактического положения, что одно согласно с устройством человеческих обществ и с законами человеческого развития. Естественный перевес богатства и образования непременно возьмет свое, и тогда окажется еще раз, что появление на сцену социализма служит знаком падения демократии. Таков единственный исход, к которому может привести мнимое историческое преобладание низших классов. В действительности низшие классы только до тех пор способны сохранить за собою политическое право, пока они добровольно подчиняются руководству высших; в противном случае все это здание должно рухнуть.
Таким образом, исторические взгляды социалистов-метафизиков со всех сторон оказываются несостоятельными. Их исторические начала представляют извращение метафизики, из которой они извлечены, а в приложении они являются искажением истории и посягательством на здравые основания политики. Насколько истинно философские воззрения на историю, выработанные идеалистическою школою, глубоки и плодотворны, настолько одностороннее развитие их социалистами ведет к превратному пониманию вещей. Вместо положительного развития является отрицание всего прошлого, а вместе и всего существующего порядка вещей, вместо завершения общественного здания государством получается извращенный идеал государства, поглощающего все частные элементы, следовательно, отрицающего и свободу, и собственность, и наследство, и гражданское общество, одним словом, весь тот общественный быт, который служит ему основанием и без которого оно останется на воздухе. Противоречие господствует тут с начала до конца.
Посмотрим теперь, что скажет нам реализм.
Отвергнув метафизику, реализм не отверг однако раскрытого метафизикою закона исторического развития. Факты слишком громко подтверждают в этом случае результаты умозрительной философии. Но отнявши у этого начала метафизическое его основание, реализм тем самым лишил его внутреннего смысла. Вследствие этого последователи чистого опыта, когда они пытаются объяснить проистекающие из этого начала исторические явления, принуждены прибегать к самым невероятным натяжкам или запутываются в безвыходных противоречиях.
Провозглашение исторического развития как верховного закона, управляющего всем движением человеческих обществ, мы находим уже у первого представителя современного реализма, у Огюста Конта. "Понятие, которое наиболее отличает собственную социологию от простой биологии, — говорит он, — есть основная идея безостановочного прогресса, или, лучше, постепенного развития человечества"[350]. Это развитие состоит в том, что высшие способности человека, "сначала сравнительно дремлющие, мало-помалу принимают вследствие более и более широкого и правильного упражнения все более и более полный полет в общих границах, положенных основным организмом человека". Огюст Конт предпочитает слово "развитие", означающее простое действие основных способностей, вечно присущих человеку и составляющих совокупность его природы, слову "совершенствование", которое слишком неопределенно и подлежит ложным толкованиям, хотя он признает, что развитие влечет за собою улучшение как самых способностей, так и проистекающего из них быта, следовательно, совершенствование человека (IV, стр. 378–387).
Как же объясняется этот закон? Несмотря на то что по теории Конта мы внутренней природы вещей не знаем и можем исследовать только управляющие ими законы, то есть постоянную последовательность и сходство явлений (I, стр. 4–5; VI, стр. 702-7), однако при определении развития он считает нужным отправиться от природы человека. Всякий закон общественной последовательности, говорит он, даже указанный со всевозможным авторитетом историческою методою, может быть окончательно принят только тогда, когда он рационально связан, прямо или косвенно, с положительною теориею человеческой природы (IV, стр. 466). Сущность этой природы определяется тем свойством, которое отличает человека от животных, то есть разумом. Вследствие этого Конт преобладающим началом исторического развития признает развитие разума. История общества есть главным образом история человеческого разума (IV, стр. 647–649).
Все это, хотя не совсем последовательно, но совершенно верно. Но вот в чем состоит затруднение: именно эта высшая способность, которая должна владычествовать над всеми другими, первоначально находится в состоянии оцепенения. Она выступает с достаточною силою только на высокой ступени общественного развития, для которой, говорит Конт, она очевидно предназначена (стр. 624). Мало того: по природе не только влечения имеют "энергическое преобладание" над умственными способностями, но последние, говорит Конт, "естественно наименее энергичны из всех, и деятельность их, чуть она продолжается одинаковым образом в известных размерах, производит у большинства людей настоящую усталость, скоро становящуюся невыносимою". И тем не менее, замечает Конт, именно от упорной деятельности этих способностей зависят все изменения человеческого существования, "так что вследствие печального совпадения (par une deplorable coincidence) человек всего более нуждается в той деятельности, к которой он наименее способен" (стр. 543–544).
Такое же противоречие обнаруживается и в практических свойствах человека. "В совокупности нашего нравственного организма, — говорит Конт, — наименее возвышенные и наиболее специально эгоистические инстинкты имеют несомненный перевес над более благородными наклонностями, прямо относящимися к общежитию". А между тем, хотя "наши общежительные влечения и постоянством и энергиею, к несчастью, гораздо ниже влечений личных", общее счастие зависит именно от удовлетворения первых (стр. 550–551).
Вследствие этого, по признанию Конта, человеческое развитие только отчасти может называться естественным, отчасти же оно носит на себе характер искусственный. Оно "естественно тем, что оно стремится дать большее и большее преобладание существенным свойствам человечества в сравнении с животною природою, установивши владычество способностей, очевидно предназначенных управлять всеми другими; но вместе с тем оно является в высшей степени искусственным, ибо оно состоит в том, чтобы дать посредством надлежащего упражнения наших способностей тем большее преобладание каждой из них, чем она первоначально менее энергична" (стр. 630–631). Отсюда вечная и необходимая борьба между человеческою и животною природою, борьба, которою наполняется история.
Таким образом, по теории Конта, развитие состоит в том, чтобы поставить наверх то, что находится внизу, дать силу тому, что слабо, и наоборот, оттеснить вниз то, что стояло наверху, ослабить то, что было сильно. Если таково проявление природы развивающегося существа, то нельзя не сказать, что это проявление есть вместе полное ее извращение. И к довершению трудности эту искусственную операцию должна произвести сама эта природа над собою. В то время как в ней преобладают одни наклонности, она должна дать перевес другим. Каким же образом это возможно?
При объяснении этого явления недостаточно ссылаться на необходимое изощрение способностей вследствие упражнения: умственные способности, говорит нам Конт, по природе лишены энергии и употребление их человеку неприятно. Состояние диких фактически доказывает, что они могут вечно оставаться неподвижными. Для того чтобы изощрение было плодотворно, надобно, чтобы оно было направлено разумною волею к разумной цели, но это составляет уже плод развития: это именно то, чего недостает и что требуется получить.
Недостаточно ссылаться и на основной инстинкт, который влечет человека к беспрерывному улучшению своего состояния, инстинкт, из которого Конт мимоходом выводит все человеческое развитие (стр. 364). Улучшение состояния представляется всегда в виде удовлетворения наклонностей; если же преобладают наклонности неразумные, то подавление их и развитие других способностей, находящихся в состоянии оцепенения, никак не может представляться человеку желанною целью.
Что подобные объяснения не затрагивают существа дела, видно уже из того, что развитие существует и там, где нет ни изощрения способностей, ни стремления к улучшению своего состояния. Развивается и животный организм, а так как сам Конт признает человеческое развитие высшею ступенью развития органического, то очевидно, что для установления основного понятия о развитии необходимо принять в соображение оба элемента. Надобно объяснить, каким образом низшее состояние может переходить в высшее и каким образом природа данного существа, излагая собственные свои определения, может в конце явиться совершенно иною, нежели в начале. Реализм не в состоянии разрешить этой задачи. Он может только описать процесс или указать частные причины, ровно ничего не объясняющие.
Истинное объяснение заключается в метафизическом понятии о силе, действующей по внутренней цели. Это то, что в метафизике называется идеею, а в действительном мире, в единичном существе — душою, а в высшем своем проявлении, то есть в собрании разумных существ, внутренне связанных между собою, — духом. Идея как внутренняя природа вещи, долженствующая осуществиться, а потому составляющая цель развития, является сначала в смутном состоянии, где все определения содержатся только в возможности; затем она сама, пользуясь внешними условиями, излагает свои определения, до тех пор пока не будет достигнута та полнота, соединенная с высшим единством, которая представляет совершенство данной природы. В силу этих начал истинная природа развивающегося существа раскрывается только в конце, а отнюдь не в исходной точке, которая обозначает лишь первую границу движения. В органическом существе простая клеточка заключает уже в себе в скрытом виде весь последующий организм, но для физического глаза это скрытое содержание недоступно, и никакой опыт ничего тут не может обнаружить. Все это раскрывается только последующим развитием. Живущая в клеточке душа, то есть сила, действующая по внутренней цели, сама, пользуясь окружающею ее средою, создает для себя органическое тело, и это развитие продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто полное изображение скрывавшегося в клеточке типа. Духовное развитие отличается от органического тем, что здесь тот же самый процесс совершается через посредство сознания и свободы. Поэтому движущая историею идея, которая на низших ступенях является только в виде смутного инстинкта, по мере развития сознается человеком и становится свободно избираемою целью его деятельности. Первоначально дух погружен еще в природу и находится под влиянием ее определений, но с течением времени он отрывается от этих определений и создает свой собственный духовный мир, осуществляя путем свободы то, что он есть в себе самом. На высших ступенях человек сознательно является тем, чем он инстинктивно был с самого начала своего существования, носителем идеальных начал. Человек по природе своей есть метафизическое существо, и таковым он является в истории.
Понятно, что отрицая метафизику, позитивизм не в состоянии постигнуть смысл развития. Вследствие этого и выведенный им закон исторического движения оказывается ложным. Мы видели, что Огюст Конт требует, чтобы этот закон согласовался с положительным понятием о природе человека, а так как это положительное понятие у него совершенно превратно, то и согласованный с ним закон должен быть также неверен. По учению Конта, этот закон состоит в последовательности трех периодов умственного развития: богословского, метафизического и положительного. Первый представляет младенчество человеческого рода. У человека в эту пору опытности еще нет, воображение преобладает над разумом. Поэтому он склонен представлять себе все вещи по аналогии с своею собственною личностью. Сначала он самые неодушевленные предметы принимает за живые существа. Отсюда первая ступень богословского миросозерцания — фетишизм. Впоследствии, по мере развития способности к обобщению, человек живыми существами признает уже не отдельные вещи, а общие господствующие над ними силы; это — период многобожия. Наконец, все эти отдельные силы сводятся к единству, и тогда над всем воздвигается единое, всемогущее и разумное Существо, которому поклоняется человек. Однако и тут сохраняется тот же антропоморфический характер миросозерцания, который господствовал вначале. Только по мере развития разума человек приходит к убеждению, что явления природы управляются не подобными ему существами, а вечными и неизменными законами, которых исследование одно доступно нашему разуму, тогда как причины вещей от нас скрыты. В этом состоит истинно научная точка зрения, к которой разум приходит в высшем своем развитии. Но прежде, нежели он достиг этой высоты понимания, он проходит через посредствующую ступень, где представление об управляющих явлениями живых существах заменяется смутным представлением метафизических начал, которые, однако, по самой своей шаткости и неопределенности не способны дать какую бы то ни было твердую точку опоры человеческому разуму. Значение метафизики заключается единственно в том, что она служит переходом от богословского миросозерцания к положительному. Только в последнем человеческий разум находит наконец настоящее свое средоточие[351].
Эта теория подверглась критике со стороны самих защитников опыта. Спенсер заметил, что хотя мы признаем первую причину вещей непознаваемою для разума, но это не мешает ей оставаться предметом религиозного чувства в настоящее время, так же как и в первые времена человечества. Наука никогда не может вытеснить религию, ибо отношение разума к познаваемому никогда не может заманить отношение чувства к непознаваемому[352].
Это замечание совершенно верно относительно немыслимой замены религии наукою, но оно страдает тем же недостатком, как и теория Конта, в том отношении, что она столь же мало объясняет историческое значение религии. Когда Конт выдает религию за пустой призрак, и затем распространяется о благодетельных последствиях этого призрака для первых ступеней человеческого развития, то это одна из тех несообразностей, в которые так часто впадает реализм. Пустой призрак не может быть двигателем исторического развития, ибо ничто ничего не производит. Поставить религию наряду с астрологиею и алхимиею значит ничего не понять в ее исторической роли. В религии нет даже того практического интереса, который побуждал астрологов и алхимиков к исследованиям и наблюдениям; вера в сверхъестественное действие невидимых существ избавляла, напротив, человека от необходимости изучать действительную связь явлений. Но точно так же ничего не выходит и из отношения неопределенного чувства к непознаваемому предмету. И при таком взгляде неоспоримое значение религии как великой исторической силы остается непонятным.
Это значение объясняется единственно тем, что религия есть не пустой призрак или смутное чувство чего-то неизвестного, а живое отношение человеческой души к познаваемому абсолютному. Отсюда та всеобъемлющая сила, с которою она охватывает человека, поэтому только она может сделаться началом исторического движения. И это значение не есть нечто преходящее. Религиозное стремление вытекает из глубочайших основ человеческой природы. Как метафизическое существо, которое и разумом и чувством возвышается над всем относительным, человек жаждет единения с тем абсолютным, на которое указывает ему все его естество. Поэтому религия всегда была, есть и будет коренным началом человеческой жизни.
Всего менее она может быть вытеснена опытною наукою, которая вращается в совершенно иной, гораздо более низменной сфере. Когда Конт признает познание относительного высшею ступенью человеческого развития, то это опять же идет наперекор самым коренным требованиям человеческой природы, требованиям, которые заявляются с неотразимою силою, как только человек начинает думать о себе и о мире. "Замечательно, — говорит Конт, — что вопросы наиболее радикальным образом недоступные нашим средствам: внутренняя природа существ, начало и конец всех явлений, суть именно те, которые наш ум полагает себе прежде всего в этом первоначальном состоянии, тогда как действительно разрешимые задачи считаются почти недостойными серьезных размышлений"[353]. Что же это доказывает, как не вечную принадлежность этих вопросов человеческому разуму с самых первых ступеней его развития? Во всяком случае, что бы мы ни думали о возможности удовлетворения этих требований, мы не можем не признать, что устранение их было бы подавлением не животной стороны нашего естества, как требуется указанным Контом законом развития, а именно того, что возвышает нас над животными и что связывает нас с высшим, духовным миром. Чем совершеннее человек, тем менее он может отказаться от этого глубочайшего стремления своей природы, от этой высшей печати своего духовного естества. Поэтому преобладание опытного знания никогда не может быть признано венцом человеческого развития. Оно может явиться только переходною ступенью в истории человеческой мысли, признаком, характеризующим те несчастные посредствующие эпохи, когда известное миросозерцание уже не удовлетворяет человека и вырабатывается другое, которое еще не выяснилось вполне.
Это до такой степени верно, что самое опытное знание несмотря на то, что оно отрекается от познания абсолютного, неизбежно, силою вещей отправляется от начал, которые оно признает абсолютными. Без этого никакое научное познание невозможно. По теории Конта, познание причин, первоначальных и конечных, должно замениться исследованием законов, управляющих вселенною. Но эти законы признаются вечными, неизменными и непреложными: такова исходная точка всей системы, без чего нет опытной науки. Следовательно, это законы абсолютные; вытолкнутое в одну дверь, абсолютное возвращается в другую. И когда идеалом познания выставляется сведение всех законов к единому, верховному закону, из которого все остальное выводится как последствие, то этим самым признается, что эти абсолютные законы образуют единую разумную систему, ибо логически выводить можно только то, что заключает в себе логическую связь. Если же все законы вселенной составляют единую непреложную и разумную систему, то в основании их лежит единая, абсолютная и разумная сила, ибо закон ничто иное, как способ действия силы, и когда мы познаем закон, мы тем самым познаем и природу проявляющейся в нем силы.
Это познание разумных сил, лежащих в основании явлений, составляет именно задачу метафизики, которая, однако, по самому существу дела принуждена отправляться не от внешних явлений, а от разума и его законов, ибо для того чтобы понять разумность явлений и управляющих ими законов, необходимо предварительно иметь мерило в самом испытующем разуме. Без этого наука превращается в груду несвязанных фактов. Связать явления можно лишь логическою связью, а логическая связь дается законами разума. Если же разум понимается как чисто страдательная способность, воспринимающая лишь чуждое ей содержание, то связь будет исключительно фактическая, и тогда не будет ни разумной системы, ни непреложных законов, ни строгой науки. Тогда действительно все будет представляться относительным, то есть случайным и колеблющимся. Всякая твердая точка опоры исчезнет.
Таким образом, метафизика представляет не переход от богословия к положительной науке, а начало и конец положительной науки. Преобладающее значение чистого опыта может быть лишь переходною ступенью умственного развития. Это и подтверждается историею. О науке нового времени мы фактически судить не можем, ибо именно в настоящее время мы находимся в одной из таких переходных эпох. Но в истории древнего мышления мы имеем уже законченный цикл, что же она говорит нам в этом отношении? Подтверждает ли она закон, выведенный Контом? Ничуть не бывало. Греческая мысль действительно перешла от первоначального, богословского миросозерцания к метафизическому, после чего она, откинув метафизику, устами софистов провозгласила явление истиною и относительное единственным предметом познания; но затем, вместо того чтобы остановиться на этой свойственной созревшей мысли точке зрения, она снова погружается в метафизику и от метафизики опять переходит к богословию. Мы имеем тут самое яркое фактическое опровержение всей теории позитивизма.
Как же выпутывается из этого Конт? Он все развитие греческой мысли, обнимавшей собою и философию, и математику и даже опытные науки, относит к богословскому периоду и притом даже не к высшей, а к средней его эпохе, которая характеризуется многобожием; а так как за Грециею следовал Рим с своею воинственною политикою, которая, по теории Конта, тоже составляет принадлежность богословского периода, то греческая наука оказывается у него переходною формою между египетскою теократиею и римским военным духом. Теократия уже ослабла, а военный дух еще не вполне развился; а потому умственные силы, которым некуда было деваться, бросились на науки и на искусство!![354]. И такие несообразные объяснения, которыми можно разве морочить детей, выдаются за высший плод созревшего опыта! Тут невольно возникает вопрос: отчего же мысль, которая от нечего делать кинулась в науку и нечаянно наткнулась не только на метафизику, но даже на математику и на опытное знание, не продолжала идти тем же путем? Поворот ее от опыта к метафизике и от метафизики к богословию все-таки служит неопровержимым доказательством против выведенного Контом преемственного движения человеческого ума через последовательные три периода: богословский, метафизический и положительный.
Итак, провозглашенный с таким треском закон исторического развития оказывается мнимым. Одностороннее понимание человеческой природы повело к ложному пониманию управляющего ею закона. Пока мы не признаем кидающегося в глаза факта, что человек по природе своей есть метафизическое существо, мы ничего не поймем в его развитии, и еще менее мы в состоянии будем постигнуть тот идеал, к которому он должен направлять свой путь. В этом отношении учение Конта весьма поучительно. Несмотря на отрицание конечных причин он считает возможным указать не только закон, которым управляется движение человеческих обществ, но и ту цель, к которой должно привести человечество развитие положительной философии. У него также есть свой общественный идеал, но так как этот идеал составляет логический вывод из односторонних воззрений, то и он не представляет ничего, кроме чистых фантазий. Положительная философия в результате своем приходит к воздушным замкам.
Идеальное устройство общества, по теории Конта, должно состоять в замене религии положительною наукою и военной силы промышленностью. На место церкви ставится корпорация ученых. Подобно средневековой церкви эта корпорация стоит на высшей ступени общественной лестницы, ей не присваивается государственная власть, но она заведует воспитанием, сдерживает умственную анархию и дает нравственное направление обществу. Светская же область, где владычествует промышленность, устраивается иерархически, согласно с общим началом положительной философии, которая везде признает восхождение от низшего к высшему и подчинение первого последнему. Низшую ступень общественной лестницы занимают рабочие, над ними возвышаются предприниматели, наконец, высшее место занимают банкиры, которые обладают наибольшими капиталами и составляют истинный центр промышленного мира. Этим однако не устанавливается владычество денег. Нравственное влияние корпорации ученых дает нравственное направление и употреблению богатства. Каждый рассматривает себя как должностное лицо, обязанное служить обществу, вследствие чего граждане обращают свои средства на общую пользу. В этом, по мнению Конта, состоит истинное разрешение социального вопроса и удовлетворение справедливых требований пролетариата. При таком порядке низшие классы будут видеть своих естественных защитников в корпорации ученых, и установится прочный союз между положительною философиею и демократиею[355]. Что касается до законов и учреждений, которыми должно управляться это общество, то Конт придает им весьма мало значения. Юристов вместе с метафизиками он относит к переходной эпохе. Они занимают такое же посредствующее место между военною силою и промышленностью, как метафизика между богословием и положительною философиею. Государство, таким образом, совершенно улетучивается.
Очевидно, что все это устройство ничто иное как сколок с средневекового порядка, в котором с формальной стороны Огюст Конт видел верх человеческой мудрости. Изменяется только содержание: на место церкви надобно поставить науку, а на место феодализма промышленность; то есть надобно устроить церковь без религии и военную иерархию без военной силы, и тогда все будет хорошо. А что иное содержание требует и иной формы, об этом, по-видимому, основатель положительной философии не догадывался. Всего менее было ему доступно понятие о государстве, в котором метафизические начала являются преобладающими. Поэтому он и не придавал ему никакого значения.
Если мы сравним этот детский бред с тем глубоким пониманием общественного быта, которое мы находим у метафизических философов, то мы увидим все бесконечное превосходство последних. Казалось бы, что именно опытная философия должна дать нам истинное познание действительности, а на деле выходит совершенно обратное. И это объясняется самым свойством предмета. Так как человек по природе своей есть метафизическое существо, то вся человеческая действительность является созданием метафизики. Поэтому когда метафизическая философия обращается к этой действительности, она узнает в ней самое себя и понимает ее так, как она есть. Напротив, так называемая положительная философия начинает с отрицания метафизики, но именно вследствие этого она не в состоянии ничего понять ни в природе человека, ни в управляющих им законах, ни в созданном им общественном быте. Существующую действительность она отрицает, а на место ее она воздвигает собственные идеалы, которые, не имея корня в человеческой природе и будучи основаны лишь на крайне одностороннем понимании явлений, лишены всякой внутренней состоятельности и представляют не более как праздные фантазии. Весь их интерес заключается в совершенной их пустоте, обличающей ложную точку исхода.
Учением Конта не исчерпывается однако содержание реалистической философии. Даже среди приверженцев реализма это учение нашло себе мало последователей. Так, Герберт Спенсер заявил, что он не согласен ни с одним из основных положений Конта. По его мнению, опытное знание должно иметь в виду не одни законы, но главным образом причины вещей, причем, однако, первая причина должна вечно оставаться для нас непознаваемою. В действительности причины всегда составляли настоящий предмет человеческих исследований. В более и более полном их познании состоит умственный прогресс человечества, прогресс, который не проходит через три различные фазы, как утверждает Конт, а всегда следует одному и тому же пути, так же как и самое опытное знание. "Неверно и то, что умственный прогресс является верховным деятелем в человеческом развитии; напротив, он сам состоит под влиянием других элементов. Мир, — говорит Спенсер, — управляется и разрушается не идеями, а чувствами, идеи же служат им только путеводителями. Общественный механизм держится не на мнениях, а на характере. Известное общественное состояние, проистекающее из совокупности существующих в нем влечений, порождает известные идеи, а не наоборот. Поэтому за теориею прогресса надобно обратиться не к умственному развитию, а к совершенно иным началам"[356].
Собственную свою теорию развития Спенсер первоначально изложил в статье под заглавием "Прогресс, его закон и причина"[357]. Она появилась в 1857 г. Здесь Спенсер пытался свести прогресс к общему закону, управляющему всем мирозданием. Отправляясь от эмбриологических исследований Бэра, он определял прогресс вообще как превращение однородного в разнородное и указывал присутствие этого начала во всех явлениях мира. Причину же подобного превращения он полагал в общем законе, в силу которого всякая причина производит более, нежели одно действие, а так как всякое действие в свою очередь становится причиною нового действия, то отсюда проистекает постоянное осложнение вещей.
Скоро однако сам Спенсер заметил, что умножение различий далеко не всегда означает прогресс. У Бэра взята была формула, но у нее отнят был смысл. В организме переход от однородного к разнородному потому только является признаком развития, что это разнородное служит общей цели организма; явление же разнородного, которое противоречит этой цели, вовсе не может считаться признаком прогресса. Всякая болезнь есть появление новой разнородности, но никто не признает ее прогрессом. То же самое относится и к разложению. Надобно было, следовательно, искать точнейших определений. Это Спенсер и старался сделать в своих "Первых началах" (First Principles), которые содержат в себе основание всей его философской системы.
Здесь вместо прогресса является уже более общий термин "эволюция", которой противополагается диссолюция. Эволюция в самом общем своем значении есть интеграция, или сосредоточение, материи с сопровождающею <ее> потерею, или рассеянием, движения; диссолюция, напротив, есть восприятие, или прибавление, движения, с сопровождающим его рассеянием материи. Эти два противоположные процесса разделяют между собою всю вселенную, которая и в целом, и в частях представляет последовательные периоды эволюции и диссолюции.
Спенсер подробно анализирует все стадии этих процессов, начиная с сосредоточения материи, которое служит первою причиною происхождения вещей. Он указывает присутствие этого начала во всех мировых явлениях: в образовании Солнечной системы через постепенное охлаждение и уплотнение вращающейся туманной массы, согласно с известною астрономическою гипотезою; в проистекшем от той же причины образовании земной поверхности; в органическом развитии, которое происходит посредством вбирания рассеянной прежде пищи; в большем и большем сосредоточении органов на высших ступенях животного царства; в появлении общежительных стремлений у животных; наконец, в прогрессе человеческих обществ, которые от соединения мелких племен идут к образованию больших государств и окончательно к международной федерации. Такая же интеграция происходит и внутри каждого общества, где отдельные части получают более и более сосредоточенную организацию. То же самое мы видим в языке, в науке, в искусстве. Одним словом, везде повторяется один и тот же основной закон.
Рядом с этим идет и другой процесс, который сопровождает первый, но занимает второстепенное место в общем эволюционном движении, а именно дифференциация, или переход от однородного к разнородному. И этот процесс можно фактически проследить в тех же явлениях: Солнечная система из однородной массы разбивается на отдельные, связанные законами тяготения светила; земная поверхность, охлаждаясь, получает бесконечно разнообразные формы и виды; организм в своем развитии приобретает разнообразно устроенные органы. Тот же переход от однообразия к разнообразию мы замечаем и в совокупном развитии животного царства. Но всего более он обнаруживается в человеке: племена расходятся; общество по мере совершенствования жизни получает более разнообразное строение, является различие правительства и подданных, разделение классов, сложная промышленная организация; в языке, в науке, в искусстве оказывается все большая и большая дифференциация частей, а вместе и осложнение целого.
Однако же не всякий переход от однородного к разнородному служит признаком эволюции. Болезни, разложения, внутренние возмущения и бедствия суть явления разнородного, которые принадлежат диссолюции. Признаком эволюции, по мнению Спенсера, служат лишь те разности, которые имеют определенность, строго отличающую их от других частей, тогда как разности, порожденные диссолюциею, напротив, уничтожают определенность границ. Высшее развитие состоит именно в большей и большей определенности частей.
Наконец, ко всем предыдущим признакам, относящимся к распределению материи, надобно прибавить еще распределение остающегося в теле движения. Если часть движения теряется при интеграции, то остающаяся часть следует внутреннему распределению материи: так же как последняя, внутреннее движение становится более сосредоточенным, более разнообразным и более определенным. Частичное движение при интеграции материи переходит в движение масс и притом в прогрессивном порядке, каждая же часть приобретает свое особенное, именно ей свойственное движение. Это мы видим и в образовании Солнечной системы, где бесконечно разнообразные движения частиц получают сначала общее вращательное движение, а затем разбиваются на определенные движения светил, и в образовании земной поверхности, где установляется постоянное распределение климатов и воздушных течений, и в организме, где с высшим строением появляются более сосредоточенные, определенные, но вместе и сложные отправления, и, наконец, в человеке, как со стороны развития его душевных способностей, так и в общем ходе истории, в котором разобщенные прежде действия людей все более и более связываются и подчиняются общему направлению.
На основании всех этих признаков Спенсер определяет эволюцию следующим образом: "…эволюция есть интеграция материи и сопровождающие ее рассеяния движения, в течении которых материя переходит от неопределенного, бессвязного однообразия к определенному и связному разнообразию, а остающееся движение подвергается параллельному превращению".
Откуда же проистекает этот закон? Спенсер приводит разные причины, которые однако окончательно все сводятся к одной, именно, к постоянству силы, составляющему основной закон вселенной. Первая причина заключается в неустойчивости однородного (the instability of the homogeneous). Равновесие однородной массы при малейшем внешнем влиянии нарушается, и проистекающее отсюда разнообразие идет увеличиваясь. Самое же это свойство однородного происходит оттого, что различные его части, внутренние и внешние, ближайшие и отдаленные, в разной степени подвергаются действию всякой внешней силы, разные же действия сил имеют различные последствия, которые и производят разнообразие в строении и деятельности вещей.
К этому присоединяется другая причина, проистекающая из того же источника. Так как по основному закону силы действие всегда равно противодействию, то действующая сила, производя различные действия в однородной массе, в свою очередь претерпевает различные воздействия со стороны последней, а потому раздробляется на группы разнородных сил. Отсюда общий закон, что действие всегда сложнее причины.
Этими двумя законами объясняется увеличение разнообразия; определенность же разнообразного объясняется тем, что когда известная сила действует на предмет, состоящий из разнородных частей, то сходные между собою части подвергаются одинаковому действию, а потому отделяются от других. Так например, когда ветер или вода уносит предметы, имеющие различную тяжесть, то ближе всего падают тяжелейшие, дальше менее тяжелые, а далее всех самые легкие. Таким образом, действие внешней силы не только производит разнообразие в однородном, но и вносит в него определенность, отделяя разнородные части одну от другой. И все это составляет последствие единого начала — постоянства силы.
Каков же результат этого процесса? Очевидно, что постепенная потеря движения, сопровождающая интеграцию материи, должна наконец привести к полному его прекращению. Всякое движение в пространстве, встречая постоянное сопротивление, хотя бы и самое нечувствительное, непременно когда-нибудь приходит к концу. Точно так же и начало внутреннего движения, теплота, улетучиваясь вследствие влияния окружающей среды, производит наконец полное охлаждение. Поэтому Солнце должно когда-нибудь померкнуть, и все планеты с своими спутниками должны с ним соединиться. Прекращение движения составляет естественный конец и всякого органического существа. Смерть есть то окончательное равновесие, к которому стремится всякая эволюция. Но прежде, нежели эта цель достигнута, наступает период подвижного равновесия, которое есть пора высшего совершенства данного предмета. Оно состоит в том, что внутренние силы и внешние, действие и противодействие, находятся в равновесии, вследствие чего прекращаются всякие частные движения, проистекающие из отношения к внешним силам, и остается только общее движение частей в отношении друг к другу, что всего яснее выражается в вращающемся шаре. В животном организме это подвижное равновесие проявляется в том, что в период зрелости ежедневная потеря сил совершенно уравновешивается ежедневным их возобновлением посредством пищи и сна. В человеческих же обществах это идеальное состояние должно водвориться с полным уравновешением потребностей и внешних условий. Однако это подвижное равновесие не может продолжаться вечно. Так как внутреннее движение все теряется, то наступает минута, когда внешние силы берут перевес, и это ускоряет окончательную остановку внутреннего движения. Тогда для существа наступает смерть; последствием же смерти является беспрепятственное действие внешних сил, которые, внося движение в остановившиеся частицы, подвергают их разложению. За сосредоточением материи и соответствующим рассеянием движения следует усиление движения и соответствующее рассеяние материи, за эволюцию — диссолюция. Сплотившиеся тела опять возвращаются в то разреженное состояние, из которого они вышли, но это разреженное состояние в свою очередь заключает в себе начало новой эволюции. Таким образом, все мироздание должно представлять постоянные смены периодов эволюции и диссолюции.
Такова теория Спенсера. При поверхностном взгляде она представляется достаточно округленною и последовательною. Но если мы вглядимся в нее поближе, мы увидим, что она не содержит в себе ничего, кроме совершенно произвольно подобранных фактов и выводов, в которых можно найти все, исключая логику. Последуем за нею шаг за шагом.
Для того чтобы существовала какая бы то ни было материальная вещь, без сомнения, необходимо соединение материи, причем соединившиеся частицы естественно теряют то движение, которое произвело их соединение. Но из этого отнюдь не следует, чтобы основным законом каждого материального существования было постоянно увеличивающееся сосредоточение материи с соответствующим уменьшением движения, до тех пор пока не наступит обратный порядок. Факты не подтверждают подобного взгляда.
Конечно, если мы остановимся на весьма вероятной гипотезе происхождения Солнечной системы, а вместе и земной поверхности путем постепенного охлаждения раскаленной массы, то мы найдем здесь этот закон. И не мудрено: он отсюда и взят. Но невозможно прилагать его к единичным существам иначе, как с помощью величайших натяжек. В кристаллах, очевидно, нет ничего подобного: мы не видим в них постепенного уплотнения материи с соответствующею потерею движения. Они в течение тысячелетий могут оставаться в совершенно одном положении, до тех пор пока не будут разрушены внешнею силою. Поэтому Спенсер осторожно их обходит, хотя закон эволюции, как мировой закон, вытекающий из постоянства силы, должен бы был проявляться и в них.
Столь же мало этот закон прилагается и к развитию организмов. Материя, из которой образуется тело цыпленка, не находится в рассеянном виде, она заключена в яйце. Можно, пожалуй, превращение ее из неорганизованной формы в организованную назвать интеграциею, но тогда мы под именем интеграции будем разуметь самые разнородные процессы, и никакого общего закона из этого не выйдет. При переходе из неорганизованной формы в организованную материя яйца частью уплотняется, частью разряжается, ибо в теле являются пустые промежутки. Во всяком случае, тут не происходит никакой потери движения. Напротив, весь этот процесс требует усиленного внутреннего движения, вследствие чего он совершается под влиянием постоянно прибывающей извне теплоты. В цыпленке, очевидно, более движения, нежели в только что снесенном яйце. И то же повторяется при дальнейшем его росте. Зерна, которые он клюет, не теряют, а напротив, приобретают движение: они перевариваются желудком и в виде крови разносятся по всем частям тела.
Точно так же закон эволюции не прилагается к иерархическому порядку единичных существ. Принявши теорию Спенсера, мы должны бы были сказать, что чем выше строение тела, тем больше в нем плотности и тем меньше движения. Дерево должно иметь большую плотность и меньшую внутреннюю подвижность, нежели металл, животное — нежели растение. Известно, что в действительности существует обратное отношение, с чем вместе вся эта теория оказывается построенною на воздухе.
Наконец, и к развитию человечества этот закон совершенно не приложим. Прежде всего заметим, что в духовных организмах, которые сам Спенсер считает высшими, интеграция материи (если только можно назвать это интеграциею) несравненно меньше, нежели в физических организмах. Люди, принадлежащие к одному государству, не сливаются в одно тело как органические клеточки, а действуют на расстоянии. Рассеяние служит даже признаком внутренней силы, доказательством чему служит колонизация, которая производится именно во времена наибольшего роста народов. Затем историческое развитие вовсе не состоит, как уверяет Спенсер. в "том процессе, посредством которого мелкие владения соединяются в феоды, феоды в провинции, провинции в королевства, и. наконец, смежные королевства в одно государство, и который медленно завершается уничтожением первоначальных границ разделения"[358]. Мы видим, что нередко именно на низших ступенях развития разом образуются громадные государства, чему даже в новой истории примером служат Монголы. Но безмерное расширение всегда влечет за собою внутреннюю слабость, а потому распадение. Даже те государства, которые расширяются путем постепенного роста, как древняя Римская Империя, падают и заменяются дробными силами. По теории Спенсера выходит, что деспотические монархии Востока представляют высшую форму общественной эволюции: в них мы замечаем наиболее интеграции и наименее внутреннего движения, известно однако, что при столкновении громадной Персидской монархии с мелкими греческими республиками, в которых было мало интеграции и много внутреннего движения, последние получили перевес и явились представителями высшей ступени человеческого развития.
Таким образом, первый закон мировой эволюции оказывается мнимым. Таковым же является и переход от однородного к разнородному. Как уже было замечено выше, этот переход может считаться признаком развития, только когда в нем есть смысл, то есть когда разнородное служит высшей цели. Простое же умножение различий вовсе не означает движения вперед, и еще менее может быть признано общим законом мировых явлений.
Не станем говорить о кристаллах, в которых нет никакого движения от однородного к разнородному. Если они переходят в жидкое состояние или растворяются в воде, то при охлаждении или осадке они снова возвращаются в то однородное состояние, из которого они вышли. Тут усиливающейся дифференциации не оказывается, вследствие чего она не может быть признана мировым законом.
Что касается до органического развития, то здесь мы действительно замечаем переход от однородного к разнородному, но отнюдь не как постоянный закон, действующий безостановочно, а только до известной ступени, пока не достигнута полнота типа. Жеребенок, появляющийся на свет, имеет уже все готовые органы, и дальнейшей дифференциации не происходит, хотя рост продолжается. Если бы на самом деле движение к разнородному было общим законом, проистекающим из постоянного осложнения следствий, то оно должно было бы идти усиливаясь, но этого мы не видим. Позднее всего в развивающемся организме появляются половые отправления, но это не простая дифференциация, а завершение развития воспроизведением его начала.
Точно так же и в восходящей лестнице животного царства мы не находим подтверждения этого закона. У низших животных есть метаморфозы и перемены поколений, которых нет у высших. У насекомых кроме различия полов встречаются и средние типы, даже в нескольких формах, чего у позвоночных нет.
Наконец, всего менее этот закон приложим к человеку. Конечно, в сравнении с первобытною слитностью устройство развитых обществ представляется разнообразным и сложным, но это разнообразие не идет увеличиваясь. Если на высших ступенях является несуществовавшее прежде разделение правительства и подданных, то еще позднее является участие подданных в правительстве, и это слияние обоих элементов не представляется шагом назад. Точно так же разделение на сословия уступает место свободному слиянию классов. Спенсер считает это явление переходным; по его мнению, оно означает разрушение одного устройства и замену его другим. Но нет ни малейших данных, которые указывали бы на то, что в новом устройстве раздельность должна быть больше, нежели в прежнем. Напротив, мы знаем, что раздельность всего ярче выступает на относительно низких ступенях, которые характеризуются существованием каст. И если в дальнейшем движении эта раздельность исчезает, уступая место хотя бы и временному слиянию, то все же это доказывает, что прогрессивная дифференциация вовсе не есть постоянный закон человеческих обществ. Столь же неудачна и ссылка Спенсера на языки: в развитии языков мы не замечаем осложнения, а напротив, видим упрощение форм. Новые языки в этом отношении далеко уступают классическим, и когда Спенсер выше всех ставит английский язык как заключающий в себе наиболее различий, то можно только удивляться смелости этого положения. Точно так же и в письменах высшая форма, фонетический алфавит, несомненно проще иероглифов. В искусстве специализация и осложнение никак не могут служить признаками высшего развития. Греческое искусство остается вечным образцом изящного, именно по своей простоте. Наконец, в религии мы не замечаем движения от единобожия к многобожию, и последнее отнюдь не может считаться высшим началом.
Сам Спенсер чувствовал, что один внешний признак дифференциации ровно ничего не означает. Выдавать появление бородавки за высшую ступень эволюции слишком уже нелепо. Поэтому он старался искать более точных определений. Но за отсутствием тех начал, которые дают смысл явлениям, он принужден был все-таки ограничиться чисто внешними свойствами; в своих поисках он остановился на определенности.
Нельзя было сделать более неудачного выбора. Нарост может иметь весьма определенную форму, отличающую его от всего остального тела. Шестой палец, который иногда воспроизводится даже наследственно, имеет совершенно такую же определенность, как и другие, и если при этом он одарен еще какою-нибудь кривою формою, то по теории Спенсера он несомненно должен служить признаком высшей эволюции. Тот же характер следует признать и за всяким нарушением симметрии. Человек, у которого одна нога короче другой, у которого рот кривой или один глаз выше другого, должен считаться существом высшего разряда. В приложении же к человеческому общежитию мы должны признать, что чем резче различие между правительством и подданными, чем менее допускается участие последних в общественных делах, тем выше общественная организация. Устройство каст должно считаться идеалом человеческого общежития, а всякое от него уклонение признаком диссолюции.
Наконец, если мы взглянем на последнее свойство эволюции, на внутреннее распределение движения, сопровождающее распределение материи, то здесь мы уже в самом основании найдем полное противоречие. Можно себе представить, что однородные частицы материи, соединяясь, почему-либо становятся более разнообразными, но нельзя себе представить, чтобы разнообразные движения, сливаясь в одно общее движение, через это самое становились более разнообразными. Если, как говорит Спенсер, "процесс идет от движения простых частиц к движениям сложных частиц, от частичных движений к движениям масс и от движений меньших масс к движениям больших масс" (§ 139), то здесь оказывается постепенное уменьшение, а не увеличение разнообразия; если же появляется увеличение разнообразия, то закон последовательного слияния движений неверен. И точно, подобный закон в действительности не существует. Не ходя за дальними доказательствами, мы никак не можем сказать, чтобы, например, в человеческих обществах уничтожение своеобразного действия свободных сил было признаком высшего развития. Напротив, именно на низших ступенях они подчиняются тяготеющему над ними влиянию однообразных и непреложных обычаев, позднее они сдерживаются деспотизмом, и только на высших ступенях предоставляется им надлежащий простор. Вытекающее из свободы своеобразие движений составляет высший плод человеческого развития, между тем как по теории Спенсера идеалом представляется полное господство массы над лицом. Как типический пример высокой интеграции движений он приводит армию, в которой все повинуется единой воле, и постоянная выправка сообщает должную точность всем движениям (§ 144). Но если это действительно может служить примером высокой интеграции, то никак нельзя назвать армию высшим типом человеческого общежития. При таком взгляде пришлось бы полчища Чингисхана поставить выше республики Соединенных Штатов. Ниже мы увидим, почему сам Спенсер в своем идеале человеческого общежития, по-видимому, уклоняется от этого типа.
Итак, индуктивная часть учения Спенсера вовсе не оправдывает выводимых им законов. Нет ничего легче, как подобрать несколько фактов, более или менее близко подходящих к заранее изобретенной теории, и опустивши все, что ей противоречит, воздвигать на этом шатком основании целые мировые системы; но подобный прием всего менее может иметь притязание на научное значение. Приверженцы опыта более, нежели кто-либо, должны бы были настаивать на строгом соблюдении правил научного наведения, а между тем в своих теоретических выводах они всего чаще от них уклоняются.
Но если индуктивная сторона учения оказывается крайне слабою, то дедуктивная не выдерживает уже ни малейшей критики. Она представляет тщетную и не согласную не только с строго научною логикою, но и с простым здравым смыслом попытку построить теорию развития чисто на основании действий внешних сил, без всякого внутреннего начала. Не мудрено, что выводимые отсюда законы оказываются чистыми призраками.
Об интеграции материи Спенсер не распространяется, хотя это основной факт эволюции. В предшествующих главах своего сочинения он старался доказать, что мы по свойству нашего ума не можем представить себе частицы материи иначе как одаренными взаимным притяжением и отталкиванием: причина та, что мы материю познаем по сопротивлению, которое она нам оказывает, а сопротивление предполагает, с одной стороны, взаимное сцепление частиц, с другой стороны, противодействие внешней силе (§ 74). Но не говоря уже о ложных основаниях этого вывода, о которых здесь не место распространяться, не говоря о том, что сцепление и сопротивление вовсе не тождественны с притяжением и отталкиванием, нельзя не заметить, что этим все-таки не объясняется та интеграция материи, которая лежит в основании развития. Неужели в самом деле претворение яичного желтка в организм цыпленка или добывание пищи хищным животным объясняется взаимным притяжением частиц, составляющим коренное свойство материи? Очевидно нет. Итак, объяснение основного факта требуется, но оно не дано. Вместо того чтобы из постоянства силы вывести различные явления интеграции, как следовало бы для логической цельности системы, Спенсер прямо начинает с того, что он называет неустойчивостью однородного, начало, которое составляет источник дифференциации. Посмотрим, существует ли в действительности подобный закон?
Если мы взглянем, например, на пирамиды, которые, состоя из однородных масс, стоят ненарушимо в течение нескольких тысячелетий, между тем как однодневное насекомое при весьма сложном и разнообразном внутреннем строении появляется только на мгновение, то мы неизбежно придем к заключению, что говорить о неустойчивости однородного как об общем законе природы по меньшей мере смело. Пирамиды имеют и внутреннюю сторону и внешнюю, и верх и низ, которые различно подвергаются действию внешних сил, и все-таки они не поддаются малейшему влиянию, как весы, готовые опрокинуться от ничтожнейшей тяжести. Точно так же в другой области мы видим, что дикие племена с весьма однородным внутренним строением остаются неподвижны в течении веков и скорее даже вымирают, нежели поддаются цивилизации, тогда как высоко стоящие народы, заключающие в себе самые разнообразные элементы, быстро развиваются и легко воспринимают в себя внешние влияния. Самый закон, в том виде, как он формулирован Спенсером, вовсе не относится специально к однородному, он прилагается ко всему на свете, ибо всякий материальный предмет имеет внутренние части и наружные, имеет стороны, обращенные к различным направлениям пространства, а потому подлежащие различному действию приходящих извне сил. К разнородному это относится даже в большей степени, нежели к однородному, ибо чем разнообразнее части, тем разнообразнее будет и действие. Это признает сам Спенсер, когда он говорит, что "разнообразие действий увеличивается в геометрической прогрессии с разнообразием предмета, подверженного действию" (§ 158). Но если так, то невозможно утверждать специальную неустойчивость однородного. Надобно, напротив, сказать, что все материальные предметы, состоя из различно расположенных частей, различным образом подвергаются внешним влияниям, но однородные — в меньшей степени, нежели разнородные, ибо различий в них меньше. Однако и это заключение будет неверно, ибо способность предмета противостоять внешним влияниям зависит не столько от большей или меньшей однородности его частей, сколько от внутренней их связи. Однородная масса в газообразном состоянии очевидно менее устойчива, нежели та же масса в твердом состоянии. Сила и орудия, которые могут разрезать яблоко, не в состоянии разрезать металл. Следовательно, все тут зависит от внутренней силы, если же мы устраним последнюю или оставим ее без внимания, то мы волею или неволею принуждены будем формулировать законы, не имеющие основания ни в логике, ни в опыте.
То же самое относится и к закону умножения следствий. По теории Спенсера выходит, что действующая извне причина, встречая различные противодействия, сама разбивается на различные группы сил, которые, продолжая действовать и в свою очередь раздробляясь, производят возрастающее в геометрической прогрессии разнообразие. Между тем, в действительности, мы этого не видим. Если мы возьмем основной тип, с которого взята вся теория эволюции, Солнечную систему, то вместо возрастающего в геометрической прогрессии разнообразия мы найдем, напротив, постоянный и неизменный порядок. Спенсер указывает на всю бесконечную цепь последствий, проистекающую от пертурбаций в ходе планет вследствие их взаимного притяжения, которое то увеличивается, то уменьшается с изменением расстояний между ними при круговом движении. Но вся эта бесконечная цепь последствий не производит ни малейшей перемены в общем устройстве Солнечной системы, которая остается совершенно такою же, какою она была тысячи лет тому назад. Дело в том, что вместо прогрессивного умножения причин и следствий, тут действует единая и постоянная внутренняя причина, которая и сохраняет неизменный порядок системы.
Точно так же и в развитии организма мы не видим, чтобы разнообразие шло увеличиваясь. Как уже было указано выше, достигнув известных пределов, оно останавливается. Неужели мы скажем, что с осуществлением типической формы, постоянство силы прекращается и проистекающий из него мировой закон умножения следствий внезапно перестает действовать? Это было бы нелепо. Мы не видим также, чтобы увеличение разнообразия происходило здесь от внешней причины. При высиживании яиц внешняя причина есть прибывающее извне тепло, оно прежде всего действует на скорлупу, которая однако остается неизменною, затем на белок, который тоже не развивается, далее на желток, который точно так же не подвергается развитию, и только зародыш под этим влиянием начинает разнообразиться, причем однако происходящие в нем изменения никоим образом не могут быть объяснены действием тепла. Если вслед за разделением первоначальной клеточки в зародыше птицы появляется желобок, зачаток будущего спинного хребта, и затем к одному концу этот желобок расширяется, и в этом расширении появляются утолщения, представляющие части будущего мозга, то никто, конечно, не станет утверждать, что тепло в состоянии произвести подобные явления. Между тем Спенсер уверяет, что "всякое движение вперед в усложнении зародыша проистекает от действия привходящих сил (incident forces) на прежде существовавшее усложнение. Ибо, — говорит он, — так как доказано, что никакой зародыш, животный или растительный, не содержит в себе ни малейшего зачатка, следа или признака будущего организма, так как микроскоп показал нам, что первый процесс всякого оплодотворенного зародыша есть процесс повторенных, самопроизвольных разделений, кончающийся произведением массы клеточек, из которых ни одна не представляет специального характера, то, по-видимому, нет иной альтернативы, как заключить, что частная организация, существующая в каждый данный момент в развивающемся зародыше, превращается действующими на нее силами в следующую фазу организации, а последняя опять в следующую до тех пор, пока через постоянно увеличивающиеся осложнения достигается конечная форма" (§ 159).
Почему же однако нет другой альтернативы? Единственно потому, что логика плоха. Конечно, старание отыскать в зародыше будущую органическую форму есть самый грубый логический прием. Сила, образующая организм, столь же мало может быть видима в микроскоп, как и сила притяжения или химического сродства. Она постигается умом и недоступна зрению. Но ум наш вовсе не требует, чтобы мы последовательный ряд состояний какого бы то ни было существа непременно приписывали последовательному действию внешних, изменяющихся причин. Такой логический прием немного выше первого и обличает весьма низкую ступень философского мышления. Логика говорит нам, напротив, что чисто внешнее действие сил никогда не может произвести внутреннего единства и связной организации; если же оказывается внутреннее единство в конце развития, то оно должно быть и в начале, а потому мы необходимо должны предположить единую внутреннюю силу, которая проявляется во всем последовательном ряде состояний и своим постоянным действием переводит одно состояние в другое с помощью столь же постоянного взаимодействия с окружающими условиями. Этим только объясняется, почему развитие есть именно развитие зародыша, который заключает в себе эту силу, а не развитие яичной скорлупы, белка или желтка, которые подвержены тем же внешним влияниям. Этим объясняется и то, что развитие наконец останавливается: внутренняя сила дает только то, что в ней заключается, и не может дать ничего другого, тогда как внешние силы продолжают действовать непрерывно.
Факты так громко говорят в пользу этого взгляда, что сам Спенсер принужден признать недостаточность своего объяснения. "Несомненно, — говорит он, — мы все еще обретаемся во тьме относительно тех таинственных свойств, которые заставляют зародыш, когда он подвергается надлежащим влияниям, испытывать специальные перемены, начинающие этот ряд превращений. Все, что здесь доказывается, это то, что <когда> даны эти таинственные свойства, эволюция организма зависит отчасти от того умножения следствий, которое, как мы видели, составляет одну из причин эволюции вообще" (§ 159). В другом месте он прямо признает, что выставленное им начало "не дает ключа к подобным явлениям органического развития. Оно совершенно не объясняет родовых и видовых особенностей и равным образом оставляет нас в неведении относительно тех более важных различий, которыми обозначаются семейства и порядки. Почему два яйца, одинаково положенные в то же болото, становятся одно из них рыбою, а другое пресмыкающимся, оно не может нам сказать. Что из двух различных яиц, положенных под одну курицу, происходят из одного утенок, а из другого цыпленок, — это факт, который не объясняется вышеизложенною гипотезою. У нас нет другой альтернативы, как сослаться на необъясненное начало наследственной передачи. Способность неорганизованного зародыша развиться в сложную взрослую особь, которая повторяет черты предков в мельчайших подробностях, даже когда она была поставлена в условия совершенно несходные с теми, в которых находились предки, есть свойство, которое мы в настоящее время понять не можем. Что микроскопическая частица по-видимому бесформенной материи заключает в себе такого рода влияние, что происходящий из нее человек через пятьдесят лет сделается подагриком или сумасшедшим, — это истина, которая была бы невероятна, если бы она не оправдывалась ежедневно" (§ 152).
В этом случае действительно альтернативы другой нет. Но именно эта таинственная способность опровергает всю теорию, ибо она доказывает неопровержимым образом, что выведенные законы вовсе не суть законы и ровно ничего не объясняют. Тут нельзя ссылаться на то, что сущность наследственного начала остается нам неизвестною. Мы знаем самым положительным образом, что развитие зависит от этой внутренней силы, а не от внешних условий, и этого совершенно достаточно для того, чтобы вся мировая теория Спенсера разлетелась в прах.
Если мы вглядимся в это таинственное начало и сравним его с тем, что нам указывает разум, не в низшей, опытной его форме, а в высшей, философской, то мы увидим, что оно не так загадочно, как оно представляется мыслителям, для которых вытекающие из разума способы понимания явлений остаются закрытою книгою. Свойства этого начала дадут нам вместе с тем и ключ к пониманию развития.
Раскрываемый опытом факт состоит в том, что зародышу передается от родителей сила, воспроизводящая тип. Это не есть передача готовой уже формы: такой формы мы в зародыше не видим, да и предполагать не можем. Форма является уже результатом развития. Это не есть также передача движения, которое должно произвести будущий тип, хотя некоторые естествоиспытатели считают передачу движения единственным научным объяснением этого явления[359].
Микроскоп, на который ссылаются в доказательство, что в зародыше нет предопределенной формы, столь же мало открывает нам движение, способное произвести будущую форму. В простой клеточке нет даже присущего различным частям организма неравенства роста, на которое напирают защитники этого взгляда и из которого они стараются вывести особенности типа. Все это явления позднейшие. Первое же движение оплодотворенного зародыша состоят в том, что клеточка делится и таким образом производит другие, себе подобные, и это движение совершенно одинаково у всех животных. Позднее, когда этот процесс совершился и происшедшая от одной клеточки масса распалась на два листика, у позвоночных животных внезапно появляется желобок, который затем к одному концу расширяется, после чего в этом расширении появляются три утолщения, все явления новые, для которых предшествующее развитие готовило только материал и которые сами по себе не имеют никакого смысла, а объясняются лишь тем, что из них со временем должны образоваться спинной хребет и головной мозг. Очевидно, что движение, ведущее к форме, равно как и самая форма, содержится в зародыше не в действительности, а в возможности, подобно тому как и всякая не проявившаяся еще сила содержит в себе будущее свое действие. Эти логические категории возможности и действительности (δΰναμια, ενέργεια, potentia, actus) давным-давно установлены философиею как необходимые способы понимания вещей. Они до такой степени присущи нашему разуму, что даже философы, которые придерживаются опытной методы, когда они говорят о силах, признают, что мы должны представлять их не иначе, как в форме напряжений, хотя они вместе с тем сознаются, что с точки зрения чистого опыта подобное представление лишено смысла[360]. И точно, возможное не подлежит опыту, оно раскрывается только разуму.
Но в отличие от других сил в зародыше нам представляется сила, действующая целесообразно. Это фактически доказывается тем, что она производит целесообразную форму, результат, который может быть достигнут только целесообразно действующею силою. Цель состоит в воспроизведении типа, снабженного всеми органами, необходимыми для существования, и эту задачу заключающаяся в зародыше сила исполняет постепенно, употребляя как средство находящийся в ее распоряжении материал и подчиняясь законам, которыми управляется этот материал. Сила бессознательно действует так же, как человек действует сознательно, когда он осуществляет известную цель: поэтому мы должны признать, что она проникнута разумом. Это то, что Аристотель называл разумом, присущим вещам. В общежитии подобная сила называется душою. Но цель, к которой она стремится, не есть цель внешняя, а внутренняя; она состоит в осуществлении собственной ее природы, которая вначале находится в состоянии возможности, а в конце должна явиться как действительность. В этом и состоит существо развития. Этим объясняется, почему истинная природа вещи является только в конце, а также почему родительские свойства воспроизводятся иногда в позднее время. Все это факты, но факты, которые совершенно совпадают с выводами философии и объясняются только ею. На этих началах еще Аристотель строил свою систему, а новейший идеализм развил их с удивительным блеском и последовательностью. С другой стороны, так понимают развитие и величайшие естествоиспытатели. Знаменитейший из эмбриологов, фон Бэр, в предсмертном сочинении провозгласил стремление к цели неотъемлемою принадлежностью всякого организма[361]. Эти истины отвергаются только современным реализмом, который в своей односторонности, будучи не в состоянии объяснить явления, намеренно отвертывается от них или хватается за объяснения, одинаково противоречащие логике и фактам. Для низшего понимания душа есть явление тела, для высшего понимания тело есть явление души.
Механическое воззрение на развитие приводит Спенсера и к механическому объяснению постепенного совершенствования организмов в царстве природы. Несмотря на то что он наследственность объявил таинственным началом и признал, что эволюция организма только частью объясняется умножением следствий, он решительно заявляет, что весь последовательный ряд органических форм есть создание окружающих сил (§ 152, 159). Производя всякого рода перемены по закону умножения следствий, эти силы между прочим производят и такие, которые делают организм более способным к жизни в окружающей среде. Эти более приспособленные особи вследствие своего преимущества переживают других и передают свои свойства потомству. Отсюда прогресс, который однако может сделаться и попятным движением, как скоро условия жизни требуют не высших, а низших способностей. Это именно оказывается у паразитов.
Таким образом, внутренней силе, проявляющейся в наследственности, предоставляется лишь воспроизводить то, что создано силою внешнею. Но так как следующие непрерывною нитью произведение и воспроизведение органических форм логически должны быть признаны действием одной и той же силы, то подобное воззрение, не имеющее за себя ни единого факта, очевидно грешит и против логики. Необходимость признать наследственность посредствующим звеном органического развития уничтожает всякую возможность приписать его действию внешних сил.
Ниже мы возвратимся к этому учению, занимающему столь видное место в современном умственном движении; теперь же посмотрим на третью изобретенную Спенсером причину разнообразия, именно на происходящее от внешних причин выделение однородного, чем сообщается определенность различиям. И это начало столь же мало выдерживает критику, как и предыдущие. Если мы взглянем на приведенные Спенсером примеры действия ветра и воды, то мы увидим, что тут столь же часто происходит смешение разнородного. Вихрь самые разнообразные предметы сваливает в кучу, то же делает наводнение. Вода, растворяя различные вещества, вместе с тем производит смешение растворенного. С другой стороны, если мы обратимся к различиям органического строения, то мы легко убедимся, что разнообразие органов состоит вовсе не в том, что однородные частицы соединяются с однородными и становятся особо. Анаксагор мог таким образом объяснять строение вселенной, но современной науке совершенно известно, что руки, ноги, туловище и голова животного состоят из одних и тех же тканей, которые получают только разное устройство вследствие различия отправлений, к которым предназначены органы. Известно также, что кровеносная и нервная системы распространены по всем частям тела, так что ссылаться на механическое отделение однородного для объяснения определенности органических различий по меньшей мере странно. Очевидно, что существующая в организме определенность различий имеет иную причину, которую надобно искать внутри, а не вне его.
Тем же внешним причинам, которые производят эволюцию, Спенсер приписывает и ее прекращение. Всякое движение, говорит он, встречает сопротивление, на одоление которого употребляется сила, а так как сопротивление действует постоянно, то сила постепенно истощается, и рано или поздно движение должно прекратиться (§ 176). Это конечное равновесие составляет последовательный результат всей предшествующей эволюции; жизнь — ничто иное, как постепенная потеря движения, а потому полное прекращение движения представляется достижением цели, высшею ступенью эволюции. Вследствие этого Спенсер называет постепенное уменьшение движения "прогрессом к равновесию" (§ 170). При всем том он не решается признать смерть высшим венцом жизни. Таковым он считает состояние предсмертное, когда большая часть жизненных движений прекратилась и остается только общее круговорот-ное движение массы, которое, встречая наименее сопротивления, сохраняется, когда остальное уже исчезло. В приложении к человеческому роду Спенсер признает это предсмертное состояние периодом высшего блаженства. Люди потеряли уже все свои личные наклонности и желания и добровольно, без всякого внешнего принуждения вступают в круговорот общего движения. При таких условиях действие правительства, конечно, становится излишним. Свободе можно предоставить полный простор, ибо она даруется уже не живому существу, а умирающему, потерявшему все свои самобытные силы и ставшему страдательною частицею материи, увлекаемою общим движением.
О прелестях подобного состояния можно спорить, но прежде всего надобно спросить: каким образом оно вяжется с законами, управляющими эволюциею? Основной закон эволюции состоит, как мы видели, в постепенной интеграции материи с сопровождающею <ее> потерею движения. В этом процессе подвижное равновесие составляет предсмертный момент, когда вследствие постоянного действия внешних сил значительнейшая часть внутреннего движения уже потеряна; почему не этот момент вдруг получает устойчивость? Казалось бы, что чем более потеряно внутреннего движения, тем менее предмет может противостоять внешним влияниям, следовательно, и уравновесить последние и тем с большею быстротою он должен приближаться к смерти. Не видать также, почему тут должна прекратиться прогрессивная дифференциация, которую Спенсер выводит из вечного закона постоянства силы. Если под влиянием закона умножения следствий движения дробятся все более и более, пока наконец они <ни> делаются совершенно нечувствительными (§ 170), то каким образом возможно при этих условиях достигнуть равновесия? Если же, как говорит Спенсер, движения, встречающие наиболее сопротивления, исчезли, а остались только те, которые способны одолевать препятствия (§ 176), то прогрессивная дифференциация не составляет общего закона эволюции. В таком случае равновесие достигается уменьшением различий и приближением к однообразию. Но тут, с другой стороны, мы встречаем закон неустойчивости однородного. Или мы должны отказаться от этого закона, и тогда не будет эволюции, или мы должны его признать, и тогда не будет равновесия.
При постоянном действии внешних сил равновесие достижимо только в одном случае, именно, если теряющиеся силы будут постоянно возобновляться из той самой среды, которая их разрушает. Это то, что Спенсер называет зависимым равновесием. Примером служат животные, которые восприятием пищи постоянно возобновляют утраченные силы. Но здесь не видать, почему равновесие может когда-либо прекратиться. Если животное посредством пищи постоянно восстановляет утраченное им внутреннее движение, то почему же в первый период его существования это извне приходящее движение дает избыток, который идет на рост, в следующий период оно только уравновешивает утраченное движение, а под конец оно не в состоянии даже восстановить потерянное? Очевидно, что и тут мы должны признать внутреннюю силу, которая независимо от воспринимаемой пищи имеет свои периоды возрастания и упадка, периоды, которые столь же мало, как и наследственность, объясняются выведенными Спенсером законами.
Наконец, всего менее понятие о подвижном равновесии прилагается к развитию человеческих обществ. Неподвижность целого при однообразном круговороте внутренней жизни есть состояние, в котором находятся многие народы, но никак нельзя сказать, чтобы оно было признаком высшего развития, и еще менее, чтобы это было состояние полного блаженства и свобода. Ни быт диких племен, ни восточный деспотизм, ни устройство каст к этому понятию не подходят. История представляет также примеры народов, которые умерли более от внутреннего расслабления, нежели от внешнего напора, но едва ли их предсмертное состояние может в ком-либо возбудить зависть. Вообще, подведение идеала человеческого развития под одну категорию с круговращением шара и обращением волчка составляет одну из самых смелых и оригинальных мыслей современной философии, но трудно приписать ей научное значение. Она, скорее, даже похожа на бред больного, нежели на произведение зрелого ума.
Таким образом, знаменитейшая в наше время теория эволюции, построенная на реалистических началах, при ближайшем рассмотрении оказывается только сплетением несообразностей. Задача поставлена мировая, но Спенсер не в состоянии был объяснить даже малейшую ее частицу. И жизнь и смерть, и процветание и упадок равно им не поняты, ибо нет возможности объяснить действие внутреннего, живого, духовного начала движением внешних, механических сил. Учение Спенсера служит только знаменьем времени; оно обозначает то печальное состояние человеческого ума, когда мысль, вместо того чтобы поднять глаза к небу, зарывается в землю и старается вывести самые высокие явления из самых низменных причин.
Тем же механическим взглядом на вещи страдает и другое современное учение, в некотором отношении сродное с системою Спенсера, но имевшее еще большее влияние на умы, учение, которое зародилось в среде естествознания, но которое приверженцы его стараются приложить и к развитию человечества. Я говорю о теории Дарвина.
Сущность этой теории известна. В отличие от Спенсера, Дарвин приписывает весьма небольшое значение прямому действию внешних сил. Но он признает известную изменчивость организма как факт, удостоверяемый искусственным подбором, с помощью которого человек развивает в домашних животных нужные ему качества. Такого же рода подбор, но производимый естественным путем, Дарвин отыскивает и в природе. Здесь вследствие стремления органических существ к безмерному размножению повсюду кипит борьба за существование. Огромное большинство организмов погибает, остаются только те, которые способнее других выдержать борьбу: они по закону наследственности передают свои свойства потомкам. Поэтому если в силу изменчивости организма в какой-либо органической особи явилось качество для нее полезное, помогающее ей выдержать борьбу за существование, то это качество сохраняется и упрочивается в следующих поколениях. А так как этот процесс продолжается беспрерывно, то отсюда медленно, путем незаметных переходов происходит постепенное совершенствование организмов. Можно даже предположить, что все организмы таким путем развились из простейших форм, в течении тысячей веков накопляя полезные признаки и передавая их своим потомкам.
Последователи Дарвина развили эту теорию в чисто механическое миросозерцание. Они возвестили как несомненную истину, что все в мире совершается действием физических и химических сил, которые с помощью приспособления и наследственности и под влиянием борьбы за существование постепенно ведут организмы к большему и большему совершенствованию. С своей стороны социологи не преминули воспользоваться этим воззрением для своих целей. Ланге провозгласил борьбу за существование основным законом истории, Шеффле старался на этом начале построить целую теорию исторического развития.
Все это учение, по общему признанию, имеет только значение гипотезы. Фактических доказательств тут нет и не может быть. Действительного превращения одной породы животных в другую никто никогда не видал, для того чтобы подобное превращение совершилось, как признают сами последователи этой теории, нужны тысячи и даже сотни тысяч лет. Все, следовательно, ограничивается логическим построением, а потому эта система может держаться лишь настолько, насколько она соответствует строгим требованиям логики. Но именно этого соответствия мы в ней не видим.
Прежде всего нельзя не заметить, что весь процесс развития представляется здесь произведением случайности. Ланге с торжеством заявляет, что новейшей науке удалось доказать то, что предчувствовали некоторые из древних философов, именно, что целесообразное устроение вещей может быть делом случая. В силу борьбы за существование только целесообразное способно сохраняться и воспроизводиться. Если представить себе природу слепо творящею, то все же через бесконечно великие промежутки времени целесообразное, несмотря на свою редкость, получит перевес. Эта идея, говорит Ланге, разом полагает конец всем выводам, которые делаются из целесообразности творения; чтобы опровергнуть их, достаточно простого замечания, что если бы это творение не было целесообразно, то его бы вовсе не было[362]. Однако тут же, в следующей фразе Ланге прибавляет: "…мы ежедневно еще видим нецелесообразное рядом с целесообразным и рядом с здоровым больное и неспособное к жизни, а что в этом отношении могло существовать прежде в еще больших размерах и что не могло сохраниться, того мы не знаем". Оказывается, следовательно, что нецелесообразное может существовать даже рядом с целесообразным, почему же оно не может существовать одно? Ничто не мешает нам представить себе мир в виде полнейшего хаоса. Пускай нецелесообразное непрочно, оно заменится другим таковым же. Целесообразного из этого все-таки не выйдет, ибо целесообразное предполагает цель и силу, ведущую к цели. Люди, не привыкшие к точному мышлению, воображают, что, нагромоздивши миллионы на миллионы веков, дело решается само собою. Но это значит вместо мысли пробавляться воображением. Если устранена причина, ведущая к цели, то никакое течение времени ее не заменит. Для того чтобы целесообразное строение, хотя бы в малейших размерах, могло проявиться в организме, надобно, чтобы последнему присуща была сила, производящая это целесообразное строение. Зародыш глаза может явиться только там, где есть стремление к созданию глаза. Еще яснее это обнаруживается на произведениях человека, к которым эта теория равно приложима, ибо если случай может сделать то же самое, что делает целесообразно действующая сила, то это одинаково относится к произведениям природы и к произведениям человека. По понятиям Ланге выходит, что, например, сочинения Шекспира могли бы через несколько миллионов лет появиться совсем отпечатанными, хотя бы никогда не существовали ни Шекспир, ни изобретатель книгопечатания, ни изобретатель бумаги, ни фабрикант, ни типографщики. Неизвестно откуда происшедшие буквы по воле случая сами когда-нибудь расположатся в требуемом порядке на неизвестно откуда явившихся листах. И это создание случая имело бы более шансов на продолжительное существование, нежели другие, ему подобные, ибо случайно появившиеся на свет люди, столь же случайно научившиеся английскому языку, бережно сохраняли бы эту книгу, тогда как бессмысленные сочетания букв оставлялись бы без внимания. Подобные выводы, логически вытекающие из принятых начал, обличают их несостоятельность. Если нет производящей причины, то никогда не будет и следствия, сколько бы веков ни повторялась игра случая.
Столь же противоречит требованиям мысли и прибежище к бесконечно-малым. Если известный результат представляется невозможным по существу дела, то нельзя вопрос разрешить тем, что это делается понемножку. А именно к такой аргументации прибегает Дарвин. Он прямо говорит, что предположение, будто глаз со всеми его изумительными приспособлениями сложился в силу естественного подбора, может показаться в высшей степени нелепым, но стоит предположить постепенность, и все объясняется очень легко[363]. На этом доводе держится вся его система. А между тем это чистый софизм. Этим способом можно доказать, например, что человек в состоянии поднимать горы. Стоит только приучать его понемножку, прибавляя песчинку к песчинке: при изменчивости организма и наследственной передаче приобретенных привычек, через несколько тысяч поколений он будет уже нести Монблан. В действительности постепенность — не что иное, как известный способ действия; результат же получается только тогда, когда есть причина, способная его произвести. Поэтому при объяснении явления надобно прежде всего исследовать свойства причины, постепенность же сама по себе ровно ничего не объясняет.
Точно так же и борьба за существование — не что иное, как известный способ действия, который сам по себе не способен служить объяснением явлений. Причина может произвести данный результат путем борьбы или без борьбы, сущность дела состоит в причине, а не в борьбе, которая сама по себе ничего не производит. Дарвин уверяет, что именно вследствие всеобщей борьбы за существование сохраняются лишь наиболее приспособленные к ней организмы. Но в таком случае должны бы были исчезнуть все низшие формы, а между тем они существуют рядом с высшими. Если они сохраняются, то значит, между ними и высшими борьбы нет, и тогда борьба не может быть признана всеобщим законом. Против этого нельзя возразить, как делает Дарвин, что существующие низшие формы и высшие так разошлись, что они могут жить рядом, не оспаривая друг у друга условий существования, тогда как промежуточные формы, приходя в ближайшее столкновение с высшими, скорее исчезают. В силу борьбы за существование прежде, нежели исчезли промежуточные формы, они должны были уничтожить низшие; если последние не уничтожились, то это опять означает, что борьбы не было и что тем и другим было достаточно просторно. Когда же затем вновь нарождающиеся высшие формы начинают теснить промежуточные, то последние в свою очередь должны теснить низшие, которые все-таки, по этому предположению, уничтожатся прежде, нежели непосредственно над ними стоящие и имеющие над ними превосходство в строении.
Борьба за существование не объясняет и превращения органов, которые, для того чтобы перейти из одного полезного состояния в другое, должны пройти через промежуточное бесполезное состояние, где носитель их будет находиться в худшем положении, нежели прежде. Так например, предполагают, что крыло птицы развилось из лапы пресмыкающегося. Очевидно, что для подобного превращения нужны сотни тысяч лет, в течение которых превращающийся орган не будет ни лапою, ни крылом, следовательно, не будет служить ни к чему. В борьбе за существование обладатель его, имея более несовершенные орудия, нежели другие, непременно погибнет, а потому крыло никогда не разовьется. Польза крыла может оказаться только в конце развития, а потому и здесь необходимо предположить целесообразно действующую силу, которая достигает своей цели не с помощью борьбы за существование, а напротив, несмотря на борьбу за существование. Последняя может служить только препятствием, ибо она ставит животное, находящееся в переходном состоянии, в невыгодные условия.
Даже первоначальное развитие органов при таком взгляде становится невозможным. Дарвинисты в доказательство своей теории ссылаются на зачаточные органы, которые, будучи бесполезными, объясняются лишь тем, что они суть унаследованные остатки прежде полезных органов. Но каковыми эти органы являются в конце, таковыми же они должны были быть и в начале, ибо все, по этой теории, развивается путем незаметных переходов от меньшего к большему. Если же они в самом начале, пока они находятся в зачаточном состоянии, бесполезны, а всякое развитие зависит от приносимой органом пользы, то почему же они развились? Возьмем, например, крылья насекомых. У многих жуков они находятся в зачаточном состоянии и не служат ни к чему. Это объясняется тем, что они недоразвились. Но, по гипотезе дарвинистов, они и в самом начале были таковыми; полезными они могли сделаться лишь тогда, когда они достигли достаточных размеров, чтобы служить летанию, то есть через сотни тысяч лет. Как же они могли развиваться? В борьбе за существование они никакой выгоды не приносили.
Дело в том, что во всяком развивающемся органе польза, им приносимая, то есть известное его отправление, так же как и полнота строения, от которой зависит это отправление, является не в начале, а в конце процесса. Если эта польза составляет только случайный результат предшествующего движения, то она представляется следствием, но тогда развитие не от нее зависит. Если же самый процесс определяется пользою, то есть если начало определяется концом, то подобное отношение носит название цели. В этом смысле можно сказать, что польза составляет главную пружину органического развития, но единственно как внутренняя цель, а не как механическая причина. Только при таком воззрении объясняются явления развития, только в силу этого начала самое развитие рода подчиняется тем же законам, которые управляют и развитием особи, ибо при этом только условии наследственность, составляющая необходимое звено в этой цепи, не идет вразрез с принятыми основаниями общего развития. В яйце развитие очевидно происходит не в силу борьбы за существование, в нем создаются органы, которые только в будущем сделаются полезными. Зачем же нам в развитии рода предполагать иные начала и законы, нежели в развитии особи? Это тем менее уместно, что мы развитие особи все-таки принуждены сделать посредствующим звеном в развитии рода. Если в одном случае все происходит без борьбы за существование, то к чему же она служит в другом?
Сами дарвинисты при построении основанной на трансформизме мировой системы отодвинули борьбу за существование на задний план. У Геккеля первенствующее значение получают приспособление и наследственность. С точки зрения отвлеченно логической это составляет, без сомнения, шаг вперед, ибо способ действия заменяется внутренними силами. Но, с другой стороны, нелепо выдавать приспособление и наследственность за чисто механические причины. Мы уже видели, что все значение наследственности заключается в воспроизведении типа, который составляет цель развития единичной особи. Что же касается до приспособления, то самое его название показывает, что тут есть отношение цели к средствам. Приспособление может быть двоякого рода: отрицательное и положительное. Отрицательное состоит в создании или в развитии различных способов защиты от угрожающих внешних влияний. Таков мех для защиты от холода, рога у животных, жидкость, которую испускают некоторые из них, когда они преследуются врагами. Положительное же приспособление состоит в создании или в развитии органов для пользования внешними условиями. Таковы глаз и ухо как органы зрения и слуха, желудок как орган пищеварения. В обоих случаях ясно, что не внешние влияния создают эти органы и орудия. Свет не производит глаза, звук не строит уха, пища не создает желудка, хищное животное не награждает другого рогами или жидкостью, которые служат для его отражения. Сам организм строит себе органы и орудия, которые имеют для него значение средств для достижения его целей. Но если тут есть средства и цель, то очевидно, что приспособление есть действие целесообразное, а не просто механическая причина. Если же мы скажем, что тут действуют одни механические причины, то это будет уже не приспособление как постоянное свойство организма, а просто игра природы. Следовательно, признавши приспособление и наследственность движущими причинами органического развития, мы тем самым говорим, что источником развития служит присущая организму целесообразно действующая сила, идущая из поколения в поколение; но в таком случае к чему тут борьба за существование? Борьба может быть одним из способов действия этой силы; но если последняя обладает способностью к приспособлению, доходящею до создания самых сложных и совершенных орудий, то она может обойтись и без борьбы за существование. Необходимости тут не видать. С этой точки зрения, развитие рода может совершаться по тому же самому закону, как и развитие особи, именно, действием внутренней движущей силы, стремящейся осуществить в действительности то, что содержится в ней как возможность. Внешние же условия служат ей только средством и материалом, которыми она пользуется, подчиняясь их законам, но которые собственному ее движению не дают закона.
В этом состоит истинная сторона теории дарвинистов. Если мы очистим это учение от узости и односторонности взгляда, низводящей его на степень чисто механического миросозерцания, то мы в результате найдем то самое начало, которое давно уже добыто умозрительною философией и к которому приводит нас с другой стороны изучение фактов. Закон наследственности несомненно удостоверяет нас, что единичная сила, проявляющаяся в органической особи, сама составляет частное проявление более общего начала.
Сила, которая передается преемственно и переходит из рода в род, в существе своем есть одна и та же сила. Вследствие этого она и воспроизводит постоянно один и тот же тип, хотя она проявляется в отдельных особях. Из этого ясно, что понятие об общей субстанции, живущей в отдельных особях, столь же мало может быть признано простым обобщением человеческого разума, как и понятие о единстве силы, превращающейся из одной формы в другую и переходящей через различные сочетания материальных частиц. А так как мы не только в рождающихся друг от друга поколениях, но и в разных родах и видах органических существ, не связанных между собою наследственным преемством, видим повторение одного и того же типического строения, так как и в целом ряде организмов мы замечаем постепенное совершенствование, то мы должны заключить, что в основании всех их лежит общее живое, творческое начало, которое дает материи все высшее и высшее строение, приготовляя ее к восприятию духа. Эта животворная сила в настоящее время та же самая, какою она была искони, ибо для сохранения бытия нужна та же сила, какая необходима и для того, чтобы дать вещи бытие; но создание новых форм прекратилось, потому что с появлением человека присущая органическому миру творческая сила исполнила свою задачу и осуществила то, что в ней заключалось. Дальнейшее движение предоставляется другой, высшей силе, духовной.
Из этого можно видеть, до какой степени с научной точки зрения допустимо существование мировой души, понятие, которое, как известно, лежит в основании некоторых идеалистических систем, все улетучивающих в начале конечной цели. Если, как сказано выше, мы душою называем силу, действующую по внутренней цели, то мы единую душу должны видеть лишь в органическом мире, который воздвигается над миром механических и химических сил как новое, высшее творение, носящее в себе самом начало развития, и который в свою очередь служит только приготовительною ступенью для появления совершенно иной силы, бесконечно возвышающейся над всем материальным миром, силы, имеющей своим содержанием само бесконечное, — для духа.
С переходом к духу мы вступаем уже в совершенно новую область. Хотя физически человек весьма мало отличается от других животных, но в духовном отношении между ними лежит целая бездна. В человеческих обществах господствуют начала неизвестные материальному миру: наука, искусство, религия, право, нравственность, политика. Человек, с одной стороны, покоряет своим целям внешнюю природу, с другой стороны, он возвышается разумом и чувством к абсолютному источнику всего сущего и сознает вечные законы, управляющие вселенною. Это и составляет содержание истории. Человеческий род подобно органической природе подлежит развитию; он также развивает свою сущность в ряде ступеней, идущих от низших форм к высшим; но сообразно с природою духа в этом процессе развиваются не материальные, а духовные начала, которыми и определяется весь последовательный ход истории.
И тут однако же, как и во всяком развитии, истинная природа развивающегося существа раскрывается не в начале, а в конце, она обнаруживается по мере осуществления ее во внешнем мире и перехода ее из возможности в действительность. В начале же духовная природа человека находится в скрытом состоянии, она погружена в материю, от которой она должна оторваться, чтобы проявить истинную свою сущность. Мы видели, что таково именно свойство всякого развития. Поэтому нет ничего превратнее, как сравнение низших ступеней человеческой жизни с высшими ступенями животного царства с целью доказать, что первая составляет лишь продолжение последнего. В этом обнаруживается только полное непонимание предмета. В зародыше человек даже ниже всякого животного: зародыш Шекспира, Рафаэля или Ньютона по физическому строению не может сравниться с вполне развившимся слизняком или насекомым; но в этой простой клеточке заключается возможность таких дивных созданий, которым вся материальная природа не представляет и тени подобия.
Поэтому и перенесение на историю тех законов развития, которые коренятся в свойствах материи, не имеет никакого смысла. Сюда принадлежит, между прочим, борьба за существование. Если в органическом мире это начало не может считаться движущею пружиною развития, то тем менее оно способно управлять историек" человечества. Дух развивается путем борьбы, и эта борьба нередко принимает материальный характер, ибо поприщем духа служит физический мир, но последний дает ему только материалы и орудия, а не управляющие начала. Движущую пружину развития духа надобно искать в том, что составляет собственную его природу, его отличительное свойство. Это свойство заключается в тех началах разума, которые, с одной стороны, связывают человека с Божеством, а с другой стороны, определяют всю его практическую деятельность. Их развитие составляет существенное содержание истории.
Это до такой степени верно, что даже те писатели, которые всего более толкуют о борьбе за существование, принуждены признать эти высшие начала главными двигателями исторического развития. "В то время, — говорит Ланге, — как растение бессознательно, а животное обыкновенно вполне повинуясь естественному инстинкту, страдательно покоряются этим законам природы, в человеке последнею ступенью этого естественного процесса совершенствования является способность подняться над его жестоким и бездушным механизмом, заменить слепо совершающееся устроение рассчитанною целесообразностью и с бесконечным сбережением страданий и смертных мучений достигнуть поступательного движения, которое идет быстрее, вернее и безостановочнее, нежели то, которое производят слепо властвующие законы природы посредством борьбы за существование"[364]. "Мы требуем для человека, — говорит он в другом месте, — иную природу, нежели та, которая принадлежит животным, и все великие усилия и стремления человечества имеют целью создать такое состояние, в котором живущий, наслаждаясь бытием, достигает возможного совершенства и не падает жертвою ни внезапного уничтожения, ни медленно грызущего зуба нищеты"[365].
Таким образом, провозглашая борьбу за существование общим законом природы и истории, защитники этого начала стараются избавить от него человечество. Таков обыкновенный прием современных мыслителей в отношении ко всем естественным законам. Ланге ограничился, впрочем, общими фразами, из которых никакой теории нельзя вывести. Подробнее развил это начало Шеффле, который борьбу за существование возвел в основной закон исторического развития, причем однако он до такой степени расширил это понятие, что оно теряет у него всякий смысл и обнаруживает только полную несостоятельность всей этой попытки.
Уже сам родоначальник этой теории, говоря о борьбе за существование, заявил, что он принимает этот термин в обширном и метафорическом значении. Но прилагая это начало к истории человечества, Дарвин заметил, что даже в обширном и метафорическом значении оно не объясняет множества явлений. Он признал, что у высоко образованных народов постоянный прогресс только в малой мере зависит от естественного подбора, ибо образованные народы не уничтожают друг друга, как дикие племена. У них главными двигателями развития являются хорошее воспитание, законы, обычаи, предания, симпатия, общественное мнение, все начала, не подходящие под понятие о борьбе за существование. Приводя это мнение, Шеффле упрекает Дарвина в том, что он подобными уступками подвергает опасности всю последовательность своего учения. Естественный подбор, по уверению Шеффле, заключает в себе все эти начала, а потому следовало бы сказать, что "прогресс и в цивилизации производится естественным подбором; но при ином, более широком сцеплении внешних условий существования и при деятельном влиянии высших телесных и духовных сил социальная борьба за существование переходит от истребительной войны к ненасильственному ведению спора и имеет последствием взаимно-полезное приспособление, образование общества, цивилизацию. Через это, — замечает Шеффле, — все эти явления общественного развития подводятся под закон подбора"[366]. Пожалуй, подводятся, но лишь тем, что понятие лишается смысла. Если мирное соглашение называть борьбою за существование, то чего нельзя подвести под это начало?
Сообразно с таким взглядом Шеффле признает, что социальный подбор, проистекающий из борьбы за существование, имеет свои особенности. Тут субъекты иные, нежели в животном царстве: борются не отдельные лица, а соединенные силы. Тут с самого начала "является факт общества, а с ним дары разума и речи, которыми обладает способный к цивилизации человек… Общество как целое выступает со всею своею мощью, чтобы регулировать борьбу за существование в интересах сохранения целого. Специфическим атрибутом человеческого ведения борьбы за существование служит установленный для нее посредством права и нравственности общественный порядок". Общежительный, а потому обладающий даром слова человек, продолжает Шеффле, ведет свою борьбу и особенным оружием, а именно, все более и более оружием духа. Здесь и цели и интересы иные, нежели в животном царстве: только на низших ступенях идет борьба за материальные потребности и за половые наклонности; с дальнейшим же развитием люди борются уже за избыток внешних благ, за честь, за власть, за превосходство знания и образования, за значение и за распространение идей, и чем выше цивилизация, тем более выступает эта борьба за высшие блага, между тем как пошлый характер борьбы за удовлетворение животных чувств отступает назад. Точно так же изменяется и форма борьбы: самоуправство и физическая сила заменяются обоюдным соглашением или решением третьих. Наконец, и результаты тут совершенно иные, нежели в животном царстве: проистекающая из борьбы за существование высшая цивилизация ведет к большему и большему общению людей; они становятся восполняющими друг друга членами всемирного общества, которое является высшим и последним продуктом необходимых законов развития (II, стр. 47–52).
Спрашивается: что же во всем этом есть общего с выведенным Дарвином законом естественного подбора, в силу которого при избытке производимых природою зародышей все слабейшие особи погибают и только сильнейшие остаются? Но несмотря на эти очевидные несообразности Шеффле храбро уверяет, что весь этот процесс в человеке, так же как и в животном царстве, имеет единственным источником стремление к самосохранению (II, стр. 28) и единственным результатом победу сильнейшего (стр. 56). Отсюда он выводит и право, и нравственность, и даже самую религию, в которой он видит "осадок" чувств, накопляемых борьбою за существование. Проистекающее из этой борьбы сознание человеческого несовершенства и неудовлетворенность существующим порождают, по его мнению, желание блаженства и единения с Божеством; они вызывают мысли "о вечном покое и вечном мире, о совершенствовании и святости, об искуплении и примирении, о воздаянии и суде, наконец, о вечном, блаженном общении с Богом" (IV, стр. 145–146). Чем же однако, спрашивает себя читатель, может быть не удовлетворён сильнейший, когда он всегда остается победителем, и от него зависит не только устроение человеческих дел, но и все направление мыслей и воли людей? И каким образом может понятие о Божестве родиться из стремления к самосохранению и вытекающей отсюда борьбы?
Разгадку этой задачи можно найти у самого Шеффле: громоздя противоречия на противоречия, он тут же сам себя обличает. Сказавши, что единственный источник совершенствования заключается в стремлении к самосохранению, он рядом с этим признает, что "ведущие к величайшему прогрессу приспособления принесены в мир бескорыстными идеалистами"; он заявляет, что "верность долгу и добродетель сохраняют многие существования на уровне способного к жизни приспособления" (II, стр. 194). Не одни животные побуждения и эгоизм, говорит он, но и "движущий вперед общественный дух" производит напряжения сил, имеющие последствием победу наиболее приспособленных (стр. 229). Борьба же. вызванная эгоизмом, ведет лишь к "усовершенствованию порожденных им дурных качеств". Шеффле прямо даже объявляет, что "внутренняя война является главною причиною и весьма общею формою общественного упадка и погибели. Искусства мошенничества, обмана, лизоблюдства, лести и клеветы, искажение общественного мнения и прав свободы, подкуп и софистика, раболепство и лицемерие, с одной стороны, жестокость и несправедливость, с другой, формально подвергаются подбору" (стр. 3–7). Вследствие этого война "часто становится источником попятного движения как для победителя, так и для побежденного" (стр. 250, 251). Она уничтожает именно лучшие силы (стр. 388). Победитель же нередко пользуется своею властью вовсе не для усовершенствования человеческого рода, а для извращения как права, так и морали. При таких условиях, говорит Шеффле, "само собою разумеется, что господствующий элемент, всплывающий кверху, будет вовсе не наиболее приспособленный и ценный. Производящая социальный подбор борьба за существование через это превращение отвлекается от своего совершенствующего направления и становится причиною упадка народов" (стр. 385).
Оказывается, следовательно, что естественный и мировой закон может быть отклонен от своего истинного назначения и обращен в противоположную сторону лукавством именно тех, кого он выдвигает вперед! Казалось бы, после этого трудно утверждать, что борьба за существование всегда дает победу "духовно сильнейшим и нравственно здоровейшим" элементам, и что естественный подбор сам собою ведет к совершенствованию человечества. И точно, несмотря на свои уверения, Шеффле признает, что могут быть даже весьма продолжительные периоды упадка, однако он надеется, что рано или поздно снова появятся условия, делающие возможным лучшее приспособление, и тогда опять начнется движение вверх. Поэтому, заключает он, историю человечества надобно представить себе в виде неравномерного прогресса, который лучше всего изображается кривою линиею, постоянно поднимающеюся, несмотря на многочисленные уклонения вниз (стр. 445–447).
В силу чего же однако можно ожидать возобновления прогресса, если основной закон развития, борьба за существование, к нему не ведет, а нередко производит совершенно обратное действие? Причины нет никакой, а потому и вера в совершенствование ни на чем не основана. Истинный источник этой веры лежит в идеальных стремлениях человека, но для того чтобы она могла осуществиться на деле, надобно прежде всего устранить именно борьбу за существование. Если бы действительно это начало играло в истории такую первенствующую роль, какую ему приписывают, то человечество не только не подвинулось бы вперед, а напротив, вечно осталось бы на степени животных. Это весьма ясно доказывается самим Шеффле, когда он говорит о развращающем действии междоусобной войны, которая истребляет лучшие силы и развивает именно самые дурные свойства людей. Чем ниже цель, за которую борются люди, тем ниже возбуждаемые борьбою страсти, а потому тем хуже будет результат. Борьба за существование ничего не может развить, кроме животных инстинктов. Значение борьбы зависит от той цели, за которую она ведется. Только прогрессивные цели способны дать прогрессивный характер и борьбе, из чего ясно, что развитие человечества определяется развитием целей, борьба же служит только средством.
Действительно, дух развивается путем борьбы, в этом состоит его сущность, ибо орудиями его являются свободные лица, которые в силу своей свободы неизбежно приходят в столкновение друг с другом. На это давно уже указала философия. Подобная борьба плодотворна и возвышает человека, ибо она ведется за духовные цели и преимущественно духовным оружием, хотя нередко употребляется и оружие материальное, вследствие того что дух осуществляет свои цели в материальном мире. В этой борьбе человек духовно крепнет и мужает, а потому подвигается вперед как в уразумении целей, так и в их осуществлении. Низводить же эту борьбу разумно-свободных существ на степень животной борьбы за существование, в которой сильнейший остается в живых, а остальные истребляются, значит совершенно не понимать существа духа и законов его развития. Это легкомысленное заимствование модной теории у обретающихся ныне в моде естественных наук составляет, можно сказать, одну из самых позорных страниц в истории современной мысли. Кроме чудовищных противоречий, она ничего не могла произвести.
В чем же состоят цели духа, которыми определяется его развитие? Сведенные к общему их началу, они состоят в раскрытии внутренней его природы, или совокупности его сил. Как и всякая развивающаяся сущность, дух осуществляет в действительности то, что заключается в нем в возможности. И если в органическом мире мы из преемственности поколений и последовательности органических типов могли заключить о единой, лежащей в основании их сущности, то в еще большей степени подобное заключение приложимо к духу. Здесь единство выражается явным образом в духовном общении людей, здесь и духовное наследие передается не только от одного поколения другому, но и от одних народов другим, как современным, так и позднейшим. То, что было добыто духовною деятельностью греков и римлян, служит для новых народов источником дальнейшего, высшего развития, сами же греки и римляне получили начало своей духовной жизни от мудрости восточных народов. Таким образом, несмотря на видимые перерывы вся история человечества представляет одно преемственное движение, управляемое общими законами и ведущее к одной цели, к раскрытию существа духа.
Это умственное общение, связывающее не только современников, но и отдаленнейшие поколения и народы, составляет отличительную черту духовного мира, самую сущность духовного естества. Источник его лежит в той коренной силе, которою человек отличается от животных, в разуме. Человек есть разумное существо и как таковое имеет язык, посредством которого он может сообщаться со всеми другими людьми. И хотя разнообразие духовных особенностей различных племен и народов, а равно окружающих их условий и степени их развития ведет к тому, что в человечестве господствует не один язык, а многие, однако все эти языки, будучи явлением единого разума, могут сделаться понятными для всех других и служить средствами духовного общения. Образованный человек способен вполне изучить и понимать язык диких, стоящих на самой низкой ступени умственной лестницы, но как бы он по физическому строению ни подходил близко к обезьянам, он ни в каком духовном общении с ними находиться не может. Между ними лежит непроходимая бездна.
Эта коренная сила духа составляет вместе с тем главную пружину исторического развития. В человеке развитие происходит не бессознательно, как в органическом царстве, а через посредство сознания. В этом отношении Огюст Конт был прав, когда он развитие разума поставил во главе всего исторического движения, хотя он по ограниченности своей точки зрения не в состоянии был понять законы этого движения. Несправедливо возражение Спенсера, что главными двигателями человеческого развития являются чувства, наклонности, интересы, а идеи служат им только путеводителями. Чувства, наклонности, интересы тогда только способны двигать человечество вперед, когда они проникнуты разумом и подчиняются его руководству. Путеводитель указывает, куда и как идти, он ставит или, во всяком случае, одобряет или осуждает цель, он изыскивает и средства. Без него все обратилось бы в хаотическое блуждание без всякого общего плана и без всякого исхода. Для разумного существа, каков человек, недостаточна одна внутренняя, целесообразно действующая сила, направляющая движение. В отличие от органической природы в духе эта внутренняя движущая сила возводится на степень сознания, по мере развития сознания она раскрывается в большей и большей полноте, давая для каждой последующей ступени ту идею, которая служит путеводною нитью живущим на ней поколениям. Значение разумных начал человеческого духа состоит именно в том, что они вносят свет в хаос борющихся сил и стремлений, которые тем самым становятся способными служить высшим целям человечества.
В своей чистоте, или в идеальной форме, эта разумная сторона человеческой природы, кроме языка, который служит орудием разума, выражается в науке, в искусстве, в религии. Во всех этих явлениях духа отражается двоякое присущее ему стремление, одно, обращенное к миру, другое, обращенное к Богу. С одной стороны, человек познает внешний мир и воспроизводит его в художественной форме, с другой стороны, он возвышается к абсолютному началу всего сущего, от которого происходят и разум, и жизнь, и природа. А так как единственно возведением мировых явлений к их верховному источнику является возможность связать их в единое, гармоническое целое, то познание абсолютного становится началом и концом всякого человеческого миросозерцания. От понятия, которое человек составляет себе об абсолютном, зависит все его воззрение на относительное. Отсюда проистекают и те идеи, которые служат ему путеводителями в жизни. Вследствие этого развитие идеи абсолютного в человеческом сознании представляет умозрительное изображение всего хода человеческой истории.
Это развитие совершается в двоякой форме, религиозной и философской. Религиозное миросозерцание представляет собою установившуюся систему человеческого сознания, когда принявшая определенную и прочную форму идея Божества охватывает всю человеческую душу и становится для нее источником духовной жизни и деятельности. Философское сознание, напротив, составляет прогрессивное начало исторической жизни. Оно представляет движение от одной установившейся системы к другой посредством постоянной смены вытекающих друг из друга понятий и направлений мысли. Господством религии характеризуются синтетические эпохи всемирной истории, преобладанием философии — эпохи аналитические. И те и другие равно составляют принадлежность исторического развития; и если для людей, живущих в одной из них, состояние человеческого духа в другой представляется или отсталостью или упадком, то для научного взгляда, обнимающего все пройденное пространство, и те и другие образуют в своей совокупности одно стройное движение, управляемое единым законом и ведущее к одной верховной цели — к полному развитию и гармоническому соглашению всех элементов человеческого естества в связи как с природою, так и с Божеством[367].
Но эта умозрительная сторона исторического развития изображает его, можно сказать, в отвлечении. Этим оно не исчерпывается. Существо духа состоит не только в том, что он сознает и себя, и природу, и Божество: он сознанные им начала прилагает к жизни, из области сознания он переводит их в действительность. Эта вторая, практическая сторона духа имеет двоякую сферу деятельности: покорение природы и создание нравственного порядка.
Покорение природы целям человека составляет необходимое условие развития, ибо поприщем духа служит материальный мир. Это сторона, противоположная идеальному миросозерцанию: там все происходит в сфере чистой мысли или отвлеченного чувства, здесь, напротив, человек погружается в материю и действует как физическое существо на окружающую его физическую среду. Ближайшую цель этой деятельности составляет удовлетворение материальных потребностей, но покорение природы необходимо и для развития высших элементов духовной жизни. Гармоническое сочетание этих двух противоположных сторон человеческого естества, материальной и духовной, составляет именно конечную цель человеческого духа, который, будучи связан с плотью, стоит на границе двух миров и имеет задачею осуществить идеальные начала в материальной области, и наоборот, сделать материю изображением идеальных начал.
Исполнение этой задачи принадлежит человеку, не в отдельности взятому, а в союзе с другими. Только совокупными силами возможно покорить природу, и только в общении с другими развивается сознание высших начал. Поэтому правильно устроенное общежитие является необходимым условием духовного развития. Оно же вместе с тем составляет и высшую его цель, ибо в нем только осуществляется полное взаимное проникновение материи и разума: здесь идеальные начала из области сознания переходят в действительность и воплощаются в союзе единичных, материальных существ, связанных духовными целями. Общая субстанция духа получает здесь видимый образ.
Материальная сторона союза выражается в единичных особях. Но в лице человека материя перестает уже иметь чисто служебное значение. Она становится сосудом высшего начала, которое сообщает ей высшее достоинство. В единичном материальном существе живет разум, сознающий не только законы вселенной, но и абсолютное начало всего сущего, живет чувство, которое непосредственно связывает эту бренную особь с самим Божеством. Единичное существо, одаренное разумом, является носителем абсолютного, сосудом божественного. В этом именно состоит его человеческое достоинство, бесконечно возвышающее его над уровнем животных. В силу этого свойства и только в силу его человек никогда не может быть низведен на степень простого средства, а всегда является сам себе целью и должен быть признан таковым. Отсюда вытекает и то коренное начало, которое лежит в основании всей его деятельности, — свобода. Как носитель абсолютного человек является абсолютным началом своих действий. Всякое внешнее определение должно пройти через внутреннее самоопределение разумного существа, не связанного никакими частными побуждениями и способного возвыситься над всем относительным, к безусловному отрицанию, так же как и к безусловному положению. Это начало, вытекающее из самой глубины духа, составляет неотъемлемую принадлежность всякого существа, входящего в состав духовного мира. Мы находим здесь в конце, на высшей ступени духовного развития то, что было положено в основание всего нашего исследования.
Этим началом определяются и отношения человеческих особей как между собою, так и к тому целому, в состав которого они входят. Источником этих определений является опять разум, но уже не как отвлеченное сознание, а как деятель в действительном мире. Это и есть воля, высший элемент человеческой природы, высший однако же единственно тогда, когда он является новою формою разума, а не результатом слепых влечений. Последние, так же как и разум, служат источником человеческих действий, но это именно тот материальный элемент, который в самом человеке должен быть покорен духовному началу и действительно покоряется ему высшим развитием духа. Только приобщением своим к духу этот элемент получает высшее значение и право на признание своих требований. Только через это он может сделаться и орудием развития. Разумная воля подвигает человечество вперед, господство слепых влечений отодвигает его назад.
Коренное, неотъемлемое свойство разумной воли есть свобода, которая поэтому является определяющим началом всякого истинно-человеческого общежития. А так как отношение свободных воль есть то, что в обширном смысле называется отношением нравственным, то всякое человеческое общежитие изображает собою известный нравственный порядок. Различные стороны этого порядка суть право как выражение свободы личной и внешней, нравственность как выражение свободы внутренней, сознающей абсолютный закон, который связывает все разумно-свободные существа между собою, наконец, как высшее сочетание того и другого — те союзы, в которых осуществляется свобода общественная посредством соединения разумных существ в одно нравственно-юридическое целое, и тут однако же, как и во всяком развитии, истинная природа человека, а вместе и установление вполне разумного нравственного порядка, является не началом, а плодом исторического движения. В этом состоит высшая цель всемирной истории. Свобода постепенно вырабатывается из несвободы, составляющей закон материального мира.
Отсюда ясно, что никакой общественный идеал не мыслим иначе, как на почве свободы, это единственный порядок, совместный с существом духа. Субъективное начало, выражающееся в природе, свойствах и деятельности единичного лица, не может, конечно, считаться высшим в развитии духа; если дух составляет единую сущность, последовательно развивающуюся в целом раде поколений, то высшим выражением этой сущности может быть не отдельное лицо, а то, что связывает лица, то есть общий, объективный строй, в который отдельные лица входят как члены. Вследствие этого преходящее лицо считает высшим своим призванием служить отечеству или человечеству, и чем значительнее личность, тем более она посвящает себя этому служению. Но при всем том объективный строй в высшем своем значении не должен развиваться в ущерб самостоятельности отдельных лиц, ибо природа духа состоит в том, что он развивается путем сознания и свободы, а сознание и свобода принадлежат не объективной сущности, а субъективным единицам. В этом отношении лицо стоит выше общества и составляет для него цель. В этом заключается непреходящее значение индивидуализма. Дух потому именно завершает собою все мировое развитие, что в нем и целое и члены одинаково являются сосудами абсолютного. То начало, которое обыкновенно выставляется признаком организма, именно, что все его части взаимно друг для друга служат целью и средством, в духе проявляется в возвышенной степени. Здесь лицо, служа обществу как высшему целому, никогда не может быть низведено на степень простого средства, а всегда остается само себе целью и абсолютным началом своих действий. Соединение свободных лиц в едином общественном строе и разрешение этим путем самой упорной из мировых противоположностей, противоположности между абсолютною самостоятельностью, вытекающею из свободы лица, и абсолютными требованиями, вытекающими из существа объективного духа, такова задача духовного развития и высшая цель всемирной истории.
Эта задача разрешается тем, что создается ряд общественных союзов, в которые свобода входит как составное начало, проявляя в них различные свои стороны. На свободном соединении лиц основан уже первоначальный союз, указанный самою природою как источник физической преемственности поколений, союз семейный. Согласно с духовною природою человека здесь с естественною связью соединяется связь нравственная, которая дает первой более прочности и высшее значение. Однако духовное начало находится здесь еще под влиянием естественных определений. Взаимное влечение полов составляет данное природою основание союза, и такой же естественный характер носит связь между родителями и детьми. Ребенок не по своей воле вступает в семейный союз и не по своей воле состоит под опекою родителей. Союз не простирается далее тесного круга естественных уз и прекращается со смертью тех физических лиц, которые дали ему бытие. С расширением же родства установленная природою связь слабеет, и союз распадается. Лицо отрывается от своих естественных определений и становится самобытным источником силы и деятельности. Оно создает свой собственный мир общественных отношений, в которых оно само уже является определяющим началом. Это составляет вторую ступень общественного развития, ступень, на которой выступает начало субъективное. Сообразно с двоякою формою субъективной свободы, внешнею и внутреннею, из которых вытекают право и нравственность, эта ступень представляет противоположность двух союзов, гражданского общества, основанного на начале юридическом, и церкви, основанной на начале нравственно-религиозном. Но самая эта противоположность указывает на потребность высшего единства. Оно достигается тем, что субъективное начало в обеих своих формах, отвлеченно-общей и частной, как нравственное сознание и как личное требование, снова подчиняется началу объективному. Это последнее выражается в верховном союзе, в государстве, которое возвышается над остальными, но не поглощает их в себе, ибо поглощение было бы уничтожением самостоятельных сфер свободы, то есть отрицанием самой природы духа, которого государство является высшим видимым воплощением. И в государстве осуществляется свобода, но уже в новой форме, которая обозначает подчинение ее объективным определениям духа. Здесь свобода является уже не как абсолютное самоопределение лица, а как участие в совокупных решениях. На высшей ступени духовного развития, где объективное начало по необходимости становится владычествующим, субъективное сохраняет свое значение как часть, живущая общею жизнью с целым. Идеалом государства может быть только свободное государство.
Таковы логические требования, вытекающие из самой природы духа, и таков же результат всемирно-исторического развития человечества. Это развитие идет от первоначального единства к раздвоению, после чего оно снова от раздвоения возвращается к высшему единству, сохраняя однако относительную самостоятельность выделившихся элементов. В истории это движение обозначается в ясных чертах.
Первоначальное единство означает нераздельность союзов, образующих человеческое общежитие. На низшей ступени господствует союз кровный. Но как скоро человечество выходит из первобытной дикости и вступает на историческое поприще, так выдвигаются один за другим и все остальные союзы, завершаясь высшим из них, государством. Все это однако находится еще в состоянии безразличия. Государство непосредственно сливается и с религиозным обществом и с гражданским, самые кровные союзы входят в него как составной элемент. Эта первоначальная слитность всех сторон общественной жизни характеризует весь древний мир, хотя в различные периоды развития перевес склоняется то на сторону одного союза, то на сторону другого. За господством родового начала в первобытные времена следует владычество теократии, которая налагает свою печать и на самое государство. Позднее последнее выступает с своим преимущественно светским значением, и тогда религия, так же как и вся частная жизнь, становятся к нему в служебное отношение. В классических государствах появляется и свобода, но свобода не частная, а политическая. Гражданин весь принадлежит государству и живет единственно для него, частные же его потребности удовлетворяются рабством. Но так как частные интересы составляют неотъемлемую принадлежность человеческой природы, то рано или поздно они выступают на сцену, и тогда начинается разложение не признающего их порядка. С развитием общественной жизни неизбежно является различие богатых и бедных, а вместе с тем и борьба между ними за власть, борьба, которая на почве рабства не имеет исхода, ибо тут закрыт источник самодеятельности, который один дает человеку возможность возвышаться по общественной лестнице. Древний гражданин мог обращаться с своими требованиями только к государству, а так как последнее с своей стороны не в состоянии было их удовлетворить, ибо государство личной самодеятельности заменить не может, то подобный общественный быт по самой своей природе обречен был на падение. Это падение ускоряется столкновениями с другими народами, вторжение чуждых элементов разлагает цельность народного духа, которою сдерживалось развитие частных интересов. Таким образом, здесь образуется двоякое течение, которое ведет к развитию противоположных начал человеческого естества, а вместе и человеческой свободы: с одной стороны, развитие материальных интересов влечет за собою большее и большее обособление личности в ее частной сфере, с другой стороны, развитие умственное, расширяя узкую рамку народных воззрений, приготовляет появление общечеловеческого, чисто нравственного начала. Во времена Римской Империи, на последней ступени развития древнего мира, это двоякое течение обозначилось весьма ясно. С одной стороны, под влиянием римских юристов развивается частное право, с другой стороны, все более растет и крепнет выделяющаяся из государства христианская церковь. Подверженное этому двоякому разлагающему течению, древнее государство наконец рушилось, и на развалинах его воздвигся новый, средневековой порядок.
Этот порядок представляет совершенную противоположность древнему. Вместо единства здесь господствует раздвоение. Государство как цельный организм народной жизни перестало существовать. Что сохранилось из преданий Римской Империи, то преобразилось в идею всемирной власти, отчасти с нравственно-религиозным, отчасти с феодальным характером. В первом отношении светская власть более или менее подчинялась церкви, во втором она стояла во главе гражданского общества. Эти два противоположные союза воздвигаются на развалинах разложившегося государства: с одной стороны, церковь, основанная на нравственно-религиозном начале и во имя этого начала заявляющая притязание на абсолютное нравственное господство в светской области, с другой стороны, гражданское общество, основанное на частном праве, а потому внутри себя дробящееся до бесконечности. При такой системе государственное право поглощается частным, общественные должности принимают характер собственности, вместо общего права везде являются отдельно приобретаемые и охраняемые вольности и привилегии. О государственном подданстве нет уже помину: вольный человек не считает себя никому подвластным и вступает в обязательства только на основании свободного договора, состоящий же в постоянном подчинении находится в частной зависимости под той или другою формою. Все средневековые европейские общества, восточные и западные, несмотря на различие внутреннего устройства, носят на себе один общий тип.
Такое одностороннее развитие крайностей не могло однако породить ничего, кроме внутренних противоречий и беспрерывной борьбы. По своей идее церковь как носительница нравственно-религиозного начала должна была служить убежищем внутренней свободы человека. Таковою она и являлась в первую эпоху развития христианства. Именно она выше всего подняла нравственное достоинство человеческой личности, провозглашая связь ее с Божеством и вечное ее назначение, независимое от разнообразных условий земной жизни. Но мы заметили уже, что одностороннее развитие внутренней свободы ведет к отрицанию свободы внешней, а вследствие того наконец и к отрицанию самой себя. Средневековая церковь тем легче могла идти по этому пути, что она заступала место государства, а через это отчасти приняла на себя его характер. Вследствие этого нравственно-религиозное начало получает юридическое значение и становится принудительным. Свобода совести изгоняется, человек под страхом смерти обязан верить в свое бесконечное достоинство и в свое вечное спасение.
С другой стороны, свобода внешняя без высшего, сдерживающего ее закона точно так же сама себе противоречит, ибо безграничная свобода одного приходит в столкновение с таковою же свободою других. При отсутствии власти, которой все безусловно должны подчиняться, борьба решается силою, и тогда слабейший покоряется сильнейшему. Отсюда нескончаемая цепь частной зависимости в разнообразнейших формах, которая опутывает весь средневековой порядок. Там же, где человек довольно силен, чтобы отстоять свою самостоятельность, неизбежно является непрестанная война. Средневековая история наполнена внутренними междоусобиями, которые составляют характеристическую ее черту.
Ко всему этому присоединяется, наконец, борьба между двумя противоположными обществами, светским и церковным, борьба, которая на Западе принимает характер мировой борьбы между папами и императорами. Средневековая жизнь протекла среди этих противоречий и столкновений, которым внутри ее не было исхода.
Исход мог быть только один: надобно было над противоположными союзами, осуществляющими в себе крайние элементы общежития, воздвигнуть новый, высший союз, представляющий общественное единство и сдерживающий противоборствующие стремления, то есть надобно было восстановить разложившееся государство. Это и было совершено историею. На заре нового времени из среды дробных средневековых сил, поддержанная церковью, возникает новая государственная власть, которая мало-помалу сводит к единству стремящиеся врозь элементы, укрощает борьбу, ставит каждого на свое место, отнимая у него то, что ему не принадлежит, и таким образом водворяет внутренний мир и порядок, составляющие необходимые условия правильной гражданской свободы. В этом состоит исторический процесс нового времени. Это было возвращение к древности, но возвращение уже на иной почве и при иных условиях. Единство не поглощает уже в себе различий, верховный союз воздвигается над другими, оставляя им должную самостоятельность, каждому в своей области, и подчиняя их только высшим требованиям целого. Через это достигается полнота жизни и согласное действие частей. Каждый элемент получает все то развитие, которое совместно с существованием других, он остается вполне самостоятельным в своей сфере, но восполняется другими, где нужно, и подчиняется общему порядку.
Таков общий ход истории. В нем выражается тот мировой диалектический закон, который управляет разумом во всех его проявлениях. Везде развитие исходит от первобытного единства, разбивается на противоположности и затем опять идет от противоположностей к высшему единству. Первобытное единство представляет то состояние слитности, в котором разнообразные определения предмета не получили еще раздельного бытия. Развитие противоположностей состоит в выделении и противоположении основных элементов, присущих природе вещей и в особенности природе разумного существа, именно отвлеченно-общего и частного. Наконец, высшее единство завершает собою процесс, не простым возвращением к первоначальной слитности, а восстановлением единства при сохранении относительной самостоятельности противоположностей. Этим достигается, с одной стороны, полнота, а с другой, гармония всех определений.
Высшее единство жизни и гармоническое соглашение всех ее элементов не установляются однако разом. И тут, как и во всяком историческом развитии, происходит медленный процесс созидания, проходящий через различные ступени. Шаг за шагом строится здание нового государства и вырабатываются различные его элементы, сначала власть, первейший из всех, к которому примыкают остальные, затем закон и свобода, наконец, государственная цель, или идея, совокупляющая разъединенные части в одно стройное целое. И после того, как долгою и упорною историческою борьбою создана политическая форма, остается еще разрешение другой задачи — определение отношения этой формы к содержанию, то есть к живущим под нею разнообразным общественным силам.
Эта задача ставится уже с самого возникновения государственного порядка и получает то или другое решение сообразно с историческим изменением политических начал и жизненных потребностей. На первых порах, пока юному государству приходилось бороться с средневековыми стихиями, отбирать у них то, что им не принадлежало, и создавать новый порядок вещей, оно должно было вмешиваться во все и всему давать направление. Усиление власти было насущною потребностью общества. Но по мере того, как прекращалось острое состояние борьбы и установлялся новый жизненный строй, в котором общественные силы могли развиваться мирно, не уничтожая друг друга, явилось совершенно обратное стремление к возможно большему ограничению государственной деятельности и к предоставлению самого широкого простора свободе. Это направление формулировалось сначала в теории, а затем перешло и в практику. Последствием его было уничтожение множества стеснений и значительное расширение частной деятельности, перед которою открылись все поприща. Вместе с тем с развитием политической свободы получившие голос общественные силы настойчивее выступили с своими требованиями и стремлениями. Но по мере того, как общество приобретало самостоятельность, в нем самом все более и более обнаруживалась противоположность, которая повела к новой борьбе. Мы видели, что двоякая общественная деятельность, умственная и материальная, влечет за собою образование классов, высших и низших. Первые, обеспеченные материально, предаются умственной работе, вторые добывают себе пропитание физическим трудом. Отсюда противоположность интересов, которой последствием при развитии свободы является борьба. В этом именно заключается характеристическая черта нашего времени. А так как в этой борьбе верховный судья есть государство, то обе стороны обращаются к нему, одни за защитою, другие за удовлетворением их требований. Отсюда реакция в пользу расширения ведомства государственной власти. Социалисты в особенности ожидают от нее полного осуществления своих мечтаний. Самые умеренные из них видят в этом историческую необходимость. Ссылаются на раскрывающийся в истории "закон возрастающего расширения государственной деятельности", утверждают, что развитие человеческих обществ неудержимо ведет к осуществлению требований социализма и что рано или поздно, хотя может быть и через весьма отдаленное время, человечество непременно к этому придет.
Из предыдущего ясно, что этот мнимый "закон возрастающего расширения государственной деятельности" вовсе не оправдывается историею. В древности государство имело несравненно большее значение, нежели в новое время, и два века тому назад сфера его деятельности была шире, нежели в настоящую пору. Адольф Вагнер, который хочет вывести этот закон сравнительно-историческим путем, хотя при этом он никаких фактических сравнений не делает, ссылается в доказательство на постоянное увеличение государственных смет и расходов, увеличение, которое вызывается не только военными потребностями, но и осложнением внутреннего управления[368]. Нет сомнения, что с развитием жизни и с умножением и усовершенствованием средств деятельность государства в собственной его сфере принимает все большие размеры, но вопрос состоит не в этом, а в том, действительно ли эта деятельность расширяется на счет деятельности частных лиц и союзов и точно ли государственная опека становится все более и более захватывающею и вглубь и вширь? На этот вопрос можно дать только отрицательный ответ. Сам Вагнер признает, что в области промышленного производства "можно усмотреть совершенно противоположный ход развития. Земля, — говорит он, — все более и более и притом вследствие внутренних причин, связанных с возрастающею интенсивностью хозяйства, переходит в частные руки, а с тем вместе и в полную частную собственность. Ремесла, фабрики, торговые обороты почти исключительно ведаются частными хозяйствами. Самое финансовое управление получает свои доходы все менее и менее хозяйственным способом, а главным образом посредством податей; точно так же и реальная потребность государства в известных материальных предметах, например для военной силы, весьма часто удовлетворяется уже не собственною его деятельностью, а покупкою от других производителей на деньги, полученные путем налогов. Из такого рода наблюдений, — замечает Вагнер, — выводили даже иногда закон уменьшающейся государственной деятельности в развитом народе" (§ 176).
К этому надобно прибавить совершенно изменившееся отношение государства к частной промышленности. В XVII веке под влиянием меркантильной системы государство определяло и орудия, и образцы, и цену произведений, регламентация доходила до мельчайших подробностей, в настоящее время обо всем этом нет и помину. Свобода расширилась не только на счет правительственной опеки, но и на счет тех мелких общественных союзов, которые в прежнее время были столь же стеснительны для частной предприимчивости, как и самое вмешательство государства. С падением цехового устройства личная самодеятельность получила безграничный простор. И если с умножением средств государственная деятельность в принадлежащей ей области постоянно возрастает, то с своей стороны частная деятельность приобретает такие исполинские размеры, как никогда прежде. Ныне частные компании совершают предприятия, о которых государства не только в прежнее время, но и в настоящее не смеют даже мечтать. Достаточно вспомнить прорытие Суэцкого перешейка. И после всего этого возможно ли говорить об историческом законе "возрастающего расширения государственной деятельности" и на нем основывать какие бы то ни было выводы?
Вагнер уверяет однако, что все это касается исключительно промышленного производства. "Во всех других областях, — говорит он, — стремление к экстенсивному и интенсивному усиленно государственной деятельности обнаруживается совершенно несомненным образом" (§ 177). Так ли это? Точно ли государственная опека над умственною деятельностью граждан принимает все большие размеры? Точно ли с развитием жизни все более и более стесняются свобода мысли, свобода совести, свобода преподавания? Точно ли новое государство все более и более вмешивается в дела церкви? Достаточно, кажется, поставить эти вопросы, чтобы получить на них ответы. Весь этот мнимо-исторический "закон возрастающего расширения государственной деятельности", которым думают подкрепить требования социализма, при ближайшем рассмотрении оказывается мифом. И это, в сущности, признается самими защитниками этой теории. Характеристическою чертою новейшего времени они считают господство индивидуализма, против которого они ратуют, выдавая его за преходящую историческую категорию; но что такое индивидуализм, как не начало личной свободы? Если это начало именно в новейшее время сделалось преобладающим, то никак нельзя рядом с этим утверждать, что оно движением истории и развитием жизни все более и более стесняется.
Если же прошедшее не дает нам ни малейшего ручательства за возможность осуществления социалистических требований, то на каком основании можем мы ожидать этого осуществления в будущем, хотя бы самом отдаленном? Будущее приготовляется прошедшим, ибо оно составляет плод того самого процесса, который совершается в историческом движении. В настоящем, прошедшем и будущем развивается единая духовная сущность, которая постепенно раскрывает внутреннюю свою природу. Поэтому невозможно предполагать, что когда-нибудь человечество изобретет нечто такое, чего никогда еще не бывало. Легкомысленно повторяемое социалистами кафедры выражение Книса, что человечество не всегда же осуждено быть обезьяною, есть отрицание истории и ее законов. Обезьяна подражает другим, человечество же, как и всякое существо, неизбежно всегда подражает себе, ибо оно от собственной природы отрешиться не может. Подобно тому, как в зародыше позвоночного животного с первых ступеней обозначаются уже позвоночный столб и голова, которые с дальнейшим развитием приобретают все более и более определенные формы, в человеческом роде прошедшим намечается будущее, и каждый последующий шаг, составляя звено единой, непрерывной цепи, все глубже и полнее раскрывает то, что лежит в существе духа. А так как весь этот процесс представляет развитие собственной природы человека, то это предварительное обозначение пути, эта зависимость будущего от прошедшего, никогда не может быть для него стеснением. Именно в этих формах и в этом движении проявляется бесконечная его сущность. Напротив, осуществление социалистических мечтаний, будучи отрицанием истории, было бы вместе с тем отрицанием развивающейся в ней человеческой природы. Социализмом уничтожается именно высшее свойство этой природы, то, что неотъемлемо принадлежит духу и что составляет главную движущую пружину исторического развития, — свобода. И умозрение и опыт, и философия и история, и внутренний голос человека и внешнее течение событий равно убеждают нас, что будущее совершенствование человечества возможно только на почве свободы, а потому мы на основании всех имеющихся у нас данных должны признать социалистические требования неосуществимыми.
Социалисты, которые знают, чего хотят, вовсе и не думают полагаться на историческое развитие и утешать своих последователей тем, что когда-нибудь медленным, но неотразимым ходом событий исполнится то, чего они желают. Они понимают, что осуществление их мечтаний никогда не может быть плодом развития существующего порядка. Чтобы достигнуть своей цели, они должны предварительно все разрушить, а затем все начать сызнова по совершенно новому плану. Отсюда проповедь всеобщего разрушения, которая составляет крайнее, но последовательное развитие социалистических начал. Но так как в стремлениях, имеющих целью земные блага, невозможно совершенно оторваться от земли и ее порядков, то и эта безумная теория думает опираться на историю. За отсутствием всяких положительных данных хватаются за отрицательные. Указывают на те революции, которые, уничтожив весь старый исторический строй, явились началом обновления человечества, ссылаются на то, что все великие идеи пролагали себе путь в мир не иначе, как посредством упорной борьбы и ценою крови. Этими примерами стараются оправдать самые фантастические требования и самые хладнокровно рассчитанные злодеяния.
Подобный взгляд обличает только полное презрение к истории. Действительно, в судьбах народов совершаются иногда переломы, которые сопровождаются кровавыми событиями. Но для того чтобы из этого что-нибудь вышло, необходимо, чтобы новый порядок вещей был приготовлен веками предшествующего развития. Кровавый перелом обозначает только последний кризис, период окончательно обострившейся борьбы, когда давно потерявший свои основы старый общественный строй рушится, и на место его воздвигается новый, выработанный жизнью. Таков именно был тот переворот, на который обыкновенно указывают защитники этой теории. Французская революция 1789 г. действительно разрушила старый порядок, но этот порядок разрушался уже в течение столетий и окончательно отжил свой век. В нем воплощались средневековые начала, которые мало-помалу уступали место новому государственному быту. Его падение было приготовлено всею предшествующею историею Франции. Сама королевская власть, стоя во главе третьего сословия, в течение нескольких веков совершала это дело, и когда наконец ослабевшие короли упустили движение из своих рук, оно было довершено третьим сословием, представлявшим собою не какой-либо отдельный класс, а совокупность народа. На стороне приверженцев нового порядка были и богатство и образование, вся философия XVIII века поддерживала их требования, с ними рука об руку шли самые просвещенные люди из привилегированных сословий. Притом идеи, которые они проводили, вовсе не были чем-то новым и небывалым. Северная Америка представляла уже полное их осуществление на деле. И несмотря на все это именно потому, что при проведении этих начал не остановились перед потоками крови, исторически созревшее дело было задержано, и на развалинах свободы водворился военный деспотизм. Доселе Франция под влиянием этих событий, попеременно кидаясь от революции к диктатуре и от диктатуры к революции, не может обрести своего равновесия. При несовершенстве человека великие исторические перевороты нередко проходят через кровавую купель. Но не кровь составляет движущую пружину развития, а те идеи, которые, созревши в общественной мысли, подготовлены и всею предшествующею жизнью. Видеть в пролитии крови необходимое условие прогресса, смешивать идеи с теми преступлениями, которые во имя их совершаются, могут только безумцы, требовать крови для крови и разрушения для разрушения могут только изверги. Когда этот исступленный бред прикрывается знаменем науки и выдает себя за нечто высокое и святое, то это служит лишь доказательством того безграничного умственного и нравственного извращения, до которого доводит человека слепой фанатизм.
Существенная задача настоящего времени состоит не в разрушении, а в созидании. Человечеству предстоит завершить все государственное и общественное развитие нового времени. С XV века на развалинах средневекового порядка постепенно воздвигается новый жизненный строй. Все элементы его уже налицо: и государство со всеми своими формами и общественные силы с их разнообразными стремлениями. Теперь предстоит все это свести к единству не разрушением созданного предшествующею историею порядка, не уничтожением одного элемента в пользу другого, а постановкой каждого на свое место и приведением их к гармоническому соглашению. Одно государство не в силах это сделать. Как верховный общественный союз, оно стоит во главе общественного движения, ему принадлежит руководство. Но именно потому, что оно составляет только вершину, а не заключает в себе все, оно одними собственными средствами не в состоянии установить всеобщую гармонию. Эта задача тем менее для него исполнима, что здесь дело идет не об утверждении внешнего порядка, а о внутреннем единении свободных человеческих сил. Необходимым для этого условием является живое содействие самих этих сил. Внутреннее соглашение государства и общества может быть только плодом постоянного и живого взаимодействия между обоими. А так как подобное взаимодействие возможно единственно при свободных учреждениях, то и с этой стороны свободное государство представляется высшим идеалом общественного быта. Оно одно способно исполнить предстоящую современному человечеству задачу.
Но одних свободных учреждений мало, они дают не более как форму, в которой должно вырабатываться внутреннее соглашение общественных элементов. Самое же соглашение зависит от того духа, которым наполняется и движется эта форма. Без него последняя, совмещая в себе все общественное разнообразие, может стать источником большого разлада. Дух же, который дает жизнь общественным учреждениям, направляется к цели присущим ему разумом, указывающим путь и средства. Поэтому первое и необходимое условие внутреннего соглашения состоит в развитии разумения. Для того чтобы было согласие в жизни, надобно, чтобы оно установилось в умах.
В этом именно состоит главная предварительная задача, а вместе и существеннейший недостаток нашего времени. Насущная потребность европейских народов заключается вовсе не в поднятии материального уровня низших классов, о котором ныне так много хлопочут, а в поднятии умственного и нравственного уровня высших классов, без которого невозможно никакое дальнейшее развитие. Мы видели уже, что поднятие материального уровня низших классов совершается само собою с помощью труда и сбережений, на это нужны только время и свобода. Поднятие же умственного и нравственного уровня высших классов требует несравненно большей работы. Надобно вырвать человеческую мысль из той низменной области, в которую она в настоящее время погружена и где за бездною частностей исчезает из виду общее. Отсюда проистекает господствующий ныне разлад и в мысли и в жизни, падение веры, презрение к философии, отрицание всех высших начал человеческого духа, скептическое отношение к благороднейшей способности человеческого разума, к познанию абсолютного, а вследствие того извращение истинного отношения вещей и подчинение высших начал низшим как в теории, так и в практике, как в природе, так и в человеке. Такова картина современного состояния человечества, состояния, при котором немыслимо правильное решение не только высших задач, представляющихся человеческому разуму, но даже и простейших практических вопросов, как скоро они имеют нравственный характер. Совершенствование техники может делать изумительные успехи, накопление умственного материала может быть громадное, но светлой мысли, озаряющей этот хаос, нигде не видать, и душа человеческая, блуждающая в дебрях опытного мира, тоскует по высшем своем призвании. Вопль отчаяния может вырваться из груди современного человека, который не отрекся от благороднейшей части своего естества, и только непоколебимая вера в силы духа и в непреложные законы истории поддерживает его среди господствующей умственной и нравственной неурядицы. Эта вера не есть только смутное чаяние, она опирается на законы разума и на факты истории. Все прошедшее человеческого рода яркими чертами свидетельствует о развивающемся в нем духе и ручается за то, что спустившись в низменности, где как будто теряется всякая путеводная нить, он снова взойдет на высоту, откуда окидывается взором вся вселенная и где ясно становится для человека и собственное его призвание и его отношение к Божеству. Вооруженные этим убеждением, мы можем смело сказать, что весь современный разлад представляет лишь преходящее явление, которое будет осилено человеческим родом в его дальнейшем движении. Но для совершения этого дела требуется громадная работа: нужно совладать со всем накопившимся материалом и свести его к общему синтезу. А для этого недостаточно одного опыта, необходима философия, которая одна может озарить светом разума все изведанное и испытанное человеком. В этом и состоит задача современных поколений, задача высокая и трудная, способная заманить человека, но которая не свыше человеческих сил.
Каждому народу на этом пути предстоит исполнить свою долю в совокупном деле, каждый по-своему разрешит и общую задачу гармонического соглашения общественных элементов. Человеческий дух един в своем существе, но он живет среди бесконечного разнообразия естественных условий и сам под их влиянием проявляет внутреннее свое разнообразие, которое воплощается в различии народных свойств и характеров. А где есть различие внутренних свойств и внешних условий, там есть и различное строение общественных элементов, требующее каждый раз и своего особенного способа соглашения. Однако и тут за разнообразием мы не должны забывать единства. Народ составляет только отдельное выражение общей духовной сущности, и чем выше историческое его призвание, тем ближе он стоит к этой единой сущности и тем полнее он ее отражает. Поэтому для всех народов, подвизающихся на историческом поприще, путеводного звездою должны быть общечеловеческие начала, которые, составляя собственную природу духа, выясняются самосознанием и осуществляются движением всемирной истории.
И нам, позднее всех явившимся на поле истории, предстоит та же мировая задача. Глубокий разлад, разъедающий современные общества, отражается у нас в потрясающих явлениях и порождает страшные события. И нам предстоит его осилить не только борьбою внешней силы с безумными страстями, но и борьбою разума с окружающим нас мраком. Таково истинное призвание всех, кто в России способен мыслить и чувствовать; к тому же призываются и молодые поколения, которые должны приготовить отечеству более светлое будущее. Для исполнения этой задачи мы должны не отрекаться от всемирной истории как от чего-то нам чуждого, не отвращаться от ясной области разума, возлагая все свои надежды на темные инстинкты масс, а напротив, устремлять свои взоры на то, что добыто мировым развитием духа, а потому составляет достояние всего человечества: только в живом взаимодействии с общечеловеческими началами, проникая ими свои особенности и возводя свои особенности на степень общечеловеческих начал, мы можем не только стать в уровень с другими, но и принести свою дань общему делу человечества. Именно к этому приготовила нас вся наша история. Такова была задача новой России, введенной гением Петра в семью европейских народов, таков смысл и тех великих и дорогих всякому русскому преобразований минувшего царствования, которые окончательно поставили нас на общеевропейскую почву, перестроив весь наш общественный быт на началах свободы. Смело идти вперед по тому же пути, дружным действием правительства и граждан победить гнетущий нас внутренний разлад, поднять умственный и нравственный уровень русского общества — вот что предстоит нам в ближайшем будущем и к чему должны быть направлены все лучшие силы русской земли. Что мы совершим этот подвиг, в том ручается нам все наше прошлое, в том ручаются и те великие дары, которые кроются в глубине русского духа и которые поставили Россию наряду с могущественнейшими и образованнейшими европейскими государствами. Эти дары могут временно затмиться, но они не могут исчезнуть.