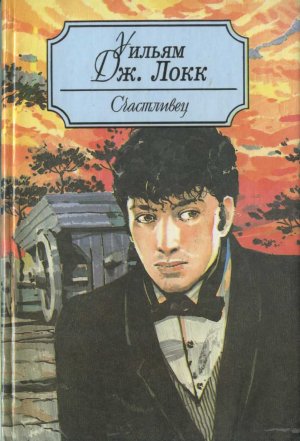
1
— Мне нравится Нунсмер, — сказал литератор из Лондона. — Это место, куда складывают отцветшие жизни, пересыпая их лавандой.
— Моя жизнь еще не отцвела, и я не желаю, чтобы меня посыпали лавандой, — возразила Зора Миддлмист и отвернулась от него, чтобы предложить пирожное викарию. У нее вовсе не было желания ухаживать за викарием, но все же тот казался ей менее несносным, чем литератор из Лондона, которого он привез с собой в гости к своим «прихожанам». Зора терпеть не могла, когда ее называли прихожанкой. Она многое терпеть не могла в Нунсмере. А ее мать, миссис Олдрив, напротив, любила Нунсмер, обожала викария и испытывала благоговение перед умом и образованностью литератора из Лондона.
Нунсмер — деревушка, укрытая в тени суррейских дубов, вдали от шумных городов. И чтобы добраться от нее хотя бы до проезжей дороги, надо преодолеть Бог знает сколько миль — и ехать полями, и карабкаться на холмы. Два старинных дома в стиле короля Георга, более поздняя готическая церковь, несколько коттеджей, мирно теснящихся вокруг общего выгона, — вот и вся деревня. Некоторые коттеджи выходят своими фасадами в переулок. В них живут, большей частью, мелкопоместные дворяне. Иные коттеджи построены очень давно; их низкие потолки опираются на толстые дубовые балки, а в выложенных плитами кухнях имеются огромные очаги, в которых можно делать все, что угодно — сидеть, жариться или коптиться. Другие дома новехонькие, но возведены по образцу старинных деревенским плотником немым Адамом. Все окна длинные и узкие; перед домами — палисадники, где растут розы, флоксы, левкои, подсолнечники и мальвы; от ворот к дверям ведут дорожки, вымощенные красной черепицей. Очень тихое, спокойное местечко этот Нунсмер. До того тихое, что если какой-нибудь забулдыга в половине десятого вечера пройдет с песней по выгону, весь Нунсмер услышит и с испуга кинется запирать на задвижки окна и двери, чтобы опасный пьяница не вздумал войти.
В одном из новых, построенных в старинном стиле коттеджей на выгоне, с палисадником перед окнами и дорожкой, выложенной красной черепицей, жили миссис Олдрив и Зора, причем если мать пребывала в полном благодушии, то ее дочь — в постоянном недовольстве. И не потому, что Зора была таким уж придирчивым и всем недовольным человеком. Когда мы слышали, что кто-то плохо себя чувствует в тюрьме, не приходит же нам в голову упрекать этого несчастного в недостатке христианского смирения.
После ухода викария и литератора из Лондона Зора распахнула окно, и мягкий осенний воздух волной хлынул в комнату. Миссис Олдрив накинула на худенькие плечи шерстяной платок.
— Как резко ты оборвала мистера Раттендена, Зора, — именно тогда, когда он хотел сострить.
— А почему он не смотрит, с кем говорит. Разве я похожа на женщину, жизнь которой отцвела, так что ее остается только сложить в сундук и пересыпать лавандой?
Она быстро пересекла комнату и стала у окна, вся на свету, словно приглашая мать получше к ней присмотреться. Конечно же, глядя на эту рослую, статную, великолепно сложенную женщину, полногрудую и крутобедрую, нельзя было сказать, что ее жизнь отцвела. Рыжевато-каштановые волосы ее блестели, в карих глазах вспыхивали золотые искорки, губы алели, щеки пылали румянцем молодости. Вся она была большая, яркая, с горячей кровью. Злые языки называли Зору амазонкой. Жена викария даже не находила ее красивой, утверждая, что для этого она слишком крупная, броская и пышнотелая. Зора действительно была чересчур велика для Нунсмера. Ее присутствие вносило смутную тревогу в его тишину, диссонанс — в его гармонию.
Миссис Олдрив вздохнула. Сама она была маленькая и бесцветная. Муж ее, исследователь далеких стран, какой-то вихрь, а не человек, погиб на охоте, убитый буйволом. Мать опасалась, что Зора пошла в него. Младшая ее дочь Эмми, также унаследовавшая отцовскую непоседливость, поступила на сцену и теперь играла в составе одной лондонской труппы.
— Не понимаю, чего тебе здесь не хватает, чтобы жить счастливо, Зора, — со вздохом заметила мать, — но, конечно, если тебя так тянет прочь отсюда, уезжай. Я, бывало, и твоему бедному покойному отцу всегда говорила то же.
— Ведь я все время была умницей, не правда ли, мама? Вела себя как примерная молодая вдова — так смиренно, словно мое сердце разрывалось от горя. Но теперь я не в силах больше выносить это. Мне хочется увидеть мир.
— Ты скоро снова выйдешь замуж — только это меня и утешает.
Зора возмущенно всплеснула руками.
— Никогда-никогда, слышите, мама? Никогда и ни за что! Я хочу повидать свет, узнать жизнь, на которую до сих пор только глядела в окошко. Я жить хочу, мама!
— Не понимаю, как ты будешь жить, дорогая, без мужчины, который бы о тебе заботился, — сказала миссис Олдрив, любившая порой изрекать вечные истины.
— Ненавижу мужчин! Видеть их не могу, не выношу их прикосновения. До конца своих дней не желаю иметь с ними ничего общего. Господи, мама! — голос ее дрогнул. — Неужели еще не довольно с меня мужчин и замужества?
— Не все мужчины таковы, как Эдуард Миддлмист, — возразила миссис Олдрив, не забывая считать петли своего вязанья.
— А я почем знаю! Разве можно было предвидеть, что он такой, каким оказался? Ради Бога, не будем говорить об этом! Я здесь почти уже забыла о нем, а вы напоминаете.
Она вздрогнула и отвернулась к окну, глядя на яркий закат.
— Вот видишь, и лаванда может пригодиться, — заметила миссис Олдрив.
В оправдание Зоры следует сказать, что у нее были причины стать мизантропкой. Не очень-то весело для юной новобрачной в первые же двадцать четыре часа супружеской жизни убедиться, что ее муж — безнадежный алкоголик и потом в течение шести недель смотреть, как он умирает от белой горячки. Такое испытание может навсегда опалить душу и исказить мироощущение женщины. Из-за отвращения к пахнувшим водкой поцелуям одного мужчины она предает анафеме их всех и не желает больше ничьих поцелуев… После долгой паузы Зора подошла и прижалась щекой к щеке матери.
— Мы никогда больше не будем говорить об этом, мама, милая. Да? Я запру скелет в шкаф и выброшу ключ.
Она пошла наверх переодеться и вернулась сияющая. А за обедом без умолку болтала о своей будущей свободе. Она сорвет с себя вдовий траур и снова помолодеет душой — окунется с головой в волны жизни. Будет упиваться солнечным светом, наполнит душу смехом и радостью. Все планы и предположения Зоры очень смущали ее мать. Миссис Олдрив чувствовала себя точно так же, как курица в сказке, которая вывела утенка и сокрушенно говорит ему: «Почему тебя тянет в воду? Меня вот никогда не тянуло».
— Вы скоро станете скучать без меня, мама? — спросила Зора.
— Конечно. — В тоне матери было так мало убежденности, что Зора рассмеялась.
— Мама, вы сами отлично знаете, что общество кузины Джен будет для вас куда приятнее моего. Вы ведь уже соскучились по ней.
Кузина Джен превосходно умела кроить нижнее белье для бедных, и подобно тому, как облако тает при восходе солнца, так вся пыль в доме исчезала при ее появлении. Зора же, как все физически крупные люди, всегда вносила некую беспорядочность в домашний уклад, и кузина Джен совсем ее не одобряла. Но миссис Олдрив действительно соскучилась по кузине Джен, как никогда не скучала по Зоре, Эмми или по мужу, и была очень обрадована перспективой ее приезда.
— Во всяком случае, моя дорогая, — сказала она в тот вечер, остановившись со свечой в руках у двери своей спальни, — во всяком случае, надеюсь, ты не сделаешь ничего такого, что не подобало бы порядочной женщине.
Таким было ее напутственное благословение. Зора же, войдя в свою комнату, стукнулась головой о притолоку и сказала себе: «Нет, я решительно не подхожу к этому дому. Слишком я для него громоздка».
О том, как она будет жить и что делать в том большом мире, который так ее манил, Зора имела весьма смутное представление. Для нее этот мир был прекрасной неведомой страной. Всю жизнь она из-за недостатка средств провела в Челтенгеме, потом в Нунсмере. С будущим мужем встретилась в Ипсвиче, когда гостила там у дальней родственницы; и не успела опомниться, как вышла за него замуж. Он был красивый малый, с состоянием, и свой кошмарный медовый месяц Зора провела в Брайтоне. Да еще раза три ездила на неделю в Лондон. Вот и все, что она видела в свои двадцать пять лет. Кое-что Зора узнала, так сказать, из вторых рук, по книгам знакомясь с жизнью различных слоев общества; картины, нарисованные в них, пленили ее воображение мечтой об удивительных и прекрасных местах, где ей никогда не приходилось бывать. Помимо всего прочего, она была неопытна, как ребенок, и так же по-детски бесстрашна.
Что же Зора намеревалась делать? Обладая врожденным артистическим чутьем и восприимчивостью к красоте, она не умела ни рисовать, ни петь, ни играть на сцене, ни писать занятные рассказики для еженедельников. Не замечалось у нее и особых талантов, которые следовало бы развивать. Работать из-за куска хлеба ей теперь было не нужно. Ибсеновские идеи самоутверждения и воспитания в себе личности ее не волновали. Она не стремилась переделать мир, или хотя бы часть его, по-своему. И не считала, что у нее в этом мире есть особая миссия, которую необходимо выполнить. Непохожая на многих других женщин, жаждущих выдвинуться и сравняться с мужчинами, она не ощущала неудержимой внутренней потребности что-нибудь сделать и кем-то стать. Честолюбие у нее отсутствовало. Зора была просто большим роскошным цветком, который пробивается из тени на солнечный свет, стараясь заполучить как можно больше этого света.
Случилось так, что литератор из Лондона возвращался в столицу тем самым поездом, который увозил Зору к начальному пункту ее паломничества. Он попросил разрешения перейти к ней в купе и стал расспрашивать, какой отрасли человеческой деятельности она намерена себя посвятить. Зора ответила, что хочет только погреться на солнышке. Тогда ее собеседник наставительно заметил, что человек обязан чем-то заниматься, чтобы оправдать свое существование. Она выпрямилась и сверкнула на него негодующим взглядом.
— Простите, — извинился он. — Вы свое оправдываете.
— Каким же образом?
— Украшая собой мир. Я был неправ. Это и есть истинное назначение красивой женщины, и вы его выполняете.
— У меня в саквояже, — медленно проговорила Зора, пристально глядя на своего спутника, — лежит средство, предупреждающее морскую болезнь, есть и непромокаемый плащ для защиты от дождя, но как мне оградить себя от пошлых комплиментов?
— Облачившись в костюм восточных женщин, — без тени смущения ответствовал литератор из Лондона.
Зора рассмеялась, хотя он и был ей несимпатичен. А ее собеседник с комической серьезностью наклонился к ней. Он уже написал несколько романов и теперь издавал еженедельник самого возвышенного направления, но с легким налетом цинизма.
— Я старый воробей — мне уже тридцать пять лет, и я знаю, что говорю. Если вы рассчитываете проехать по всей Европе без того, чтобы мужчины говорили вам комплименты, влюблялись в вас и ухаживали за вами, то вы весьма и весьма заблуждаетесь.
— То, что вы говорите, — возразила Зора, — только подтверждает мое мнение, что все мужчины несносные и противные. Почему бы им не оставить в покое бедную женщину?
Поезд остановился на узловой станции. Щеголеватый молодой человек, проходивший по платформе, увидев Зору, внезапно остановился против окна ее купе. Молодая женщина досадливо отвернулась. Раттенден засмеялся.
— Милая моя юная леди, позвольте преподать вам азы житейской мудрости. Старая дева с паклей вместо волос, монолитами вместо зубов и ящиком с домино вместо тела может безбоязненно путешествовать одна даже среди диких татар. Татары ее не тронут. Но — разрешите говорить с вами откровенно, так как вы сейчас моя ученица, — красивая женщина, как вы, излучающая женский магнетизм, не может на это рассчитывать. Она изводит мужчин — и еще как! — а мужчины изводят ее. Вы сами не даете покоя мужчинам; как же вы можете требовать, чтобы они оставили вас в покое.
— Я нахожу, — сказала Зора, когда поезд тронулся, — что старой деве, о которой вы упомянули, можно только позавидовать и что этот разговор мне неприятен.
Как истая провинциалка, она была очень щепетильна в выборе тем для разговора. Подобные речи внушали ей отвращение к самой себе. Зора взяла в руки модный журнал, купленный в Лондоне, — она ведь собиралась учинить набег на столичных портных и модисток — и, смущенно разглядывая до неприличия декольтированных дам на картинках, решила по приезде в Лондон надеть парик, выкрасить лицо в желтый цвет и вычернить один из передних зубов, чтобы не смущать никаких «татар».
— Я только предостерегаю вас, указывая на возможные опасности, — чопорно заметил Раттенден. Он не привык, чтобы его манеру вести разговор называли неприятной.
— Кому грозят эти опасности? Мужчинам?
— Нет. Вам самой.
Зора презрительно усмехнулась: — Ну, на этот счет не беспокойтесь. Почему это каждый мужчина убежден в своей неотразимости?
— Потому что обычно он в самом деле неотразим, когда того хочет, — ответил литератор.
У Зоры даже дух захватило от возмущения. — Ну, знаете… — начала она.
— Да, я знаю, что вы хотели сказать. Миллионы женщин говорили это и потом отрекались от своих слов. Почему же вам, хоть вы и красавица, быть исключением? Подобно пчелке, вы будете порхать по свету, добывая мед из мужских сердец. Вами движет инстинкт, и никуда от него не деться. Вы полагаете, что будете замирать от восторга перед соборами, наслаждаться жизнью в дорогих ресторанах и модных магазинах. Ничего подобного. Вы будете собирать сладкий мед с эмоциональных переживаний самого примитивного свойства. Если это не так, значит, я ничего не понимаю в женщинах.
— А вы думаете, что понимаете?
— Больше, чем вы предполагаете. Знаю-то я много, но не все можно сказать. Впрочем, это неважно. Я вам напророчил, а вы мне потом скажете, если я еще буду иметь удовольствие с вами встретиться, сбылось ли мое пророчество.
— Оно не сбудется.
— Посмотрим.
Через два часа Зора уже была в крохотной квартирке своей сестры в Челси. Эмми, застигнутая врасплох, быстро сунула на дно рабочей корзинки шелковый мужской галстук, который вязала, и радостно приветствовала Зору.
Не такая рослая, как сестра, тоньше и бледнее ее, она казалась по-детски миловидной. У нее был такой же безвольный рот, как у матери, и те же мягкие манеры.
— Зора? Какая неожиданность! Вот уж не чаяла… Что ты делаешь в Лондоне?
— Хочу себе кое-что купить — шляпы, платья — небольшой гардероб для независимой жизни. Я рассталась с Нунсмером. Буду теперь жить сама.
Глаза Зоры сверкали, щеки горели. Она привлекла к себе Эмми.
— Родная моя! Я так счастлива — как птица, выпущенная из клетки.
— Ужасно большая птица! — засмеялась Эмми.
— Да, а клетка была страшно мала. Наконец-то я увижу свет! Хочу побывать повсюду — на юге Франции, в Италии, Египте — везде.
— Совсем одна?
— А Турнер?
— Турнер?
— Ах, ты не знаешь ее? Это моя новая горничная. Нет, ты подумай, как это чудесно! Почему бы тебе не поехать со мной, милочка Эмми? Поедем!
— А мой ангажемент? Я не могу нарушить контракт. И сама рада была бы постранствовать по свету, но ты не знаешь, Зора, как трудно получить ангажемент.
— Пустяки! Я заплачу неустойку.
Но Эмми отрицательно покачала пышноволосой головкой. У нее была хорошая, хотя и небольшая роль: несколько фраз и песенка в музыкальной комедии, имевшей шумный успех. На эту песенку ушло два года работы; она была ей дороже всего на свете — почти всего.
— Нет, не могу. И притом разве ты не находишь, что две женщины, слоняющиеся по свету одни, — это как-то глупо? Без мужчины по-настоящему весело не будет.
Зора возмутилась:
— Все вы помешаны на мужчинах. Даже мама. А, по-моему, они отвратительны.
Горничная доложила о приходе мистера Мордаунта Принса, и в комнату вошел изящный смуглый молодой человек с тонкими чертами лица, с черными волосами, разделенными на пробор и гладко зачесанными назад. Эмми представила его Зоре как премьера своей труппы. Зора обменялась с мистером Принсом несколькими учтивыми фразами и стала прощаться. Сестра проводила ее до входной двери.
— Не правда ли, он очарователен?
— Кто? Этот…
Эмми засмеялась.
— Ты так настроена, что готова раскритиковать даже архангела. Прощай, родная, береги себя.
Она не обиделась на старшую сестру, так как была добра и к тому же безумно счастлива. Когда Эмми вернулась в гостиную, гость взял обе ее руки в свои.
— Ну что, моя радость?
— Сестра хотела увезти меня в Италию.
— А ты что ей сказала?
— Угадай! — ответила девушка, поднимая на него сияющие глаза.
Он осыпал ее поцелуями, и Эмми на время забыла о Зоре, которая пошла своим путем искать счастья, не внимая ни мудрости умников, ни советам глупцов.
2
Уже пять месяцев Зора странствовала по свету, главным образом, по дорогам Италии, без приключений, которые можно было бы назвать любовными. Вспоминая литератора из Лондона и его пророчества, молодая женщина насмешливо улыбалась. Ни одного мужского сердца она не разбила, и ее собственное было целехонько. «Татары» не обнаруживали никаких признаков волнения при виде Зоры и оставляли ее в покое. Кроме того, соборы вызывали у нее непритворный восторг, а модные рестораны и магазины доставляли массу удовольствия. Таким образом, Раттенден оказался очень плохим пророком.
И, тем не менее, она тосковала по чему-то неуловимому и ускользающему от нее, уверенная, что вся окружающая благодать — не более чем символ недоступного ее чувствам. Странник, который томится тоской по незримому, но не наделен даром истинного бродяги проникать взглядом за скрывающую его туманную завесу, поневоле должен довольствоваться только видимым и доступным, хотя это не всегда его удовлетворяет. И на Зору порой находила тоска. В такие дни Турнер жаловалась, что иностранцы не умеют готовить, а заграничная пища вредна для здоровья, и предлагала своей госпоже принять соду. По сути она была права, но подходила к вопросу с другой стороны. Случалось также, что в пути не попадалось приятных знакомых, и одиночество действовало на нервы в общем уравновешенной Зоры. В такие минуты она сильнее обычного мечтала о неведомом.
И все же молодость, впечатлительность и живое воображение брали свое, и гораздо чаще Зора была весела и бодра. Каждый новый город манил ее надеждой, сулил радость, и она продолжала путешествовать. Наконец уже на обратном пути магическое слово «Монте-Карло» заставило бурно забиться ее сердце в ожидании чудес волшебной страны.
Одинокая, недоумевающая и смущенная, стояла она вскоре в игорном зале в первом ряду за креслами, держа в руках пустой кошелек. Не пробыв здесь и десяти минут, Зора уже проиграла двадцать луидоров. Последнюю ставку она взяла, но сидевшая за столом пожилая дама, совсем седая, с кротким восковым лицом Мадонны, так спокойно и решительно придвинула к себе выигранные Зорой деньги, что та растерялась и не решилась протестовать. У нее голова пошла кругом от такой наглости.
Все здесь было иначе, чем она ожидала. Воображение рисовало ей веселый шумный зал, азартных игроков, вскрикивающих от возбуждения; оркестр, играющий упоительные вальсы; веселое хлопанье пробок шампанского; накрашенных женщин, с громким смехом перебрасывающихся остротами и шутками, — словом, настоящую оргию, нечто вакхическое, чего она не могла себе даже представить. Это было, конечно, глупо с ее стороны, но справедливый человек не осудил бы за глупость неопытную молодую женщину, а только пожалел ее. Стоит ли порицать женщину, принимающую мир за раковину, открыв которую, можно найти готовое жемчужное ожерелье? Пусть лучше какой-нибудь седовласый грешник позавидует живости ее воображения.
Зора Миддлмист была разочарована и огорчена, как ребенок. Уголки ее полных алых губ по-детски опустились, нос невольно наморщился от духоты и обилия несочетающихся запахов. Проиграв все захваченные с собой деньги, она могла теперь позволить себе с презрением наблюдать со стороны скрытую под маской приличий и, тем не менее, низменную алчность игроков, теснившихся за длинными столами. Ни тени веселья не заметила Зора на их лицах. Все держались корректно и бесстрастно, как англичане во время проповеди. Иной раз на похоронах бывает веселее.
Зора уже забыла, в каком восторге от Монте-Карло она пребывала в первый день после приезда — такой яркий, золотой и бирюзовый день. Одиночество угнетало ее; она чувствовала себя словно голубка, случайно залетевшая в приют летучих мышей. Если бы она не знала, что на редкость привлекательна и на нее везде и всюду устремлены сотни глаз, то расплакалась бы. И так досадно было выбросить на ветер двадцать золотых! Однако стук мраморных шариков, падающих на вертящийся диск, блеск золота, мягкий звон монет, сбрасываемых крупье на зеленое сукно стола, — все это заставляло ее оставаться на месте. Она смотрела и делала в уме воображаемые ставки. Пять раз подряд она уже выиграла бы, если бы деньги в самом деле были поставлены. Было от чего прийти в отчаяние. Стоять тут, проникнув в тайну случая, и не иметь в кармане даже пяти франков!
Из-за ее плеча высунулся черный мужской рукав, и впереди себя Зора увидела руку, державшую луидор. Инстинктивно она взяла монету.
— Благодарю вас, — произнес усталый голос. — Я не мог дотянуться до стола.
Зора бросила луидор на семнадцатый номер и тут только, вздрогнув, поняла, что сделала; она повернулась, вся зардевшись.
— Мне так жаль…
Взор ее встретился с парой равнодушных голубых глаз, принадлежавших обладателю усталого голоса; она увидела болезненно бледное лицо с темными усиками и над ним целую копну каштановых волос, которые странно торчали в разные стороны.
— Мне так жаль, — повторила Зора. — Пожалуйста, попросите, чтобы вам вернули эти деньги. Куда вы их хотели поставить?
— Не знаю. Все равно, куда-нибудь.
— Но я поставила на семнадцать. Я не подумала…
— А к чему думать?
Зора повернулась к столу и стала неотрывно следить за поставленным на семнадцать луидором. Несмотря на равнодушие голубоглазого молодого человека, она терзалась принятой на себя ответственностью. Почему было не разделить шансы поровну или не поставить на одну из дюжин? Вдобавок никто, кроме нее, не ставил на семнадцать, и это еще больше смущало Зору. Весь стол, казалось, молча следил за ее неумелой игрой.
Крупье закончил выплату выигрышей по предыдущим ставкам. Мраморный шарик с резким стуком ударился о диск и зашуршал, катясь по нему. Зора затаила дыхание. Шарик остановился, наконец, и крупье провозгласил:
— Выиграл семнадцатый номер.
Зора вздохнула с облегчением. Она не только не проиграла доверенные ей чужие деньги, но еще и выиграла для незнакомца в тридцать пять раз больше, чем он поставил. Она не отрывала глаз от своего луидора, чтобы крупье по рассеянности не сгреб его лопаточкой, хотя в Монте-Карло такое невозможно, и протянула руку в сторону кроткой с виду седоволосой дамы с твердой решимостью не позволить ей снова себя ограбить. Крупье подвинул ей через стол семь больших золотых монет. Зора торопливо схватила их и повернулась, ища глазами владельца, но его нигде не было видно. Она вышла из круга играющих и с полными золота руками обошла весь зал, озабоченная и недоумевающая.
Наконец она заметила молодого человека, стоящего с унылым видом у другого, дальнего стола, и стремительно бросилась к нему, протягивая деньги.
— Смотрите, вы выиграли!
— О, Боже! — прошептал незнакомец, не вынимая рук из карманов смокинга. — Сколько хлопот я вам доставил!
— Конечно, доставили, — съязвила она. — Почему вы не остались возле меня?
— Не знаю. Разве можно сказать, почему делаешь или не делаешь ту или иную вещь?
— Ну так возьмите, пожалуйста, свои деньги и избавьте меня от них. Здесь семь монет, по пяти луидоров каждая.
Зора переложила монеты одну за другой в его руку и вдруг вся залилась румянцем. Она забыла взять со стола тот, первый, луидор. Где же он? Что с ним сталось? И можно ли теперь заполучить его обратно? Это все равно, казалось ей, что попытаться снова выудить брошенную в море рыбу. Она чувствовала себя так, словно сама украла тот луидор.
— Тут еще одного луидора не хватает, — запинаясь пробормотала она.
— Это неважно, — сказал незнакомец.
— Как неважно? Очень даже важно. Вы можете подумать, что я взяла его себе.
— Что за нелепость! Интересуют вас пушки?
— Пушки?
Зора уставилась на него. Он не был похож на сумасшедшего.
— Я вспомнил, что думал о пушках, когда отошел от стола, — пояснил он. — Это интересный предмет для размышлений.
— Да поймите же, что я должна вам луидор! Я совсем забыла, что он остался на столе. Если бы мой кошелек не был пуст, я отдала бы вам. Не подождете ли вы здесь, пока я принесу деньги из отеля, где остановилась?
Зора говорила почти сердито. Неужели этот тип воображает, что она захочет остаться у него в долгу? Но «тип» только запустил пальцы в свои торчащие в разные стороны волосы и слабо ей улыбнулся.
— Пожалуйста, не будем больше говорить об этом. Это меня мучает. Крупье не возвращают ставку, пока вы ее не потребуете, — здесь такое правило. Быть может, луидор снова выиграл. Ради Бога, не тревожьтесь об этом — я очень-очень вам благодарен.
Он учтиво поклонился и отошел немного в сторону. Но Зора, пораженная такой простой разгадкой тайны исчезновения луидора — ей самой это не пришло в голову: нельзя же за десять минут изучить все порядки и обычаи казино — бросилась назад, к игорному столу. И подоспела как раз вовремя, чтобы услышать вопрос крупье: чей луидор был поставлен на семнадцать? Это число снова выиграло.
На сей раз Зора принесла незнакомцу все тридцать шесть луидоров.
— Два раза подряд? — удивился тот, беря деньги. — Как странно! Но зачем вы беспокоились?
— Потому, вероятно, что я не лишена здравого смысла, — ответила Зора.
Он посмотрел на золотые, лежащие у него на ладони, словно на раковинки, принесенные ему ребенком с пляжа, и медленно поднял на нее глаза.
— Вы на редкость добры ко мне.
Зора хотела рассердиться на него и не могла — он произнес это очень просто и ласково. Она улыбнулась.
— Так это или нет, все же я выиграла для вас пятьдесят шесть фунтов, и вы должны быть мне признательны.
Молодой человек слегка кивнул в знак согласия. Если бы он был смелее и находчивее, то, вероятно, выразил бы ей свою признательность уже за то, что такая красивая женщина столь любезно с ним беседует. Они незаметно удалились от игорных столов, возле которых толпились игроки, и очутились в менее густой толпе просто зрителей. Все происходило в самый разгар сезона, и бриллианты, перья, кружева, накрашенные губы, крючковатые носы, алчные глаза и умопомрачительные шляпки слепили взор и парализовали мысль. Но Зора Миддлмист выделялась даже среди этих женщин, съехавшихся сюда со всего мира. Как Септимус Дикс объяснял позже, в тот вечер в казино присутствовали некий сборный женский тип и Зора Миддлмист. И все мужчины завидовали счастливцу, которому она так ласково улыбалась.
Зора была вся в черном, как и приличествует молодой вдове, хотя ничто в ее туалете не указывало на траур. Черный берет с длинным страусовым пером придавал ей немного торжественный вид. Черные перчатки выше локтя, не полностью закрывавшие красивые руки, и снежная белизна шеи в вырезе черного шифонового лифа тревожили мужское воображение. Она на голову возвышалась над своим тщедушным собеседником, рост которого не превышал пяти с половиной футов.
— Что же мне делать с деньгами, которые вы мне принесли? — спросил он беспомощно.
— Не взять ли их мне, чтобы спрятать для вас?
Как-никак перед ней стоял живой человек, с которым можно было поболтать; в его обществе Зора не так остро чувствовала свое одиночество и потому не спешила закончить разговор. Лицо незнакомца выразило радостную готовность. Он вытащил из кармана и вторую пригоршню золота.
— Я бы очень хотел, чтобы вы взяли. Мне было бы куда приятнее.
— Неужели вы не можете удержаться от игры? — засмеялась Зора.
— О, нет! Не то. Совсем не то. Игра нисколько меня не интересует. Мне даже скучно.
— Зачем же тогда вы играете?
— Я не играю. Поставил один луидор, чтобы посмотреть, заинтересует ли это меня. Оказалось, что нет, и я стал думать о пушках. Вы уже завтракали?
Снова Зора изумилась. Человек в здравом уме не заводит речь о завтраке в девять часов вечера. Но если это помешанный, лучше ему не перечить.
— Да, — ответила она. — А вы?
— Нет еще. Я только что встал.
— Вы хотите сказать, что весь день проспали?
— Что же еще делать днем, если не спать? Днем везде так шумно.
— Давайте присядем, — предложила Зора.
Они нашли у стены свободный диванчик, обитый красным бархатом, и сели. Зора с любопытством смотрела на своего соседа.
— Почему вам было бы приятнее, если бы я спрятала ваши деньги у себя?
— Потому что тогда я бы их не растратил. А то я могу встретить человека, который захочет продать мне газовый мотор.
— Но вы же не обязаны его покупать?
— Эти агенты умеют убеждать… В прошлом году в Роттердаме один такой уговорил меня купить подержанное зубоврачебное кресло.
— Разве вы дантист?
— Боже мой! Нет. Если бы я был зубным врачом, я бы мог использовать это ужасное кресло.
— Что же вы с ним сделали?
— Велел упаковать и отправил, уплатив за пересылку, несуществующему другу в Сингапур.
Он проговорил это своим обычным усталым кротким голосом, даже не улыбнувшись. И задумчиво добавил:
— Такого рода развлечения стоят довольно дорого. Вы не находите?
— Попробовал бы кто-нибудь мне навязать ненужную вещь! Ну уж дудки!
— А! — Он поднял на нее печальный восхищенный взгляд. — Это потому, что у вас рыжие волосы.
Если бы какой-нибудь другой незнакомый мужчина заговорил о ее волосах, Зора Миддлмист поднялась бы, величественная, как Юнона, и уничтожила его одним взглядом. Она раз навсегда покончила с мужчинами и их любезностями и даже гордилась своей непреклонностью. Но нельзя же было сердиться на безобидное существо, сидевшее подле нее: это все равно что рассердиться на какое-то замечание четырехлетнего ребенка.
— При чем тут мои рыжие волосы? — шутливо спросила она.
— У того, кто продал мне зубоврачебное кресло, волосы тоже были рыжие.
— О! — только и смогла произнести растерявшаяся Зора.
Наступила пауза. Незнакомец откинулся на спинку дивана, обхватив обеими руками колено. Руки у него были вялые, слабые, с длинными пальцами — из тех, которые роняют все, за что ни возьмутся. Зора удивлялась, как у них еще хватает силы поддерживать колено. Некоторое время он смотрел в пространство; глаза у него были светло-голубые, не то сонные, не то мечтательные. Зора засмеялась.
— О чем вы задумались? Опять о пушках?
— Нет, — он вздрогнул, словно проснувшись. — О детских колясках.
Она встала.
— А я думала о завтраке. Ну я пойду к себе, в отель. Здесь страшно душно и вообще противно. Доброй ночи.
— Если позволите, я провожу вас до лифта, — учтиво предложил молодой человек.
Она милостиво позволила, и они вместе вышли из игорного зала. Но уже в атриуме она передумала относительно лифта. Лучше выйти из казино через главный вход и дойти пешком до отеля — хоть свежим воздухом подышишь после этой духоты. Спустившись с лестницы, Зора остановилась и сделала глубокий вдох. Ночь была тихая, безлунная, звезды висели низко над землей, словно алмазы на балдахине из черного бархата. По сравнению с ними ослепительные электрические огни на террасах отеля и Кафе-де-Пари казались поддельными и мишурными.
— Ненавижу их! — сказала Зора, указывая в ту сторону.
— Да, звезды лучше.
Она быстро повернулась к своему спутнику.
— Откуда вы знаете, что я их сравнивала?
— Я почувствовал это, — пролепетал он.
Они медленно спустились с лестницы. Внизу, словно из-под земли, выросла коляска, запряженная парой лошадей.
— Прокатиться не желаете ли? Очень хороший экипаж! — предложил невидимый в темноте кучер. Извозчики в Монте-Карло безошибочно угадывают англосаксов.
Почему бы и нет? Зоре вдруг безумно захотелось насладиться красотой этого дивного уголка земли. Она знала, что ее поступок могут счесть сумасшедшей, неприличной выходкой. А все-таки, почему нет? У Зоры Миддлмист не было никого, кому она обязана была бы давать отчет в своих действиях. Почему же не сделать глоток из чаши завоеванной ею свободы? С незнакомым мужчиной? Что за беда! Тем интереснее приключение. Сердце ее радостно забилось. Чистые женщины, как и дети, инстинктивно угадывают, кому они могут довериться.
— Хотите?
— Прокатиться?
— Да. Если только вы не предпочитаете вернуться к своим друзьям.
— Господи Боже! — ужаснулся он, словно его обвинили в принадлежности к какому-то преступному сообществу. — Какие друзья? У меня нет друзей.
— Тогда поедемте.
Зора первая села в экипаж. Он послушно уселся рядом. Куда же ехать? Кучер предложил двинуться вдоль берега, по дороге в Ментону. Зора согласилась. Лошади уже готовы были тронуться в путь, когда она заметила, что ее спутник без шляпы.
— Вы забыли взять шляпу.
Зора говорила с ним, как с ребенком.
— Не все ли равно? На что она?
— Вы простудитесь и умрете. Сейчас же идите и принесите свою шляпу.
Он повиновался с покорностью, восхитившей миссис Миддлмист. Женщина может питать глубокую антипатию к мужчинам, но ей все же приятно, когда они ее слушаются. Зора была женщиной, к тому же молодой. Когда ее спутник вернулся, кучер хлестнул лошадей, и они помчались в сторону Ментоны.
Полулежа на подушках, Зора жадно впивала чувственную прелесть ночи. Теплый душистый воздух, бархатное небо в алмазах, благоухание апельсиновой рощи, таинственный шелест листьев олив, смутно маячившие вдали холмы, шелковое, винного цвета море с кружевной оторочкой пены вдоль темной дуги залива. Юг простер над ней крылья, любовно убаюкивая ее в своих объятиях.
После долгого молчания она вздохнула, вспомнив о своем спутнике, и благодарно сказала:
— Спасибо за то, что вы молчали.
— Не за что, — ответил он. — Мне нечего было сказать. Я вообще не разговариваю. Я, кажется, год уже как ни с кем не говорил.
Она беспечно рассмеялась.
— Почему?
— Не с кем было. Кроме моего слуги, — добросовестно поправился он. — Его зовут Вигглсвик.
— Надеюсь, он хорошо смотрит за вами, — сказала Зора с материнской заботливостью.
— Его следовало бы подучить. Он плохо вышколен. Я всегда ему это говорю, но он не слышит. Ему уже за семьдесят, и он глух как пень. Рассказывает мне о тюрьмах и обо всем таком.
— О тюрьмах?
— Да. Большую часть жизни Вигглсвик провел в тюрьме. Он, знаете ли, был профессиональным вором, но потом состарился и бросил свое ремесло. К тому же в двери уже стучалось молодое поколение.
— Не думала, что воры этим занимаются, — пошутила Зора.
— Обычно они прибегают к отмычкам, — совершенно серьезно согласился он. — Вигглсвик подарил мне свою коллекцию. Очень полезная вещь.
— Для чего?
— Чтобы убивать моль и тараканов.
— Но зачем же было брать в лакеи состарившегося вора?
— Не знаю. Должно быть, он сам это устроил. Подошел ко мне однажды, когда я сидел в Кенсингтонском саду, и с тех пор не отставал от меня.
— Господи, помилуй! — вскричала Зора, на минуту забыв даже о звездах и море. — Разве вы не боитесь, что он вас ограбит?
— Нет. Я спрашивал его, и он мне все объяснил. Видите ли, это было бы не по его части. Фальшивомонетчик занимается только изготовлением фальшивых денег, карманщик норовит стянуть цепочку или кошелек, а взломщик совершает одни кражи со взломом. Но ведь не может же он учинить взлом в том месте, где сам живет, так что я в безопасности.
Зора дала ему благоразумный совет:
— А знаете, я бы на вашем месте все-таки постаралась от него избавиться.
— Будь я вами, — сделал бы то же, но я так поступить не могу. Если сказать ему, чтобы уходил, он все равно не уйдет. Вместо этого я сам иногда ухожу. Вот почему я здесь.
— Послушайте, что вы такое говорите! У меня голова идет кругом, — смеялась Зора. — Расскажите мне что-нибудь о себе. Как вас зовут?
— Септимус Дикс. У меня есть еще одно имя — Аякс. Септимус Аякс Дикс, но я никогда его не употребляю.
— Жаль. Аякс — красивое имя.
— Глупое. При слове Аякс представляется дюжий парень, который вызывает на бой и громы небесные, и глупцов с копьем в руках. Это тетушка, старая дева, убедила мою мать дать мне такое имя. Я думаю, она спутала Аякса с Ахиллом[1], статуей которого восхищалась в Гайд-парке. На нее потом наехала телега молочника и задавила ее.
— Когда это было? — спросила Зора, больше из вежливости, чем из участия к судьбе девственной тетушки мистера Дикса.
— За минуту до ее смерти.
— О! — удивилась Зора его равнодушию к семейной трагедии. Потом, чтобы поддержать разговор, спросила: — А почему вас зовут Септимус?
— Я седьмой сын. Все остальные умерли в детстве. До сих пор не понимаю, почему я не умер.
— Может быть, потому, — засмеялась Зора, — что вы в это время думали о чем-то другом и пропустили удобный случай.
— Должно быть, это так. Я всегда упускаю случай, точно так же, как поезда.
— Как же вы ухитряетесь все-таки попадать, куда вам нужно?
— Жду следующего поезда и еду. Это нетрудно. А вот упущенный случай не вернешь.
Он вынул из портсигара папиросу, сунул ее в рот и принялся шарить по карманам, отыскивая спички. И, не найдя их, бросил папиросу на дорогу.
— Как это похоже на вас! — воскликнула Зора. — Почему вы не попросили огня у кучера?
Она непринужденно смеялась, словно они были сто лет знакомы, хотя на самом деле встретились всего час назад. Септимус больше походил на заблудившегося мальчика, чем на мужчину. Ей хотелось подружиться с ним, приласкать его, по-матерински о нем позаботиться, но она не знала, как это сделать. Ее приключение утратило всякий оттенок авантюры, всякую пряность риска. Она знала, что рядом с этим беспомощным существом может сидеть хоть до скончания века, не рискуя быть обиженной ни словом, ни делом.
Мистер Дикс достал другую папиросу, попросил у кучера огня и молча закурил. Постепенно томная прелесть ночи снова зачаровала Зору, и она позабыла о его существовании. Кучер повернул обратно, и на повороте дороги, с высоты, открылся вид на Монте-Карло — ослепительно белый город, прикрытый с моря массивным темным мысом Монако. Четко вырисовывалась группа сказочных дворцов, освещенных волшебными огнями. Слева, со стороны ущелья, и справа, с расположенных уступами гор, повеяло запахами дикого тмина, розмарина и еще каких-то цветов. Прикосновение воздуха к щеке нежило и ласкало, как поцелуй свежих теплых губ. Алмазные звезды падали на Зору золотым дождем, как на Данаю[2]. По-детски приоткрыв рот от восторга, она вперила взор в звездную высь, силясь проникнуть в неведомую тайну небес, и сердце ее трепетно билось страстным томлением по неведомому. Она сама не знала, что ей нужно. Только не любовь — Зора Миддлмист навсегда отреклась от любви. И не поклонение мужчин — она поклялась всеми святыми, что ни одного мужчины больше не будет в ее жизни. Все в ней восставало против гнусности сильного пола.
Теплый душистый воздух целовал и щеки Септимуса Дикса; чары ночи захватили и его. Но для него звезды, благоухание земли и волшебная красота моря — все это воплотилось в женщине, сидевшей рядом.
А она забыла даже о существовании бедняги Септимуса.
3
Когда экипаж остановился у подъезда Парижской гостиницы, Зора вышла, улыбаясь простилась со своим спутником и вошла в холл, сохраняя звездный свет в глазах. Молодой лифтер при виде ее решил, что мадам выиграла и даже не удержался — спросил, так ли это. Зора показала ему пустой кошелек и засмеялась. Тогда лифтер, которому не раз случалось видеть подобное сияние в женских глазах, пришел к убеждению, что мадам влюблена, и отворил перед ней дверь лифта с конфиденциальным видом француза, умеющего хранить любовные тайны. Однако он ошибался. Душа Зоры действительно была полна ликования, но мужчины не имели к этому никакого отношения. Если, раздеваясь, она и вспомнила о Септимусе Диксе, то лишь с улыбкой, как о забавном малом, причастном к ее сегодняшним переживаниям не больше, чем водосточная труба к собору. И как только ее голова коснулась подушки, она заснула крепким сном молодости.
Септимус же, отпустив извозчика, зашел в Кафе-де-Пари. Голод напомнил ему, что он сегодня еще не завтракал, о чем Зора позабыла так же, как о его существовании. К нему подошел официант, и он заказал довольно странный завтрак: абсент, яйца всмятку и земляничное мороженое.
Пораженный официант уставился на него, но поскольку в Монте-Карло привыкли ничему не удивляться, отер холодный пот со лба и пошел выполнять заказ.
Покончив с трапезой, Септимус перекочевал в сквер и половину ночи провел на скамье, глядя на Парижскую гостиницу и вопрошая себя, где могут находиться окна его прекрасной дамы. Когда потом Зора случайно упомянула, что окна занимаемого ею номера выходят на другую сторону — на море, Септимус почувствовал смутную обиду на судьбу, которая снова его одурачила; но в ту ночь он был счастлив созерцанием ее предполагаемых окон. Продрогнув до костей, молодой человек прошел, наконец, к себе и, не снимая шляпы, задумчиво курил до утра. Затем лег спать.
Два дня спустя Зора наткнулась на него утром на террасе казино. Он полулежал на скамье, занимая пространство между грузным германцем и его не менее увесистой женой; не обращая внимания на Септимуса, супруги переговаривались между собой поверх его головы. Соломенная шляпа съехала ему на глаза, ноги были скрещены. Несмотря на разговор супружеской четы (а немецкий бюргер не имеет привычки говорить шепотом, обращаясь к собственной жене) и на то, что мимо ежеминутно проходили люди, он мирно спал. Зора прошлась перед скамейкой раз-другой. Потом остановилась возле лифта, любуясь Ментонским заливом и городом — синей эмалью в золотой оправе. Она совсем забылась в этом радостном любовании, когда голос, раздавшийся позади, вернул ее к действительности.
— Очень мило, не правда ли?
Зора инстинктивно обернулась и увидела восхищенный взгляд неприятных желтых глаз на узком бритом лице англичанина.
— Да, красиво, — холодно ответила она, — но это еще не причина, чтобы заговаривать со мной, не будучи знакомым.
— Я не мог не поделиться своим восторгом с кем-нибудь, в особенности с такой красавицей. Вы, кажется, одна здесь?
Теперь Зора вспомнила, что встречала его и раньше, причем довольно часто. Накануне вечером он, видимо, умышленно, выбрал столик поблизости от нее. Потом ждал ее при выходе из театра и проводил до лифта. Очевидно, он искал случая заговорить с ней и наконец нашел. Зора вздрогнула, рассердилась и тут же почувствовала холодную жуткую дрожь где-то у самого сердца.
Такое чувство испытывает женщина, которая знает, что за ней кто-то идет по безлюдной улице.
— Нет, я, конечно, не одна, — резко ответила она. — Доброго вам утра!
Незнакомец с иронической учтивостью приподнял шляпу, а Зора быстро отошла — с виду величественная амазонка, в душе испуганная, трепещущая женщина. Она направилась прямо к мирно спящему Диксу и, втиснувшись между беседующими тевтонцами, разбудила его. — Литератора из Лондона позабавила бы эта сценка. — Септимус открыл глаза, с минуту, мечтательно улыбаясь, смотрел на Зору, потом вскочил на ноги.
— Ко мне тут приставал один мужчина. Он все время ходит за мной по пятам и вот сейчас посмел заговорить.
— Боже мой! Что же мне делать? Застрелить его?
— Не глупите! Это дело серьезное. Вы бы меня очень обязали, если бы немного со мной прошлись.
— С восторгом! — Они пошли вместе. — Но я тоже говорю серьезно. Если вы прикажете мне его застрелить, я застрелю. Для вас я готов на все. У меня в номере есть револьвер.
Зора засмеялась и сказала, что она не настолько мстительна.
— Я хотела только показать этому наглецу, что не так уж одинока и беспомощна, — заметила она с нелогичностью, присущей ее полу. Проходя мимо нахала, она одарила своего спутника нежнейшей улыбкой и спросила, зачем он возит с собой револьвер. При этом, однако, Зора не указала кровожадному Септимусу на обидчика.
— Револьвер, собственно, не мой, а Вигглсвика, — пояснил он. — Я обещал его беречь.
— А что делает Вигглсвик в ваше отсутствие?
— Читает полицейскую хронику. Я специально для него выписываю «Всемирные новости» и «Иллюстрированные полицейские новости», а он вырезает хронику и вклеивает ее в особый альбом. Но я, пожалуй, лучше себя чувствую без Вигглсвика: он мешает мне заниматься пушками.
— Кстати, вы вчера говорили о пушках. Причем здесь они? Какое вы имеете к ним отношение?
Он покосился на нее по-детски пугливо, уголками глаз, словно хотел удостовериться в том, что ей вполне можно доверять, и ответил:
— Я их изобретаю. Написал трактат об орудиях большого калибра.
— Да что вы! — удивилась Зора. Ей не пришло бы в голову, что он способен заниматься таким серьезным делом. — Расскажите мне об этом.
— Не теперь — как-нибудь в другой раз. Для этого мне нужно сесть, взять бумагу, карандаш и нарисовать диаграммы. Боюсь, что вам будет неинтересно. Вигглсвик не любит, когда я говорю о пушках — ему скучно слушать. Для этого надо родиться с любовью к машинам в крови. Иной раз такая любовь приносит только неудобства.
— Еще бы не неудобно — носить в себе зубчатые колесики вместо кровяных телец.
— Очень. Главное, надо все время следить, чтобы они не коснулись сердца.
— Что вы хотите этим сказать?
— Ведь что бы человек ни делал или не пытался делать, он должен оставаться человеком. Я знал одного мужчину, у которого вместо мозга в голове находился сложнейший механизм. Его сердце не билось, как у других людей, а тикало и шипело, как часы. И это было причиной смерти лучшей в мире женщины.
Он задумчиво смотрел в голубое пространство между небом и землей. Зору неожиданно потянуло к нему.
— Кто была эта женщина? — мягко спросила она.
— Моя мать.
Они стояли теперь, облокотившись на парапет над железнодорожной насыпью. Помолчав немного, Септимус добавил, слабо улыбаясь:
— Потому-то я и стараюсь всячески сохранить в себе человечность, чтобы, если меня когда-нибудь полюбит женщина, не обидеть ее.
По рукаву его ползла гусеница. Он осторожно снял ее и положил на лист алоэ, росшего неподалеку.
— Вы неспособны обидеть эту гусеницу, не только женщину, — сказала Зора, на этот раз очень дружелюбно.
— Ведь, убивая гусеницу, убиваешь бабочку, — ответил он, как бы оправдываясь.
— А убивая женщину…
— Есть ли что-нибудь выше ее?
Зора промолчала: философия мизантропки не подсказала ей подходящего ответа. Наступило долгое молчание. Септимус прервал его, спросив, читает ли она по-персидски. И сейчас же, как бы извиняясь за то, что знает этот язык, сказал, что так ему легче оставаться человеком. Зора засмеялась и предложила идти дальше.
Толпа на террасе постепенно редела. Зора проголодалась и сказала об этом своему спутнику. Септимус неуверенно заметил, что, вероятно, скоро уже время обеда. Зора возмутилась. Тогда он провел рукой по глазам и признался, что за последние дни как-то спутал последовательность своих трапез. И тотчас же его осенила блестящая мысль:
— А знаете что? Если я откажусь от послеобеденного чая, обеда и ужина и просто позавтракаю два раза подряд, то у меня снова все наладится. — И он засмеялся, негромко, каким-то тихим, воркующим смехом. Зора впервые слышала, как он смеется.
Они обогнули казино и остановились у подъезда. На крыльце, широко расставив ноги, стоял тот самый нахал с противными глазами и насмешливо на них глядел. Зоре снова захотелось ему показать, что она вовсе не одинока, не беззащитна и что есть кому оградить ее от докучных ухаживателей.
— Идемте завтракать со мной, мистер Дикс. Вы не смеете мне отказать, — сказала Зора и, не дожидаясь ответа, величественно проплыла мимо наглеца; за ней покорно следовал Септимус, всем своим видом показывая, что предан ей телом и душой.
Как всегда, взоры многих обратились в ее сторону, когда она вошла, — сияя красотой, вся в белом, в черной шляпе и черном боа из шифона, с темно-алой розой на груди. Метрдотель, гордясь такой клиенткой, повел ее к столику возле окна. Септимус неуверенно плелся сзади. Потом он сел и с безграничным обожанием уставился на свою даму. Для него их появление на людях было еще более волнующим событием, чем недавнее катание. То был всего лишь каприз богини, это — знак ее дружбы. Такая непривычная интимность смущала молодого человека до того, что он лишился дара речи. Септимус растерянно провел рукой по своей кудлатой голове, спрашивая себя: не снится ли ему все это? Напротив, отделенная от него только узкой полоской белой скатерти, сидела богиня, и ее карие с золотыми искорками глаза доверчиво ему улыбались; совершенно непринужденно, словно он был для нее близким человеком, она сняла перчатки, открыв взгляду свои дивные, волнующие теплой наготой руки. Не задремал ли он, как с ним нередко случалось, средь бела дня, и не грезится ли ему волшебная страна, где он так же красив и силен, как другие мужчины? Септимус ощутил на своей руке ласкающее прикосновение и обнаружил в руке такой-то мягкий и шелковистый предмет. В рассеянности он попытался засунуть его в рукав своего пиджака и тут только понял, что это была его салфетка.
Смех Зоры вернул его на землю — и к земному счастью.
Приятно позавтракать вот так, тет-а-тет, на террасе Парижской гостиницы в Монте-Карло. Перед террасой площадь, затененная высокими деревьями. Яркое солнце, фонтан, пальмы и голуби. Веселая белизна домов, голубовато-серые горы, резко выступающие на фиолетовом небе. Вокруг симфония спокойных красок: жемчужные тона легких летних платьев; белоснежное полотно, хрусталь и серебро столиков; светлая зелень салата, золотистая смуглость фруктов, нежная розовость лососины; то тут, то там вспыхивают яркие блики — цветы на женской шляпке, пурпурный или топазный блеск вина в граненом бокале. Но еще больше веселит душу прелесть уединения вдвоем. Единственный человек для вас здесь — ваш спутник или спутница. Вы словно очерчены волшебным кругом, отделившим вас от всех остальных людей, и они для вас — не более чем декорации, красивые или уродливые. Стоящие перед вами деликатесы неловко даже назвать пищей: какие-то загадочные лакомства, созданные из прохлады и неожиданных вкусовых ощущений — салат из рыбы, в котором дары моря и земли слились в холодную божественную гармонию; нежнейшее мясо ягненка, вскормленного на зеленых лугах, где растет златоцвет, в идеальном сочетании с тем, что люди называют соусом, хотя на самом деле это только масло, сливки и душистые травы, смешанные рукой какого-то небожителя; румяные персики, целомудренно одетые в снег и тающие во рту.
Конечно же, это отдых и услада. Эпикурейство? Да, но зачем питаться чечевицей, когда под рукой у вас лотос? К тому же в Монте-Карло и чечевица стоила бы не дешевле. Даже избалованному завсегдатаю модных ресторанов приятно позавтракать наедине с красивой женщиной в Парижской гостинице; тем больше очарования в таком уединении для юного, не испорченного жизнью существа, которому все эти ощущения внове.
— Я часто смотрел, бывало, как люди здесь едят, и спрашивал себя, что они при этом испытывают, — заметил Септимус.
— Но ведь вы, наверное, не раз завтракали точно так же?
— Да, но один. Со мной никогда не было… — Он запнулся.
— Кого?
— Прекрасной дамы, которая сидела бы напротив меня! — договорил он, краснея.
— Почему же?
— Не было такой, которая бы меня пригласила. Я всегда недоумевал, как это мужчины ухитряются знакомиться с женщинами и не теряться перед ними; по-моему это особый дар. — Он говорил теперь с глубокой серьезностью человека, решающего трудную психологическую задачу. — Некоторые люди, например, собирают старинные кружки и кувшины; куда бы они ни приехали, непременно отыщут там старинную кружку. А я, если бы и год искал, то не нашел бы; так и с этим. В Кембридже товарищи прозвали меня Сычом.
— Сыч охотится на мышей, — сказала Зора.
— А я даже этого не умею. Вы любите мышей?
— Нет. Я бы хотела охотиться на львов, тигров и на все, что в жизни есть яркого и радостного, — неожиданно доверчиво призналась Зора.
Он смотрел на нее с грустным восхищением.
— Ваша жизнь должна быть полна всем этим…
Она поглядела на него поверх ложки с персиком, которую собиралась поднести ко рту.
— Хотела бы я знать, имеете ли вы хоть отдаленное представление о том, кто я и что я, что здесь делаю одна, и почему мы с вами так восхитительно завтракаем вместе. Вы вот мне все рассказали о себе, а меня ни о чем не спрашиваете.
Ее немного даже задевало это кажущееся равнодушие. Но если бы такие люди, как Септимус Дикс, не доверялись безоглядно женщинам, откуда взялись бы в наш век рыцарство и вера? Зора вошла в его жизнь, и он принял ее так же просто, ни о чем не спрашивая, как некогда простой троянец принимал богиню Олимпа, которая являлась ему на розовом облачке, облеченной в славу (но, помимо этого, одетой крайне скудно).
— Вы — это вы, — сказал он, — и больше мне ничего не надо знать.
— Как вы можете быть уверены, что я не искательница приключений? Их, говорят, тут много. А если я воровка?
— Я предлагал вам взять на хранение мои деньги.
— Вы затем это и сделали, чтобы испытать меня?
Септимус покраснел и вздрогнул, как ужаленный. Зора поняла, что оскорбила его, тотчас же раскаялась и стала просить прощения.
— Нет! Я сказала не подумав. Ужасно скверно с моей стороны. У вас, конечно, не могла возникнуть такая мысль. Вы совершенно на это неспособны. Простите меня!
Повинуясь сердечному порыву, она протянула ему через стол руку. Он робко взял ее своими неловкими пальцами, не зная, что с ней делать и следует ли ее поднести к губам, и так держал, пока Зора сама, после легкого дружеского пожатия, со смехом не взяла руку назад.
— Вы знаете, эти деньги все еще у меня, — сказал Септимус, вынимая из кармана пригоршню крупных золотых монет. — Мне никак не удается их истратить. Я пробовал. Вчера купил собаку, но она хотела меня укусить, и пришлось отдать ее портье. Это золото такое неудобное, тяжелое, карманы оттопыриваются.
Зора, уже наученная опытом, объяснила ему, что золото можно обменять на ассигнации в отеле, у портье, и он удивился ее осведомленности. Такая мысль ему и в голову не приходила. И Зора снова почувствовала свое превосходство над ним.
Этот завтрак был первым из многих совместных завтраков и обедов; за обедами последовали прогулки, экскурсии и посещения театра. Если Зоре все еще хотелось убедить нахала с противными глазами, что у нее есть друзья, то она достигла цели. Правда, нахал и его приятели строили гнусные предположения относительно нее и Септимуса Дикса. Они вообразили, что это миллионер, попавший в сеть авантюристки. Но Зора, не подозревая о том, веселилась с легким сердцем и чистой совестью. Непреклонная в своей ненависти и презрении к мужчинам, она не видела в своих поступках ничего дурного. Да в них и не было ничего дурного, если судить с точки зрения ее молодого эгоизма и неопытности.
Она почти забыла о том, что Септимус мужчина, и относилась к нему по-матерински, как к ребенку. Однажды она встретила его выходящим из магазина с новой шляпой на голове, которая была ему мала, заставила вернуться и стояла рядом, пока он не выбрал себе более подходящий головной убор. В некотором смысле он походил на женщину, но застенчивую и деликатную, которой можно было вполне доверять. И еще одно новое ощущение появилось у Зоры после знакомства с Септимусом — ощущение своей власти над людьми. Но для того, чтобы разумно употребить такую власть, нужно быть мудрой, а женщина, мудрая в двадцать пять лет, в шестьдесят не может понять, почему она так и осталась старой девой. Всего приятнее пользоваться обретенной властью, как ребенок палкой, которой можно бить. Именно так и поступала Зора, отнюдь не мудрая в отношениях с Септимусом.
Впервые в жизни человек стал ее собственностью. Когда-то у нее была собака, умевшая проделывать разные фокусы, и это было восхитительно, но та радость обладания ничего не значила в сравнении с этой. Это было чудесно — чувствовать, что человек всецело тебе принадлежит. Как только у нее появлялось желание побыть в его обществе, — что бывало нередко, так как одиночество в Монте-Карло оказалось более тягостным, чем Зора предполагала, — она посылала за ним рассыльного, и тот всегда приводил ей желанную добычу.
Поэтому Септимуса будили теперь иногда в самые неподходящие для него часы — например, в три часа дня, когда, по его словам, все разумные люди должны спать, а если не спят, то только по причине своего неразумения; нередко его отыскивали в десять утра в каком-нибудь убогом маленьком кафе, где он ел мороженое и выглядел при этом неважно, поскольку провел всю ночь не раздеваясь. И так как из-за этих поисков задерживалось выполнение ее желаний, Зора потребовала, чтобы Септимус изменил свои привычки. Раздавая щедрые чаевые горничным и лакеям, жертвуя сном и пищей, он добился, наконец, того, что научился вставать и одеваться утром, в общепринятое время. А затем терпеливо ждал приказаний Зоры или же смиренно отправлялся за ними в ее резиденцию, словно зеленщик или мясник.
— Почему у вас волосы так странно торчат во все стороны? — спросила она его однажды. После эпизода со шляпой Зора взяла на себя заботу о внешности своего друга.
Септимус, подумав, ответил, что они его не слушаются — должно быть, он разучился с ними обращаться. Тогда ему велено было отправиться к парикмахеру и научиться причесываться. Молодой человек повиновался и вернулся оттуда напомаженный, прилизанный, с волосами, расчесанными на пробор — ни дать ни взять методистский проповедник. Зора посмотрела на него, ахнула — он, в самом деле, был ужасен — и объявила, что предпочитает видеть его лохматым, после чего Септимус, посоветовавшись с горничной в отеле, вымыл голову содой и снова вошел в милость у своей повелительницы.
Но так как Зора была добра и по натуре отнюдь не тиранка, она временами испытывала угрызения совести и говорила ему:
— Если вам хочется делать что-нибудь другое, пожалуйста, не стесняйтесь.
Но Септимус, тусклым взором обозрев открывающиеся перед ним возможности, обычно заявлял, что, кроме предложенного Зорой, не знает, что ему еще делать. Тогда она начинала его отчитывать:
— Нельзя же так! А если бы я предложила вам переплыть через Анды и закусить жареными лунными лучами, вы бы тоже сказали «да»? Почему у вас совсем нет инициативы?
— Не знаю. Такой уж я, должно быть, уродился. Тихий. Есть такие. А некоторые скачут, как кузнечики. Знаете, кузнечики ведь очень занятные. — И он стал говорить о насекомых.
Постепенно они подружились и рассказали друг другу все о себе. Зора знала теперь нехитрую историю жизни Септимуса. Без отца и матери, без братьев и сестер, он был совершенно одинок. От отца, сэра Эразмуса Дикса, весьма известного в свое время инженера, суровости которого в раннюю пору детства Септимуса молодой человек был обязан своей застенчивостью, он унаследовал небольшое состояние. После окончания Кембриджского университета Септимус бесцельно странствовал по Европе. Теперь он жил в небольшом домике в Шепгерд-Буше; при доме была мастерская, или сарай, служивший ему лабораторией для опытов.
— Почему именно в Шепгерд-Буше? — полюбопытствовала Зора.
— Вигглсвику нравится там жить.
— И теперь весь дом в его распоряжении? Я уверена, что он спит в вашей спальне, пьет ваше вино и курит ваши сигареты со своими друзьями. У вас все это запирается?
— О да, конечно.
— А где ключи?
— Как где? У Вигглсвика.
Зора рассердилась: — Нет, до чего вы меня злите! Если я когда-нибудь встречу этого вашего Вигглсвика…
— И что же тогда будет?
— Я поговорю с ним по-своему. — И глаза ее сверкнули угрозой.
Зора также была откровенна с Септимусом — насколько женщина может быть откровенной с мужчиной. Разумеется, она внушила ему, что мужчины все до единого противны ей в любых своих проявлениях — физических, моральных и духовных. Септимус, подумав, согласился с ней. Те мужчины, которых он знал близко, не оставили в нем приятных воспоминаний: его отец, у которого в крови были зубчатые колесики вместо кровяных телец и машина вместо сердца; Вигглсвик, грубый и неприятный; товарищи-студенты, тоже грубые буяны и распутники, делавшие всякие гадости, — однажды они разложили посреди двора костер и сожгли его пиджак и новенький зонтик… Септимус составил себе о мужчинах весьма невысокое мнение. Более того, он полагал, что и в нем самом есть задатки ужасающей развращенности.
— Когда вы так говорите, я чувствую, что недостоин даже развязывать женские башмаки.
— Вот это хорошо! — одобрила Зора. — И продолжайте в том же духе. Не будете ли вы так добры завязать мне этот несносный ботинок? Он все время развязывается. — Незадачливый влюбленный в благоговейном восторге склонился над ее ботинком, но Зора заметила только, что когда он нагнулся, у него покраснели уши.
В том-то и заключалась для нее прелесть их общения, что Септимус никогда не переходил установленных ею границ. Вспоминая пророчество литератора из Лондона, она презрительно кривила губы. Во всяком случае, она нашла мужчину, на которого ее красота не действовала и с которым она не проделывала никаких эмоциональных опытов. Она чувствовала, что с Септимусом, ничем не рискуя, может ехать хоть на край света. Эта мысль пришла Зоре в голову однажды утром, в то время как ее горничная расчесывала ей щеткой волосы. И тотчас же она подумала: «Почему бы и нет?»
— Турнер, — промолвила молодая женщина, — мне начинает надоедать Монте-Карло. Я хочу в Париж. Как вы думаете, не предложить ли мистеру Диксу поехать с нами?
— Я полагаю, это было бы совершенно неприлично.
— Ничего тут нет неприличного, — вспыхнула Зора. — Как вам не стыдно, Турнер, что у вас такие мысли!
4
В Монте-Карло, как всем известно, есть пассаж, где за бешеные деньги продаются кружева, бриллианты и всевозможные предметы роскоши, есть отель «Метрополь» и ресторан «Чиро». А в самом ресторане есть терраса, на которой расставлены накрытые к послеобеденному чаю столики под розовыми скатертями.
В этот уже не ранний час, кроме дородного англичанина в белом фланелевом костюме и панаме, просматривающего иллюстрированный журнал у входа, и Зоры с Септимусом, на террасе никого не было. В зале, у бара, стояло несколько мужчин, тянувших через соломинку американские коктейли. В ресторане уже зажигали электрические лампы, и музыканты цыганского оркестра в красных расшитых куртках поодиночке проходили на свои места. Зора и Септимус только что вернулись с экскурсии в Канны, занявшей почти весь день. Оба были приятно утомлены; им не хотелось разговаривать, и оба с удовольствием прихлебывали чай. Септимус сонно размышлял о тошнотворном сочетании шоколадного пирожного и папиросы. Зора от нечего делать разглядывала дородного англичанина, который неожиданно повел себя несколько странно: вырвав середину из журнала — какого-то американского ежемесячника, он отдал ее лакею, а страницы с объявлениями сунул себе в карман; из другого кармана англичанин вынул новый журнал и принялся с большим вниманием и интересом читать страницы объявлений.
Вскоре внимание Зоры было отвлечено молодой, прилично одетой, судя по всему, супружеской парой. Они ходили по террасе, прошли мимо, поглядев на нее, потом снова вернулись, посмотрели еще раз, внимательно и грустно, отошли подальше, о чем-то посовещались и опять приблизились. Наконец женщина, набравшись смелости, подошла к их столику.
— Простите, мадам, но у мадам такое доброе лицо. Может быть, мадам не рассердится, что я позволила себе к ней обратиться?
Зора приветливо улыбнулась. Женщина была молодая, хрупкая, с измученным лицом и жалобным взглядом. Мужчина, бывший с ней, тоже подошел поближе и снял шляпу. Женщина продолжала говорить. Они не раз уже видели здесь мадам и месье тоже; мадам и месье оба такие добрые на вид, как, впрочем, все англичане. Сама она француженка, но должна признать, что англичане добрее и великодушнее французов. Они долго не решались, но у мадам такие добрые глаза — ей все можно сказать. Приехали они в Ниццу из Гавра, потому что у них здесь есть дело в суде. Этот судебный процесс поглотил все деньги, которые у них были. Потом заболел их ребенок, совсем маленький, грудной. Доведенные до отчаяния, они решили съездить в Монте-Карло, рискнуть последними деньгами. И все проиграли. Это было безумие, конечно, но у беби в тот день появилось на груди девять красных пятнышек, и им показалось, что сам Господь подает им знак, чтобы они поставили на девять и на красное. Теперь-то она знает, что это было вовсе не знамение свыше, а просто сыпь у беби — он заболел корью, — но теперь уже слишком поздно. И вот они сидят без гроша. Беби необходимы доктор и лекарства, иначе он умрет. Они решили прибегнуть к последнему средству: забыть о своей гордости и обратиться к великодушию мадам и месье. Глаза женщины были полны слез; уголки ее губ дрожали. У Зоры сжалось сердце: рассказ был так правдив, у хрупкой женщины такие трогательные глаза. Зора раскрыла кошелек.
— Ста франков достаточно, чтобы вас выручить? — спросила она, собрав все свои познания во французском языке.
— О да, мадам!
— И я дам сто франков для беби, — сказал Септимус. — Я люблю маленьких детей, и у меня самого была корь. — Он вынул бумажник.
В то же мгновение что-то сильно ударило его в спину. Это был журнал, брошенный дородным англичанином. И тотчас же сам владелец журнала с бранью накинулся на просителей, закричав им по-французски:
— Убирайтесь прочь! Свиньи! Проваливайте! Живо!
Было что-то устрашающее в его британском акценте.
Мужчина и женщина, видимо, испугавшись, отошли. Англичанин махнул им рукой, чтобы уходили.
— Не давайте им ничего. Никаких пятнышек у беби нет. И беби никакого нет. Они все врут. Это известные попрошайки. Их давно уже сюда не пускают. Знаю я вас. Вы Жорж Полен и Селестина Макру, грязные воришки! Вон отсюда, или я позову полицию!
Последние слова он выкрикнул уже вслед покорно удалявшейся паре.
— Скажите мне спасибо, что я сберег вам двести франков, — говорил дородный англичанин, поднимая ежемесячник и бережно его разглаживая. — Здесь вообще воровской притон, но эти двое — самые ловкие обманщики.
— Мне как-то не верится, — сказала Зора с досадой и разочарованием. — У женщины глаза были полны слез.
— И все же я сказал правду, — ответил ее защитник. — Но лучше всего то, что этот негодяй — уполномоченный агент Джебузы Джонса, повсюду пропагандирующий его «мазь от порезов».
Он стоял, упершись руками в широкие бока, с видом человека, который сообщает нечто невероятное, но чрезвычайно важное.
— Почему же это лучше всего? — спросила недоумевающая Зора.
— Потому что доказывает, насколько они неразборчивы в ведении своих дел. Они способны взять в агенты даже разносчика или гробовщика. Но этот тип еще себя покажет. Он и их проведет.
— Кого их?
— Разумеется, Джебузу Джонса. Ах, вот что! — он усмехнулся, глядя на озадаченные лица Зоры и Септимуса. — Вы не знаете, кто я такой. Я Клем Сайфер!
Он переводил глаза с одной на другого, словно желая увидеть, какое впечатление произвели его слова.
— Очень рад с вами познакомиться, — сказал Септимус, — и благодарю за услугу.
— Ваше имя?
— Мое имя — Дикс, Септимус Дикс.
— Счастлив познакомиться. Мы уже встречались два года назад. Вы сидели тогда на кушетке в отеле «Континенталь», в Париже. У вас были глубокие царапины на лице.
— Господи! Да, да, помню. Это я побрился безопасной бритвой. Собственного изобретения.
— Я тогда еще хотел поговорить с вами, но мне помешали. — Клем Сайфер повернулся к Зоре. — И с вами я встречался — на Везувии, в январе. Вам сопутствовали две пожилые дамы. Вы тогда были смуглой, как цыганка, должно быть, загорели. С дамами я познакомился на другой день в Неаполе. А вы уже уехали, но они сообщили мне вашу фамилию. Позвольте! Мне все знакомы, и я никогда ничего не забываю. У меня в голове все разложено по полочкам, как в моей конторе. Не подсказывайте, я сам припомню.
Он поднял указательный палец и прищурил один глаз. Потом торжествующе воскликнул:
— Вспомнил! Миддлмист, а имя восточное — Зора. Верно?
— Совершенно верно, — засмеялась она. Удивленная тем, что этот господин запомнил ее имя, она не обратила внимания на необычность его поведения.
— Ну теперь, значит, мы все знакомы, — сказал Клем Сайфер, описав своим стулом круг в воздухе и без приглашения подсаживаясь к их столику. — Вы оба страшно загорели, и вода здесь жесткая, так что кожа шелушится. Взяли бы вы немного крема. Я его каждый день употребляю. И в результате — поглядите!
Он провел рукой по своему гладкому бритому лицу и в самом деле розовому, как у годовалого ребенка. Его острые, зоркие глаза представляли странный контраст с пухлыми румяными губами и круглым подбородком.
— Какого крема? — вежливо спросила Зора.
— Как какого крема? Моего, конечно. Какого же еще?
Он повернулся к Септимусу, рассеянно уставившемуся на него. И только тут стал понемногу догадываться, в чем дело.
— Я Клем Сайфер, Друг человечества. Крем Сайфера. Теперь вы знаете?
— Мне очень совестно, но я вынуждена сознаться в своем невежестве.
— Я также, — сказал Септимус.
— Господи Боже! — ужаснулся Сайфер, ударив обеими руками по столу. — Да вы хоть объявления читаете когда-нибудь?
— Боюсь, что нет, — ответила Зора.
Под его укоризненным и огорченным взглядом оба чувствовали себя примерно так же, как ученики воскресной школы, перепутавшие царей Израиля.
— Вот она награда за то, что для блага людей тратишь миллионы фунтов и заставляешь работать лучшие умы в стране! Это моя визитная карточка, а здесь несколько объявлений. Почитайте на досуге, не пожалеете. Стоит прочесть!
Он поднялся с видом скромного, но оскорбленного достоинства. Зора, видя, что этот странный человек очень задет их поведением, хотя ей и непонятно было, чем они провинились, посмотрела на него и мило улыбнулась:
— Не обижайтесь на меня, мистер Сайфер. Я так вам признательна за то, что вы избавили нас от этих жуликов.
Когда Зора улыбалась мужчине, она была неотразима. Розовое лицо Сайфера смягчилось.
— Ну ладно. Я вам пришлю все объявления, какие мне сегодня попадутся под руку.
Он вежливо приподнял шляпу и отошел. Зора тихонько рассмеялась.
— Вот чудак!
— У меня такое ощущение, словно я беседовал с тайфуном, — заметил Септимус.
Вечером они отправились в театр и в антракте вышли побродить по залам. У стола с пирожными и напитками к ним присоединился мистер Клем Сайфер. Он приветствовал их, как старых знакомых.
— Я был уверен, что встречу вас. Ну как? Везет вам?
— Мы никогда не играем, — сказала Зора.
Это была правда. Женщины обычно либо с головой уходят в страсть к игре, либо избегают играть в силу бережливости. После той первой попытки Зора больше не подходила к игорному столу. Септимус играл иногда, но он не шел в счет.
— Мы не играем, — повторила Зора.
— Я тоже не играю, — сказал Сайфер.
— Чтобы наслаждаться жизнью в Монте-Карло, нужно забыть о существовании этих залов. Я предпочла бы, чтобы их вообще не было.
— О нет, не говорите так! — с живостью воскликнул Сайфер. — Казино весьма разумное учреждение. Туда съезжаются люди со всех концов света. Я приезжаю каждый год и за день приобретаю здесь больше знакомых, чем в других местах за месяц. Скоро здесь не останется человека, которого бы я не знал, и каждый из них увезет с собой в Эдинбург, Стокгольм или Монтевидео — во все концы земного шара — личное знакомство с создателем крема.
— Ну да, конечно. С этой точки зрения…
— Разумеется. С какой же еще! Вы понимаете, как это для меня выгодно. Личное знакомство пробуждает интерес. Оно доказывает, что «Друг человечества» — не пустая фраза. Каждый мой новый знакомый рекомендует крем своим друзьям, и таким образом популярность его растет, как снежный ком. Прочли вы памфлет?
— Ну еще бы, — солгала Зора. — Чрезвычайно интересно.
— Я не сомневался, что вам понравится. Кое-что приготовил для вас еще.
Он порылся в карманах, вытащил две маленькие коробочки из целлулоида и протянул их Септимусу.
— Вот два пробные образчика крема: один для миссис Миддлмист, другой — для вас, мистер Дикс Вы оба загорели. Попробуйте на ночь втереть немного крема в кожу. Завтра утром вы увидите чудо. У вас нигде нет сыпи?
— О Боже, нет! Конечно, нет, — воскликнул Септимус, замерший в созерцании двух красных коробочек.
— Жаль. Очень жаль. Было бы так приятно вас вылечить. А! — он метнул взгляд на другой конец комнаты. — Это лорд Робенгем. Надо будет справиться, как его экзема. Теперь вы будете помнить? Клем Сайфер, Друг человечества.
Он с поклоном отошел от них, пробираясь сквозь толпу, — широкоплечий, массивный, словно некое благодетельное божество, шествующее в окружении своих почитателей.
— Что мне с этим делать? — спросил Септимус, держа в каждой руке по коробочке.
— Мою, во всяком случае, отдайте мне, а то Бог весть что с ней может случиться, — засмеялась Зора и спрятала образчик крема в свою сумочку.
На следующее утро ей принесли огромную корзину роз и пачку газет вместе с визитной карточкой, на которой значилось: Мистер Клем Сайфер, Курхаус, Кильбернский приход — Зора немножко рассердилась за цветы. Принять их — значило дать согласие на продолжение знакомства с Сайфером. Отослать назад было бы слишком уж нелюбезно, принимая во внимание то, что он сберег ей сто франков и хотел снять ее воображаемый загар. Она еще раз взглянула на карточку и рассмеялась. Как это похоже на него — назвать свою резиденцию Курхаусом!
Септимус, как всегда, уж дожидался ее в холле. Зора заметила, что он выглядел наряднее обычного в своем кашемировом костюме и что его желтые ботинки ослепительно блестели. Они пошли пройтись, и первым же, кто им попался на глаза, был Друг человечества. Он грелся на солнышке на площади, бросая голубям хлебные крошки из бумажного кулька. Завидев Зору и Септимуса, их новый знакомый тут же высыпал на землю все содержимое кулька и двинулся через площадь им навстречу.
— Доброе утро, миссис Миддлмист, доброе утро, мистер Дикс. Ну что, попробовали крем? Я вижу, вы попробовали, миссис Миддлмист. Не правда ли, он чудодейственный? Если бы вы только согласились пройти по Монте-Карло с плакатом: «Попробуйте крем Сайфера». А вы как находите его, мистер Дикс?
— Я? — Септимус смутился. — Я с вечера забыл попробовать, а утром оказалось, что у меня нет крема для ботинок, и я…
— Вычистили их кремом Сайфера? — ужаснулась Зора.
— Ну да. И знаете, очень хорошо получилось. — Он с довольным видом посмотрел на свои ослепительные ботинки.
Клем Сайфер покатился со смеху и потрепал по плечу Септимуса.
— Ну что, не говорил ли я вам? — в восторге восклицал он. — Не говорил ли я вам, что он на все годится? Какой еще крем может придать такой блеск обуви? Ей-Богу, мистер Дикс, вас стоит внести в список постоянных бесплатных клиентов. Теперь я добавлю к своим объявлениям еще одну строку: «Если ваша кожа в порядке, попробуйте его на ботинках». Ах черт! Я непременно это сделаю. У него есть идеи, миссис Миддлмист! Мы должны его поощрить.
— Мистер Дикс — изобретатель, — пояснила Зора. Ей понравилось, что Сайфер не обиделся, а рассмеялся, и она мило поблагодарила его за цветы.
— Я хотел, чтобы они покраснели при виде вашего цвета лица после употребления крема.
Услышав комплимент, Зора нахмурилась; но поскольку комплимент был профессиональным, она тут же невольно улыбнулась. Помимо всего прочего, день выдался удивительный, у Зоры не было никаких забот и огорчений, и она знала, что новая шляпа очень ей к лицу.
На площади показался пустой автомобиль. Шофер почтительно приветствовал Сайфера.
— Я отвезу вас обоих в Ниццу, — предложил Клем Сайфер. — Мне нужно повидаться там с моим агентом и нагнать на него страху. А потом доставлю обратно. Согласны? Не отказывайтесь!
Машина была роскошная — «мерседес» в сорок лошадиных сил, с мягкими зелеными подушками. Клем Сайфер, розовый и сильный, умоляюще смотрел на Зору; солнце светило так ярко, голубое небо было безоблачным; притом же с ней был Септимус Дикс, верный телохранитель. Зора нерешительно повернулась к Септимусу.
— Что вы скажете?
Септимус пробормотал что-то невнятное. Сайфер торжествовал, Зора пошла за своим пальто и шарфом. Сайфер с восхищением проводил ее взглядом — высокую, стройную, гибкую. Натягивая на себя автомобильный плащ, поданный ему шофером, он обратился к Септимусу:
— Послушайте, мистер Дикс, я человек прямой и обо всем говорю прямо. Вы только не обижайтесь. Я не стою вам поперек дороги?
— Ничуть, — краснея ответил Септимус.
— Что касается меня, то я не дорожу ничем на свете, кроме своего крема. Этого достаточно, чтобы заполнить жизнь. Но мне приятно прокатить в своей машине такую красавицу, как миссис Миддлмист. Она обращает на себя всеобщее внимание, и как мужчина и предприниматель я могу только гордиться тем, что меня видят в ее обществе. Но и только. Теперь скажите мне откровенно, что у вас на уме.
— По правде говоря, мне не очень нравится, что вы смотрите на миссис Миддлмист, как на рекламу, — сказал Септимус. Ему стоило больших усилий высказаться столь откровенно.
— Вам это неприятно? Хорошо, не буду. Я люблю, когда со мной говорят прямо. Таких людей я уважаю. Вот вам моя рука. — Он горячо пожал руку Септимуса. — Чувствую, что мы с вами будем друзьями. Я никогда не ошибаюсь. Надеюсь, что и миссис Миддлмист позволит мне стать ее другом. Расскажите мне о ней.
Септимус снова мучительно покраснел. Он принадлежал к тем людям, которые не говорят с чужими о знакомых женщинах, хотя бы эти чужие и напрашивались к ним в друзья.
— Возможно, ей это будет неприятно.
Сайфер снова похлопал его по плечу: — Отлично! Превосходно! Мне страшно нравится. И не надо говорить. Знать-то я должен, потому что знаю все, но лучше спрошу у нее самой.
Зора вернулась в пальто, закутанная в газовый шарф, подчеркивавший красоту и нежность ее лица. Она казалась такой высокой и величавой, а Сайфер — таким большим и сильным, в обоих было столько кипучей жизни, что Септимус весь съежился, ощущая себя слабым и незначительным. Его слабый голос никто бы и не услышал, когда они оба говорили в полную силу. Бедняга совсем ушел в свою раковину. Если бы он не чувствовал, что без него в качестве сторожевого пса, пусть даже крохотной болонки, Зора не приняла бы приглашения Сайфера, он бы извинился и не поехал. Он отлично видел разницу между собой и Клемом Сайфером и ничуть не обольщался тем, что Зора в первый же вечер их знакомства поехала с ним кататься. Она поступила так потому, что не считала его опасным. Просто-напросто взяла двумя пальчиками и унесла с собой, как бробдингнегские дамы Гулливера. А с Сайфером она бы не поехала одна, так же как и с тем нахалом, который к ней приставал. Септимус не то чтобы проанализировал все — мысли у него всегда были туманные и путаные — он понял это чутьем, как собака понимает, кому может доверять ее хозяйка, а кому нет. И пока Зора и Сайфер спорили о том, где кому садиться, он скромно уселся впереди, рядом с шофером, и, несмотря на увещания Сайфера, не согласился пересесть поближе к ним. Здесь он был как раз на своем месте, настороже, а там, рядом с этими двумя людьми, казалось, излучавшими жизненную силу, ему было бы не по себе.
День был на редкость ясный и красивый. Ночной ливень прибил пыль, омыл листья пальм, апельсиновых деревьев и алые цветы, буйно цветущие у дороги. На горизонте Средиземное море сливалось с небом, и на эту яркую синеву глазам было больно смотреть. В разгар пышного лета после дождя снова повеяло весной, и воздух пьянил, как пряное прохладное вино.
Зора слушала, как Клем Сайфер превозносил свой крем. Быть может, дурманящий морской воздух ударил ему в голову, но только никогда еще ей не приходилось видеть человека, который бы так упивался собственными словами. На каждом повороте дороги открывались волшебные картины, при виде которых захватывало дух от восторга. Пурпурные утесы, смеясь, глядели в море. Далекие белые городки, лепившиеся по склонам горы, тонули в райских садах. А Сайфер все пел хвалы своему крему.
— Когда я понял, чего достиг, миссис Миддлмист, — разглагольствовал он, — то всю ночь провел в лаборатории, глядя на стоявшую предо мной баночку крема и, подобно рыцарям в старину, дал себе торжественную клятву посвятить свою жизнь распространению его среди народов земли. Он должен, говорил я себе, облегчать страдания королей во дворцах и крестьян в их бедных хижинах, стать абсолютно необходимым и обитателям лондонских трущоб, и кочевникам диких степей. Я поклялся сделать его известным во всем мире — от Китая до Перу и от мыса Горн до Новой Земли. Он будет утешением всех страждущих. А я — я буду Другом человечества. Ради этого стоит жить. Мне тогда было двадцать лет, теперь мне сорок. Двадцать лет жесточайшей борьбы, какую когда-либо приходилось вести человеку!
— Но вы, конечно, вышли из нее победителем, мистер Сайфер.
— Я сочту себя победителем только тогда, когда мой крем получит всемирную известность. — И он округлил руки, изображая земной шар.
— Почему бы этому и не быть?
— Это должно быть. Иногда мне кажется, что, если вы будете со мной, мне все удастся.
— Я? — Зора невольно отодвинулась и уставилась на него в полном недоумении. — Я? Причем же тут я?
— Еще не знаю, но верю. Интуиция. Я всегда верил в предчувствия, всегда им следовал, и ни разу еще они меня не обманули. Как только вы мне сказали, что никогда не слыхали обо мне, я это почувствовал.
Зора вздохнула с облегчением: его слова не были замаскированным объяснением в любви.
— Я борюсь с силами мрака, — продолжал Сайфер. — Как-то мне довелось прочесть «Царицу фей». Там описаны подвиги рыцаря Красного Креста, который убил дракона, но его вдохновила на бой женщина, красавица, какие бывают только в сказках. Когда я увидел вас, вы показались мне похожей на нее.
У выступа стены, как жертвенник, пламенел высокий кактус, весь осыпанный цветами. Зора от души рассмеялась.
— Декорации здесь совсем как в волшебной сказке. С какими же силами мрака вам приходилось бороться, сэр рыцарь Красного Креста?
— С мазью от порезов Джебузы Джонса, — свирепо буркнул Сайфер.
Это и был дракон, с которым всю жизнь сражался Клем Сайфер.
— Вы говорите так, словно само небо освятило ваше предприятие, — сказала Зора.
— Миссис Миддлмист, если бы я не верил в свое предназначение, неужели посвятил бы всю жизнь этому делу?
— Я думала, такими делами занимаются ради наживы…
На обратном пути Септимус, подняв воротник до ушей, снова сидел возле шофера. Его утешил счастливый час, который он провел наедине с Зорой, излагая ей собственную научную концепцию детских колясок, пока Друг человечества нагонял страх на своего агента в Ницце. Сайфер назидательно заметил, обращаясь к Зоре:
— В конечном счете, главное — это иметь цель в жизни. Не все, разумеется, могут иметь такую цель, как у меня, — он словно извинялся за бедное человечество, — но все же какой-то руководящий принцип у них должен быть. Какая цель у вас?
Зора не сразу нашлась, что ответить на такой неожиданный вопрос. Какой была ее цель в жизни? Узнать, как устроен мир и что придает яркость его краскам — цель довольно неопределенная, а если выразить ее словами, она может показаться и вовсе нелепой. Молодая женщина отделалась шуткой:
— Вы ведь, кажется, уже решили, что моя миссия — помочь убить дракона.
— Выбирать себе миссию мы должны сами.
— Не находите ли вы, что это вполне достаточная цель для женщины, которая всю жизнь прожила, как в тюрьме, и наконец вырвалась на свободу: увидеть все, что есть на свете интересного, — и вот эту дивную природу, и картины, и архитектуру, и нравы и обычаи других народов, и людей с иными чувствами и взглядами, чем те, кого она знала в своей тюрьме. Вы говорите так, словно осуждаете меня за то, что я не делаю чего-нибудь полезного. Разве того, что я делаю, недостаточно? И что еще я могу делать?
— Не знаю, — сказал Сайфер, разглядывая свою перчатку: потом повернул голову и вскинул на нее глаза. — Но вы, такая роскошная, яркая, с таким звучным голосом, кажетесь мне олицетворением силы; в вас, как и во мне, есть что-то большое, крупное, победительное, и я понять не могу, почему ваша сила не находит себе применения.
— Да погодите же! Дайте мне время развернуться, понять самой, что я за человек. Говорю же вам, что я жила в тюрьме. Потом мне показалось, что я вышла на свободу и нашла цель жизни, как вы это называете. А затем все рухнуло. Я вдова — вы, вероятно, уже догадались? О нет, молчите! Это не от горя. Мое замужество продолжалось полтора месяца и было сплошной мукой. Я стараюсь забыть о нем. Я вырвалась на волю, уехала из дому всего пять месяцев назад, чтобы увидеть все это, — она сделала широкий жест рукой, — впервые. Сила моя до сих пор уходила на то, чтобы побольше узнать и впитать увиденное.
Зора говорила серьезно и горячо. Только после того как воцарилось молчание, она с удивлением поняла, что раскрывает душу перед апостолом шарлатанства. Он ответил не сразу. Молчание становилось тягостным, и Зора стиснула руки, уже жалея о своей откровенности. Но когда Сайфер заговорил, голос его звучал мягко и ласково.
— Вы оказали мне большую честь, высказав все это. Я понимаю. Вы хотите взять от жизни как можно больше и когда возьмете то, что вам хочется, и оцените по достоинству, тогда используете. У вас много друзей?
— Совсем нет. По крайней мере, таких, которые были бы сильнее меня.
— Хотите взять меня в друзья? Силы во мне достаточно.
— Охотно, — сказала Зора, побежденная его искренностью.
— Это хорошо. Я, может быть, сумею помочь вам, когда для вас станет ясно, в чем ваше призвание. Во всяком случае, могу сказать вам, как добиться желаемого. Вы должны поставить перед собой цель и прямо идти к ней, не отводя от нее взгляда, не смотря ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. И, главное, не оглядываясь назад — это самое опасное: всего вернее в Священном писании сказано о жене Лота. Она оглянулась назад — и была превращена в соляной столб. И, без сомнения, — помолчав, закончил он, — какой-нибудь Клем Сайфер того времени, набрев на этот столб, воспользовался случаем и обклеил его весь объявлениями о своем креме или мази.
5
Срок, отведенный Зорой на пребывание в Монте-Карло, подошел к концу. Она решила ехать отсюда в Париж, куда настойчиво звали ее знакомые американцы, с которыми она встретилась во Флоренции и обменивалась теперь почтовыми открытками; потом — в Лондон, а затем устроить себе небольшой отдых в лаванде, в Нунсмере. Такова была ее программа. Септимус Дикс должен был сопровождать Зору в Париж, вопреки приличиям — в понимании Турнер. Что он будет делать потом, — над этим вопросом никто не задумывался и меньше всех сам Септимус. О возвращении в Шепгерд-Буш он не заговаривал. За время пребывания за границей у него появилось несколько блестящих идей, которые нуждались в тщательной разработке. Из этого Зора сделала вывод, что он намерен сопровождать ее и в Лондон.
Часа за два до отправления поезда Зора послала свою горничную в отель, где жил Септимус, напомнить ему об отъезде. Турнер, расторопная женщина лет сорока, как и ее госпожа, глубоко презиравшая мужчин, вернулась, преисполненная негодования. После долгих переговоров с мистером Диксом через служащего отеля, плохо понимавшего по-английски, Турнер, по просьбе мистера Дикса, поднялась к нему в комнату. И застала его полуодетым, в халате. Он стоял посреди комнаты и беспомощно глядел на груду одежды и туалетных принадлежностей, не влезавших в его уже доверху набитые чемоданы.
— У меня ничего не получается, Турнер! — пожаловался он. — Что же мне делать?
Турнер ответила, что не знает, но ее госпожа велела напомнить ему, чтобы он не опоздал на вокзал.
— Придется оставить все, что не влезает в чемоданы, — в отчаянии решил он. — Впрочем, я всегда так поступаю. Велю здешней горничной отдать все каким-нибудь вдовам или детям. Но это, знаете ли, ужасно дорого обходится. Потом опять все нужно будет покупать. Оттого путешествия и стоят так дорого.
— Но ведь все это, сэр, вы привезли с собой, в этих самых чемоданах?
— Должно быть, так. Только укладывал не я, а Вигглсвик. Ну а у него профессиональная выучка.
Турнер понятия не имела о прежней профессии Вигглсвика и потому не поняла намека. Зора же не сочла нужным просветить ее, когда та передавала этот разговор.
— Если все вошло тогда, значит должно войти и теперь, — сказала Турнер.
— Не входит. Не вмещается, — вздохнул Септимус.
Вид у него был настолько растерянный, а голос звучал так жалобно, что Турнер почувствовала к нему презрительное сострадание. К тому же ее умелые женские руки давно чесались внести порядок в этот хаос, сотворенный мужчиной.
— Выбросьте все из чемоданов — я уложу вам вещи, — решительно сказала она, махнув рукой на приличия. Но, приглядевшись, в ужасе всплеснула руками. Рубашки у него были уложены вперемежку с ботинками, верхняя одежда свернута в клубок, в воротнички всунута губка, колодки лежали отдельно от ботинок на ничем не обернутом флаконе с шампунем; щетки он засунул в карман чемодана вместе с коробкой зубного порошка, от которой уже отскочила крышка. Встряхнув его костюм, Турнер нашла в нем пару полотенец, принадлежащих отелю и неизвестно как туда попавших. Она показала их Септимусу, строго заметив:
— Не удивительно, что ваши вещи не входят в чемодан, если вы засовываете туда гостиничное белье. — И она швырнула полотенца в угол.
Через двадцать минут все было уложено — разумеется, не хуже, чем это делал Вигглсвик. Септимус смущенно поблагодарил ее.
— На вашем месте, сэр, я бы сейчас же поехала на вокзал и сидела там на чемоданах до приезда моей госпожи.
— Пожалуй, я так и сделаю, — ответил Септимус.
Турнер вернулась к Зоре раскрасневшаяся и взволнованная.
— Если вы думаете, мэм, что мистер Дикс поможет нам в дороге, то очень заблуждаетесь. Он потеряет и свой билет, и багаж, и сам потеряется, а мы вынуждены будем его искать.
— Мистера Дикса нужно воспринимать иначе — с юмором, — сказала Зора.
— У меня нет охоты никак его воспринимать, мэм. — И Турнер презрительно фыркнула, как и полагалось столь добродетельной особе.
Зора нашла Септимуса ожидающим ее на вокзале в обществе Клема Сайфера, который преподнес ей букет роз и пачку иллюстрированных изданий. Септимусу он на прощание подарил огромную банку своего крема, которую тот уныло прижимал обеими руками к груди. Сайфер же позаботился и об их багаже. Его громовой голос разносился по всему вокзалу. Септимус смотрел на него с завистью, удивляясь, как это он осмеливается так командовать французскими железнодорожными служащими.
— Если бы я вздумал здесь так распоряжаться, они бы меня арестовали. Я как-то попробовал на улице вмешаться в одну историю…
Зора не дослушала, чем закончилась его попытка. Все ее внимание до последнего звонка было поглощено Сайфером.
— Ваш адрес в Англии? Вы мне еще не дали его.
— Пишите: Нук, Нунсмер, Суррей — мне перешлют.
— Нунсмер? — он задумался, стоя с карандашом в руке и глядя на Зору, уже стоявшую в рамке вагонного окна. — Нунсмер! Я знаю это место. В прошлом году едва не купил там усадьбу. Нужна была такая, где лужайка доходила бы до железнодорожного пути. Мне указали одну.
— Пентон-Корт?
— Да, кажется. Да, да, именно так.
— Она до сих пор еще не продана.
— Завтра же куплю ее.
— Отправление! — крикнул кондуктор.
Сайфер протянул руку.
— До свидания! Помните же: мы друзья. Я никогда не говорю то, чего не думаю.
Поезд тронулся. Зора села напротив Септимуса.
— Он действительно способен это сделать, — проговорила она задумчиво.
— Что?
— Так, одну нелепость. Ну, расскажите мне, что у вас вышло на улице.
В Париже Зора сразу перешла к спокойному образу жизни, чуждому всяких приключений, очутившись в объятиях американского семейства, состоявшего из отца, матери, сына и двух дочерей. Календеры были богаты и не искали иных путей, кроме проторенных обутыми в золото ногами их предшественников. Женщины были прелестны, образованны и большие охотницы до новых впечатлений. К таким впечатлениям относилось и знакомство с Зорой, в которой, помимо яркости, замечались и полутона — наследие более старой, европейской цивилизации. Мужчины оба, отец и сын, были от нее в восторге. К тому же проводить время только со своими скучно, и общество Зоры вносило известное разнообразие в их жизнь. Они все вместе завтракали и обедали в дорогих модных ресторанах на Елисейских полях и в Булонском лесу; вместе ездили на скачки, бродили по парижским улицам и площадям. А после театра посещали кабачки Монмартра, где встречали других американцев и англичан, и возвращались домой в приятной уверенности, что познакомились со злачными местами Парижа. Побывали они, разумеется, и в Лувре, и у гробницы Наполеона. Жили все в Гранд-отеле.
С Септимусом Зора виделась редко. Он знал иной Париж, причудливый и странный, и жил в какой-то маленькой гостинице, название которой Зора никак не могла запомнить, на противоположном берегу Сены. Она представила его Календерам, и они готовы были принять его в свой кружок, но Септимус пугливо их сторонился: шесть человек сразу — это было для него многовато; когда они говорили все вместе, он, ничего не понимая, нервничал, терялся, путал лица. Бесперый сыч растерянно хлопал глазами в обществе, совсем как настоящий, с перьями, при дневном свете. Вначале он принуждал себя ради Зоры.
— Послушайте, надо же и вам побыть на людях, повеселиться! — воскликнула однажды Зора, когда он стал отговаривать ее ехать с американками в Версаль. — Вы все боитесь утратить в себе человеческое. Вот вам и случай увидеть людей.
— Вы полагаете, мне это полезно? — серьезно спросил он. — Ну хорошо, тогда я еду.
В Версале, однако, они потеряли его, и в их кружке он больше не появлялся. Что Септимус делал один в Париже, Зора не могла себе представить. На Севастопольском бульваре с ним как-то столкнулся товарищ по университету — один из тех, которые его дразнили.
— Постой! Да это Сыч. Что ты тут делаешь?
— Так, ничего. Кричу, — ответил Септимус.
Зоре он и этого не рассказал. Однажды он вскользь обмолвился, что у него в Париже есть друг, с которым он видится. Но когда Зора поинтересовалась, где живет его друг, он как-то неопределенно указал рукой на восток и сказал: «Там». Зора решила, что этот друг из тех, которыми нет оснований гордиться, так как Септимус, во избежание дальнейших расспросов, тут же заговорил о цене на окорока.
— Разве вы собираетесь покупать окорок? — удивилась Зора. — Что вы с ним будете делать?
— Ничего. Просто, когда я вижу окорока, висящие в лавке, мне всегда хочется их купить. Они так блестят!
Зора женским чутьем угадала, что за этим скрывается какая-то тайна, но минуту спустя Календеры увезли ее куда-то. Только значительно позже она узнала, что его друг — старая женщина, торговавшая овощами на площади Республики. Септимус был с давних пор с ней знаком, и когда его приятельница тяжело заболела, носил ей цветы и пирожные, кормил ветчиной и платил за ее лечение. Но об этих подвигах милосердия Зора ничего не знала.
Затем они совсем перестали видеться. Шли дни, а он не появлялся. И Зоре недоставало его. Жизнь бок о бок с Календерами напоминала поездку в курьерском поезде. Поболтать с Септимусом для нее было все равно что отдохнуть часок — общение с ним действовало на нее успокаивающе. Она начала всерьез беспокоиться. Уж не попал ли он под омнибус? Только изо дня в день повторяющееся чудо могло уберечь его на улицах большого города.
— Хотела бы я знать, что с ним! — говорила она Турнер.
— А вы бы написали ему, мэм.
— Я забыла название его отеля. Ужасно странно, что он пропал. Я даже беспокоюсь, — добавила она, наморщив лоб.
Поймав нечаянный, но красноречивый взгляд горничной, Зора вспыхнула и попросила ее поднять шпильку. Потом ей стало смешно. Что за нелепость! Что за вздор! Как Турнер могла вообразить!.. И все же в глубине души Зора должна была признаться себе, что Септимус Дикс ей не безразличен и занимает какое-то место в ее жизни. Что же могло с ним случиться?
В конце концов однажды утром она нашла его сидящим за столиком во дворе Гранд-отеля в ожидании ее появления.
Готовый сорваться укор замер на ее губах, когда она увидела его лицо — исхудавшее, бледное, с впалыми глазами. Вид у него был совсем больной, жар руки чувствовался даже через перчатку. Теплое чувство наполнило душу Зоры.
— Дорогой друг, что с вами?
— Мне нужно вернуться в Англию. Я пришел проститься. Вот что пишет Вигглсвик.
Он протянул ей распечатанное письмо. Зора не стала его читать.
— Неважно, что он пишет. Садитесь. Вы совсем больны, у вас температура. Необходимо лечь в постель.
— Я и лежал четыре дня.
— И встали в таком состоянии? Сейчас же отправляйтесь обратно в свой отель. Был ли у вас доктор? Нет? Ну конечно, нет! О Боже! Вам нельзя оставаться одному. Я отвезу вас домой, в ваш отель, устрою и пошлю за доктором.
— Из отеля я уже выехал, — возразил Септимус. — Хочу попасть на одиннадцатичасовой поезд. Мой багаж вон там, на крыше кэба.
— Да ведь сейчас уже пять минут двенадцатого. Вы опоздали на поезд, — и слава Богу.
— Я еще успею на четырехчасовой, — сказал Септимус. — Ведь я говорил вам, что всегда так путешествую. — Он встал, пошатнулся и, чтобы удержаться на ногах, схватился за стол. — Поеду на вокзал и буду там сидеть, тогда уж наверное не опоздаю. Видите ли, мне нужно ехать.
— Почему?
— А вы прочтите, что пишет Вигглсвик. Мой дом сгорел со всем, что в нем было. Единственное, что ему удалось спасти, — это большой портрет королевы Виктории.
После этих слов он лишился чувств.
Зора велела перенести молодою человека в номер отеля и послала за врачом, который продержал его в постели две недели. Зора и Турнер ухаживали за ним, и больной, хотя и поминутно извинялся, был этому очень рад. Календеры тем временем уехали в Берлин.
Когда Септимус встал, худой и бледный, он был похож скорее на привидение, чем на живого человека, и очень жалок.
— Месяц после болезни ему нужно очень беречься, — предупредил Зору врач. — Если будет рецидив, я не ручаюсь за последствия. Не можете ли вы куда-нибудь его увезти?
Увезти? Зора ломала голову над этой задачей уже несколько дней. Если предоставить Септимуса самому себе, он, конечно, поселится вместе с Вигглсвиком на пожарище, простудится, снова заболеет и умрет. И ответственность за это падет на нее, Зору.
— Здесь его оставить, во всяком случае, нельзя, — сказала Турнер.
Зора с ней согласилась. Это было все равно, как если бы оставили двухмесячного ребенка и ожидали, что он сам заработает себе на пропитание. За последние две недели она привыкла смотреть на Септимуса, как на свою собственность, и постоянно им интересоваться.
— Он мог бы пожить у нас в Нунсмере, как вы думаете, Турнер?
— Я думаю, мэм, что это было бы наименьшее из зол.
— Его можно поместить в комнате кузины Джен, — размышляла вслух Зора, зная, что кузина Джен умчится домой, как только узнает о ее приезде.
— А я, мэм, буду следить за тем, чтобы он ел вовремя, — сказала Турнер.
— В таком случае все улажено, — решила Зора.
Тотчас же она пошла сообщить больному, какая участь ему уготована. Вначале он протестовал, уверяя, что всем будет мешать, что он несносное существо и даже квартирные хозяйки находят его невыносимым. Наконец, она и так уже слишком много с ним возится.
— Делайте то, что вам велят, — прервала его Зора. — И заметив тень озабоченности на лице молодого человека, спросила: — Ну что еще вас беспокоит?
— Вигглсвик. Я не знаю, что с ним.
— Он может приехать в Нунсмер и поселиться у местного полисмена.
Накануне отъезда из Парижа она получила письмо, написанное почерком, похожим на женский. Оно гласило:
Дорогая миссис Миддлмист! Если я решил что-то делать, то уже не откладываю. Я купил Пентон-Корт. И начал кампанию, которая должна стереть Джебузу Джонса и его приспешников с лица земли, которую они оскверняют своим присутствием. Надеюсь, вы нашли свое призвание? Когда я поселюсь в Нунсмере, мы еще поговорим об этом. Я никогда в жизни не интересовался женщиной так, как интересуюсь вами, и горжусь мыслью, что и вы немного интересуетесь преданным вам Клемом Сайфером.
— Вот три билета, мэм, — сказала Турнер, принесшая письмо. — Я думаю, нам лучше держать их у себя.
Зора засмеялась, и когда Турнер вышла из комнаты, рассмеялась снова. Письмо Сайфера и билет Септимуса лежали рядом на ее туалетном столике, и это казалось ей очень забавным. Своеобразный итог ее мизантропических скитаний…
Что скажет мать? Или Эмми? Что станет говорить так много мнящий о себе лондонский литератор? Она, Зора Миддлмист, провозглашавшая повсюду с таким вызовом, что едет изучать жизнь, но отрекается от всякого общения с презренным мужским полом, — да это прелесть как забавно! Она не только выудила из моря житейского двух мужчин, но и везет их с собой в Нунсмер. Ей даже не удастся спрятать их от всего света в тайниках своих воспоминаний: они явятся сами, как живые трофеи.
Все же в письме к матери она приписала постскриптум:
Я знаю, мамочка, что ты со своей обычной романтичностью будешь уверять, что оба они влюблены в меня. Ничего подобного! Если бы это было так, я бы прекратила знакомство с ними. Это сделало бы их совершенно невозможными.
6
В Нунсмере все происходит медленно — от восприятия идей до темпа исполнения церковных гимнов. Жизнь здесь — не вульгарный, бешеный тустеп, как в Годалминге, Лондоне и других водоворотах человеческих страстей, а степенный и чинный менуэт. Здесь наслаждаются жизнью не спеша. Здесь даже курица постыдилась бы выводить цыплят с неприличной поспешностью своей родни в соседнем приходе.
Прошло шесть месяцев, и Зора даже не знала, на что их убила, если не считать нескольких поездок в Лондон, где она веселилась с друзьями Эмми. Постепенно тихая, убаюкивающая жизнь в Нунсмере снова пробудила в ней тоску по воле и по широкому миру. Она уже поговаривала о поездке в Японию, Америку, Южную Африку, приводя в ужас свою мать; на самом деле ее не так уж сильно тянуло в эти страны, и она все откладывала.
Некоторое время Зора развлекалась тем, что устраивала выздоровевшего наконец Септимуса Дикса в маленьком домике окнами на выгон. Надо же ему было где-нибудь жить на этой планете, а так как у него не было выбора, кроме трущобы, где хотелось поселиться Вигглсвику, Зора указала ему на сдававшийся внаем дом и посоветовала его снять. При доме, в конце сада, был сарай, который можно было превратить в лабораторию, — главное требование, предъявляемое Септимусом к жилью, поэтому он охотно согласился. Зора сама купила ему мебель, белье, посуду и целую батарею кухонных кастрюль, над которыми Вигглсвик недоуменно качал головой.
— Сковорода — это я понимаю, и кастрюля тоже, но для чего нужны вот эти штучки с дырочками, просто не могу себе представить.
— Может быть, в них можно посадить герань? — подумав, весело предположил Септимус.
— Если вы это сделаете, — объявила Зора, — я вам найму кухарку, которая присмотрит за вами обоими, и умою руки.
После чего объяснила, как надо пользоваться ситом, и дала понять Вигглсвику, что ее слово твердо, и если он позволит себе подать капусту, не откинув ее сначала на сито, она тотчас же исполнит свою угрозу. С первого же дня она приобрела деспотическую власть над Вигглсвиком, к которому нелепо ревновала его хозяина. Но старый негодяй Вигглсвик, седой, согбенный, глуховатый и туго соображавший, как большинство постоянных обитателей тюрем, инстинктивно слушался команды и беспрекословно подчинялся Зоре.
Для Септимуса началась та счастливая жизнь, в которой часов не наблюдают. Зародившаяся в его голове идея создания скорострельной пушки нового типа постепенно обретала реальные очертания. В одном из потаенных уголков его мозга странным образом накопились обширнейшие знания по полевой артиллерии, и Зора изумилась размерам его технической библиотеки, о спасении которой из огня Вигглсвик забыл упомянуть. Иногда, преодолев свою обычную застенчивость, изобретатель с непостижимым увлечением принимался рассказывать Зоре об этих смертоносных орудиях и об углах наведения, о баллистике; выводил математические формулы, иллюстрируя их диаграммами, пока у нее голова не шла кругом; или же говорил о своем сочинении, посвященном орудиям большого калибра, только что написанном и отправленном издателю, и о той революции в военном деле, которую эти удивительные пушки должны были произвести. Глаза его в таких случаях теряли обычное свое сонное выражение и становились блестящими, нервные пальцы казались сильными, весь он преображался; но как только проходил порыв увлечения, он снова становился неумелым, неприспособленным к жизни, смешным чудаком. Порою он день и ночь работал у себя в кабинете или в мастерской над своими изобретениями. Иной раз целыми днями спал или мечтал. Посреди выгона был старый пруд, вокруг которого стояли грубые скамьи. Септимус любил сидеть на одной из них и смотреть на плававших в пруду уток, говоря, что его очень занимает их манера шевелить хвостом. Когда он видит это, у него появляется идея нового изобретения, хотя еще неясно, какого именно. Кроме уток, он свел большую дружбу с хромым осликом пономаря и кормил его сандвичами, специально приготовленными Вигглсвиком, пока ему не объяснили, что для осла гораздо приятнее морковь. Когда они стояли рядом, наблюдая, как утки шевелят хвостами в пруду, картина была просто умилительная.
Была еще одна отрада в мирной жизни Септимуса — Эмми. Временно оставшись без ангажемента, она теперь нередко заглядывала денька на два в Нунсмер, принося с собой отзвуки опереточного настроения и запах модных французских духов. Эмми появлялась на горизонте Септимуса, как опасная и дерзкая планета, так непохожая на Зору — большое постоянное светило его небосклона, но в то же время такая милая, искрящаяся, так безыскусственно и простодушно вращающаяся вокруг какого-то собственного маленького солнца, что Септимус подружился с ней не меньше, чем с Вигглсвиком, утками и осликом. Это она велела ему кормить ослика морковью, а не бутербродами. У нее были волосы, как золотая рожь, и нежная кожа блондинки, выдававшая любое волнение крови. Она могла зардеться, как алая чайная роза старомодного английского сада, и вдруг побелеть, как алебастр. Глаза ее были как незабудки, омытые дождем. Когда мир ей улыбался, Эмми смеялась; когда он хмурился, она плакала. Встретившись с Септимусом Диксом, она накинулась на него, как ребенок на новую игрушку, и часами наслаждалась, разбирая его по частям, чтобы посмотреть, как он устроен.
— Почему вы не женаты? — спросила она его однажды.
Он поднял глаза к небу — это было на выгоне — к осеннему, жемчужно-алому, кое-где с просветами грустной лазури небу, словно искал там объяснения.
— Потому что никто меня на себе не женил, — ответил он.
Эмми рассмеялась.
— Как это на вас похоже! Вы ждете, чтобы женщина за шиворот вытащила вас из дому и поволокла в церковь, даже не дожидаясь, пока вы ей сделаете предложение.
— Говорят, это бывает, и даже очень часто, — сказал Септимус.
Эмми быстро взглянула на него. Женщины вообще не любят, когда критикуют их пол, но невольно испытывают некоторое почтение к критикующему. Тем не менее она сочла своим долгом презрительно наморщить носик.
— Настоящий мужчина сам себе находит жену.
— А если он не нуждается в ней?
— Что за жизнь, когда некого любить и не о ком заботиться. Я иногда всерьез думаю, что вы набиты опилками. Почему бы вам не влюбиться?
Септимус снял шляпу, провел пальцами по своим непокорным волосам, торчащим кверху, снова надел шляпу и растерянно посмотрел на нее. Эмми рассмеялась.
— О нет, не бойтесь. Я уже ангажирована. В меня влюбляться нет смысла.
— Я и не посмел бы, — запинаясь, проговорил он, слегка испуганный. — Я смотрю на любовь серьезно. Она, как изобретение: иногда лежит где-то на дне вашей души, большая и спокойная, а иной раз терзает вас и не дает заснуть.
— Ого! — вскричала Эмми. — Да вы, оказывается, все знаете про любовь. Милый мой, да вы влюблены! Скажите же мне, кто она.
— Это было много лет назад. Она ходила с косичкой, и я прожег ей дырочку в переднике выстрелом из игрушечной пушки, а она за это отшлепала меня по щекам. Потом она вышла замуж — за мясника.
Он посмотрел на нее, слабо улыбаясь, потом опять приподнял шляпу и провел рукой по волосам. Но Эмми он не убедил.
— А по-моему, — объявила она, — вы влюблены в Зору.
С минуту он не отвечал, потом коснулся ее руки. И сказал изменившимся голосом:
— Пожалуйста, не говорите так.
Эмми подошла к нему совсем близко и взяла его под руку. Эта мучительница могла быть по-детски ласковой.
— Даже если это правда? Почему же нет?
— О таких вещах не говорят. Их чувствуют.
На этот раз она с ласковостью сестры положила ему руку на плечо.
— Надеюсь, это не сделает вас несчастным. Вы же знаете, Зора невозможна. Она никогда больше не выйдет замуж. Я всей душой надеюсь, что это у вас не серьезно. Или серьезно? — И так как он не ответил, она продолжала: — Было бы так нелепо загубить свою жизнь из-за мечты, абсолютно неосуществимой.
— Почему? — сказал Септимус. — Разве не такова история лучших жизней?
Но этот философский полет мыслей был чересчур высок для Эмми, предпочитавшей дышать в менее разреженной атмосфере. «Желать, достигать, наслаждаться» — таков был ее девиз в жизни. Что пользы желать, когда желаемое недостижимо, что пользы достигать, если это не сулит радости? Она пришла к заключению, что любовь Септимуса к Зоре — чисто сентиментальная, и, не видя в ней пылкой страсти, не придала ей значения. Но в то же время ее открытие, давшееся без всякого труда, привело Эмми в восторг. Влюбленный Септимус был так смешон!
— Вы именно такого типа человек, который должен воспевать в стихах свою возлюбленную. Вы пишите стихи?
— О нет!
— Что же вы делаете?
— Я играю на фаготе.
Эмми от радости захлопала в ладоши, насмерть перепугав курицу, расхаживавшую по лугу.
— Еще один талант. Что же вы раньше не сказали? Я уверена, что Зора и не знает. Где вы научились?
— Вигглсвик научил меня. Он одно время играл в оркестре.
— Вы непременно должны принести к нам фагот.
Но когда Септимус, вняв ее мольбам, явился со своим фаготом в гостиную миссис Олдрив, он стал извлекать из этого инструмента такие ужасающие звуки, что миссис Олдрив побледнела, а Зора вежливо, но твердо взяла у него из рук фагот и поставила в передней, в стойку для зонтиков.
— Надеюсь, вы не обиделись на меня? — спросила она.
— Бог мой! Нисколько, — кротко сказал Септимус. — Я не понимаю, как это может нравиться.
Заметив, что Септимус склонен к сентиментальности, Эмми мало-помалу стала с ним говорить откровенно, и Септимус узнал о ней многое, чего Зора и не подозревала. Зора считала себя опытной, потому что была замужем и видела мир от нунсмерского пруда до кратера Везувия, а к младшей сестре относилась с материнской снисходительностью, как к ребенку, который еще не знает главного в жизни. Она не принимала в расчет тот грубый житейский опыт, который дают двухлетнее пребывание на сцене и закулисные интриги, и совершенно не учитывала условий жизни Эмми. Сама она была слишком несведуща, сосредоточена на собственных порывах и стремлениях и, к тому же, преисполнена глубокой и чуждой сомнений веры в голубиную чистоту всего семейства Олдрив. Для нее Эмми все еще оставалась девочкой с пушистой косой, ласковой и шаловливой, которую можно было послать наверх, за рабочей корзинкой, или прочесть ей нотацию за кокетство. Эмми знала, что Зора нежно любит ее, но немного побаивалась старшей сестры и чутьем угадывала, что в сердечных делах не найдет у нее сочувствия. И потому, не откровенная с Зорой, она была вполне откровенна с Септимусом.
Таким образом Септимус узнал и о Мордаунте Принсе, которого Зора часто встречала в Лондоне, в том кружке, где вращалась Эмми, но ни капельки им не заинтересовалась. Мордаунт Принс, по словам Эмми, был само совершенство, лучший из людей, самый талантливый, самый блестящий. Он играл, как Сальвини, и пел, как ангел. В Оксфорд он не пошел, потому что и без того достаточно умен. Недавно он купил автомобиль, за который заплатил тысячу гиней, и — только, Боже сохрани, ни словечка об этом Зоре! — они вместе ездили в нем по провинции целую неделю. Мордаунт Принс говорит то-то и то-то. Мордаунт Принс платит по три гинеи за пару желтых сапог. Мордаунт в Лондоне постоянно у нее бывает, а когда она уезжает, ежедневно аккуратно ей пишет. Каждое третье слово было о Мордаунте Принсе. Он играет первые роли в том театре, где она имела последний раз ангажемент, и с первого же взгляда без памяти в нее влюбился. Она поссорилась с лучшей своей подругой, которая пыталась отбить у нее Мордаунта. Вот дрянь! Слыхал ли Септимус о чем-либо подобном? Септимус, конечно, не слыхал.
Он очень заинтересовался ее романом, разумеется, в меру своего понимания, поскольку болтовня Эмми часто была бессвязной, — и так как замечания, которые он изредка вставлял, не вызывали споров, слушателем он оказался неплохим. К тому же романтическая сторона жизни была ему совсем неведома, поэтому даже заурядная любовная история Эмми казалась такой же милой и очаровательной, как сад, полный роз, для ребенка, выросшего в городе. Его собственное почтительное поклонение Зоре не выглядело в его глазах чем-то особенным. Это было так же естественно для него, как чтить память матери или думать о своих смертоносных изобретениях. Будь он поопытнее, роман Эмми, быть может, внушил бы ему некоторые опасения, и он настоял бы на том, чтобы и Зору посвятили в эту маленькую тайну. Но Септимус был убежден, что такие возвышенные существа, как Эмми и Мордаунт Принс, столь недосягаемые для него, и жизнь могут вести лишь безмятежно ясную и возвышенную; сам чистый душой, он не видел в поступках Эмми ничего дурного. И даже то, что он утаивал секрет Эмми от Зоры, казалось ему романтичным и очаровательным обманом.
Зора, видя, что он вполне счастлив со своими пушками, Вигглсвиком и Эмми, хвалила себя за то, что все так хорошо устроила. Мать ее шла даже дальше в своих предположениях.
Однажды в окно гостиной обе они видели, как Эмми прощалась с Септимусом у калитки. Они, видимо, только что вернулись с прогулки. Эмми вытащила большую белую хризантему из букета, который несла в руках, со смехом слегка ударила ею по лицу своего кавалера и приколола ему цветок в петлицу.
— Как бы это было чудесно для Эмми! — вздохнула миссис Олдрив.
— Выйти замуж за Септимуса? О, мама!
Зора расхохоталась, но тут же стала серьезной.
— А впрочем, почему бы нет? — И она бросилась целовать мать.
Миссис Олдрив, поправляя съехавший чепец — она была маленькая, а Зора большая, и ласки дочери нередко вносили беспорядок в ее туалет, — задумчиво повторила:
— Почему бы и нет? Он джентльмен, и у него хватит средств содержать жену.
— И человек надежный, — с улыбкой заметила Зора.
— По-моему, вполне надежный, — без улыбки сказала миссис Олдрив.
— И он с утра до ночи будет забавлять Эмми.
— Не думаю, чтобы это входило в обязанности мужа, милая, — забавлять свою жену.
Неожиданный приход Эмми, внесшей с собой струю свежего воздуха, смех и запах хризантем, положил конец этой беседе, но с того дня Зора всерьез стала подумывать о возможности романа между сестрой и Септимусом. Как и мать, она не очень одобряла одинокую жизнь Эмми в Лондоне и ее друзей. Слишком много свободы было в их речах и слишком мало сдержанности. Пуританская закваска матери в какой-то степени сказывалась и в ней. За себя она была спокойна. Она, Зора, могла ездить по всей Европе и встречаться с кем угодно, не рискуя себя запятнать, но это только потому, что она — Зора Миддлмист, молодая женщина, обладающая исключительной индивидуальностью и жизненным опытом. Заурядные же молодые женщины и девушки ради собственной безопасности должны были считаться с условностями, специально для этой цели придуманными, — а Эмми была самая обычная молодая девушка. Разумеется, ей нужно выйти замуж; брак оградит ее от всяких жизненных опасностей, а для Септимуса также явится наилучшим исходом. Отныне на безоблачном небе воображения Зоры этот брак уже был заключен, и она щедро изливала свои милости на молодых людей. Никогда еще Эмми не окружали дома такой заботой и вниманием. Никогда и Септимус не мечтал о столь любовном и нежном отношении к себе. В то же время Зора расхваливала Септимусу Эмми, а ей — Септимуса так естественно и тонко, что оба ничуть не удивлялись этому.
В самый разгар сватовства приехал Сайфер, чтобы вступить во владение новым домом. С тех пор, как Зора виделась с ним в Монте-Карло, он успел побывать в Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско и сразиться с Джебузой Джонсом в его собственной берлоге.
— Представьте, я устал, — говорил он Зоре в первый же день приезда, удобно усаживаясь в большое кресло, обложенное подушками. — Впервые в жизни я чувствую себя физически усталым. Мне недоставало вас, — добавил он, бросая на нее быстрый пронзительный взгляд. — Курьезная вещь, но весь последний месяц я говорил себе: если бы я только мог побыть немного с Зорой Миддлмист и впитать в себя частицу ее жизненной силы, то стал бы другим человеком. Я сразу бы возродился. Никогда раньше со мной не случалось, чтобы я по ком-нибудь скучал, чтобы мне кого-то недоставало. Странно, не правда ли?
Зора, подойдя к нему с чашкой чая в руке и улыбкой на лице, сдержанно сказала:
— Здесь в Нунсмере вы отдохнете. Здесь чудный воздух.
— Для меня важен не воздух, а то, что вы здесь. Ваше присутствие взбадривает меня, как содовая вода без виски. — Он вздохнул полной грудью. — Боже мой! Как это хорошо — снова вас увидеть! Вы — единственное в мире существо, которое верит в крем, как я.
Зора виновато на него покосилась. Ее энтузиазм и вера в крем были далеко не столь горячи. Правду говоря, она совсем в него не верила. Недели две назад Зора попробовала намазать этим кремом голову одного ребенка, и результаты получились самые неутешительные; тогда мать позвала доктора, он прописал какое-то невинное средство, и ребенок быстро выздоровел. Единственным реальным доказательством исключительных свойств крема были желтые сапоги Септимуса, которым он придавал необычайный блеск.
— Вас огорчает скептическое отношение к вашему крему?
— Не то чтобы скептическое, но недостаточно восторженное. Вместо того, чтобы принять его радостно, как Божий дар, публика покупает всякие другие средства, рекламируемые в объявлениях. Аптекари — и те обидно равнодушны. Крупица веры величиной с горчичное зерно сберегла бы мне несколько тысяч фунтов в год. Не думайте, что мне хочется купаться в золоте, миссис Миддлмист. По натуре я вовсе не скряга. Но большое дело требует и большого капитала, а пускать деньги на ветер — это невыгодно, совсем невыгодно.
Впервые Зора расслышала в его голосе нотку уныния.
— Ну, раз уж вы сюда приехали, вам нужно отдохнуть как следует, — заботливо сказала она. — Выбросьте все из головы, устройте себе праздник; хотя вы и сильный человек, но не из железа же сделаны, а если сломаетесь, подумайте, какая катастрофа постигнет ваш крем.
— А вы поможете мне устроить себе праздник?
Зора засмеялась: — Насколько это в моих силах, при условии, что вы не заставите меня чересчур шокировать здешних жителей.
Наполеоновским жестом он указал рукой в сторону деревни.
— Не беспокойтесь. Это я беру на себя. Я привез с собой свой автомобиль. Мы объедем все графство. Идет?
— С одним условием.
— А именно?
— Что вы не будете рассказывать о своем креме в наших суррейских деревнях и мы будем говорить о чем угодно, но только не о креме.
Он встал и протянул ей руку.
— Согласен. Вы правы. Я принимаю условие. Когда вы приедете ко мне в Пентон-Корт? Я хочу устроить новоселье. Вы говорите, Дикс поселился здесь? Я у него побываю. Рад буду повидаться с этим блаженным. Его я тоже приглашу на новоселье. Может быть, ваша сестра и матушка, миссис Олдрив, также окажут мне честь?
— Мама теперь не выезжает, но Эмми, наверно, будет в восторге.
— А я готовлю вам сюрприз. Блестящая идея — я уже несколько месяцев с ней ношусь, — только вы должны сказать откровенно, как вы ее находите.
Появление миссис Олдрив и Эмми положило конец беседе с глазу на глаз и, так как мать Зоры предпочитала разговоры самые простые и стереотипные, остальная часть первого визита Сайфера не представляла никакого интереса.
— Я так рада, что он произвел на маму хорошее впечатление! — говорила потом Зора.
— Почему рада? — удивилась Эмми.
— Это так естественно.
— Ого!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего, милая.
— Послушай, Эмми, — сказала Зора, полушутя-полусердито: — Мы с мистером Сайфером друзья, ни о чем другом он и не помышляет. Если бы это было иначе, я за всю жизнь слова бы ему не сказала.
Эмми барабанила пальцами по стеклу.
— Он замечательный человек, — продолжала Зора, — и, по-моему, с нашей стороны даже нехорошо так о нем говорить.
— Но, милая, ведь это ты говоришь о нем, а не я.
— Я иду наверх, переодеться к обеду, — объявила Зора.
Она все еще негодовала. Только в глупенькую головку Эмми могла взбрести такая дикая мысль: Клем Сайфер влюблен в нее! Почему же не Септимус Дикс? Последнее предположение показалось ей настолько нелепым, что она рассмеялась, немного устыдившись того, что могла хоть на минуту принять всерьез пустую болтовню сестры, и, дабы показать ей, как мало значения придает ее словам, спустилась к обеду преисполненная снисходительной безмятежности.
7
— Вы как — сначала примете ванну или будете завтракать? — спросил Вигглсвик, показываясь в дверях гостиной.
Септимус нервно провел по волосам линейкой из слоновой кости.
— Не знаю. Как вы советуете?
— Что? — гаркнул Вигглсвик.
Септимус повторил погромче.
— Если бы мне предстояло мыться в холодной воде, — презрительно фыркнул Вигглсвик, — я бы предпочел делать это на голодный желудок.
— Ну а если бы вода была теплой?
— Так как она не теплая, не стоит и раздумывать над этим.
— Боже мой! А я как раз такую люблю.
— Тогда я открою кран и уйду, — буркнул Вигглсвик.
Когда дверь за его камердинером закрылась, Септимус приложил линейку к той части сложной диаграммы, которую тщательно замеривал, и скоро так углубился в свое занятие, что забыл обо всем остальном. Было четыре часа пополудни. Незадолго до того он встал с постели и теперь сидел в пиджаке и халате у чертежного стола. Почти весь стол был занят огромным листом плотной бумаги; на свободном месте слева лежала стопка корректур и в баночке из-под варенья стояла вянущая роза; перед Септимусом лежала рукопись, содержащая множество таблиц и расчетов, в которую он время от времени заглядывал или вписывал новые цифры. В окно проникал пасмурный свет догорающего ноябрьского дня. Стул Септимуса стоял справа от окна: он всегда садился таким образом, что заслонял себе свет.
Неожиданно стало еще темнее, словно кто-то стал против окна, и это заставило Септимуса поднять голову. Снаружи за окном стоял Клем Сайфер и, усмехаясь, с любопытством смотрел на него. Септимус, как радушный хозяин, встал и распахнул окно.
— Входите.
Однако окно было слишком узким для внушительной фигуры Клема Сайфера, и он смог просунуть в него только голову и плечи.
— Как вас приветствовать: доброе утро, добрый день или добрый вечер? — спросил он, глядя на костюм Септимуса.
— По-моему, с добрым утром. Я только что встал. Вы уже завтракали? Хотите позавтракать со мной?
Он дернул за сонетку звонка у камина, и тут же раздался громкий выстрел.
— Какого черта! Что это значит? — удивился Сайфер.
— Это мое изобретение, — скромно пояснил Септимус. — Когда я дергаю за веревку, в кухне автоматически стреляет пистолет. Вигглсвик говорит, что звонков он не слышит. Что у нас на завтрак? — обратился он к вошедшему Вигглсвику.
— Треска. А ваша ванна давно уже переполнилась, и вода льется через край.
Септимус махнул ему рукой, чтобы уходил: — Пусть льется. — Потом он повернулся к Сайферу: — Будете есть треску?
— В четыре часа дня? Какой же теперь завтрак?
— Да вы входите — я накормлю вас чем угодно.
Он снова протянул руку к звонку. Но Сайфер поспешил его остановить.
— Бросьте вы это. Лучше отворите мне входную дверь, тогда я, может быть, и войду.
Через минуту Сайфер проник в комнату обычным путем, и остановился у порога, упершись руками в бока и озираясь кругом.
— Воображаю, какой бы здесь был хаос, если бы наша милая приятельница не приложила сюда свои ручки.
Поскольку воображению Септимуса были доступны только научные задачи, он ничего не смог ответить. Вместо того он придвинул стул к огню, предложил гостю сесть и подал ему ящик сигар, в котором приютились также пара компасов, несколько марок и запонка. Сайфер выбрал себе сигару и закурил, но сесть отказался.
— Вы не против, что я зашел? Я ведь вчера предупреждал, что зайду, но вы такое странное существо, что нельзя знать, в какое время удобнее вас посетить. Миссис Миддлмист говорила мне, что вы обедаете иной раз в половине пятого утра. Хэлло! Что это у вас там — изобретение?
— Да.
Сайфер нагнулся над диаграммой: — Что же это будет?
— Защитное приспособление, чтобы спасти людей от гибели при железнодорожной катастрофе. Идея его заключается в том, что каждое купе должно состоять из двух частей — внешней оболочки и внутреннего ящика, где и находятся пассажиры. Крыша поднимается автоматически. При столкновении поездов приходит в движение ряд рычагов — вот этих, крыша раскрывается, внутренний ящик поднимается кверху, и непосредственного толчка люди не ощущают. Это у меня еще не совсем закончено, — добавил он, ероша волосы: — Видите ли, плохо то, что мое приспособление может сработать просто от толчка, который происходит, когда к поезду на станции цепляют дополнительные вагоны, и пассажирам это может не понравиться.
— И даже очень, — сухо сказал Сайфер. — И притом это будет стоить довольно дорого, не правда ли?
— Как можно думать о расходах, когда речь идет о спасении человеческих жизней?
— Дикс, дружище, вам следовало бы родиться на более цивилизованной планете, чем наша грешная земля. А это что такое — корректура? Вы пишете роман?
— Нет, книгу о пушках.
— Можно полюбопытствовать?
— Конечно.
Сайфер взял уже сверстанную корректуру и прочел заглавие:
«Теоретический трактат о конструкции орудий большого калибра. Соч. Септимуса Дикса». Он просмотрел несколько страниц.
— Очень толково написано. Но, я думаю, все эти сведения есть в учебниках?
— Нет, — скромно сказал Септимус. — Все начинается там, где кончаются учебники. Орудий, которые я описываю, еще не существует.
— Откуда у вас такие познания в области артиллерии?
Септимус порылся в своей памяти:
— Одна из моих нянек была замужем за бомбардиром.
Вошел Вигглсвик с треской и посудой для завтрака! Пока Септимус ел, Сайфер курил, болтал с ним и почитывал трактат. При зажженных лампах и спущенных занавесях комната выглядела уютнее. Сайфер с комфортом расположился у огня.
— Скажите прямо: я вам не мешаю?
— Бог мой, да нет же! Я как раз подумал, как это хорошо, что вы зашли. У меня с университетских времен не бывало в гостях мужчин, да к тому же студенты обычно заходили только за тем, чтобы подразнить меня или напакостить. Так что гость, который приходит повидать меня, а не вышвырнуть в окно мои вещи, мне вдвойне приятен. Насколько я помню, — он отпил немного кофе, — в Монте-Карло мы собирались стать друзьями?
— Собирались, и я рад, что вы этого не забыли. Но я, как друг человечества вообще, иной раз довольно невнимателен к отдельным людям.
— Выпейте чего-нибудь, — предложил Септимус, набивая свою трубку.
Пистолетный выстрел извлек из кухни Вигглсвика; тот, в свою очередь, извлек из буфета виски и содовую, и новые друзья провели вечер очень мило. Перед уходом Сайфер спросил, не может ли он взять корректуру домой, чтобы прочесть на досуге.
— Полагаю, я достаточно знаком и с устройством машин, и с математикой, чтобы понять, к чему вы клоните, и мне будет интересно поближе познакомиться с вашими пушками.
— Их действие настолько разрушительно, что войны должны будут прекратиться. Но сейчас меня больше интересуют мои вагоны новой конструкции.
— Которые сделают путешествие по железной дороге настолько опасным, что железнодорожное движение станет невозможным? — пошутил Сайфер. — Ну прощайте.
После его ухода Септимус посидел еще немного в кресле, блаженно затягиваясь табачным дымом. Он немного требовал от жизни, и, странное дело, жизнь вознаграждала его за это, давая больше, чем он требовал. Сегодня Сайфер предстал перед ним в новом свете — внимательным, тактичным, лишенным эгоизма, и Септимус был доволен, что приобрел друга-мужчину. Прибавился словно еще один якорь, привязывающий его к жизни. А спустя короткое время он пойдет греться в лучах улыбки своей обожаемой прекрасной дамы и слушать болтовню своей приятельницы Эмми. Миссис Олдрив усядется с вязаньем возле лампы, и он будет держать ей шерсть, роняя клубок, а она станет бранить его, как будто он член семьи. Все это было так дорого одинокому молодому человеку с чутким и нежным сердцем; в мирной семейной обстановке согревалась и расцветала его душа. И, приходя домой, он начинал мечтать о женщине, которая как хозяйка поселилась бы в его доме и оживила его своим присутствием. Но так как эта воображаемая женщина, несмотря на все старания представить ее совсем иной, скоро принимала образ Зоры Миддлмист, Септимус гнал от себя мечты, сулившие больше горя, чем радости, и старался думать о пушках, новых вагонах и о других сенсационных изобретениях.
Его тревожило то, что он исчерпал свой счет в банке, чтобы немедленно уплатить за акции — он даже не знал хорошенько, какого именно предприятия, — купленные для него странствующим агентом. Казалось бы, все так просто: выписать на имя гг. Шарк[3] и К0 чек на двести фунтов и через две недели получить от них чек на две тысячи. Септимус только удивлялся, почему другие не пытаются разбогатеть таким же простым и легким путем. А может быть, те, кто ухитряется иметь большую семью с полудюжиной дочерей и автомобиль, именно так и поступают? Но когда «акула» в каких-то непонятных ему выражениях предупредила, что если он не пришлет новый чек на двести-триста фунтов, то первоначальный взнос пропадет, и когда затем эти деньги также бесследно исчезли в прожорливой акульей пасти, а банк, где держал деньги Септимус, сообщил, что его текущий счет исчерпан, он начал догадываться: видимо, те, кто позволяет себе иметь много дочек и автомобиль, добывают средства к существованию как-нибудь иначе. Эта потеря не лишила нашего героя сна — его представления о ценности денег были такими же смутными, как и понятия о воспитании грудных младенцев, — но он издавал книгу за свой счет и огорчался, что нельзя будет сразу же расплатиться с типографией.
В доме миссис Олдрив все было почти так, как он предполагал. Зора, сидя на диване, заваленном железнодорожными путеводителями и расписаниями движения океанских пароходов, советовалась с ним относительно кругосветного путешествия; миссис Олдрив учила его готовить яичницу, требуя, чтобы он в точности передал рецепт Вигглсвику, хотя Септимус и признался ей, что единственную яичницу, изготовленную Вигглсвиком, они потом употребляли в качестве ручки от кастрюли. Только Эмми не болтала; она сидела в углу, рассеянно перелистывая книгу и, по-видимому, нисколько не интересуясь общим разговором. Когда ее спрашивали, что с ней, она ссылалась на головную боль и недомогание. Лицо у нее было совсем больное, бледное, измученное, и видеть печальным это личико было необычайно грустно.
Когда миссис Олдрив ушла к себе, а Зора отправилась в свою комнату за атласом, Септимус и Эмми на минуту остались одни.
— Я так огорчен, что у вас болит голова, — сочувственно сказал ей Септимус. — Вы бы лучше легли в постель.
— Ненавижу постель! И спать не могу, — был ответ. — Не обращайте на меня внимания. Мне очень жаль, что я сегодня такая плохая собеседница. — Она поднялась со своего места. — Вам, наверно, скучно со мной? Тогда я лучше уйду, как вы советуете, — уберусь отсюда. — И Эмми стремительно метнулась к двери. Септимус перехватил ее на полдороге.
— Скажите мне, в чем дело. Тут не одна только головная боль.
— Тут ад, и дьявол, и все аггелы[4] его. И мне хочется кого-нибудь убить.
— Убейте меня, если вам от этого станет легче.
— Вы способны позволить себя убить, — сказала она уже мягче. — Вы хороший. — Эмми порывисто засмеялась и повернулась к нему. В это время из книги, которую она держала за спиной, выпало письмо. Септимус поднял его и подал ей. На письме была итальянская марка и штемпель Неаполя.
— Да, это от него, — со злостью сказала Эмми. — Целую неделю не было писем, а теперь вот извещает, что едет для поправки здоровья в Неаполь. Отпустите меня лучше, мой добрый Септимус. Я сегодня злая, нервы расстроены.
— Поговорили бы вы с Зорой.
— Боже сохрани! Она не должна знать. Она — последний человек, с которым я стала бы советоваться. Понимаете — последний!
— Боюсь, что не понимаю, — сокрушенно вздохнул Септимус.
— Она ведь ничего не знает о Мордаунте Принсе. И не надо ей знать — ни ей, ни маме. Они редко говорят о своем происхождении, но я знаю, что обе им страшно гордятся. Мамин род ведет начало еще с допотопных времен, и ее родичи смотрят свысока на Олдривов, потому что те выросли, как грибы, уже после потопа. А настоящая фамилия Принса — Гуззль, и отец его был сапожником. Мне это все равно, потому что он джентльмен, но им не все равно.
— Но вы ведь выходите за него замуж. Надо же им будет когда-нибудь узнать. Должны же они знать.
— Успеют, когда я выйду замуж. Тогда уже бесполезно будет отговаривать.
— А вам не приходило в голову, что, может быть, лучше было бы от него отказаться? — нерешительно заметил Септимус.
— Не могу я! Не могу! — вскрикнула Эмми. И залилась слезами. Потом убежала к себе, чтобы Зора не застала ее плачущей.
В подобных случаях самый бывалый мужчина может только пожать плечами и закурить папиросу. Септимус, столь же неопытный по части женщин, как новорожденное дитя, пришел в отчаяние от слез Эмми. Очевидно, нужно что-то сделать, чтобы ее утешить. Может быть, съездить в Неаполь и с помощью подкупленных полицейских доставить Мордаунта Принса обратно в Лондон? Но тут молодой человек вспомнил, что его текущий счет иссяк, и со вздохом отказался от этой блестящей мысли. Если бы только можно было посоветоваться с Зорой! Но он был связан словом: честь не позволяла ему выдать тайну Эмми, а в таких вещах Септимус был очень щепетилен. Что же он может сделать? Как ей помочь? Огонь в камине погас, и он машинально подбросил туда щипцами угля. Вернувшаяся с атласом Зора застала его задумчиво вытирающим щипцы о собственные волосы.
— Если я поеду вокруг света, — сказала Зора некоторое время спустя, когда они отыскали, наконец, на карте Южной Америки Вальпараисо, — а много ли найдется милых и образованных людей, которые сразу вам скажут, где он находится? — если я действительно поеду вокруг света, то возьму с собой и вас, и Эмми. Ей будет полезно немного попутешествовать. В последнее время у нее совсем больной вид.
— Для нее это было бы превосходно.
— И для вас тоже, Септимус, — улыбнулась Зора, лукаво взглянув на него.
— Мне всегда хорошо там, где вы.
— Я думала об Эмми, а не о себе, — засмеялась она. — Если бы вы взяли на себя заботу о ней, это и для вас было бы превосходно.
— Она и багажа своего мне не доверит, не то что себя, — в свою очередь засмеялся Септимус, совершенно не догадываясь, к чему клонит Зора. — Вы ведь не доверили бы?
— Я — другое дело. Мне, конечно, пришлось бы опекать вас обоих; но все-таки вы могли бы делать вид, что заботитесь об Эмми.
— Я готов сделать все, чтобы доставить вам удовольствие.
— В самом деле?
Они сидели за столом, разделенные атласом. Зора протянула руку и коснулась его руки. Свет лампы падал на ее волосы, превращая их в искрящееся золото. От ее обнаженной по локоть руки веяло благоуханным теплом. Прикосновение так взволновало Септимуса, что он вспыхнул весь, до корней своих торчащих в разные стороны волос. Хотел что-то сказать, но в горле у него вдруг пересохло, и язык прилип к гортани. Ему казалось, он уже с полчаса сидит так, растерянный, не находя слов, тупо глядя на сеть голубых жилок на ее руке. Септимус жаждал сказать ей, что его безумно волнует ее прикосновение, ее мерно дышащая грудь, что его любовь к ней безмерна, — и до смерти боялся, чтобы она не разгадала его тайны и не покарала за дерзость, как поступали без лишних разговоров Юнона, Диана и прочие богини, оскорбленные любовью простых смертных. В действительности молчание длилось, наверное, всего несколько секунд, потому что тотчас же он услышал ее голос:
— В самом деле? А знаете, какое самое большое удовольствие вы могли бы мне доставить? — Стать моим братом, моим настоящим братом.
Он с изумлением поднял на нее глаза.
— Вашим братом?
Она рассмеялась, весело и нетерпеливо, слегка ударила его по руке и встала. Септимус тоже поднялся.
— Вы — удивительно непонятливы! Любой другой на вашем месте давно бы догадался. Да неужели вы не видите, милый вы мой, глупенький, — она положила ему на плечи обе руки и смотрела на него с мучительно чарующей нежностью, — неужели вы не понимаете, что вам нужна жена, чтобы избавить вас от яичниц, годных только на ручки для кастрюль, и чтобы развить у вас чувство ответственности? И разве вы не видите, что Эмми всего счастливее, когда она… — о! — да неужели вы сами не видите?..
Септимус не строил для себя карточного домика иллюзий, и потому его домик не рушился. Но все же у него было такое ощущение, словно ласковые руки Зоры стали вдруг ледяными и холодом смерти сжали его сердце. Он снял их со своих плеч и поцеловал кончики ее пальцев. Это вышло у него даже галантно. Потом он отпустил руки Зоры, подошел к камину и прислонился к каминной доске. Стоявшая там маленькая собачка из китайского фарфора с треском упала на пол и разбилась.
— Ах, простите! — растерянно воскликнул он.
— Пустяки, — сказала Зора, помогая ему подбирать осколки. — Человек, который умеет так целовать руки женщины, может перебить хоть всех уродцев в этом доме.
— Вы очень снисходительны и добры. Я давно уже это говорю.
— А по-моему, я дура.
Лицо его выразило ужас. Его богиня — дура! Она весело рассмеялась.
— У вас был такой вид, как будто вы хотели сказать: «Если бы такое слово осмелился произнести мужчина, это было бы его последнее слово». Но я и в самом деле дура. Я думала, что между вами и Эмми что-то есть и что маленькое поощрение может вам помочь. Простите меня. Видите ли, — продолжала она, и ее ясные глаза затуманились, — я неясно люблю Эмми, а вас, в известном смысле, — тоже. Надо ли еще объяснять?..
Ее покаяние казалось искренним. Зора была великолепна. Конечно, она вела себя, как принцесса, — иногда чересчур смело и нескромно, порой даже совала свой носик в чужие дела: проникнутая сознанием собственного превосходства, она не обладала интуицией и чуткостью истой женщины, но зато пошлость была ей чужда и каялась она по-королевски. Руки Септимуса слегка дрожали, когда он приставлял отбитый хвостик к туловищу фарфоровой собачки. Сладко быть любимым, хотя и горько быть любимым только «в известном смысле». Даже у такого мужчины, как Септимус Дикс, есть самолюбие. На сей раз пришлось спрятать его в карман.
— Вы сделали меня очень счастливым, — промолвил он. — Вы любите меня настолько, что даже хотели бы, чтобы я женился на вашей сестре, — этого я никогда не забуду. Но я, должно быть, вовсе не способен думать о женщинах в этом смысле, — смело солгал он, что вышло у него также великолепно. — Должно быть, и у меня вместо кровяных шариков — колесики машин, и сам я — какая-то машина, а голова моя набита диаграммами.
— Вы — ребенок с удивительно нежным сердцем, — сказала Зора. — Дайте мне эти кусочки.
Она взяла их из его рук и бросила изуродованное туловище в огонь, оставив только голову и хвостик.
— Давайте поделимся. Я оставлю себе головку, вы — хвостик. Если я вам когда-нибудь очень понадоблюсь, пришлите мне этот хвостик, и я приеду к вам, где бы ни была; а если я буду нуждаться в вас, пришлю вам головку.
— И я приду к вам, даже если буду на краю света, — сказал Септимус. И ушел домой счастливый, с собачьим хвостиком в кармане.
На другое утро, часов в восемь, когда он только что забылся первым сном, его разбудили пистолетные выстрелы. Не понимая, что случилось с Вигглсвиком — спятил ли он или пытается покончить с собой таким мучительным и сложным способом, — Септимус вскочил с кровати и кинулся на лестничную площадку.
— В чем дело? Что случилось?
— Хэлло! Вы встали, наконец? — крикнул Клем Сайфер, появляясь внизу лестницы, щегольски одетый и с цветком в петлице. — Чтобы попасть к вам, — мне пришлось взломать входную дверь, а затем я попытался поднять слугу вашим способом. Можно войти?
— Пожалуйста, — пригласил Септимус, трясясь от холода. — Вы не обидитесь, если я снова лягу?
— Делайте, что хотите, только не спите, — сказал Сайфер. — Прошу извинить, если я вас обеспокоил, но нельзя было ждать. Я еду в город и не знаю, когда вернусь. А мне нужно поговорить с вами об этом.
Он уселся в ногах кровати и бросил корректуру книги о пушках прямо на одеяло, под которым проступали очертания тела Септимуса. В сером свете ноябрьского утра — шторы и занавеси, тщательно выбранные Зорой, не были подняты — Сайфер, сияющий и розовый, в блестящем шелковом цилиндре олицетворял собою рассвет делового дня, тогда как Септимус казался воплощением небрежности и лени.
— Я просидел полночи над этой проклятой штукой и полностью убедился, что вы попали в точку.
— В какую точку?
— В ту самую. Ваше изобретение — величайшее в свете, после крема Сайфера.
— Погодите, пока я разработаю мою идею вагонов нового типа.
— К черту вагоны! Господи Боже! Неужели вы сами не понимаете, что сделали? Выдумал такую штуку, которая способна совершить переворот в морском артиллерийском деле, а сам болтает чепуху о каких-то вагонах.
— Я очень рад, что книга вам понравилась.
— Хотите ее издать?
— Конечно.
— Спросите вашего издателя, сколько он возьмет отступного, чтобы передать право издания другому.
— Я издаю ее за свой счет, — пояснил Септимус и, не договорив, зевнул.
— И затем преподнесете ее в дар всем правительствам мира?
— Да. Я, пожалуй, пошлю им всем по экземпляру. Это вы хорошо придумали.
Клем Сайфер сдвинул шляпу на затылок и зашагал по комнате — от умывальника, мимо туалетного столика к шкафу и обратно.
— Ах, волк меня заешь! — воскликнул он.
— За что?
— Я считал себя благодетелем рода человеческого, но рядом с вами я — просто какой-то коршун. Неужели вам не приходило в голову, что если ваши пушки-великаны действительно таковы, как я их себе представляю, то любое правительство даст вам за право использовать вашу идею столько, сколько вы запросите?
— В самом деле? Вы думаете, на этом можно заработать две-три сотни фунтов? — спросил Септимус, смутно думая о Мордаунте Принсе, отбывшем в Неаполь, и о том, что на текущем счету у него самого нет больше денег. Тревожное выражение его лица не укрылось от Сайфера.
— А вам что, деньги нужны? — спросил он.
— Да, временно, до получения дивидендов. Я, знаете ли, попытался тут спекулировать, но боюсь, что голова у меня не приспособлена для таких дел.
— Я тоже этого боюсь, — широко осклабился Сайфер, перегибаясь через спинку кровати. — В последний раз, когда вам захочется спекулировать, посоветуйтесь прежде со мной. Разрешите мне быть вашим агентом по рекламированию этих пушек? Идет?
— Отлично! Я в восторге. И вагонов тоже. Кроме того, я изобрел мотор, который приводится в действие часовым механизмом. Заводится он при помощи маленького локомобиля. Это очень просто.
— Конечно, просто! Но я все-таки пока займусь одними пушками.
Он вынул из одного кармана чековую книжку, а из другого — авторучку.
— Я выдам вам авансом двести фунтов только за право действовать от вашего имени. Мои поверенные пришлют вам документ, очень длинный, который вы, прежде чем подписать, пошлите лучше своему поверенному, чтобы он его просмотрел. Хотя я вас не обману. Корректуру я возьму с собой. Разумеется, печатание мы приостановим. — Он уже сидел за туалетным столиком и подписывал чек.
Септимус кивнул головой и послушно взял чек, заметив только, что не понимает, за что ему дают эти деньги.
— За право помочь вам разбогатеть. До свидания. Ничего, лежите.
— Спокойной ночи, — сказал Септимус и, как только дверь закрылась за посетителем, он сунул чек под одеяло, свернулся клубочком и мгновенно заснул.
8
Дня два спустя Клем Сайфер стоял у крыльца Пентон-Корт на свежем воздухе, в ожидании своих гостей. Листья дубов, растущих вдоль подъездной аллеи, медленно опадали под холодным дыханием юго-западного ветра и присоединялись к своим мокрым собратьям на дорожках. Хлопья утреннего тумана еще висели на ветвях. Небо хмурилось и грозило дождем.
Из дома вышел лакей, несший на подносе телеграмму. Сайфер прочел ее, и его розовое лицо стало таким же хмурым, как небо. Телеграмма была из главной конторы и извещала Сайфера о том, что один из главных оптовых покупателей крема уменьшил свой заказ наполовину. Такая весть могла расстроить кого угодно. Не менее удручающее впечатление производили и деревья, с которых капала вода, и все вокруг. Волею небес земле полагалось быть прекрасной, а крему Сайфера — победоносным. Однако веление почему-то не исполнялось. Сайфер еще раз прочел телеграмму и сдвинул брови. Несомненно, это результат низких происков его врага. Джебуза Джонс уже несколько месяцев продает себе в убыток, засыпает всех рекламными объявлениями и уже успел отбить у него нескольких крупных заказчиков. Надо что-то предпринимать. Как уже говорилось, Сайфер любил действовать решительно, по-наполеоновски. Он велел подать себе телеграфный бланк и тут же, на подносе вместо стола, набросал ответную телеграмму:
Если нельзя купить право оклеить рекламными объявлениями собор Св. Павла или Вестминстерское аббатство, займите на четверг первые полосы всех крупных газет. Объявление составлю сам.
Он отдал телеграмму лакею, усмехнулся, предвкушая бой, и сразу же взбодрился. Когда на повороте показалась коляска с Зорой, Эмми и Септимусом, Сайфер радостно приветствовал их и рассыпался в комплиментах. Лучшего новоселья он себе не мог и представить. Всего трое гостей к завтраку, но зато три друга — все живые люди! — не то что целая толпа каких-то мумий, от которых веет холодом. Они действительно согревают его дом теплым дружеским участием. Миссис Миддлмист свежее июньской розы, и при ее появлении увядший сад расцвел, как летом. Мисс Олдрив Сайфер сравнил с весенним крокусом, а Септимусу, похлопав его по спине, предложил самому выбрать овощ, на который тот желал бы походить. До завтрака они должны осмотреть дом, а потом их ждет большой сюрприз. Что именно? — А! Это они увидят. — И глаза его смеялись, как у озорного мальчишки.
Большая лондонская фирма, которой Сайфер поручил меблировать дом, сделала все, что могла, и, разумеется, ужасно. Гостиная напоминала претендующую на скромность гостиную отеля. Столовая старалась выглядеть веселой и уютной, чему чересчур усердно содействовал «Смеющийся всадник» Франса Гальса[5], висевший над дубовым сервантом. Все было слишком новым, аккуратно расставленным и начисто лишенным индивидуальности. Хозяину, однако, все нравилось, в особенности, рельефные обои и причудливый фриз. Зора, женщина со вкусом и интуицией, даже покупая графин на ночной столик, добивалась, чтобы он гармонировал с ней самой. Сейчас она лгала из жалости, вслух выражая свое восхищение, но про себя решив, что многое здесь изменит. Эмми, все еще бледная и озабоченная, говорила мало. Не такое у нее было настроение, чтобы ей мог нравиться Клем Сайфер: его громкий голос и наполеоновские позы действовали на нервы. Септимус всем восторгался и все находил прекрасным; Эмми, напротив, была настроена скептически.
— Мне бы хотелось чем-нибудь вам помочь, — сказал Септимус, не обращая внимания на ее язвительные шуточки, как только они отошли от других настолько, что те не могли их слышать. Он уже предлагал ей съездить в Неаполь и привезти Принса, на что тут же получил совет не болтать глупостей. — Если бы я мог заставить вас снова смеяться! — добавил он.
— Мне вовсе не хочется смеяться, — нетерпеливо возразила Эмми. — Хочется сесть на пол и выть.
Разговор происходил в швейцарской. В дальнем углу Септимус увидел пушистого персидского котенка, игравшего с клочком бумаги, и, со свойственным ему редким чутьем, принес зверька Эмми, прижав его бархатную спинку к щечке девушки. Настроение Эмми, словно по волшебству, мгновенно изменилось.
— Какая прелесть! — воскликнула она, целуя котенка в крохотный влажный носик. За завтраком она даже была любезна с Сайфером и, смеясь, допытывалась, почему он называет котенка Джебузой Джонсом.
— Потому, — ответил тот, показывая исцарапанную руку, — что его когти производят на человеческую кожу такое же действие, как омерзительная мазь Джебузы Джонса.
После этого Эмми решила, что в человеке, который позволил котенку так исцарапать свою руку, все-таки должно быть что-то хорошее.
— Ну а теперь идем смотреть сюрприз, — сказал Сайфер после завтрака, когда они с Септимусом присоединились к дамам.
— Другие люди, — пояснял он по дороге, — ищут усадьбы, где лужайка выходит к лесу или на берег реки. Я, кажется, единственный, кому понадобилась лужайка, заканчивающаяся у железнодорожной насыпи. Потому этот дом так долго и пустовал.
Небольшой садик был отделен от лужайки рядом деревьев. Когда они миновали этот естественный заслон, открылась железнодорожная насыпь, линии рельсов и скучный, слегка холмистый суррейский пейзаж. Затем им бросилась в глаза огромная доска. Зора спросила, почему еще ее не убрали.
— Ведь это же и есть сюрприз! — воскликнул Сайфер. — Вы подойдите и посмотрите на нее с другой стороны.
Он повел их дальше, забежав вперед на несколько шагов; потом вдруг обернулся и застыл в театральной позе, как человек, открывший чудо. И тут три пары изумленных глаз узрели надпись на доске, выведенную огромнейшими буквами, которые можно было бы прочесть и из окна экспресса:
Крем Сайфера
Клем Сайфер, Друг человечества, живет здесь
— Что? Каково? Разве не гениально? Я уже несколько лет носился с этой идеей. Главное то, что моя реклама заставляет каждого, проезжающего мимо, войти, так сказать, в личный контакт со мной. Она доказывает, что крем Сайфера — не какая-нибудь шарлатанская мазь, а изобретение человека, который имеет свой домик — тот самый, что виден из-за деревьев, и живет в нем. И невольно проезжающий говорит себе: «Интересно бы знать, кто он, этот Сайфер. Наверное, неплохой человек, если живет в таком уютном домике. У меня такое чувство, словно я с ним уже знаком. Надо будет попробовать его крем». Блестящая идея — правда? Вы не находите?
Он вопросительно поглядывал то на одного, то на другого. Лица у всех были смущенные. Эмми, несмотря на свою озабоченность, едва сдерживала смех. Минутное молчание прервал кроткий голос Септимуса:
— Мне кажется, я могу сделать приспособление, которое при помощи системы рычагов, доходящих до рельсов и приводимых в движение проходящими поездами, будет забрасывать пробные коробочки с доски прямо в окна вагонов.
Эмми прыснула со смеху: — Идемте — покажете мне, как вы это сделаете!
Она подхватила его под руку и потащила к насыпи, высмеивая крем Сайфера и его претенциозную вывеску. Зора молчала.
— Вам не нравится, — смущенно сказал ей Сайфер.
— Как вы хотите, чтобы я вам ответила — как вежливая гостья или как ваш друг?
— Как мой друг и помощница.
— В таком случае — она слегка коснулась его рукава — я должна сказать вам: нет, не нравится. Совсем не нравится. По-моему, это ужасно.
Сайфер, гордый своей выдумкой, гордился также и дружбой Зоры. Теперь он растерянно переводил глаза с нее на доску. Лицо у него было совсем жалкое, убитое.
— Но почему же?
Глаза молодой женщины наполнились слезами. Она видела, что ее неодобрение больно его задело. Преисполненная великодушия, Зора не осудила Сайфера за невероятную вульгарность, как осудила бы всякого другого. Но она искренне за него огорчилась. Что ни говори, он — незаурядный человек, с грандиозными, хотя и нелепыми, идеями, — как же он сам не замечает, насколько омерзительна эта доска.
— Это недостойно вас, — смело ответила она. — Я хочу, чтобы все уважали вас, как уважаю я. Поймите, тут дело не только в креме. За кремом стоит человек.
— Ну да. Затем я и поставил доску — чтобы показать человека.
— Но она не дает ни малейшего представления о рыцаре и джентльмене, каким я вас считаю. Надпись производит обратное впечатление: как будто она сделана мелким корыстолюбивым человеком, способным за деньги продать даже самоуважение. О! Неужели вы не понимаете?! Это так же отвратительно, как если бы вы ходили по улицам в шляпе с надписью: «Крем Сайфера».
— Как же мне теперь быть?
— Убрать доску, и поскорее.
— Но ведь я для того и купил этот дом, чтобы ее выставить.
— Мне очень жаль, — мягко сказала Зора, — но моего мнения это не изменит.
Он еще раз взглянул на доску и повернул обратно.
— Идемте домой.
Возвращались они молча. Когда проходили мимо кустов, окружавших дом, Сайфер, не говоря ни слова, отвел в сторону мокрую ветку, чтобы она не обрызгала платье Зоры.
— Вы рассердились на меня? — спросила молодая женщина.
Он остановился и поднял на нее ясные, блестящие глаза.
— Вы что же, считаете меня идиотом от рождения? Думаете, я неспособен отличить искренность и дружескую откровенность от грубости и такой осел, что не умею ценить их превыше всего? Вам нелегко было сказать мне это. Но вы правы. Я совсем одурел со своим кремом. Когда я о нем думаю, то чувствую себя просто машиной, дело которой — распространять его по земле. И тут вы мне страшно нужны. Надпись на доске — возмутительная гнусность, ее сегодня же уберут. И покончим с этим!
Он протянул руку. Зора подала свою, и он горячо ее пожал.
— Что же, вы теперь продадите дом, раз он для вас бесполезен?
— А вы хотите, чтобы я его продал?
— Почему вы спрашиваете меня?
— Зора Миддлмист, я в некотором смысле человек суеверный. Не знаю почему, но убежден, что мой успех связан с вами. Я готов сам сжечь все свое достояние, лишь бы не потерять вашего уважения. За него я отдам все на свете — кроме моей веры в крем.
— А ею вы ни ради чего бы не пожертвовали — даже чтобы сохранить мое уважение? — спросила Зора, подстрекаемая дьяволенком, который сидит в сердце самой чистой женщины и не любит, чтобы его прелестную обитель ставили ниже какой-то мази. Это был тот же дьяволенок, который заставляет новобрачную спрашивать влюбленного мужа, кого бы из двух женщин он спасал, если бы обе тонули — ее или свою мать? Тот самый дьяволенок, который на вопрос: «Ты никогда не говорил этого другой женщине?» устами мужчины горячо клянется: «Никогда»! — и лжет, что другую нельзя так любить, что за нее он готов продать душу сатане, и, натешившись враньем и лживыми клятвами, сворачивается клубочком и сладко засыпает.
Но в данном случае дьяволенок был посрамлен:
— Моя вера в крем для меня дороже всего на свете, и я не пожертвую ею ни ради кого, — торжественно ответил Сайфер.
— Очень рада это слышать, — как будто искренне сказала Зора. Но дьяволенок насмешливо допытывался, действительно ли она так уж рада, пока Зора не пристукнула его каблуком по голове, — тогда он успокоился. Тем не менее уважение ее к Сайферу после такого ответа только возросло.
К ним присоединились Эмми и Септимус.
— Думаю, я мог бы такое устроить, — начал Септимус, — если прорезать в доске квадратное отверстие величиной с фут и позади него поместить магазин.
— В этом уже нет нужды, — сказал Сайфер. — Миссис Миддлмист приказала немедленно убрать доску.
Тем дело и кончилось. На другой же день доску порубили на дрова, которые были отправлены с любезной запиской в подарок миссис Миддлмист. Зора назвала это жертвой всесожжения. И, глядя на горящие дрова, ощущала невыразимое удовольствие, которое не смогла бы объяснить ни своей матери, ни, возможно, даже самой себе. Септимус впервые дал ей почувствовать сладость своей власти над людьми. Но что такое Септимус! Его каждая, даже Эмми, может превратить в своего раба. Совсем другое дело — Сайфер. Добиться того, чтобы у нее под каблуком оказался Друг человечества, гигант среди фармацевтов, — это не всякой женщине под силу.
Эмми, посмеиваясь, хвалила Зору за то, что она ткнула Сайфера носом в его крем, — теперь он не будет ко всем так с ним приставать. Зора возмущалась грубостью ее выражений, но великодушно признавала, что на несоответствие рекламы требованиям хорошего вкуса указала действительно она.
— Не понимаю, чего ради ты с ним так возишься, с этим Сайфером, — сказала Эмми.
— Я дорожу его дружбой, — возразила Зора, отрываясь от чтения письма.
Это было за завтраком. Когда горничная принесла почту, Эмми с жадностью накинулась на письма, но единственное адресованное ей письмо было деловое, от антрепренера, — не то, которого она ожидала. И Эмми обозлилась.
— Ты совсем иначе стала относиться к мужчинам, милая, — съязвила она. — Прежде, бывало, ты презирала их, не хотела ни видеть их, ни разговаривать с ними, а теперь жить без них не можешь.
— Милая Эмми, — спокойно возразила Зора, — мужчины как возможные женихи или мужья и мужчины как друзья — это совершенно разные вещи.
Эмми со злостью крошила кусок торта.
— Все они мерзавцы.
— Господи! Почему?
— Ах, я не знаю. Все одинаковы.
Она пугливо вскинула глаза на сестру, как бы опасаясь, что сказала слишком много, и тотчас же беспечно рассмеялась.
— Они все такие лгуны! Фаусетт обещал мне роль в своей новой пьесе, а сейчас пишет, что не даст.
Поскольку театр доставлял Эмми много огорчений, а Зора в глубине души с самого начала не одобряла выбранную младшей сестрой профессию, она и теперь не слишком огорчилась. Зора вообще не принимала всерьез Эмми. Та была для нее милым и капризным, балованным котенком, с кошачьими запросами, стремлениями и привычками. Она даже представить себе не могла, что Эмми способна попасть в трагическое положение. Котенок в роли Антигоны, Офелии или другой гонимой роком героини, котенок измученный, убитый горем, — конечно, такое трудно вообразить даже наделенному пылкой фантазией любителю котят. Поэтому Зора очень спокойно отнеслась к высказанной Эмми причине ее беспокойства и продолжала читать письмо. Оно было от Календеров, из Калифорнии. Ее новые знакомые просили Зору навестить их во время кругосветного путешествия.
Зора отложила в сторону письмо и задумалась, помешивая ложечкой чай в стакане; ей грезились горы со снежными вершинами, голубой прозрачный воздух, персиковые рощи и все чудеса далекой солнечной страны. И Эмми тоже рассеянно мешала ложечкой свой чай, но мысли ее были иные — самые горькие и страшные, какие только могут родиться в женской голове.
9
Септимус никогда еще не видел, как женщины падают в обморок. В первый момент он вообразил, что Эмми умерла, и в отчаянии принялся тереть одну свою руку о другую, словно муха крылышками. Осознав наконец случившееся, молодой человек первым делом вытащил из кармана огромный перочинный нож, который всегда носил при себе — как он объяснял, на случай, если сломается карандаш — и предложил его Зоре: ему смутно представлялось, что, когда женщина падает в обморок, ей нужно прежде всего разрезать шнуровку. Зора побранила его за вздорный совет и велела позвать горничную.
Все произошло совершенно неожиданно. Они сидели, как обычно, в гостиной: Зора и Септимус — над картами и справочниками, а Эмми — за чтением у камина. Только на этот раз она читала не книгу, а газету «Дейли-ньюс», привезенную накануне Септимусом, ездившим по делам в Лондон. Вечерние газеты считались в Нунсмере роскошью, поэтому Септимус припрятал газету от Вигглсвика и отнес ее дамам. Внезапно послышался легкий шум у камина, и Эмми без чувств откинулась на спинку кресла, зажав в руке часть газеты; другая часть, вкладыш, валялась на полу.
С помощью Септимуса Зора и горничная перенесли бесчувственную девушку на диван, отворили окно и дали ей понюхать нюхательную соль. Септимус все тревожился, не умерла ли она; Зора благодарила Бога за то, что ее мать уже была в постели. Тем временем Эмми пришла в себя.
— У меня закружилась голова, — прошептала она.
— Да, милая, — сказала Зора, опускаясь перед ней на колени. — Но теперь тебе лучше?
Эмми испуганными глазами смотрела мимо Зоры на что-то невидимое и ужасное.
— Как глупо с моей стороны! Должно быть, от жары. Или от этой доски мистера Сайфера, которая так назойливо сверкала на солнце. — Она бросила умоляющий взгляд на Септимуса. — Говорила я какие-нибудь глупости?
Когда молодой человек сказал, что она просто откинулась на спинку кресла и потеряла сознание, Эмми вздохнула с облегчением и закрыла глаза Немного оправившись, она попросила, чтобы ее отвели наверх, но перед уходом судорожно и многозначительно сжала руку Септимуса.
При всей его неискушенности этот молящий взгляд и пожатие руки сказали Септимусу многое — что Эмми доверяет ему и надеется на него — и отчасти объяснили причину ее обморока. Снова он стоял одинокий и растерянный в этой маленькой гостиной, запустив пальцы в растрепанные волосы и озираясь по сторонам, словно ждал озарения свыше. Но оно не осеняло его, и, не зная, что делать, он бессознательно, следуя мужской привычке держать в порядке все, что напечатано, принялся складывать газетные листы, разглаживая их там, где они были смяты рукой Эмми. И тут ему бросились в глаза строки, от которых он вздрогнул и растерянно уставился в газету. То было объявление о бракосочетании Мордаунта Принса, состоявшемся в британском консульстве в Неаполе.
Какая гнусность! Какое низкое коварство! Впервые в жизни Септимус столкнулся лицом к лицу с мужской непорядочностью. Читать об извращенности людской природы в «Полицейских ведомостях» — это одно, но видеть, как она черной тенью упала на жизнь близкого человека, — совсем другое. Он ужаснулся. Мордаунт Принс совершил тяжкий, смертный грех. Он похитил любовь девушки и низко, подло бросил ее, продолжая обманывать до последней минуты. Септимусу и в романах любовник, который целует, а потом бросает, внушал только отвращение. Человек же, поступивший так в реальной жизни, представлялся ему невероятным негодяем. У него щемило сердце, когда ему вспоминались глазки-незабудки Эмми, превращавшиеся в сапфиры, когда она пела хвалу этому мерзавцу. Септимус стискивал кулаки, перебирая в памяти все бранные слова, какие только были в его скудном лексиконе. Боясь столкнуться с Зорой в таком возбужденном состоянии, чтобы как-нибудь не выдать ей злосчастной тайны Эмми, он сунул газету в карман и побежал домой.
У себя дома, перед затопленным камином, молодой человек долго ломал голову над тем, как ему быть дальше. Что-то необходимо было делать. Но что именно? Вырвать Мордаунта Принса из объятий невесты и притащить его, раскаивающегося, сюда, в Нунсмер? Но какой толк был бы от этого, если западная цивилизация открыто не признает полигамии? Съездить в Неаполь и проучить подлеца? Это уже лучше. Чудовище вполне заслуживает наказания. Но как такие вещи делаются? Септимус был так неопытен! Он смутно представлял себе, что в подобных случаях мерзавца бьют хлыстом. Но каким должен быть хлыст? Если обыкновенный, охотничий, то он бьет не больнее трости, — пожалуй, тростью или палкой даже лучше… Если взять настоящий ременной бич, так он громоздкий, его неудобно носить с собой; и ударить им можно, только замахнувшись издали, щелкая, как наездники в цирке. Возможно, специальные хлысты для таких случаев есть на складах армии и флота? Нужно, чтобы хлыст был длинный, фута в три, гибкий и суживающийся на конце. Фантазия Септимуса уже бессознательно работала над новым изобретением. Ему виделся карающий бич из тончайших, гибких, искусно переплетенных между собой стальных проволочек… И когда воображаемый бич был уже совсем готов, Септимусу пришло в голову, что он еще не решил, как ему быть сейчас. Немного смущенный этим, он снова стал думать.
Так прошло несколько часов. Ничего не придумав, Септимус вздохнул, попробовал искать утешения в фаготе, но, сыграв несколько тактов «Энни Лори», поставил несносный инструмент обратно в угол и пошел гулять. Ночь была звездная, морозная. В Нунсмере царило безмолвие, как в Вифлееме[6], и звезда горела низко на востоке, над самым горизонтом. А вдали, по ту сторону выгона, светился одинокий огонек в окнах домика викария: старый викарий, в то время как все его прихожане уже спали, трудился над воскресной проповедью. Земля утопала во мгле, и только небо было ясным.
На дороге Септимус не видел ни души; на выгоне тоже ему не встретился даже хромой ослик. Из какой-то невероятной дали слабо донесся свисток паровоза, и после него, казалось, еще гуще стала тишина. В ушах Септимуса гулко отдавались его же шаги по хрустящей, подмерзшей траве. Но и темнота, и тишина были ему приятны — они как нельзя лучше гармонировали с беззвездной тьмой в его душе. Септимус шагал, углубившись в туманные фантазии, заменявшие ему мысли, — как всегда, не замечая времени. Один раз он остановился на краю пруда и, присев на скамью, курил трубку, пока холод не заставил его встать. Повинуясь инстинктивной потребности услышать хоть какой-нибудь звук, молодой человек поднял камень и бросил его в воду. Зловещий всплеск заставил Септимуса вздрогнуть, и он снова отправился, как призрак, бесцельно скитаться в темноте.
Лампа викария давно погасла. Поднялся легкий ветерок, звезда на горизонте опустилась еще ниже. Неожиданно, в сотый раз сворачивая с дороги на выгон, Септимус заметил, что он не один. Впереди кто-то шел — такой легкой поступью, что молодой человек скорее почувствовал, чем услышал шаги. Он сам пошел быстрее, вглядываясь в темноту, и разглядел, наконец, шагах в тридцати впереди себя смутные очертания человеческой фигуры. От нечего делать, Септимус последовал за ней и вскоре увидел, что это женщина, которая быстро шла, почти бежала. Зачем женщине идти через нунсмерский выгон в четыре часа утра — это для него было непостижимо. Рядом с викарием жил доктор, но ни к доктору, ни от него она в такой час идти не могла. И внезапно ему стало ясно, куда и зачем направляется незнакомка. Он вспомнил всплеск от падения камня. Женщина шла прямо к пруду. Септимус ускорил шаг, нагоняя ее, и вдруг стал как вкопанный. Перед ним была Эмми. Он узнал ее меховой жакет и отделанную горностаем шапочку. В руках она держала какой-то предмет.
Было ясно, что девушка не видела Септимуса и не слышала его шагов. Пораженный ужасом, он шел за ней следом. Эмми с глазами-незабудками, как новая Офелия, искала на дне пруда могилу для себя и своих любовных горестей… Снова перед Септимусом встал вопрос, который в критические минуты ему всегда было трудно решить: что нужно делать? И сквозь страх и сострадание в душе молодого человека пробивалось сознание ужасной неделикатности его поведения — как можно навязывать себя женщине в такой момент? Он почти готов был уйти и оставить Эмми наедине с ее печалью. Но снова в его ушах отдался всплеск, и снова он вздрогнул всем телом. Вода в пруду такая холодная, такая черная… И что он потом скажет Зоре? Эта мысль заставила его настолько ускорить шаги, что Эмми услышала их и обернулась, испуганно вскрикнув:
— Кто тут?
— Это я, — Септимус, — пролепетал он, снимая шапку. — Ради Бога, не делайте этого!
— Уйдите! Не мешайте мне! Как вы смеете за мной шпионить?
При слабом свете звезд он едва различал черты ее лица; голос у нее был сердитый. Она топнула ногой.
— Как вы смели шпионить за мной?!
— Я не шпионил, — объяснил он, — и узнал вас всего минуты две назад. Просто вышел погулять — пройтись после завтрака.
— О! — почти беззвучно простонала она.
— Мне страшно совестно, что я вам мешаю, — продолжал он, нервно теребя шапку, между тем как ветер бесцеремонно трепал его волосы. — Я не хотел этого, но не мог же я стоять и смотреть сложа руки на то, как вы… ну, право же, не мог.
— Как я — что? — сердито переспросила она. Септимус не знал, что под меховым жакетом сердце ее стучит, как безумное.
— Ну, топитесь…
— Вот в этом-то пруду? — истерически расхохоталась девушка. — В трех футах воды? Как же, по-вашему, можно здесь утопиться?
Септимус задумался. Он не сообразил, что пруд так мелок.
— Вы могли лечь на дно и лежать, пока все не было бы кончено, — возразил он с невозмутимой серьезностью. — Я слыхал про одну служанку, которая утопилась таким образом в большом тазу.
Эмми нетерпеливо отмахнулась от него и пошла дальше, но он поплелся за ней.
— Ах, да не идите же за мной! — выкрикнула она странным голосом. — Оставьте меня в покое, Богом вас заклинаю! Не собираюсь я убивать себя. О, если бы у меня хватило духу!
— Но если не собираетесь, зачем же было идти сюда?
— Гуляла перед завтраком — как вы! Зачем я здесь? Если желаете знать, — она вызывающе глянула на него, — я еду в Лондон первым утренним поездом, — которым возят молоко из Генсхема. Как видите, я выгляжу вполне прилично. Вот мой багаж, — она взмахнула чем-то прямо перед его лицом, и он действительно разглядел саквояж. — Теперь вы удовлетворены? Или думаете, что я и на тот свет потащу с собой головную щетку и пудреницу? Просто я еду в Лондон, и ничего больше.
— Но до Генсхема семь миль ходьбы.
Эмми не отвечая пошла быстрее. Септимус, озадаченный, недоумевающий, шел с ней рядом, все еще без шапки. Не надо было быть особенно догадливым, чтобы связать ее необычайное появление ночью на выгоне с объявлением в «Дейли ньюс». Даже местный полисмен сообразил бы, в чем дело. Но если Эмми не собирается себя убивать, то чего же ради она вдруг среди ночи собралась в Лондон? Зачем идти семь миль морозной ночью, в темноте, когда через несколько часов можно сесть на поезд в Рипстеде, всего за милю от Нунсмера, ехать со всеми удобствами? Тут крылась какая-то тайна, трагическая и необъяснимая.
Они молча миновали пруд, прошли через выгон и зашагали по шоссе.
— Хотел бы я знать, что мне делать, Эмми, — взмолился он наконец. — Мне страшно неприятно навязывать вам свое общество, но не могу же я оставить вас одну, когда чувствую, что вы нуждаетесь в защите. Как бы я потом посмотрел в глаза Зоре?
— Вообще я предпочла бы, чтобы вы подольше не смотрели ей в глаза, — поспешно возразила Эмми. — Пожалуй, будет лучше, если вы меня проводите до станции. Согласны?
— Вы снимете тяжесть с моей души.
— Ну и отлично. Но только, ради Бога, не болтайте. Не раздражайте меня! Меньше всего я хотела сердиться на вас, но у меня страшно взвинчены нервы!
— Дайте мне ваш саквояж, а сами лучше возьмите мою палку.
Септимус только теперь заметил, что идет без шапки, надел ее и оба молча двинулись по шоссе, словно чета цыган. Две мили прошли они так — то в полной темноте, когда дорога сворачивала на дубовую аллею, то по открытому месту, среди полей, — но нигде звуки человеческого бытия не нарушали сельской тишины. Затем молодые люди вышли на большую дорогу, ведущую в Лондон, и миновали какую-то деревню. Кое-где окна уже светились. В одном коттедже дверь была распахнута. Полоска света легла на лицо Эмми, и Септимус заметил, какое оно измученное и несчастное. Прошли еще около мили. Изредка навстречу попадался крестьянин и, ничего не подозревая, с поклоном проходил мимо. Прогромыхала тележка молочника, и снова вокруг стало тихо. Постепенно звезды гасли.
Когда они достигли подножия холма, на вершине которого стоял коттедж, черневший на сером фоне неба, Эмми внезапно споткнулась и упала на груду камней у дороги, разразившись слезами и бессвязными причитаниями. Она не в силах больше выносить это. Почему он все время молчит? Она не в состоянии идти дальше. Хоть бы уже скорее пришла смерть! Что с ней теперь будет? И как он может все время идти рядом с ней молча, словно немой тюремщик? Лучше пусть возвращается в Нунсмер и бросит ее умирать здесь, у дороги. Только бы ей поскорее умереть. Ничего другого она и не просит у неба.
— О Боже, сжалься надо мной! — рыдала она, раскачиваясь взад и вперед.
Септимус стоял растерянный, терзаясь и не зная, чем ее утешить. Впервые в жизни ему приходилось выступать в роли странствующего рыцаря, защитника обиженных, и он совсем не знал, как себя вести. Он пожертвовал бы своей головой, лишь бы найти слова, которые могли бы ободрить Эмми. Ничего лучшего он не смог придумать, как потрепать ее по плечу и попросить не плакать, что, как известно, может только поощрить плачущую женщину. И Эмми зарыдала еще горше. И в эту ночь мучительных сомнений перед Септимусом снова встал вопрос: что делать? Он растерянно огляделся вокруг, ища какое-нибудь указание, и вдруг увидел свет в окне коттеджа на холме.
— Хотите, я пойду туда и постучусь? Может быть, они дадут вам стакан молока или чашку чая. Или, позволят немного полежать у них и отдохнуть.
Он даже повеселел от своей догадливости. Но Эмми только грустно покачала головой. Ни молоко, ни чай, ни мягкая постель не прельщали ее. Ни мак, ни мандрагора не могли дать ей забвения. И она не в силах идти дальше, а до станции еще четыре мили.
— Если вы скажете, что мне делать, я сделаю, — промолвил Септимус.
Вдали что-то загромыхало — с холма медленно спускалась телега. У Септимуса появилась блестящая мысль.
— Хотите, я усажу вас на эту телегу и отвезу обратно в Нунсмер?
Эмми вскочила на ноги и уцепилась за его руку.
— Никогда! Ни за что! Вы слышите?! Этого я не в состоянии перенести. Мама, Зора — я никогда их больше не увижу. Прошлой ночью они чуть не довели меня до истерики. Вы думаете, чего ради я ушла из дому ночью? Только для того, чтобы не встречаться с ними. Идемте дальше. Если я умру в пути, тем лучше.
— Может быть, я смогу вас нести.
Она смягчилась, взяла Септимуса под руку и даже улыбнулась, взбираясь с его помощью на холм.
— Какой вы славный и как я по-свински вела себя с вами! Всякий другой на вашем месте стал бы приставать ко мне с расспросами, удивляться и тому подобное. А вы даже не спросили меня…
— Тихо! Не надо и спрашивать. Я знаю — прочел в газете. Не будем об этом говорить. Поговорим о чем-нибудь другом. Вы любите мед? Я посмотрел на Большую Медведицу и вспомнил… Вигглсвик все хочет завести пчел. А я ему говорю, что, если он это сделает, то я заведу медведя. Медведь будет питаться медом, и я выучу его плясать под мой фагот. Кто знает, может, ему и понравится фагот, — помолчав, грустно добавил он. — А то он никому не нравится.
— Если бы вы захватили его с собой, я бы попросила на нем сыграть: мне бы он нравился — ради вас, — всхлипнула Эмми.
— Если бы вы послушались моего совета и прилегли отдохнуть в коттедже, я бы мог послать за ним, — Септимус даже не улыбнулся.
— Нам надо поспеть на поезд, — возразила Эмми.
В ближней деревушке, в полумиле от холма, все уже были на ногах. У двери одного из коттеджей стояла телега, нагруженная овощами, в ожидании возницы, допивавшего свой чай.
Путники остановились возле коттеджа.
— Если та телега могла отвезти вас обратно в Нунсмер, — сказал Септимус с видом человека, открывшего, наконец, истину, — то эта может доставить нас на станцию.
Он оказался прав. Мужчины усадили Эмми как можно удобнее среди кочанов капусты, на груде мешков, и она все время дремала от усталости, пока не добрались до станции.
При свете двух тусклых газовых фонарей маленький полустанок казался еще мрачнее и угрюмее. Эмми, изнемогая от усталости после бессонной ночи, устало опустилась на скамью, окоченев от холода, слишком измученная, чтобы привести в порядок свои волосы, развившиеся и висевшие прямыми прядями из-под горностаевой шапочки. Септимус пошел к кассе и взял два билета первого класса до Лондона. Когда он вернулся к Эмми, она заплакала от радости.
— Вы едете со мной? Какой вы добрый!
— Я отвечаю за вас перед Зорой.
Сквозь слезы глаза ее сверкнули ревностью:
— Вы всегда думаете о Зоре.
— Думать о ней, — загадочно возразил Септимус, — это значит воспитывать себя.
Эмми пожала плечами. Она не была склонна идеализировать женщин и, к тому же как сестра знала иную Зору, не совсем похожую на поэтический образ, созданный воображением Септимуса. Но бедняжка была слишком несчастна, чтобы возражать. И только спросила его, который час.
Наконец подошел поезд. Застучали жестяные кувшины на платформе. Появились сонные люди, входившие в вагоны третьего класса. Единственное купе первого класса оказалось в полном распоряжении Эмми и Септимуса. Оно было холодным и мрачным, как непроветренный склеп. Маленькая лампочка с грязным стеклом светила, почти не давая света. Кондуктор, проходивший мимо окна купе, направил на них свой фонарь и удивленно остановился. Вот так парочка! Если это сбежавшие из дому влюбленные, скоро же они раскаялись. С таких не получишь на чай. И он перестал обращать на них внимание. Поезд тронулся. Эмми тряслась от холода в своем меховом жакете. Тогда Септимус снял пальто, и они оба укутались им, плотно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Немного погодя головка Эмми упала на плечо Септимуса и девушка уснула, а он держал во рту пустую трубку и не смел закурить, чтобы не потревожить ее сон. По той же причине он не решался переменить неудобную позу, хотя у него давно уже мурашки бегали по телу. Держать в своих объятиях спящую молодую женщину — далеко не такое романтическое наслаждение, как уверяют поэты; в действительности это так же неудобно, как если бы она стояла у вас на голове. К тому же Эмми во сне бессознательно перетягивала пальто на себя, и один бок Септимуса окоченел от холода, так как смокинг плохо греет в дороге в морозное зимнее утро.
Мысль о том, что на нем все еще вечерний костюм, снова заставила Септимуса ломать голову над трудным вопросом: чего ради они с Эмми едут в этом каторжном вагоне вместо того, чтобы спать сейчас крепким сном в своих удобных постелях в Нунсмере? Непостижимую для него загадку могла разъяснить только спящая теперь девушка, которая заставила Септимуса, хотя и с его согласия, переживать такие мучительные неудобства. Напрасно он твердил себе, что подобного рода рассуждения доказывают лишь его врожденную неделикатность; тщетно с непривычной строгостью спрашивал себя, какое ему до этого дело; безуспешно пытался направить свои мысли на новое изобретение — патентованные противоаварийные вагоны — или, по крайней мере, задремать. Все тот же вопрос неотступно стоял перед ним и дразнил его воображение. Поэтому когда Эмми, наконец, проснулась и, протирая глаза, стала смущенно извиняться за столь бесцеремонное обращение с его плечом, он не решался взглянуть ей в глаза.
— Что вы будете делать, когда мы приедем в Лондон? — осведомилась Эмми.
Септимус еще об этом не думал: — Скорее всего, следующим поездом уеду обратно в Нунсмер, если только я вам не нужен.
— Нет, вы мне не нужны, — рассеянно ответила Эмми. — Зачем вы мне можете быть нужны? — И застыла в немом созерцании грязных окраин Лондона, пока они не вышли на вокзале Виктория. У входа стоял мрачный одинокий четырехколесный кэб; запряженная в него лошадь грустно опустила голову. При виде этой безотрадной картины Эмми вздрогнула и взмолилась:
— Ради Бога! Не оставляйте меня одну, довезите до дому. Септимус, милый, знаю, что с моей стороны это свинство, но я так вам благодарна. Клянусь Богом, это правда!
Они уселись на грязные продавленные подушки, и унылая лошадь мелкой рысью повлекла их сквозь предрассветный туман зимнего лондонского утра. Невыразимо тоскливо было все вокруг. Миру словно не хотелось просыпаться в такое отвратительное утро. На тридцать шагов впереди еще можно было что-то увидеть, хотя воздух и напоминал желтый бульон, но дальше атмосфера уже сгущалась в некое подобие пюре из гнилых овощей. Они проехали Бельгрев, где все, казалось, вымерли в домах со спущенными белыми шторами на окнах и пустые улицы как будто ждали, что вот-вот отворятся двери и начнут выносить покойников. И сам кэб, в котором они ехали, был такой угрюмый. В нем пахло дешевыми сигарами и дешевыми духами, и могло показаться, что тени прежних пассажиров затеяли между собой какой-то потусторонний флирт, а дребезжащие окошки словно подыгрывают им при этом.
Наконец кэб остановился у подъезда дома в Челси, где жила Эмми. Она жалобно, как испуганный ребенок, посмотрела на Септимуса. Ее хорошенький ротик всегда казался безвольным, но теперь, когда уголки губ опустились, он стал совсем детским. Эмми взяла своего спутника под руку.
— Не уходите! Ужасно глупо с моей стороны, я знаю, но это кошмарное путешествие забрало мои последние силы. Боже, какая это была мука! Эдит, моя горничная, сейчас растопит камин — вам надо обогреться, прежде чем ехать обратно, и сварит нам кофе. Ну, идемте же! Извозчик может подождать.
— Но что подумает ваша горничная? — спросил Септимус, который при всей неопределенности своих жизненных принципов свято соблюдал приличия.
— Ах, не все ли равно! Все так ужасно в этом мире — не все ли равно, кто что подумает? Мне страшно, Септимус, мне так тяжело и страшно! Я боюсь даже по лестнице идти одна. Не оставляйте меня!
Голос ее оборвался. Сам святой Антоний не выдержал бы такого искушения. Септимус помог ей выйти из кэба, велел извозчику подождать и вслед за девушкой вошел в уже открытый подъезд. Поднявшись на свою площадку, Эмми отворила своим ключом дверь и повела его прямо в гостиную, повернув выключатель.
— Я сейчас разбужу Эдит. И она приготовит вам чего-нибудь перекусить. В камине есть дрова. Можно вас попросить его растопить?
Она исчезла, а Септимус стал на колени перед каминной решеткой и зажег бумагу. Через несколько минут загорелись и дрова; тяга была хорошая, и сразу же вспыхнул яркий огонь. Не обращая внимания на комнату, маленькую и нарядную, как бонбоньерка, всю заставленную мебелью и безделушками, обличавшими легкомысленный нрав хозяйки, он подставил теплу свои окоченевшие руки — прежде всего необходимо было согреться, он совсем застыл. Но тут в гостиную вихрем ворвалась Эмми, трагически восклицая:
— Ее нет! И я не знаю, где она.
Лицо у нее было белое, как полотно, под глазами темные круги, в глазах светилось безумие.
— Может быть, она решила пройтись? — предположил Септимус, как будто у лондонских горничных в обычае прогуливаться в восемь часов утра в тумане.
Но Эмми даже не слышала его. Отсутствие горничной, сознание полного своего одиночества доконало ее. Последняя соломинка сломалась. Эдит, на которую она возлагала все свои надежды, мечтая о физическом комфорте, исчезла бесследно. Изнемогая, Эмми опустилась в кресло, придвинутое для нее Септимусом поближе к огню. У нее не было сил даже плакать. Мрачно глядя перед собой в пространство, она заговорила тихим монотонным голосом:
— Что же мне теперь делать? Я не знаю. Эдит могла бы мне помочь. Надо уехать, где-нибудь спрятаться. Здесь я оставаться не могу. Зора, наверно, приедет. Нужно, чтобы она уже не застала меня. Эдит знает, как это делается; она сама прошла через это. Она увезла бы меня куда-нибудь, за границу или в деревню, где я бы и жила, скрывшись от людей, пока все не кончится. Это было так неожиданно… когда пришла весть о его женитьбе, я точно с ума сошла — не сумела ничего придумать. Эдит могла бы мне помочь. А теперь она неизвестно куда делась. Боже мой! Что же мне делать?
Она продолжала говорить вслух, забыв сдержанность и женский стыд, выдавая чужому мужчине самую заветную тайну, словно речь шла о каких-то пустяках. В своем горе Эмми даже не подумала о том, что Септимус — мужчина. Она говорила сама с собой и для себя, давая волю всему, что накопилось в ней за эту ужасную ночь. Недоумение Септимуса достигло предела. И вдруг — словно ракета взвилась вверх и озарила мир огненным дождем искр. Он все понял и оцепенел от ужаса и боли.
Унылый свет зимнего утра слабо просачивался сквозь спущенные занавеси, добавляя горькой ироничности к нежному свету электрических лампочек под розовыми колпачками, а две странные человеческие фигуры стояли друг перед другом причем каждый из этих двух людей не замечал трагической нелепости другого: женщина, растрепанная, с сумасшедшими глазами; мужчина в расстегнутом пальто, из-под которого виднелся смятый смокинг; она — в съехавшей на бок шапочке, он — в галстуке с бантом, оказавшимся где-то за ухом, над воротничком. И в этой обстановке фарса разыгрывалась жесточайшая трагедия женской души.
— Боже мой! Что же мне делать?!
Септимус смотрел на нее, заложив руки в карманы. В одном из них пальцы его нащупали свернутый клочок бумаги. Он рассеянно вытащил его — бумажка была вся засаленная — и бросил в огонь, но бумага упала не в камин, а за его решетку. В минуты крайнего нервного напряжения люди иногда обращают внимание именно на мелочи. Эмми посмотрела на бумажку. Что-то в ней показалось ей знакомым. Она нагнулась, подняла клочок с пола и развернула.
— Это чек, — сказала она. — Почему вы хотели его сжечь?
Септимус взял у нее из рук бумажку, посмотрел и сообразил, что это чек на двести фунтов, выданный ему Клемом Сайфером.
— Благодарю вас, — проговорил он, сунув чек в карман пальто.
И тут же по ассоциации вспомнил:
— Я знаю, что мы можем сделать: поехать в Неаполь.
— Зачем? Какая польза? — возразила она, серьезно отнесясь к его предложению.
В растерянности он принялся пальцами ерошить волосы.
— Какая польза? Я не знаю.
— Первым делом, — начала Эмми, и ее собственный голос показался ей чужим, — первым делом нам надо уехать отсюда. Как только дома меня хватятся и не найдут, Зора первым же поездом помчится сюда, в Лондон. Вы же понимаете, что она не должна меня найти.
— Конечно, — Септимус вдруг просиял. — Вы можете перебраться в отель — есть здесь такой, без спиртных напитков, — в Блумсбери. Вигглсвик как-то рассказывал мне, что один его приятель ограбил этот отель и получил потом шесть лет тюрьмы — некий Баркус.
— Но как же он называется, ваш отель?
— Ах, этого я не помню. Как-то из Вальтера Скотта. Локхарт? Нет, Локхарт — это другое. Что-то в роде Ламмермурской невесты или… ну да, конечно, — Равенсвуд на Саутгемптон-Род.
Эмми встала. То, что ей удалось спасти от огня чек на двести фунтов, немного подбодрило ее для последнего усилия — спрятаться от Зоры.
— Отвезите меня туда. Я сейчас соберу вещи.
Септимус распахнул перед ней дверь. С порога она обернулась:
— Сам Бог послал вас сегодня ночью на нунсмерский выгон.
Эмми вышла, а он уселся у камина и стал набивать трубку. Ее слова растрогали Септимуса. И в то же время напомнили ему одну сценку из его студенческих лет, когда знаменитый американский проповедник организовал на хлебной бирже в Кембридже ряд религиозных собраний. Огромный с голыми стенами зал был битком набит молодыми людьми, одни из которых пришли позубоскалить, другие — помолиться. На эстраде лысый, с топорным лицом и темной бородой мужчина в черном простыми словами с ужасным американским акцентом очень образно рассказывал, какими ничтожными и жалкими орудиями пользуется иной раз Всевышний для осуществления своих замыслов. В качестве примера он привел посох Моисея. «Вы только представьте себе фараона», — Септимус как сейчас слышал его сочный раскатистый бас, — «вы только представьте себе фараона, который в один прекрасный день идет по улице и видит Моисея с длинной толстой палкой в руке». «Хэлло, Моисей! — говорит он. — Куда ты идешь?» — «Куда я иду? — говорит Моисей. — Иду освободить сынов Израиля из дома рабства их и отвести в страну, текущую медом и молоком». — «Как же ты думаешь это сделать, Моисей?» — «Вот этим посохом, господин мой, вот этим самым посохом».
Септимус помнил, как издевалось большинство студентов над таким изложением библейских фактов, а те, что поутонченнее, возмущались вульгарностью речи проповедника. Но мысль, которую хотел донести до них этот все же талантливый проповедник, запала ему в душу и теперь себя обнаружила. Возможно, в словах Эмми было больше правды, чем она сама думала. В простоте сердечной Септимус считал себя ничтожнейшим из людей, не более пригодным для спасения своих ближних, чем дорожный посох Моисея. Но что, если, действительно, сам Бог послал его ночью на выгон и предназначил ему стать слабым орудием спасения Эмми? Он тер себе щеку горячим концом трубки, размышляя об этом в глубоком смирении. Да, возможно, он был послан самим Богом. Его религиозные убеждения были очень туманны, но вполне искренни.
Через несколько минут они опять тряслись в кэбе через весь Лондон, направляясь на Саутгемптон-Род, а опустевшая маленькая гостиная казалась такой странной и жуткой, освещенная средь бела дня электрическими лампочками под розовыми колпачками, которые забыли погасить.
10
Устроив Эмми в Равенсвуд-отеле, Септимус постоял немного на мокром тротуаре у подъезда, раздумывая, что делать дальше. Затем вспомнил, что он состоит членом клуба — солидного, в высшей степени чопорного — клуба, где веселое хлопанье пробки от шампанского за ленчем шокировало всех до мертвой тишины, где собирались серьезные, преисполненные достоинства глубокомысленные люди, чтобы посидеть вместе, презрительно бросая друг на друга хмурые взгляды из-за газет. Он взял кэб и поехал в клуб. В холле Септимус сидел над составлением двух телеграмм, стоивших ему немалых трудов и умственного напряжения. Нужно было успокоить Зору и добыть себе другую одежду, не выдавая тайны Эмми, а также ее и собственного местонахождения. Это оказалось далеко не легким делом, ибо дипломатия есть искусство говорить правду так, чтобы не сказать всей правды, отделенное от прямой лжи такой неуловимо тонкой чертой, что простодушному Септимусу оно просто претило. Наконец, изорвав с десяток телеграфных бланков, он составил такую телеграмму Зоре:
«Эмми благополучно Кондоне. Я также. Не беспокойтесь
Преданный Септимус»
И Вигглсвику:
«Привезите одежду и диаграммы вагонов секретно клуб»
Отправив обе телеграммы, он пошел в столовую и заказал себе завтрак. Лакеи обслуживали его, храня негодующее молчание. Тощий господин, завтракавший через несколько столиков от Септимуса, поинтересовался именем этого беспардонного кутилы, который явился утром в клуб в вечернем костюме, и решил сообщить о нем комитету. В истории клуба еще не было случая, чтобы кто-то из его членов завтракал здесь в смокинге, да еще в таком неприлично мятом смокинге. Подобная распущенность была позором и оскорблением для клуба, и тощий господин, гордившийся тем, что вся его жизнь шла, как заведенные часы, при виде такого неприличия ощутил какой-то сбой в великолепно оглаженном механизме. Но Септимус, нимало не смущаясь, съел свой завтрак, а затем поднялся наверх, в библиотеку, устроился поудобнее в кресле у камина и спал сном праведных до тех пор, пока Вигглсвик не привез ему другую одежду. Переодевшись и приняв более приличный вид, он отправился в Равенсвуд-отель, отослав Вигглсвика обратно в Нунсмер.
Эмми вышла к нему в строгую гостиную, где он дожидался, печальная, как сломанный цветок, бледная, в ее голубых глазах был испуг затравленного зверька. Септимусу стало до боли жаль девушку. Она подала ему безжизненную руку и присела на жесткий диван, а он стоял перед ней, нерешительно переминаясь с ноги на ногу.
— Ели вы что-нибудь?
Эмми кивнула головой.
— Поспали?
— Ну, это я разучилась делать, что за вопрос! Неужели я могу спать? — досадливо сказала она.
— Если не будете спать, заболеете и умрете.
— Тем лучше.
— Как мне хотелось бы вам помочь. Как бы мне хотелось!
— Никто мне не может помочь, и меньше всех — вы. Мужчины вообще в таких случаях ничего не способны придумать. А уж вы, мой бедный Септимус, — вас самого надо опекать, как и меня.
Презрительный тон этих слов не уязвил его, как уязвил бы любого другого, ибо он и сам знал свою неприспособленность к жизни. К тому же его подбадривало воспоминание о посохе Моисея.
— Быть может, Вигглсвик мог бы пригодиться?
Эмми невесело засмеялась. Вигглсвик! Никому, кроме Септимуса, не пришло бы такое в голову.
— Что же нам делать?
— Не знаю.
Они растерянно глядели друг на друга — двое детей, поставленных лицом к лицу с жестокой жизненной проблемой, бессильных справиться с ней и подавленных своей беспомощностью. Сильный в таком положении переживает муку страшнее смерти. Слабого она раздавливает, сводит с ума, нередко толкает на преступление, приводит на скамью подсудимых. Позор, бесчестье, переход на положение парии в обществе, невыносимая боль для близких сердцу; незалечимая рана, нанесенная фамильной гордости, пятно стыда на двух поколениях, отчаяние юной души, прежде такой счастливой; скорбь, катастрофа и гибель — вот наказание, уготованное женщине, которая осмелилась преступить общественный закон и, быть может помимо своей воли, повиновалась закону природы. Последнее обычно считается особенно тяжким преступлением.
Такие мысли проносились в голове Септимуса, повергая его в ужас и отчаяние. При этом он по своей неопытности сильно преувеличивал беду, не учитывая того, что свет в сущности равнодушен к чужим делам и занят своими собственными.
— Вы себе представляете, что это значит? — еле слышно спросил он.
— Если бы не представляла, разве я была бы здесь?
Септимус еще раз попытался убедить Эмми, чтобы она посвятила в свою тайну Зору. Его прямой натуре был противен обман, не говоря уже об измене дружбе, которую он поневоле совершал; здравый смысл, все же присущий ему, подсказывал, что естественная защитница и покровительница Эмми — ее старшая сестра. Но Эмми, как все слабые люди, была страшно упряма. Она объявила, что скорее умрет, чем скажет Зоре — Зора никогда не поймет и не простит. Весть об ее позоре убьет мать.
— Если бы вы любили Зору, как говорите, то постарались бы избавить ее от такого горя, — в заключение сказала Эмми. И Септимус был убежден. Но в таком случае, как же им быть?
— Уезжайте домой, мой добрый Септимус, — сказала Эмми, грустно опустив голову и уронив руки на колени. — Вы сами видите, что пользы от вас никакой. Будь вы другим человеком — как все, возможно, вы бы и смогли мне помочь, но тогда я ничего бы вам не сказала. Я пошлю за своей театральной портнихой. Понимаете, мне нужна женщина. Так что вы лучше уезжайте.
Септимус в глубокой задумчивости ходил по комнате.
Какая-то старая дева в дешевой блузке, очевидно, живущая в этом отеле, просунула голову в дверь, издала какое-то неодобрительное восклицание и удалилась. Наконец Септимус прервал молчание.
— Вы вчера сказали, что сама судьба послала меня вам. Я тоже в это верю и потому не оставлю вас.
— Но что же вы можете для меня сделать? — спросила Эмми и, не договорив, истерически зарыдала, уткнувшись в угол дивана. Узенькие ее плечики судорожно вздрагивали. Во всем поведении Эмми была какая-то странная смесь бравады и совершенно детской растерянности. Оставить бедняжку в такой страшный для нее час на попечение театральной портнихи казалось Септимусу немыслимым. Он горестно смотрел на нее, ненавидя себя за свою беспомощность. И зачем только он живет на свете? Ну какая от него польза людям? Другой мужчина, умный, сильный, широкоплечий, полный жизни, как те, что прошли сейчас по улице мимо окна, знал бы, как переложить ее заботу на свои сильные плечи, сумел бы с ласковой властностью указать ей, что нужно делать. Он же способен только нервно ломать руки и переступать с ноги на ногу, хотя это само по себе должно раздражать женщину, у которой до последней степени взвинчены нервы. Он ничего не в состоянии посоветовать. Ничего не может сделать — разве только обещать ей, что он повсюду, как собачонка, будет за ней следовать. Какой стыд! Так и с ума можно сойти. Он подошел к окну и выглянул на улицу, но и там ничто не радовало глаз; все его мужское самолюбие возмущалось собственной никчемностью.
Внезапно его осенила мысль — ослепительная, как молния, как идея нового изобретения, блеснувшая в мозгу с такой отчетливостью и яркостью, как никогда раньше в жизни. Почти в экстазе он запустил обе руки в свои волосы и ерошил их, пока они не встали дыбом.
— Есть! Придумал! — воскликнул Септимус. Сам Архимед не мог бы произнести эти слова с большим волнением.
— Придумал, Эмми!
Он стоял перед ней, весь дрожа. Она подняла заплаканное личико и удивленно на него посмотрела.
— Что придумали?
— Выход. Такой простой и легкий. Почему бы нам не убежать вместе?
— Да ведь мы так и сделали.
— Нет, по-настоящему, и обвенчаться.
— Обвенчаться?
Она выпрямилась, вся насторожившись.
— Ну да. Как вы не понимаете! Если вы формально обвенчаетесь со мной — только формально, и оба мы на год уедем куда-нибудь заграницу, — если хотите, я буду жить в одном городе, а вы в другом, — то после можно будет вернуться к Зоре, как будто мы муж и жена, и…
— И что?
— А затем вы скажете, что не можете со мной больше жить. Что со мной невозможно ужиться. Я и в самом деле думаю, что со мной не ужилась бы ни одна женщина. Это только Вигглсвик сумел ко мне приноровиться.
Эмми провела рукой по лицу. Она была ошеломлена.
— Вы хотите дать мне свое имя — покрыть мой позор браком?
Голос ее дрожал и срывался.
— Есть что давать! Оно такое коротенькое, — пошутил Септимус. — Я всегда находил, что у меня довольно глупая фамилия.
— Вы хотите на всю жизнь связать себя с девушкой, которая себя опозорила, только ради того, чтобы ее спасти?
— Да ведь это очень просто — все так делают.
— Все? Ах вы бедный, глупенький! — И она снова разрыдалась.
— Ну полно, полно! — нежно говорил Септимус, гладя Эмми по плечу. — Не надо плакать. Значит, решено? Мы обвенчаемся с особого разрешения, и поскорее. Я где-то читал, что это возможно. Надеюсь, портье там внизу, в холле, знает, где берутся такие разрешения. Портье всегда все знает. Тогда мы напишем Зоре, что я вас увез. Это так легко и просто. Я все устрою.
Септимус ушел, оставив ее одну — сгорающую от стыда и с холодом смерти в сердце. Он не думал сейчас о том, какую муку унижения, какое искушение переживала девушка. Он просто выполнил, по его понятиям, свой долг. Коротенькое имя Дикс, такое простенькое и ординарное, станет орудием избавления Эмми из дома рабства. Септимус бодро вышел, с минуту постоял около портье, помня, что тот ему зачем-то был нужен, но так и не вспомнив, зачем именно; потом направился к выходу и зашагал по улице необычной для него твердой и уверенной походкой. Настроение у него было приподнятое. Широкоплечие мужчины, толкавшие его, и те, кого он по рассеянности сам задевал, уже не казались ему могучими, недосягаемыми чемпионами, которым можно только завидовать, но не сравняться с ними. Он чувствовал себя одним из них и рад был, что его толкают, принимая грубость за признак общности. Шум и движение на Холборне, обычно ему ненавистные, теперь приятно щекотали нервы. Сердце Септимуса ликовало: ему удалось кое-что сделать для женщины, которую он любил. Возможна ли большая жертва, чем положить жизнь за своего друга? Но ради любимой женщины можно сделать и больше — жениться на другой.
В глубине души он продолжал любить Зору. В нем все еще жила безумная надежда, что чудо из чудес когда-нибудь произойдет. И он лелеял эту надежду, как мать уродливого и неполноценного ребенка, сознавая в то же время, что ей не место среди других его надежд, разумных и осуществимых. Как бы то ни было, до сих пор он был волен обожать Зору и поклоняться ей, ловя на себе иногда благодарный взгляд ее ясных глаз. В этом состояло его счастье, но ради нее он пожертвует и им. Ради Зоры он женится на Эмми. Сердце Септимуса было сердцем странствующего рыцаря, верящего в правоту своего дела. К тому же, разве не исполняет он желание Зоры? Она ведь сама сказала, что наибольшее удовольствие, какое он ей может доставить, стать ее братом, ее настоящим братом. Зора не рассердится — она одобрит его. А главное, он знал, что это единственное средство спасти Эмми, самое разумное и верное средство.
Человек обладающий практическим здравым смыслом, принял бы во внимание многое другое, и, прежде всего, отношения между Эмми и Мордаунтом Принсом, приведшие ее к столь трагическому положению. Но для Септимуса ее грех почти не существовал. Когда человеку удается отрешиться от всего земного, он смотрит с высоты своего полета на слабости и грехи смертных.
Едва не бегом он спешил по Холборну, пока перед ним в тумане не выросли контуры собора. Это пробудило в его уме некие ассоциации. Септимус остановился на тротуаре, вглядываясь в собор напротив, изо всех сил напрягая память. Он смотрел на церковь. Люди венчаются в церквах, иной раз с особого разрешения властей. Вот оно! Особое разрешение. Надо его добыть. Но где и как? В подлинно цивилизованных странах такие разрешения, наверно, продаются в магазинах, как головные щетки и сапоги, или даже в почтовых конторах, как разрешения держать собак. Но Септимус, сетуя на несовершенство английского общества, мог только грустно глядеть на шумную улицу, запруженную экипажами, не зная, куда идти. Он казался настолько растерянным, так вопросительно заглядывал в глаза прохожим, что полисмен счел необходимым остановиться и спросить молодого человека:
— Вам кто-то нужен, сэр, и вы не знаете, как туда попасть?
— Да, — сказал Септимус. — Мне нужно туда, где выдают разрешения на венчание.
— Разве вы не знаете, где это?
— Нет. Видите ли, мне еще ни разу не приходилось жениться. Но, может быть, вы были женаты и скажете, что для этого требуется?
— Знаете что, сэр! — Полисмен уставился на него доброжелательно, но с видом человека, находящегося при исполнении служебных обязанностей. — Послушайтесь моего совета, сэр: выбросьте из головы мысль о женитьбе. Идите-ка лучше домой, к друзьям.
Он выразительно кивнул головой и отошел, оставив Септимуса в недоумении. Что это значит? С ним говорил Сократ в полицейской форме, у которого дома сидит своя Ксантиппа, или, быть может, полисмен принял его, Септимуса, за тихо помешанного, вырвавшегося из-под надзора? То и другое было неутешительно. Он повернулся и, несколько приуныв, пошел назад по Холдорну. В Лондоне наверняка полным-полно специальных разрешений, но кто же направит его стопы в нужное место? Возле Грейс-Инн его снова осенила блестящая идея. Здесь живут многие адвокаты; они, законники, знают о всяких там разрешениях даже больше, чем портье в гостиницах и полисмены. Один его знакомый как-то после завтрака попрощался с ним, говоря, что ему нужно в Грейс-Инн, посоветоваться с адвокатом. Септимус вошел в низкие темные ворота и обратился к привратнику:
— Живет здесь кто-нибудь из адвокатов?
— Не так много, как прежде. Теперь здесь все больше архитекторы, но хватает и адвокатов.
— Не будете ли вы так любезны направить меня к кому-нибудь из них?
Привратник дал ему два-три адреса, и Септимус, ободренный, направился через четырехугольный дворик к западному флигелю, тяжелая темная громада которого уходила прямо в густой туман, именуемый лондонцами небом. Лампы, горевшие за окнами без штор, ярко освещали комнаты и людей, склоненных над конторками и чертежными столами; некоторые из них сидели возле самых окон, и на свету отчетливо проступали их профили. Глядя на этих людей, Септимус смутно соображал, кто из них тот, кого ему рекомендовали.
Первый, к кому он обратился, оказался благожелательным молодым человеком в золотых очках. Внимательно и сочувственно выслушав посетителя, он перечислил ему все способы, при помощи которых британский подданный может вступить в брак на родине и в разных странах света, в том числе в открытом море, на борту одного из судов пассажирского или коммерческого флота. Адвокаты вообще любят ошарашивать клиента совершенно непригодными для него сведениями. Но когда выяснилось, что одна из сторон, желающих вступить в брак, имеет квартиру в Лондоне, т. е. живет здесь более чем пятнадцать дней, адвокат широко раскрыл глаза.
— Но, дорогой сэр, в таком случае, отчего же вам просто-напросто не сочетаться браком в мэрии, по месту жительства вашей невесты, в Челси? Это проще всего. Сегодня вы заявите регистратору о своем намерении вступить в брак, а послезавтра он вас объявит мужем и женой. И не нужно платить большие деньги за особое разрешение; не требуется и оглашение, если, конечно, вы не стоите непременно за церковный брак. Что вы на это скажете?
Септимус нашел совет чрезвычайно разумным и восхитился мудростью советчика, но все же осведомился:
— А брак будет законным, настоящим?
Благожелательный молодой человек его успокоил: «Брак будет самый настоящий, так что вам потом придется дойти до высшей судебной инстанции, чтобы получить развод». Септимус согласился, что в таком случае брак должен быть вполне солидный. Тогда молодой адвокат предложил взять на себя все хлопоты и пообещал женить Септимуса не позже, чем через два дня. А затем отпустил его, дав на дорогу свое адвокатское благословение, которое Септимус и унес с собой в Равенсвуд-отель.
11
— О, дорогая мама! Они обвенчались! — вскричала Зора, заглянув в только что поданную ей телеграмму.
Миссис Олдрив вздрогнула и очнулась от своей безмятежной послеобеденной дремоты.
— Кто, милая?
— Как кто? Эмми и Септимус Дикс. Читайте сами.
Миссия Олдрив надела очки и вслух прочла телеграмму, но пальцы дрожали и не слушались ее, а голос звучал так, как будто она читала на чужом языке. Телеграмма гласила:
«Септимус и я обвенчались сегодня в мэрии Челси. Уезжаем в Париж. О дальнейших планах уведомим. Сердечный привет маме от нас обоих. Эмми»
— Что бы это значило, Зора?
— Это значит, милая мамочка, что они теперь муж и жена, но зачем им понадобилось жениться таким странным способом и устраивать побег влюбленных, как в старинных романах, я и представить себе не могу.
— Ужасно!
— Более чем ужасно. Это по-идиотски глупо.
Тут была какая-то непостижимая мистификация, а Зора терпеть не могла, чтобы ее мистифицировали, и потому рассердилась. Миссис Олдрив заплакала. — Какой стыд! Убежать из дому. Сочетаться гражданским браком в мэрии…
— Не даром я так не хотела пускать ее на сцену. Чуяло мое сердце, что это кончится чем-то ужасным, — рыдала миссис Олдрив. — Конечно, мистер Дикс — чудак и фантазер, но я никогда не думала, что он способен так поступить.
— Нет у меня терпения с ним! — восклицала Зора. — Что за нелепый человек! Еще недавно я сама ему говорила, что мы обе были бы в восторге, если бы он женился на Эмми.
— Нужно, чтобы они вернулись и обвенчались, как следует, в церкви. Напиши им, дорогая, чтобы они поскорее вернулись. Викарий будет так шокирован и обижен, а что скажет кузина Джен, когда узнает!
Миссис Олдрив беспомощно развела руками в черных перчатках и уронила их на колени. Она не в силах была даже вообразить, в какое добродетельное негодование придет кузина Джен. Но Зора объявила, что ни с викарием, ни с кузиной Джен считаться не стоит. Как-никак брак этот законный, хотя и гражданский, и она позаботится о том, чтобы соответствующая публикация была помещена в «Таймс». Что касается того, чтобы вернуть их назад, — она взглянула на часы:
— Они теперь уже на пути к Фолкстону.
— Можно телеграфировать им, чтобы вернулись и обвенчались, как полагается, в церкви. Или, ты думаешь, не стоит?
— По-моему, не стоит, но если хотите, я пошлю телеграмму.
После того, как отправлена была телеграмма «Септимусу Диксу, эсквайру, Булонский пароход, Фолкстон», лицо миссис Олдрив несколько прояснилось.
— Во всяком случае, алы сделали, что могли, — утешала она сама себя.
Дело в том, что Эмми, как это нередко бывает с растерявшимися людьми, доставила себе и родным массу ненужных хлопот и тревог. Ее бегства из дому никто и не заметил. Хватились только в половине девятого, когда горничная вошла к ней в комнату и не нашла Эмми в постели. А поскольку исчез и ее саквояж, то все решили, что она уехала, никому ничего не сказав, в восемь часов поездом из Рипстеда в Лондон, как уже не раз случалось, когда ей нужно было успеть на утреннюю репетицию.
Телеграмма Септимуса не только никого не успокоила, но и удивила Зору. Септимус сам себе господин. Если ему вздумалось съездить в Лондон — это его дело. Если бы он уехал на экватор, тогда еще понятно, можно было бы из вежливости уведомить ее о таком событии по телеграфу. Но зачем же сообщать о благополучном прибытии в Лондон? И какое это имеет отношение к Эмми? И чего ради, во имя всех пушек и музыкальных комедий в мире, стала бы Зора тревожиться по случаю его отъезда? Потом, вспомнив, что Септимус ничего не делает по-человечески, она приписала телеграмму его обычной нелепости, снисходительно улыбнулась и перестала о нем думать. Миссис Олдрив вообще об этом не знала, так как Зора не показала ей телеграмму Септимуса. Мать была убеждена, что Эмми уехала в Лондон, как обычно, утренним поездом и только сокрушалась по поводу легкомыслия нынешних молодых девиц, способных уехать из дому даже без предупреждения и не простившись, припомнив, однако, что покойный отец Эмми всегда приезжал и уезжал неожиданно — со дня их свадьбы и до своей гибели на рогах дикого буйвола, она успокоилась, приписав поступки дочери роковой наследственности. Таким образом, пока двое неопытных беглецов из кожи вон лезли, чтобы замести следы и оградить родных Эмми от огорчения и беспокойства, в Нунсмере никто и не думал тревожиться и огорчаться их отъездом.
Поэтому телеграмма, извещавшая о бракосочетании Эмми и Септимуса, застала Зору совершенно неподготовленной. Она была очень далека от каких бы то ни было догадок или подозрений относительно печальной драмы, скрывающейся за этими скупыми строчками. Сама Зора шла по земле, неся голову над облаками, устремив взор на звезды, обращая мало внимания на тех, кто копошится у нее под ногами, и правду говоря, не находя ничего особенно поучительного или интересного в заоблачных высях. Похищение Эмми — потому что иначе едва ли это можно было назвать — поневоле заставило ее спуститься на землю.
На вопросы «зачем» и «почему» всегда можно найти бесчисленное количество ответов. Когда совершено загадочное убийство, все доискиваются его мотивов. Но пока обстоятельства не дадут несомненного ключа к разгадке кто может что сказать? Возможно, убийца мстил за тяжкую обиду. А вполне вероятно и то, что его просто раздражала бородавка на носу убитого: есть люди, которые способны рассматривать такую бородавку как кровную обиду для себя и почитают своим долгом ее срезать. Преступление могло быть совершено из корысти или же ради забавы.
Нет такого гнусного или нелепого деяния, которое не мог задумать человеческий мозг и совершить человеческая рука. Нередко человек, захваченный внезапным дождем, берет извозчика только потому, что не дает себе труда раскрыть зонтик, и самая здравомыслящая женщина способна проехаться в омнибусе без билета, чтобы потом бросить пенни подметальщику улиц и насладиться его благодарностью. Когда философ задает свои извечные вопросы «зачем?» и «почему?», он отлично знает, если он и его философия трезвые, — а трезвым философом мы называем того, кто не впадает в прискорбную ошибку принимать свою философию всерьез, — что эти вопросы — лишь отправной пункт для занимательной игры ума.
Именно такие мысли и пытался внушить Зоре литератор из Лондона, когда они снова встретились в Нунсмере. Нунсмер гудел, как пчелиный улей, потревоженный бегством Эмми, и залетная пчела волей-неволей вынуждена была гудеть вместе с остальными.
— Интересен сам факт, — говорил он, — то, что это случилось. Любопытно, что в то время как обитатели этой чистенькой деревушки взирали одним скучающим оком на десять заповедей, а другим — на своих соседей, над ними на розовых крылышках бесшумно парил роман. Мужчина и девушка сделали то, что, весьма разумно, проделывали в старину их деды и бабки — бросили вызов всем косным условностям официальной помолвки. Вы только подумайте, до чего тосклив, нелеп и унизителен этот период жениховства — ухаживания с разрешения родителей, когда оба, жених и невеста, вынуждены проходить через инспекторский смотр всей родни; когда друзья изводят их дурацкими улыбками и тем, что умышленно оставляют вдвоем в гостиных и оранжереях, чтобы они могли на свободе подержаться за руку.
Наши беглецы избегли всего этого — и флер д’оранжа, и рисовой кутьи, и свадебных подарков, и выставки женских нарядов — всей неприятной публичности и неприличной суеты ортодоксальной свадьбы. И даже венчальной фаты — бессмысленного в наше время пережитка варварских времен, когда женщину покупали не глядя и мужчина узнавал, что он купил, только приведя жену в дом. И вот нашлись двое, у которых хватило мужества пренебречь всем этим и поступить так, как если бы их женитьба действительно касалась только их самих, а не Тома, Дика и Гарри. То, что они это сделали, — несомненный факт. А почему — не столь важно. Честь им и хвала!
Литератор из Лондона взмахнул палкой — разговор происходил на выгоне, и хромой ослик, доверчиво пасшийся возле них, с перепуга кинулся бежать прочь.
— Даже ослик, — заметила Зора, — самый близкий друг мистера Дикса, не соглашается с вами.
— Осел будет согласен с мудрецом только в Миллениуме[7],— возразил Раттенден.
Но Зора не удовольствовалась таким взглядом на вещи, свойственным профессиональным философам. Она решила повидать Вигглсвика и нашла его в гостиной, перед ярко пылающим камином: слуга Септимуса сидел в кресле, положив ноги на каминную решетку, и курил гаванскую сигару. При ее появлении, он вскочил, поплевав на свои заскорузлые пальцы, погасил сигару и спрятал в карман окурок.
— Здравствуйте, Вигглсвик, — весело начала Зора.
— Здравствуйте, мэм.
— Судя по всему, вы неплохо проводите время.
Вигглсвик дал ей понять, что благодаря превосходному характеру господина и собственным его достоинствам ему живется великолепно.
— Ну теперь, когда он женился, в доме у вас многое переменится.
— Что же именно?
— Будут кухарка, горничная и правильный режим дня; будет и хозяйка, которая за всем присмотрит.
Вигглсвик с хитрым видом склонил набок седую косматую голову.
— Я уверен, что для меня так будет гораздо удобнее, мэм. Если они всю работу возьмут на себя, я ничего не имею против.
Зора могла только воскликнуть: «Ого!» и посмотреть на эгоиста с досадой, к которой примешивалось восхищение.
— Я с самого начала ничего не имел против его женитьбы, — сказал Вигглсвик.
— Разве он с вами советовался по этому поводу?
— Ну, разумеется. — Он снисходительно усмехнулся; тусклые глазки его лукаво блеснули. — Ведь он на меня смотрит, вроде как на отца, ей-Богу, мэм. «Вигглсвик, говорит, я, говорит, хочу жениться». «Что ж, говорю, сэр, я очень этому рад. Мужчине, говорю, нужна женщина, чтобы за ним присмотреть».
— Когда он вам это сказал?
Вигглсвик порылся в своей, щедрой на выдумки, изобретательной памяти.
— Недели две назад. «Позвольте спросить, говорю, сэр, кто же барышня?» «Это, говорит, мисс Эмми Олдрив». «Чудесная барышня, говорю, милая, веселая, хорошенькая, лакомый кусочек! — прошу прощения, мэм, — другой такой, говорю, девицы не сыщете нигде». Честное слово, мэм, так и сказал. — Он зорко поглядел на свою слушательницу, чтобы проверить, произвело ли желаемое впечатление его искреннее восхищение новой хозяйкой, и продолжал: — Тут он и говорит мне: «Вигглсвик, я, говорит, не хочу пышной свадьбы. Ты меня знаешь». А я и вправду знаю его, мэм. Он ведь чудной: иной раз такого натворит, что и крокодил ахнет. Я, говорит, забуду, в какой день назначена свадьба, потеряю кольцо. Повенчаюсь не с той, с кем следует. Забуду перецеловать подруг невесты. Одному черту известно, что я могу натворить. Так что мы лучше уедем в Лондон и обвенчаемся там потихоньку, а ты, смотри, никому ни гу-гу.
— Так что вы, оказывается, целых две недели были с ним в сговоре, — строго заметила Зора, — и вам даже в голову не пришло, что ваш долг — удержать его от подобной глупости?
— Это от женитьбы, мэм?
— Не от женитьбы, а от побега и тайного венчания.
— Да ведь я же старался, мэм. Делал все, чтобы его удержать, — бесстыдно лгал Вигглсвик, уверяя, что он приложил все усилия, дабы ради семьи невесты убедить своего господина венчаться общепринятым способом.
— Могли бы и намекнуть мне, что у вас тут затевается.
Вигглсвик принял вид оскорбленного достоинства:
— И нарушить приказ моего господина? Слуга должен точно исполнять приказания, мэм. Я в свое время носил мундир.
Зора, сидя на ручке кресла и слегка опираясь на зонтик, посмотрела на старика, стоявшего перед ней в почтительной позе, и не могла удержаться от насмешливой улыбки. Старый вор с достоинством выпрямился.
— Я говорю не о казенной форме, мэм. У меня, конечно, были свои неприятности, как и у всех людей. Но я прежде служил в армии, музыкантом в оркестре.
— Мистер Дикс говорил мне, что вы играли в оркестре, — сказала Зора очень ласково, искупая свою улыбку. — Вы играли на той хорошенькой дудочке, которая стоит в углу?
— Точно так, мэм, — сказал Вигглсвик.
Зора смотрела вниз, на кончик своего зонтика. Не имея оснований не верить обстоятельному, хотя и лживому рассказу Вигглсвика и поставив себя своей неуместной улыбкой в невыгодное положение, она чувствовала неприятное смущение.
— Ваш хозяин не говорил вам, куда он едет и сколько времени намерен быть в отъезде?
— Мой хозяин, мэм, никогда не знает, куда он едет.
— Потому-то ему и нужна жена, которая бы за него решала.
Зора встала, огляделась вокруг, повела вокруг зонтиком, указывая на грязь и беспорядок в комнате, и строго сказала:
— Самое лучшее, что вы можете сделать, — это убрать весь дом, сверху донизу, устроить генеральную уборку и привести все в порядок. Ведь молодые со дня на день могут вернуться. Я пришлю женщину вам помочь.
— Спасибо, мэм, — уныло проговорил Вигглсвик.
Хотя он и врал безбожно Зоре, но все же побаивался ее и не посмел бы ослушаться ее приказа. Но всякий труд был ему ненавистен, и он не усматривал в нем никакого благородства, так как в свое время слишком много работал по принуждению.
— Думаете, надо сейчас же приступать к уборке, мэм?
— Обязательно. У вас уйдет на это, по крайней мере, месяц; но зато хоть не будете сидеть сложа руки все время.
Зора ушла, по-женски утешенная проявлением своей власти, — маленькая победа, прикрывающая отступление. Но она все еще была очень сердита на Септимуса.
В конце недели приехал в Пентон-Корт Клем Сайфер. Он отнесся к случившемуся очень легко.
— Он же знал, что ваша матушка и вы сами ничего не имеете против него как жениха Эмми, следовательно, ничего бесчестного он не делал. Ему нужна была только ваша сестра и отсутствие шума. Я нахожу, что он поступил весьма разумно. Нет, серьезно, мне это нравится.
— А я нахожу, что вы невозможны! — вскричала Зора. — Ни один мужчина не способен понять…
— Что вы хотите, чтобы я понял?
— Не знаю, но вам следовало бы понять.
Два дня спустя, встретившись с Раттенденом, она убедилась, что есть мужчина, который даже слишком хорошо ее понимает.
— Ну да, конечно, — говорил он, — вам захотелось разыграть благородную сестру, которая заключает в свои объятия влюбленную чету, великодушно дает согласие на брак и тешится счастьем, которое она милостиво подарила. И это вам не удалось. Они вас надули, вычеркнули вашу роль из комедии, и вы недовольны. Если я неправ, велите мне убираться вон из этой комнаты. Я не обижусь. Ну?
Она понурила голову и тихонько рассмеялась.
— Да уж сидите. Вы из тех людей, которые всегда держат пари наверняка.
Раттенден был прав. Она ревновала к Эмми, так бесцеремонно утащившей у нее из-под носа ее верного раба, — в том, что весь этот заговор организовала Эмми, она нисколько не сомневалась — и сердилась на Септимуса за то, что тот имел слабость пойти на такое вероломство. Даже когда он прислал ей верноподданическое письмо из Парижа (на телеграмму он ответил только: «Сожалею — невозможно!»), в котором говорил обо всем, кроме Эмми и своих планов на будущее, она его не простила. Как посмел Септимус решиться на такую самостоятельность, если его собственный слуга говорит, что он способен привести в ужас даже крокодила?
— Воображаю, какую бестолковщину они устроят из своего медового месяца! — говорила она Клему Сайферу. — Поедут в Рим, а очутятся в Петербурге.
— Ну и что. Были бы счастливы, — возразил Сайфер. — Если бы я переживал медовый месяц, думаете, мне было бы не все равно, куда ехать?
— Ну, как знают. Я умываю руки, — со вздохом сказала Зора, словно бы огорченная тем, что с нее сняли ответственность за происходящее. — Без сомнения, они по-своему счастливы.
Долгое время она не возвращалась к этому разговору. Дом Септимуса, вычищенный сверху донизу, блестел и сверкал, как машинное отделение военного судна. Но ни хозяин, ни хозяйка не появлялись, чтобы вознаградить Вигглсвика за труды похвалой. Старик снова предался заслуженному отдыху, а в дом опять вернулись пыль и мерзость запустения, с каждой неделей все возраставшие.
Как уже говорилось, в Нунсмере все делается медленно; даже в Зоре после ее возвращения домой не сразу проснулась тоска по простору и тайнам жизни. Но все же иногда что-то происходит и в Нунсмере, и для Зоры однажды снова настал день, когда она почувствовала себя чересчур громоздкой для маленького домика. Ей не хватало периодических наездов Эмми и регулярных визитов Септимуса. Она скучала без маленьких автомобильных экскурсий с Сайфером, который продал свой автомобиль и собирался продать и «курхаус» в Килбернском приходе.
Он так близко принимал к сердцу свой крем, что в конце концов его детище стало действовать ему на нервы. Теперь Сайфер говорил о креме и о том, как он уничтожит Джебузу Джонса, — по крайней мере, так казалось Зоре, — скорее с похвальбой, чем с энтузиазмом, и не мог говорить ни о чем другом. Она не замечала вертикальной морщинки, которая все глубже врезалась между бровями ее друга, и не могла правильно истолковать его грустный взгляд, когда он просил ее о помощи. Ей надоел его крем и все кремы в мире, и фантазии Сайфера, утверждавшего, что Зора необходима ему в качестве союзницы.
Она жаждала жизни, настоящей, кипучей, трепетной человеческой жизни, которой, конечно, не найдешь в Нунсмере, где отцветшие жизни перекладывают лавандой. Теперь ей почти нравились циничные выходки литератора из Лондона. Очевидно, пора было снова собираться в дорогу. Она еще раньше планировала кругосветное путешествие, с помощью Септимуса разбираясь в картах и путеводителях; настала пора осуществить задуманное. Календеры прислали ей каблограмму, приглашая приехать к ним погостить в Лос-Анджелес. Она также каблограммой изъявила свое согласие.
— Итак, вы покидаете меня, — сказал Сайфер, когда Зора сообщила ему об отъезде. В его голосе был укор, который она не могла не почувствовать.
— Вы же сами говорили мне в Монте-Карло, что у каждого человека должна быть своя миссия в жизни. Не находя ее здесь, я еду на поиски в Калифорнию. Что происходит такого здесь, в этом сонном царстве, чем мог бы заполнить жизнь живой человек?
— А крем Сайфера?..
— Дорогой мой, мистер Сайфер! — протестующе засмеялась она.
— О! Вы не знаете, как вы мне нужны, как я дорожу вашей помощью. Я переживаю трудное время, но знаю, что выйду из борьбы победителем. Когда я, сидя за письменным столом, оглядываюсь, мне чудится, что вы стоите за моей спиной. И это придает мне бодрости и мужества для новых отчаянных усилий.
— Но если я присутствую возле вас только духовно, не все ли равно, где находится мое тело, — в Нунсмере или в Лос-Анджелесе?
— Как вам сказать? — Он, по обыкновению, метнул на нее быстрый взгляд зорких и ясных глаз. — Я вижусь с вами каждую неделю и уношу с собой ваш образ. Зора Миддлмист! — добавил он неожиданно, после паузы. — Я умоляю вас не покидать меня!
Он стоял, облокотясь на камин, — тот самый, с которого Септимус сбросил фарфоровую собачку, — и пристально смотрел на Зору, сидевшую на обитом ситцем диванчике за чайным столом. Позади нее было большое, доходящее до полу, окно, догоравшие лучи зимнего солнца играли на ее волосах и окружали голову золотым сиянием.
— Не уезжайте, Зора!
Молодая женщина долго молчала, словно зачарованная его мольбой. Лицо ее стало кротким и ласковым, в глазах светилась нежность, но Сайфер не видел этого. Какая-то таинственная сила влекла ее к нему. Это было совершенно новое для нее ощущение — приятно, как когда плывешь вниз по течению, прислушиваясь к шуму воды в ушах. Но вдруг, словно очнувшись от сна, она поднялась, рассерженная и негодующая.
— Почему не уезжать? Говорите сейчас же: почему?
Она ждала того, чего на ее месте ждала бы любая другая женщина, кроме немногих избранных, владеющих великим даром читать в душах людей, и собиралась с духом, чтобы выслушать признание. Но услышала только речь поэта и предпринимателя.
Это была все та же история о креме, о своей божественной миссии — распространять по всей страждущей земле целительную мазь. У него было откровение; он слышал голоса, и они сказали ему, что Зора Миддлмист и никто другой поможет ему осуществить задачу всей его жизни.
Зора ждала совсем иного и, разочарованная, горько рассмеялась. Потом она снова откинулась на подушку дивана.
— И только? — сказала Зора, и Сайфер не понял значения ее слов. — Вы забываете, что отводите мне не очень-то активную роль. Не кажется ли вам, что вы немного эгоистичны?
Он со вздохом отошел от камина, заложил руки в карманы и сел.
— По всей вероятности. Когда человек жаждет чего-нибудь всем своим существом и думает день и ночь только об одном, он становится величайшим эгоистом. Я полагаю, это один из видов помешательства. Были люди, которые страдали именно этой формой безумия и заставляли других жертвовать собой ради их идей. Я, конечно, не имею права просить вас принести себя в жертву.
— Как друг, вы имеете право требовать, чтобы я интересовалась вашими надеждами и сомнениями, и этот интерес и сочувствие я всегда проявляла и буду проявлять. Но помимо этого, как вы сами сказали, у вас нет никаких прав.
Он поднялся с кресла и засмеялся.
— Я знаю. Это так же логично, как теорема Евклида. И тем не менее, я чувствую за собой высшее право, стоящее за пределами логики. В жизни много явлений, неподвластных разуму. Вы убедили мой разум, что я эгоист и мечтатель. Но что бы вы ни делали, что бы ни говорили, вы не сможете перечеркнуть ту потребность в вас, которая, точно голод, живет во мне вот тут! — он указал себе на грудь.
Когда он ушел, Зора стала вспоминать эту сцену, сама не зная, почему она ее так взволновала. Молодая женщина уверяла себя, что нелепые притязания на нее Сайфера только смешат ее. Отказаться от всего великого и прекрасного в мире вот так, ни за грош — ради какой-то шарлатанской мази? Что за вздор, что за глупость! Сайфер такой же юродивый, как и Септимус, даже хуже его, тот, по крайней мере, не тычет себе пальцем в грудь и не заявляет, что его пушки или его патентованная бритва нуждаются в ней, Зоре, «вот тут». В самом деле, первая ее вылазка в широкий мир не дала удовлетворительных результатов. Зора презрительно сморщила свой хорошенький носик. И тем не менее, все эти доводы были не слишком убедительны. Голоса людей, достойных только презрения, не отдаются в ушах женщины сонным шепотом волн. Лукавый дьяволенок, искушавший ее в саду Клема Сайфера, шептал ей: «Останься!».
Но неужели Зора, цветущая, полная сил, с ее высокими требованиями к жизни, с той неуемной жаждой сильных ощущений, которая живет в ее душе, не найдет себе в мире настоящего призвания, которое дало бы ей возможность выполнить свое предназначение? Долой лукавого дьяволенка и все его козни! — Зора рассмеялась и вновь обрела ясность и спокойствие. Она телеграфировала кузине Джен, которая прислала пространное письмо по поводу бегства Эмми, и попросила ее приехать, а сама с бессчетным количеством сундуков и чемоданов в сопровождении верной Турнер отплыла в Калифорнию.
Новый Свет манил ее к себе обещаниями настоящей, кипучей и трепетной жизни. Нунсмер, где никогда ничего не случалось, остался позади. Она ласково улыбалась Сайферу, проводившему ее на вокзал, и говорила ему приятные слова по поводу крема, но перед глазами ее плясали миражи, в которых не видно было ни самого Сайфера, ни его крема. Поезд с ревом тронулся, выбрасывая клубы белого дыма. Сайфер стоял на платформе и смотрел ему вслед, пока задние буфера последнего вагона не скрылись из виду; потом повернулся и пошел, лицо его было лицом человека, обреченного на великое одиночество.
12
Септимусу и в голову не приходило, что с его стороны было донкихотством жениться на Эмми, точно так же, как не пришло бы в голову похлопать себя по плечу и назвать чертовски умным малым за то, что он закончил работу над новым изобретением. Выйдя за двери мэрии, он снял шляпу, протянул Эмми руку и стал прощаться.
— Куда же вы? — испугалась она.
Септимус и сам не знал, куда. Он сделал неопределенный жест рукой и сказал: «Куда-нибудь».
Эмми заплакала. Она все утро не осушала глаз, чувствуя себя виноватой перед ним — тем, что принимала его жертву. Кроме того, ее удручало страшное сознание своего одиночества.
— Я не знала, что вы так меня ненавидите, — проговорила она.
— Ну что вы, дорогая! Я вовсе не ненавижу вас. Я только думал, что больше вам не понадоблюсь.
— Значит, можно меня оставить одну на улице?
— Я отвезу вас, куда скажете.
— А затем поспешите избавиться от меня как можно скорее? О, я знаю, что вы должны чувствовать!
Огорченный Септимус взял ее под руку и повел дальше.
— Я думал, что вам противно будет глядеть на меня.
— Какие глупости!
Чувство, которое проявилось в этом восклицании Эмми, было намного выше формы своего выражения. И оно успокоило Септимуса.
— Что же вы хотели, чтобы я делал?
— Что угодно, только не оставляйте меня одну, — по крайней мере, сейчас. Разве вы не видите, что у меня во всем мире никого нет, кроме вас.
— Не говорите так, дорогая! А ведь, пожалуй, вы сказали правду. Это меня очень тревожит. За всю мою жизнь никто еще не смотрел на меня, как на опору. Ради вас я готов босиком идти на край света. Но, может быть, вы найдете кого-нибудь, кто больше привык заботиться о других. Я исхожу исключительно из ваших интересов, — поспешил он заверить Эмми.
— Я знаю. Но, поймите же, мне невозможно ехать сейчас к моим друзьям, особенно после того, что произошло. — Она показала ему левую руку без перчатки, на которой блестело кольцо. — Как я им объясню?
— И не надо объяснять, — благоразумно посоветовал он, — это только все испортит. Я полагаю, что в конце концов все не так уж трудно уладить, если только сильно захотеть или найти кого-нибудь, кто скажет, что нужно делать; а таких, которые все знают, сколько угодно — адвокаты, нотариусы и прочие. Нашелся же человек, который подсказал мне, что нужно идти в мэрию. И видите, как все оказалось легко и просто. Куда бы вы хотели отсюда уехать?
— Все равно куда, только бы подальше от Англии. — Она содрогнулась. — Отвезите меня сначала в Париж, а там будет видно. Оттуда можно попасть куда угодно.
— Разумеется, — сказал Септимус и подозвал кэб.
Таким образом и вышло, что эта странная супружеская чета в течение последующих месяцев не разлучалась. Квартирка Эмми в Лондоне была сдана внаем вместе с мебелью. Ее горничная Эдит исчезла неизвестно куда. Театр и все, что с ним связано, стали для Эмми далеким сном. С нее, бедняжки, достаточно было и собственной трагедии. Внешний мир сосредоточился для нее в Септимусе. В Париже она боялась встретить знакомых, и он отыскал для нее меблированную квартиру на бульваре Распайль, а сам устроился в небольшом отеле поблизости. Поиски квартиры могли служить иллюстрацией к изобретенной им оптимистической теории улаживания всяческих житейских неурядиц.
Вернувшись в отель, где они временно остановились, Септимус сообщил Эмми о своем открытии. Она, разумеется, стала расспрашивать, как он ухитрился это сделать.
— Мне посоветовал солдатик.
— Солдатик?
— Да. У него широчайшие красные шаровары, которые отдуваются сбоку, и кушак, обмотанный вокруг талии, и короткая синяя куртка, вышитая красным, и феска с кисточкой, а голова бритая. Я чуть было не попал под экипаж, а он просто вытащил меня из-под колес.
Эмми вздрогнула.
— Как вы можете так спокойно об этом рассказывать? Вдруг бы вас в самом деле переехали.
— Ну что ж. Зуав похоронил бы меня — он такой смышленный и все знает, как и что, — он был в Алжире. От него-то я и узнал, куда нужно обратиться. Его зовут Эжезипп Крюшо.
— Ну а с квартирой как же?
— Видите ли, как было дело. Я споткнулся на улице и упал под экипаж, а он оттащил меня в сторону и почистил мою одежду салфеткой, взятой у лакея, — там в двух шагах было кафе. Тогда я предложил ему выпить и угостил папиросой — он пил абсент без воды. Затем я начал объяснять ему идею одного изобретения, которая тут же мне пришла на ум, — как устроить, чтобы экипажи не переезжали людей, — и это его очень заинтересовало. Я вам сейчас покажу.
— Нет, не покажете, — с улыбкой возразила Эмми; у нее временами все же бывало веселое настроение. — Сначала расскажите мне о квартире, а затем уже о своем изобретении.
— Ах да, квартира! — разочарованно протянул Септимус, как будто речь шла о второстепенном деле. — Ну, я еще раз заказал для него абсент, и мы с ним подружились; я сказал ему, что мне нужна квартира, но я понятия не имею, как ее искать. И оказалось, что в доме, где его мать служит консьержкой, есть свободная квартира. Он тотчас же повел меня ее смотреть и представил своей мамаше. У него есть еще и тетка, которая умеет готовить.
— Хотела бы я на вас поглядеть, когда вы беседовали с вашим зуавом! Воображаю эту картину — вы и солдат, чокающиеся абсентом за мраморным столиком!
— Столик был не мраморный, а железный, выкрашенный в желтую краску. И кафе было отличное.
— Интересно, что он о вас подумал.
— Во всяком случае, он представил меня своей матери, — серьезно возразил Септимус, и Эмми, глядя на него, расхохоталась — впервые за много дней.
— Я снял на месяц квартиру и нанял тетку, которая умеет готовить, тоже, — добавил Септимус.
— Что такое?! — вскричала Эмми, до сих пор не придававшая серьезного значения его рассказу. — Как же вы решились? Ведь вы ничего в этом не смыслите!
Она разволновалась, надела шляпку и потребовала, чтобы Септимус тотчас же повез ее смотреть квартиру. Но опасения Эмми оказались напрасными. Она нашла хорошо меблированную небольшую квартирку, где их встретила полногрудая, широко улыбающаяся консьержка, которая, судя по ее виду, могла бы быть матерью двадцати бравых зуавов, и не менее почтенная, с добрым лицом матрона, ее сестра, мадам Боливар — та самая тетка, которая умела готовить.
Таким образом, подобно тому как вороны кормили пророка Илию, зуавы и прочая случайная птица, когда это оказывалось необходимым, помогали Септимусу. В частности, мадам Боливар совсем по-матерински приютила их обоих под своим широким крылом, к несказанной радости и утешению Эмми. Славная женщина была эта мадам Боливар, умевшая не только готовить, но и штопать чулки и чинить белье, т. е. делать то, чего легкомысленные пальчики Эмми совсем не умели. Она знала секреты приготовления чудеснейших домашних настоек от всевозможных болезней, гадала на картах и могла болтать без умолку на любую тему. При этом чем меньше был ей знаком предмет разговора, тем больше у нее находилось, что о нем сказать, — а это великий дар. Ее болтовня помогала Эмми скоротать немало тяжких и грустных часов.
Жизнь Эмми была замкнутой и однообразной. Септимус приходил ежедневно. Время от времени, в те часы, когда Септимус бывал у нее, Эжезипп Крюшо также являлся засвидетельствовать свое сыновнее почтение мамаше, мамашиному бульабессу (консьержка была родом из Марселя, где любят это блюдо) и ее мателоту из угря — роскоши, которой он на свои полфранка в день не мог себе позволить, — и, как добрый племянник, поднимался наверх, справиться о здоровье тетки, а заодно и прекрасной иностранки. В маленькой квартирке он был единственным гостем из внешнего мира, и так как здесь радушно принимали и угощали божественным нектаром, приготовленным из шотландского виски и мараскина (этим тонкостям Эмми научилась у одного известного лондонского режиссера), Крюшо приходил так часто, как только позволяли его весьма строгие понятия о приличиях.
Странные это были сборища в тесном, заставленном мебелью крохотном «салоне». Эмми с пушистыми светлыми волосами и перламутровым личиком, в изящном халатике, лениво лежащая на диване, утопая в подушках, — она послала Септимуса в магазин приобрести пару, так как во Франции в меблированных комнатах подушки набивают чем-то, напоминающим по твердости цемент, а он привез на извозчике целую дюжину, и теперь вся комната была ими завалена; Септимус с его кроткими голубыми глазами и волосами, торчащими дыбом, как у человека, увидевшего привидение; Эжезипп Крюшо, с виду совсем разбойник в своем живописном костюме, но в обращении мягкий и обходительный, сидящий по-солдатски навытяжку на стуле с прямой спинкой; мадам Боливар в дальнем углу, с обнаженными толстыми руками, скрещенными впереди на синем переднике, с видом заботливой доброй хозяйки наблюдающая за всеми.
Разговор шел по-французски, так как единственное английское слово, которое знали Эжезипп и его тетка, было распространенное ругательство. По временам Эмми вставляла словечко — одну из фраз, заученных еще в школе, — звучащее довольно необычно для француза, хотя Эжезипп и уверял ее, что никогда еще не встречал англичанки, которая бы говорила по-французски с таким чисто парижским акцентом; Септимус владел французским очень недурно.
Эжезипп покручивал свои коричневые усики — у него все было коричневое: кожа, глаза, коротко остриженные волосы и даже кожа черепа под волосами — и рассказывал о своей службе в Африке, о том, как ярко светит солнце в Алжире, и, когда тетка уходила из комнаты, — о своих любовных похождениях. Его девушка прислуживала в винном погребке на улице Франк-Буше. Когда он с ней обвенчается? В ответ на заданный Эмми вопрос зуав рассмеялся, затянулся папиросой и звякнул саблей о ножку стула. Разве можно жениться, имея всего су в день? Это еще успеется — сначала надо нажить деньги. Со временем, без сомнения, мать найдет ему невесту с приданым. Отслужив свой срок, он пойдет в лакеи. Эмми вскрикнула от удивления. Подумать только: этот бравый зуав, фанфарон и хвастун — лакей!
— Нет, никогда мне не понять этой страны.
— При хороших рекомендациях и если умеешь себя вести, служа лакеем, можно достичь многого, — говорил Эжезипп Крюшо.
Англичане, в свою очередь, рассказывали ему о своей стране и об английских туманах, которыми он очень интересовался, или же Септимус советовался с ним относительно изобретений, причем острый ум француза тотчас же нащупывал в них уязвимые места; и тогда Септимус ерошил пальцами волосы и растерянно восклицал: «Однако, черт побери совсем! Об этом я и не подумал!», — а Эмми хохотала. Порой они вели разговор о политике. Эжезипп выказал себя радикалом и ярым противником папы и попов. Нужно быть хорошим гражданином и добрым соседом — гласил его нравственный кодекс — и этого вполне достаточно, чтобы в нравственном отношении ни в чем не уступать любому набожному католику.
— Ну а как же насчет девушки с улицы Франк-Буше? — допытывалась Эмми.
— Будь я правоверным католиком, завел бы двух таких, потому что тогда мог бы получить отпущение грехов, — весело восклицал Эжезипп и первый начинал неудержимо хохотать над своей шуткой.
Дни его визитов были отмечены красными кружками в календаре Эмми.
— Хотел бы я быть таким же жизнерадостным и уметь так забавно болтать, как наш друг Эжезипп, чтобы заставлять вас смеяться! — заметил однажды Септимус в такой день, когда Эмми особенно томилась.
— Если бы у вас была хоть капля юмора, вы не были бы здесь, — не без горечи возразила она.
Септимус задумчиво потер одну руку о другую.
— Не знаю, почему вы так говорите. Еще ни разу со мной не случалось, чтобы я не понял, в чем соль шутки. Я на этот счет очень сообразителен.
— Если вы не чувствуете, в чем соль этой шутки, дорогой мой, я не стану вам объяснять. Тут не крупица соли, а целая гора.
Септимус кивнул головой, отошел к окну и задумчиво принялся разглядывать дома напротив. Порой его задевала резкость ее речей. Но он по-своему, смутно, все понимал и все ей прощал, не показывая виду, что обижен. На этот раз, однако, он так долго молчал, что Эмми встревожилась, испуганно заглянула ему в лицо, взяла его руку, висевшую вдоль тела, — он стоял около дивана, на котором она лежала, — и поцеловала ее; но как только Септимус обернулся, она оттолкнула руку.
— Уходите, уходите, милый! Я не умею даже разговаривать с вами, не обижая вас. Уходите, уезжайте! Незачем вам здесь находиться — вам нужно быть в Англии, у себя дома, в уютной обстановке с Вигглсвиком, вашими книгами и изобретениями. Вы слишком хороши для меня, а я плохая. Сама знаю, и это сводит меня с ума.
Он взял ее руку, подержал в своих и ласково погладил.
— Пойду куплю вам что-нибудь.
Когда он вернулся, Эмми уже успела раскаяться и обрадовалась ему. И хотя он принес ей в подарок шляпку — чудовищное сооружение из красных перьев, зеленого бархата и искусственных роз, в котором ни одна уважающая себя женщина не захотела бы предстать перед людьми даже в виде мумии, через тысячу лет после своей смерти, — Эмми не засмеялась и не пожурила его, а примерила это страшилище перед зеркалом и ласково улыбнулась дарителю.
— Мне и не нужно, чтобы вы забавляли меня словами, Септимус, — сказала она, возвращаясь к началу их разговора, — раз вы приносите мне такие подарки.
— Да, хорошенькая шляпка, — скромно согласился он. — Продавщица в магазине сказала, что немногие могут позволить себе надеть такую.
— Я так рада, что вы считаете меня исключительной женщиной. Это первый комплимент, который я от вас слышу.
Прежде чем лечь в постель, Эмми, однако, все же поплакала над шляпкой, но добрыми слезами — такими, которые утешают боль и очищают сердце. И спала она в эту ночь спокойнее; впоследствии же, когда дьяволы забирались к ней в душу и начинали терзать ее адскими муками, Эмми вновь вызывала эти слезы, и они, как чудесное средство, изгоняли бесов.
Септимус, не заметив этого момента в его курьезнейшей семейной жизни, проводил спокойные, хотя и тусклые дни в своем номере в отеле Годе. Солнечный луч, заигравший на лакированном цилиндре кучера омнибуса, на ручке кнута и ухе лошади, напомнил ему однажды о новом приборе для наводки полевых орудий, изобретенном им уже несколько лет назад: теперь он снова занялся своим изобретением. Он лично руководил изготовлением модели прибора в какой-то мастерской близ Венсена, и эта работа поглощала значительную часть его мыслей и времени. Во всем, что относилось к изобретательству, Септимус был очень практичен; если бы ему понадобилась зубная щетка, он не знал бы, куда пойти, и обратился бы за советом к почтальону или торговке углем, но магазин оптических инструментов находил сразу, и направлялся туда с той же инстинктивной уверенностью, с какой буйвол идет к воде. Многие из его книг и рукописей Вигглсвик уже переслал в Париж; бедный старик стал побаиваться почты, то и дело приносившей ему приказ разыскать и переслать ту или иную вещь, а это означало, что придется отыскать, упаковывать и отправлять требуемое — выполнять докучную работу, нарушавшую его сладкий покой.
Книги валялись на полу спальни Септимуса, возвышаясь, как пороги, среди потока менее крупных предметов, — воротничков, резинок и старых журналов. Двое неряшливых мужчин неопределенного возраста в зеленых байковых передниках, с большими метелками из перьев в руках вначале ежедневно ворошили весь этот хлам, подымая при уборке тучи пыли; но затем Септимус дал им по пяти франков каждому, чтобы они не вторгались в его владения, и книги снова расположились уступами и порогами, ведущими к новым достижениям. Септимуса огорчало только то, что он не в состоянии будет снова упаковать свои вещи, когда придется уезжать из отеля Годе: порой ему приходили в голову и более отвлеченные соображения относительно того, что сказала бы Зора, если бы внезапно появилась в его комнате. Он так ярко представлял себе ее, властную и лучезарную Зору, рассеивающую хаос одним взмахом своего зонтика.
Немного было у него и в Париже минут, когда он не жаждал бы ее присутствия. Она так долго олицетворяла для него тепло, свет и краски жизни, что теперь солнце его словно бы закатилось, а земля стала холодной и бесцветной. Жить без нее было так трудно! Прежде она хотя бы «в известном смысле» любила его, теперь асе он лишился и этого. Богиня гневалась на него за непочтительность: ее верный раб позволил себе утаить от нее свою женитьбу. К тому асе она была теперь в Калифорнии, за тридевять земель от него — все равно что на Сатурне. Когда Эмми допытывалась, не скучает ли он по Вигглсвику и по деревенской тишине Нунсмера, где так хорошо работалось, он отвечал: «Нет». И говорил правду, потому что для него было безразлично, где находиться, если ему не светят ясные очи Зоры. Но истинный смысл своего ответа он не открыл Эмми. О Зоре они говорили редко.
Того же, что близко касалось самой Эмми, они вовсе не обсуждали. Септимус не имел понятия о ее надеждах и страхе за будущее. О Мордаунте Принсе они не вспоминали, как будто он был призрачным видением, растаявшим в непроницаемых туманах — тех, что окутывают страну сонных грез. Для Эмми ее возлюбленный стал грозным призраком, который она пыталась загнать на самое дно своей души. Септимус видел, что она мучается, и самыми причудливыми способами пытался облегчить ее страдания. Иной раз это ее раздражало, но чаще вызывало благодетельные слезы. Однажды Эмми читала растрепанный томик Джордж Эллиот, купленный у букиниста во время прогулки по набережным. Попросив Септимуса подойти к ней, она показала ему фразу: «Собаки — лучшие наши друзья: они всегда готовы выказать нам свое сочувствие и ни о чем не спрашивают».
— Совсем как вы, — сказала она, — но Джордж Эллиот, бедняжка, видимо, никогда не сталкивалась с таким человеком, как вы, и потому приписывает подобные качества только собакам.
Септимус покраснел.
— Собаки лают и мешают людям спать, — заметил он. — У моего соседа по номеру в отеле Годе есть собака. За ними заезжает иногда на автомобиле бородатый мужчина, ужасно безобразный, и возит их обоих кататься. А знаете, я тоже хочу отпустить себе бороду. Интересно, пойдет ли она мне.
Эмми засмеялась и удержала его за рукав.
— Почему вы никогда не позволяете мне сказать то, что я о вас думаю?
— А вот подождите, пока у меня отрастет борода, тогда и скажете.
— Этого никогда не будет, потому что с бородой вы станете страшилищем, вроде доисторического человека, и я не захочу вас видеть. И, значит, не смогу сказать вам, какого я о вас мнения.
— Может быть, это к лучшему, — улыбнулся Септимус.
Они собирались поселиться в какой-нибудь французской деревушке или в Швейцарии, выбирать было из чего — перед ними лежала вся карта Европы, но нерешительность Септимуса и нежелание Эмми пускаться в дальнейшие авантюры удерживала их в Париже. Зима сменилась весной, и Париж, залитый солнцем, овеянный ароматом сирени, был очарователен. Случались дни, когда оба, и Эмми, и Септимус, почти забывали о пережитом и вновь становились беспечными друзьями ослика на нунсмерском выгоне. Как хорошо, например, прокатиться на пароходике по Сене, вода в которой каким-то чудом превратилась в искрящееся вино. Массивные здания на набережной купаются в янтаре, а купола Пантеона и Дома инвалидов и выпуклые украшения на мосту Александра III горят, как червонное золото. А милые ресторанчики на открытом воздухе с увитыми зеленью беседками, где подают блюдо из жареной мелкой рыбешки, с пыльной солью, щербатыми ложками и огромнейшими ломтями хлеба, которые Эмми любила разламывать пополам и делить с Септимусом, как рождественские сухари. А затем опять извилистая Сена, остров Робинзона Крузо, утопающий в зелени, и Сен-Клу с его террасой, откуда видна вся панорама Парижа, окутанного аметистовой дымкой, кое-где пронизанной ярким лучом.
Можно провести весь день в лесу, под деревьями, смеясь и болтая, как дети, а потом, подкрепившись из корзинки с провизией, которую мадам Боливар доверху набила всякими вкусными вещами, лежать на спине, мечтательно глядя сквозь листву на небо и прислушиваясь к стрекотанью насекомых, к звонкому журчанью весенних ручьев. В такие мгновения человек ощущает в себе тот же трепет жизни, которым наполняют деревья соки, поднимающиеся от корней к ветвям.
Нередко они проводили целые дни в городе, в садах Люксембурга, среди нянек с детьми и рабочих; или в кафе на дальних бульварах, где Париж живет своей веселой будничной жизнью, еще не испорченной туристами, а весна ликует и искрится во всем — и в упругой походке юноши, и в глазах девушки. Им было хорошо вместе и у окна квартирки Эмми на бульваре Распайль, где воздух был поразительно чист и ароматен, ветерок приносил весенний привет из далеких стран, с золотых берегов Средиземного моря, с суровых горных хребтов Оверни, с зеленеющих широких полей центральной Франции — привет от каждого сердца, дерева и цветка, ибо и сам Париж был полон трепета жизни. Охваченные волнением, они не разговаривали, каждый из них по-своему истолковывал привет весны, но каждый смутно чувствовал, что земля еще не перестала быть волшебной страной романтических грез, что тайна возрождения повторяется снова, согласно незыблемым и вечным законам; и как ни малы и ничтожны они, затерянные в житейском море, все же и на них распространяются эти законы, и в их сердцах суждено зародиться и расцвести новым надеждам, новым желаниям и новому счастью.
В эти весенние дни Эмми научилась душой постигать глубокий, сокровенный смысл вещей. Когда она впервые встретила Септимуса и восхитилась им, как новой игрушкой, она была веселым беспечным зверьком, прекрасно воспитанным и полуобразованным, каких находишь на каждом шагу в английских провинциальных городках. За время пребывания на опереточной сцене воспитанность ее успела несколько огрубеть, животные инстинкты развиться, а птичий ум обостриться. Теперь она во многом изменилась. Впервые в ее легкомысленной головке зародилось понятие о долге и о красоте жертвы. Оно проявилось однажды в том, что, когда Септимус повез ее кататься, она надела ужасную шляпку, полученную от него в подарок. Мужчина не способен оценить, каких мук это ей стоило. Целых два часа просидела она в коляске, терзаясь, как может терзаться только женщина, сознательно себя обезобразившая, и украдкой наблюдая за своим спутником в ожидании слов признательности. В конце концов она не выдержала.
— Я надела это, чтобы вам понравиться.
— Что именно?
— Шляпу, которую вы мне подарили.
— Ах, вот что! — рассеянно пробормотал он. — Очень рад, что она вам нравится.
Он даже не заметил, что у нее на голове, — не обратил внимания. Никакого удовольствия ее слова ему не доставили. Она сделала из себя пугало и посмешище без всякой надобности, жертва ее пропала зря. Тут Эмми впервые узнала на собственном опыте горькую иронию жизни. Она никогда больше не надевала злополучную шляпу — и кто решился бы ее за это осудить?
Весна сменилась летом, а они все еще жили на бульваре Распайль, пока не перестали даже строить планы. Париж жарился на солнце, театры пустовали, из Аллеи акаций исчезли всадники, шикарные коляски на ней сменились куковскими дилижансами, полными туристов, а великий язык англосаксов слышался по всему городу, от площади Бастилии до Бон-Марше. Извозчичьи лошади спали на ходу, словно одурманенные запахом асфальта, таявшего у них под ногами. Мужчины и женщины сидели на порогах своих домов, перед лавками или на скамейках бульваров. Латинский квартал точно вымер, двери высших школ закрылись. Продавцы лимонада развозили свой товар в тележках по улицам, и вид жестяных бутылей с плававшими сверху ломтиками лимона был приятен воспаленным взорам. Ибо пыль густым слоем лежала на листьях деревьев и на лицах людей, а воздух стал тяжелым и знойным.
Септимус сидел с Эжезиппом Крюшо в маленьком кафе с железными столиками, выкрашенными желтой краской, где они встретились впервые.
— Друг мой, — говорил Септимус, — вы одно из явлений природы, заставляющих меня поверить в добрых духов. Если бы вы не вытащили меня тогда из-под колес экипажа, я бы погиб, а если бы я погиб, вы бы не познакомили меня со своей тетушкой, которая умеет готовить, а что бы я делал без вашей тетушки — одному Богу известно. Выходит, что я вам многим обязан.
— О чем тут говорить! Ничем вы мне не обязаны.
— Я обязан вам тремя человеческими жизнями.
13
Эжезипп Крюшо засмеялся и принялся крутить свои темные усики.
— Если вы считаете, что так уж мне обязаны, то можете поквитаться со мной, предложив мне еще стаканчик абсента, чтобы я мог выпить за здоровье всех прочих.
— Ну конечно, — обрадовался Септимус.
Эжезипп, сидевший ближе к двери, обернулся через плечо и крикнул: «Еще абсент!» Кафе было очень скромное — в сущности, даже не кафе, а просто винный погребок с цинковой стойкой и парой железных столиков на тротуаре, придающих ему вид террасы. Септимус со свойственным ему талантом делать все не так, как другие, пил здесь чай — и не такой, какой светские люди пьют в богатых ресторанах, а грязно-серую жидкость с примесью рома, которую пили французы в доброе старое время, когда у них еще не появилось понятие о файф-о-клоке[8]. Если в винном погребке кто-либо из посетителей спрашивает чай, прежде всего начинаются поиски чайника; его приносят неведомо откуда, а уж о самом чае лучше не говорить. Тем не менее Септимус с обычной своей кротостью пил глоток за глотком эту микстуру, покрытую пылью веков. Он налил себе вторую чашку и вылил в нее остатки рома из графинчика, чтобы подготовиться к тосту, который собирался предложить Эжезипп, как вдруг за его спиной раздался знакомый голос.
— Черт возьми! Да это он!
Септимус вздрогнул, вскочил и уронил графин на чашку. То был Клем Сайфер, широколицый, румяный, улыбающийся и, как всегда, готовый повелевать. При виде Септимуса, угощающегося с зуавом на тротуаре перед винным погребком, он настолько изумился, что не сдержал возгласа удивления. Септимус кинулся к нему.
— Дорогой мой, как я рад вас видеть! Присаживайтесь к нам. Выпейте чего-нибудь.
Сайфер снял серую соломенную шляпу и вытер платком вспотевший лоб.
— Фу ты, какая жарища! Как можно жить в Париже в такую погоду, если только это не вызвано необходимостью, я не могу понять.
— А вы зачем здесь живете?
— Я здесь проездом, по пути в Швейцарию, — проверить, как там идет продажа крема. Но я подумывал о том, чтобы вас разыскать. Даже непременно хотел разыскать. Я на прошлой неделе был в Нунсмере, схватил за горло Вигглсвика и выжал из него ваш адрес: отель Годе. Это где-то в этих краях, не правда ли?
— Да, недалеко, — сказал Септимус, сопровождая свои слова неопределенным жестом. Потом он принес Сайферу стул от соседнего столика. — Присаживайтесь.
Сайфер сел.
— А супруга как поживает?
— Су… — кто?
— Супруга, миссис Дикс.
— О, очень хорошо, благодарю вас. — Позвольте вам представить моего друга, месье Эжезиппа Крюшо, зуава; месье Крюшо — месье Клем Сайфер.
Эжезипп щелкнул каблуками и заявил, что он в восторге. Сайфер учтиво приподнял шляпу.
— Изобретатель крема Сайфера — Друг человечества. Прошу не забывать, — смеясь, сказал он по-французски.
— Что это значит? — переспросил Эжезипп, повернувшись к Септимусу.
Тот пояснил.
— А, крем Сайфера — знаю, знаю. Так это вы, месье, производите крем?
— Да, я — Друг человечества. А вы употребляли мой крем? С какой целью?
— Пятки лечил, когда натер себе волдыри за целый день ходьбы.
Слова эти подействовали на Сайфера, словно электрический ток. Он шлепнул обеими ладонями по столу, откинулся на спинку стула и взглянул на Септимуса.
— Черт побери! — воскликнул он, побагровев. — А мне это и в голову не приходило!
— Что именно?
— Да вот водянки на пятках от ходьбы. Просто чудеса! Неужели вы не понимаете? Это значит, что в моей власти излечить больные ноги всех армий мира. Да ведь это же откровение! Мой крем должен быть в ранце каждого солдата, идущего на маневры или на войну. Это для него будет полезнее маршальского жезла. Как я до сих пор не додумался! Мне нужно обойти военные министерства всех цивилизованных стран. Друг человечества? — Я буду Благодетелем человеческой расы.
— Что вы будете пить? — допытывался Септимус.
— Все равно что! — нетерпеливо крикнул Сайфер, весь захваченный новой идеей. — Скажите, месье Крюшо, вы ведь уже употребляли крем Сайфера, — он хорошо известен во французской армии или еще нет? Где вы его купили — в полковом аптечном складе?
— О нет, месье. Это моя мать купила его и натерла мне пятки.
На лице Сайфера выразилось разочарование, но тотчас же он снова просиял.
— Не беда. Главное, вы мне подали мысль. Очень вам признателен.
Эжезипп засмеялся.
— Ваша признательность должна относиться не ко мне, а к моей матери.
— Я охотно подарил бы ей разрешение всю жизнь бесплатно получать мой крем, если бы только знал, где она живет.
— Ну, это дело простое, — она служит консьержкой в том доме, где находится квартира прекрасной дамы месье Септимуса.
— Квартира? — Сайфер круто повернулся к Септимусу. — Как же так? Я думал, вы живете в отеле Годе.
Септимус растерялся.
— Ну да, конечно. Я живу в отеле, а Эмми — в отдельной маленькой квартире. Ей неудобно было жить в отеле — это неподходящий отель для дамы. Там во дворе есть пес, который воет по ночам. Я как-то утром, часов в шесть, попробовал бросить ему ветчины, чтобы его унять, но попал в какого-то старьевщика, который съел ветчину и взглядом попросил еще. А ветчина была чудесная — я ее держал себе на ужин.
— Но, дорогой мой, — Сайфер положил ему руку на плечо, — разве вы не живете вместе?
— Да нет же, конечно, отдельно! — И тотчас же Септимус, совсем смутившись, ухватился за первое попавшееся объяснение: — Видите ли, у нас такие разные привычки: мы в разное время встаем, едим…
Сайфер недоуменно покачал головой. Хозяин кабачка, без пиджака, в рубашке с грязными засученными рукавами, поставил перед ним кружку пива, Эжезипп, который уже приготовился выпить свой абсент и дожидался только, чтобы и его новому знакомому подали заказанное, поднял стакан.
— Как раз перед вашим приходом я собирался выпить за французскую армию, — опередил его Септимус, протягивая свою кружку, чтобы чокнуться.
Эжезипп засмеялся.
— Да нет же! За месье, мадам и беби!
— Беби?! — воскликнул Сайфер, и Септимус почувствовал, что его быстрый острый взор проникает ему в самую душу.
Все чокнулись. Зуав, пренебрегая всеми законами потребления алкоголя, одним глотком выпил свой абсент и поднялся.
— Ну, господа, я покидаю вас. У вас, наверно, найдется, о чем побеседовать. Мое почтение.
Он пожал руки обоим, снова щелкнул каблуками и отошел, покачивая бедрами, сдвинув кепи на самый затылок, так что передняя половина его бритого черепа была открыта.
— Красивый малый ваш друг и неглуп, — заметил Сайфер, глядя ему вслед.
— Он хочет поступить в лакеи.
— Ну теперь, когда он догадался натирать больные пятки кремом Сайфера, у него есть возможность расширить пределы своего честолюбия. Действительно, неглупый малый — подал мне блестящую идею. Немного нескромен, правда. Ну ничего, — добавил он, отвечая на молящий взгляд Септимуса, — я буду скромен за двоих. Ни словом не заикнусь об этом никому.
— Благодарю вас, — сказал Септимус.
Наступило неловкое молчание. Септимус, обмакнув палец в пролитый чай, чертил на столе диаграмму. Сайфер курил сигару, держа ее в уголке рта.
— Ах, волк меня заешь! — пробормотал он, наконец, пристально посмотрел на Септимуса, продолжавшего что-то чертить, и нетерпеливо перекинул сигару в другой угол рта. — Да нет же, черт возьми, не может быть!
— Чего не может быть?
— Послушайте. Мне очень совестно, что я так бесцеремонно вторгся в ваши дела. Но я не могу не интересоваться вами обоими — и ради вас самих, и ради Зоры Миддлмист.
— Вы для нее готовы на все?
— Ну да.
— Я тоже, — тихо проговорил Септимус. — Есть женщины, для которых живут, и есть такие, за которых умирают.
— Она одна из тех, ради которых хочется жить.
Септимус покачал головой.
— Нет, она второго типа, гораздо выше. В последние месяцы я много думал, — добавил он, помолчав. — Разговаривать было не с кем, кроме Эмми и Эжезиппа, и я много размышлял о женщинах. До этого мне редко приходилось с ними сталкиваться, и я ровно ничего о них не знал.
— А теперь знаете, — усмехнулся Сайфер.
— О, многое! — серьезно ответил Септимус. — Это удивительно, какие они бывают разные и как по-разному мужчины относятся к женщинам разного типа. Одну хочется взять за руку и вести за собой, а для другой готов ковром расстелиться, чтобы только ее ножки не ступали по острым камням. Странно, не правда ли?
— Не очень. Все дело в том, что к одной женщине человек испытывает добрые дружеские чувства, а в другую влюблен до безумия.
— Может быть, и так, — задумчиво ответил Септимус.
Сайфер снова зорко уставился на него, как человек, которому кажется, что он разгадал заветную тайну другого. Только большое чувство могло заставить его нелепого друга Септимуса высказаться так толково и связно. Все, что узнал Сайфер за последние десять минут, и удивило, и огорчило, и озадачило его. Этот брак увозом оказывался сложнее, чем он предполагал. Сайфер доверительно наклонился к Септимусу.
— И вы готовы расстелиться ковром для Зоры Миддлмист?
— Ну да, конечно, — простодушно ответил тот.
— Но, друг мой, это означает, что вы без памяти влюблены в нее?
В тихом проникновенном голосе было столько сочувствия и доброты, что Септимус, несмотря на свою застенчивость, не смутился.
— Мне кажется, каждый мужчина, на которого она обратила внимание, должен испытывать к ней то же самое. А вы разве не влюблены в нее?
— Я? Я другое дело. У меня большая цель в жизни. Я ни для кого не имею права стелиться ковром, чтобы по мне ходили. Это было бы в ущерб моему делу — но ведь Зора Миддлмист тесно связана с моим делом, с моей миссией. Я это говорил ей с первого же дня знакомства и снова повторил перед ее отъездом в Калифорнию. Она должна быть подле меня и помогать мне. Как — это известно одному мне. — Он рассмеялся при виде недоумевающего лица Септимуса, никогда не слыхавшего о таинственной связи Зоры с распространением крема Сайфера. — Вы, кажется, думаете, что я спятил? Ничуть. Во всех своих делах я руководствуясь разумом и здравым смыслом. Но когда внутренний голос день и ночь твердит вам одно и то же, вы невольно начинаете ему верить.
— Если бы вы не познакомились с Зорой, то не встретились бы с Эжезиппом Крюшо, и вам не пришло бы в голову лечить больные ноги солдат вашим кремом.
Сайфер похлопал его по плечу и назвал чудом прозорливости. Затем красноречиво и напыщенно принялся объяснять, что это незримое влияние Зоры, действующее на него с другого конца земного шара, привело его сюда именно в этот день и час. Как бы в отместку за его неверие, Зора блестяще подтвердила свои слова о том, что географическое местопребывание ее телесной оболочки не имеет значения.
— Вы знаете, я ведь просил ее остаться в Англии, — сказал он уже обычным тоном, заметив, что Септимусу не угнаться за полетом его мыслей.
— Зачем?
— Как зачем? Чтобы помочь мне. Зачем же еще?
Септимус снял шляпу, положил ее на стул, свободный после ухода Эжезиппа, и задумчиво провел пальцами по волосам. Сайфер закурил вторую сигару. Их сторона улицы находилась в тени, тогда как противоположный тротуар был ярко освещен солнцем. Хозяин погребка унес стакан и вытер стол, залитый чаем. Сайфер заказал еще две кружки пива; Септимус задумчиво ерошил свои волосы, пока не растрепал их совершенно. Прохожие изумленно оглядывались на них: хорошо одетые англичане не каждый день сидят на тротуаре перед винным погребком, а таких лохматых англичан они вообще не видывали. Однако во Франции люди учтивы и не имеют привычки сквернословить при виде чего-то необычного.
— Ну? — спросил, наконец, Сайфер.
— Раз уж у нас такой интимный разговор… — начал было Септимус и запнулся; потом он продолжал с обычной своей нерешительностью: — Мне еще ни разу не случалось вести откровенный разговор с мужчиной; по-моему, это так же трудно, как предложить женщине руку и сердце! Но не находите ли вы, что вели себя эгоистично?
— Эгоистично? Почему же?
— Разве не эгоизмом было с вашей стороны просить Зору Миддлмист, чтобы она отказалась от поездки в Калифорнию ради вашего крема?
— Он стоит такой жертвы.
— Это вы так полагаете, но что думает она сама?
— Она верит в мой крем, как я.
— С какой стати ей верить в него больше, чем верю я или, скажем, Эжезипп Крюшо? Если бы она верила, то сочла бы своим долгом остаться. Неужели вы думаете, что такая женщина, как Зора Миддлмист, изменила бы своему долгу?
Сайфер протер глаза, словно их застилал туман. Но нет, он видел совершенно ясно. Напротив него, действительно, сидел Септимус Дикс, который сосредоточил все своим мыслительные и разговорные способности на креме Сайфера и категорически отрицал веру в него Зоры Миддлмист. Сайфер считал себя во многих отношениях простым человеком и не пренебрег бы мудростью, исходящей даже из уст грудного младенца, но какой мудрости можно было ожидать от Септимуса? Поэтому он только усмехнулся и продолжал восхвалять свой крем. Однако его собственная вера дрогнула, как здание при первом слабом толчке землетрясения.
— Почему вы так сказали о Зоре Миддлмист? — неожиданно спросил он.
— Не знаю, — вздохнул Септимус. — Мне показалось, что нужно это вам сказать. Я сам, когда возьму себе что-нибудь в голову, то мне кажется, что ничего туда больше и влезть не может. И все подгоняешь к одному и тому же, все принимаешь на веру. Вот, например, когда я был ребенком, отец почему-то решил, что я верю в предопределение. Я-то не верил и не мог поверить, но не смел ему об этом сказать. Так и жил с бременем чужой веры на своих плечах. В конце концов положение стало невыносимым и, когда отец заметил, что я не верю, он побил меня. У него специально для таких случаев имелась раздвоенная плеть. Мне бы не хотелось, чтобы то же самое случилось с Зорой.
Разговор прервался. Хозяин погребка, стоявший у дверей, завел с ними речь о погоде, о жаре, о том, что все покинули Париж и о счастливой участи тех, кто может летом уехать в деревню. Прибытие обливающегося потом извозчика в красном жилете и лакированном цилиндре заставило его вернуться к своим обязанностям и позаботиться о новом клиенте.
— Кстати, — сказал Сайфер, — я хотел вас разыскать еще и для того, чтобы извиниться.
— За что?
— А вы разве забыли о своей книге — о пушках? Вас не удивляло, что я ничего о ней не пишу?
— Нет. Мои изобретения интересуют меня только до тех пор, пока они не завершены. Сейчас я изобретаю новую подзорную трубу. Пойдемте со мной в отель — я вам покажу модель.
Сайфер взглянул на часы и отговорился деловым свиданием. В девять часов он уезжает, нужно еще пообедать и успеть на поезд.
— Как бы то ни было, — закончил он, — мне очень стыдно перед вами, что я до сих пор ничего не сделал. Я показывал вашу корректуру одному моряку, очень опытному и знающему, но он стал наводить критику, и я от него ушел. Такие эксперты всегда знают все, что уже открыто, и не интересуются тем, что не было до сих пор известно. Так что я пока это дело отложил.
— Неважно, — поспешил заметить Септимус, — и если вы хотите нарушить наш контракт — он прислан мне на подпись — я разорву его и верну вам двести фунтов.
Сайфер, однако, заверил его, что за всю свою жизнь ни разу еще не нарушал контракта. Они пожали друг другу руки и пошли каждый своей дорогой — Септимус к домику на бульваре Распайль, а озабоченный Сайфер — по направлению к Люксембургу.
Ему было грустно, очень грустно — из-за Септимуса Дикса. По доброте сердечной он не счел возможным сообщить бедному изобретателю всю правду о его орудиях. Морской эксперт поднял на смех изобретение Септимуса, сказав, что о таких огромных пушках может мечтать только сумасшедший. Адмиралтейство завалено подобными прожектами. Эта корректура годится только на то, чтобы растапливать ею камин.
Сайфер намеревался сообщить обо всем Септимусу, предварительно осторожно его подготовив, но после их разговора у него не хватило духа это сделать. А двести фунтов — ну, эти деньги он, конечно, назад не возьмет. Сам виноват, что дал ими поиграть ребенку. Ему было очень жаль Септимуса. Вспомнился последний год и беззаветная собачья преданность Септимуса Зоре Миддлмист. Но зачем же, если он любит старшую сестру, — зачем было жениться на младшей? Зачем жить врозь с ней, раз уж женился? И этот ребенок? Все было так странно и загадочно.
Он жалел неумелого, бестолкового Септимуса полупрезрительной жалостью сильного человека к более слабому, хотя и хорошему. Но что касается его отрицания веры в Зору Миддлмист, то это достойно только осмеяния. Что за нелепость! Эгоистично? Да, пожалуй. Зора предложила ему аналогичный вопрос, и он дал ей такой же ответ. Тем не менее Сайфер убежден, что ее вера в крем и в миссию его самого — распространять крем по всей земле, оберегая народы от низких конкурентов, не думающих ни о чем, кроме прибыли — осталась непоколебимой.
И все же, бродя по этому чужому, хотя и хорошо знакомому городу, он почти физически тосковал по Зоре — по блеску ее глаз, по тому сочувствию и пониманию, которые жили в ее прекрасном, благородном теле. Потребность говорить с ней была настолько властной, что Сайфер зашел в кафе на бульваре Сен-Мишель, попросил бумагу, чернила и, как поэт, охваченный безумным вдохновением, излил ей свою душу — высказал соображение по поводу исцеления пяток всех армий мира.
Почти весь день Сайфер провел на ногах. Вечером, выходя из экипажа на Лионском вокзале, он ощутил непривычную боль в собственной пятке. Сдавая багаж и разыскивая свой поезд, он все время ходил по платформе и слегка прихрамывал. Когда же разделся на ночь в купе спального вагона, то оказалось, что он натер себе ногу носком. Образовался большой волдырь. Сайфер смотрел на него с суеверным волнением и думал об армиях мира. Само небо посылало ему эту весть.
Он вынул из своего саквояжа пробную коробочку крема Сайфера и почти благоговейно натер им пятку.
14
Клем Сайфер спал сном воина перед битвой. Проснулся он уже в Лионе, испытывая все ощущения раненого Ахилла. Пятка его горела, болела, ныла; боль от нее распространялась по всей ноге, и каждый раз, когда он, заставляя себя не просыпаться, переворачивался на другой бок, ему казалось, что нога занимает весь диван.
Сайфер снова натер пятку кремом и опять улегся, но уснуть уже не мог. Он поднял шторы, впустив в купе рассвет, и, улегшись на спину, принялся обдумывать план новой кампании. И чем больше думал, тем проще ему представлялось выполнение задуманного. Он поставил себе за правило знакомиться со всеми выдающимися личностями во всех европейских столицах, и своему успеху был в значительной степени обязан именно этим. При выборе способов знакомства он никогда не затруднялся. Когда у человека божественная миссия, он не опутывает себя по рукам и ногам условностями, существующими только для простых смертных. И подобно тому, как фанатик-евангелист бесцеремонно пристает к незнакомым людям с щекотливыми вопросами относительно того, верят ли они в Бога и обрели ли мир душевный, так и Сайфер не стеснялся подойти к любому иностранцу приличной наружности на террасе отеля и попытаться обратить его в свою веру, т. е. веру в крем Сайфера.
В тех местах, куда съезжается публика всех национальностей, его тяжеловесная фигура и румяное лицо были всем знакомы. Газеты извещали о его приезде и отъезде. Люди на улице указывали на него друг другу. Особы, которым он ухитрился представиться сам, не дожидаясь, пока его кто-нибудь представит, знакомили его, в свою очередь, с другими.
Когда он сбрасывал с себя апостольские ризы и становился просто человеком, его простодушие, прямота и обаяние пленяли людей независимо от идей, которые он проповедовал. Захоти Сайфер воспользоваться случаем, он мог бы вращаться в кругу действительно высоких особ — кстати сказать, ценой, неприемлемой для его гордости. Но общественного честолюбия, желания выбиться в знать у него не было. Поэтому великие мира сего уважали его и, проходя мимо, дружески пожимали ему руку. Из Швейцарии он ехал в одном поезде с высокопоставленным русским чиновником, который приветствовал его веселой улыбкой и возгласом: «О, да это сам Сайфер!» — и на перроне Лионского вокзала представил в качестве Друга человечества своей супруге.
Сейчас Сайфер лежал на спине и грезил о тех днях, когда его стараниями форсированные марши усталых войск превратятся в увеселительные прогулки. Ревниво охраняемые двери военных министерств всех столиц мира не пугали его — Друга человечества. Он мысленно перебирал все страны, пока не дошел до Турции. Кого он знает в Турции? Однажды в Монте-Карло он дал прикурить от своей папиросы некоему Музурус-бею, но это вряд ли можно назвать знакомством. Не беда: его звезда снова начинает восходить. В Женеве, наверное, он встретит какого-нибудь турка. Сайфер повернулся на бок — и ощутил мучительную режущую боль в ноге.
Одеваясь, он с трудом надел сапог. А когда вышел из поезда в Женеве, едва мог ходить. Добравшись до своего номера в отеле, Сайфер снова смазал ногу кремом и, радуясь отдыху, уселся в кресло у окна, глядя на голубое озеро и на Монблан, белой шапкой маячивший вдали; ногу он положил на стул. Здесь же, в номере, он принял и своего женевского агента, с которым заранее условился встретиться и вместе пообедать. Сайфер надел на больную ногу комнатную туфлю и, прихрамывая, спустился с лестницы.
Агент принес грустные вести. Джебуза Джонс идет на все, чтобы навредить Сайферу, и продает себе в убыток. Благодаря этому он проникает всюду. Кроме того, на рынке появилось еще какое-то новое немецкое средство, которое также мешает успешной продаже крема Сайфера. Оптовые торговцы требуют немыслимых скидок, а розничные не делают больших заказов. Агент умышленно сгущал краски, боясь, как бы патрон не приписал его собственной бездеятельности и неумению падение популярности крема. Но, к удивлению агента, Сайфер с улыбкой выслушал печальный рассказ и велел подать шампанское.
— Все это пустяки! — воскликнул он, — комариные укусы, не более. Все изменится, когда публика поймет, как ее надували все эти шарлатаны и жулики — немцы и американцы. Наш крем не подведет. И да будет вам известно, друг мой Деннимед, мы скоро будем процветать, как никогда. Я придумал нечто такое, от чего у вас дух займется.
При виде горящих вдохновением голубых глаз Сайфера и торжества, написанного на его решительном лице, усталое лицо агента немного прояснилось.
— Ну, приготовьтесь, — сказал Сайфер. — Выпейте сначала, а затем я вам скажу.
Он поднял свой бокал:
— За крем Сайфера! — Оба торжественно осушили бокалы.
И тут Сайфер развернул перед благоговейно внимавшим ему агентом такие перспективы, что тот действительно ахнул и, захваченный его энтузиазмом, снова поднял пенящийся бокал:
— Ей-богу, сэр, вы гений, настоящий завоеватель — Александр, Ганнибал, Наполеон! В одном этом плане заключено целое состояние.
— Да, денег, во всяком случае, хватит, чтобы одними только рекламными объявлениями забить Джебузу Джонса и других и стереть их с лица земли.
— Все они вам не страшны, сэр, только бы заполучить поставку для армии, — говорил агент.
Ему недоступна была высокая идея, одухотворявшая деятельность его патрона. Сайфер положил персик, который начал было чистить, и с жалостью взглянул на Деннимеда, как на маловера, рожденного ползать, но не летать.
— Тем более я сочту своим долгом это сделать, — возразил он, — когда в моих руках будет такое могущественное оружие. Ибо что такое, в конечном счете, излечение несколько ссадин на ногах, в сравнении с такими бичами человечества, как проказа, экзема, чесотка, псориаз и мало ли какие еще болезни? А деньги сами по себе — чего они стоят?
Он сел на своего конька. Предоставление его фирме поставок для армии станет для него лишь ступенькой к достижению более высокого идеала. Оно расчистит путь для распространения крема, устранит препятствия, мешающие его победному шествию по всему миру.
Агент доел свой персик и с благодарностью взял другой, заботливо выбранный для него хозяином.
— А все-таки, сэр, из всех ваших начинаний это — самое грандиозное. Можно узнать, каким образом вы пришли к такой мысли?
— Как со всеми великими идеями, здесь все было очень просто, — начал Сайфер благодушным тоном человека, сытно и вкусно пообедавшего и невольно польщенного восхищением своего подчиненного. — Ньютон однажды увидел, как яблоко падает на землю — и постиг закон всемирного тяготения. Слава красителей Тира и Сидона возникла благодаря алым капелькам слюны, стекавшей из пасти собаки, которая наелась раковин. Огромные морские пароходы вышли из-под крышки котла Стефенсона. Один солдат мне рассказал, что его мать смазала ему ногу кремом Сайфера, когда у него образовалась водянка на пятке от ходьбы, — это и подало мне мысль…
Он откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и положил одну на другую. И тотчас же вскрикнул от боли.
— Я забыл о собственном проклятом волдыре, — пояснил он. — Слез всего какой-то дюйм кожи, а вся нога вокруг воспалилась и покраснела, как томат.
— Будьте осторожны, — посоветовал агент. — Что вы прикладываете?
— Как что? Боже мой, конечно же, крем. Что же еще?
Он смотрел на Деннимеда, как на сумасшедшего, и тот смущенный, сам стал таким же красным, как кожа вокруг воспаленной пятки.
Примерно час они просидели над отчетами и цифрами, которые агент нес Сайферу, полный тревоги и мрачных предчувствий. Ушел же он от патрона, окрыленный радостными надеждами — ему была обещана должность с большим окладом в новом отделе военных поставок.
Как только Деннимед удалился, Сайфер еще раз смазал ногу кремом. Ночь он провел без сна. К утру не только вся ступня, но и лодыжка распухли. Сайфер не мог даже встать — такое колотье начиналось во всей ноге, как только он пытался спустить ее на пол. Он снова лег в постель и позвонил лакею. У него болит нога, и он хотел бы вызвать доктора. Не знает ли Гастон хорошего врача? Оказалось, что Гастон не только знает отличного врача, но этот врач, к тому же англичанин, живущий в Женеве, и его всегда приглашают к соотечественникам, останавливающимся в этом отеле; доктор и сейчас находится здесь.
— Спросите его, не будет ли он так любезен зайти ко мне.
Он горестно смотрел на свою щиколотку, распухшую до толщины икры, удивляясь, почему крем на сей раз не оказал своего чудесного действия. Но воспаление было налицо, и явно требовалась медицинская помощь. Появился врач, еще не старый, с умным, выразительным лицом. Внимательно обследовав пятку и щиколотку, он спросил:
— Вы чем-нибудь лечились?
— Да, кремом.
— Каким кремом?
— Разумеется, кремом Сайфера.
Доктор сделал нетерпеливый жест.
— Ну скажите на милость, какого черта люди, вместо того, чтобы обратиться к врачу, лечатся шарлатанскими средствами, в которых они ничего не смыслят?
— Шарлатанскими средствами?! — воскликнул Сайфер.
— Ну да, конечно. Все эти мази и кремы — надувательство и зараза и, будь на то моя воля, я бы сложил их все в кучу на площади и велел сжечь; но из всех этих шарлатанских средств самое вредное — крем Сайфера! Никогда его не употребляйте!
У Сайфера было такое ощущение, как будто стены отеля падают на него, сдавили ему горло и навалились всей тяжестью на грудь. Это был какой-то кошмар средь бела дня. В течение нескольких секунд он задыхался. Потом преодолел себя и проговорил очень тихо:
— Вы знаете, кто я?
— Не имею удовольствия, — ответил врач. — Мне сказали только номер вашей комнаты.
— Я Сайфер, создатель крема Сайфера.
Они смотрели друг на друга — Сайфер в голубой полосатой пижаме, приподнявшись на локте в постели, врач, стоя у его кровати. Доктор развел руками.
— Такой ужасной минуты я еще не переживал. Простите великодушно. Я только честно высказал вам свое мнение, основанное на личном опыте. Если бы я знал вашу фамилию, конечно, я бы…
— Уходите лучше! — странным голосом проговорил Сайфер, стиснув руки так, что ногти врезались ему в ладони. — Сколько вам следует?
— Не в этом дело. Я до глубины души огорчен тем, что вас обидел. Доброе утро!
Дверь захлопнулась, Клем Сайфер остался наедине со своим негодованием и яростью.
Когда он побесновался вдоволь, это облегчило его душу, но нога разболелась еще пуще. Сайфер вызвал к себе хозяина отеля и попросил его послать за лучшим врачом в Женеве. И первым делом поспешил сообщить тому свое имя и род занятий. Доктор Бурдильо, профессор дерматологии в Женевском университете, осмотрел больную ногу и сокрушенно покачал головой. При всем его уважении ко многим блестящим качествам крема Сайфера есть все же некоторые кожные болезни, при которых он лично не стал бы прописывать этот крем. При других заболеваниях — он начал сыпать латинскими терминами — крем, возможно, действительно очень полезен. Но при воспалении кожи от ссадины или пореза, когда большой участок кожи обнажен, пожалуй желательнее более простое лечение.
Тон профессора был изысканно учтивым, и слова он выбирал такие, что ни одно из них не могло задеть или обидеть больного. Тем не менее, у Сайфера упало сердце.
— Следовательно, вы, профессор, того мнения, что для натертой пятки это средство не годится?
— Если хотите знать мое мнение, я вам отвечу откровенно: нет.
Сайфер сделал красноречивый протестующий жест:
— Но я знаю случай, когда оно прекрасно помогло. Один мой знакомый зуав…
Профессор дерматологии Женевского университета улыбнулся: — Зуав? Как для сапера не существует опасности, так и зуаву ничто не может повредить. У них кожа толстая, как у гиппопотамов. Окуните их в кислоту — они и не почувствуют.
— Так, значит, его нога зажила, несмотря на то, что он ее мазал кремом?
— Очевидно, — сказал доктор Бурдильо.
Сайфер два дня просидел в своей комнате, держа ногу на стуле и глядя на Монблан, чарующий своим волшебным блеском на фоне далекого бледного неба. Но и Монблан его не утешал. Напротив, напоминал о Ганнибале и других завоевателях, проведших своих солдат с израненными ходьбой ногами через Альпы. Как только он давал волю фантазии, ему представлялись толпы людей, идущих босиком, с воспаленными ступнями и лодыжками цвета томатного пюре. Он вздрагивал, стискивал зубы и гнал от себя эти мысли. Деннимед навестил его и с огорчением выслушал приговор ученого, разрушивший все его надежды на высокий пост в новом отделе военных поставок. Но Сайфер успокоил агента, опасавшегося за свое материальное благополучие, добавив ему комиссионные за продажу крема иностранным фирмам. Затем они перешли к обсуждению создавшегося положения.
— Не можем алы требовать, сэр, чтобы патентованное средство излечивало все болезни, — говорил агент.
— Совершенно с вами согласен. Крем не поможет вырастить две ноги на том месте, где раньше была одна, но водянки на пятке ему полагалось бы лечить. Однако, видимо, он и для этого не годится. Так что алы вернулись к тому положению, которое было до моей встречи с месье Крюшо. Единственное, что из этого следует — это то, что алы теперь не вправе уверять публику, будто крем излечивает волдыри на пятках.
— Зачем об этом говорить? Пусть покупают на свой страх и риск, — сказал Деннимед. Он был черноволосый, молодой, с умным, но хмурым и желтым лицом. К идее облегчения страданий человечества с помощью целительного бальзама агент Сайфера был глубоко равнодушен. В силу своего желчного темперамента по отношению к людям он был скорее мизантропом.
— Нет, все же, — продолжал он, — я не вижу причин, которые мешали бы вам добиться поставок для армии, не упоминая о больных и натертых ногах.
— Значит, по-вашему, пусть покупатель будет осторожен: его дело смотреть, что он берет.
— Само собой. Это основное правило торговли.
Сайфер сердито стукнул кулаком по подоконнику.
— Это основное правило всякого воровства и надувательства. И если бы кто-нибудь из моих служащих вздумал применить его к моей торговле, он моментально лишился бы работы, в этом корень всякого жульничества, которым полна современная коммерция. Именно таким доводом успокаивает свою совесть и набожно распевающий псалмы бакалейщик, примешивая к кофе жареные бобы. Гнуснейший принцип.
Он опять сердито стукнул кулаком. Агент обиделся.
— Разумеется, безнравственно лгать и приписывать товару несвойственные ему качества. Но, с другой стороны, нельзя же, продавая патентованное средство, прежде всего предупреждать покупателя, в каких случаях его не следует применять. Допустим, на этикетке написано, что лекарство помогает от подагры и ревматизма. Если женщина, купив его, даст выпить своему ребенку, который болен скарлатиной, и ребенок потом умрет — виновата будет она, а не вы. Если фирма ставит на упаковке предупреждение «При стирке не употреблять» — это всего лишь деловой прием для защиты своей репутации.
— Ну, значит, мы, оберегая свою репутацию, должны написать на этикетке: «Водянок и пузырей не излечивает», — возразил Сайфер. — В рекламных объявлениях я называю себя Другом человечества. И я действительно всегда считал себя таковым. Если бы я позволил бедным солдатам довести свои ноги до такого состояния, как сейчас у меня, то был бы не другом, а бичом человечества. Ни одной коробки крема я не продал без гарантии его полезности, в которой сам был искренне убежден.
— Джебуза Джонс не столь щепетилен, — заметил агент. — Сегодня утром я купил баночку его мази — они ее теперь продают в новой упаковке. Смотрите. — Он развернул бумагу и передал баночку патрону. — Особое примечание крупным шрифтом: «Дает мгновенное облегчение при натертых водянках. Каждый альпинист должен иметь с собой при восхождении на горы».
— Только враг людей может так гнусно поступать, — возмутился Сайфер. — Чем подражать таким приемам, я лучше закрою свою фабрику и прекращу торговлю.
Однако Деннимед, все еще не теряя надежды, решил прибегнуть к дипломатии:
— А жаль все-таки, ужасно жаль, что приходится отказаться от поставок для армии.
— Да, досадно, — сказал Сайфер.
Отпустив агента, он злобно усмехнулся: — Досадно! Еще бы не досадно!
Долгое время он сидел, прикрыв ладонями глаза и пытаясь осознать, что означает для него отказ от этой новой, окрылившей его, надежды. Сайфер был человеком добросовестным. Впервые в жизни он на себе испытал свое лечение, — раньше не приходилось, не было случая, — и оно не оправдало его ожиданий. При нем, прямо ему в глаза, его божественный крем назвали шарлатанским средством. Эти слова и теперь еще горели в его мозгу, словно выжженные раскаленным железом. Врач, слывущий признанным специалистом по болезням кожи, — правда, очень тактично и любезно, но решительно, — также отверг крем. Одно маленькое словечко — «нет» покончило навсегда с его наполеоновским планом оздоровления ног всех армий мира…
Уже несколько месяцев он вел борьбу, понемногу отступая перед конкуренцией, но это был первый серьезный удар, нанесенный его вере в целительную силу крема. Сайфер пошатнулся, недоумевая, как человек, пораженный невидимой рукой, озирается вокруг, чтобы посмотреть, с какой стороны нанесен удар. И почему именно теперь? В прежние годы репутация крема всегда была безупречной.
Его шкафы в Лондоне битком набиты честно заслуженными свидетельствами и благодарностями. Некоторые из писем, особенно от простых людей, содержали трогательные в своем простодушии изъявления признательности. Правда, и тогда директор его фабрики высказывал предположения, что они присланы в надежде на вознаграждение и в расчете увидеть свои портреты в рекламных листках. Но директор Шеттлворс был закоренелый циник, который не верил ни во что, кроме выгодности торговли кремом. Были в шкафах письма и с графскими гербами на конвертах; тут уж, конечно, не приходилось думать ни о корысти, ни о жажде популярности. Сайфер за всю свою жизнь не заплатил ни пенса за сочиненную по заказу благодарность. Все письма, которые он приводил в своих проспектах, были подлинными и присланными добровольно. Люди всех званий и состояний называли его истинным другом человечества. Как же так получилось, что он все время торговал отравой?
Мысли Сайфера устремились в прошлое, к началу его карьеры. Он снова увидел себя молодым фармацевтом в маленькой аптеке маленького городка — слишком маленького для чего-то большого и непонятного ему самому, что сидело в нем и жаждало найти себе выход. Скучная работа над составлением рецептов, продажа зубного порошка или детских рожков и сосок, будничная, механическая рутина — как возмущался он всем этим, и что ни день, то сильнее.
Вспомнилось Сайферу, как он впервые познакомился с сочинениями старинных врачей, лечивших травами, как нравились ему витиеватость их речи, их лекарства, такие необычные и вместе с тем простые; как ему впервые пришло в голову соединить их лечебные средства с применяемыми в британской фармакопее; его опыты, его беседы со стариком, торговавшим сухими травами в убогой лавчонке на окраине города. Местные врачи называли старика отравителем и шарлатаном, и, тем не менее, это был ученый, изучивший свойства всех трав, которые произрастают на земле, и вылечивший, по слухам, какими-то травяными припарками одну старуху от злокачественного нарыва, который отказались лечить доктора.
Вспомнилась ему ночь, когда старик, полюбивший юношу за участие и интерес к его знаниям, клятвой обязав Клема строго соблюдать тайну, сообщил ему рецепт целебной эмульсии, послужившей основным ингредиентом крема Сайфера. В те дни его одиночество разделял бульдог — уродливое верное животное, которое он назвал Вараввой, по имени библейского разбойника. И вот этот-то пес, заболевший коростой, и стал объектом бесчисленных опытов своего хозяина. Вначале Сайфер натирал его стариковой эмульсией, потом эмульсией, смешанной с другими средствами, приготовленными на очищенном животном жире, пока, наконец, не нашел смеси, которая, к великой его радости, заживила все болячки. Кожа Вараввы окрепла, шерсть снова отросла, и пес стал чистеньким и гладким, как какой-нибудь щеголь-авантюрист, когда у него хорошо идут дела.
Затем однажды в аптеку зашел его светлость герцог Суффолкский и рассказал, что любимая собачка герцогини захворала той же болезнью. Сайфер скромно поведал могущественному герцогу о своих опытах и вручил ему баночку с мазью собственного изобретения. Недели две спустя герцог появился снова. Оказалось, что мазь не только излечила собачку, но и свела экзему с рук самого герцога. Окрыленный успехом, Сайфер попробовал лечить той же мазью ребенка своей квартирной хозяйки, у которого была язва на ноге, — и что же? Ребенок скоро выздоровел. Тут-то и осенило его божественное откровение, о котором он рассказал Зоре: он провел ночь без сна и торжественно поклялся посвятить себя и свой крем служению человечеству.
Первые шаги, сопровождавшиеся упорной борьбой, приобретение аптеки своего хозяина, начало выпуска крема, постепенно приобретаемая известность, — известность сначала у себя на родине, потом и заграницей, благодаря содействию его светлости герцога Суффолкского, первые публикации, постепенный рост дела, продажа аптеки, учреждение конторы собственной фирмы в Лондоне и, наконец, всемирная известность — все эти воспоминания прошли перед ним в то время, как он сидел у окна гостиницы, закрыв лицо руками и не глядя на Монблан.
В конце концов Сайфер, взмахнув руками, прогнал прочь все воспоминания.
— Не может быть! Не может быть! — вырвался у него крик праведного возмущения против насмешливого приговора великих богов, которых он по простоте душевной никогда не подозревал в склонности к подобным издевательствам над смертными.
15
Если вы пойдете по шоссе, опоясывающему скалистый берег Нормандии, возможно, вам случится набрести на деревянный щит с надписью «Оттето-сюр-Мер» и изображением руки, указывающей на узкое ущелье. Следуя полученному указанию, вы спуститесь в ущелье и, пройдя с полмили, найдете две-три дачи, скромное кафе, несколько рыбачьих домиков — в одном из них помещается лавка, торгующая всякой всячиной, в том числе табаком, — и увидите вдали треугольник моря, а, быть может, также кусочек берега, зажатого между двумя бастионами грозных утесов и сплошь покрытого галькой и валунами. У берега видны небольшая дамба и маленькая флотилия рыбачьих лодок; на самом берегу — сети, три купальные кабинки, обвязанные веревками, на которых сушатся полотенца и купальные костюмы; собаки, дети с ведрами и лопатками; две английские мисс, надписывающие адреса на открытках; француз, весь в черном, читающий руанскую газету, прикрываясь от солнца серым парусиновым зонтом; его жена и дочка; киоск с выставленными на продажу раковинами, за прилавком которого восседает старуха с кожей, напоминающей морские водоросли. Над берегом, по ту сторону дороги, ведущей наверх, в ущелье, разместился крохотный сарайчик с красным куполом — казино; по другую — длинное узкое, выкрашенное голубой краской здание, через весь фасад которого проходит написанная огромными черными буквами вывеска: Отель «Пляж».
Как только Эмми оправилась настолько, что могла отправиться в дорогу, она упросила Септимуса отвезти ее в какое-нибудь тихое местечко на море, где не бывает модной публики. Септимус, разумеется, обратился за советом к Эжезиппу Крюшо. Зуав попросил, чтобы ему дали время расспросить товарищей. Вернувшись, он указал им идеальное местечко — деревушку в Пиренеях, на высоте чуть ли не шести тысяч футов, в сорока милях от железнодорожной станции. Медведей кругом хоть отбавляй — каждый день можно охотиться.
Когда Эмми объяснила ему, что деревушка в Пиренеях не может находиться на берегу моря, и что ни она, ни его тетушка, мадам Боливар, вовсе не жаждут истребления медведей, — зуав немного приуныл и пошел за советом к Анжелике, своей приятельнице из винного погребка на улице Франк-Буше. Анжелика сообщила ему, что к ним в погребок каждый вечер заходит бравый моряк, который служит на миноносце, но сейчас в отпуске, в Париже, — уж он-то, наверное, знает все о море.
Анжелика устроила встречу Эжезиппа и Септимуса с бравым моряком, хотя Эмми очень потешалась над ними, не веря, что из всего этого может выйти что-либо путное. Поглотив предварительно неимоверное количество алкоголя, бравый моряк заявил, что настоящий эдем на морском берегу можно обрести только в его родном селении — Оттето-сюр-Мер. Он начертил план местности, причем две квадратные пачки табака изображали утесы, ствол трубки — дорогу, ведущую в ущелье, табачные крошки — берег, а размазанные по столу кофейные пятна — Ла-Манш.
Септимус вернулся к Эмми с известием:
— Нашел. Оттето-сюр-Мер. Там есть отель. Можно ловить креветок, а местные раковины славятся на весь мир.
Заглянув в путеводитель по Нормандии, на чем все-таки настояла предусмотрительная Эмми, они убедились, что бравый моряк в общем не солгал, и решили поселиться в Оттето-сюр-Мер.
— Я отвезу вас туда, устрою, а затем вернусь в Париж, — говорил Септимус. — Ведь вам там будет хорошо с мадам Боливар, не правда ли?
— Да, конечно! — ответила Эмми, глядя в сторону. — А вы что будете делать один в Париже?
— Изобретать орудия. И потом я не знаю, как, собственно, мне выбраться из своего отеля. Я там довольно долго прожил и до сих пор не знаю, сколько нужно давать прислуге на чай. Единственный способ решить этот вопрос — остаться жить в отеле.
Эмми вздохнула, немного опечалилась, но даже не попыталась указать ему на несостоятельность его последнего довода. В последнее время жизнь обрела для нее несказанную сладость, к которой примешивалась, однако, и нестерпимая горечь. Она находилась в таком состоянии, когда женщина все принимает без возражений. Поэтому Септимус отправился на вокзал Сен-Лазар и нашел чиновника, который знал поразительно много о железнодорожных путешествиях и о способах доставить целое семейство из дому на вокзал. Он записал все, о чем спрашивал Септимус, в свою книжечку и заверил его, что в назначенный час возле дома на бульваре Распайль будет ожидать омнибус, который и доставит их на вокзал. Септимус подивился его гениальной осведомленности и дал ему пять франков.
Таким образом, курьезнейший квартет — Септимус, Эмми, мадам Боливар и крохотный живой комочек, который старая француженка заботливо держала в своих широких материнских объятиях, — начал путешествие довольно комфортабельно. Мадам Боливар не выезжала из Парижа уже двадцать лет, и ей пришлось призвать на помощь весь свой материнский инстинкт, чтобы преодолеть душевное смятение перед предстоящей встречей с полями и морем. В вагоне она без конца волновалась, указывая неразумному младенцу на пасущихся коров с таким восторгом, как будто перед ней был табун летучих коней:
— А это что же будет? Рожь, месье? Бог мой! Какая красота! Смотри, детка, смотри, мое золотко, ведь это рожь!
Но «золотку» не было дела ни до ржи, ни до коров. Оно предпочитало устремить равнодушный взор на Септимуса, словно удивляясь, что он делает в такой компании. Время от времени Септимус наклонялся к ребенку, смутно сознавая, что нужно быть внимательным и к младенцам, осторожно тыкал его пальцем в щечку, издавая какой-то нелепый звук, а затем незаметно вытирал свой палец о брюки. Когда Эмми брала ребенка на руки, на нее находили порой приступы страстной нежности, и она пылко прижимала его к груди, пугливо озираясь. Дитя было ее сокровищем. Она заплатила за него более дорогой ценой, чем большинство женщин, и от этого он стал для нее еще дороже.
В Фекампе путешественников ожидал неуклюжий ветхий дилижанс. Их багаж вместе с несколькими клетками для кур, корзинами, узлами и ящиками свалили бесформенной кучей на крышу дилижанса, а сами они заняли места внутри, вместе со стариком-священником и крестьянкой в широком с отвисшими оборками чепце. Священник с наслаждением нюхал табак, утираясь красным носовым платком. Дребезжали стекла в закрытых окошках; было жарко и душно; от вылинявших подушек неприятно пахло.
Эмми, утомленной переездом по железной дороге, измученной жарой, хотелось плакать. После Лондона это был для нее первый шаг в самостоятельную жизнь, и сердце ее замирало. Она уже жалела о своих уютных комнатках в Париже и о налаженном укладе жизни, в котором главную роль играл Септимус Эмми привыкла к тому, что он поневоле был посвящен в самые интимные подробности ее жизни, к тому, что он склонялся над ее ребенком, словно крестный отец-волшебник, чудаковатый и милый, и давал самые невероятные советы относительно его воспитания.
До сих пор она видела в нем не столько чужого человека, при котором женщине нужно быть сдержанной, сколько врача, которого можно не стыдиться. Теперь все будет по-другому. Ей предстояло начать новую жизнь, с новыми обязанностями и ответственностью, а нежно любимое ею существо, в котором она нашла себе опору, — хотя временами и злость на нем срывала, и смеялась над ним, — уйдет от нее и вернется к прежней своей чудаческой жизни; и никогда уже отношения между ними не станут прежними. Поездка в дилижансе была для нее последним этапом на пути к новой жизни, а этой тряске, жаре, вони и душевным мукам, казалось, не будет конца.
— Я уверена, — сказала она, наконец, — что никакого Отто-сюр-Мер не существует, и мы будем искать его до скончания века.
Вместо ответа Септимус торжествующе указал пальцем в окно.
— Вот оно!
— Где? — удивилась Эмми, так как не видела ни одного дома. И в ту же минуту показался берег.
Старый дилижанс свернул направо и с грохотом, весь раскачиваясь и трясясь, начал спускаться вниз, в ущелье. Когда они остановились перед отелем «Пляж», лучи заката озаряли их лица и золотили берег, заливая все волшебным светом. Единственным живым существом на берегу была собака, да и та спала. Несомненно, в такое место модной публике незачем было заглядывать.
— Ребенку здесь будет хорошо.
— И вам тоже.
Эмми пожала плечами:
— Что хорошо для одного, не всегда бывает… — и не договорила, почувствовав себя неблагодарной. Она поспешно поправилась: — И в самом деле, лучшего местечка вы не могли для нас найти.
После обеда они долго сидели на берегу, прислонясь к рыбачьей лодке. Светила полная луна. Северные утесы бросали густую тень на море и часть берега. Группа рыбаков, расположившихся на дамбе, хором пела песню с жалобным припевом. За ними, в квадрате желтого света, падавшего из окна «салона» гостиницы, виднелись фигуры двух английских мисс, кажется, все еще надписывавших свои открытки. Это единственное освещенное окно ярко выделялось на фоне массивного темного здания. За тенью, отбрасываемой утесом, лежало гладкое, как серебряное зеркало, море. Волны едва касались берега, оставляя после себя легкое кружево пены.
Эмми полной грудью вдохнула воздух и спросила Септимуса, слышит ли он запах моря. Подошла собака, обнюхала их обувь и, видимо, решив, что судя по отличному качеству кожи, эти господа ей не компания, смиренно отошла. Септимус подозвал ее, мгновенно подружился с ней — это была обыкновеннейшая кудлатенькая рыжая дворняжка, — и она, свернувшись клубочком между ними, уснула. Септимус курил трубку, Эмми играла ухом собаки и смотрела на море. Кругом была такая тишина! Она вздохнула.
— А ведь это последний вечер, который мы проводим вместе.
— Пожалуй, что так.
— Вы уверены, что можете дать те деньги, которые мне оставляете?
— Конечно. Ведь они из банка.
— Я знаю, глупый, — засмеялась Эмми. — Откуда же еще вы бы их взяли, если только не держите деньги в чулке. Но ведь банк — не золотая россыпь, из которой можно черпать золото пригоршнями, сколько бы ни понадобилось.
Септимус выколотил золу из трубки.
— К сожалению, соверены берутся не из золотых россыпей. Из тонны кварца можно добыть кусочек золота величиной вот с этот камушек. А бывает, что и вовсе ничего. Я как-то купил несколько акций золотого прииска, а золота там не оказалось вовсе. Прежде я всегда покупал такие вещи. Навяжет кто-нибудь, и я куплю. Как Моисей.
— Моисей?
— О, не пророк Моисей. Тот умел все добыть изо всего. Даже воду из камня. Я говорю о сыне векфилдского священника, который купил зеленые очки.
— А! — произнесла Эмми, которая ничего не знала об этом Моисее.
— А все же теперь я уже ничего не куплю, как бы мне ни навязывали вещь, — рассудительно продолжал он. — Должно быть, поумнел. А может быть, это оттого, что мне приходится заботиться о вас. Теперь я все вижу яснее.
Он набил и закурил вторую трубку и заговорил об Орионе, только что показавшемся из-за края утеса. Эмми, в тот момент больше интересовавшаяся землей, перебила его:
— Мне хотелось бы, чтобы вы одно себе уяснили, дорогой друг: я задолжала Вам уйму денег. Но я уверена, что по возвращении в Лондон найду себе какой-нибудь ангажемент и тогда расплачусь с вами по частям. Помните, я не успокоюсь, пока не верну вам всего вами истраченного.
— А я не буду знать покоя, пока не вернете, — нервно поморщился Септимус. — Пожалуйста, не будем говорить о таких вещах; честное слово, это меня обижает. Дайте же мне возможность, как говорят буддисты, «заслужить спасение».
Этот спор между ними часто возобновлялся. У Эмми были собственные небольшие средства, доставшиеся ей по наследству от отца, и перспектива скромного сценического заработка. Она рассчитывала, что этого хватит ей и ребенку. До сих пор Септимус был ее банкиром. Оба они не знали цены деньгам, а Септимус, к тому же, по-детски верил в волшебную силу выданного чека. Он был так же неспособен подсчитывать, сколько денег дал Эмми, как не стал бы считать, сколько рюмок виски выпил его гость.
Эмми ухватилась за его последние слова и, понизив голос, тоном женщины, давно уже смирившей свою гордыню, возразила:
— Неужели вы еще недостаточно сделали, мой дорогой, чтобы его заслужить? Неужели сами не видите, что мне нельзя столько от вас брать? Вы как будто считаете своей обязанностью заботиться обо мне и ребенке всю жизнь. Я была пустой, распущенной дурой — да, я это знаю — страшной была дрянью. Таких, как я, в Лондоне тысячи…
Септимус вскочил.
— Эмми, не надо! Я не могу этого вынести.
Она тоже встала и положила руки ему на плечи.
— Дайте мне высказаться хоть сегодня — в последний вечер перед разлукой. Это невеликодушно с вашей стороны — не выслушать меня.
Рыжая собака, потревоженная в своем сладком сне, отряхнулась, посмотрела на них с видом смиренного сочувствия и скромно удалилась в тень. Рыбаки на дамбе все еще тянули свою заунывную песню.
— Сядьте.
Септимус повиновался.
— Зачем вы себя мучаете?
— Чтобы отвести душу. И нож иной раз бывает полезен. Да, я знаю, что была страшной дрянью. Но все-таки я не такая уж и плохая. Ведь вы же видите, как все это для меня ужасно. Я должна вернуть вам ваши деньги и, конечно, больше уже ничего от вас не брать. Вы и так слишком много для меня сделали. Иной раз мне мучительно больно об этом думать. Я поступила так только потому, что страшно мучилась, с ума сходила — и схватилась за протянутую мне руку помощи. Теперь, когда я пришла в себя, мне нужно помнить, что я сделала.
— Но почему же? Почему? — допытывался Септимус, чувствуя себя глубоко несчастным.
— Ведь теперь вы не сможете жениться, если только не захотите пройти через отвратительную процедуру развода по обоюдному согласию.
— Милая моя, какая же женщина согласится выйти замуж за такого юродивого, как я?
— Нет женщины на свете, которая не должна была бы на коленях благодарить судьбу за то, что она послала ей такого мужа.
— Я все равно никогда бы не женился, — сказал он, успокаивающим жестом коснувшись ее руки.
— Почем знать? — Она тихонько усмехнулась. — В конце концов, и Зора тоже только женщина — такая же, как мы все.
— Зачем вы говорите о Зоре? При чем тут Зора?
— При всем. Думаете, я не знаю? Вы это сделали не для меня, а для нее.
Он хотел возразить, но она ладонью зажала ему рот.
— Дайте мне договорить!
Она говорила долго, очень ласково, очень умно. Лунный свет вселял тишину в ее сердце, смягчал звук ее голоса, придавая необычную размеренность и плавность речи.
— Я как будто стала на двадцать лет старше, — говорила она.
Ей хотелось высказать ему наконец всю свою признательность и попросить прощения за прежние обиды. Она была озлоблена, как затравленный зверек: то лизала ему руки, то царапалась. Но ведь в то время она еще не вполне отвечала за свои поступки. Иной раз она гнала его — но только ради него самого. А ей становилось так жутко, так страшно при одной только мысли, что она может его потерять!
— Другой мужчина, возможно, и сделал бы то же, что и вы, чтобы выказать себя рыцарем, но нет такого, который бы потом не презирал за это женщину. Я заслужила ваше презрение, но знаю, что вы не презирали меня. Вы относились ко мне точно так же, как и раньше. И это ободряло меня, помогая сохранить известное уважение к себе. Именно поэтому я цеплялась за вас и не могла вас отпустить. Теперь все прошло. Я вполне здорова, нормальна и счастлива, насколько вообще могу быть счастливой. С завтрашнего дня каждый из нас пойдет своей дорогой. Вы ничего больше не можете для меня сделать, а я… дорогой мой, бедный мой, милый! — не в моей власти сделать что-либо для вас. И потому мне хочется сегодня поблагодарить вас.
Она обняла его одной рукой и поцеловала в щеку. Септимус вспыхнул. Ее губы были такими мягкими, ее дыхание — таким сладостным. Ни одна женщина, кроме матери, его еще не целовала. Он повернулся и взял обе руки Эмми в свои.
— Разрешите мне принять это в награду за все. Ведь вы же хотите, чтобы я уехал отсюда счастливым?
— Дорогой мой, — сказала она с легкой дрожью в голосе, — если бы в моей власти было дать вам счастье, я бы сделала все на свете — разве что беби не согласилась бы бросить на съедение тигру.
Септимус снял шляпу и привел свои волосы в состояние нормальной перпендикулярности. Эмми смеялась.
— Боже мой! Что вы такое ужасное собираетесь сказать?
Септимус подумал.
— Если я буду обедать копченой селедкой на глубокой тарелке в гостиной, если моя постель не будет постлана в шесть часов вечера, а мой дом будет представлять собой нечто среднее между свиным закутом и лавкой торговца железным ломом, это никому не покажется странным, ибо все знают: Септимус Дикс — большой чудак. Но если женщина, которая в глазах всего света моя жена…
— Да, да, я вижу, — поспешно перебила его Эмми. — Я не смотрела на это с такой точки зрения…
— Мальчик пойдет в Кембридж, — продолжал он. — А потом я бы хотел, чтобы он попал в парламент. Они там в парламенте чертовски умны. Я встретил одного в Венеции, года три назад. Так чего он только не знал! Я провел как-то с ним вечерок, и он все время чрезвычайно интересно рассказывал любопытнейшие вещи о системе орошения в Барроу-ин-Фернесс. И откуда только люди набираются такой премудрости?
— Это доставило бы вам радость? — неожиданно спросила Эмми.
По ее тону он понял, что вопрос относится к предыдущему разговору, а не к его желанию побольше узнать о системах орошения.
— Конечно.
— Но чем же я смогу вам отплатить?
— Быть может, раз в год вы сможете расквитаться со мной так, как сегодня.
Наступила долгая пауза. Потом Эмми шепнула:
— Какая божественная ночь!..
16
Оправившись после болезни, Сайфер вернулся в Лондон, чтобы продолжать неравную борьбу с силами мрака, черпая, насколько это ему удавалось, вдохновение из писем Зоры. Воскресенья он проводил в Нунсмере, отдыхая в этом мирном уголке, пропахшем лавандой. Миссис Олдрив продолжала считать его выдающимся человеком. Кузина Джен, как и подобает женщине аристократического происхождения, принимала его любезно, но с оттенком сдержанности, предписываемой законами света аристократке в общении с безродным выскочкой. Если бы она не вела принципиальную борьбу с человеческими недостатками и несовершенствами, то сразу бы просто отвергла Сайфера, потому что он был другом Зоры, а Зора ей совсем не нравилась: но она была добросовестной женщиной и очень гордилась тем, что умеет бороться с предрассудками. Кроме того, она собирала старинную оловянную посуду, которой Сайфер интересовался еще в те времена, когда занимался самообразованием, смутно предполагая, что тем самым приобщается к истории культуры. Всякое знание полезно человеку — от теории стихосложения до умения вырезать бумажную бахрому для окорока. Рано или поздно оно наверняка пригодится. Один знаток средне-африканских наречий, например, нашел их весьма подходящими для пререканий с извозчиками, а обращенный на путь добра вор стал превосходным управляющим. И то, что Сайфер считал ненужным хламом, которым он напрасно забивал свою голову, пригодилось ему теперь, скрепив, или, вернее, спаяв, его дружбу с кузиной Джен.
Однако в крем эта леди не верила, о чем и заявила ему напрямик. Она воспитана на вере во врачей, в катехизис, в палату лордов, в неравенство полов, в доблести рода Олдривов, и в этой вере будет жить и умрет, а других ей не надо. Сайфер не рассердился на нее за это: она ведь не позволила себе назвать крем шарлатанским средством. И на том спасибо — он приучал себя довольствоваться малым.
— Может быть, он в своем роде и хорош, — говаривала кузина Джен, — точно так же, как либерализм, дарвинизм и еда в ресторанах. Но все это не для меня.
Разговоры с кузиной Джен были для Сайфера невинным развлечением.
Миссис Олдрив предпочитала говорить о погоде и о том, какие блюда любили Зора и Эмми, когда были еще маленькими, — темы сами по себе интересные, но не дающие материала для долгих бесед. А кузина Джен больше всего любила спорить. У нее были свои взгляды, которые она высказывала и отстаивала. И разве только раздавшийся с небес глас самого Иеговы, появившегося на облаках во всей славе своей, мог убедить ее, что она ошибается. Да и то ей было бы неприятно сознаться в своей ошибке. Она решительно не одобряла брак Эмми с Септимусом, которого упорно продолжала называть тихим идиотом. Сайфер горячо защищал своего друга. Он защищал и Вигглсвика, который своей неряшливостью и дурными привычками приводил добродетельную леди в неописуемое негодование. Она видела в нем едва ли не антихриста.
— Помяните мое слово, он когда-нибудь зарежет их обоих спящими.
О Зоре она также отзывалась весьма неодобрительно.
— Я не из тех, кто считает, что женщина непременно должна быть замужем, но если уж она без мужа не может вести себя прилично, пусть лучше выходит замуж.
— Но ведь поведение миссис Миддлмист безупречно.
— Безупречно? По-вашему, это безупречно — таскаться по свету одной, водясь невесть с кем, неизвестно где бывая и что делая, и проводить жизнь в праздности, не имея времени даже заштопать себе чулки? Что же это — так и полагается жить молодой женщине из хорошей семьи и с наружностью Зоры? Да уж одни ее костюмы должны обращать на себя внимание всюду, где бы она ни появилась. Теперь это называется «стильно» — так одеваться; в мое же время считалось просто нескромным. В мое время, когда молодой женщине приходилось путешествовать одной, она старалась казаться по возможности незаметной. Зоре очень нужен муж, чтобы присмотреть за ней. Тогда она могла бы делать все, что ей нравится, или что ему нравится, и это было бы для нее гораздо лучше.
— Я имею честь пользоваться доверием миссис Миддлмист, — возразил Сайфер, — и она говорила мне не раз, что больше никогда не выйдет замуж. Ее замужество…
— Вздор и чепуха! Погодите, пусть только явится мужчина, который решит на ней жениться, — и она сдастся. Только это должен быть большой и сильный человек, который не станет слушать глупости, а просто возьмет ее за плечи и хорошенько встряхнет. И она тотчас же уступит и выйдет за него замуж. Еще посмотрим, чем кончится ее поездка в Калифорнию.
— Надеюсь только, что Зора не выйдет за кого-нибудь из этих ужасных наездников с лассо в руках, — вздохнула миссис Олдрив, смутное представление которой о Калифорнии основывалось на еще более смутных воспоминаниях о выставке «Дикого Запада», увиденной ею много лет назад в Лондоне.
— А я надеюсь, что миссис Миддлмист совсем не выйдет замуж, — встревоженно закончил Сайфер.
— Почему? — сердито фыркнула кузина Джен.
Сайфер ответил не сразу:
— Я потерял бы друга.
— Гм!
Если бы покойный Лоренс Стерн[9] знал кузину Джен, его роман о Тристраме Шенди обогатился бы новой главой, озаглавленной «Гм». Он сумел бы проанализировать различные значения этого маленького междометия с тонкостью, недоступной Клему Сайферу, в ушах которого, однако, долго еще отдавался иронический возглас кузины Джен. Он что-то означал, и притом что-то неприятное. Возглас был адресован непосредственно ему, Клему Сайферу, и в то же время словно суммировал в себе все предыдущие неодобрительные высказывания кузины Джен о Зоре. «Кой черт! Что она хочет этим сказать?» — спрашивал он себя.
Сайфер каждую неделю приезжал в Нунсмер. Свой дом в Килбернском приходе он сдал в аренду, а так называемый Курхауз продал. И обзавелся маленькой холостяцкой квартиркой в Лондоне, где и проводил свои рабочие дни. Автомобиль также пришлось продать: теперь он ограничивал себя во всех личных расходах, а деньги, вырученные от продажи дома и автомобиля, пошли на рекламу, с помощью которой Сайфер боролся со своими конкурентами. То были дни, полные забот и неотвязных сомнений, скрашиваемые только весточками от Зоры, которая писала ему милые ободряющие письма. Эти письма Сайфер носил с собой как талисман.
Иной раз ему трудно было поверить в то, что созданное им дело, которое прежде так успешно развивалось, находится на краю гибели. Работа на фабрике шла по раз навсегда заведенному порядку, в том же темпе, что и пять лет назад, когда крем был еще на высоте своей популярности. В приятно пахнущей лаборатории, блистающей белым кафелем и медными ретортами, рабочие в белых передниках сортировали, взвешивали и варили по фирменному рецепту пучки трав, ежедневно привозимых и складываемых в шкафы со множеством отделений, тянувшиеся вдоль стен.
В кипятильниках, от которых пахло не так приятно, пузырился в огромных котлах горячий жир, стекавший отсюда в холодильники густой белой массой, из которой и готовили знаменитый крем. Дальше была другая лаборатория, лаборатория — огромная, сверкающая чистотой; здесь целебный сок трав смешивали с кремом и различными аптечными снадобьями. Затем шли мастерские, где сидевшие за столами девушки наполняли целлулоидные коробочки, деля между собой труд: одна накладывала нужное количество крема, другая лопаточкой снимала лишнее, сглаживая душистую массу вровень с краями коробочки; третья закрывала ее крышкой и т. д., пока, наконец, последняя работница не ставила подле себя ряды коробочек с готовым кремом, чтобы потом отнести их в упаковочное отделение. Упаковочные сараи были полны больших и малых деревянных ящиков, в которых крем рассылали во все концы земного шара. Некоторые из них были еще пусты, другие наполнены доверху, третьи стояли уже заколоченные, дожидаясь, пока носильщики отнесут их на станцию погрузки. На станции, как при вавилонском столпотворении, смешались всякого рода звуки: стук молотков, скрип тачек, тяжелый конский топот за открытыми настежь дверьми сарая, где лошади, запряженные в огромные телеги, нетерпеливо позвякивали упряжью; непрерывная беготня мускулистых парней в грубых холщовых передниках, запыленных, с огрызками карандашей в руках, блокнотами и накладными, что-то все время подсчитывающих, записывающих и докладывающих другим людям, сидящим в узких стеклянных кабинках у стены. Снаружи ждали огромные фургоны, нагруженные обитыми железом деревянными ящиками, на крышках которых было выведено «Крем Сайфера».
Каждая деталь этой сложной системы была знакома Сайферу, как кухонная посуда в кухне его повару. Он сам все это придумал, организовал и наладил. Каждый шаг любого человека на этой фабрике — от ученого фармацевта, надзиравшего за приготовлением крема, до юркого мальчишки, бегавшего с поручениями из одной мастерской в другую, — был предусмотрен им, обдуман в его голове. Усовершенствование этого живого механизма постоянно интересовало владельца фабрики, и он мог с гордостью сказать, что довел его до совершенства.
День за днем обходил он свои мастерские, приглядываясь и прислушиваясь к знакомым картинам и звукам, то тут, то там с удовольствием останавливаясь, как хозяин-садовод в своем саду, чтобы коснуться любимого растения или порадовать свой взор красотой какого-нибудь редкого цветка. Все здесь было бесконечно дорого ему. Он не мог даже вообразить себе, что эти печи когда-нибудь остынут, котлы опустеют, ворота — закроются навсегда, и два волшебных слова, огнем горевших на деревянных ящиках, — исчезнут навсегда с людских глаз. Это казалось Сайферу немыслимым и невозможным. Его фабрика представлялась ему такой же вечной, как солнечная система или Английский Банк. И все же он слишком хорошо знал, что ей грозит катастрофа, и в душе его жила горестная уверенность, что вечное может стать преходящим. Постепенно он сокращал число рабочих и размеры производства. Два длинных стола, за которыми раньше плотно сидели работницы, уже опустели.
То же самое происходило и в его комфортабельной конторе на Маргет-стрит. С каждой неделей число заказов уменьшалось и соответственно сокращался штат служащих. Управляющий конторой ходил мрачный. В кабинет Сайфера он входил на цыпочках и говорил с ним не иначе, как шепотом, пока тот не обратил внимание на его унылый вид.
— Если вы еще раз явитесь ко мне с таким похоронным лицом, я зарыдаю.
В другой раз Шеттлворс сказал:
— Мы тратим слишком много денег на рекламу. Дело не стоит того.
Держа в руке синий карандаш, Сайфер повернулся к нему, оторвавшись от чтения корректуры рекламных листков, приколотых к стене конторы. Это было его любимое занятие — составлять и корректировать рекламные объявления. Ему особенно нравилось, когда мимо проезжали омнибусы с рекламными щитами, на которых гигантскими красными буквами было выведено: Крем Сайфера.
— Мы будем тратить вдвое больше, — заявил он с видом капитана — участника гонок на Миссисипи, который в ответ на предупреждение инженеров, что котлы могут не выдержать давления, приказывает мальчишке-негритенку усесться на крышку предохранительного клапана.
Грустный управляющий возвел очи горе с видом старого дворецкого в хогартовом «Модном браке»[10].
Он не обладал наполеоновской душой своего шефа, к тому же у него была жена и куча ребятишек. Клем Сайфер также не забывал об этом — о жене и детях не только Шеттлворса, но и других своих многочисленных служащих. И такие мысли не давали ему спать по ночам.
Однако в Нунсмере самый воздух действовал на него успокаивающе; там он спал мертвым сном, несмотря на грохот и свистки поездов, которые проносились мимо его лужайки, внося шум и тревогу в затишье мирной деревушки. Сайфер прикипел душой к этому тихому уголку, где стихало его лихорадочное возбуждение. Как только он выходил на платформу в Рипстеде, словно чья-то прохладная рука касалась его лба и прогоняла заботы, от которых мучительно бились жилки на висках. В Нунсмере он жил такой же простой и тихой жизнью, как и все остальные. Бродил по выгону, как Септимус, и подружился с хромым осликом.
По воскресеньям ходил в церковь, сначала из любопытства — Сайфер не был атеистом, но не привык и к исполнению религиозных обрядов — потом из-за того, что сельское богослужение успокаивало его нервы. Отличаясь врожденной добросовестностью, он слушал серьезно и благоговейно, точно так же, как тщательно изучал произведения великого поэта, недоступного его пониманию, и вообще с уважением относился к человеческому вдохновению. Даже заявления викария, касавшиеся местных дел, и оглашение имен вступающих в брак выслушивал с большим вниманием. И то, что он с таким напряженным интересом внимал проповеди, иной раз льстило скромному викарию, а иногда тревожило его, — когда он сам чувствовал, что доводы его неубедительны. Но Сайфер не осмелился бы вступить с ним в богословский спор. Он слушал проповедь так же, как церковные гимны, которым охотно подпевал. Неизменно он после обедни провожал домой миссис Олдрив и кузину Джен. Последняя не разделяла его деликатного отношения к церковным делам. Она разрывала в клочки теологические построения викария и разбрасывала эти клочки по дороге.
Литератор из Лондона, заглянувший к ним в одно из воскресений, отозвался о ней с иронией:
— Она говорит так авторитетно, как будто у нее родственница замужем за одним из высших небесных сановников и время от времени конфиденциально сообщает ей самые точные сведения с неба.
Сайферу нравился Раттенден, умевший сформулировать в нескольких словах его собственные неоформленные мысли. И еще потому, что он принадлежал к тому миру, где Сайфер был чужим — к миру книг, театра, знаменитостей и теорий искусства. Сайфер полагал, что обитатели этого мира ближе к небесам, чем остальные люди.
— Да, — смеялся Раттенден, — там атмосфера настолько разрежена, что даже вода в котелке не может закипеть как следует. Потому-то на литературных собраниях и подают всегда холодный чай. Уверяю вас, мой друг, там довольно-таки скверно. Весь день говорят и всю ночь ничего не делают. Оборванный итальянец, стоящий перед фресками деревенской церкви или сидящий на последнем ряду галерки в оперном театре маленького городка, знает куда больше о живописи и музыке, чем любой из нас. В моем мире все фальшиво и полно пустословия. И все же я люблю его.
— Тогда зачем же вы его браните?
— Потому что он развратен, а разврат и сердит нас и привлекает в одно и то же время. Вы никогда не знаете, как отнестись к развратной женщине. Вам известно, что у нее нет сердца, но губы у нее — такие алые! Вас тянет к ней, хотя вы и знаете, что вся она ненастоящая. Таков и наш мир. Его взгляды — сплошное издевательство над здравым смыслом. Что благороднее — копать картофель или рисовать человека, копающего картофель? Вас будут клятвенно заверять, что предпочтительнее второе, поскольку крестьянин, копающий картофель — такой же ком земли, как и те комья, которые он разрыхляет, а художник — это частица неба. Вы знаете, что вам говорят вздор, и все же в него верите.
Парадоксы литератора из Лондона не убеждали Сайфера. Он по-детски верил, что романисты и актеры — существа высшего порядка. Раттендена пленяла эта аркадийская наивность[11], и он охотно проводил время с Сайфером. По воскресеньям после обедни они подолгу гуляли вместе.
— В конце концов, — говорил Раттенден, — я могу без обиняков высказывать свои суждения об этом мире. Я — пария среди своих.
Сайфер осведомился:
— Почему?
— Потому что не играю в гольф. В Лондоне нельзя прослыть настоящим писателем, не играя в гольф.
Сайфер умел слушать. А литератор из Лондона любил поговорить, любил изловить какую-нибудь теорию, подержать ее в руках, как трепетно бьющуюся пойманную птичку, а затем отпустить. Сайфер восхищался гибкостью его ума.
— Вы жонглируете идеями, как акробат шарами.
— Это игра, которой я научился. Очень полезная игра. Она снимает с ваших плеч докучную заботу о том, как добыть хлеба и масла для своей жены и пятерых детей.
— Хотел бы я научиться у вас этой игре. У меня много ясен и детей, у которых не будет хлеба с маслом, если я им не дам.
Чуткий слух Раттендена уловил в его голосе нотку уныния. Он дружески усмехнулся.
— А вы приглядитесь, как это делается. Тоже не мешает. Когда вам станет скучно в Лондоне, загляните ко мне. Мы с женой покажем вам эту игру. Она у меня занятная — не знаю, как бы я выбился в люди без нее. А крем ваш она обожает.
Таким образом они и подружились. Со времени неудачного лечения собственной пятки Клем Сайфер отучился от своей манеры трубить всем и каждому в уши о своем креме. Вечно опасаясь как бы кто-то снова не назвал его детище шарлатанским средством, он присмирел и говорил теперь о путешествиях, людях, вещах — о чем угодно, только не о креме. Сайфер предпочитал слушать, а так как Раттенден предпочитал говорить, им было легко разговаривать. Раттенден забавно рассказывал анекдоты, и у него был огромный запас наблюдений, который он называл «сырым материалом». К коллекционеру, в силу какого-то неведомого закона притяжения, всегда тянутся те предметы, которые он собирает. И всюду, где бы ни появлялся Раттенден, он находил нужное ему, так же как приятель Септимуса — старинную оловянную посуду. Не было разговора поблизости от него, который бы он не поймал на лету. И мало было происшествий в литературном или театральном Лондоне, весть о которых не дошла бы до Раттендена. Он мог бы разрушить немало семейных очагов и подорвать не одну репутацию. Но, как человек воспитанный, он не разглашал того, что знал, и, как истинный артист, рассказывая анекдоты, был весьма разборчив в выборе материала. Очень редко случалось, чтобы он передавал какую-нибудь сплетню ради нее самой; если же он это делал, то умышленно и с определенной целью.
Однажды вечером они обедали вместе в клубе Сайфера — большом, с политическим уклоном клубе, членами которого состояло до тысячи человек. Они уселись за отдельным столиком в углу столовой, украшенной портретами во весь рост важных государственных деятелей. Сайфер с довольным видом развернул свою салфетку.
— Я получил приятное известие. Миссис Миддлмист едет домой. Она уже в пути.
— Вы пользуетесь привилегией быть ее другом, — сказал Раттенден. — Вам можно позавидовать.
В его тоне и манерах еще сохранилось что-то от студенческих традиций. У него были темно-каштановые с проседью волосы, висячие усы и на носу — пенсне на широком черном шнурке. Он был очень близорук, и сквозь толстые стекла очков глаза его казались лишенными всякого выражения.
— Зора — Миддлмист, — заметил он, выжимая лимон на устрицу, — великолепное создание, которым я искренне восхищаюсь. Но так как я никогда не упускаю случая напомнить ей, что она, будучи высокоодаренной натурой, зря тратит свою жизнь, она не жалует меня своими милостями.
— Что же, вы полагаете, ей бы следовало делать со своей жизнью?
— Всегда трудно и щекотливо обсуждать поступки женщины с другим мужчиной, особенно, когда… — Он сделал красноречивый жест. — Но я ведь литератор, написал два-три романа, посвященных анализу женской души, так что могу судить вполне компетентно. Дело в том, что как художник не может правильно нарисовать задрапированную фигуру, если не знает анатомии и ясно не представляет себе скрытое под драпировкой тело, так и романист не в состоянии правдиво и жизненно изобразить женский характер, не учитывая всех скрытых физиологических пружин, управляющих поступками той или иной женщины. Он должен хорошо понимать, насколько в ней сильны инстинкты пола, хотя ему и нет надобности выставлять их напоказ в своем произведении, как не обязательно для художника подчеркивать анатомическое строение тела своей модели. Анализируя же выдуманные женские образы, усваиваешь привычку анализировать и реальных женщин, которыми интересуешься, — вернее, невольно их анализируешь. — Он помолчал. — Я уже говорил вам, что это очень щекотливый вопрос. Вы понимаете, к чему я клоню? Зора Миддлмист скитается по всей земле, как Ио[12], гонимая оводом своего темперамента. Она ищет красоты, полноты, смысла жизни. А в действительности она ищет любви, и только любви.
— Не верю, — сказал Сайфер.
Раттенден пожал плечами.
— И все-таки это правда. Но только Зора ищет большой любви к большому человеку — яркого тропического солнца, под лучами которого вся она расцвела бы пышным цветом. Маленькие люди ее не волнуют. Она притягивает их, они кружатся вокруг нее — такие женщины всех притягивают — но сама она проходит мимо, высоко неся голову, и, как богиня, не замечая их. Она ищет большого человека, достойного ее любви. Забавно и трогательно во всем этом то, что она так же невинна и так же не сознает, чего хочет, как цветок, раскрывающий свой венчик, не сознает, что он раскрывает его для пчелы, которая принесет ему на крыльях частицу оплодотворяющей цветочной пыльцы. Мне, конечно, случалось и ошибаться. Но в данном случае я сужу верно.
Он торопливо принялся за свой суп, который уже успел остыть.
— Вы часто сталкиваетесь с женщинами и изучали их, — заметил Сайфер. — А я — нет. Я был помолвлен с одной девушкой, но пылких чувств не замечалось ни с одной стороны. Она вернула мне кольцо, потому что мне больше нравилось сидеть в своей лаборатории, чем в гостиной ее мамаши, держа руку девушки в своих руках; без сомнения, она была права. Это произошло в самом начале моих опытов с кремом. С тех пор я был поглощен одной идеей, которой отдавал всю свою душу и силы, так что женщинами почти не интересовался. Случалось иной раз, конечно…
— Понимаю. Мимолетные увлечения. На пиру жизни без этого не обойтись: съешь и забудешь.
Сайфер одобрительно кивнул головой: ему нравилось, что литератор из Лондона все умеет облечь в изящную форму. Ничего не ответив, он молча ел рыбу, почти не ощущая ее вкуса; мысли его витали где-то далеко за морем, подле Зоры Миддлмист. В сердце Сайфера поднималась безумная ревность и ненависть к «большому человеку», которого она ищет в чужих странах. Румяное лицо его стало багровым.
— Эта рыба превосходна, — одобрил блюдо Раттенден.
Сайфер вздрогнул, смутился и стал хвалить повара и говорить о кушаньях, но мысли его были с Зорой. Ему вспомнилось признание Септимуса Дикса в Париже. Того также захватило неотразимое притяжение. Септимус любил Зору, но он был маленьким человеком, и она, как сказочная фея, прошла мимо, не заметив его. Гастрономический разговор не клеился. Неожиданно Раттенден сказал:
— Один из самых загадочных женских поступков, над которыми я ломал себе голову в последнее время, — это брак ее сестры с Септимусом Диксом.
Сайфер положил на стол нож и вилку.
— Как странно, что вы заговорили об этом. Я как раз думал о нем.
— А я — о ней. У нее темперамент миссис Миддлмист без ее силы воли — пол без характера. Вчера я слышал о ней одну вещь, весьма любопытную.
— А именно?
— Одна из тех вещей, которые нельзя передавать.
— Скажите мне. У меня есть основания просить вас об этом. Я убежден, что тут есть обстоятельства, о которых ни мать миссис Дикс, ни ее старшая сестра ничего не знают. Я честный человек, и вы можете мне доверять.
— Ладно, — сказал Раттенден. — Слышали вы когда-нибудь о некоем Мордаунте Принсе? Да, актер, — и очень популярный, но страшный негодяй — позор для сцены. Он играл первые роли в том театре, где последнее время работала мисс Олдрив. Их чуть ли не каждый день видели вместе. Об этом много сплетничали.
— Злые языки немилосердны.
— Если милосердие, как гласит пословица, покрывает множество грехов, то немилосердие имеет то преимущество, что открывает скрытые грехи, — в том числе и тот, о котором я вам сейчас поведаю. За два-три месяца до свадьбы Эмми она и Мордаунт Принс провели вместе около недели в одном отеле в Тенбридж-Белс. Это абсолютно достоверно. Они приехали и уехали на автомобиле. А за неделю до того, как Дикс увез мисс Эмми, газеты сообщили, что Мордаунт Принс обвенчался с миссис Моррис — старухой Сол Морис, вдовой ростовщика.
Сайфер смотрел на своего собеседника во все глаза.
— Что ж, дело самое обычное, — цинично усмехнулся Раттенден. — Я только удивляюсь тому, что Калипсо столь быстро утешилась после отъезда Улисса[13] и при этом избрала утешителем такого мечтателя и человека не от мира сего, как наш приятель Дикс. А конец истории Мордаунта Принса следующий: вдове он скоро надоел, и она сплавила его, положив ему небольшую пенсию. Теперь он пьет горькую где-то в Неаполе.
— Эмми Олдрив? Боже мой! Возможно ли? — воскликнул Сайфер, рассеянно отодвигая блюдо, которое ему подавал лакей.
Раттенден, тщательно выбрав кусок, положил себе на тарелку куропатку и салат из апельсинов.
— Не только возможно, но несомненный факт. Видите ли, — снисходительно пояснил он, — так или иначе, но все, что случается с лондонцами, рано или поздно доходит до меня. Дама, которая сообщила мне это, жила в том отеле. И я абсолютно ручаюсь за ее правдивость.
Сайфер молчал. Просторная столовая с портретами во весь рост государственных мужей куда-то исчезла, и перед ним был узенький парижский переулок, один тротуар которого заливало солнцем, а другой оставался в тени. А на теневой стороне, за железным столиком, сидел смуглый нагловатый зуав и рядом с ним Септимус Дикс — нерешительный, бледный, с грустным выражением словно бы выцветших голубых глаз. Внезапно Сайфер опомнился и, больше для того, чтобы скрыть недостаток самообладания, чем потому, что ему хотелось есть, подозвал лакея и взял себе кусок куропатки. Затем посмотрел на своего собеседника и строго спросил:
— Полагаю, вы постараетесь, чтобы эта история не пошла дальше?
— Я уже счел своим долгом принять кое-какие меры.
Сайфер налил ему вина.
— Надеюсь, вам по вкусу этот редерер. Это единственное хорошее вино в погребе нашего клуба и, к сожалению, его осталось всего несколько бутылок. У меня было семь дюжин той же марки в моем собственном погребе в приходе, пожалуй, даже более выдержанного. Пришлось продать и его вместе с остальным. Мне это было очень неприятно. Шампанское — единственное вино, которое я признаю. Было время, когда оно казалось мне символом недосягаемого. Теперь, когда я могу пить его, когда захочу, по всем законам философии оно должно было бы утратить для меня всякую привлекательность. Но неизвестно почему, я не страдаю расстройством душевного пищеварения настолько, чтобы стать философом, и сохранил вкус к шампанскому просто из благодарности к судьбе.
— Всякий разумный человек, — глубокомысленно заметил Раттенден, — может осуществить свои мечты. Но нужно кое-что побольше разума, чтобы радоваться их осуществлению.
— Что же именно?
— Сердце ребенка. — Раттенден загадочно улыбнулся, пряча глаза под толстыми стеклами пенсне, и прихлебнул из своего бокала. — Действительно, превосходное вино.
У подъезда клуба Сайфер простился со своим гостем и в глубокой задумчивости отправился домой, на свою новую квартиру в Сент-Джеймс-стрит. Впервые за все время знакомства с Раттенденом он был рад уйти от него. Ему хотелось остаться одному. Он пережил чуть ли не потрясение, убедившись, что в окружающем его мире происходят, почти под носом у него, незамеченные им события, столь же достойные внимания великих богов, как борьба между кремом Сайфера и мазью от порезов Джебузы Джонса. Завеса жизни на миг отдернулась, обнажив перед ним ее тайны, сокрытые от взора смертного. Он заглянул в самую глубь сердца Септимуса Дикса и понял, что тот сделал и почему.
Зора Миддлмист прошла мимо Септимуса, как королева, не заметив его. Но человек он был не маленький — о, далеко не маленький! Зора Миддлмист с горделивой небрежностью прошла и мимо него, Клема Сайфера…
Его комнаты показались ему холодными и неуютными — случайное, неприветливое пристанище одного из малых мира сего. Он осторожно помешал угли в камине, почти боясь нарушить холодное безмолвие стуком щипцов о прутья решетки. На коврике у камина стояли приготовленные для него комнатные туфли. Он надел их и, отперев письменный стол, вынул из ящика письмо, полученное утром от Зоры.
Для вас, — писала она, — я желаю победы по всему фронту — апофеоза крема Сайфера на земле. А для себя — сама не знаю, чего я хочу. Не скажете ли вы мне?
Клем Сайфер уселся в кресло у камина и глядел в огонь до тех пор, пока пламя не погасло. Впервые он тоже не знал, что ему все-таки нужно.
17
Последующие дни были омрачены гнетущей тревогой, и Сайферу некогда было раздумывать о пределе своих желаний. В главной конторе на Маргет-стрит трудился ученый эксперт, распространяя вокруг себя уныние, присущее статистике и цифрам. Выводы его были неутешительны. Если не случится чудо, дело обречено на гибель.
Хорошо было капитану сажать негритенка на предохранительный клапан, зная, что до конца пути уже недалеко. При таких условиях котел вполне мог выдержать давление. Но предполагать, что можно сидеть до скончания века на предохранительном клапане без всякой опасности для себя и корабля, — в этом случае нужно быть оптимистом, каких не встретишь в нашем неверном мире, дающем нам столь печальный опыт. Крем Сайфера явно не выдерживал все возрастающих рекламных расходов. Шеттлворс находил для себя горькое утешение в том, что сбывалось его пророчество.
Попробовали сбавить цену, но и это не привело к увеличению заказов. Джебуза Джонс также снизил цену на свою мазь и продавал ее еще дешевле крема. За последний год Сайфер выдал уже две закладные на свою фабрику в Бермондсее. Все его деньги были выброшены зря: люди имели глаза и не видели, имели уши и не слышали, простого и ясного призыва Друга человечества: «Попробуйте крем Сайфера!»
Шеттлворс попытался убедить патрона в том, что нет необходимости тратить такую уйму денег на производство крема. До сих пор все материалы, из которых приготовлялась эта божественная мазь, были первого сорта и самого высокого качества. Но ведь можно использовать второсортное сырье: это не умалит достоинств крема, а стоить он будет значительно дешевле. Так говорил Шеттлворс. Однако, выслушав его совет, Сайфер воспылал священным гневом, как будто ему предлагали совершить святотатство.
Тем не менее и он понимал, что для спасения предприятия необходимы радикальные реформы. Сайфер не спал ночей, строя грандиозные планы, но при холодном свете утра всякий раз находил в них слабые места, сводящие на нет всю их ценность. Это его бесило. Казалось, он утратил точность глаза. Что-то странное и жуткое с ним творилось — он сам не знал, что именно. Не то, чтобы ослабла его умственная сила, его энергия или решимость победить во что бы то ни стало и вернуть крему прежнее положение на рынке. Тут было что-то иное, более тонкое и нематериальное. Он не мог забыть о собственной неизлеченной пятке. Легкое сомнение, навеянное словами Септимуса о неверии Зоры Миддлмист в целебность его крема, засело где-то в мозгу и незримо творило свою разрушительную работу. И все же он старался верить, отчаянно цепляясь за ускользающую веру. Если откровение было ложным, если он не посланец Божий, — ведь тогда он — несчастнейший из людей.
Никогда еще Клем Сайфер не радовался так Нунсмеру, как в субботний вечер, когда экипаж свернул с большой дороги на проселочную и его взору открылся выгон. Бледная лазурь и жемчуг неба, легкая дымка тумана, смягчающая яркие краски осени на листве деревьев, серая башенка маленькой церкви, красные крыши коттеджей, задумчиво стоящих в старомодных садах, спокойная зелень выгона, дети, играющие на нем, и хромой ослик, наблюдающий за ними с тихой радостью философа, — все это было отрадой для усталых глаз и души.
— Не хватает только одной фигуры на лугу — ее, идущей мне навстречу, — подумал Сайфер. И тут же ему пришла в голову мысль: если бы она была здесь, видел бы я что-нибудь, кроме нее?
В Пентон-Корт у дверей его встретила служанка.
— Сэр, вас дожидается мистер Дикс.
— Мистер Дикс? Что вы! Где же он?
— В гостиной, сэр. Он уже часа два ждет.
Сайфер, очень обрадованный, сбросил ей на руки шляпу и пальто и поспешил приветствовать нежданного гостя. Он нашел Септимуса сидящим в полумраке у французского окна, которое выходило на лужайку. Молодой человек вписывал в свою записную книжку какие-то сложные вычисления.
— Дикс! Дорогой! — Сайфер крепко сжал его руку и похлопал по плечу. — Я страшно рад — больше чем рад. Что вы тут делали?
Септимус показал ему записную книжку.
— Пытался решить вопрос: возрастают расходы на воспитание мальчика с того дня, как он начинает кормиться из рожка, и до того, как оканчивает университет, в арифметической или геометрической прогрессии?
— Это зависит от его пристрастия к жизненным благам, — засмеялся Сайфер.
— Боюсь, что тот мальчуган, которого я имею в виду, будет очень расточителен. Когда у него чешутся зубки, он грызет итальянскую резную статуэтку пятнадцатого века из слоновой кости, изображающую Иоанна Крестителя, — я приобрел ее случайно: зашел в магазин купить кошелек, а мне всучили это — и воротит носик от кораллов и четок. И было бы еще что воротить! В жизни своей не видел у ребенка такого крошечного носика. Я изобрел машинку для его удлинения, но мать не позволяет мне ее испытать.
Сайфер выразил сочувствие миссис Дикс и осведомился о ее здоровье.
— Недурно. Она провела несколько недель в Оттето-сюр-Мер, в Нормандии, и это пошло ей на пользу. Теперь она в Париже, под крылышком мадам Боливар, и останется там до тех пор, пока ей не захочется вернуться в свою квартиру в Челси, из которой жильцы уже выехали.
— А вы?
— А я бросил, наконец, свой отель Годе и вернулся сюда, в Нунсмер. Может быть, потом, когда вернется Эмми, я сдам этот дом, заберу Вигглсвика и перееду в Лондон. Она обещала подыскать и для меня уютную квартирку. Женщины, знаете, это умеют — находить квартиры и устраиваться.
Сайфер предложил ему сигару. Септимус закурил, неловко держа ее кончиками длинных нервных пальцев, пальцы же другой руки излюбленным своим жестом запустил в волосы.
— Я подумал, — нерешительно пояснил он, — не зайти ли мне к вам, прежде чем идти в усадьбу. Там придется отвечать на вопросы, что-то объяснять. Моя жена и я — у нас чудеснейшие отношения: мы большие друзья, но вместе нам жить невозможно. Во всем, разумеется, виноват я. Разве со мной кто уживется? У меня, знаете, невозможный характер: я резкий, грубый, сухой человек, вообще неприятный в совместной жизни. И для ребенка это не полезно. Мы страшно ссоримся, т. е. Эмми не ссорится…
— Из-за чего? — серьезно спросил Сайфер.
— Из-за любого пустяка. Понимаете, если я требую, чтобы мне подали завтрак за час до обеда, это же вносит беспорядок в хозяйство. И потом эта машинка для удлинения носа и прочие мои изобретения, относящиеся к ребенку, — ведь это может убить его. Возьмите на себя труд объяснить им все это; скажите, что наш брак — ужасная ошибка со стороны бедной Эмми и что мы решили жить врозь. Вы сделаете это для меня? Вы мне не откажете?
— Не могу сказать, чтобы это доставляло мне удовольствие, — очень огорчен такой новостью. Нечто подобное я заподозрил еще раньше, когда встретил вас в Париже. Но постараюсь, как можно скорее, повидаться с миссис Олдрив и все ей объяснить.
— Благодарю вас. Вы не знаете, какую огромную услугу мне оказываете!
Септимус вздохнул с облегчением и снова закурил сигару, погасшую за время их разговора. Наступило молчание. Гость мечтательно разглядывал деревья на знаменитой лужайке, выходившей к железнодорожному пути. Под вечер туман сгустился и тяжелыми клочьями повис на деревьях, небо стало свинцовым. Сайфер смотрел на Септимуса, глубоко взволнованный, готовый закричать, что он все знает и не верит детской выдумке о дурном характере своего друга и его небывалой черствости. Всем сердцем он рвался к этому человеку, одиноко живущему на высотах, недоступных простому смертному. Его переполняла жалость к нему, граничащая с благоговением. Возможно, Сайфер преувеличивал, но он ведь был идеалистом. Ему и крем казался солнцем на его небосклоне, и Зора — путеводной звездой.
Темнело. Сайфер позвонил и велел принести лампу и чай.
— Или вы, может быть, хотите позавтракать? — смеясь, спросил он.
— Я только что поужинал. Вигглсвик ухитрился отыскать в буфете кусок сыра, но я его зарыл в саду. — Улыбка скользнула по лицу Септимуса, как бледный луч света по воде в пасмурный день. — Вигглсвик глух. Он не услышал.
— Мошенник он у вас и лодырь. Зачем только вы его держите?
Септимус поправил языком свесившийся конец сигары — он так и не научился как следует держать сигару во рту — и в третий раз закурил ее.
— Вигглсвик мне полезен, — возразил он. — Он помогает мне оставаться человеком, а то я могу превратиться в машину. Ведь я живу среди машин. Я много работал эти месяцы над новой пушкой — вернее, над старой своей пушкой. Это теперь будет скорострельное полевое орудие. Идею мне подсказал мною же изобретенный оптический прибор. Описание у меня в кармане, а модель — дома. Я привез ее с собой из Парижа.
Он вытащил из кармана свернутую в трубку тетрадь и принялся ее разглаживать.
— Мне бы хотелось показать это вам. Хотите?
— Я чрезвычайно заинтересован.
— Видите ли, я все время что-нибудь изобретаю. Это происходит помимо моей воли — такой уж уродился. Но рано или поздно я всегда возвращаюсь к пушкам. Не знаю, почему. Надеюсь, вы больше не пытались навязать кому-нибудь мои морские пушки большого калибра? Я потом все тщательно продумал, проверил и пришел к убеждению, что та идея неосуществима.
Он беспечно улыбался, хотя потратил на эту работу несколько лет жизни. Сайфер, на совести которого пушки лежали всей своей двестипудовой тяжестью, вздохнул с облегчением. Колоссальность замысла вначале пленила его воображение, падкое на замыслы крупного масштаба. Его неопытному взгляду показалось, что идею будет легко реализовать, однако его друг, специалист по морской артиллерии, беспощадно разрушил все иллюзии. Он и теперь не решился бы рассказать об этом Септимусу, но тот заговорил сам, и притом очень спокойно:
— Да, я знаю, они хороши только на бумаге. Я вижу, в чем состояла моя ошибка, но все равно морская артиллерия меня больше не интересует.
Он помолчал, а потом задумчиво пояснил:
— В этот раз, когда мне пришлось переплывать Ла-Манш, я очень страдал от морской болезни.
— Давайте посмотрим ваши полевые орудия, — подбодрил его Сайфер. Памятуя слова эксперта, он не особенно надеялся на то, что Септимусу повезет на суше больше, чем на море, однако любовь и жалость к изобретателю внушили ему интерес и к изобретению. Септимус просиял.
— Это совсем в другом роде, — предупредил он. — Видите ли, тут у меня больше знаний.
— Все от бомбардира? — засмеялся Сайфер.
— Кто знает, может быть, и так.
Он разложил на столе диаграмму и принялся объяснять. Речь его сразу стала уверенной, быстрой и четкой; глаза утратили полусонное выражение, в голосе зазвучали восторженные нотки. На полях диаграммы он чертил в разрезе наиболее известные из современных орудий, наглядно демонстрируя преимущества своей пушки — ее скорострельность и дальнобойность. По его словам, она могла делать больше выстрелов в минуту, чем любое другое орудие. Заряжается пушка автоматически; новый прибор для наводки делает прицел математически точным; сила боя — какой еще не бывало в истории огнестрельных орудий; устройство настолько несложное, что с ней может управиться и ребенок.
Объяснения Септимуса были настолько ясны, что такой сметливый человек, как Сайфер, не мог не уловить сущности изобретения. На все его вопросы Септимус давал вполне удовлетворительные ответы. Однако в душе Сайфер опасался, что эксперт сразу найдет погрешность и отнесет и это новое изобретение к числу бесполезных фантазий.
— Если все так, как вы говорите, то на этом можно нажить состояние, — сказал, наконец, Клем Сайфер.
— Нисколько не сомневаюсь. Завтра я пришлю вам с Вигглсвиком модель — увидите сами.
— Что же вы намерены с ней делать?
— Не знаю. Я никогда не знал, что делать со своими изобретениями. Был у меня один знакомый в отделе патентов, который помогал мне их добывать. Но он теперь женился и живет где-то в Белхеме.
— Но, может быть, он еще служит в отделе патентов?
— Возможно. Мне не пришло в голову узнать. Впрочем, и от патентов мне до сих пор было мало пользы. Недостаточно ведь получить патент — надо его еще пристроить. Может быть, вы согласились бы заменить в нашем договоре орудия большого калибра этими.
Сайфер охотно согласился. У него есть знакомый в военном министерстве, занимающий довольно высокий пост, — надо ему показать; посмотрим, что он скажет. Если тот человек в городе, нужно будет сразу же по приезде с ним повидаться.
— Торопиться некуда, — заметил Септимус. — Я не хотел бы причинять вам беспокойство. Я ведь знаю, что вы занятой человек. Выясните как-нибудь при случае. Ведь вы теперь, наверное, часто там бываете.
— В военном министерстве? Почему?
— А помните, в Париже мой друг Эжезипп подал вам идею относительно больных ног у солдат. Ну как у вас это пошло — успешно?
Сайфер поморщился: — Не очень, милый друг. Вроде ваших орудий большого калибра. — Он встал и нетерпеливо зашагал по комнате. — Не будем говорить о креме; будьте добры, не спрашивайте меня больше ни о чем. Я затем и приехал сюда, чтобы забыть все это.
— Забыть? — изумленно уставился на него Септимус.
— Да. Чтобы передохнуть немного и хоть две ночи выспаться после кошмарной недели. В Лондоне я совсем не сплю. Дело гибнет на глазах, а я не верю — не могу поверить. Каково это мне, знаю только я сам.
— Я, во всяком случае, не знал, понятия не имел, — грустно отозвался Септимус. — И пристаю к вам со своей глупой болтовней о детях и пушках.
— Я только и отдыхаю, говоря о чем-то другом, а не о своем разорении и гибели всего, что мне было дорого в жизни. Это не просто крах, банкротство. Для меня мое дело не было лишь коммерцией — оно стало моей религией. И остается поныне. Потому моя душа и не желает считаться с цифрами и фактами.
Сайфер продолжал говорить, радуясь, что может излить душу человеку, способному его понять. Ни с кем еще он так не говорил. Несдержанный в проявлении своих чувств, он был при этом горд, как все сильные люди. Свет видел Клема Сайфера всегда победоносным Другом человечества, изобретателем знаменитого крема. Септимус первый увидел его таким, каким он стал в отчаянной борьбе с надвигающимся разорением: в углах рта легли глубокие морщины, брови сдвинулись, в ясных глазах были тоска и боль.
— Я верил, что судьба дала мне в руки средство для облегчения страданий всего человечества и мечтал о великих достижениях. Я видел в своих мечтах все народы, благословляющие мое имя. Знаю теперь, что был идиотом и сумасшедшим. Вы такой же, — как и все изобретатели, апостолы, миссионеры, исследователи — все, кто мечтает о великом. Все это идиоты, и все-таки я рад оказаться в их компании. И мне совсем не стыдно, что и я не лучше. Но рано или поздно апостол убеждается, что он проповедовал в пустыне, а открыватель новых земель — что его Эльдорадо не что иное как бесплодный остров, и тогда он или сходит с ума, или его сердце разбивается. Какая участь ждет меня — еще не знаю. Может быть, и то, и другое…
— Скоро приедет Зора Миддлмист, — заметил Септимус. — Она едет на корабле компании «Вайт стар» и в конце будущей недели должна быть уже в Марселе.
— Зора мне пишет, что, возможно, проведет зиму в Египте. Вот почему она выбрала именно эту компанию.
— Вы говорили ей о том, что сейчас рассказали мне?
— Нет. И не скажу, пока во мне еще живет надежда. Зора знает о моей борьбе, но я ей говорю, да и своей глупой душе твержу то же, что из этой борьбы выйду победителем. А вы разве хотели бы, чтобы я пошел к ней и сказал: «Я конченый человек. Я побежден»? К тому же, меня еще не победили.
Он отвернулся и с такой силой ударил щипцами по большому куску угля, словно это был череп дракона Джебузы Джонса. Септимус крутил усики и, как всегда, когда волновался, ерошил свои волосы. Глаза у него были испуганные — верный признак того, что он принял какое-то решение.
— Но вы ведь хотели бы увидеться с Зорой? — неожиданной спросил он.
Сайфер круто повернулся к нему с таким выражением лица, какое могло быть у узника Бастилии, если бы того спросили: не хочет ли он принять участие в летнем пикнике под деревьями Фонтенбло[14]?
— Вы сами отлично знаете.
Он положил щипцы и, перейдя комнату, опустился в кресло.
— Я часто думал о том, что вы тогда сказали мне в Париже по поводу ее отъезда. Вы были совершенно правы. У вас гениальная способность делать и говорить самые простые вещи, но именно те, что нужно. Ведь и наша дружба началась с этого. Помните, в Монте-Карло? Кажется, вы тогда сказали, что не хотите, чтобы я использовал миссис Миддлмист в качестве рекламы? Не смущайтесь, дорогой мой, — за это я и полюбил вас. А в Париже вы мне прямо в глаза заявили, что я не вправе смотреть на нее, как на талисман, приносящий удачу, и требовать, чтобы она была подле меня. Вы же поставили меня перед фактом, что у нее нет оснований верить в крем больше, чем вы или ваш Эжезипп Крюшо. Отныне я готов принять к сведению все, что вы мне еще скажете.
Чего он ждал от Септимуса, Сайфер и сам не знал. Но, вознеся своего друга на недосягаемую высоту, этот неисправимый идеалист проникся убеждением, что из уст того могут исходить лишь слова олимпийской мудрости. Септимус, краснея от стыда за свою дерзость, — ему ли указывать человеку, которого он считал олицетворением силы и энергии, — свернулся неуклюжим клубочком в кресле, обхватив колени сомкнутыми пальцами рук. Наконец, он изрек:
— На вашем месте, я бы не стал сходить с ума или разбивать свое сердце, пока не увиделся бы с Зорой.
— Отлично. Этого придется ждать долго. Тем лучше: тем дольше я останусь в здравом уме и с неразбитым сердцем.
После обеда Сайфер пошел к миссис Олдрив выполнять свою трудную миссию. Очернить невинного и возвеличить виновного, как просил Септимус, он не счел возможным — это было бы противно его совести. И потому он вовсе не упоминал о ссорах между молодоженами из-за демонического характера супруга, превращавшего дом в домашний ад, и о распре из-за машинки для удлинения носика беби. Сайфер просто сообщил, что молодые не сошлись характерами и находят совместную жизнь невозможной; а потому, следуя заветам современной мудрости, решили жить врозь, сохраняя дружеские отношения.
Миссис Олдрив очень огорчилась. Слезы катились по ее щекам и капали на вязание. Современная мудрость была ей непонятна; свет изменялся слишком быстро для нее, и новый порядок, пришедший на смену старому, казался ей просто анархией. Протестующим жестом воздымая к небу дрожащие худенькие ручки, она ужасалась: как это могут муж и жена расходиться из-за таких пустяков. Если бы даже один из них нанес серьезную обиду другому, то и тогда их долг был бы оставаться вместе. Те, кого Бог соединил…
— Вовсе не Бог, а какой-то урод в мэрии! — воскликнула кузина Джен.
Вот она, женская несправедливость! Что кузина Джен знала о регистраторе в Челси? Ведь он мог быть красив, как Аполлон.
Миссис Олдрив грустно качала головой. Она была уверена, что это не кончится добром. Если бы их повенчал в Нунсмерской церквушке ее добрый друг викарий, никогда бы с ними не случилось такой беды.
— Никакие церкви, викарии и даже архиепископы не могут сделать идиота разумным человеком, — возмущалась кузина Джен. — Я всегда говорила, что он тихий идиот. Понять не могу, как это Эмми могла ужиться с ним хоть один день. Она отлично сделала, что от него избавилась, хотя, конечно, страшно переволновалась из-за этого. Люди, которые женятся так скоропалительно, всегда рискуют попасть в подобное положение. И поделом им!
Так решила кузина Джен, в которой Сайфер неожиданно обрел союзницу. Она облегчила его задачу. Но миссис Олдрив все еще не давала себя убедить.
— А ребенок? — Ведь ему не больше месяца. Бедный малютка! Что станется с ним?
— Эмми должна поселиться здесь, — решительно заявила кузина Джен. — И воспитанием его займусь я. Эмми неспособна воспитать даже кролика. Лучше всего будет, если вы сейчас же пошлете ей строгий приказ немедленно ехать домой.
— Завтра же напишу, — вздохнула миссис Олдрив.
Сайфер думал о том, что для Эмми неприемлемо такое предложение, так как у нее есть веские причины подольше оставаться в Париже. Ему было жаль и ребенка, которого собиралась воспитывать кузина Джен. Тем более, что у беби и сейчас заметна склонность к расточительности. Он улыбнулся.
— Мой друг Дикс уже теперь мечтает о Кембридже для своего беби. Так что, как видите, родители сами строят планы относительно его воспитания.
Кузина Джен презрительно фыркнула. Она сумеет разработать план получше их. Что касается университета, то если из него выходят такие тихие идиоты, как Септимус, преступно, по ее мнению, посылать молодых людей в эту обитель невежества. Да и вообще Септимус не имеет права голоса в данном вопросе. Она его и спрашивать не станет. Эмми должна немедленно вернуться в Нунсмер.
Сайфер хотел ей возразить, но вовремя спохватился. Пусть они вызывают Эмми, ведь она может и не приехать. А так как он был вполне уверен в этом, то оставил кузину Джен в приятном заблуждении, заметив только:
— Вы, конечно, обсудите этот вопрос с самим Диксом.
Кузина Джен всплеснула руками.
— Ради Бога, не пускайте его сюда! Я его видеть не могу!
Сайфер вопросительно посмотрел на миссис Олдрив.
— Для меня это большой удар, — кротко промолвила она. — Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Возможно, лучше нам пока с ним не видеться.
Сайфер ушел домой сердитый: еще и остракизму подвергать бедного Септимуса — прямо какой-то венец мученичества!
— Впрочем, с другой стороны, — размышлял он, — это и к лучшему, что Септимуса не пускают в дом. Кузина Джен, конечно, подвергла бы беднягу перекрестному допросу, а его друг не проявляет выдающихся талантов по части вранья. Успокоенный этими соображениями, он закурил трубку и взял с полки книгу. Пока он пытался найти утешение в великой борьбе пилигрима с Аполлионом и в поражении этого последнего, Септимус направился к почтовой конторе с заказным письмом в руках. На письме стоял адрес: Миссис Миддлмист, компания «Вайт Стар», пароход «Цедрик», Марсель. В конверт был вложен чистый лист почтовой бумаги и хвостик маленькой фарфоровой собачки.
18
Когда женщина знает, чего хочет, она обычно добивается желаемого. Одни философы утверждают, что она достигает этого окольными путями, другие, напротив, — что женщина идет к намеченной цели прямо, как летит пчела, оставляя позади условности, чьи-то чувства, сердца и прочие препятствия. Все, однако, согласны в том, что когда женщине чего-нибудь очень хочется, она не считается с обстоятельствами и действует с непоколебимой уверенностью, не свойственной мужчине.
В то же время женщина, не знающая, что ей нужно, способна поставить в тупик любого философа, подобно тому как муравей в своей бесцельной суете может сбить с толку энтомолога. Разумеется, если философ угадал ее невысказанное желание, ему будет нетрудно разобраться в женских причудах, как Раттендену — в скитаниях Зоры Миддлмист: у него в руках ключ в разгадке. Но иной раз душевное состояние женщины остается мучительной загадкой для нее самой, и тогда ее поступки поражают неожиданностью всех друзей, будь то философы или простые смертные.
Зора съездила в Калифорнию, где ее приняли очень радушно и показали все, что стоило посмотреть, — и китайский квартал в Сан-Франциско, и Йосемитскую долину. Молодежь ухаживала за ней, усыпая ее путь цветами и конфетами; молодые женщины клялись ей в вечной дружбе. Она столкнулась с наиболее глубокими проблемами самого удивительного общественного организма, который когда-либо существовал, и стояла лицом к лицу с грандиознейшими созданиями природы; увидела бескрайние пустыни, навевающие ужас на человеческую душу; съела неимоверное количество персиков. Когда ее визит к Календерам подошел в концу, Зора, заручившись советами и рекомендательными письмами, отправилась одна путешествовать по Америке. Проехала весь американский континент, узрела и величие Ниагары, и ошеломляющий темп жизни в Нью-Йорке. Побывала в Вашингтоне и Бостоне. И действительно, узнала об этой великой стране много интересного, воспринимая впечатления с живостью чуткого и гибкого ума, накапливая их с женской добросовестностью на случай, если они в будущем пригодятся.
Все было очень приятно, любопытно и поучительно, но подвинуло Зору в ее исканиях не больше, чем, скажем, разглядывание витрин ювелира. Ни горы со снежными вершинами, ни набитые битком трамваи не подсказали путешественнице, какую цель в жизни ей следует избрать. В редкие минуты отдыха и одиночества, Зора уныло спрашивала себя, не гонится ли она за призраком. Одна американская мисс, которой она в минуту откровенности поведала о своих терзаниях, с удивлением воскликнула:
— Какая же еще у женщины может быть миссия в жизни, кроме того, чтобы быть красивой и сорить деньгами?
Зора недоверчиво засмеялась.
— Наполовину вы уже выполнили свою миссию, — продолжала американка, — так как все считают вас красавицей. А другую половину выполнить нетрудно.
— Но если у вас не так много денег, чтобы тратить их без оглядки?
— Тогда тратьте чужие! Это же так просто! Будь у меня ваша красота, я бы пошла на Уолл-стрит и подцепила там какого-нибудь миллионера.
Когда Зора в ответ намекнула, что жизнь может иметь и более глубокий смысл, ее собеседница возразила:
— Нужно иметь побольше денег и жить весело — другого смысла в жизни нет.
— Разве вы никогда не пытались заглянуть в суть вещей?
— Если начать копать землю, докопаешься до воды, — наставительно заметила девушка. — Начнешь копаться в жизни — докопаешься до слез, а они портят цвет лица. Душа моя, я предпочитаю оставаться на поверхности и веселиться, пока можно. И, полагаю, что и вы делаете то же самое.
— Пожалуй, что так, — согласилась Зора и устыдилась самой себя.
В Вашингтоне судьба предоставила ей случай осуществить и вторую половину совета практичной американки. Пожилой сенатор, человек неимоверно богатый, предложил ей руку, сердце, полдюжины автомобилей, несколько дворцов и значительную часть территории обоих полушарий. Зора отклонила предложение.
— А если бы я был молод, вы бы за меня вышли?
Зора слегка повела роскошными плечами. Возможно, ее юная приятельница была права, и владычество над миром стоило небольшой неприятности в виде законного мужа. Она устала и пала духом от сознания того, что за время своих странствий приблизилась к пониманию смысла жизни не больше, чем когда была в Нунсмере. И уже не пылала негодованием, когда мужчины объяснялись ей в любви. Она даже стала находить это более приятным, чем смотреть на водопады или завтракать с послами. Иной раз Зора сама дивилась такой перемене в себе. С сенатором она обошлась очень деликатно.
— Не знаю. Как я могу сказать? — ответила ему Зора, подумав.
— Мое сердце молодо, — сказал он.
На ничтожную долю секунды глаза их встретились, и Зора отвела свои, искренне за него огорчившись. Этот правдивый женский взгляд мгновенно убил все его надежды. Снова повторилась трагедия лысого черепа и седой бороды. Как дон Рюи Гомец да Сильва в «Эрнани»[15], сенатор говорил ей, что теперь при виде идущего по улице юноши он готов отдать все свои автомобили и огромный консервный завод за то, чтобы иметь такие же черные волосы и ясные глаза.
— Будь я молод, вы бы любили меня. Я бы заставил вас.
— Что такое, в сущности, любовь?
Пожилой сенатор грустно оглянулся назад, но на протяжении многих лет не нашел в прошлом ничего, кроме несчетного количества жестянок с консервированной лососиной.
— Что такое любовь? — Смысл жизни. К сожалению, я узнал это слишком поздно.
Он ушел печальный, а Зора убедилась, что огромное богатство еще не дает счастья.
На обратном пути вместе с Зорой на пароходе ехал англичанин, которого она встречала в Лос-Анджелесе, — некий Энтони Дезент, довольно элегантный молодой инженер. Он был весь бронзовый от загара, здоровый, стройный и гибкий. Дезент понравился ей тем, что был неглуп и, когда говорил, смотрел прямо в глаза. В первый же вечер на палубе пароход неожиданно накренился: Зора споткнулась и упала бы, не подхвати он ее вовремя. Впервые молодая женщина почувствовала, каким сильным может быть мужчина. Благодаря инженеру она испытала новое для нее ощущение — нельзя сказать, чтобы неприятное, и покраснела. Он остался с ней на палубе и завел речь об ее калифорнийских друзьях и о Соединенных Штатах. На следующий день Дезент уже с утра оказался возле Зоры, и они говорили обо всем — о небе, море и человеческих устремлениях, о том, какая у него неудобная каюта, и о вере в загробные муки. На третий день он поведал ей о собственных надеждах и планах, показал фотографии матери и сестер. После этого они обменялись мнениями о благотворном влиянии на душу одиночества. Его профессия, жаловался он, заставляет его жить в глухих пустынях, где нет ни одной женщины, которая бы могла приветить и ободрить его, да и в Англии, когда он туда возвращается, у него тоже никого нет. Зоре стало жаль молодого человека. Строить мосты и прокладывать железные дороги в пустыне — дело достойное мужчины, но быть при этом вечно одному, без любимой женщины, без жены — это просто героизм.
Вскоре он стал говорить ей, что красивее женщины не встречал, восхищаться золотыми искорками в карих глазах Зоры и тем, что ее волосы на солнце отливают золотом. Ему хотелось бы, чтобы его сестры одевались, как она, и научились у нее повязывать вуаль. Затем он начал метать грозные взгляды на безобидных молодых людей, приносивших ей пледы или бинокли. Одного из них он даже назвал ослом, добавив, что вышвырнул бы его за борт, если бы это не было обидно для Атлантики.
Тут Зора поняла, что он без памяти в нее влюблен, испугалась и стала обвинять себя в кокетстве. Быть может, ее сочувствие к его одинокой и безрадостной жизни перешло границы вежливого интереса и внушило наивному молодому человеку несбыточные надежды. Подогревая в себе добродетельное негодование, она добросовестно бичевала себя, не забывая, однако, из предосторожности обмотать узелки плети ватой. В конце концов, разве ее вина, что этот молодой британец в нее влюбился? Ей вспомнились неприятные слова Раттендена накануне ее первого паломничества: «Такая красавица, как вы, излучающая женский магнетизм, чрезвычайно сильно действует на мужчин. Вы не оставляете их в покое — как же вы хотите, чтоб они оставили в покое вас?»
Таким образом, Зора снова очутилась лицом к лицу с вечной проблемой полов. У себя в каюте она, гневно топая ножкой, твердила, что это гнусно, дико, возмутительно, обидно для женщины, которая всерьез ищет высшего смысла жизни. В дальнейшем же по возможности избегала оставаться наедине с Энтони Дезентом и, чтобы не добавлять еще и ревность к его мрачному одиночеству, развлекалась довольно вяло в обществе одноглазого геолога, занимавшего ее рассказами о пористом строении берегов Тихого океана.
Однажды Дезент застал ее одну, и гнев его тотчас же прорвался:
— За что вы так третируете меня?
— Как?
— Вы издеваетесь надо мной. Я не потерплю этого!
И Зора поняла, что заурядный человек выходит из себя, когда ему не удается получить то, чего он хочет. Она пожалела его и постаралась утихомирить, но дала себе слово не играть больше с примитивными молодыми британцами. Одноглазые геологи — более надежные спутники. Первые кладут к ее ногам свои сердца, вторые, как ее новый знакомый Паукинс, преподносят ей ящики с ископаемыми. Она предпочитает ископаемых. С ними можно делать, что вздумается, — например, выбросить их за борт так, чтобы этого не видел даритель, или, наконец, привезти домой и подарить викарию, который собирает бабочек, жуков, и прутики для чистки трубок. Но держать у себя коллекцию сердец, которые вам, в сущности, не нужны, для женщины ужасно неудобно. И Зора искренне обрадовалась, когда Дезент после плотного завтрака с трагическим видом простился с ней в Гибралтаре.
Было безоблачное утро, когда она сошла на берег в Марселе. Каменистые островки на востоке голубовато-серыми утесами выдвигались из голубого моря. На западе лежали острова Фриуль и остров Шато д’Иф с тюрьмой — угрюмым длинным зданием, тянувшимся вдоль берега. Впереди раскинулся кипящий жизнью порт, красивый белый город, увенчанный собором, который тянулся к светлому небу.
Зора стояла на палубе в толпе других пассажиров, растроганная, как это всегда с ней бывало, красотой природы, но с грустью в сердце. От Марселя всего двадцать четыре часа до Лондона — значит, она почти уже дома; хотя она и собиралась ехать дальше, в Неаполь и Александрию, тем не менее, чувствовала, что близится конец ее пути. А результатов, как и от прежних путешествий — никаких. Стоявший рядом с ней Паукинс указывал ей на геологические особенности здешних утесов. Она слушала его рассеянно, спрашивая себя, не привезти ли ей и этого домой, привязанным к своей победной колеснице, как Септимуса Дикса и Клема Сайфера. При мысли о Сайфере ее потянуло в Марсель.
— А знаете, я не прочь высадиться здесь вместе с вами и ехать прямо домой, — сказала она, бесцеремонно перебив лекцию по геологии. — В Неаполе я уже была, а в Александрии едва ли найду то, чего ищу.
— С геологической точки зрения она не очень интересна.
— Боюсь, что доисторические древности не ускоряют биение моего пульса.
— Тем они и хороши.
— Чего доброго, так и самой захочется стать ископаемым.
— Это было бы превосходно, — сказал Паукинс, читавший Шопенгауэра[16].
— Нашли чем развеселить скучающую женщину! — засмеялась Зора.
— Я стараюсь развлекать вас, как могу, — сухо ответил геолог. — Очень жаль, что это мне не удается.
Он строго посмотрел на нее своим единственным глазом и отошел, словно раскаиваясь, что потратил столько времени на такое пустое существо, как женщина. Но ее женские чары скоро вернули его обратно.
— А я так рад, что вы не едете в Александрию, — проворчал он, прежде чем она успела что-нибудь сказать, и пошел разыскивать свой багаж.
Зора смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, потом пожала плечами. Очевидно, и кривые геологи так же ненадежны, как юные британцы и богатые сенаторы. Провидение поистине к ней несправедливо. Неужели она только для того и существует, чтобы привлекать внимание мужчин? С ума можно сойти от этой мысли! Зора стиснула кулаки в бессильном гневе. Нет для нее миссии на земле и не найти ее. Она готова была завидовать кузине Джен.
Пароход вошел в гавань; пассажиры, ехавшие до Марселя, спустились по трапу на берег. Привезли почту. Письмо было только одно — для миссис Миддлмист, с нунсмеровским штемпелем. В нем не было ничего, кроме хвостика маленькой фарфоровой собачки.
Зора с минуту недоуменно смотрела на этот хвостик, нелепо свернувшийся крючком на ее ладони, потом вдруг залилась слезами. Такой он был смешной, нелепый — и так много было в нем смысла! Это был призыв, знамение, ниспосланное ей самим небом в минуту отчаяния, укор и указание на миссию, которую она обязана выполнить. Словно сама судьба коснулась ее руки, неумолимая и неподкупная, молча повелевавшая ей прийти на помощь человеческой душе, которая в ней нуждалась. Судьба исполнила желание, высказанное Зорой кривому геологу. Она сошла в Марселе и с ночным поездом помчалась в Лондон, терзаясь неподдельной тревогой за Септимуса.
Всю ночь в мерном стуке колес Зоре слышались ее же слова: «Если когда-нибудь я очень вам понадоблюсь, пришлите мне этот отбитый хвостик, и я приеду к вам, где бы ни была». Она сказала это полушутя, но очень нежно. В тот вечер она любила его «по-своему», и теперь, когда он позвал ее, это чувство снова проснулось. Яркие впечатления последних месяцев, заслонившие для нее тихий свет родного уголка, расплылись во мраке. Септимус, видимо, попавший в беду, Эмми, Клем Сайфер заполняли все ее мысли. Ей было приятно думать, что Сайфер, такой сильный и уверенный в себе, будет рядом и поможет, если не удастся самой справиться с Септимусом. Вдвоем они, конечно же, выручат этого бедного неудачника, какая бы беда с ним ни случилась.
Но что же с ним могло произойти? Этот вопрос неотступно стоял перед Зорой и мучил ее. Что-нибудь касающееся Эмми? Она знала, что у них только что родился ребенок. И холодная дрожь поползла у нее по спине при мысли, что из-за чудаковатости Септимуса с ребенком могла случиться какая-нибудь беда. Ведь он способен на любые нелепости, а Эмми сама, как малое дитя, — что с нее спрашивать! Зора теперь корила себя, зачем навела Септимуса на мысль о женитьбе на Эмми. Кто знает, — может быть, он только потому и женился, что она сказала, будто ей это было бы приятно. Они совершенно неподходящая пара. Двое беспомощных детей — разве им можно было брать на себя серьезные обязательства по отношению друг к другу и будущим детям?
Но если в самом деле понадобится помощь настоящего человека, то ведь под рукой Сайфер, а он — надежная опора. Бессознательно она сравнивала его с другими мужчинами, которых встретила во время своих странствий, — а она видела немало людей и обаятельных, и сильных, и высокообразованных. Но по какой-то странной причине, в которой ей было трудно разобраться, он, подобно башне, возвышался над всеми, хотя по отдельным качествам многие из них его превосходили. Зора знала все его недостатки и надменно улыбалась, думая о них. Свою роль богини — покровительницы, или доброго гения крема, она приняла на себя с милой снисходительностью взрослой, играющей с детьми в их игры. Недостатки воспитания ее друга, промахи, которые он допускал, иногда не зная традиций ее класса, больно ее задевали. И тем не менее Сайфер занял прочное и большое место в ее жизни этот факт был для нее загадкой, гордостью и утешением. Другие мужчины бледнели и тушевались перед ним, но до сих пор она не сознавала этого так ясно. Септимус жил в ее сердце, как бродячая собака, которую она приютила и пригрела, но он не был для нее мужчиной. Сайфер же был мужчиной.
Так всю долгую, утомительную дорогу Зора думала о них двоих, строя всевозможные тревожные предположения, но ни на минуту не сомневаясь, что Сайфер и она, сильные люди, хозяева жизни, сумеют выручить из любой беды бедного слабого Септимуса.
Септимус, которому Зора послала телеграмму из Марселя, ждал ее на вокзале Виктория. Чтобы не опоздать, он приехал за два часа до прихода поезда и терпеливо ждал, расхаживая по вокзалу. Время от времени он останавливался возле стоящих в ожидании отправления поездов, притягиваемый, как всегда, машинами. Кондуктор, спрыгнувший с поезда, увидел его, замершего от восхищения перед локомотивом, и вежливо с ним заговорил; Септимус, всегда внимательный к людям, ответил. Завязался разговор.
— Я вижу вы инженер, — сказал кондуктор, сразу понявший, что говорит со знающим человеком.
— Отец у меня был инженером. А я никогда не мог встать вовремя, чтобы успеть на экзамен. Такая нелепость, по-моему, эти экзамены! Почему я должен рассказывать и объяснять людям то, что они уже знают?
Хмурый кондуктор высказал мнение, что экзамены необходимы. Он тоже когда-то держал экзамен.
— По всей вероятности, вы приучили себя вставать, когда нужно, — с завистью заметил Септимус. — Надо бы изобрести какой-нибудь прибор, чтобы будить тех, кто не умеет сам вставать.
— Купите себе будильник.
Септимус покачал головой: — Нет, это не годится. Я как-то попробовал, но он поднял такой ужасный шум, что я запустил в него сапогом.
— И что же, будильник остановился?
— Нет. Сапог угодил в стоявшие на камине часы в стиле Людовика XV и разбил их. Я, правда, встал, но решил, что такой способ слишком дорогой, и больше к нему не прибегал.
Отходящий поезд с оглушительным ревом выпустил струю пара. Септимус зажал руками уши; кондуктор осклабился.
— Не выношу этот шум, — извинился Септимус. — Однажды я попытался изобрести прибор, чтобы его ослабить. Это было нечто среднее между граммофоном и оркестрионом. Прибор помещают где-то внутри машины, и вместо отчаянного визга из трубы вылетают музыкальные звуки — какая-нибудь ария. Он мог бы действовать все время, пока двигался бы поезд. Не правда ли, работа кондуктора стала бы немного веселее?
Не отличавшийся живым воображением кондуктор, ошарашенный столь фантастическим проектом, вытер нос куском грязной пакли и высказал вежливое сожаление, что джентльмен не инженер. Но Септимус в ответ грустно покачал головой:
— Видите ли, если бы я был настоящим инженером, то никогда бы не смог построить машину точно по чертежу. Я всегда добавлял бы в нее что-нибудь свое, и невесть что из этого могло бы выйти.
Слабо улыбаясь, он взглянул на своего собеседника, но тот уже исчез. Толпа хлынула на платформу, где он стоял, и через минуту поезд с грохотом и ревом отошел. Септимус вспомнил, что голоден, пошел в буфет и, по совету буфетчицы, съел два крутых яйца и выпил стаканчик хереса. Подкрепившись, он снова пошел слоняться по вокзалу, причем его поминутно толкали ошалевшие джентльмены в цилиндрах, которые торопились на пригородные поезда, в то же время за Септимусом подозрительно следил полисмен, заподозривший в нем карманного вора.
Наконец милостью неба он очутился на платформе, на которую, судя по таможенному барьеру и длинному ряду носильщиков, должен был прибыть поезд с континента. Теперь, когда всего несколько минут отделяли Септимуса от Зоры, сердце его холодело и замирало. Он не видел ее с того самого вечера, когда Эмми так неожиданно упала в обморок. Из ее писем, хотя и ласковых, Септимус ясно понимал, что его богиня гневается на него за то, что женился, не спросив ее согласия. В первый раз он посмотрит в эти карие с золотыми искорками глаза, тая в душе обман. Прочтет ли она в его глазах и тайну, и вину? Это было единственное, чего он боялся.
Поезд подошел, и Зора еще в окно вагона увидела на перроне Септимуса, который стоял без шляпы, ероша свои торчащие во все стороны волосы. При виде его милой знакомой фигуры глаза ее увлажнились. Как только поезд остановился, она спрыгнула с подножки, предоставив Турнер (которая еще с самого Дувра горячо благодарила небо за то, что, наконец, вернулась в отчий край) добывать багаж, и пошла по перрону навстречу Септимусу.
Он только что остановил носильщика, озабоченно тащившего ручной багаж большой семьи, чтобы спросить его, не видел ли тот в поезде высокой и очень красивой дамы, когда сама Зора подошла к нему с сияющими глазами, протягивая обе руки. Он взял их в свои и долго смотрел на нее, от волнения не находя слов. Никогда еще она не казалась ему красивее и обаятельнее. Дорожная меховая шапочка красиво сидела на ее пышных волосах. Роскошный стан, плотно стянутый меховым жакетом, был великолепен. Букетик фиалок на ее груди струил благоухание.
— О, как хорошо, что вы пришли! Как я рада вас видеть, милый Септимус! — воскликнула она. — При виде вас мне сразу стало ясно, что для меня нет ничего важного на свете, кроме тех, кто мне дорог. Ну рассказывайте. Как вам живется?
— Мне? — Отлично! Изобрел массу нового.
Она засмеялась и, взяв его под руку, повела по перрону, лавируя между носильщиками и тележками, перевозившими багаж из поезда в кэбы.
— А как мама? Здорова? — тревожно спрашивала Зора.
— О да.
— А Эмми? Беби?
— Замечательно! Недавно его окрестили. Я хотел назвать его в честь вас. Но единственное имя, которое я мог придумать, было — Зороастр, а Эмми оно не понравилось, и она назвала его Октавиусом, как меня, потом Олдривом, в честь родового имени, и еще Уильямом.
— Почему Уильямом?
— В честь Питта, — ответил Септимус тоном человека, который удивлен вопросом.
Зора в недоумении даже остановилась.
— Питта?
— Да. Он был великим государственным деятелем Англии. Мальчик тоже ведь пойдет в парламент. Это уже решено.
— О!
— Эмми уверяет, что я так назвал мальчика в честь хромого ослика у нас на выгоне. Мы ведь его прозвали Уильямом. А знаете, он все такой же, ни капельки не изменился.
— Так как же полное имя беби? — перебила Зора, игнорируя ослика.
— Уильям Октавий Олдрив-Дикс. Это так хорошо для ребенка — иметь красивое имя.
— Я жажду его увидеть. Поедем к нему.
— Он сейчас в Париже.
— В Париже?
— О, не один, конечно, — поспешил успокоить ее Септимус, чтобы она не подумала, что младенца бросили там одного среди искушений и соблазнов столицы мира. — Мать его тоже там, с ним.
Зора потянула его за рукав.
— Какой вы несносный! Почему вы мне сразу не сказали? Я бы к ним заехала. Но отчего же они не здесь, в Англии?
— Я не взял их с собой.
Зора снова рассмеялась, ничего не подозревая.
— Вы говорите так, словно нечаянно забыли их там, как зонтики. Признавайтесь, так оно и было?
Подошла Турнер в сопровождении носильщика, несшего ручной багаж, и спросила:
— Вы когда едете в Нунсмер, мадам, сегодня?
— Зачем вам туда? — огорчился Септимус.
— Думала ехать сегодня же, вечерним поездом, но если мама здорова, Эмми и беби — в Париже, а вы сами — здесь, я не вижу причин торопиться.
— Было бы гораздо приятнее, если бы вы остались в Лондоне.
— Отлично, мы остаемся. Переночевать можно будет поблизости, в Гросвенор-отеле. А вы где живете?
Септимус назвал свой клуб — тот самый, где ему и поныне не могли простить появления к завтраку в смокинге.
— Пойдите переоденьтесь и через час приходите ко мне обедать.
Он повиновался с обычной своей покорностью, и Зора вслед за носильщиком зашла в отель.
— Давно мы с вами не обедали вместе в ресторане, — говорила она час спустя, разворачивая салфетку на коленях, — ни разу после Монте-Карло. Только там это было страшно неприлично. А теперь мы можем куда угодно пойти вместе обедать, и это будет вполне прилично. Вы ведь теперь мой зять.
Она смеялась, веселая, странно счастливая тем, что Септимус сидит возле нее, немного удивленная открытием, что рядом с ним на редкость спокойно. Он был словно тихая пристань после бурного плавания; его присутствие вносило в ее жизнь что-то глубоко нежное и интимное.
Некоторое время они говорили обо всем понемногу — о ее путешествии через океан и по железной дороге, о чудесах, которых она насмотрелась. Он бормотал что-то невнятное о своей парижской жизни, о новой пушке, об Эжезиппе Крюшо. Но о том, зачем ее вызвал, не говорил ни слова. В конце концов она перегнулась к нему через стол и ласково спросила:
— Зачем я здесь, Септимус? Вы ведь мне еще не сказали.
— Разве не сказал?
— Нет. Вы видите, собачий хвостик сразу же привел меня к вам, но он не рассказал мне, зачем я вам вдруг так понадобилась.
Он испуганно уставился на нее.
— Ах, нет, совсем не мне, — то есть мне вы тоже нужны, страшно нужны, — но я вас вызвал не для себя.
— А для кого же?
— Для Клема Сайфера.
Зора слегка побледнела, опустила глаза в тарелку и принялась крошить свой хлеб. Долгое время она не могла вымолвить ни слова. Такой ответ не удивил ее. Странное дело, он даже показался ей естественным. Септимус и Сайфер так странно сливались в ее мыслях во время путешествия. Из-за какой-то, ей самой непонятной щепетильности она до сих пор не решилась спросить о Сайфере. Но как только его имя было произнесено, Зора почувствовала, что ожидала этого.
— В чем дело? — спросила она, наконец.
— Крем его предал.
— Предал?!
Зора недоверчиво на него посмотрела. Последнее письмо, полученное ею от Сайфера, было полно бодрости и упоения борьбой. Септимус мрачно кивнул.
— Это было просто обычное патентованное средство, как сотни других, но для Сайфера оно стало его религией. А теперь его боги низвергнуты, и он сам гибнет. Нехорошо, когда у человека нет богов. У меня прежде тоже их не было, и вместо них являлись дьяволы. Они надоумили меня искать радости в гашише. Но, должно быть, это был скверный гашиш, потому что мне от него стало плохо, и таким образом я спасся.
— Но что же вас побудило так срочно меня вызвать? Вы ведь знали, что, получив собачий хвостик, я приеду.
— Вы нужны Сайферу, чтобы помочь ему обрести новых богов.
— Сайфер мог сам меня вызвать. Зачем же он поручил это вам?
— И не думал. Он даже не знает. Понятия не имеет, что вы уже в Лондоне. Я плохо поступил, вызвав вас?
Самым непонятным для Зоры во всем этом было ее собственное отношение к случившемуся: она не знала, хорошо или плохо поступил Септимус. Зора говорила себе, что ей следует обидеться — он ведь заставил ее так за него переволноваться; но сердиться на Септимуса она не могла. Счастье изменило Сайферу — сильный пал в борьбе с судьбой. Она представила себе его разбитым, униженным, и сердце ее дрогнуло.
— Вы хорошо сделали, Септимус, — сказала она очень мягко. — Но какая ему от меня польза?
— Это уж он сам вам скажет.
— А вы думаете, он знает? Прежде не знал. Он просил меня не уезжать — оставаться здесь, потому что мое присутствие помогает ему в делах или нечто в таком роде. Но это же просто абсурдно!
И тут Септимус, кажется, впервые в жизни, внес свой вклад в философию пессимизма:
— Возьмите любой факт из жизни и попробуйте его проанализировать. Вам не кажется, что всегда получится то же самое: reductio ad absurdum[17]?
19
— Мне очень жаль расставаться с вами, мистер Сайфер, — говорил Шеттлворс, — но первейший мой долг — позаботиться о своих жене и детях.
Клем Сайфер откинулся на спинку кресла и устремил на своего меланхолического управляющего взор генерала, офицеры которого не хотят больше защищать крепость, заведомо обреченную на гибель.
— Совершенно верно, — глухо ответил он. — Когда же вы уходите?
— Мы условились, что я должен предупредить вас за три месяца заранее, но…
— Но вы желали бы уйти сейчас?
— Мне предлагают прекрасное место, если я смогу занять его не позднее, чем через две недели.
— Отлично, — сказал Сайфер. — Вы свободны.
— А вы не скажете, что я, как крыса, бегу с тонущего корабля? Ведь я семейный человек — у меня жена, дети.
— Корабль тонет — это несомненно, и вы вправе его покинуть. Место, которое вам предлагают, такое же, как у меня?
— Да, сэр, — тихо ответил Шеттлворс, опуская глаза, чтобы не смотреть в ясные неулыбающиеся глаза своего шефа.
— В одной из конкурирующих с нами фирм?
Шеттлворс кивнул головой и похоронным тоном стал уверять патрона в своей преданности. Если бы дела шли по-прежнему, никогда бы он не ушел от мистера Сайфера и никаких блестящих предложений не стал бы даже слушать. Но при данных обстоятельствах…
— Само собой. Еще месяц-другой, и крем Сайфера станет воспоминанием. Спасти его уже ничто не может. Я был слишком самоуверен. Мне следовало бы чаще прислушиваться к вашим советам, Шеттлворс.
Управляющий поблагодарил его за комплимент.
— Опыт всему научит, — скромно пояснил он. — Я родился и вырос на торговле патентованными средствами. Это очень рискованное дело. Вы пускаете в ход какую-нибудь новинку. Вначале она идет отлично. Потом на рынке появляется что-нибудь более привлекательное. Начинается война рекламы, и побеждает тот, у кого больше денег. Благоразумный человек выходит из игры сам, еще до появления конкурентов. Если бы вы послушались меня пять лет назад и превратили свое предприятие в акционерное, то теперь бы были богатым человеком и не знали никаких забот. В следующий раз вы, наверное, так и поступите.
— Следующего раза не будет.
— Почему? Патентованные средства всегда прибыльны. Ну, например, новый способ лечения от ожирения. Если его хорошо разрекламировать, это дело верное. Деньги такой человек, как вы, всегда добудет.
— А средство?
Унылое лицо Шеттлворса сморщилось в гримасу, которая у него считалась улыбкой.
— Любое старое — лишь бы оно не было отравой.
Почувствовав себя неловко под пристальным взглядом хозяина, он снял очки, подышал на них и протер их носовым платком.
— Публика будет покупать, что угодно, — надо только уметь рекламировать.
— Наверное, будет. Даже мазь от порезов Джебузы Джонса.
Шеттлворс вздрогнул и надел очки.
— А почему бы им и не покупать ее?
— Вы меня об этом спрашиваете?
Бывший управляющий беспокойно заерзал в кресле и нервно откашлялся.
— Вынужден спросить — в порядке самозащиты. Мне известно ваше мнение о креме, но ведь это — вещь субъективная. Я хорошо знаком с производством и знаю, что почти нет разницы между составом крема и мази Джонса. В конечном счете всякий жир, который покрывает рану, защищая ее от проникновения микробов, достигает той же цели — иной раз даже лучше. Во всех патентованных средствах обычно нет ничего действительно целебного. Ну скажите сами…
— Вы что же — переходите к Джебузе Джонсу? — спросил Сайфер, пристально глядя на него. Все время он сидел неподвижно, как статуя, не меняя позы.
— У меня жена и дети, — взмолился управляющий. — Я не мог отказаться. Они предлагают мне быть их агентом в Лондоне. Я знаю, что это вас огорчит. Но что я могу поделать!
— Каждый за себя, а черти за отставшего. Так, значит, вы наносите мне coup de grace[18]? Собираетесь прикончить меня, когда я буду лежать при смерти. Что ж, вы свободны. Через две недели можете уходить.
Шеттлворс встал.
— Очень вам благодарен, мистер Сайфер. Вы всегда со мной благородно поступали, и мне более чем грустно вас покидать. Вы на меня не сердитесь?
— За то, что вы переходите от одного шарлатанского средства к другому? — Конечно, нет.
Только когда дверь за управляющим захлопнулась, Сайфер закрыл лицо руками и уронил голову на стол.
Это был конец. Остатки веры, которая еще теплилась в его душе, несмотря на муки сомнений, Шеттлворс уничтожил своим coup de grace. То, что он перешел к главному врагу и конкуренту Сайфера, который скоро добьет его и материально, — это было неважно. Когда гибнет дух, тело слабо сопротивляется. Если бы месяц назад Шеттлворс осмелился в этих стенах произнести такие святотатственные речи, Клем Сайфер восстал бы во гневе своем, как некий полоумный крестоносец, и рассек бы богохульника пополам своим мечом.
Сегодня он выслушал его молча, словно окаменев на месте, почти не чувствуя обиды. Он знал, что этот человек прав. Любая смесь в виде пилюль или микстуры, выпущенная на рынок под названием средства от ожирения, глухоты или каменной болезни, пойдет в ход, если ее умело разрекламировать, не хуже, чем крем Сайфера. Между божественной панацеей любых кожных болезней, за которую по всей земле и во все века люди должны были благодарить и прославлять Друга человечества, и вульгарной мазью Джебузы Джонса нет существенной разницы. Одно средство столь же полезно или бесполезно, как и другое, но крем продается в бледно-зеленой упаковке, а мазь от порезов — в бледно-розовой. И женщинам больше нравится мазь, потому что они любят розовое. То и другое — шарлатанские средства.
Сайфер поднял исхудалое, измученное лицо и обвел взглядом знакомый кабинет, где родилось столько грандиозных замыслов, где ему улыбалось столько надежд и впервые заметил, как много в его убранстве было жалкого самомнения и бьющей в глаза вульгарности. Он посмотрел на огромный плакат работы знаменитого художника, некогда известного во всех странах, а теперь по причине разорения совершенно опустившегося. На плакате Друг человечества был похож на пророка, раздающего крем Золотушному человечеству. Тогда, в зените своей славы, он предпочел бы, чтобы его нарисовали каким он был, но художник нашел, что фигура Сайфера недостаточно живописна, и представил Клема в виде величественного старца с белой бородой, у ног которого сгрудилась пестрая толпа: красивая дама в вечернем платье, чистильщик сапог, король в короне, краснокожий индеец в уборе из перьев, как у Фенимора Купера, полуобнаженный негр, худая женщина в лохмотьях с младенцем на руках, жокей, сирийский прокаженный и еще дюжина других представителей страждущего человечества.
Группа была хорошо скомпонованная, эффектная — как раз во вкусе английского простонародья, которое и искусство любит крепкое, как его чай, в котором так много таннина. Оно толпами останавливалось перед этим плакатом, выискивая хорошо знакомые типы и препираясь (как и предвидел Сайфер, с необыкновенной прозорливостью посоветовавший художнику включить в группу волосатого урода) по поводу того, что может изображать собой этот лохмач; и в то время как все эти люди стояли, смотрели и строили догадки, в их души незаметно вселялась уверенность в превосходстве крема Сайфера над всеми другими кремами. Сайфер вспомнил, как он гордился этим плакатом и с каким торжеством разъезжал по Лондону в автомобиле, любуясь его копиями, расклеенными на стенах. А теперь он знал, что и это было не чем иным, как самой обычной коммерческой рекламой.
В дубовых рамках на стенах висели лестные отзывы о креме важных особ или их секретарей. Под одним из них красовалась размашистая подпись русского великого князя, который приветствовал Сайфера на Лионском вокзале в тот момент, когда тот, прихрамывая, шел к вагону. В шкафу хранились аккуратно сложенные корректурные оттиски всех рекламных объявлений, когда-либо им выпущенных.
На столе перед ним лежал в роскошном сафьяновом переплете экземпляр рекламного проспекта, отпечатанного на сорока страницах тончайшей папиросной бумаги и присоединяемого — чудо брошюровки! — к каждой упаковке крема. Проспект содержал инструкцию по применению крема на сорока различных языках, в том числе на фиджийском, баскском и сирийском — с тем, чтобы все сыны человеческие могли читать благую весть и в то же время развлекаться, пытаясь разобрать ее и на неизвестных им языках.
Куда бы он ни повернулся, всюду его взор встречал что-нибудь такое, что казалось сейчас издевательством над его прежними триумфами: увеличенный снимок первого транспорта с кремом, прибывшего на берега озера Чад; фотографии фабрики, ныне обслуживаемой всего каким-нибудь десятком человек, в самом разгаре его кипучей деятельности; оттиски больших объявлений, на которых сразу бросались в глаза напечатанные жирным шрифтом и огромными буквами слова: «Крем Сайфера» и «Друг человечества»; модель Эдинбургского дворца, сделанная одним благодарным обитателем лечебницы для умалишенных из красных целлулоидных коробочек из-под крема.
Сайфер вздрогнул при виде этих символов и изображений ложных богов и вновь закрыл лицо руками. Бездна поглотила его. Воды сомкнулись над его головой.
Сколько времени он просидел так у стола — он сам не знал. Швейцару было приказано никого не пускать; деловая жизнь в конторе замерла. Жизнь улицы напоминала о себе лишь слабыми отзвуками уличного шума да дребезжанием стекол в окнах. Большие золоченые часы на камине остановились.
Неожиданно какой-то необычный шелест в комнате заставил Сайфера вздрогнуть. Он поднял голову. Перед ним стояла Зора Миддлмист. Он вскочил на ноги.
— Вы? Вы?!
— Меня не хотели пускать к вам. Но я ворвалась — сказала она, потому что мне необходимо вас видеть.
Он смотрел на нее, разинув рот, дрожа всем телом, как человек, готовый сделать великое открытие.
— Вы, Зора, вы пришли ко мне в такой момент?
Вид у него был настолько странный, растерянный, взъерошенный, глаза такие дикие, что она быстро подошла к нему и положила обе руки на его руку.
— Друг мой, милый, дорогой мой друг, неужели все так уж плохо?
В этих простых словах звучала искренняя боль за него. Его тоскующий взгляд всколыхнул ее душу, пробудил в ней самые лучшие, самые нежные чувства. Она жаждала утешить его. Но он отступил на шаг, протянул вперед обе руки, как бы защищаясь от нее, и продолжал смотреть ей в лицо, но уже со вспыхнувшим светом в глазах, упиваясь ее красотой и очарованием ее близости.
— Боже мой! — надломленным голосом воскликнул он. — Боже мой! Какой же я был дурак!
Он пошатнулся, словно от удара, упал в кресло и поник головой, ошеломленный сложными чувствами — изумлением, радостью, горем. Не глядя, он протянул руку. Зора взяла ее и стала возле него. Как же он мог не знать, что ему нужно? Ему нужна она, эта женщина: слышать ее голос, ощущать ее поцелуи на своих губах, сжимать ее в своих объятиях — милую, родную. Ему нужно, чтобы она встречала его приветом, когда он возвращается домой, нужны ее сердце, ее душа, ее живой ум, ее тело — вся она нужна бесконечно. Не ради крема, а сама по себе, потому что он любит ее страстно, беззаветно, просто, — как только может любить мужчина женщину. Он был в аду, но, подняв глаза, увидел перед собой ее и понял, что небо для него — это она.
Прикосновение ее обтянутой перчаткой руки так волновало его, что кровь до боли стучала ему в виски, как это бывает с человеком, только что очнувшимся от столбняка. Глаза его заволоклись туманом, который сильным людям заменяет слезы. Он тосковал по ней — и вот она пришла. С первой же встречи с необычайной чуткостью он распознал в ней женщину, созданную для него, единственную, — ту, что может ему помочь, подарить душевный покой. Но тогда его грандиозные замыслы заслонили простое человеческое чувство. Клем Сайфер считал себя орудием судьбы, избранным ею для всемирного распространения крема. В креме была вся его жизнь. Женщина, созданная для него, должна была вместе с ним служить крему. И он насильно пытался внушить ей свою фанатичную веру. Он жаждал ее близости, как некоего мистического воздействия, которое сможет парализовать все усилия злобного дракона, именуемого Джебузой Джонсоном, и придаст ему самому нечеловеческие силы для борьбы. Какой же он был глупец! Все время она оставалась для него просто женщиной, которую он любил просто как мужчина. И надо же было случиться, чтобы судьба, словно в насмешку, послала ее к нему в самую тяжелую минуту его жизни, когда он пал духом, когда и в нем погасла последняя искра той безумной веры, которая поддерживала его столько лет. С первой их встречи он угадал верно, хотя и нелепо заблуждался. Он был прав, решив, что Зора поможет ему победить дракона. Чудовище лежало теперь на земле — мертвое, грубое, скользкое, — уже не способное вредить, убитое, как молнией, вспыхнувшей в нем любовью, — вспыхнувшей, когда ее взгляд встретился с его взглядом. Смутно сознавая все это, он машинально повторял:
— До чего же я был глуп! Боже мой, каким я был глупцом!
— Но почему? — допытывалась Зора.
— Потому что, — начал он и остановился, не находя слов. — Как это вышло, что вы здесь? Сама Фортуна вас послала.
— Боюсь, что только Септимус, — улыбнулась она.
— Септимус?!
Он был поражен. Какое отношение может иметь Септимус к ее приезду?
Сайфер снова встал и, чтобы овладеть собой, сделал несколько обычных движений: подкатил кресло для нее поближе к огню, усадил ее и сам сел рядом в своем конторском кресле.
— Простите, — начал он, — но ваш приход все еще кажется мне сверхъестественным. Я был ошеломлен вашим чудесным появлением. Может быть, вас и нет в действительности? Неужели мне все только чудится, Зора? Может быть, я сошел с ума и у меня начались галлюцинации? Скажите мне, что это в самом деле вы!
— Ну да я, живая, во плоти, — можете дотронуться до меня — и мое неожиданное появление объясняется очень просто.
— Но я думал, что вы проводите зиму в Египте.
— И я так думала, пока не приехала в Марсель, но мне пришлось отказаться от своего намерения.
И она рассказала ему о хвостике маленькой фарфоровой собачки и о разговоре с Септимусом накануне вечером.
— И вот, как видите, я здесь — вчера вечером было уже поздно и я дождалась утра…
— Так, значит, тому, что вы приехали, я обязан Септимусу?
Она не поняла.
— Ну да, конечно, вам следовало бы самому меня вызвать. Если бы я знала, как ужасно все для вас складывается, то давно бы уже приехала. Серьезно. Но меня ввели в заблуждение ваши письма. Они были полны надежды. Не упрекайте меня!
— Мне ли вас упрекать? За что? За то, что вы так много мне дали? За то, что вы пришли ко мне, больному, полусумасшедшему, — вся красота и прелесть, с небесным светом в глазах, проехав ради этого всю Европу; за то, что вы пожертвовали из-за меня зимой на солнце и в тепле? О нет! Я упрекаю себя — не вас.
— За что же?
— За то, что я дурак — безнадежный глупец, нелепый, самодовольный идиот. Боже мой! — он судорожно стиснул ручки кресла. — Как вы можете сидеть здесь, как вы могли переносить меня эти два года, не презирая? Если бы я стал посмешищем всей Европы — это было бы только справедливо.
Он вскочил и забегал по комнате.
— Все сразу… Я как-то не могу разобраться. Крем Сайфера, Друг человечества! Воображаю, как они скалили зубы за моей спиной, если только верили в мою искренность. Как они должны были презирать меня, если не верили и считали всего лишь шарлатаном, гоняющимся за рекламой! Зора Миддлмист, ради моего спокойствия, скажите, что вы обо мне думали? За кого вы меня принимали — за сумасшедшего или за шарлатана?
— Это вы должны рассказать мне, что случилось, — серьезно ответила Зора. — Я ничего не знаю. Септимус дал мне понять, что крем вас предал. Вы ведь знаете, у него самого в голове никогда не бывает ясности, а уж когда он начинает объяснять другому…
— Септимус удивительный — он настоящее дитя.
— Может быть, где-нибудь в другом месте он и был бы хорош, но на земле с ним иной раз довольно трудно, — улыбнулась Зора. — Что же произошло на самом деле?
Сайфер тяжело перевел дух и заговорил спокойнее.
— Я на краю банкротства. Последние два года работал себе в убыток. И все надеялся, хотя и видел, что надежды нет. И бросал тысячи и десятки тысяч в бездну. А Джебуза Джонс и другие тратили еще больше денег на рекламу, продавали еще дешевле, на каждом шагу мне вредили. И теперь весь мой капитал истрачен и денег достать неоткуда. Остается одно — идти ко дну.
— У меня довольно большое состояние… — начала было Зора, но он жестом руки остановил ее, глядя ей прямо в глаза.
— О, моя дорогая Зора! Сердце не обмануло меня тогда в Монте-Карло, подсказав мне, что вы — женщина большой души. Скажите, вы когда-нибудь верили в крем так, как верил в него я?
Зора тоже посмотрела ему в глаза и ответила так же искренне и просто, как он спрашивал:
— Нет. Не верила.
— И я уже не верю. Крем или любое шарлатанское средство, которое вы можете купить в каждой аптеке, — все равно, разницы между ними нет. Вот почему, если бы даже у меня был шанс поправить свои дела, я бы не мог взять ваши деньги. Вот почему я спросил вас, что вы обо мне думали и кем считали — безумцем или шарлатаном.
— Разве того, что я здесь, недостаточно чтобы показать вам, какого я о вас мнения?
— Простите меня. Нехорошо с моей сторон предлагать вам такие вопросы.
— Больше, чем нехорошо — не нужно.
Сайфер провел рукой по глазам и сел.
— Мне много пришлось сегодня пережить. Я, что называется, не в себе, так что вы должны простить, если я говорю то, что не нужно. Сама Фортуна послала вас ко мне в это утро, а Септимус был ее послом. Если бы не вы, я бы, наверное, в самом деле сошел с ума.
— Расскажите мне все, — ласково попросила она, — все, что захочется. Ведь, если не ошибаюсь, я ваш самый близкий друг.
— И самый дорогой.
— И вы мне дороги оба — вы и Септимус. Я перевидала сотни людей за время своей поездки, и некоторые из них как будто любили меня, но ни один не играл никакой роли в моей жизни, кроме вас двоих.
Сайфер думал: «Мы оба тоже любим тебя всей душой, а ты даже не знаешь этого». И ревниво спрашивал себя: «Кто эти люди, которые ее любили?», но вслух повторил только:
— Ни один?
С улыбкой глядя ему прямо в глаза, Зора повторила: «Ни один». Он вздохнул с облегчением. Значит, она не нашла того большого человека, о котором Раттенден говорил, что она ищет его, чтобы под жгучим солнцем его страсти распуститься пышным цветом. И в тайниках своего мужского эгоистичного сердца возблагодарил судьбу за то, что не нашла.
— Рассказывайте же, — попросила Зора.
Сайфер рассказал ей всю трагикомическую историю своих неудач — от эпизода с натертой пяткой. Поведал и то, что даже себе не говорил, — мысли и чувства, которые теперь, когда он их выразил словами, удивили его самого.
— В Галиции, — говорил он, — в каждом доме, даже в самой бедной крестьянской хате, есть священные изображения. Там их называют иконами. Вот это все, — он указал на стены, — были мои иконы. Как вы их находите?
Впервые Зора обратила внимание на обстановку комнаты, где они находились. Плакаты, рекламные листки, модель Эдинбургского дворца из красных коробочек произвели на нее то же впечатление, что и знаменитая доска в саду дома Сайфера в Нунсмере. Но тогда они могли спорить о том, насколько безвкусна такая реклама, и она считала себя вправе предписывать ему законы поведения, в качестве arbiter elegantiarum[19].
Теперь он видел все эти убогие «иконы» ее глазами и прошел через все муки ада, прежде чем достиг такой ясности зрения.
Что же могла она сказать? Зора, великолепная и самоуверенная Зора, не находила слов, хотя сердце ее разрывалось от жалости. Она вплотную приблизилась к смешной, на чужой взгляд, трагедии человеческой души, и ее скромный жизненный опыт, не мог подсказать ей, как следует себя вести. Здесь не место было разыгрывать благодетельную богиню. Зора молчала, боясь вымолвить слово, чтобы ее участие не показалось Сайферу неискренним. Она хотела ему дать так много, а могла так мало…
— Я жизни не пожалею, чтобы вам помочь, — почти жалобно проговорила она. — Но что же я могу для вас сделать?
— Зора! — хриплым голосом воскликнул он.
Она подняла на него глаза, и встретившись с его взглядом, поняла, что в ее власти ему помочь.
— Нет, не смотрите так — не надо! Я не могу этого вынести.
Она отвела от него глаза и встала.
— Не будем ничего менять. Все было так хорошо и странно: вы хотели сделать из меня какую-то жрицу своего божества. Я смеялась, но мне это нравилось.
— Потому я и говорю, что был глупцом, Зора.
Неожиданно и резко зазвонил телефон. Сайфер сердито схватил трубку.
— Как вы смеете звонить, когда я сказал, чтобы меня не беспокоили? Мне все равно, кто меня спрашивает. Я никого не желаю видеть!
Он повесил трубку. Начал было: «Я извиняюсь» — и остановился. Грубое вторжение внешнего мира напомнило ему о практической стороне жизни. Он был разорен. Мог ли он сказать Зоре Миддлмист: «Я нищий. Выходите за меня замуж»?
Она подошла к нему, протягивая обе руки, — обычный для нее инстинктивный жест в тех случаях, когда сердце ее было переполнено, — и впервые назвала его по имени:
— Клем, будем друзьями — настоящими добрыми, хорошими друзьями, но не надо портить мне радость этой дружбы.
Когда женщина, бесконечно желанная, просит о дружбе, а глаза ее сияют таким дивным светом, и сама она, милая, очаровательная, совсем близко, — мужчине остается только привлечь ее к себе и, бесчисленными поцелуями заглушив ее мольбы, с торжеством увлечь свою добычу. С тех пор как стоит мир, мужчины всегда так поступали, и Сайфер, как истый мужчина, это знал. Она подвергла его искушению, какое ему и во сне не снилось, — муке, пострашнее пещи огненной.
— Забудьте, что я вам сказал, Зора, будем друзьями, если — если вы так хотите.
Он сжал ее руку и отвернулся. Зора почувствовала, что ее победа немногого стоит.
— Мне пора… — сказала она.
— Нет. Посидите еще, побеседуем, как друзья. Я столько месяцев вас не видел и так соскучился!
Она посидела еще, и они мирно беседовали о многом. Прощаясь с ней, он сказал, полушутя — полусерьезно:
— Я часто спрашивал себя, что вас могло привлечь в таком человеке, как я.
— По всей вероятности, то, что вы большой человек, — ответила Зора.
20
После обеда с Зорой Септимус пошел опять в свой клуб, вдвойне благословляя судьбу: во-первых, Фортуна, в неизреченной своей милости, вернула ему благоволение его богини; во-вторых, ему удалось в разговоре с Зорой обойти вопрос о том, что они живут врозь с Эмми. В течение нескольких часов он размышлял о сложных отношениях между Зорой, Сайфером, Эмми, им самим и в конце концов совершенно запутался. Он жаждал греться в лучах своего божества, но для женатого, хотя бы формально, человека это казалось ему не слишком удобным. Его стараниями Клем Сайфер теперь тоже мог греться на том же солнышке, и Септимуса смущала мысль, что они оба будут наслаждаться таким счастьем одновременно. К тому же он опасался, что Зора не очень-то поверит в его несносный характер и придирчивость в качестве уважительных причин для того, чтобы не жить вместе со своей женой. В результате бедняга не сомкнул ночью глаз, а утром, словно кролик, забрался в свою норку в Нунсмере. Как бы то ни было, собачий хвостик сделал свое дело.
Это было в пятницу. А в субботу утром его разбудил Вигглсвик. Костюм последнего не являл собою образец костюма примерного слуги. На нем была распахнутая на груди старая цветная рубашка, панталоны, подтянутые красными подтяжками к самым плечам, и стоптанные ковровые туфли.
— Тут письмо.
— Так опустите его в ящик, — сонным голосом ответил Септимус.
— Зачем же опускать? Это не вы писали, а миссис. Марка французская, а штемпель парижский. Вы бы лучше прочли.
Он положил письмо на подушку и отошел к окну полюбоваться видом окрестностей. Септимус, окончательно проснувшись, прочитал письмо. Эмми писала:
Милый, дорогой Септимус!
Я не могу дольше выносить это одиночество в Париже. Не могу и не могу! Если бы вы были здесь и я могла вас видеть хоть раз в неделю, это бы еще ничего; но жить здесь день за днем совсем одной, не слыша от вас ни одного утешительного слова, — этого я не в силах вынести. Вы пишете, что моя квартира готова. Я сейчас же выезжаю с беби и мадам Боливар, которая клянется, что никогда меня не покинет. Как она будет жить в Кондоне, не зная ни слова по-английски, не могу себе представить. Если и Зора там, мне все равно. Теперь я не боюсь. Может быть, мне даже лучше повидаться с Зорой — лучше для вас. А для меня, как мне кажется, это теперь совершенно безопасно. Вы не возненавидите меня, милый мой Септимус, не сочтете страшной эгоисткой за то, что я вас не послушалась? Но поймите же, вы мне нужны. Так нужны, так нужны! Спасибо за игрушечную железную дорогу. Беби с наслаждением слизывает язычком краску с вагонов, но мадам Боливар говорит, что это для него вредно. Милый, если бы я не думала, что вы простите меня за то, что я вам докучаю, я бы не стала докучать.
Ваша всегда признательная Эмми
Септимус раскурил недокуренную трубку, уже третий день лежащую поверх одеяла и, заметив, что Вигглсвик все еще здесь, нарушил его созерцание природы вопросом, был ли тот женат.
— И даже очень. Сколько раз!
— Боже мой! Как это так?! Вы, значит, были двоеженцем?
— Зачем? Я сперва хоронил одну — честь честью, а потом уже женился на другой.
— Это было очень мило с вашей стороны.
— Я так поступал из благодарности.
— За их доброту?
— Нет, за то, что избавлялся от них. О, я немало набрался опыта, прежде чем постиг блаженство одинокой жизни.
Септимус вздохнул.
— А ведь это, должно быть, очень приятно, Вигглсвик, иметь жену?
— Да ведь у вас же есть.
— Да, да, конечно. Я думал о тех, у кого нет.
Вигглсвик с таинственным и конфиденциальным видом приблизился к постели своего хозяина.
— Вы не находите, сэр, что нам здесь живется очень уютно и удобно?
— Д-да, — нерешительно проговорил Септимус.
— Мне, по крайней мере, не на что жаловаться. Провизия свежая, спать тепло, пиво вкусное, опять же всякие ягоды… Чего еще нужно человеку? Не бабу же. Баба — всегда помеха.
— Вам не холодно, Вигглсвик, вот так, в одной рубашке? — нерешительно осведомился Септимус.
Вигглсвик не счел нужным понять деликатный намек.
— Холодно? Нет. Если бы мне было холодно, я бы живо согрелся. Я только хотел сказать вам, мистер Дикс, что теперь, когда вы с миссис на время расстались, — вы не находите, что так и удобнее, и уютнее? Я, конечно, ничего не говорю. Если она сюда приедет, я буду все делать исправно. Я свое дело знаю. Но знаете, сэр, женщина, — как пойдет она наводить всюду чистоту, да пыль сметать, да мыться горячей водой, да цветы расставлять по вазам, — ужасно много от нее суеты. Я не раз был женат, так знаю. Вы не думаете, сэр, что нам с вами было бы лучше вдвоем, как сейчас?
— Нам, разумеется, недурно, — вежливо ответил Септимус, — но я все-таки боюсь, что вам сегодня же придется заняться чисткой и сметанием пыли. Мне очень совестно вас беспокоить, но миссис Дикс вернулась в Англию и, может быть, сегодня же вечером будет здесь.
Тень неудовольствия скользнула по грубому хитрому лицу старого вора. Тем не менее, он воскликнул:
— Я рад! Я страшно рад!
— Очень приятно это слышать, — ответил Септимус. — Принесите мне воды для бритья.
— Вы что же, вставать будете? — недоверчиво и ворчливо осведомился Вигглсвик.
— Ну да.
— Значит, и завтрак вам надо готовить?
— О нет! — Септимус улыбнулся своей бледной улыбкой, которая как будто просачивалась сквозь его черты. — С меня вполне достаточно послеобеденного чая — ну там немного ветчины, яиц, еще чего-нибудь…
Старик ушел, ворча, а Септимус еще раз перечел письмо. Как это мило со стороны Эмми, думал он, писать ему такие ласковые письма.
Все утро, теплое, хотя была осень, он провел на выгоне, советуясь о делах житейских с утками в пруду и с хромым осликом, поскольку все еще пребывал в нерешительности. Чем больше он думал о письме Эмми и о взглядах на женщин Вигглсвика, тем меньше был склонен соглашаться с последним. Он сам соскучился по Эмми, которая была с ним очень нежна после их беседы при луне в Оттето-сюр-Мер. Скучал и по беби: в последние дни в Париже мальчик по-детски в него влюбился и тотчас же переставал плакать или мирно засыпал, как только ему удавалось зажать в своей ручонке прядь волос названного папаши. Ему недоставало многого, к чему он уже успел привыкнуть; все это были мелочи, едва заметные, однако же, значившие для него очень много. Совсем ему не было ни уютно, ни удобно со старым негодяем Вигглсвиком.
И Септимус по-своему, не вполне осознанно, радовался скорому приезду Эмми. По всей вероятности, он будет жить поочередно в Нунсмере и в Лондоне. Побывав на днях у своих банкиров, чтобы распорядиться относительно перевода денег в Париж, молодой человек очень удивился, узнав, насколько увеличилось его состояние. Директор банка, на редкость осведомленный человек, объяснил ему, что одно предприятие, в котором у него было много акций, необычайно быстро пошло в гору, и дивиденды его утроились.
Септимус ушел от него в полной уверенности, что коммерческие предприятия представляют собой образец великодушия и альтруизма. Из разговора с необычайно сведущим банкиром он уяснил только то, что теперь будет получать на несколько сотен фунтов в год больше прежнего, и уже мечтал о более пышной резиденции для Эмми и ребенка, чем ее крохотная квартирка в Челси. Он уже приметил на Беркли-сквер несколько очень милых домов. Интересно было бы знать, сколько может стоить в год квартира в таком доме вместе со всеми налогами. Он решил, как только Эмми приедет, поговорить с ней об этом. Уильям Октавий Олдрив-Дикс, будущий член парламента, должен был начать свою жизнь в Англии в соответствующей обстановке.
Под вечер к нему вихрем ворвался Клем Сайфер, приехавший, как всегда, провести конец недели в Нунсмере. Он привез важные вести. Его знакомый, важная персона в военном министерстве, пишет ему, что чрезвычайно заинтересовался новой скорострельной пушкой Дикса, хочет сейчас же начать ее испытания и желал бы лично познакомиться с изобретателем.
— Очень мило с его стороны, — сказал Септимус, — но как это? Значит, мне надо ехать знакомиться с ним?
— Конечно. Вам придется теперь бывать в различных департаментах, вести беседы с артиллеристами и инженерами, самому руководить экспериментами. Вы сразу станете важной персоной.
— О Боже! Нет, я не могу — честное слово не могу.
Он пришел в ужас при одной только мысли о том, что его ждет.
— Ничего не поделаешь, придется, — смеялся Сайфер.
Септимус ухватился за соломинку.
— Да у меня и времени не будет. Эмми приезжает в Лондон — надо заняться воспитанием ребенка. Я хочу, чтобы он пошел в Кембридж. А знаете что? — осенила его вдруг блестящая мысль. — Я ведь и так богат; мне совсем не нужны деньги. Я лучше продам вам мои новые пушки за двести фунтов, которые вы мне дали авансом, и поставлю крест на этом деле, чтобы меня больше не беспокоили.
— Ну, прежде, чем делать кому-либо такие предложения, по-моему, вам следовало бы посоветоваться с миссис Дикс, — усмехнулся Сайфер.
— Или с Зорой.
— Или с Зорой. Она приехала со мной в одном поезде. Я уже сообщил ей эти добрые вести. Она страшно рада.
Он не добавил, что, несмотря на свою радость, Зора все же отнеслась к его сообщению скептически. Она очень любила Септимуса, но не могла себе представить, чтобы он в какой-то области человеческой деятельности изобрел что-нибудь путное. Может ли исходить что-то хорошее из Назарета[20]?
Полчаса спустя явилась и сама богиня, в сопровождении Вигглсвика, который на досуге курил у ворот трубку. Она явилась раскрасневшаяся, взволнованная и негодующая; при виде Сайфера, Зора за секунду остановилась у порога. Когда она вошла, Сайфер взялся за шляпу.
— Нет, нет, не уходите. Вы можете нам помочь. По всей вероятности, вы уже знаете.
У бедного Септимуса упало сердце: он знал, о чем говорит Зора.
— Да, Сайфер знает; я ему сказал.
— Почему же вы мне сами не сказали этого, милый Септимус, вместо того, чтобы предоставить мне обо всем узнать от мамы и кузины Джен? По-моему, вы поступили даже недобросовестно по отношению ко мне.
— Я забыл, — в отчаянии оправдывался Септимус. — Видите ли, я то помню об этом, то забываю. Как-то не привык быть женатым. Вот Вигглсвик — тот был женат несколько раз. Он мне сегодня дал много полезных советов относительно семейной жизни.
— Но все-таки это правда? — допытывалась Зора, не интересуясь советами Вигглсвика.
— О да. Видите ли, у меня такой дурной характер…
— Что такое?
Увильнуть от ответа было невозможно. Зора восприняла все именно так, как и ожидал Септимус. Он начал было перечислять ей свои недостатки, но она только хохотала, и Сайфер, который обрадовался такому обороту дела, смеялся вместе с ней.
— Мой милый, бедный Септимус, я не верю ни одному вашему слову, — заявила, наконец, Зора. — Только фурия не смогла бы ужиться с вами. И хотя Эмми мне сестра, я все же скажу, что она поступает с вами возмутительно.
— Да нет же! Вы ошибаетесь, — уверял бедный Септимус. — У нас с ней чудесные отношения. Поверьте, мне самому хочется жить одному. Ну честное слово! Я не могу жить без Вигглсвика. Посмотрите сами, как он заботится, чтобы мне было хорошо и уютно.
Зора огляделась и ахнула от такого «уюта». Со старых дубовых балок, уложенных поперек потолка, свешивалась паутина. Из камина, наверное, уже дня три не выгребали золу, и она сыпалась на решетку. На грязных окнах не было занавесок. Она провела пальцем по зеленой суконной скатерти и показала оставшийся на ней пыльный след. Серебряные канделябры на камине потускнели и покрылись темным налетом. Зеркало было засижено мухами. В углу на подносе стояли остатки вчерашней трапезы, и с тарелки, на которую вперемешку были свалены эти остатки, струйка соуса стекала на соседнее кресло. На полу валялся, словно пьяный гость, серый от пыли нечищенный сапог. Из кресла, на котором сидела Зора, торчали наружу пружины.
— Это какой-то свиной хлев, а не комната, — возмутилась она. — Просто грешно оставлять вас на попечении этого негодного плута. Ну с ним-то я еще поговорю по-свойски. Потом напишу Эмми. А если и это не поможет, сама поеду к ней в Париж и разберусь с ней.
Перед своим приходом она выдержала жестокий словесный бой с кузиной Джен, которая приняла сторону Эмми и отзывалась о Септимусе с убийственным презрением. Зора примчалась к нему, пылая негодованием, а теперь рассердилась еще пуще. Оба друга смотрели на нее с грустным обожанием, ибо в своем праведном гневе Зора была поразительно хороша. И в сердце каждого из них этот восторг еще более усугубляло сознание трогательной нелепости ее праведного гнева. То, что так ее возмущало, происходило из-за нее и ради нее, — а она даже не подозревала об этом. Сайфер молчал, боясь неосторожным словом выдать тайну Септимуса, а тот мог только бормотать бессвязные слова о совершенствах Эмми, собственной неполноценности и о золотой душе, живущей в непривлекательной телесной оболочке Вигглсвика.
Но Зора твердила, что она и слушать не желает такой чепухи. Могла бы Эмми, по крайней мере, позаботиться о том, чтобы ее муж не жил в грязи и в пыли, если уж она ничего больше для него не может сделать. Она, Зора, уверенная в том, что для нее все возможно, берется присмотреть за тем, чтобы Эмми выполнила этот свой долг. Нет, писать не стоит — она завтра же утренним поездом едет в Париж. И самое лучшее, чтобы Септимус поехал вместе с ней.
— В Париж вам ехать незачем. Если не ошибаюсь, миссис Дикс уже на пути в Лондон, — вставил Сайфер.
Зора вопросительно посмотрела на Септимуса; тот принялся что-то сбивчиво и многословно объяснять. Не дослушав его, Зора решила отказаться от поездки в Париж. Хорошо, она подождет Эмми в Нунсмере. Так как на время инцидент был исчерпан, Септимус в качестве радушного хозяина предложил гостям чай.
— Я займусь чаем, — вызвалась Зора. — Это для меня будет удобным поводом дружески побеседовать с Вигглсвиком.
И она величественно выплыла из комнаты. Оба друга некоторое время молча курили. Наконец Сайфер спросил:
— Что побудило вас послать ей отбитый хвостик фарфоровой собачки?
Септимус покраснел и, не выпуская папиросы, запустил пальцы в волосы, посыпав при этом пеплом свою голову.
— Видите ли, это я сломал собачку. Нечаянно. Смахнул ее с камина. Со мной всегда случаются такие вещи. Когда у Эмми будет приличная квартира, я изобрету какой-нибудь способ предохранять собачек и прочие вещицы от падения с камина.
Сайфер перебил его.
— Знаете ли вы, что вы мне оказали одну из тех услуг, какие редкий мужчина способен оказать другому. Умирать буду — не забуду этого. Вернув мне Зору, вы спасли мой рассудок, сделали меня другим человеком. Я — Клем Сайфер, но настоящий Друг человечества — это вы.
Септимус смотрел на него испуганными глазами средневекового преступника, корчащегося под тяжестью проклятий церкви, и униженно оправдывался.
— Это было все, что я мог сделать.
— Конечно. Потому вы это и сделали. Мне и в голову не пришло, когда вы мне сказали, чтобы я не сходил с ума, пока не увижусь с Зорой, что вы намерены ее сюда выписать. Теперь я на все смотрю иными глазами.
Он встал, расправил могучие плечи и доверчиво улыбнулся жизни своими ясными голубыми глазами. Два маленьких словечка Зоры вернули ему былую уверенность в себе и сознание своего высокого предназначения. Из ее уст он услышал те же слова, которые повергли его в такое уныние, когда их произнес Раттенден. Она назвала его большим человеком. Как многие выдающиеся люди, он был суеверен, и уверовал в пророчество Раттендена относительно Зоры. Мир для него обновился; он был готов начать новую жизнь — и подумать только, что всем этим он обязан Септимусу!
Затем в комнату, тяжело ступая, ввалился Вигглсвик, хмурый, озабоченный, видимо, уже приструненный Зорой, и унес поднос и тарелку с пролитым соусом. Что между ними произошло, ни он, ни Зора потом не рассказывали, но весь тот вечер и все последующие дни Вигглсвик провел в неустанной работе, в результате его трудов весь дом стал чистеньким, как когда-то его тюремная камера. В глазах самой Зоры светилось торжество, когда она вошла через несколько минут с чайным подносом в руках, вызвав улыбку на лице Сайфера и грешную радость в кротком сердце Септимуса.
— Ну, друзья мои, я нахожу, что мне давно пора было вернуться домой, — сказала Зора, разливая чай.
Оба друга горячо это подтвердили. Западное полушарие, где она так замешкалась, прекрасно могло обойтись без нее, между тем как в старом восточном полушарии без Зоры все разваливалось. За чаем они весело болтали. Теперь, когда Зора приструнила Вигглсвика, составила план кампании против Эмми и установила очень деликатные и приятные отношения с Сайфером, она могла себе позволить излить всю свою чарующую веселость и заботливость на верноподданных. Она была бесконечно рада снова их увидеть. Нунсмер неожиданно как будто вырос теперь она уже дышала здесь свободно и не ударялась головой о балки потолка.
Зора дружески подтрунивала над Септимусом по поводу его нового изобретения.
— Знаете, он его боится, — сказал Сайфер.
— Что это значит: боится, что пушка при нем выстрелит?
— О нет, — отнекивался Септимус. — Точно я не слыхал пушечных выстрелов!
— А где же вы могли их слышать? — удивилась Зора.
Септимус вспыхнул и не сразу придумал один из тех курьезных уклончивых ответов, под которыми он прятал свою застенчивость. Он заерзал на стуле. Зора шутливо приставала к нему:
— Ну так когда же вы слышали пушечные выстрелы? Во время салютов в честь короля в Сент-Джеймском парке?
— Нет.
Септимус сидел спиной к свету, и она не видела его смущенного лица. И ей хотелось, чтобы он рассказал еще о каком-нибудь своем нелепом чудачестве.
— Где же все-таки это было? Почему вы все облекаете такой таинственностью?
— Хорошо, я вам скажу… Я никогда никому не говорил, даже Вигглсвику. Не люблю об этом вспоминать, обидно. Вы вот все удивляетесь, откуда у меня такие познания в артиллерии. Я ведь одно время был артиллерийским офицером.
— Но почему же вам больно об этом вспоминать, милый мой Септимус?
— Они нашли, что я никуда не гожусь, и отстранили меня от должности. Полковник сказал, что я — позор для офицерства и недостоин носить военный мундир.
Клем Сайфер гневно стукнул кулаком по ручке кресла и вскочил на ноги.
— Клянусь вам, я заставлю этого идиота взять свои слова обратно! Я вколочу их ему в глотку шомполом новой пушки! Я добьюсь, чтобы вся армия гордилась тем, что вы когда-то носили военный мундир. Я всю свою жизнь посвящу этому. Пушки Дикса сметут все человечество с лица земли!
— Да я же вовсе не хочу этого, — слабо запротестовал Септимус.
Зора ласково извинилась перед ним за свою неделикатность и, посулив ему всемирную известность и радости в семейной жизни, ушла домой растроганная. Она готова была расцеловать Сайфера за его рыцарственную вспышку. Ее глубоко тронул трагический рассказ Септимуса, но, обладая чувством юмора, она не могла в то же время удержаться от улыбки, представляя себе Септимуса в офицерском мундире, командующего батареей.
21
Кузина Джен уже принялась было за укладку своих чемоданов, но Зора попросила ее не уезжать, пока не прояснятся ее собственные планы на будущее. Как только вернется Эмми, она поедет в Лондон — разыгрывать там роль доброй крестной волшебницы, что может потребовать довольно много времени; зачем же оставлять маму одну? Миссис Олдрив всей душой одобрила намерение старшей дочери примирить супругов и умоляла ее уговорить обоих приехать в Нунсмер, чтобы викарий скрепил их нечестивый гражданский брак венчанием в церкви, как приличествует порядочным и уважающим себя англичанам. Она была твердо убеждена, что после венчания никому из них и в голову не придет жить врозь. Зора обещала сделать все, что в ее силах, но кузина Джен продолжала высказывать свое недовольство. По ее мнению, было бы куда лучше запереть этого юродивого в убежище для безнадежных идиотов, а Эмми привезти в Нунсмер, где ребенок сможет получить приличное воспитание. Зора была совсем иного мнения, но не желала вступать в бесполезный спор.
— Все, о чем я попросила бы вас, дорогая Джен, — сказала она, — это позаботиться о маме еще немножко, пока я сделаю то, что считаю своим долгом.
Она не сообщила кузине Джен, что известная свобода действий нужна была ей еще и для выполнения своего долга по отношению к Клему Сайферу: кузина Джен не отличалась чуткостью, и ее комментарии могли быть неприятными. Когда Зора сообщила Сайферу о том, что намерена ради него и Эмми вести кочевую жизнь, курсируя между Лондоном и Нунсмером, он рассыпался в восхвалениях ее ангельской доброты. Ее присутствие, говорил он, как солнце, озарит его жизнь в трудные дни — близится время, когда придется совсем закрыть бермондсейскую фабрику, и тогда крем Сайфера канет в пропасть забвения.
— А вы подумали о будущем — о том, что предпримете потом? — спрашивала она.
— Нет, но я верю в свою счастливую звезду.
Зора нашла, что это очень красиво, но недостаточно практично.
— Неужели у вас ничего не останется после ликвидации дела?
— Я никогда не думал, что пустые карманы могут быть такими полными.
Сайфер завтракал в доме миссис Олдрив, и Зора пошла проводить его. Проходя через выгон, они набрели на Септимуса, сидящего возле пруда. Он поднялся им навстречу. На нем было застегнутое до самого горла пальто и холщовая шапочка. Зоркий глаз Зоры тотчас заметил отсутствие на нем воротничка.
— Как! Вы еще не одеты? О, вам обязательно нужна жена, чтобы за вами присматривать.
— Я только что встал, а Вигглсвик со своей уборкой перевернул вверх дном мою спальню, и я никак не мог найти запонки. Видите ли, я всю ночь думал, а думать и спать одновременно — это как-то не получается.
— Еще одно изобретение? — смеясь спросила Зора.
— Нет, старые. Я попробовал их сосчитать. Вы знаете, у меня ведь уже с полсотни патентов, в том числе на изобретения, не доведенные до конца, из которых, может быть, и могло бы что-нибудь выйти. И вот я подумал, что если их все передать Сайферу, то он с помощью сведущих людей сумеет найти моим идеям практическое применение, создать компанию с мастерскими для выпуска изделий. По-моему, на этом можно заработать кучу денег.
Он снял шапочку и принялся ерошить волосы.
— Да и мои пушки тоже; я бы хотел, чтобы вы и ими занялись. Наш вчерашний разговор навел меня на эти мысли.
Сайфер похлопал Септимуса по плечу и сказал, что все это очень мило и благородно с его стороны, но как он может принять такое предложение?
— Нет, честное слово, там не один только хлам, — жалобно уверял Септимус. — Там есть, например, один патентованный пробочник, который отлично действует. Вигглсвик всегда им откупоривает бутылки.
Сайфер смеялся.
— Ну хорошо, я вам скажу, что мы можем сделать. Мы втроем можем основать фирму для эксплуатации изобретений Дикса и выплачивать ему львиную долю прибыли.
— Блестящая мысль, — одобрила Зора.
Но Септимуса это не удовлетворило.
— Мне хотелось подарить их Сайферу.
Зора, смеясь, напомнила ему, что нужно позаботиться о средствах к существованию для будущего члена парламента. Поэтому деньги очень даже пригодятся. Она не могла отнестись серьезно к изобретениям Септимуса, но Сайфер, оставшись наедине с ней, заговорил о них с большим энтузиазмом:
— Кто знает? Быть может, у него действительно есть новинки, представляющие огромную коммерческую ценность. Многие из его выдумок нелепы, но некоторые из них очень интересны. Например, изобретенные им новые полевые пушки. Ум, создавший их, способен изобрести что угодно. Почему бы мне и не посвятить свою жизнь распространению изобретений Дикса по всей земле? Идея колоссальная. И не одно изобретение, а целых полсотни — от пробочника до скорострельной пушки. Это будет получше крема Сайфера, не правда ли?
Зора быстро на него взглянула, чтобы убедиться в том, что в его словах нет горечи. Но нет, лицо его сияло, как в те дни, когда он пел хвалы собственному изобретению и вся земля представлялась ему одним сплошным струпом, который он излечит кремом Сайфера.
— Ну скажите же, что вы со мной согласны, — сказал он.
— Да, получше, — согласилась она. — Но все-таки это химера.
— Как и все мечты. И все же, Зора, я не хотел бы отучиться мечтать. Можно отказаться от табака и алкоголя, от чистых воротничков и прислуги — от чего угодно, но только не от мечтаний. Без них земля — какие-то задворки.
— А с ними?
— Дивный цветущий сад.
— Боюсь, вам придется разочароваться в бедном Септимусе, но все же я рада, что вы в него поверили. Мне не хочется, чтобы вы брались за дело, в которое не верите. Для другого это, может быть, и годится, но не для вас.
— Значит, вам бы не хотелось, чтобы я продолжал торговать шарлатанскими средствами?
Зора вся залилась румянцем, но храбро созналась:
— Да, у меня была такая задняя мысль. Но ведь я же высказала ее в виде комплимента.
— Зора, уронив себя в вашем мнении, я утратил бы самую заветную свою мечту.
Вечером в Пентон-Корт пришел Септимус, чтобы обсудить с Сайфером свой новый план. Вигглсвик, до смерти боявшийся Зоры, приготовил хозяину выглаженный вечерний костюм, и тот послушно его надел. Он и обедал теперь по-человечески, так как старый лентяй за свою многоопытную жизнь научился довольно сносно стряпать. И Септимус говорил, что он в неоплатном долгу у Зоры, которой обязан исправлением своего старого слуги.
— Если вы в долгу у нее, то почему же расплачиваетесь со мной?
Сайфер встал, смеясь, заглянул в расстроенное лицо своего гостя и ласково положил обе руки на плечи Септимуса:
— Нет, нет, не возражайте. Я знаю. Я знаю о вас больше, чем вы думаете, и вижу вас насквозь, мой дорогой. Но, поймите же, что я не могу принять в дар ваши патенты — неужели вы не понимаете?
— Я все равно ничего не смогу с ними сделать.
— А вы пробовали?
— Нет.
— Ну так я попробую. Давайте объединимся: я вношу свою энергию и деловой опыт, а вы — свои мозги. Это будет справедливо и почетно для нас обоих.
Септимус, наконец, сдался.
— Если и вы и Зора находите, что так лучше, пусть будет по-вашему, — решил он, хотя в глубине души остался не вполне удовлетворен.
Несколько дней спустя в контору Сайфера явился Шеттлворс с более веселым, чем обычно, лицом и попросил разрешения переговорить с патроном.
Сайфер пригласил его сесть. Дав согласие работать на конкурента, Шеттлворс старался по возможности избегать своего хозяина и не смел смотреть ему в глаза. Но сегодня он был явно собой доволен.
— Я пришел с деловым предложением, сэр, которое, надеюсь, будет вам приятно, — начал он.
— Рад это слышать.
— С гордостью могу сказать, что это была моя идея и я очень старался ее осуществить. Мне хотелось доказать вам, что я не неблагодарный человек, что я помню вашу доброту и мой уход от вас — не такой уж нечестный поступок, как вы, может быть, думали.
— Я никогда не обвинял вас в нечестности. У вас жена и дети. Вы сделали единственное, что могли сделать.
— Вы снимаете с моей души большую тяжесть, сэр.
Шеттлворс тяжело перевел дух, словно и в самом деле сбросил со своих плеч тяжкое бремя.
— Что же вы хотите мне предложить? — спросил Сайфер.
— Компания Джебузы Джонса поручила мне сделать вам предложение, чрезвычайно выгодное для обеих сторон. Ведь вы намереваетесь закрыть завод и прекратить работы, словом, ликвидировать дело?
— Да, таково мое намерение.
— Вы выйдете из него не банкротом, но не более чем с тысячей фунтов, или около того, в кармане. А крем вообще прекратит свое существование.
— Совершенно верно, — подтвердил Сайфер. Он сидел, откинувшись на спинку кресла и держа в обеих руках разрезной ножик из слоновой кости.
— Но ведь это же страшно обидно — крем пользуется такой популярностью! Если ваше дело немного субсидировать и более или менее освободить от конкуренции, оно станет еще очень выгодным. Вот мне и пришло в голову: почему бы компании Джебузы Джонса не взяться за продажу крема Сайфера наряду со своей мазью от порезов. Они согласились со мной и хотели бы договориться с вами относительно условий, на которых вы могли бы передать им дело в том виде, как оно есть, — разумеется, с вашим именем, рекламой и фабричным клеймом, — с тем, чтобы компания Джонса выплачивала вам определенный процент прибыли.
Сайфер молчал. Разрезной ножик из слоновой кости сломался пополам в его руках и он небрежно бросил обе половинки на письменный стол.
— Вы, конечно, понимаете, насколько выгодна для вас такая комбинация, — продолжал Шеттлворс, которого начинало тревожить загадочное молчание его патрона.
— Ясное дело, — сказал Сайфер. И, помолчав, добавил:
— Они что же намереваются просить меня продолжать заведовать отделом продажи крема Сайфера?
Шеттлворс не почувствовал иронии в этом вопросе.
— Нет, то есть не совсем так, — пробормотал он.
Сайфер угрюмо усмехнулся.
— Я пошутил, Шеттлворс. Разве вы не замечали раньше, что я люблю иной раз пошутить? Нет, конечно, заведовать продажей крема будете вы.
— Мне на этот счет ничего не известно, сэр, — поспешил его заверить Шеттлворс.
Сайфер встал и молча заходил по комнате; управляющий тревожно следил за ним взглядом. Сайфер остановился перед большим рекламным плакатом.
— И это они тоже хотят взять вместе с остальным?
— Полагаю, да. Это ведь ценная вещь — часть инвентаря.
— И модель Эдинбургского дворца, и автографы благодарных клиентов, и моя марка «Клем Сайфер, Друг человечества»?
— В модели мало проку. Разумеется, вы можете оставить ее себе на память, если захотите.
— Чтобы держать ее в качестве забавного сувенира на столе в гостиной?
На этот раз Шеттлворс улыбнулся, догадавшись, что бывший его хозяин шутит.
— Это как вам будет угодно. Но ваше имя тут, разумеется, главное.
— Понимаю, «Клем Сайфер, Друг человечества» — в этом вся суть?
— Ну и в фирменном рецепте, само собой, тоже.
— Само собой, — рассеянно повторил Сайфер, еще раз прошелся по комнате, остановился перед Шеттлворсом, секунды две пристально смотрел ему в глаза своими ясными глазами и снова зашагал по кабинету. Шеттлворс в смущении недоуменно протирал очки.
— Вы не думаете, что пора бы нам приступить к детальному обсуждению условий?
— Нет. Не думаю. — Сайфер круто остановился посреди комнаты. — Сначала надо, чтобы я дал принципиальное согласие.
Шеттлворс от изумления даже привстал: — Но неужели вы можете колебаться? Не вижу причины…
— Я не сомневаюсь, что вы не видите. Когда вам нужен ответ?
— Чем скорее, тем лучше.
— Приходите ко мне через час — я дам ответ.
Шеттлворс удалился. Сайфер сидел за письменным столом, облокотившись подбородком на руки; ему приходилось вести борьбу со своей собственной душой, а это, как всем известно, весьма неудобная штука, которую человеку приходится носить у себя в груди. Через несколько минут он позвонил по телефону в Шефтсбери-клуб, где рассчитывал найти Септимуса. Тот собирался приехать в город, чтобы повидаться с Эмми, которая накануне вечером должна была вернуться из Парижа.
— Да, мистер Дикс здесь. Он только что позавтракал и сейчас подойдет. — Сайфер ждал, не отнимая от уха трубку.
— Это вы, Септимус? Говорит Клем Сайфер. Приезжайте сейчас же на Маргет-стрит. Очень нужно — неотложное дело. Берите кэб и велите гнать вовсю. Спасибо.
Он снова сел к столу и сидел неподвижно. Полчаса спустя явился Септимус, очень встревоженный.
— Я был уверен, что найду вас в клубе. И не сомневался, что вы приедете. Во всем этом я вижу перст судьбы. Да будет вам известно, что я собираюсь совершить такую глупость, каких еще свет не видывал.
Септимус пробормотал несколько слов, из которых явствовало, что ему очень грустно это слышать.
— Я думал, вы обрадуетесь.
— Все зависит от того, в чем будет заключаться ваша глупость, — воскликнул Септимус, озабоченный внезапно появившейся пророческой догадкой. — У Теннисона есть об этом. Я, видите ли, редко читаю стихи, — пояснил он, как бы извиняясь, — разве что иногда по-персидски. Я ведь больше интересуюсь машинами. Отец, бывало, если застанет меня с книжкой стихов, сейчас же швырнет ее в огонь, но мама иногда читала мне вслух и стихи. Ах, да, о чем это я? — О Теннисоне. Как там у него?
— Неплохо быть таким глупцом. — Он беспокойно оглянулся. — Ах ты, господи! Ведь я зонтик оставил в кэбе. Вот таким глупцом, как я, нехорошо быть.
Он бледно улыбнулся, уронил шляпу на пол и, наконец, уселся.
— Мне надо сообщить вам кое-что, — начал Сайфер, стоя на коврике у камина и положив руки на бедра. — Я только что получил от Джебузы Джонса выгодное предложение.
Септимус слушал внимательно, удивляясь, почему его друг решил посоветоваться именно с ним, таким неделовым и непрактичным, да еще и вызвал его сюда так спешно. Если бы он только знал, что Сайфер его считает своей воплощенной совестью, то провалился бы сквозь землю от страха и смущения.
А Сайфер продолжал:
— Приняв это предложение, я буду до конца своих дней обеспечен, и очень неплохо. Я смогу жить, где хочу, и делать, что хочу. Абсолютно ничего нечестного тут нет. Ни один человек не скажет обо мне, что как коммерсант я поступил нечестно. Ни один деловой человек в здравом уме не отказался бы от такого предложения. Если я его отвергну, мне придется начинать жизнь сначала без гроша в кармане. Как же мне поступить? Скажите мне.
— Я? Почему же я? — испуганно отмахнулся от него Септимус. — Я такой осел в подобных вещах.
— Это ничего не значит. Я сделаю именно так, как вы скажете.
Септимус подумал и нерешительно проговорил:
— На вашем месте я бы поступил так, чтобы Зора была довольна. Она не испугается пустых карманов.
Сайфер хлопнул себя рукой по лбу и закричал:
— Я знал, что вы это скажете! Я для того и вызвал вас, чтобы вы это сказали. Слава Богу! Я люблю ее, Септимус. Люблю всем своим существом. Если бы я продал этим людям свое имя, я продал бы им свою честь, свое право первородства за чечевичную похлебку. И никогда бы уже не посмел взглянуть ей в глаза. Выйдет она за меня или нет, не имеет значения. Вы бы на моем месте не стали ведь с этим считаться? Вы бы поступили так, как должны поступать честные глупцы, и точно так же поступлю я.
Он метался по комнате, страшно взволнованный, изливая в словах долго сдерживаемое возбуждение. Громко смеялся, кричал о своей любви к Зоре, тряс руку озадаченного друга и уверял его, что только он один из всех людей — он, Септимус, ответственен за это великое решение. И пока Септимус удивленно спрашивал себя, что бы это могло значить, он позвонил и велел позвать Шеттлворса.
Управляющий вошел с хмурым лицом, но при виде веселого патрона тотчас же просиял.
— Ну, Шеттлворс, я все обдумал.
— И решили?
— Отказаться наотрез.
Управляющий ахнул.
— Но, мистер Сайфер, подумали ли вы, что…
— Мой добрый Шеттлворс, за все годы совместной работы был ли хоть раз случай, чтобы я сказал вам, что я обдумал и решил, когда еще не обдумал?
Шеттлворс выбежал из комнаты, хлопнув дверью, и с этого дня всем говорил, что Клем Сайфер всегда был полусумасшедший, но теперь он совершенно спятил — того и гляди, начнет кусаться. И те, кому он говорил, с ним соглашались.
А Сайфер покатывался со смеху.
— Бедный Шеттлворс! Он так старался все устроить. Мне его жаль. Но я не могу служить одновременно Богу и маммоне[21].
Септимус встал и поднял свою шляпу.
— Это удивительный поступок — удивительный! Мне хотелось бы обсудить его с вами, но надо идти к Эмми. Она только вчера вечером приехала. Сегодня я ее еще не видел.
Сайфер вежливо осведомился о здоровье Эмми и ребенка.
— Он чертовски медленно растет, но, помимо этого, здоров. Еще зубок прорезался. Я все думаю, почему дантисты не изобретут вставных челюстей для младенцев.
— А потом вы бы изобрели для них железные желудки, да? — засмеялся Сайфер.
Прощаясь, Сайфер сунул Септимусу зонтик с золотой ручкой.
— На дворе ливень, вы промокнете и простудитесь без зонта. У меня правило — никому не одалживать свои зонтики, так что этот я просто вам дарю в благодарность за добрый совет. Всего хорошего!
22
Маленькая квартирка в Челси, выметенная, вычищенная и убранная женой привратника, гостеприимно приняла Эмми, ее мальчика, мадам Боливар и весь их многочисленный багаж. Все хорошенькие занавесочки, абажурчики и безделушки были вычищены и освежены после того, как побывали в чужих руках, и комнатки смотрелись веселыми и уютными, но Эмми они показались ужасно маленькими, и она все время удивлялась, как много места в квартире занимает маленький ребенок. Выслушав ее, Септимус объяснил такую странность тем, что у ребенка очень длинное имя, но зато он, когда вырастет, будет занимать в мире не последнее место.
Все утро Эмми хлопотала, прибирая и расставляя вещи и чувствуя себя такой счастливой, как никогда еще за весь этот год. Дни скитаний Агари[22] в пустыне миновали. Грозный призрак позора, страх, что все будут на нее указывать пальцем, исчезли. На родине Эмми ждало ясное небо и определенное, достойное положение в обществе. И радость избавления от всех ужасов бесчестья пересиливала в ней горечь воспоминаний. Эмми снова была дома, в Лондоне, где все было ей знакомо и дорого. Она была почти счастлива.
Когда перед ней предстала мадам Боливар в шляпе и с корзинкой в руках, очевидно, собравшаяся на рынок за провизией, она расхохоталась, как девочка, и заставила ее повторить весь набор английских слов, которым она научила свою верную няню и домоправительницу. Оказалось, что мадам Боливар твердо помнит, как по-английски звучат капуста, салат, сахар и вообще все слова кухонного обихода.
— А если вы заблудитесь, мадам Боливар, как же доберетесь домой?
— Да уж как-нибудь найду дорогу.
Эмми благословила ее на трудный путь и отпустила. Потом она снова принялась хлопотать по хозяйству, поминутно подбегая к коляске, где лежал беби, чтобы поиграть с ним или спеть ему песенку. И почти так же часто она поглядывала на часы, удивляясь, почему не идет Септимус. Только в тайниках своего сердца, куда люди не каждый день заглядывают, она признавалась себе, как он ей нужен, как она безумно по нему истосковалась. Он запоздал. Раньше Септимус никогда не опаздывал. Чтобы попасть к ней вовремя и на то место, где они условились встретиться, он прибегал к самым невероятным ухищрениям, Иной раз одевался с вечера и ложился спать одетым, чтобы быть готовым, когда служанка разбудит его утром. Зная это, Эмми, как истая женщина, уже начала тревожиться. И когда он, наконец, позвонил, она чуть не кинулась ему на шею от радости.
— Это Клем Сайфер задержал меня, — объяснил он, снимая пальто. — Вызвал по телефону, говорит: очень нужно. А зачем, не знаю, т. е. наполовину знаю — наполовину нет. Удивительный он! Чудесный человек!
Только попозже, когда Септимус осмотрел все, что она сделала за это утро, и новый зуб беби, и новую красивую блузку, которую Эмми впервые надела в честь его прихода, и розу на ее груди, взятую из букета, присланного им накануне в честь ее прибытия, и после того как он выслушал все об успехах мадам Боливар в английском языке, получил привет от Эжезиппа Крюшо, узнал, что Зора обещала зайти после ленча, и еще много не менее важных вещей — только тогда Эмми осведомилась у него, что же случилось с Клемом Сайфером, что в нем такого чудесного и удивительного.
— Да, он удивительный, — сказал Септимус. — Он пожертвовал целым состоянием ради идеи. На прощание подарил мне зонтик и пожелал успеха. Эмми, где же зонтик? Принес ли я с собой зонтик?
— Принесли, милый, и поставили его в передней в стойку, а вот что вы сделали с добрым пожеланием, я не знаю.
— Я сохранил его в своем сердце. Ведь он совершенно необыкновенный.
Его слова пробудили любопытство Эмми. Она присела на низенькую скамеечку, перегнулась вперед и, сложив руки на коленях, приняла милую девичью позу. Потом она устремила на него свои глаза-незабудки.
— Расскажите мне все по порядку.
Он рассказал ей, как умел, о донкихотстве Сайфера и в заключение объяснил, что тот все это сделал ради Зоры.
— Зора! Вечно Зора! Все мужчины бегают за ней, словно кроме нее и женщин нет на свете. Все безумствуют из-за нее, а она взирает на это свысока и пальцем ни для кого не шевельнет. Не стоит она вашего Клема Сайфера.
Септимуса, видимо, огорчила попытка развенчать его богиню. Мгновенно поняв это, Эмми вскочила на ноги и положила свои пальчики ему на плечи.
— Простите меня, дорогой. Женщины злы, как кошки, — я ведь вам говорила, и любят царапать даже тех, кто им дорог. Иной раз чем больше любят, тем больнее царапают. Но я больше не буду — честное слово, не буду.
В замке входной двери щелкнул ключ.
— Это мадам Боливар. Я должна посмотреть, что она нам принесла. Присмотрите за беби, пока я вернусь.
Она вихрем вылетела из комнаты, а Септимус присел на стул с прямой спинкой, стоящий рядом с детской коляской. Ребенок — хрупкий и слишком маленький для своего возраста, но хорошенький и спокойный — смотрел на Септимуса голубенькими глазками и все свое упругое, как резина, личико от удовольствия собирал в складки, а Септимус дружески ему улыбался.
— Уильям Октавий Олдрив-Дикс, — шептал он, и будущий государственный деятель внимал ему с явным удовольствием, — я чрезвычайно рад вас видеть. Надеюсь, вам нравится Лондон? Мы с вами большие друзья, не правда ли? А когда вы подрастете, мы будем еще большими друзьями. Я не хочу, чтобы вы увлекались машинами: это делает человека холодным, несимпатичным, и женщины его не любят. И изобретать вам ничего не нужно. Вот почему я хочу, чтобы вы были членом парламента.
Уильям Октавий Олдрив-Дикс, слушавший его внимательно, неожиданно хихикнул, видимо, от радости. Взгляд Септимуса выразил кроткий укор:
— Зачем же вы пускаете столько слюны, когда смеетесь? Точно Вигглсвик!
Ребенок не ответил. Разговор заглох. Когда Септимус нагнулся посмотреть его зубок, мальчик ухватился ручкой за его волосы. Септимус улыбнулся и поцеловал сморщенное розовое личико и пухлые влажные губки. Он задумался, а ребенок уснул, не выпуская пряди его волос.
Вернувшаяся Эмми поспешила на помощь Септимусу, поймав его молящий взгляд, и высвободила этого нового Авессалома[23].
— Ах вы, милый! Почему же вы сами не отвели его ручонки?
— Я боялся его разбудить. Опасно неожиданно будить детей. Нет, положим, не детей, а лунатиков. Но ведь, может быть, он лунатик, а так как он еще не ходит, мы не знаем этого. Интересно, удалось бы мне изобрести прибор, который удерживал бы лунатиков на краю крыши?
Эмми хохотала.
— Довольно того, что вы изобрели мадам Боливар. Удивительная женщина! Она уверяет, что ее сразу все стали понимать на рынке.
Септимус остался завтракать, и завтрак прошел очень весело, причем оба они благословляли Эжезиппа Крюшо, познакомившего их «с теткой, которая умеет готовить». Признательность Септимуса была столь велика, что он даже предложил прибавить к именам беби еще и Эжезипп, но Эмми возразила, что об этом надо было думать раньше — теперь ребенок уже записан и прибавлять новые имена нельзя. Так что вместо того они выпили за здоровье зуава какого-то необыкновенного красного вина, добытого для них мадам Боливар неведомо от какого поставщика опасных химических составов. Но оба нашли вино превосходным.
— Знаете ли вы, — говорила Эмми, — что все это для меня значит?
Септимус окинул одобрительным взглядом маленькую столовую.
— Это значит, что вы дома. Вы и мне должны подыскать точно такую же квартирку.
— Рядом с нашей?
— Если она будет чересчур близко, я, пожалуй, слишком часто буду сюда приходить.
— Вы полагаете, что это может быть слишком часто? Впрочем, вы правы.
Помолчав, Эмми пристально поглядела на него и неожиданно трагическим тоном спросила:
— Септимус, вы не очень меня ненавидите? Я для вас не слишком большая обуза?
— Боже мой, да нет же.
— Вы не жалеете, что встретились со мной?
— Милая моя девочка!
— Может быть, вы предпочли бы жить спокойно в Нунсмере и не знать хлопот со мной? Ну скажите правду — только по совести.
Септимус запустил руки в волосы. Он совершенно не знал, как нужно обращаться с женщинами.
— Я думал, что с этими разговорами у нас давно покончено. До вас я был совершенно бесполезным существом. Вы внесли интерес в мою жизнь: мальчик, его воспитание, его зубки, а потом его коклюш, корь, штанишки, книги и прочее — все это ведь страшно интересно.
Эмми, облокотясь локтем на стол и подбородком на руку, улыбалась ему, теперь уже довольно смело, своими глазами-незабудками.
— Вы, кажется, интересуетесь беби больше, чем мной?
Септимус покраснел и пробормотал что-то невнятное.
— Это две разные вещи. Беби для меня как бы изобретение.
— А я? — настаивала она.
Его снова осенило.
— Вы — вы открытие.
Эмми засмеялась и закурила папиросу.
— А мне все-таки кажется, что, в конечном счете, вы и меня немножко любите.
— У вас такие удивительные ногти.
Мадам Боливар подала кофе. Септимус, взяв чашку с подноса, уронил ее, и кофе пролилось на скатерть. Мадам Боливар всплеснула руками, призывая всех святых, а Эмми гордо улыбнулась как будто для того, чтобы пролить кофе, требовался особый талант.
Вскоре после того Септимус пошел в клуб, получив приказ вернуться к чаю, а Эмми стала готовиться к предстоящей встрече с Зорой. Он предлагал ей присутствовать при этой первой встрече и поддерживать ее, какую бы клевету она ни взвела на него в оправдание их решения жить врозь; но Эмми предпочла сама выдержать бой. В одиночку Септимус еще мог бы спасти положение неопределенностью своих ответов. В ее же присутствии он Бог знает что может выкинуть, так как Эмми решила взять всю вину на себя и приписать столь плачевный результат их брака собственным несовершенствам.
Теперь, когда приближалась минута встречи, Эмми нервничала. Она не унаследовала, как Зора, от своего отца бесстрашия и воинственности. Доля авантюризма, перешедшая и к ней, была ее несчастьем, так как вводила Эмми в искушение, которым ее кроткий и слабый, очень похожий на материнский, характер не в силах был противиться. Всю жизнь она боялась Зоры, подавляемая ее крупной фигурой, ее энергией и силой, смиряясь перед ее большей одаренностью. Теперь ей предстояло выдержать борьбу за честь свою и своего ребенка и в то же время за милое, странное существо, которое было ее мужем и так по-рыцарски, так деликатно спасло ее от гибели. Она вооружилась женским оружием и приготовилась встретить старшую сестру с ясным лицом, хотя сердце ее стучало, словно адская машинка, причиняя ей невыносимые муки.
В передней зазвенел колокольчик. Эмми вздрогнула, нагнулась над коляской и оправила на спящем мальчике хорошенькое вышитое одеяльце. Она слышала, как отворилась дверь и низкий грудной голос Зоры спросил, дома ли миссис Дикс. А затем и сама Зора, пышная, нарядная, цветущая, внесшая с собой запах фиалок и меха, вплыла в комнату и приняла младшую сестру в свои объятия. Эмми почувствовала себя маленькой и ничтожной.
— Какой у тебя чудесный вид, душа моя! Ты очень похорошела, честное слово. И пополнела. Я еще утром хотела бежать сюда и не сделала этого только потому, что знала: ты застанешь в квартире все вверх дном. Септимус страшно милый, но я не очень верю в его хозяйственные способности.
— Квартира была в полном порядке, — возразила Эмми, — и даже розы стояли в вазе.
— А воды в вазу он не забыл налить?
Зора смеялась; ей хотелось быть доброй и великодушной, показать Эмми, что она не полностью на стороне Септимуса, — вообще завести душевный разговор. Но Эмми тотчас же обиделась за Септимуса.
— Конечно, не забыл, — сказала она сухо.
Зора бросилась к коляске и по-женски принялась восхищаться беби. Какой очаровательный ребенок! Какой красавчик! Каждая мать могла бы гордиться таким сыном. Как же это милая Эмми не написала ей, что он такой удивительный, единственный в своем роде? Она так мало говорила о нем в своих письмах, что можно было подумать, будто это самое обыкновенное дитя.
— Ах ты, счастливица! — воскликнула она, снимая мех и перебрасывая его через спинку стула. — Как ты должна быть счастлива!
Зора невольно вздохнула. Ее слова должны были прозвучать кротким укором Эмми; природа же направила укор самой Зоре.
— Я и не жалуюсь — я счастлива.
— Что-то твоему голосу не хватает убедительности, душа моя. Ты так говоришь «счастлива», как будто хочешь сказать «несчастна». С чего же тебе быть несчастной?
— Я не несчастна. Я счастливее, чем того заслуживаю. Большего счастья я и не стою.
Зора обняла сестру за талию.
— Ничего, голубка. Мы постараемся сделать тебя счастливее.
Эмми на миг прильнула к сестре, потом тихонько высвободилась. И не ответила ей. Любые усилия Зоры и всех христианских благотворительниц не могли дать ей того, чего просило ее сердце. К тому же Зора с ее снисходительной улыбкой доброй dea ex machina[24], совершенно не соответствовала настроению младшей сестры, Эмми. Она взяла в руки мех.
— Какая прелесть! Это новый? Где ты его купила?
Разговор перешел на туалеты. Сестры не виделись год, а встретившись, заговорили о пустяках. Эмми слегка коснулась парижской жизни. Зора в общих чертах рассказала ей о своих путешествиях. А как доехали Эмми и ребенок? Очень она утомилась в дороге? — Нет, ничего: море было тихое, без качки, но все-таки мадам Боливар, мужественно поднявшаяся на борт парохода, впервые в жизни, жестоко страдала от морской болезни. А беби почти все время спал. Впрочем, он и когда не спит, очень тихий, замечательно спокойный мальчик, — характер у него будет чудесный.
— Весь в отца: тот и сам совсем дитя, а уж кротости — хоть отбавляй.
Слова эти, как нож, вонзились в сердце Эмми. Она быстро отвернулась, чтобы Зора не прочла в ее глазах тоску. Не предвидя такого оборота разговора, Эмми не думала, что это будет для нее так мучительно.
— Надеюсь, малыш получит в наследство кое-что и с нашей стороны, — продолжала Зора, — иначе ему придется туго. Главный недостаток бедного Септимуса тот, что у него нет характера.
Эмми мгновенно повернулась к ней.
— Никаких у Септимуса нет недостатков. Я не променяла бы его ни на кого на свете.
Зора изумленно подняла брови и возразила, как и следовало ожидать:
— Послушай, душа моя, почему же ты в таком случае не хочешь с ним жить?
Эмми пожала плечами и выглянула из окна. Напротив были такие же маленькие квартирки, и молодая женщина в окне напротив смотрела на Эмми. И это рассердило Эмми. Как смеет эта женщина ее разглядывать? Она отошла от окна и села на диван.
— Ты не находишь, Зора, что могла бы предоставить нам с Септимусом устраиваться так, как для нас удобнее. Уверяю тебя, мы вполне способны сами о себе заботиться. Мы большие друзья, и отношения у нас чудесные, но мы по разным соображениям решили жить на разных квартирах. Мне кажется, это касается только нас самих.
Старшая сестра именно такого ответа и ожидала, и он нисколько ее не смутил. Она пришла с твердой решимостью вразумить Эмми и не намерена была отступать от своего решения. Зора села рядом с сестрой и снисходительно улыбнулась.
— Милая моя детка, если бы вы были так называемые передовые люди и проповедовали всякие там сногсшибательные взгляды, — ну, я бы еще поняла; но ведь вы оба — люди обыкновенные и никаких у вас взглядов нет. У тебя их и не бывало, а если бы у Септимуса появились собственные взгляды, он бы так перепугался, что посадил бы их на цепь. Я уверена, что вы и повенчались без всяких идей, кроме одной — быть вместе. Так почему же вам не жить вместе?
— Септимусу нехорошо со мной. А я не могу быть другой. Чем видеть его несчастным, лучше уж жить врозь.
— Ну, в таком случае могу только сказать, что ты злая, бессердечная эгоистка. Твой долг — сделать его счастливым. Для этого так мало нужно. Тебе следовало бы устроить для него удобный и приятный семейный очаг и внушить ему сознание ответственности перед ребенком.
Снова ужаленная в самое сердце, Эмми почувствовала, что теряет самообладание. Впервые ей пришла в голову дикая мысль сказать Зоре всю правду, но она отогнала эту мысль как безумную и невозможную.
— Повторяю тебе, что тут ничего изменить нельзя.
— Но почему же? Не могу себе представить, чтобы ты была таким чудовищем. Ну скажи мне откровенно, милочка, в чем дело.
— Ни в чем.
— Уверена, что если бы я знала, в чем тут дело, то могла бы все уладить. Если это зависит от Септимуса, — добавила она в своем неведении, с самодовольной улыбкой госпожи, сознающей свою власть над рабом, — да, я могу заставить его делать все, что захочу!
Эмми не выдержала: всякое благоразумие ее покинуло.
— Если бы мы даже поссорились, — вскричала она, — неужели ты думаешь, что я позволила бы тебе вернуть его мне?
— Но почему же нет?
— Неужели ты все время была так слепа, что тебе это непонятно?
Эмми чувствовала, что говорит опасные слова, но самомнение сестры, ее самоуверенный и покровительственный тон нестерпимо ее раздражали. Зора тихонько засмеялась.
— Дорогая моя, неужели ты ревнуешь ко мне? Но ведь это же нелепо. Не думаешь же ты, что я когда-нибудь интересовалась Септимусом в определенном смысле?
— Ты столько же интересовалась им, как куцехвостой овчаркой, которая у нас жила, когда мы были детьми.
— Но ведь ты же не ревновала меня, милочка, к Бобику или Бобика ко мне, — с улыбкой, весьма логично возразила Зора. — Ну полно, детка, я так и знала, что подоплека тут самая нелепая. Слушай: я уступаю тебе все права на бедного Септимуса.
Эмми вскочила с места.
— Если ты будешь называть его «бедным Септимусом» и говорить о нем таким тоном, ты меня с ума сведешь. Это ты — злая, бессердечная эгоистка!
— Я?!
— Да, ты. Ты принимаешь любовь и обожание благороднейшего джентльмена, какого когда-либо видел свет, и третируешь его, и говоришь о нем, как будто это ничего не стоящий человек. Если бы ты была достойна его любви, я бы не ревновала; но ты недостойна. Ты так влюблена в себя, так поглощена созерцанием собственного величия, что даже не удостоилась заметить, что он любит тебя. И даже теперь, когда я сказала тебе это, ты смеешься, как будто это дерзость со стороны «бедного Септимуса», что он осмелился полюбить тебя. Ты с ума меня сведешь!
Зора в свою очередь поднялась. Она была разгневана. Быть снисходительной к ревности глупой девочки — это одно, выслушивать такие обвинения — совсем другое. Убежденная в своей невиновности, она сказала:
— Твои нападки на меня совершенно неосновательны, Эмми. Я ничего не сделала.
— Вот, вот! Именно. Ты ничего не сделала. Люди жертвуют ради тебя жизнью и состоянием, а ты ничего не делаешь; ты палец о палец не ударишь ради кого-то.
— Жизнью и состоянием? О чем ты говоришь?
— Говорю то, что думаю, — уже потеряв власть над собой, кричала Эмми. — Септимус делал все для тебя — разве только жизнью не пожертвовал, да и ту отдал бы с радостью, если бы это тебе понадобилось, а ты даже не дала себе труда разглядеть душу человека, способного на такие жертвы. А теперь, когда случилось такое, чего ты уже не можешь не заметить, ты являешься и величественно, как королева, предлагаешь в одну минуту все уладить. Думаешь, я прогнала его, потому что он милый, но несносный, как Бобик, и говоришь, точно о Бобике: «Бедненький! Посмотри, как он жалобно виляет хвостом. Ну разве не жестоко с твоей стороны не впустить его?» Ты именно так смотришь на Септимуса, и я не могу этого вынести, и не потерплю. Я люблю его и никогда не думала, что женщина может так любить мужчину. Я готова дать себя разорвать ради него на мелкие кусочки. А он недосягаем для меня — так же далек, как звезды на небе. Что ты в этом понимаешь! Я каждую ночь думаю о том, чтобы он простил меня, чтобы он снова вернулся ко мне. Но чудес на свете не бывает. И он никогда ко мне не придет. И не может прийти. В то время как ты покровительственно гладишь его по головке и разыгрываешь из себя благодетельницу — точно так же ты поступаешь и с другим человеком, который не далее как сегодня утром пожертвовал ради тебя целым состоянием именно потому, что тебя любит — в то время как ты возносишься над ним и презираешь его, — да, да, не отрекайся, я знаю, что ты в душе немного презираешь Септимуса, считаешь его добрым простачком, полуюродивым, который изобретает какие-то нелепости, — он ради того, чтобы избавить тебя от горя, стыда и боли, сделал такое, чего не сделал бы никто другой — тебя, а не меня — потому что он любил тебя. А теперь я люблю его. Я отдала бы все на свете за то, чтобы случилось чудо. Но оно не может случиться. Понимаешь ты это? Не может!
Она стояла, вся дрожа и задыхаясь, перед старшей сестрой, охваченная стихийной страстью; а когда с пылкой от природы женщиной такое случается, она становится несдержанной в речах и беспощадной в обвинениях. Зора впервые в жизни столкнулась с подобным явлением. Она была ошеломлена потоком обвинений и могла только спросить, довольно некстати:
— Почему не может?
Эмми задышала прерывисто и тяжело. Искушение сказать всю правду охватило ее снова, и на этот раз она не устояла. Пусть Зора знает — сама виновата, что довела ее до этого. Она отворила дверь.
— Мадам Боливар! — И когда француженка вошла, указала ей на коляску. — Унесите беби в спальню. Там ему будет лучше.
— Хорошо, мадам, — ответила мадам Боливар и взяла ребенка. Когда она вышла, Эмми указала на закрывавшуюся дверь и коротко бросила:
— Вот почему.
Зора испуганно вздрогнула и уставилась на дверь.
— Эмми, что ты хочешь этим сказать?
— Сейчас узнаешь. Я не могла говорить, пока он был здесь. Мне все бы потом казалось, что он все слышал, а я хочу, чтобы он уважал и любил свою мать.
— Эмми! — вскрикнула Зора. — Эмми, что ты такое говоришь? Твой сын не стал бы тебя уважать, если бы он знал? Ты хочешь сказать?..
— Да. Это. Септимус обвенчался со мной только формально, чтобы дать нам свое имя. Потому мы и живем врозь. Теперь ты знаешь?
— Боже мой!
— Помнишь последний вечер, который я провела в Нунсмере?
— Когда ты упала в обморок?
— Да. Я прочла в газете объявление о женитьбе того, другого…
Она коротко и вызывающе рассказала свою историю, не требуя сочувствия, единственно ad majorem Dei gloriam[25].
Зора растерянно смотрела на нее, как человек, который шел охотиться на кроликов и неожиданно наткнулся на льва.
— Почему же ты не сказала мне тогда — прежде, чем…
— Разве ты когда-нибудь поощряла меня быть с тобой откровенной? Ты смотрела на меня, как на маленькую девочку, гладила по головке и не интересовалась моими делами. А я боялась тебя — до смерти боялась. Теперь это звучит довольно глупо, но на самом деле так было.
Зора теперь уже не возражала. Она сидела тихо, глядя на опустевшую коляску, стараясь освоиться с новыми и неожиданными для нее истинами. И только шептала:
— Боже мой! Как я была глупа…
Эти слова отозвались в ее ушах чем-то знакомым и словно издевающимся над ней. Где она их слышала еще недавно? — И вдруг Зора вспомнила и посмотрела на Эмми уже без всякой гордости.
— Ты что-то говорила о Клеме Сайфере — что он пожертвовал ради меня состоянием. В чем дело? Говори уже все до конца.
Эмми опустилась на низенькую скамеечку у камина, на которой сидела, когда Септимус рассказывал ей об этом, и повторила его рассказ в назидание Зоре.
— Ты говоришь, он посылал за Септимусом сегодня утром? — почти шепотом спросила Зора. — Думаешь, он знает о вас обоих?
— Может быть, и догадывается, — Эмми было известно о нескромности, которую допустил Эжезипп Крюшо. — Септимус, конечно, не говорил ему.
— Спрашиваю потому, что со времени моего возвращения он смотрит на Септимуса, как на какое-то высшее существо. Я начинаю видеть вещи, которых не замечала раньше.
Наступило молчание. Эмми, держась за решетку и склонив голову, смотрела куда-то в сторону. Не поворачивая головы, она снова заговорила:
— Ты можешь меня презирать, но не отворачивайся теперь от меня — ради Септимуса. Он любит мальчика, как своего собственного. Как бы плохо я ни поступила, мне пришлось много перестрадать за свою вину. Я была пустой, неуравновешенной, беспринципной девчонкой. Теперь я женщина, и благодаря ему — хорошая женщина. Достаточно дышать одним воздухом с таким изумительно добрым и чутким человеком, чтобы стать лучше. Нет другого человека на земле, который мог бы сделать то, что сделал он, и так, как он. Как же мне его не любить? Как не мучить и не терзать себя из-за него? И в этом моя кара.
Наступившее молчание было прервано сдавленным рыданием: Эмми удивленно обернулась и увидела, что Зора плачет, уткнувшись лицом в диванные подушки. Она была поражена. Величественная самоуверенная Зора плачет, как какая-нибудь глупая девчонка — плачет по-настоящему, рыдая и всхлипывая… Эмми неслышно пересекла комнату и опустилась на колени перед диваном.
— Зора, милая!
Зора, жаждавшая любви и ласки, обняла ее, и обе сестры блаженно поплакали вместе. Так и нашел их, обнявшихся, Септимус, который вскоре вернулся пить чай, как ему было велено.
Зора поднялась, все еще с мокрыми глазами, и накинула мех.
— Ну я ухожу — оставляю вас вдвоем. Септимус! — Она взяла его за руку и отвела в сторону. — Эмми мне все сказала. О, не пугайтесь, милый! Я не стану вас благодарить. — Она засмеялась, но голос ее прервался. — Иначе я опять разревусь, как дура. Когда-нибудь в другой раз. Я только хочу сказать: не думаете ли вы, что вам будет лучше — и уютнее, и удобнее, — если вы позволите Эмми полностью взять на себя заботу о вас? Она умирает от любви к вам, Септимус, и уверена, вы будете с ней счастливы.
Зора стремительно вышла из комнаты, и, прежде чем оставшиеся успели прийти в себя, входная дверь за ней захлопнулась.
Эмми смотрела на Септимуса, и в ее голубых глазах был страх. Она что-то пролепетала о том, что не стоит обращать внимания на слова Зоры.
— Но это правда? — перебил он ее.
Немного отвернувшись, она сказала:
— По-вашему, это так удивительно, что я вас полюбила?
Септимус запустил обе руки в волосы и взъерошил их до невероятности. Произошло самое удивительное, самое необычайное, что только могло случиться в его жизни. Нашлась женщина, которая его полюбила. Это опрокидывало все предвзятые взгляды и представления Септимуса относительно его места во Вселенной.
— Конечно! Так удивительно, что у меня голова идет кругом. — Он подошел к ней вплотную. — Вы хотите сказать, что любите меня, — голос его дрогнул, — как если бы я был обыкновенным человеком?
— Конечно, нет! — воскликнула она, смеясь и плача. — Если б вы были обыкновенным, разве я могла бы вас любить так, как люблю?
Ни один из них не мог потом вспомнить, как это вышло, что она очутилась в его объятиях. Эмми клялась, что не бросалась ему на шею; врожденная же робость Септимуса не позволяет предположить, что он первый обнял ее. Как бы то ни было, она долгое время, дрожа от волнения, лежала в его объятиях, а он целовал ее губы, отдавая ей все свое сердце в этих поцелуях.
Потом они сидели вместе на маленькой скамеечке.
— Когда мужчина так поступает, — говорил Септимус, осененный блестящей идеей, — я полагаю, он должен просить женщину стать его женой.
— Но ведь мы уже муж и жена! — радостно воскликнула она.
— Боже мой, а ведь и в самом деле, я и забыл. Как это удивительно, не правда ли? Знаешь, дорогая, если ты ничего не имеешь против, я, кажется, еще раз тебя поцелую.
23
Зора пошла в отель, где остановилась, и тут же, в холле, не снимая шляпы и меховой горжетки, написала длинное письмо Клему Сайферу; затем, подозвав лакея, она велела ему тотчас же отнести письмо на почту. Когда он ушел, Зора немного подумала и послала телеграмму. А еще поразмыслив, спустилась вниз и позвонила Сайферу. Мужчина первым делом попытался бы позвонить по телефону, потом послал бы телеграмму и уже после нее — обстоятельное письмо. Но женщины все делают по-своему.
Сайфер был в своей конторе. Да, он скоро освободится, минут через двадцать, и затем помчится к ней, — если не на крыльях, то, во всяком случае, самым скорым в Лондоне способом.
— Имейте в виду, что у меня к вам совсем особое дело, — предупредила Зора. — Так я жду вас. До свидания!
Она повесила трубку, прошла наверх, к себе, умылась, чтобы уничтожить следы слез, и переоделась. В течение нескольких минут она внимательно и немного тревожно разглядывала себя в зеркале с бессознательным и новым в ней кокетством; потом уселась в кресло у камина и, успокоенная относительно своей внешности, углубилась в созерцание внутреннего мира Зоры Миддлмист.
Никогда еще с тех пор, как стоит свет, ни одна женщина не низвергалась так стремительно со своего пьедестала. Ни следа высокомерия не осталось в Зоре. Она казалась теперь себе такой ничтожной, пустой и недогадливой. Уехала из презираемого ею Нунсмера, где никогда ничего не случалось, чтобы, странствуя по свету, увидеть настоящую жизнь, и, вернувшись, нашла, что она-то и не жила все это время настоящей жизнью, а Нунсмер жил, и много за время ее отсутствия в нем произошло такого, что глубоко затрагивало ее лично.
Пока она разговаривала, другие жили. Три человека, которых она милостиво, но немного свысока почтила своей дружбой и привязанностью, совершали подвиги, прошли через горнило огненное и вышли из него очищенными, с любовью в сердце. Эмми, Септимус, Сайфер — каждый из них по-своему вел жизненную борьбу. Она одна ничего не сделала за это время — она, сильная, разумная, способная, высокомерная. И ничего не достигла. Так далека была от настоящей жизни, что не сумела приобрести даже доверия своей сестры. Если бы она с ранней юности стала другом и советчицей Эмми, не было бы этой трагедии. А она не сумела выполнить даже свой долг старшей сестры.
Шесть недель была она замужем — и что же она сделала за это время, помимо того, что с дрожью высокомерного негодования и отвращения отвернулась от своего мужа? Другая женщина на ее месте боролась бы с напастью и, может быть, победила ее. Она же и не пыталась бороться, и несчастный алкоголик умер, а она уехала за границу, демонстрировать всем свое отвращение к мужчинам. На каждом шагу факты опровергали это ее предубеждение. Уже несколько месяцев, как она сама убедилась, что оно неосновательно и ложно; и природа, которая, при всех недостатках, по крайней мере, не лжива, не раз уже поднимала в ней свой голос. Зора пыталась урезонить ее доводами рассудка, но природа только посмеивалась. Точно так же, как и литератор из Лондона. Если бы Эмми и Септимус были иными, они бы тоже потешались над ней. Она осознала, наконец, что для того, чтобы решать какие бы то ни было проблемы жизни, надо, прежде всего, усвоить ее аксиомы. Даже миссис Олдрив, с кротких уст которой не часто слетали слова мудрости, сказала: «Уж и не знаю, как ты будешь жить, дорогая, без мужчины, который бы о тебе заботился». Мать была права, природа была права, Раттенден был прав. А она, Зора Миддлмист, была кругом неправа.
Она встретила Сайфера с непривычно замирающим сердцем. И когда он сильно и властно сжал ее руки, Зора вся задрожала еще неизведанной сладостной дрожью. Заглянула ему в глаза и прочла в них неизменную, преданную любовь сильной и чистой души. И отвернулась, потупив голову, не чувствуя себя достойной.
— Что же вы такого особенного хотели мне сказать? — с улыбкой спросил он.
— Так я не могу вам этого сказать. Давайте сядем. Придвиньте стул к огню.
Когда они сели, Зора начала:
— Сначала я хочу кое о чем вас спросить. Вы знаете, почему Септимус женился на моей сестре? Будьте со мной совершенно откровенны, потому что я все знаю.
— Да, — ответил он серьезно. — Знаю. Узнал это случайно и неожиданно для себя. Септимус и не подозревает, что я знаю.
Зора подняла с полу иллюстрированный еженедельник, будто бы для того, чтобы заслониться от огня, но на самом деле — от Сайфера.
— А почему вы сегодня утром отказались от предложения Джебузы Джонса?
— Что бы вы обо мне подумали, если бы я его принял? Но только Септимусу не следовало бы меня выдавать. Это он напрасно.
— Он мне ничего и не сказал. Он сказал Эмми, а она — мне. Вы сделали это ради меня?
— Все, что я делаю, делается ради вас. Вы сами это отлично знаете.
— Зачем вы вызывали Септимуса?
— Почему вам вздумалось подвергнуть меня допросу? — засмеялся он.
— Сейчас узнаете. Хочу, чтобы для меня все прояснилось. Я пережила большое потрясение. У меня такое чувство, будто я потерпела поражение по всему фронту. Скажите, зачем вы вызывали Септимуса?
Сайфер откинулся на спинку стула, и так как иллюстрированный еженедельник заслонял от него лицо Зоры, он задумчиво смотрел в огонь.
— Я всегда говорил вам, что суеверен. Септимус, по-видимому, одарен каким-то подсознательным чувством, подсказывающим ему, как правильнее поступать, в несравненно большей степени, чем кто бы то было из тех, кого я знаю. Это он обнаружил и в своем отношении к Эмми, и в том, что вызвал вас, когда вы были мне так нужны, и во всем остальном. Если б не он и не его влияние, не знаю, хватило бы у меня духу на такое решение. И когда настал момент решать, я почувствовал, что он мне необходим, хотя не могу объяснить — почему.
— Но вы, по-видимому, знали, что он влюблен в меня? — все тем же ровным тоном вопрошала Зора.
— Да. Потому он и женился на вашей сестре.
— А вы знаете, почему он счел нужным послать мне отбитый хвостик маленькой собачки?
— Он знал, что это надо сделать. Вероятно, так. Говорю же вам, что я суеверен. Очевидно, действительно было нужно, но я не в состоянии объяснить причину.
— А я знаю. Потому что он знал: мое место — рядом с вами. Знал, что вы для меня дороже всех на свете. — Зора на миг остановилась, потом закончила, четко выговаривая каждое слово: — Он знал, что я давно уже вас люблю.
Сайфер вырвал у нее из рук иллюстрированный еженедельник и швырнул его в угол; потом перегнувшись через ручку кресла, сжал ее руку.
— Зора! Вы это серьезно?
Она кивнула головой, подняла на него глаза и закрылась свободной рукой, не выдержав его взгляда.
— Я уехала от вас искать свое призвание. И вернувшись, убедилась, что оно там, откуда я уехала. Это трудная миссия: я должна стать достойной подругой большого человека, но если вы разрешите мне попытаться, я сделаю все, что могу.
Сайфер отвел ее руку.
— Говорить будем потом…
Таким образом Зора познала истинный смысл бытия. Когда врата жизни отверзлись перед ней, она вошла туда поступью, не лишенной величия. Признав себя побежденной — что для женщины само по себе величайшая победа — она сумела сделать это и гордо, и смиренно, и очаровательно. У нее бывали моменты истинного величия.
Взволнованная, раскрасневшаяся, захваченная неизведанным счастьем, она высвободилась из его объятий; на сей раз Зора не спорила с природой и в сердце своем смеялась вместе с ней. В конце концов она была только женщиной, не имеющей иного призвания в жизни, кроме выполнения своего женского предназначения, и это было необычайно хорошо для нее. Зора радовалась, что, наконец, поняла, в чем ее счастье. Сайфер смотрел на нее сияющими глазами, словно она была богиней, из любви к нему принявшей образ земной женщины. И он чувствовал себя счастливым. Отказавшись от непомерных притязаний и бесплодных исканий, оба они вернулись к милой обыденности.
— Но позвольте! — воскликнул он. — Как же я могу просить вас стать моей женой, если даже не знаю, на что буду существовать?
— А изобретения Септимуса? Разве вы уже не верите в них?
— А вы теперь уверовали?
— Всей душой. Я тоже стала суеверной. Куда ни повернешься — везде Септимус. Он поднял Эмми из преисподней на небо; он свел нас вместе; он — наш друг и хранитель. И он никогда нас не предаст. О, Клем! Какое счастье! Наконец-то я нашла нечто такое, во что могу верить.
Тем временем «друг и хранитель», даже не подозревая, в какой высокий ранг он возведен, сидел в маленькой квартирке Эмми в Челси и с блаженным видом уплетал бутерброды, которые Эмми от полноты души намазывала невероятным количеством масла. А она стояла на коленях подле него, на коврике, с обожанием глядя на мужа, словно он был первосвященником, глотающим опресноки. Они говорили о будущем. Септимус рассказывал ей, какие красивые дома он видел на Беркли-сквер.
— Беркли-сквер очарователен, — возражала Эмми, — но Беркли-сквер — это коляски и автомобили, пудреные лакеи, балы, обеды, спектакли и театры — как раз твоя стихия, не правда ли, мой дорогой?
Она, смеясь, положила счастливую головку ему на колени.
— Нет, милый. На случай, если нам захочется пожить немного в Лондоне, давай оставим за собой эту квартирку, но жить будем лучше в Нунсмере. Твой дом достаточно велик, а если понадобится, всегда можно будет сделать к нему небольшую пристройку; это обойдется не дороже месячной платы за квартиру в Беркли-сквер. Разве ты сам не предпочел бы жить в Нунсмере?
— Ты, беби и моя мастерская — вот все, что мне нужно в этом мире.
— А Вигглсвик?
Улыбка светлой тенью скользнула по его лицу.
— Да, Вигглсвик будет поражен.
Эмми снова расхохоталась.
— Какое это будет забавное хозяйство — Вигглсвик и мадам Боливар! Нет, ты только подумай, что за прелесть!
Септимус подумал.
— Знаешь, милая, — нерешительно заговорил он, — я всю жизнь мечтал об одной вещи, то есть с тех пор, как ушел из дому. Но это всегда представлялось мне чем-то недостижимым. Интересно знать, может ли моя мечта теперь осуществиться. Однако же столько необычайного со мной произошло, что, возможно, и это…
— О чем ты, милый? — ласково спросила Эмми.
— Видишь ли, я всегда жил как-то не по-человечески, но всегда мне хотелось иметь в доме настоящую опрятную, умелую горничную, в нарядной белой наколке и фартучке. Как ты думаешь, можем мы себе это позволить?
Не поднимая головы с его колен, она ответила каким-то странным голосом:
— Думаю, что можем.
Он дотронулся до ее щеки и вдруг отдернул руку.
— Ты плачешь? Какая же я эгоистичная скотина! Конечно, мы не будем держать горничную, если это тебе неудобно.
Эмми повернула к нему личико, по которому струились светлые слезы.
— Ах ты, милый мой, прелестный, глупый Септимус. Неужели ты не понимаешь? Как это на тебя похоже. Ты готов каждому отдать весь мир, для себя просишь только горничную.
— Видишь ли, — растерянно оправдывался он, — горничные — они такие ловкие. Я бы мог научить ее, как обходиться с моими моделями.
— Ах ты, милый! — шепнула Эмми.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.