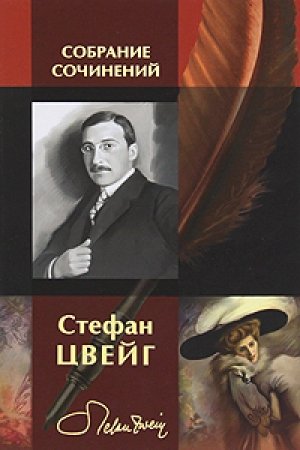
СТЕФАН ЦВЕЙГ
ВОСКРЕСЕНИЕ ГЕОРГА ФРИДРИХА ГЕНДЕЛЯ
Звездные часы человечества — 5
В полдень 13 апреля 1737 года слуга Георга Фридриха Генделя сидел у окна первого этажа в квартире дома на Брук–стрит и развлекался весьма странным образом. Он только что с досадой обнаружил, что остался без крошки табака, но, опасаясь своего вспыльчивого хозяина, не решился отлучиться из дому за свежим кнастером, хотя до лавочки его подружки Долли было всего каких–нибудь два небольших квартала. Георг Фридрих Гендель вернулся с репетиции домой разъяренный, с лицом багровым от прилившей крови, с набухшими на висках венами, с треском хлопнул входной дверью и вот сейчас ходил взад–вперед по комнатам бель–этажа с таким ожесточением, что пол под его ногами сотрясался. Слуга отлично слышал эти шаги. В такие часы было бы неблагоразумно проявлять небрежность в работе и отлучаться из дому.
Изнывая от скуки, лишенный возможности развлекаться, выпуская причудливые кольца голубого дыма, слуга, поставив возле себя чашку с мыльной пеной, стал выдувать из своей короткой глиняной трубки мыльные пузыри, отливающие всеми цветами радуги, выгоняя их один за другим на улицу. Прохожие останавливались, иной разбивал пролетающий пузырь тростью, иной посмеивался, кивая чудаку, но никого не удивляла такая забава. От этого дома на Брук–стрит можно было ожидать все что угодно: то ночью внезапно загремит чембало, то из окон услышишь рыдания или плач певицы, которую холерический немец ругательски ругал за то, что она взяла ноту на восьмую тона выше или ниже, чем это положено. Давно уже жители Гросвенор–сквер считали дом № 25 на Брук–стрит домом для умалишенных.
Уютно устроившись у окна, слуга с завидным терпением выдувал свои разноцветные пузыри. Мастерство его совершенствовалось все более и более, пузыри стали тонкостенными, достигли огромных размеров; раскраской своей напоминая мрамор, они поднимались все выше и выше, все легче парили, иные из них перелетали даже стоящие напротив невысокие дома. Но внезапно весь дом содрогнулся от глухого удара. Стекла задребезжали, гардины заколыхались, вероятно, на верхнем этаже упало что–то тяжелое и большое. Прыгая через ступеньки, слуга бросился в кабинет.
Кресло, в котором хозяин обычно сидел за работой, было пусто, как была пуста и комната, и слуга поспешил было дальше, в спальню, но обнаружил Генделя на полу, недвижно лежащего с открытыми, невидящими глазами. Стоя перед хозяином, потрясенный слуга слышал глухое тяжелое хрипение. Тучный человек лежал на спине и стонал, или, вернее, что–то стонало в нем — короткими, слабеющими толчками.
Умирает, подумал перепуганный слуга и быстро наклонился, чтобы помочь хозяину, находящемуся в полуобморочном состоянии. Он попытался поднять его, чтобы перенести на софу, но тело огромного человека было слишком тяжело для него. Он развязал сжимающий горло шейный платок, и хрипы тотчас же прекратились.
Но тут с нижнего этажа прибежал Кристоф Шмидт, фамулус, помощник маэстро; он снимал копии арий, когда и его испугал внезапный глухой удар. Вдвоем они подняли тучного хозяина — руки его повисли бессильными плетьми, — уложили в кровать, высоко подняв изголовье.
— Раздень его, — крикнул Шмидт слуге, — а я побегу за врачом! И опрыскай его водой, чтобы пришел в себя.
Кристоф Шмидт без сюртука, надеть его не было времени, побежал по Брук–стрит в направлении к Бонд–стрит, пытаясь остановить кареты, проезжающие мимо торжественной рысцой, но кучера не обращали никакого внимания на полного, небрежно одетого, задыхающегося человека. Наконец остановился один экипаж, кучер лорда Чендоса узнал Шмидта.
Забыв этикет, фамулус рванул дверцу.
— Гендель умирает, — крикнул он герцогу, которого знал как большого знатока музыки и поклонника любимого маэстро. — Нужен врач.
Герцог усадил его в экипаж, подбодренные кнутом лошади помчались. Доктора Дженкинса нашли в его квартире на Флит–стрит, он занят был исследованием мочи одного своего пациента. На легкой своей двуколке врач тот же час поехал со Шмидтом на Брук–стрит.
— Всему виной бесконечные огорчения, — жаловался фамулус в пути, — эти проклятые певцы–кастраты, эти пачкуны–критиканы, все эти отвратительные копошащиеся черви, они его замучили до смерти. Четыре оперы написал он в этом году, чтобы спасти театр, а что делают те? — болтаются по дамским салонам, околачиваются при дворе, и сверх того этот итальянец, этот проклятый кастрат, этот кривляка–плакса свел их с ума. Боже мой, что сделали они с нашим славным Генделем! Все свои сбережения вложил он в театр, десять тысяч фунтов, а они мучают его долговыми обязательствами и вот — затравили. Нет человека на земле, столь преданного прекрасному, отдававшего ему всего себя, но такое свалит с ног и колосса. О, что за человек! Гений!
Доктор Дженкинс сдержанно слушал и молча курил. Прежде чем войти в дом, он еще раз затянулся и выбил пепел из трубки.
— Сколько ему лет?
— Пятьдесят два года, — ответил Шмидт.
— Скверный возраст. Работал как вол. Но он и силен как вол. Ну, посмотрим, что можно сделать.
Слуга держал тазик, Кристоф Шмидт поднял руку Генделя, врач пустил кровь. Она брызнула, ярко–красная, горячая кровь, и уже мгновение спустя вздох облегчения вырвался из–за закушенных губ. Гендель глубоко вздохнул и открыл глаза. Усталые, они смотрели и не видели окружающих, блеск глаз был притушен.
Врач перевязал руку. Больше он, в сущности, ничего не мог сделать. Хотел было уж встать, но заметил, что губы Генделя шевелятся. Очень тихо, едва слышно Гендель прохрипел:
— Все со мной… кончено… нет сил… не хочу жить таким…
Низко наклонившись к нему, Дженкинс заметил, что жизнь теплилась в одном левом глазу, правый глаз был неподвижен. Он приподнял правую руку и отпустил — она упала как плеть. Тогда он приподнял левую руку и отпустил, она осталась в этом положении. Теперь доктору Дженкинсу все стало ясно. Он вышел из комнаты, испуганный, растерянный Шмидт последовал за ним к лестнице.
— Что с ним?
— Апоплексический удар. Правая сторона парализована.
— Он… — слова застряли в горле Шмидта. — Он поправится? Доктор Дженкинс обстоятельно взял щепотку нюхательного табака. Он не любил вопросы подобного рода.
— Может быть. Все возможно.
— И останется парализованным?
— Вероятно, если не случится чуда.
Но Шмидт, преданный мэтру до последней капли крови, не отступал.
— Но сможет ли… сможет ли он, по крайней мере, снова работать? Ему не жить без творчества.
Дженкинс уже стоял на лестнице.
— Нет, никогда, — сказал он очень тихо. — Человека нам спасти, возможно, и удастся. Музыканта мы потеряли. Удар повредил мозг.
Шмидт неподвижно уставился на собеседника. Такое глубокое отчаяние было в его взгляде, что врач почувствовал смущение.
— Я уже сказал, — повторил он, — если не произойдет чуда. Впрочем, мне такого видеть еще не случалось.
Четыре месяца Георг Фридрих Гендель не мог творить, а творчество для него было жизнью. Правая сторона его тела была мертвой. Он не мог ходить, не мог писать, не мог извлечь пальцами правой руки ни одного звука из чембало. Он не мог говорить. После ужасного удара, пронизавшего тело, губа отвисла, слова, произносимые им, были глухи и неразборчивы. Если услышанная музыка доставляла ему радость, в глазу появлялся живой отблеск, тяжелое непокорное тело шевелилось словно во сне, пытаясь следовать услышанному ритму, воспроизвести его, но страшное оцепенение сковывало его подобно стуже, сухожилия, мускулы не слушались человека; великан, он чувствовал себя беспомощным, замурованным в невидимой могиле. Едва музыка кончалась, веки тяжело смыкались, и он вновь лежал словно труп. Хотя врач считал, что у мэтра нет никаких надежд на излечение, он для очистки совести порекомендовал отправить больного в Аахен, — может быть, горячие источники принесут хоть какое–то облегчение.
Но, подобно таинственным горячим подземным источникам, под застывшей, неподвижной оболочкой жила непостижимая сила — воля Генделя, исполинская энергия его натуры; разрушительный удар не коснулся этой силы, не желающей бессмертное отдать смерти. Он, этот колосс, не считал себя побежденным, он еще хотел жить, хотел творить, и, преодолев законы природы, эта воля свершила чудо. Врачи Аахена постоянно предупреждали его, что в горячих водах нельзя находиться более трех часов кряду, сердце не выдержит, такое может убить его. Но воля шла ва–банк: или жизнь, полная счастья творить, или смерть. К ужасу врачей, Гендель ежедневно проводил в ванне по девять часов, и вот постепенно в нем стали накапливаться силы. Через неделю он уже мог сам добрести до ванны, через две недели начал двигать рукой и — неслыханная победа воли и глубокой убежденности в том, что он добьется своего, — Гендель вырвался из парализующих пут смерти, чтобы обнять жизнь еще горячее, еще с большей страстью, чем когда–либо раньше, с той несказанной радостью, которая известна лишь выздоравливающим.
В день отъезда из Аахена, уже вполне владея своим телом, Гендель пришел в церковь. Никогда не отличался он особой набожностью, но теперь, поднимаясь так счастливо возвращенной ему свободной походкой на хоры, где стоял орган, он чувствовал, что управляет им, ведет его нечто Великое. Пробуя, он нажал клавиши пальцами левой руки. Чистые, светлые звуки заполнили помещение, замершее в ожидании. Помедлив, он взял аккорд правой рукой, длительное время лишенной жизни. Но и под этой рукой рассыпались чудесные звуки, словно рожденные серебряным источником. Он начал играть, импровизировать, и поток музыки увлек его за собой. Удивительно, как громоздились, а затем выстраивались тесаные камни звуков, как росли и росли воздушные строения его гения, как возносилась, не отбрасывая тени, бесплотная ясность, звучащий свет. Внизу потрясенно слушали его монахини и молящиеся прихожане. Никогда до сей поры не слышали они такой земной музыки. А Гендель, смиренно склонив голову, играл и играл. Он вновь обрел свой язык, с которым обращался к Богу, к вечности, к людям. Он вновь мог играть, вновь мог творить. И только теперь почувствовал он себя выздоровевшим.
Лондонскому врачу, который не мог скрыть своего удивления перед медицинским чудом, Георг Фридрих Гендель сказал гордо, выпятив грудь, раскинув руки:
— Я воротился из Аида.
И с полной отдачей сил, со всей яростной, неистовой работоспособностью, с удвоенной жадностью тотчас же бросился в работу. Вновь обрел боевой задор прежних лет этот пятидесятитрехлетний человек. Оперу пишет он — замечательно послушна ему выздоровевшая рука, — вторую оперу, третью, большие оратории «Саул», «Израиль в Египте», «Allegro е Pensieroso»; словно из запруженного длительное время источника льется неиссякаемое наслаждение творчеством. Но время против него. Смерть королевы прерывает театральные постановки, затем начинается испанская война; правда, в общественных местах каждодневно собираются толпы поющих, кричащих людей, но театр пустует, а долги растут и растут. Затем приходит суровая зима. В Лондоне так холодно, что замерзает Темза, и по ее зеркальной поверхности скользят санки с колокольчиками; в эти времена все залы закрыты, никакая ангельская музыка не может противостоять такому холоду в помещениях. Затем начинают болеть певцы, приходится отменять одно представление за другим; все хуже и хуже становится и без того тяжелое положение Генделя. Заимодавцы напирают, критики высмеивают, публика остается безразличной и безмолвствует; и вот отчаявшегося борца оставляет мужество. Правда, представление с бенефисом спасает его от долговой тюрьмы, но какой стыд, словно нищему, покупать себе жизнь! Все более замыкается Гендель в себе, все мрачнее и мрачнее становятся его мысли. Лучше уж полупарализованное тело, чем, как теперь, парализованная душа! И в 1740 году Гендель опять чувствует себя побежденным, проигравшим бой, человеком, стоящим на пепелище своей прежней славы. С большим напряжением, используя ранее написанные отрывки, он создает небольшие произведения, но искрометного фейерверка нет в них, пропала исполинская сила, истощился могучий источник в исцеленном теле, впервые за всю свою жизнь он чувствует себя усталым, этот колосс, впервые — побежденным, этот замечательный боец, впервые иссяк поток радости созидания, что вот уже тридцать пять лет затоплял мир. Вновь оказался он на пороге творческой смерти. И он знает, или ему кажется, что знает, этот вконец отчаявшийся человек: на этот раз — уже окончательно. «Зачем, — вздыхает он, — зачем Бог поставил меня на ноги, спас от болезни, если люди вновь готовят мне могилу? Лучше бы мне умереть, чем, оставшись своей собственной тенью, прозябать в пустоте и холоде этого света». И в гневе иной раз бормочет слова Того, Кто был распят: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?»
Потерянный, отчаявшийся человек, уставший от самого себя, утративший веру в свои силы, утративший, возможно, даже веру в Бога, бродит Гендель в те месяцы вечерами по Лондону. Лишь в сумерки решается он выйти из дома, ибо днем у дверей ждут его заимодавцы с долговыми обязательствами, а на улицах ему противны взгляды людей, безразличные или презрительные. Иной раз ему приходит мысль, а не бежать ли в Ирландию, где еще верят в его звезду — ах, они и не подозревают, что силы в его теле сломлены! — или в Германию, в Италию; может, там, под воздействием ласкового южного ветерка, оттает заледеневшее сердце, вновь зазвучит мелодия, вырвется из плена каменистой пустыни душа. Нет, ему, Георгу Фридриху Генделю, не вынести потери радости творчества, не вынести этого поражения. Иной раз он задерживает свои шаги у церкви. Но Гендель знает, слова не принесут утешения. Иной раз он заходит в какой–нибудь кабачок, но того, кому ведомо высокое опьянение — святое и чистое творчество, — того воротит от сивухи. А иной раз он, опершись о перила моста, пристально смотрит на черные немые воды ночной Темзы и размышляет: а не лучше вдруг разом со всем покончить? Только бы освободиться от груза этой пустоты, только б не испытывать ужас одиночества, когда ты покинут Богом и людьми.
Вновь и вновь колесил он по ночным улицам города. 21 августа 1741 года был паляще знойный день. Словно расплавленный металл, чадное и душное небо обложило со всех сторон Лондон; лишь ночью Гендель вышел в Грин–парк подышать свежим воздухом. Там, в загадочной тени деревьев, где никто не мог его увидеть, никто не мог его мучить, он сел, изнемогая от усталости, что тяготила его словно болезнь, — усталость говорить, писать, играть, думать, усталость чувствовать, усталость жить. Ибо — к чему жить, для кого? Словно пьяный, пошел он домой вдоль Пэлл — Мэлл и Сент — Джеймс–стрит, движимый единственной мыслью тяжело больного человека: спать, спать, ни о чем более не знать, отдохнуть, и, лучше всего, навсегда. В доме на Брук–стрит уже все спали. Медленно — ах, как он устал, как замучили они его, эти люди! — поднялся он по ступеням, на каждый тяжелый шаг дерево отзывается скрипом. Наконец добрался он до комнаты, высек огонь и зажег свечу у пульта: сделал он это механически, не думая, как делал все эти годы перед тем, как сесть за работу. Ибо тогда — меланхолический вздох непроизвольно сорвался с губ — с каждой прогулки приносил он домой мелодию, тему, каждый раз торопливо записывал ее, чтобы не утратить так счастливо найденное. Теперь же стол был пуст. Не лежали на нем нотные листы. Священное мельничное колесо недвижимо стояло в замерзшей реке. Нечего было начинать, нечего — заканчивать. Стол был пуст.
Впрочем, нет, не пуст! Не светится ли на полутемном уголке стола какая–то бумага! Пакет. Гендель схватил его и почувствовал, в нем — рукопись. Быстро сломал печать. Рукопись и письмо от Дженненса, поэта, написавшего ему текст для «Саула» и «Израиля в Египте». Он посылает ему, пишет поэт, новое произведение и надеется, что высокий гений музыки, phoenix musicae, снизойдет к его жалким словам и поднимет их на своих крыльях в небесные просторы бессмертия.
Генделю стало тошно, как если бы он коснулся рукой чего–то противного. Неужели Дженненс издевается над ним, почти покойником, человеком с парализованной душой? Порвал письмо, обрывки бросил на пол, стал топтать. «Негодяй, подлец!» — рычал он; этот растяпа растравил его рану, возмутил до глубины души, вызвал жестокий приступ ярости. Сердито погасил он свет, раздраженный побрел в спальню и бросился на постель. Слезы внезапно хлынули из глаз, все тело тряслось в бешенстве бессилия. Горе миру, в котором над ограбленным насмехаются, в котором страдающих мучат! Почему его еще призывают, когда сердце уже оцепенело и сил более нет, почему его все еще понуждают к работе, когда душа уже парализована и чувства утратили силу? Заснуть, как засыпает тупое животное, забыться, перестать существовать! Грузный, лежал он на своем ложе, сбитый с толку, потерянный человек.
Но заснуть он не мог. Беспокойство было в нем, взбудораженное гневом, словно море — штормом, недоброе, таинственное беспокойство. Он поворачивался с боку на бок, бессонница не покидала его. Может, все же следует встать и прочитать присланный текст? Нет, какую силу имеет над ним, полумертвым, слово? Нет никакого утешения ему, если Бог низринул его в бездну отчаяния, если Бог лишил его дара творчества, этого бесценного тока жизни! И все же — все еще билась в нем сила, таинственно любопытствующая, торопящая, и бессилие не могло его защитить. Гендель поднялся, вернулся в кабинет, трясущимися от возбуждения руками вновь зажег свечу. Не подняло ли его уже однажды чудо, не спасло ли от смертельного телесного недуга? Возможно, Бог и душу может исцелить, может дать ей утешение. Гендель пододвинул свечу к листам рукописи: «The Messiah!» было написано на первом листе. Опять оратория! Последние не удались. Но беспокойство не отпускало, и он перевернул лист и начал читать.
Первое же слово поразило его. «Comfort уе», так начинался текст. «Утешься!» — словно волшебным было это слово, нет, не слово: ответ был это, данный Богом, ангельским гласом из заоблачных высей его отчаявшемуся сердцу. «Comfort уе» — как великолепно звучало, как потрясло это творящее, созидающее слово его оробевшее сердце. И, едва прочитав, едва прочувствовав прочитанное, Гендель услышал музыку этого слова, парящую в тонах, зовущую, пьянящую, поющую. О счастье, врата распахнулись, он вновь чувствовал, вновь слышал музыку!
Руки его дрожали, когда он переворачивал лист за листом. Да, он был призван, был вызван, каждое слово с непреодолимой силой захватывало его. «Thus saith the Lord» («Так говорит Господь»), разве не ему это сказано, не ему одному, и не та ли самая рука, которая поразила его, бросила его на землю, сейчас так счастливо поднимает его с земли? «And Не shall purify («И Он очистит тебя») — да, с ним это произошло; внезапно развеяны тучи, бросавшие черную тень на его сердце, пробилась ясность, кристальная чистота звучащего света. Кто же, кто водил пером этого бедняги Дженненса, этого гопсоллского рифмоплета, когда тот писал эти вдохновенные слова, если не Он, Единственный, знающий его, Генделя, горе? «That they may offer unto the Lord» («Пусть приносят они жертвы Господу») — да, зажечь жертвенный огонь из пылающих сердец, так, чтобы языки пламени поднялись до небес, дать ответ, ответ на этот чудесный зов. Ему это было сказано, к нему одному обращен был этот клич «Возгласи слово Твое со всею силой» — о, произнести это, произнести с силой гудящих тромбонов, бушующего хора, с громами органа, что поныне, как и в первый день, Слово, священный Логос, пробуждает людей, всех их, и тех, других, которые, отчаявшись обрести надежду, бредут в темноте, ибо воистину, «Behold, darkness shall cover the earth», еще мрак покрывает землю, еще не знают они о блаженстве спасения, которое дается им в этот час. И не прочтена еще рукопись, а уже рвется его душа в восторженной благодарности «Wonderful, counsellor, the mighty God» — да, именно так следует славить Его, Чудесного, ведающего, какой совет дать, что и как надобно делать, Его, дарующего мир смятенному сердцу! «Ибо ангел Господень явился им» — да, на серебряных крылах спустился он в комнату, коснулся его и спас. Как же не благодарить, как не ликовать и не радоваться тысячами голосов и в то же время — одним, присущим именно тебе, как же не воспеть хвалу: «Glory to God!»
Гендель наклонил голову над листками, как бы сопротивляясь мощному напору ветра. Усталости как не бывало. Никогда не чувствовал он так свою силу, никогда не испытывал столь глубокой радости от процесса творчества. А слова как бы затопляли его токами спасительного теплого света, каждое обращалось к его сердцу, изгоняя злых духов, освобождая! «Rejoice» («Радуйся») — как великолепно вырвалось вперед это хоровое песнопение, непроизвольно приподнял он голову и раскинул руки. «Он — истинная подмога!» — да, именно это он хотел свидетельствовать, так, как никто из живших до него на земле это не сделал, и поднять хотел он свое свидетельство над миром, как скрижаль с горящими письменами. Лишь тот, кто много страдал, знает, что такое радость, лишь твт, кто испытан, предчувствует конечное блаженство прощения, его это долг — ради пережитой смерти свидетельствовать людям о воскресении. Когда Гендель читал слова «Не was despised («Он был презираем»), к нему вернулись тяжелые воспоминания, он слышал темные, гнетущие звуки. Похоже, они уже победили его, похоже, уже похоронили его живую плоть, преследуя его насмешками — «And they that see Him, laugh — они насмехались над ним, увидев его. «И не было никого, кто бы утешил страждущего». Никто не помог ему, никто не утешил его в слабости, но — удивительная сила, «Не trusted in God», он доверился Богу, и вот, Тот не оставил его душу в преисподней — «But Thou didst not leave his soul in hell. Нет, не в могиле отчаяния, не в преисподней бессилия оставил Бог душу плененного, сокрушенного, нет, вновь призвал его, дабы нес благую весть людям. «Lift up your heads («Поднимите головы ваши») — как ликующе звучал, как рвался из него этот великий наказ благовестия! И внезапно ужас объял его — ибо далее в тексте рукой бедняги Дженненса было написано: «The Lord gave the Word».
У него перехватило дыхание. Случайный человек сказал здесь правду: Бог дал ему Слово, свыше оно было объявлено ему. «The Lord gave the Word»: от Него исходило слово, от Него шла музыка, от Него — милость! К Нему оно должно возвращаться, к Нему — поднятое токами сердца, Ему с радостью должен петь хвалу всякий творящий. О, постигнуть это Слово, удержать его, поднять и дать ему сил для воспарения, расширить его, растянуть, чтобы оно стало таким огромным, таким же необъятным, как мир, чтобы оно охватило, вобрало в себя все ликование бытия, чтобы оно стало таким же великим, как Бог, Который дал это Слово, о слово смертное и преходящее, красотой и бесконечной страстностью вновь обращенное в вечность. И вот — оно написано, оно звучит, это слово, бесконечно повторяемое: «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Да, все голоса этой земли следует объединить: мужские — светлые, темные, твердые; женские — податливые, мягкие; они заполняют все пространство, растут и меняют свою тональность, они связываются, освобождаются в ритмичном хоре, они поднимаются и опускаются по лестнице Иакова, они успокаивают услаждающими прикосновениями смычков к струнам скрипок, воодушевляют резкими звуками фанфар, бушуют и грохочут в громах органа: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! — из этого слова, из этого благодарения следует создать ликование, которое с этой земли вернется назад, к Творцу Вселенной!
Слезы застлали глаза Генделю, так был он потрясен, прочитанным, прочувствованным. Еще не все было прочитано, оставалась третья часть оратории. Но после слов «Аллилуйя! Аллилуйя!» он читать более не мог. Он был переполнен звуками этого ликования, звуки расширялись, напрягались, вызывали боль, словно поток огня, желающий течь, не могущий не течь. О, как тесно было этим звукам, они рвались из него, стремились назад, к небу. Торопливо схватил он перо, записал, с волшебной быстротой громоздились знаки один возле другого. Он не мог удержаться, его гнало и гнало, подобно тому, как буря гонит корабль под парусами. Вокруг молчала ночь, над большим городом лежала влажная немая темнота. Но в нем, в Генделе, лились потоки света, и неслышно гремела музыка мироздания.
Когда утром слуга осторожно вошел в комнату, Гендель сидел еще за столом и писал. Он не ответил, когда Кристоф Шмидт, адлатус, робко спросил, не может ли он быть полезен копированием, композитор лишь заворчал глухо и угрожающе. Никто не решался больше войти к нему, и эти три недели он не покидал комнату, а когда ему приносили еду, он левой рукой отламывал пару раз хлеб, правой же продолжал писать. Остановиться он уже не мог, это было как опьянение. Если он вставал и шел по комнате, громко напевая и размахивая руками в такт, глаза его ничего не видели; когда с ним заговаривали, он испуганно вздрагивал и ответ его был неопределенен и сбивчив. Это были тяжкие дни для слуги. Приходили кредиторы, требовали погашения долговых обязательств, приходили певцы просить у маэстро праздничные кантаты, приходили посыльные с приглашением Генделя в королевский дворец; слуга всем должен был отказывать, так как, раз обратившись к увлеченному работой человеку, он в ответ услышал львиный рык гнева. В эти недели Георг Фридрих Гендель потерял представление о времени, он не различал более дней и ночей, он жил в некоей сфере, где время проявляется лишь в ритме и такте, он пребывал во власти бушующего потока, что извергался из него все настойчивей, все напористей, по мере того как произведение приближалось к своей быстрине, к порогам, к своему завершению. Замурованный самим собой, мерил он созданную им самим темницу топающими, подчиняющимися такту произведения шагами, он пел, подбегал к чембало, брал аккорд, затем вновь возвращался к столу и писал, писал, пока пальцы не сводила судорога; никогда прежде на него не нисходил такой творческий экстаз, никогда не жил он так, не страдал так, растворившись в музыке.
Наконец, через три недели — непостижимо поныне и во веки веков! — 14 сентября, труд был завершен. Слово стало звуком, неувядаемо цвело и звучало то, что только что было сухой, холодной речью. Подобно тому как ранее свершилось чудо воскрешения парализованного тела, сейчас свершилось чудо воли — воспылала душа. Все было написано, были созданы и развернулись в мелодиях и взлетах образы — не хватало одного лишь последнего слова оратории: «Аминь». Но это слово, эти два маленьких слога заставляли Генделя построить из них звучащую лестницу к небу. Один голос он бросил на это и другой в чередующемся хоре, он растягивал их, эти два слога, и отрывал их друг от друга, чтобы вновь сплавить, словно дыхание Господне, проникла его страсть в это заключительное слово великой молитвы, обширным, как мир, было оно и полно было полнотой мира. Это одно, это последнее слово не отпускало его, и он не мог расстаться с ним; великолепной фугой построил он это «Аминь», из первого звука, из звонкого «а», первородного звука начала, пока он не стал кафедральным собором, гудящим и заполненным людьми, шпилем своим возносящимся в небо все выше и выше, рушащимся и вновь взметывающимся вверх и, наконец, схваченным бурей органа, силой объединившихся голосов, он вновь и вновь взмывал вверх, заполняя собой все сферы, и казалось, к этому торжественному гимну благодарности присоединились ангелы, и балки перекрытий раскалывались от этого вечного «Аминь! Аминь! Аминь!».
С большим трудом Гендель поднялся. Перо выпало из руки. Он не знал, где находится. Он ничего не видел, ничего не слышал. Только усталость чувствовал он, безмерную усталость. Ему нужно было держаться за стену, так кружилась голова. Силы покинули его, тело смертельно устало, мысли путались. Словно слепой, брел он вдоль стены. Упал в постель и заснул как мертвый.
Трижды в первой половине дня слуга тихо приоткрывал дверь в спальню. Маэстро спал, недвижным, как изваянное из серого камня, было его замкнутое лицо. В полдень, войдя в комнату в четвертый раз, слуга попытался разбудить его. Он громко кашлянул, шумно передвинул кресло. Но в бездонную глубину этого сна не проникал никакой звук, сознания спящего не достигало ни одно слово. После полудня слуге на помощь пришел Кристоф Шмидт. Гендель все еще лежал в неподвижности. Фамулус наклонился над спящим: словно мертвый герой на поле брани после победы, лежал он, пораженный усталостью после несказанно великого свершения. Но ни Кристоф Шмидт, ни слуга ничего не знали ни о свершениях, ни о победе, их обуял ужас при виде этой зловещей неподвижности; они испугались, не поразил ли маэстро второй удар. И когда вечером, несмотря на все попытки растолкать его, Гендель не проснулся — уже семнадцать часов лежал он недвижим, — Кристоф Шмидт побежал к врачу. Он не сразу нашел доктора Дженкинса. Тот, воспользовавшись мягким вечером, вышел на Темзу поудить; он стал ворчать, недовольный неприятной помехой отдыху. Но, услышав, что дело касается Генделя, быстро собрал свои рыболовные снасти, сходил — на это ушло немало времени — за хирургическим инструментом, чтобы было чем, если понадобится, отворить кровь, и, наконец, пони с обоими седоками зарысил в направлении к Брук–стрит.
Но навстречу им, размахивая руками, выбежал слуга.
— Он встал, — кричал он им, — и ест, как шестеро портовых грузчиков. Половину йоркширского окорока умял, четыре пинты пива выпил и просит еще.
И действительно, Гендель, словно Бобовый король, сидел за столом, уставленным снедью, и, подобно тому, как за три бессонные недели проспал день и ночь, он теперь пил и ел на радость своему гигантскому телу, как бы желая принять в себя все, что израсходовал за эти недели, творя свое произведение. Увидев доктора, он засмеялся, и постепенно этот смех перерос в чудовищный громкий, гремящий, гомерический хохот; Шмидт вспомнил, что за все эти недели он не видел даже улыбки на губах Генделя, только напряженность и гнев. Теперь же присущая натуре композитора веселость вернулась к нему, веселость гудела, словно прилив, ударяющийся о скалу, она пенилась и билась клокочущими звуками, — ни разу в своей жизни Гендель не смеялся так, как сейчас, увидев врача, спешащего к нему на помощь в час, когда он чувствовал себя здоровым как никогда и радость бытия переполняла его. Высоко поднял он кружку и, качая ею, приветствовал Дженкинса.
— Лопни мои глаза, — поразился доктор. — Что с вами произошло? Какой эликсир вы выпили? Жизнь так и прет из вас! Что стряслось с вами?
Гендель смотрел на него, смеясь, с горящими от возбуждения глазами. Затем постепенно успокоился, стал серьезным. Он медленно встал, подошел к чембало. Подсел к инструменту, руки сначала прошлись по клавишам, не извлекая из инструмента звуков. Потом он повернулся, как–то особенно усмехнулся и начал тихо играть, говоря и напевая мелодию речитатива «Вепош, I tell you a mystery («Внемлите, тайну вам открою») — это были слова из «Мессии», и подал он их поначалу шутливо. Но, едва начав, он уже не мог не продолжать. Играя, Гендель забыл все вокруг, да и себя также. Вдохновение захватило и увлекло его. Внезапно он вновь оказался в своем произведении, он пел, он играл последнюю партию хора, созданную им в сомнамбулическом состоянии, как бы во сне; бодрствуя, он слышал ее сейчас впервые: «Oh, death, where is thy sting» («Смерть, где жало твое?»), внутренне чувствовал это, пронизанный пламенем жизни, и голос его обретал все большую и большую силу, и вместе с ним хор, ликующий, торжествующий, и далее, далее играл он и пел до «Аминь, аминь, аминь», и казалось, вот–вот рухнет здание, такова была сила звуков, такова была их мощь.
Доктор Дженкинс стоял словно оглушенный. И когда Гендель наконец поднялся, сказал смущенно, восхищенный, не найдя других слов:
— Ну, ничего подобного я никогда не слышал. Вы просто одержимы дьяволом.
Но тут помрачнело лицо Генделя. И он испугался своего произведения и той милости, что снизошла на него как во сне. И стыдно стало ему. Он отвернулся и сказал тихо, так, что находящиеся в комнате едва услышали:
— Напротив, я думаю, что со мной был Бог.
Несколько месяцев спустя в Дублине в дверь дома на Эбби–стрит, где остановился приехавший из Лондона благородный гость, великий композитор Гендель, постучались два хорошо одетых господина. Они обратились к нему с почтительной просьбой. В эти месяцы маэстро осчастливил столицу Ирландии своими великолепными произведениями, многие из которых прозвучали здесь впервые. Однако им стало известно, что он также хочет исполнить здесь недавно написанную им ораторию «Мессия», и, выбрав Дублин, а не Лондон для этого первого исполнения оратории, маэстро оказал столице Ирландии большую честь. Поэтому следует ожидать, что концерт этот даст особо высокий сбор. Вот они и пришли спросить, не согласится ли маэстро — щедрость его общеизвестна — деньги за это первое исполнение оратории передать благотворительным учреждениям, которые они имеют честь представлять.
Гендель дружелюбно смотрел на них. Он любил этот город, подаривший ему свою любовь, сердце его было открыто дублинцам. Он охотно соглашается на это предложение, заметил он, посмеиваясь, им следует лишь назвать благотворительное учреждение, которому надлежит передать деньги, полученные за концерт.
— Обществу помощи заключенным в различных тюрьмах, — сказал добродушный седовласый господин.
— И больным госпиталя Милосердия, — добавил второй.
Но, само собой разумеется, уточнили они, великодушное дарение относится лишь к деньгам за первое исполнение, деньги за все последующие остаются за маэстро.
Но Гендель возразил.
— Нет, — сказал он тихо, — никаких денег за это произведение. Никогда я не приму денег за исполнение этой оратории, я и сам вечный должник за нее. Эти деньги всегда будут принадлежать больным и заключенным. Ибо сам я был больным и исцелился, творя это произведение. И узником был, а оно меня освободило.
Оба господина переглянулись удивленно. Они не все поняли из сказанного. Но горячо поблагодарили, откланялись, спеша распространить по городу радостную весть.
7 апреля 1742 года была проведена последняя репетиция. Слушателями были немногие родственники хористов обоих кафедральных соборов; экономии ради помещение концертного зала на Фишамбл–стрит было освещено скудно. На пустых скамьях тут и там небольшими группками и поодиночке сидели те, кто пришел слушать новую ораторию маэстро из Лондона. Темно и холодно было в большом зале. Но едва, подобно звонким водопадам, начали бушевать хоры, произошло нечто поразительное. Сидящие в разных концах зала люди стали непроизвольно придвигаться друг к другу и сбились постепенно в единую темную массу, изумленную, обратившуюся в слух; как будто каждому в отдельности из сидящих в зале было слишком много этой музыки — музыки, подобной которой им слышать еще не приходилось, — очень уж велика была сила этой музыки, и они боялись, что она вот–вот смоет их и унесет. Все теснее и теснее жались они друг к другу, как будто внимали музыке единым сердцем, словно единая община воспринимали они слово глубокой веры, которое, произносимое на все лады, гремело им навстречу из сложнейшего переплетения голосов. Каждый чувствовал себя бессильным перед этой первобытной мощью и в то же время — счастливым тем, что подхвачен и несом ею, и трепет восторга пронизывал их всех как некое единое тело. А когда впервые загремело славословие «Аллилуйя!» — оно потрясло слушателей, и в едином порыве все поднялись; они чувствовали — нельзя жаться к земле, подхваченные необоримой силой, они встали, чтобы своими голосами хотя бы немного приблизиться к Богу и благоговейно служить Ему. А потом, когда кончился концерт, они пошли и стали рассказывать всем своим близким, что только что прослушанная ими оратория не имеет равных на земле. И город был потрясен этим сообщением, и многие, очень многие желали услышать этот шедевр.
Шесть дней спустя, вечером 13 апреля, огромная толпа скопилась у дверей концертного зала. Дамы пришли в платьях без кринолинов, кавалеры были без шпаг, с тем, чтобы в зале могло поместиться как можно больше людей; семьсот человек — никогда столько людей не собиралось в этом помещении — втиснулось в зал, такова была слава, разнесшаяся об этой оратории; когда же началось ее исполнение, люди затаили дыхание. Но тут с ураганной мощью грянули хоры, и сердца слушателей затрепетали. Гендель стоял у органа. Он хотел следить за исполнением своего произведения, вести его, но сам оторвался от него, потерялся в нем, оказался чужим ему, как будто никогда не создавал, не лепил его, никогда раньше не слышал его, и вот оказался вовлеченным в сотворенный им самим поток звуков. И когда зазвучало «Аминь», он непроизвольно запел с хором, и пел так, как никогда до сих пор в жизни не пел. Но затем, когда бурные восторги слушателей заполнили зал, он тихо отошел в сторону, чтобы благодарить не людей, желавших выразить ему свою глубокую признательность, а Милосердие, даровавшее ему это произведение.
Шлюз открылся. И вновь годы и годы течет звонкий поток. Отныне ничто не могло заставить Генделя склониться, ничто не могло воскресшего поставить на колени вновь. Созданное им в Лондоне Оперное товарищество опять становилось банкротом, опять травили его кредиторы, но он не терял мужества, он выстоял, беззаботно шел, шестидесятилетний, своим путем, отмерял жизненный путь своими произведениями словно придорожными столбами. Ему чинили препятствия, он легко преодолевал их. Возраст брал свое, силы иссякали — парализовало руку, подагра изуродовала ноги, — но душа не знала устали, он творил и творил. Он стал слепнуть и, когда писал своего «Иеффая», ослеп. Но и незрячий, подобно Бетховену, пораженному глухотой, он продолжал творить, неутомимый, непобедимый, тем смиреннее перед Богом, чем прекраснее были его победы на земле.
Как все настоящие, строгие к себе художники, свои произведения он не превозносил. Но одно из них очень любил — «Мессию», он любил это произведение из благодарности: оно вызволило его из бездны, помогло ему исцелиться. Из года в год исполнял он эту ораторию в Лондоне, каждый раз с неизменным успехом, и каждый раз после исполнения «Мессии» всю выручку от концерта, пятьсот фунтов, передавал больницам — для недужных, в тюрьмы — для облегчения участи тех, кто томился в оковах. И именно этим произведением, которое помогло ему выбраться из Аида, он пожелал проститься с публикой. Шестого апреля 1759 года уже тяжело больной семидесятичетырехлетний композитор вышел еще раз на подмостки Ковент — Гардена. И вот стоял он, слепец–гигант, среди своих преданных друзей, среди музыкантов и певцов; его безжизненные, его угасшие глаза не видели их. Но едва в великом, бурном порыве на него нахлынули волны звуков, едва ликование омыло его ураганом сотен голосов, усталое лицо композитора осветилось, прояснилось. Он размахивал руками в такт музыке, он пел так серьезно и истово, как если бы торжественно стоял у изголовья собственного гроба, молился вместе со всеми о своем спасении и о спасении всех людей. Лишь однажды, когда с возгласом хора «The trumpet shall round («Вострубит труба») резко вступили трубы, он вздрогнул и посмотрел своими невидящими глазами вверх, как бы говоря этим, что уже сейчас готов к Страшному суду; он знал, что свою работу сделал хорошо. Он мог с поднятой головой предстать пред лицом Бога.
Взволнованные, вели друзья слепца домой. И они чувствовали — это было прощание. В постели он тихо шевелил губами. Шептал, что хотел бы умереть на Страстную пятницу. Врачи дивились, они не понимали его, они не знали, что Страстная пятница, которая в этом году приходилась на 13 апреля, была днем, когда тяжелая десница повергла его в прах, днем, когда его «Мессия» впервые прозвучал для мира. В этот день, когда все в нем умерло, он воскрес. В этот день воскресения он хотел умереть, дабы иметь уверенность, что воскреснет для вечной жизни.
И действительно, эта поразительная воля имела власть не только над жизнью, но и над смертью. Тринадцатого апреля Генделя оставили силы. Он ничего более не видел, ничего не слышал, недвижимым лежало огромное тело в подушках, бренная оболочка отлетающей души. Но подобно тому, как полая раковина шумит грохотом моря, так и в нем звучала неслышная музыка, менее знакомая и более прекрасная, чем та, которую он когда–либо слышал. Медленно из изнуренного тела отпускали волны этой музыки душу, стремящуюся вверх, в невесомость. Поток вливался в поток, вечное звучание — в вечную сферу. И на следующий день, еще не проснулись пасхальные колокола, умерло то, что оставалось в Георге Фридрихе Генделе смертным.