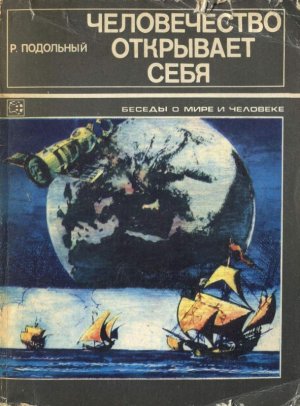
На протяжении всей истории человечество, открывая мир, открывало и себя. И каждый шаг в нашем долгом прошлом был таким двойным открытием. Почти все достижения землян можно с полным правом истолковать и как осознание сил и способностей человечества в целом и его отдельных представителей.
Мы с вами пролистаем лишь немногие страницы истории, чтобы увидеть на примерах, как человечество осознавало свое место в мире. Как человек открывал и собственное «я», и то, что он лишь один из людей, а его народ — один из народов, составляющих человечество. Как люди поняли, что общество меняется во времени, обнаружили прошлое, научились видеть контуры грядущего и бороться за то, чтобы сделать его лучше.
Поневоле беглым будет этот короткий рассказ, но автор очень хочет, чтобы читатель ощутил историю в непрерывном ее движении, увидел восхождение человека по ступеням времени и усилия, с которыми он осознавал свой путь от прошлого к будущему.
Открытие себя
Карл Маркс и Фридрих Энгельс писали: «Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии — вообще по чему угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им средства к жизни, — шаг, который обусловлен их телесной организацией».
Человек — изначально, на любой социально-исторической стадии — существо мыслящее. Делая лишь первые шаги на своем многотрудном пути, он уже стремится понять, какое место занимает в мире, почему и для чего живет, в чем, говоря современным языком, смысл его существования. И, рисуя картину мироздания, создает мифы, в которых реальность причудливо соединяется с фантазией.
Мифы были первым широким обобщением реального опыта, в мифе соединялись элементы еще не существующих отдельно друг от друга зачатков будущей науки, искусства, религиозных представлений. Не будем здесь вдаваться в теорию мифа. Для нас сейчас важно увидеть место, которое отводится в мифологической картине мира человеку. И что же? Могучи духи предков, грозны боги стихийных сил, но и по отношению ко всем им в древней мифологии человек почти всегда занимает отнюдь не просто подчиненное положение. Вселенная в мифах большей частью создается богом или богами, однако целью появления ее нередко объявлялось рождение человека. Мало того, боги даже там, где они считались всесильными, зависели от жертв, приносимых людьми. А принеся жертву, человек не просто задабривает богов — он за них пытается принимать решения.
По верованиям современного народа бамбара в Западной Африке, действующими во Вселенной божественными силами люди управляют с помощью жертвоприношений.
Человека первобытного общества слишком часто сегодня представляют абсолютно запуганным придуманными им самим мифическими существами, безумно боящимся страшного мира, окружающего его. Основания для этого, конечно, есть. Каких только чудовищ нет в мифологии!
Французский историк-африканист Б. Оля долго перечисляет богов и демонов — покрупнее и помельче, тех, что обычно добры, но иногда приходят в ярость, других — равнодушных, однако любящих позабавиться, просто злых, карликов и великанов, прозрачных и черных, одноногих и многоруких… «…Есть еще большое количество других, не менее удивительных созданий: духи-змеи, духи-крокодилы, духи-ламантины, духи-насекомые, духи из области неживой природы. Никто, конечно, не может составить полный их список, потому что для этого надо было бы исследовать все тайники человеческой фантазии, дойти до самых сокровенных глубин метафизического мышления», — заключает он. С другой стороны, степень внутренней зависимости человека от этих порождений его воображения нельзя и преувеличивать. Б. Оля констатирует, что человек «умеет обходиться» со всеми этими чудовищами, что африканцы обычно отнюдь не чувствуют себя задавленными всей этой окрестной чертовщиной, в которую глубоко верят: миф породил духов, миф учит и тому, как избежать, если это возможно, их козней. Порождения первобытных мифов не более ужасны, чем иные образы, утвердившиеся в так называемых мировых религиях — христианстве, исламе или буддизме.
Канадский исследователь и писатель Фарли Моуэт после довольно длинного рассказа о страшных призраках, в которые верят эскимосы-ихалмюты, сообщает об эскимосе, ужаснувшемся после разговоров с христианским священником: «Какую жизнь вы должны вести… Священник целыми часами беседовал со мной о вещах, в которые вы верите, — о вашем боге, о всех этих крылатых дьяволах, призраках и духах, живущих на небе и под землей. Правду сказать, я изумлен и напуган. Наверно, только оттого, что вы белый человек, наделенный большой силой и богатством, вы можете переносить все ужасы, которые ваша религия обрушила на вас. Этим законам ваших богов нет никакого дела до душ людей; эти духи и дьяволы, которые следят за каждым вашим шагом и судят вас по ужасным меркам, все это заставляет меня содрогаться от страха. И все же, хотя я испытываю ужас, я могу пожалеть вас за то, что вы живете под такой зловещей тенью: вы ведь тоже сыновья женщины… От души желаю вам удачи в вашей борьбе за то, чтобы не угодить в то место, которое вы называете адом!»
Вот что такое взгляд со стороны, взгляд человека другой культуры.
Люди первобытного общества противостояли темным силам своей собственной мифологии не в одиночку, а всем родом, сплоченным маленьким коллективом. Они не отделяли себя от общины, неразрывная связь с ней была для людей первобытного строя не менее естественной и несомненной, чем необходимость есть и спать. Собственное «я» поначалу терялось в этом властном и необоримом «мы».
Конечно, никогда и нигде с древнейших времен люди даже самого маленького и самого неразвитого общества не бывали абсолютно похожими. Они были разными по характеру и темпераменту. Среди них были такие, которые среди своих соплеменников умели делать что-то лучше других. Однако круг таких дел у всех был один и тот же. Ну, есть особые заботы у мужчины и женщины, меняются с возрастом права и обязанности, но все это определено заранее. У первобытного общества есть свое прошлое, измеряющееся сотнями тысяч лет. За эту бездну времени сложились жесткие, суровые правила, по которым должно жить такое общество, чтобы не погибнуть, чтобы уцелеть среди беспощадной природы.
Род — древнейшая известная нам общественная организация, одновременно и хозяйственная, и семейная, и религиозная, и нравственная. Род управляет своими членами сразу «по всем линиям». Положение человека в нем определяется полом, возрастом, родственными отношениями; изменить его сам человек не может, оно задано. Самые смелые охотники, самые могучие воины, самые мудрые знатоки природы в равной мере подчинены правилам многотысячелетней давности. И пусть в роде еще нет ни гнета эксплуататоров, ни разделения на богатых и бедных, но нет (и не может быть) и свободы. Родовое равенство оборачивается равенством послушания. Даже рабы свободнее — в том смысле, что они осознают свою несвободу, могут восстать против нее, — на власть же рода член его не в силах посягнуть даже в помыслах.
Всякое новшество здесь встречается с опасением, в тех условиях вполне обоснованным. Лишь чрезвычайно медленно, постепенно накапливаются полезные изменения, после сотен тысяч лет «спокойного развития» выводящие общество охотников и собирателей к подлинно революционному переходу к земледелию и скотоводству. Но родовое общество продолжает сохраняться и первые тысячелетия после этого грандиозного шага вперед. Внутри него вызревают основы нового, классового общества, вызревают долго и трудно. Скажем, первые возможности имущественного неравенства подавляются обычаями, по которым разбогатевший член рода обязан задавать своим сородичам роскошные пиры, где к тому же гостям преподносятся дорогие подарки. Такой обычай известен у многих индейцев, жителей Океании, Африки… Накопленное годами расходуется в считанные дни, а устроителя пира вознаграждают почести и громкая добрая молва. Конечно, и родовому обществу, как любому другому, не под силу бесконечно сопротивляться развитию производительных сил, усложнению общественных отношений. С течением времени статус устроителя пиров дает ему определенную власть, становится средством закрепления общественного неравенства, но — с течением времени.
Властное влечение полов может сокрушить заданную обычаем систему браков, в которой у каждого мужчины очень невелик спектр возможного выбора невесты, и нет преступления страшнее, чем взять жену не из той части рода или племени, из которой тебе положено выбрать подругу жизни. За нарушение — смертная казнь, так редко, вообще говоря, предусматриваемая обычаями родового строя.
Семейная ссора — конфликт, не угрожающий существованию общества. Но род — это ведь и большая семья, поэтому неурядицы в семье малой внутри него воспринимаются так же серьезно, как конфликты, угрожающие хозяйственной деятельности. Все в роде знают друг о друге всё. Любая ссора двух человек — общественное событие. Община умеет мирить своих членов, принимая выработанные веками меры, нередко чрезвычайно гибкие. Простота и ясность отношений, заданность поведения, твердость устоев могут показаться весьма привлекательными. Умилительна картина такой жизни, упорядоченной, с несложными заботами, тревогами, радостями. Умилительна и завидна. Сколько европейских моряков бросали корабль, чтобы разделить эти заботы и радости! Какие замечательные художники и писатели мечтали о жизни среди «первобытных людей» (и порой осуществляли свою мечту на деле)!
До чего же симпатичные люди, по сути, были аборигены Африки, Америки, Полинезии, принимавшие к себе таких искателей не столько приключений, наверное, сколько покоя! Да и всех нас с детства «принимали к себе» благородные индейцы Купера, трогательные папуасы Миклухо-Маклая, доброжелательные и гостеприимные таитяне Джека Лондона. И все-таки, справедливо отмечает Фридрих Энгельс, «как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга, они не оторвались еще, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности».[1]
Прикованный к группе в несколько десятков или сотен людей, человек не выбирал себе ни жизненного пути, ни идеологии, ни занятия. «Варианты жизни», таким заманчивым веером раскрывающиеся перед нами в юности, для него были немыслимы. Вот что писал по этому поводу доктор исторических и философских наук Б. Ф. Поршнев: «…при первобытнообщинном строе было еще хуже, еще несвободнее, чем при рабстве. Не соответствуют никаким фактам рассказы о свободе и независимости человеческой личности в доклассовом обществе».
Энгельс констатировал: «…племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчиненной в своих чувствах, мыслях и поступках»[2]. Обратите внимание: даже в мыслях и чувствах!
Общество состоит из личностей. Каждый человек — личность. Так мы говорим сегодня. Ну а что это такое — личность? Да просто человек со всеми своими качествами — интеллектуальными, эмоциональными и волевыми. Но за любым из таких качеств у каждого из наших современников стоит настоящее и прошлое всего человеческого общества, потому и говорят об индивидуальных свойствах людей, что они социально обусловлены.
Развитие личности, осознание человеком самого себя — результат долгого и сложного процесса. Ему предшествует разделение труда. Нужно, чтобы разные люди накапливали различный производственный и общественный опыт, нужно, чтобы хоть кто-то получил право выбора — возможность по собственной воле избирать себе занятие, самостоятельно оценивать институты своего общества, обсуждать его идеологию. Для этого общество должно стать разнообразным, распасться на классы, а сами классы — на более узкие сословные и профессиональные группы. Дорогая плата за развитие личности — переход от общества равных к обществу эксплуататоров и эксплуатируемых. Но история ведь не спрашивает, готовы ли люди уплатить такую-то и такую-то плату за такие-то и такие-то будущие достижения человечества. Она развивается по собственным законам, гонит народы на «барщину истории», по выражению Г. В. Плеханова.
Слабым утешением, наверное, послужило бы для рабов Древней Греции, если бы им объяснили: лишь благодаря вам оказалось возможно появление Сократа и Фидия, Геродота и Перикла.
Но что делать, только выполняя иные действия, чем Другие члены общества, принимая на себя особые обязанности, человек начинает осознавать свою «особость», то, что называют индивидуальностью. И Карл Маркс пишет: «…развитие способностей рода „человек“… вначале совершается за счет большинства человеческих индивидов… более высокое развитие индивидуальности покупается только ценой такого исторического процесса, в ходе которого индивиды приносятся в жертву» [3].
Это пишет человек, назвавший целью человечества свободное и полное развитие каждого как условие развития всех. Это пишет один из величайших в истории борцов за равенство.
Наши чувства и разум не может не возмущать институт рабства, но когда-то это было необходимой ценой прогресса, и человечество заплатило ее.
Вожди и шаманы — вот кто в первую очередь приобретал особые, яркие индивидуальные черты. Скажем прямо, многие плоды этого процесса оказались горькими для честных и верных хранителей родовых традиций. Просто поразительно, с какой последовательностью исследователи-этнографы рисуют нам хитрость, изворотливость, жестокость колдунов-шаманов у самых разных народов в Африке, Азии, Америке. Особенно впечатляюще выглядят эти качества на фоне в общем совсем других характерных свойств внемлющих шаманам «простодушных детей природы».
Герои дошедших до нас сказаний первобытного общества прежде всего носители общих родовых качеств. Они безлики, это просто представители общины и не более того. Древневавилонскому эпосу о Гильгамеше, вожде и царе, предшествуют шумерские сказания, персонажем части которых выступает он же. Сравнивая героев эпоса и предшествовавших ему сказаний, ленинградский историк В, К. Афанасьева пишет: «…настоящий, истинный эпический герой всегда обладает определенными личными качествами (как моральными, так и физическими), которые и обусловливают его подвиги и возвышают над обыкновенными смертными.
У него уже не будет волшебных помощников, как у героя сказки, а если они все-таки окажутся, то будут играть вспомогательную роль. Цели борьбы такого героя всегда необыкновенно благородны — борьба за общее благо, за чье-то освобождение… Герои же шумерских произведений не обладают никакими сверхъестественными качествами, кроме чисто номинального родства с богами, а иногда еще роста и силы… Всеми своими подвигами шумерские герои обычно обязаны или богам, или помощи каких-то волшебных средств, подаренных этими же богами».
Как видите, получив ярко выраженные личные качества, герой эпоса перестает нуждаться в прямой помощи богов, собственная индивидуальность дает ему силы бороться за добро — иногда против тех же богов, как это делает Гильгамеш в качестве героя эпоса.
Куда более полнокровными становятся персонажи поэм, созданных в классовом обществе. Они не просто храбры, умны, решительны, но храбры, умны, решительны каждый по-своему. Вспомним хотя бы, как отличаются друг от друга богатыри русских былин. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович наделены яркими и своеобразными характерами, это полнокровные индивидуальности.
Замечательно, что древнейшее, пожалуй, из дошедших до нас больших литературных произведений, эпос о Гильгамеше, уже содержит в себе противопоставление «человека культурного» «человеку дикому». И «дикий» человек Энкиду — «дикарь» с точки зрения вавилонского рабовладельческого общества, как были «Дикими» с точки зрения буржуазного европейского общества люди родовых общин Северной Америки или Новой Гвинеи. Его приобщают к городской культуре, он становится другом Гильгамеша, но именно Гильгамеш задается сложнейшими нравственными вопросами, задумывает поход за бессмертием, отвергает любовь богини. Энкиду при Гильгамеше в некоторых вариантах выглядит как Пятница при Робинзоне; впрочем, Гильгамеш не только симпатичнее Робинзона, но, пожалуй, и сложнее его, хотя принадлежит к более просто устроенному обществу. Однако он ведь герой в подлинном смысле этого слова, а не только литературном. Робинзон же до своего вынужденного подвига на острове зауряднейший буржуа-приобретатель. Впрочем, как уже говорилось, процесс индивидуализации прежде всего затрагивал людей, исполнявших особые функции, ведь Гильгамеш был и вождем, и, по-видимому, шаманом, множество на нем лежало обязанностей, много социальных ролей ему надо было играть, а сложная жизнь порождает и сложную личность.
Гомеровские герои еще хранят клеймо родового общества, хотя живут они в условиях, когда классы уже есть.
Какие причины побуждают их к героическим поступкам или преступлениям? По сообщению Гомера и согласно «передаваемым» им словам самих героев, просто-напросто воля богов приказывает Ахиллу идти к Трое, велит Одиссею долгие годы стремиться к Итаке. Но у них есть все-таки определенная свобода выбора. Ахиллу предоставлено, пусть богами, выбирать между жизнью долгой и мирной, но безвестной, и жизнью краткой, но яркой, увенчанной вечной славой. А в греческих трагедиях V века до нашей эры важнейшей становится уже тема борьбы человека с Судьбой, выступая против которой человек перестает быть игрушкой в руках бессмертных олимпийцев и осознает себя личностью.
Борьба человеческой личности с роком становится с тех пор одной из вечных тем литературы. Казалось бы, утверждение христианства в значительной части мира должно было «закрыть» эту тему, потому что христианский бог «по идее» благостен и справедлив, а то, что «пути его неисповедимы» и «божье представление» о справедливости так явно отличается от человеческого, не отменяет зависимости абсолютно всех событий от бога, без воли которого «волос с головы не упадет». Но жизнь была сильнее порожденной ею религии, и всякая развитая личность не могла не осознавать свою жизнь как борьбу.
И эпоха Возрождения, в Европе внешне оставаясь верной христианской идеологии, а на Ближнем и Среднем Востоке — мусульманской, по существу, восстает против нее, причем этот мятеж разума находит одно из ярчайших своих проявлений в новом типе личности.
Феодальное общество было в некоторых отношениях организовано более жестко, чем античное. При феодализме у каждого человека от самого его рождения было строго закрепленное за ним место в сословной иерархии: он был крестьянин или ремесленник, купец или «рядовой» рыцарь, барон, граф, герцог. И каждый человек расценивался прежде всего по тому, насколько он соответствовал некоему идеалу своего сословия, по тому, насколько «хорошим» рыцарем или крепостным он был. Житейская мораль судила его с этой точки зрения, богословы же искали в человеке «вообще» нечто божественное… Человеческое в человеке отошло в целом на задний план, нуждалось в новом открытии. Чтобы это открытие могло быть сделано, должно было измениться общество. Разбогатевшие купцы и цеховые ремесленники получили — сперва в Италии — власть и силу. Прежнее приниженное и строго фиксированное положение в обществе их не устраивало, и они вместе с обуржуазившейся частью аристократии начали борьбу за слом слишком жестких социальных перегородок.
Эпоха Возрождения блещет многогранными талантами. Для нас Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер не только имена конкретных исторических деятелей, но и символ многогранности человеческой личности. В бурях острой политической борьбы, в гуще множества практических дел вырабатываются характеры замечательной цельности.
Одни и те же люди возглавляют армию, сочиняют стихи, пишут картины и математические сочинения. Правители и полководцы чувствуют величайшее почтение к философам и часто способны даже разговаривать с ними на равных. Вот в XV веке предводитель наемной армии Сиджизмондо Малатеста ведет свое войско на Флоренцию. В панике флорентийцы высылают к нему для переговоров философа-гуманиста. После долгой беседы о новых ученых рукописях полководец поворачивает свою армию — характернейший эпизод для того времени, несмотря на то что он, по-видимому, остался единственным в своем роде, но ведь другие эпохи не могут похвастаться и одним таким случаем.
Лозунг итальянского Возрождения — человек может возвыситься до существа небесного. Каждый человек, если он того пожелает! Словом, человек может все, и это зависит не от рода-племени, а от одаренности, образования, трудолюбия. Был открыт в новом качестве труд — труд как благо, возвышающее человека, а не как следствие проклятия, наложенного богом на согрешившего Адама.
Аристотель полагал, что, восхищаясь ваятелем Фидием, достойному гражданину не следует идти по его стопам, — даже работа художника и скульптора казалась античности унизительной. Исключением в этом отношении считался лишь литературный труд — писателя, философа, историка.
Возрождение же объявляет благороднейшим и почетнейшим всякий труд, связанный с талантом. Художники и поэты стоят в общественном сознании чуть ли не выше пап и королей и ведут себя с ними — и не только с ними — порой до крайности высокомерно. Микеланджело, говоря с папой, и не думает снимать с головы войлочную шляпу; император Карл V подает Тициану оброненную тем кисть, и художник принимает это как должное.
Собственное «я» человека поднято на самый высокий уровень, но не всякого человека, а образованного, мыслящего, ученого. Тот, кто лишен литературного изящества, для гуманистов недостаточно человечен, а кто не философ, тот и вовсе не человек. Но сколько людей из общества XIV–XVI веков, сколько реальных представителей общества эпохи Возрождения подходило под те сверхвысокие критерии человека, которые провозгласили гуманисты? Колоссального развития личность достигала только среди весьма немногочисленной философско-художественной элиты.
Возрождение было и восстанием против религии, присвоившей себе право определять все моральные Ценности общества. Проповедь личной независимости и личной свободы человека означала, по существу, требование его свободы и от церковной власти. Во многих областях на севере и в центре Европы победил в ту пору протестантизм. В лютеранской и кальвинистской церквах возобладала идея о, так сказать, устранении официальных посредников между человеком и богом. И это тоже означало определенное расширение свободы личности.
Против религии восставали, лишь внешне оставаясь ей верными, астрономы — открытиями, художники — изображением прекрасной плоти, писатели — вольными стихами, сатирами на монахов и даже сочинениями, проникнутыми как будто глубочайшей религиозностью. Присвоив себе право решать, кому надлежит находиться в раю, а кому в аду, Данте посягнул на власть папы, наместника Христа, над душами мертвых, а тем самым и над душами живых.
Мусульманский идеолог XI века Абу Хамид Газали писал: «Мало существует людей, занимающихся математикой и не становящихся при этом вероотступниками и не скидывающих с голов своих узд благочестия».
Постоянно повторяя, что знание приносит печаль, что блаженны нищие духом, религия стремится сузить человеческое «я», ограничить открытый ему мир.
Это могло удаваться какое-то время, но не вечно же.
Прямое развитие представления гуманистов о сути человека, осознание и сложности человеческой личности, и ее важнейшего места в мире звучит в державинских строчках из оды, которая называется «Бог» и посвящена как будто божьему величию. Но нам слышится в ней иное:
Индивидуализация такой высокой степени была доступна лишь немногим, но прогресс исторического развития в том и заключается, что каждый человек становится личностью в полной мере. Ведь, по Марксу, социальное развитие идет к созданию бесклассового коммунистического общества, но цель (самоцель) самого этого нового общества — формирование развитой личности.
Миллионы людей в нашем социалистическом обществе живут полнокровной, насыщенной, многогранной жизнью. Слово «мещанин» стало определением человека, замкнутого в мирке узких собственнических интересов, и как же оскорбительно звучит это определение сегодня! Потому что наше общество разворачивает перед каждым своим гражданином широкий спектр возможных путей для обретения того «своего», «личного», «особенного», что делает личность действительно полноценной.
Одна из самых главных задач коммунизма — открытие каждому человеку всех возможностей развития его «я», его личности. Личности, которая и закладывается, и формируется, и развивается на протяжении всей истории человечества в общении с другими людьми. Человек есть совокупность общественных отношений, и каждый из нас несет в себе не только биологические признаки вида Гомо сапиенс, но и накопленные многотысячелетним опытом социальные признаки человеческого общества. В нашем поведении, образе мыслей, видении мира запечатлены открытия и великих гениев, и так называемых рядовых людей. В общении людей, в их связях творится человек.
Открытие других
Существо общественное, человек может жить лишь в обществе. И о самом себе он судит, сравнивая себя с другими членами того же общества. Человек смотрится в другого человека, как в зеркало, — Карл Маркс не раз возвращался к этой мысли. И подчеркивал: «Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода „человек“»[4]. Только открыв человека, личность в другом, можно осознать свою собственную личность. Вероятно, эту мысль можно применить не только к отношениям между отдельными людьми, но и к отношениям между народами.
Один народ (племя) смотрится в другой, как в зеркало, и, только отнесясь к соседнему народу как к себе подобному, равноправному человеческому коллективу, народ осознаёт себя и относится к самому себе именно как к такому же полноправному обществу. Вспомним кстати: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.
И как для выявления личности в отдельном человеке необходимо общение его с другими людьми, так и для выявления в полной мере сил и способностей отдельного народа ему требуются контакты с народами другими.
Чем сложнее взаимодействующие общества, тем более эффективны контакты между ними; правда, при рабовладении, феодализме, капитализме такие контакты могут обернуться трагически для более слабого в военном отношении народа.
При первобытном строе, до начала классового расслоения, об угнетении соседних племен обычно и речи не могло быть: с соседей просто нечего взять; там, где нет эксплуатации человека человеком, не может быть и угнетения одного народа другим. Конфликты все-таки порой возникают — из-за охотничьих угодий, иногда из-за женщин, однако, как правило, не затягиваются. Отношения с соседями по большей части строятся по принципу: нас не трогайте — и мы вас не тронем.
Каждое племя, группа тесно связанных родов, ощущает себя как бы центром мира. Европейские исследователи на многоплеменной Новой Гвинее столкнулись с любопытным фактом: папуасы никак не могли понять одного вполне, кажется, естественного вопроса: к какому племени ты принадлежишь, как называется твое племя? Еще соседнее племя они могли порой как-то назвать, но собственное племя особого самоназвания, имени попросту не имело. Члены родного племени — «мы», и только.
В результате почти все племена Новой Гвинеи получили свои нынешние имена от белых.
Ситуация с отсутствием у племени самоназвания довольно частая, — правда, не повсеместная. Австралийские племена имели собственные названия, хотя по уровню исторического развития довольно сильно отставали от папуасов Новой Гвинеи: австралийцы были еще только охотниками и собирателями, а во многих районах Новой Гвинеи уже занимались земледелием, а то и разводили свиней. Этнограф Б. Оля полагает даже, что отказ от самоназвания у некоторых племен Африки сознателен, что это — намеренное подчеркивание собственной особости, того, что именно данное племя — центр мира.
А когда уж начинают те или другие народы себя называть, то имена эти часто поразительно однообразны по смыслу, хотя и звучат совсем, кажется, по-разному. «Немец» — «дейч», а это «дейч» когда-то произошло от древнего слова, означавшего «люди», «народ». По-монгольски «хун» — «человек». А кто не слышал о грозных гуннах — хуннах! И индейцы навахо сами себя зовут тоже «народ», только на их языке это звучит иначе — «дене». «Тюрк» происходит от слова, означавшего на тюркском языке «человек», «нивх» — «человек» на нивхском языке, а «ненэць» — тоже «человек», только по-ненецки. Впрочем, часть ненцев называла себя еще и «точнее»: «неняй ненэць» — «настоящий человек». Так же поступала часть чукчей, взявшая себе имя «лыгьоравэтлян», что значило «настоящий человек».
Когда перед словом, означающим «человек», появляется определение, хотя бы «настоящий», а особенно когда «человек» или «муж» становятся только частью слова, обозначающего племя, — это свидетельство большого шага вперед в осознании людьми своего места в мире. Они дают нам знать уже именем племени, что признали другие племена тоже частью общего человеческого рода. Только они «настоящие» люди, а те — нет.
Однако порой стена между своими «настоящими» людьми и чужим «ненастоящим» человеком очень легко рушилась. Специальные обряды были разработаны для того, чтобы принять в род и племя чужестранца, даже если он враг, попавший в плен. И с момента совершения таких обрядов никто уже не сомневается, что новый член племени — кровный родственник остальных, потомок общих реальных и мифических предков.
По мере социального развития родовые общины все растут и растут в размерах. Группы охотников и собирателей насчитывают лишь десятки и сотни человек; племя земледельцев даже до начала классового расслоения может включать в себя тысячи людей (например, племена, входившие в союз ирокезов).
Контакты между соседями остаются слабыми до тех пор, пока два ближних племени слишком похожи по образу жизни и мало чем могут поделиться: что у одних, то и у других. Но постепенное накопление разного опыта разводит соседей в стороны, как делает разными братьев-близнецов долгая жизнь. И вот тут-то контакты становятся все более полезными и все более необходимыми. С появлением производящего хозяйства, земледелия и скотоводства появляются запасы, Развивается специализированное ремесло — резко увеличиваются возможности обмена между племенами. Первоначально такой обмен принимает из-за взаимных опасений заочный, так сказать, характер: товары выставляются на видном месте, а те, кто их принес, прячутся. Но постепенно участников таких контактов боятся все меньше, все лучше их узнают. Когда давним соседям угрожают общие враги, племена объединяются в союзы, — впрочем, с ростом классового расслоения такие союзы часто превращаются «из организации племен для свободного регулирования своих собственных дел… в организацию для грабежа и угнетения соседей».[5]
Соседей же особенно удобно грабить, если считать их не просто «чужими», а стоящими ниже. В классовом обществе «свои» — настоящие люди, а прочие — варвары. Греки и римляне называют так всех чужеземцев, и на другом конце света китайцы, японцы называют словом, которое переводится именно как «варвары», всех некитайцев (неяпонцев). И все-таки растущее общение между народами делает свое дело: варваров признают людьми, пусть и «низкого сорта». Тем более что торжествует новое, решающее, главное в ту эпоху деление людей — на свободных и рабов. «Другие», «нелюди», «говорящие орудия» — это рабы.
Противопоставление свободных рабам становится все более резким по мере развития рабовладельческого строя. Неравенство «по воле самой природы» уже от рождения свободных и рабов все решительнее подчеркивается, неполноценность рабов по сравнению со свободными становится общим местом. Рабовладельцы и их идеологи словно забывают, что во время бесконечных войн между крохотными государствами той же Греции рабом может стать и аристократ, потомок царей и богов.
Мораль господствующего класса оправдывала рабство. Рабов все больше, государства рабовладельцев все сильнее, и нигде в цивилизованном мире древности, от Испании до Китая, нет уголка, где бы не было рабов, — племена «дикарей» на окраинах не в счет. И вот тут-то, как раз в момент расцвета рабовладельческого общества, против идеи рабства восстают мыслители, философы. Конечно, не все. Таких храбрецов мало, мало в Древней Греции, как и в Древнем Китае, как и в Древней Индии. Но они есть, и их пламенные выступления в защиту равенства людей постепенно находят все больше слушателей. «Все больше» — это не значит, что у них много учеников. Учителей в лучшем случае десятки, учеников — сотни, может быть, тысячи.
Антисфен, ученик Сократа и учитель Диогена, проповедует возврат к природе, уничтожение всех законов, в том числе и института рабства. Гремит на улицах Афин голос Диогена, порицающего власть богачей и само рабство.
Философы-стоики древних Греции и Рима создают довольно стройное учение о равенстве всех людей — греков, римлян и варваров, рабов и свободных. Высшего развития стоицизм достигает в философии римского аристократа, писателя и философа Сенеки, римского раба Эпиктета, римского императора Марка Аврелия Антонина. Послушаем их.
«Ни один человек не благороднее другого, даже если его духовная сущность более высоко организована и более способна к благородному знанию. У всех нас одна прародительница — природа, до того первоначального предка можно проследить родословную любого человека… Добродетель ни для кого не закрыта, всем она доступна, всех подпускает к себе, всех приглашает: свободных, вольноотпущенников и рабов, царей и гонимых» — так пишет Луций Анней Сенека. Он же утверждает: «Природа сделала нас всех равными… Она внушила нам взаимную любовь. Нужно жить для другого, если ты хочешь жить для себя…» А император Марк Аврелий говорит: «Я член одного великого, которое составляют все разумные существа».
Это — одно из первых в истории определений человечества как целого. В эпоху Римской империи, ощущавшей себя всемирной, включавшей в себя все народы (пусть такое ощущение никак не соответствовало истине), появление идеи человечества было естественным, Почти в то же время представление о человечестве как об едином целом появилось в другой огромной империи, Китае, — разумеется, только у некоторых ее мыслителей.
Академик Н. И. Конрад писал: «…с образованием же империй на место племенной общности стала общность межэтническая, воспринимаемая даже как общечеловеческая. Именно тогда появилась идея человечества как единого большого целого. Идея эта проявилась и в понятии „Вселенная“… Идея человечества… представляет один из самых существенных вкладов людей этой эпохи в общую историю человеческого рода».
Тесная связь, как видите, между идеей равенства людей и идеей единства человечества. Но при всей ее важности идея человечества куда меньше подрывала рабовладельческий строй, чем мысль о равенстве рабов и свободных. Легко ли рабовладельцу согласиться, что раб тоже человек? Ведь это значило признать (пускай без практических выводов поначалу), что ты живешь трудом людей, тех, кто равен тебе, а почему-то работает на тебя. Какое потрясение!
Величайший ученый Древней Греции Аристотель считал, что, раз рабство необходимо, значит, надо считаться с исторической реальностью. Вот если бы — так он и писал — челнок ткацкого станка сам ходил и вообще орудия сами работали и не было бы нужды в низком физическом труде, так и рабство бы исчезло.
Один из поэтов поздней античности разразился таким восторженным гимном на изобретение водяного колеса:
Самое интересное, что кое-что угадали тут античные мыслители, прежде всего Аристотель: рабство Действительно исчезло именно в процессе развития производительных сил, развития, проявлением которого было, в частности, и создание водяного колеса. В результате такого процесса рабский труд в конечном счете стал неэффективным. Только на это истории пришлось затратить еще не одно столетие…
Так что же, значит, открытие идеи равенства людей не имело никакого значения? И никак не отразилось оно на истории рабов? Конечно, одно дело теория, другое — практика. Можно прекраснодушно рассуждать о равенстве людей и в то же время быть в жизни самым типичным рабовладельцем. Сенека, римлянин I века нашей эры, красноречивейший проповедник того, что источник счастья надо искать в себе, богатство же отягощает душу, сам одержим жаждой наживы: не брезгует взятками и достигает положения богатейшего из римлян. Он призывает считать рабов своими братьями — и владеет тысячами таких братьев.
Христианство тоже ведь в самом начале своего исторического пути провозгласило всех людей равными перед богом, объявило всех людей братьями и призвало их возлюбить друг друга. Но эти положения прекрасно сочетались с утверждением, что нет власти, идущей не от бога, с призывом: рабы, повинуйтесь господам своим. Но моральные открытия бессмертны, как и подлинные научные открытия. Пусть не мораль стоиков и христиан, многое заимствовавших у стоицизма, сокрушила рабовладение в Европе. Пусть не конфуцианская мораль в Китае и буддистская в Индии, объявившие одной из важнейших духовных ценностей любовь к человеку, привели к уничтожению рабовладельческого общества в Азии. Борьба философов древности за новые моральные нормы все же не осталась безрезультатной.
Есть у морали особенность, на которую обратил особое внимание Фридрих Энгельс: «Когда… мы говорим: это несправедливо, этого не должно быть, — то до этого политической экономии непосредственно нет никакого дела. Мы говорим лишь, что этот экономический факт противоречит нашему нравственному чувству… Но что неверно в формально-экономическом смысле, может быть верно во всемирно-историческом смысле. Если нравственное сознание массы объявляет какой-либо экономический факт несправедливым, как в свое время рабство или барщину, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, что появились другие экономические факты, в силу которых он стал невыносимым и несохранимым»[6].
Рабовладельческий строй погиб не потому, что он не нравился — хотя бы в теории — все большему числу философов. Но то, что они выступали с критикой этого строя, и то, что такая точка зрения с течением времени становилась все более распространенной, свидетельствовало: этот строй обречен на гибель.
Моральное сознание человека оказывается способно — в определенном смысле — намного опередить свое время. Идеи всеобщего равенства, идеи гуманизма и свободы появились в эпохи, когда благами свободы личности пользовалась ничтожная доля членов общества. Но эти идеи выжили и дошли до нашего времени. Они принадлежат к тем ценностям, которые можно назвать в морали общечеловеческими.
Религия — фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, что господствуют над людьми в их повседневной жизни. И понятно, что религиозные учения каждой эпохи следовали в отношении «чужих» общим правилам обыденной жизни своего времени. Духи предков, естественно, интересовались только собственными «потомками». Чужим поклоняться таким духам в голову не могло прийти, зато свои были беззаветно преданы верованиям, властно диктовавшимся родовым обществом. Бесчисленное множество больших и мелких богов, с которыми нас знакомит мифология Древней Греции, было наследием того времени, когда каждая община имела своих богов-покровителей. Однако по мере того, как выковывалась в борьбе древнегреческих городов-государств единая культура, а на ее основе — идея единства Эллады, число богов, по крайней мере самых могучих, начинает резко уменьшаться на ее территории.
Те Аполлон или Афина Паллада, о которых и мы с вами столько слышали с детства, были богами, так сказать, синтетическими, в их образах слились представления о десятках местных богов. Недаром же каждый почти из верховных олимпийцев был «многофункционален», соединяя в себе черты «заведующего» несколькими стихийными явлениями, покровителя нескольких дел или ремесел. С другой стороны, «смешанное происхождение» приводило к тому, что два или три бога в каком-то отношении оказывались коллегами, дублировали друг друга. Богом Солнца у греков был Гелиос, но в той же роли в ряде мифов выступает Аполлон. Войной ведал Арес, но и Афина была богиней-воительницей, а не только богиней мудрости. Сверх того ей поклонялись как богине мира и благосостояния, богине лунного неба (а ведь была еще Селена, богиня Луны). Афина покровительствовала морякам, освящала браки, помогала при родах, ведала науками и искусствами, деля последнее занятие с Аполлоном и Музами; она метала молнии, как Зевс, — да впрочем, всего и не перечислишь. Кстати, в древней Руси было два бога Солнца — Дажбог и Хоре (наше «хорошо» не случайно имеет общий корень с этим именем). Дажбог был унаследован от праславянской общности, Хоре, по-видимому, был скифского происхождения.
По мере расширения контактов с другими народами греки стали признавать верховного бога египтян Амона все тем же Зевсом, отождествили финикийскую Астарту с Афродитой. Это было результатом все большего сближения культур в Средиземноморском регионе. И как на земле союз вождей закреплялся кровным родством, а принятый в племя новый род признавался тем самым и кровно родственным всем прочим, так находилось место в небесном пантеоне могучим чужеземным богам, которых не удалось полностью отождествить со своими, но это уже на следующей стадии развития Средиземноморья, когда оно оказалось объединено под властью Римской державы. Небо снова должно было отразить происшедшие на земле изменения.
Римские правители в покоренных областях обязаны были приносить жертвы местным богам. А изображения этих богов стали собирать в Риме. Впрочем, римские правители не первыми и не последними в истории проводили такую политику. В Вавилоне цари собирали в свою столицу идолов из разных местностей державы. И правители Инкской империи в Южной Америке, резко расширив пределы своей державы, решили сосредоточить в ее столице Куско идолов покоренных земель. Владимир Киевский за несколько лет До принятия Русью христианства тоже пытался таким способом решить проблему религиозного единства своей громадной державы, включавшей кроме славянских финские, прибалтийские, тюркские племена.
Же сама распространенность данного приема коллекционирования всевозможных богов показывает: в многонациональных государствах остро ощущалась необходимость единой религии.
А явная неудача в достижении этой цели при многобожии и в Вавилоне, и в Риме, и на Руси (инкам не дали развить такой опыт испанские завоеватели) свидетельствовала, что господствующий класс нуждался в религии нового типа. Империи с единодержавной властью, распространенной на разноэтнических территориях, требовался единый бог.
И среди условий, необходимых для возникновения единобожия (не будем здесь касаться других важнейших обстоятельств), было признание новой религией равенства — пусть только перед лицом этого бога — всех, кто такую религию принял.
Одной из важных причин победы, христианства было, между прочим, то, что оно, поставив на место многих богов одного, включило в себя элементы предшествующих и конкурировавших с ним религий. Древнегреческая, римская, иудейская, египетская, финикийская, индийская и другие культуры внесли в новую религию свой вклад, позволив ей стать приемлемой для многих народов. Одним из лозунгов раннего христианства были слова апостола Павла: «Несть ни эллина, ни иудея», означавшие отрицание всяких национальных различий.
Но между лозунгом и его осуществлением иногда лежит пропасть. Идея унификации всех народов в лоне христианства была утопической, безнадежной. Само христианство даже в идеальном случае не уничтожало разделения людей на «своих» и «чужих», а только изменяло принцип, по которому производилось такое деление; затушевывая действительно решающее разделение общества на эксплуататоров и эксплуатируемых, оно ставило на место принципа национальной принадлежности принцип принадлежности религиозной. На деле же (идеального-то случая не было) деление на «своих» и «чужих» не исчезло, оно лишь стало несравненно более сложным.
Новая религия, в отличие от конденсированного многобожия, смогла победить почти на всей территории империи, но не в ее силах было создать реальное духовное единство Средиземноморья и сохранить державу. Социальное развитие властно вело могучий Древний Рим к гибели. Однако развал империи не привел к гибели христианства, сумевшего приспособиться к изменившейся обстановке. В сравнительно маленьких государствах, образовавшихся на месте гигантского конгломерата народов, не вернулись к почитанию местных богов. Феодализм — более высокая стадия развития общества, чем рабовладельческий строй, и ему нужна по крайней мере не менее развитая религия.
Стоит обратить внимание на то, что в других мировых религиях, в исламе и буддизме, как и в христианстве, декларируется духовное равенство и даже братство всех верующих. История развития этих религий показала, чего стоил на практике девиз «все люди — братья», но не будем забывать: само его появление было рождено идеей человечества, которая была одним из главных достижений той далекой эпохи.
Было время, когда средневековая Европа выглядела довольно однообразно. От Дании до Италии, от Англии до Венгрии — более или менее забитые крестьяне, разнузданные дворяне, грамотные и все же невежественные священники. И разбросанные по немногочисленным городам купцы да ремесленники. Папу, верховных служителей церкви, королей с владетельными князьями с этой точки зрения даже упоминать не стоит — слишком их мало. На развалинах Римской империи и в бывшем ее «заграничье» утвердилась совсем иная, чем прежде, жизнь. Завяла идея единства мира; заросли дороги, соединявшие разные концы Европы, Северной Африки, Юго-Западной Азии. Мир съежился для тогдашних европейцев, дальние путешествия теперь доступны только для купцов-профессионалов да морских разбойников, но и торговля с Азией и Восточной Африкой то и дело прерывалась, когда очередная волна завоевателей обрушивалась на восточное побережье Средиземноморья.
Европейцы теряют контакты с «другими», лишаются как будто возможности узнавать их, но тут вздымается волна крестовых походов на Ближний Восток — кровавых, страшных, организованных западноевропейскими феодалами и католической церковью в захватнических целях. Не будем вдаваться в их характер и причины, сейчас важна роль этих походов для контакта культур. Сколько неведомого, часто непонятного и еще чаще удивительного открылось взору средневекового европейца на Востоке!
…Недолго продержались против натиска старых хозяев этих мест основанные крестоносцами государства. Но возвращавшиеся на родину из походов рыцари и простолюдины принесли с собой образ нового мира — широкого, разнообразного, многоцветного. Крестовые походы дали возможность многим европейцам ощутить прежнюю свою узость и ограниченность — благодаря открытию «других». Это было победой не над арабами или турками, но над самими собой, а такие победы приносят наиболее щедрые плоды. И на фоне этой победы известия из совсем далеких стран, вроде рассказа о путешествии Марко Поло, принимались всерьез, вплоть до того, что во многих местах был перенят восточный обычай сажать вдоль дорог фруктовые деревья, о котором упоминает Поло.
А затем последовало новое захватывающее путешествие к «другим» — уже не через пространство, а через время. Итальянские, французские, немецкие, английские, русские и иные мыслители обращаются к наследию античности, знакомятся с иным, непохожим на их собственный, миром, читая книги, любуясь найденными при раскопках статуями, снимая план с разрушенных войнами и столетиями зданий. Разумеется, это изучение прошлого было только частью того сложного явления, которое называют Возрождением или Ренессансом, — но для нас важна сейчас именно эта его сторона.
Другой образ жизни вставал перед глазами людей, заглянувших в прошлое. Благодаря тому что уже была осознана, пусть не в полной мере, огромность мира в пространстве, гуманисты смогли ринуться в глубь времен, возвращая своей эпохе мудрость античности. А затем культура Возрождения в свою очередь подготовила эпоху Великих географических открытий. Ведь это ученые Ренессанса возродили представление о Земле как о шаре и снова стали вычерчивать карты мира и изготовлять глобусы. И не случайно Данте открыл свой Ад, Чистилище и Рай прежде, чем Магеллан отправился вокруг света, не случайно новое прочтение Диалога Платона, где шла речь об Атлантиде, предшествовало путешествию Колумба.
Гуманисты открыли человеку глаза на него самого, они создали взамен культа знатности культ образованности и таланта, а образованность и талант нужны были не только Петрарке, но и Васко да Гаме. Тем, кто в новых землях обнаруживал странные обычаи, удивительные порядки, необычные верования, уже легче было принимать это новое: за ними стоял опыт свирепых крестоносцев и начитанных историков культуры.
До чего же по-разному жили люди в огромном мире! Конкистадоры разных мастей несли в этот мир меч и пищаль, но ведь не только они плыли на кораблях Колумба и Магеллана, сопровождали Кортеса. Точнее, не только завоевателями были многие из пришельцев, но и исследователями. Все ли они того хотели или нет, но из порабощенной Америки и разграбленных Африки и Азии на Европу дохнуло ветром свободы и силы, ибо, как учил Фрэнсис Бэкон, знание — сила; потому что, как доказывал Спиноза, знание приносит свободу.
Церковь проповедовала, что существует только один путь по жизни, предписанный господом, свой для представителя каждого сословия. Но за пределами Европы сословия оказывались другими, а то их и вообще не было; люди сеяли иной хлеб, разводили других животных; в одном месте они не знали даже колеса, а в другом создавали поразительные механизмы. Дворы восточных владык своей роскошью превосходили самое пылкое воображение Запада (стоит вспомнить хотя бы данное Марко Поло описание дворца китайского императора). А индейцы Амазонии ходили голыми и были тем не менее как будто вполне довольны жизнью.
И все это были люди. И у всех у них было чему поучиться. У разгромленных испанцами инков Перу победителям пришлось поучиться строительству зданий, противостоящих землетрясениям. Индийцы преподали европейцам уроки тончайшего искусства. Со всех концов света в Европу хлынули не только потоки золота и серебра, но и знания, в том числе знания о природе человеческой, которая тоже ведь познается в сравнении. Бородатый мудрец, храбрый, но не воинственный друг французского короля Генриха IV философ Мишель Монтень записывает: «Что это за добро, которое вчера было в почете, а завтра — нет? Что это за добродетель, если стоит переправиться через реку, чтобы она стала преступлением? Что это за истина, которой горы служат границей, а за горами она превращается в ложь?»
Не будем забывать: потоки знаний текут в обе стороны, не только в Европу, но и из нее. Индейцы седлают завезенных из Европы коней. Индийцы отливают по европейскому образцу пушки, из которых палят по завоевателям. Новозеландские маори (это, правда, позже) заменяют свои традиционные полевые культуры привозными, принимают к себе беглых английских моряков, идут к ним на выучку, чтобы с оружием в руках сопротивляться верноподданным британским морякам и солдатам. Любознательные японцы усваивали разом и содержание голландских учебников анатомии, и теорию Коперника, и правила живописи, позволявшие добиться детального сходства портрета и оригинала.
Мы живем в век научно-технической революции. На наших глазах и глазах наших старших современников преобразилась древняя Земля, взлетели самолеты, для нас расширилась Вселенная, человек вышел в космос. Но в космосе пока побывала в общей сложности сотня с небольшим людей. И столь приблизившиеся к нам планеты «потеряли» зато предполагаемых разумных обитателей. На самых же совершенных самолетах, скоростных поездах, комфортабельнейших теплоходах люди могут побывать только в тех местах, которые их предки открыли сотни и тысячи лет назад.
А в эпоху Великих географических открытий глазам искателей представали обитаемые миры, из океана, считавшегося перед тем такой же непреодолимой границей мира, как в недавние для нас дни — космическая бездна, из этого океана древних встали большой Новый Свет и бесчисленные столь же новые «светы» поменьше.
Открытие пространства было и новым открытием времени. Европейцы увидели на островах Тихого океана, в сельве Южной Америки и саваннах Африки собственное прошлое, хоть потребовалась масса времени, чтобы это понять. А сначала они просто увидели, что возможны другие обычаи. Иные нравы. Непохожие порядки.
Новые земли посещали, а нередко в них и поселялись десятки и сотни тысяч испанцев, португальцев, англичан, французов… И всюду там жили новые для них люди, интересные уже потому, что новые, незнакомые, странные. Не просто новые люди — новые народы! Сотни, тысячи зеркал, в которые смотрелись европейцы, в свою очередь служа новым зеркалом для народов Америки, большей части Африки, Азии, а затем и Австралии.
Зеркала отражают, как известно, тех, кто в них смотрится. Это в весьма значительной мере верно и для данной аналогии. Одни путешественники описывали индейцев как людей простых, наивных, честных до абсурда, этаких детей природы. Другие видели в них мрачных людоедов, свирепых дикарей, кровожадных уродов. Бессмертный Пятница Даниэля Дефо, беззаветно преданный Робинзону, — с одной стороны. И с другой — столь же бессмертный чудовищный Калибан из шекспировской «Бури», в описании которого великий поэт использовал, в частности, книгу своего современника Уолтера Рэли, руководителя военно-грабительски-исследовательских походов в Южную Америку.
Одни путешественники обращали главное внимание на черты сходства между знакомыми по Европе народами и вновь открытыми племенами. Испанец Эрнандо де Сото восклицает не только с удивлением, но и с определенным удовлетворением: «Весь мир одинаков!», наблюдая, как свита расчихавшегося индейского кацика рассыпается в пожеланиях этому кацику здоровья и счастья, — ведь такой обычай существовал и в его стране, и во всей Европе (да и мы до сих пор говорим в подобных случаях «будь здоров»). Другие землепроходцы подчеркивали различия, особенности, непохожесть, странность «чужих», чаще всего черпая в этой непохожести «доказательства» своего права на угнетение таких особенных и странных существ. Ведь океан переплывали представители феодальных, а затем буржуазных государств, и даже для выходцев из социальных низов Европы путь в другие концы мира казался обычно прежде всего путем наверх, к богатству и власти.
В XVI веке долго и напряженно обсуждался церковью вопрос, происходят ли американские индейцы от Адама, как жители Старого Света, а если и происходят, то можно ли считать, что Христос был послан на Землю и ради них тоже. Богословский спор имел сугубо земную подоплеку. Коли индейцы не родня даже Адаму или хотя бы не «спасены» пришествием Христа, то с ними можно делать что угодно, как с существами, не имеющими души. Спор был разрешен компромиссом: признали индейцев людьми, имеющими душу, а значит, и право на крещение, но при этом продолжали без зазрения совести угнетать их, обращать в рабство и попросту уничтожать. Внешнее несходство оставалось для этого убедительным доводом.
Между тем для европейского искусства новые открытия стали неисчерпаемым источником вдохновения. Великий немецкий художник Альбрехт Дюрер познакомился с произведениями мексиканского искусства и записал в свой дневник: «Никогда в жизни я не видел ничего, что так радовало бы мое сердце, как эти предметы. Глядя на столь поразительные творения, я был изумлен утонченным гением людей чужих стран».
Но когда, уже в XIX веке, были открыты для европейцев замечательные скульптуры африканской культуры Ифе, то человек, сделавший это открытие, Фробениус, соотечественник Дюрера, решил, будто он обнаружил наследие Атлантиды — легендарной матери всех цивилизаций. Ведь не могли, думал, видимо, исследователь, создать такое чудо искусства «невежественные и дикие» негры. Но чудо было все-таки делом рук самих африканцев, драгоценным плодом их мыслей и чувств. А в зеркале их культуры Фробениус, увы, в данном случае увидел отражение собственных предрассудков. Да, люди-зеркало, народы-зеркало, культура-зеркало иногда дают кривое изображение, но в подобных случаях надо пенять не на само такое зеркало: в нем отражается лицо, искаженное страхом и недоверием, пренебрежением, ненавистью — вариантов много. И встречаемся мы с последствиями такого отношения к другим даже сегодня.
Помню, как удивился я в детстве, когда узнал, что Гренландия, занявшая такой огромный кусок на карте мира, на самом деле всего лишь остров… Пусть она и самый большой в мире остров, но все-таки раз в пятнадцать меньше Африканского континента. Карта давала явно другое соотношение размеров, потому что была начерчена по правилам меркаторовой проекции, а при этом, чем дальше от экватора к югу и северу, тем больше места на карте занимают моря и земли. Известный географ XVI века Меркатор [7] тут ни в чем, как говорится, не виноват. Он придумал чрезвычайно удобный и весьма распространенный до наших дней способ изображать на плоскости сферическую поверхность Земли. Однако способов решения этой задачи немало, и при каждом из них приходится при передаче на плоской карте так или иначе искажать реальные соотношения размеров, характерные для шарообразной планеты. Но искажения в меркаторовой проекции особенно дают себя знать, когда доходит до изображения именно Европы. Она на карте мира, сделанной в меркаторовой проекции, оказывается в привилегированном положении и кажется сравнительно крупной, как наиболее в среднем удаленная от экватора из всех населенных частей света. Этим-то нередко и объясняют этнографы и психологи привязанность европейцев к наследию Меркатора. Не случайно исторически и положение нулевого меридиана. Европа оказалась при таком его положении посредине карты, посредине мира. Китайцы, например, ревниво отнеслись к этой ситуации уже при первом знакомстве с картой в XVII веке. И пришлось доставившему эту карту миссионеру перечертить ее — так, чтобы посредине мира оказался Китай. А на индийских картах в центре изображали тогда Индию.
Выглядят все эти географические казусы достаточно безобидно, но отражают порой отнюдь не безобидные вещи. Привычка ставить собственную страну в центр мира, считать свой народ не просто единственным в своем роде, но стоящим выше всех остальных народов, предназначенным управлять ими — вот что, пусть не всегда, находит свое выражение на географической карте.
Внешне такой этноцентризм напоминает обыкновение некоторых племен, живущих родовым строем, считать себя находящимися в центре мира. Но причины тут разные. В первобытном обществе это прежде всего следствие слабого общения с окружающим миром. В классовых обществах этноцентризм отражает и защищает интересы господствующих слоев, подкрепляет их «право» на эксплуатацию не только «своих», но и «чужих», обосновывает политическую экспансию, иногда же служит средством против экспансии чужеземцев.
Образчик трактовки собственной страны как находящейся под особым покровительством богов и почти ничего общего не имеющей с другими странами дают труды японского ученого Хираты Ацутанэ (конец XVIII — начало XIX века). Хирата был знаком уже с немалым числом пришедших из Европы научных книг, читал Библию и многое в ней принимал на веру… Но как поразительно преломлялись в его голове новые сведения! Он знал, что Япония — страна сравнительно маленькая, но заявлял: «Как бы мала ни была совершенная страна, она все равно будет совершенной, и как бы велика ни была страна, лишенная достоинств, она таковой и останется».
Другие страны, в том числе Голландия, уговаривают Японию торговать с ними? Но это же, очевидно, свидетельствует об их бедности и о том, что Японии покровительствуют боги. Библия говорит о всемирном потопе, а японские хроники не упоминают столь грандиозного наводнения. Значит, Япония расположена выше над уровнем моря, чем Европа, а Китаю и Корее, которые мало пострадали от потопа или вовсе избежали его, так посчастливилось лишь благодаря их географической близости к божественной стране. Да и вообще Япония создана божествами из особого материала, в отличие от всего мира, изготовленного просто-напросто из смеси грязи с морской водой.
Сходные мифы долго держались во многих странах. Китайская империя начала XIX века, ослабленная внутренними раздорами, атакуемая уже империалистическими западноевропейскими хищниками, сохраняла официальное наименование Поднебесной или Всемирной и рассматривала церемониальные подарки, полученные от Англии, как дань вассала сюзерену…
По мере знакомства с людьми далеких земель отношение к ним менялось. Это очень хорошо видно, между прочим, по тому, как в разное время воспринимался «экзотический» внешний облик.
Люди первобытных племен редко видели заметно отличающихся от них внешне представителей других рас, — во всяком случае, до эпохи Великих географических открытий. А когда видели, то нередко воспринимали их попросту как больных. Жители Южной Африки — члены родовых обществ, впервые увидевшие белых, считали их альбиносами: люди, в коже которых слабо представлен красящий пигмент, изредка рождаются в семьях, принадлежащих ко всем человеческим расам. Так что африканцы жалели европейцев за бледную кожу, тусклые глаза и гладкие волосы.
Средиземноморье в эпоху античности было ареной постоянных встреч людей разных рас, и, по-видимому, здесь привыкли не относиться с чрезмерным предубеждением к людям бледным и смуглым, темно-коричневым и черным. Однако даже в этом регионе утвердилась вавилонско-библейская легенда о том, что «черные люди» — потомки Хама, оскорбившего своего отца Ноя и проклятого им. Но вот когда, много позже, гости из феодальной и раннебуржуазной Европы встречались с хозяевами феодальной Восточной Азии, обе стороны почти всегда смотрели свысока на новых знакомцев.
Китайцы именовали европейцев «большеносыми дьяволами» и «красноволосыми варварами». Японское правительство в XVIII веке однажды издало официальное описание португальцев, согласно которому у них «кошачьи глаза, огромный нос, красные волосы и язык как у птицы-сорокопута». Самый вид европейца вызывал душевное смятение у жителя изолированной в течение столетий Японии. Один из них, посетивший голландский корабль, рассказывал: «Когда мы поднялись на палубу, капитан и другие лица сняли шляпы, приветствуя нас. Лица у них темные, болезненно-желтоватые, волосы желтые, а глаза зеленые». Казалось бы, описание вполне реалистичное, ничего внушающего ужас в нем нет. Но заканчивается это описание так: «Кто при виде их не обратился бы в бегство от страха?»
А воображение европейцев оставило нам фантастические порой описания внешности жителей других частей света. Не будем вспоминать безголовых чудовищ со ртом на груди, о которых Отелло рассказывал Дездемоне. Воины и мореплаватели, во многом вполне заслуживающие доверия, оставили ужасные истории о страшных обитателях заморских стран. Некоторых южноамериканских индейцев описывали как настоящих великанов, и вплоть до XIX и XX веков следы таких исполинов пытались разыскать в Патагонии многие географы и этнографы (в том числе жюльверновский Паганель в «Детях капитана Гранта»). Европейцы на китайских рисунках часто обретают фантастических размеров носы. На старинных рисунках, сделанных европейцами и изображающих африканцев, индейцев, азиатов, обычно до карикатурности подчеркнуты расовые черты их внешности.
Японец XVIII века говорил о болезненно-желтоватых лицах голландцев, а в конце XIX века энциклопедия Брокгауза и Ефрона определила цвет кожи китайцев как «болезненно-желтоватый». Не стоит сразу обвинять в расизме ни этого японца, ни автора статьи в энциклопедии. Но вот в этноцентризме их упрекнуть наверняка можно: за эталон, за нормальный, здоровый принимается только цвет кожи собственного народа. Свое, привычное воспринимается как естественное и здоровое, а чужое, несхожее вызывает мысли о болезни. Правда, при более долгом знакомстве разумные европейцы, африканцы, азиаты убедились: «другие» ничем не хуже. Время исправило старые взгляды на красоту как свойство представителей только твоей собственной расы.
Французские путешественники по Индокитаю, английские исследователи Африки, немецкие посетители Китая в XIX веке не видят, насколько красивы местные женщины. Бирманок, вьетнамок, лаотянок описывают как дурнушек, а путешественники XX века, напротив, восхищаются внешностью обитательниц тех же самых мест. Герой романа английского писателя Грэма Грина «Тихий американец» поражен тем, насколько хороши собой все без исключения вьетнамки.
Настоящее открытие «других» — жителей иных земель — означает понимание не только различий между «нами» и «ними», но и в первую очередь степени взаимного сходства. Уместно привести здесь цитату из книги «Лестница к изучению голландских наук»,[8] написанной японцем Оцуки Гэнтаку в 1787 году: «Закоснелые конфуцианцы и ученые-схоласты не имеют понятия о том, как огромен мир. Они сбиты с толку китайскими идеями и, подражая китайцам, славят „Срединную империю“ или же рассуждают о „великом пути Срединного цветущего государства“. Это ошибочный взгляд. Мир — огромная сфера, на поверхности которой расположены различные государства. Хотя сама природа определила их границы, каждый народ дает почетное наименование своей стране. Китай называется „Срединной равниной“, „Срединным цветком“, „Срединной империей“, „Божественным материком“, Точно так же Голландия называет Германию, свою „материнскую страну“, Мидделанд, то есть „Срединное государство“, а наша страна именует себя Накацукани — „Страна, находящаяся в середине“. Англия отсчитывает градусы долготы по местоположению своей столицы и, наверное, тоже имеет какое-нибудь сходное наименование для своей страны».
Истинное открытие других как равных себе состоялось во всех концах света, и «закрыть» эту истину не удалось и не удастся уже никому. Мы можем радостно повторить за чешским писателем Карелом Чапеком: «Как это славно — осязать и видеть то, что тебе внове! Каждое различие в вещах и людях делает богаче жизнь… У всех нас любовь к многогранности и беспредельности жизни. Но послушайте, ведь эту многогранность творят народы — ну, конечно, еще и природа, история… но ведь и то и другое слито в народе… Есть люди, любящие целый мир при том условии, что в нем будут асфальтовые шоссе, или вера в единого бога, или не будет… таверн. Есть люди, которые согласны полюбить весь мир, если он будет на одно лицо — лицо именно их цивилизации… Куда больше радости любить весь мир за то, что он тысячеликий и всюду разный; а после возгласить: „Ребята, раз уж нам так приятно глядеть друг на друга, учредим Лигу наций, но только, черт возьми, пусть это будут нации со всем, что к ним относится, со своим цветом кожи и языком, со своими обычаями и культурой, а если надо, бог с ними, пусть будут и со своим богом; ведь всякую несхожесть стоит полюбить по одному тому, что она делает богаче нашу жизнь. Пускай же нас объединит все, что нас разделяет!“»
Люди интересны нам не только сходными, но и отличающими их от нас чертами, В человеке-зеркале, только копирующем наши собственные черты, в конечном счете рассматривать себя бесконечно менее приятно, полезно и интересно, чем глядеться в бесчисленные зеркала — людей похожих, но не таких.
И ведь то же самое с народами. Каждый из населяющих землю народов, кроме всего прочего, одна из возможных форм взаимодействия людей с природой и между собой. Каждый народ — великое испытание еще одной культурной системы, грандиозный исторический опыт, плоды которого идут на пользу всему человечеству.
Стоит обратить внимание, как часто обращается к теме «других, но равных» великая литература. Пушкин в ранних поэмах ставит перед своими современниками как зеркало образы людей иных времен и иных стран, а иногда в самих поэмах, например в «Цыганах» или «Кавказском пленнике», сталкивает своих современников с героями, принадлежащими к другим укладам существования, к другому образу жизни. Байрон провел своих Чайльд Гарольда и Дон Жуана через множество стран. В письме к другому английскому поэту, Томасу Муру, Байрон советовал: «Держись Востока — это единственная правильная политика в поэзии». Байрон тут, разумеется, слишком категоричен. Однако и поэзию и прозу давно волновало такое сопоставление «своих» с «чужими». И сам Пушкин обратил внимание на эту черту литературы, подчеркивая: обращение писателя к жизни других народов не говорит о том, что сам он «не народен».
Каждому народу нужны остальные народы, повторим еще раз, нужны и потому, что похожи, и потому, что не такие, как он. Нужны, чтобы стать сильнее, разностороннее, богаче, могущественнее и шире. Михаил Львов, татарский поэт, пишущий на русском языке, восклицает:
Народы нужны друг другу и потому, что, лишь понимая других, мы понимаем себя. Это относится ведь не только к отдельным людям.
В XX веке идея единства человечества вопреки всем, кто пытается натравить народы друг на друга, обрела небывалую прежде силу. Теперь уже не только человеку Петру, не только народу большому или малому, но всему человечеству нужно вглядеться, как в грандиозное зеркало, в другое человечество, в разумных существ иного мира. Не в этом ли одна из важнейших причин (разумеется, есть и другие) того страстного интереса, которым прониклась вторая половина XX столетия к разуму иных миров, к поиску внеземных цивилизаций, к фантастической идее пришельцев из космоса, посещавших нашу планету?
Нам нужно с кем-то сравнивать себя, посмотреть на земное человечество со стороны. Говорят же, что увидеть себя по-настоящему можно только глазами другого.
Эта потребность настолько велика, что, по мнению ученых, уже сам подход к земной цивилизации как бы со стороны — в той мере, в какой он доступен землянам, — открывает перед науками новые неожиданные перспективы… Ведь он позволит попробовать выделить в нас черты, которые должны как будто быть общими для всех мыслящих существ, в каких бы природных условиях они ни сложились, где бы во Вселенной ни проходила их биологическая и социальная эволюция, и определить признаки, целиком возникшие только из-за сугубо конкретных геологических, географических, эволюционных особенностей развития жизни и разума на планете Земля.
Словом, разделить свойства человека и человечества на универсальные для любого общества разумных (как универсальны на Земле видовые черты Гомо сапиенса, и т. п.) и на те, которые заданы конкретными особенностями биологии наших далеких предков и социальной историей в конкретных земных условиях.
Что там, во Вселенной, окажется универсальным?
Когда-то поэт Александр Аронов написал стихотворение «Гость» от имени пришельца из космоса. Вот такое:
Вряд ли возможно столь далекое от нас разумное существо. Настоящие инопланетяне наверняка окажутся более к нам близки. Но ведь и этот гость, созданный поэтом, понял землян и полюбил их.
Сколько уже написано и фантастических рассказов, повестей и романов, и серьезных научных трудов о возможных в будущем контактах с инопланетянами. Но всем этим, если можно так выразиться, зеркалам от искусства не дано заменить реальность.
Нам нужно открыть новых «других». И может быть, в космос мы выходим прежде всего в поисках друзей.
Открытие времени
Что Земля не всегда была такой, как теперь, что люди не всегда были такими, какие они есть, что общество прежде было иначе устроено — об этом, похоже, представители вида Человек разумный догадывались еще в седой древности.
Это представление запечатлено в дошедших до нас первых по времени литературных памятниках древнего мира; о нем же свидетельствует мифология всех народов — от аборигенов Австралии до средневековых норманнов Европейского Севера.
Самая главная черта прошлого, каким оно описано в мифах, — то, что все в давние времена было не так, как сейчас. Легенды красивые, но рисуют они мифическое начало человеческой истории чаще всего в черном цвете. Вот начало записанной австралийским писателем Аланом Маршаллом легенды о том, как появился огонь: «Когда мир был молодым, огня у людей не было. Дичи было полным-полно, но ели ее сырой, и она не доставляла людям никакого удовольствия». А какой жалкий вид представляли собой, по древнему греческому мифу, люди, прежде чем дядюшка Зевса титан Прометей даровал им огонь и ремесла! Бессильные существа, зависящие от капризов погоды, боящиеся диких зверей, живущие без памяти о прошлом и без надежды на будущее…
По представлениям родового общества, далекое прошлое почти всегда хуже настоящего. Может быть, еще живет, передаваясь из поколения в поколение по необозримой цепочке эстафеты длиной в многие тысячи лет, древняя правда о том, как жили предки. Но важнее всего, вероятно, то, чтобы в интересах стабильности первобытной общины видеть ее настоящее в целом весьма благополучным, противопоставляя ужасному прошлому, когда еще не было у людей нынешних замечательных умений и обычаев. А вот ранняя цивилизация, столкнувшись не только с благами просвещения, но и с насилием и несправедливостью, начинает тосковать о минувшем «золотом веке», о времени героев и богов.
Римлянин Овидий на рубеже нашей эры уже воспевает тот самый доземледельческий образ жизни, который с горечью вспоминали мифы:
Впрочем, не все древнегреческие и римские поэты и мудрецы придерживались того же мнения. И тут особенно важно, что стали возможны споры о прошлом; они свидетельствовали о рождении исследующей его науки — истории.
Записи исторических событий, рассказов о том, что произошло, велись в Древней Месопотамии и Египте, Китае и Индии. Но «отцом истории» еще древние греки признали Геродота, и этот титул сохранен за ним до наших дней, хотя у тех же греков были, строго говоря, историки и до Геродота. Чем же он заслужил такой почет? Ключ можно, пожалуй, найти в одной из первых фраз, открывающих его «Историю»: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались безвестными, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом».
Вот это «в особенности… почему», поиски ответа на главный вопрос истории, раздумья о причинах событий и составили силу Геродота, дали глубину его мысли, подкрепленной блестящим литературным талантом. Очень важно и то, что он как бы уравнивал уже в приведенной «заявке на книгу» деяния как эллинов, так и неэллинов, которых Геродот по традиции именует «варварами», но они для него тем не менее тоже люди, достойные удивления. Духом живого интереса ко всем людям, где бы они ни жили, проникнута его «История».
Истоки вражды между варварами и эллинами он ищет в далеком прошлом, когда греки похищали заморских царевен, а финикийцы, скажем, — греческих. И поныне вызывает восхищение страсть Геродота к установлению связей, пусть далеко не всегда истинных, между событиями, разделенными во времени и пространстве. Он пишет, по существу, историю всемирную, герои которой равно важны для него, живут ли они в Европе, Африке или Азии. С редким даже и для куда более близких к нам времен беспристрастием анализирует великий историк поступки людей из своей и чужих стран. Через несколько столетий Плутарх упрекал его за такую «антипатриотичность», но именно эта объективность творений Геродота подтверждает его право на титул «отца истории».
История с большой буквы начинается именно там, где есть не только «как», но и «почему», где есть соотечественники и иноземцы, но нет «чужих», где твоя родина — часть огромного мира, самая близкая тебе, но все-таки часть.
Что значит быть историком — не только тысячи или сотни лет назад, но и сегодня? Не просто археологом, военным историком, историком архитектуры или литературы, но именно историком? Это, пожалуй, не столько профессия, сколько особый подход к предмету исследования. Историк, если говорить по сути дела, не тот, кто просто занимается прошлым. Историк должен видеть движение Мира от прошлого через настоящее к будущему. По определению Карла Маркса и Фридриха Энгельса, «мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей»[9]. И выходит, всякий ученый, занимающийся настоящим природы или общества, физикой и химией, как и географией и социологией, должен быть в определенной мере историком. Ощущать движение мира во времени необходимо каждому.
В древности и затем в средние века большинство мыслителей смотрело на историю как на движение по некоему кругу, то и дело повторяющееся. Что было, то и будет, ничто не ново под луной, а все считающееся новым на самом деле только хорошо забытое старое. Идею относительно повторения в истории событий (повторения монотонного и однообразного) развивали многие древнегреческие философы. Этот же подход пронизывал — до последнего времени — японскую, например, культуру. Ряды событий бесконечно повторяются, согласно японской традиции, в круговороте времени, история снова и снова возвращается на круги своя.
А древняя китайская традиция решительно полагает, что при таком круговороте событий время возвращается отнюдь не к началу своему; нет, прошлое было лучше настоящего, прошлому надо подражать, но повторить его невозможно, потому что все события реализуются снова, и в ухудшенном варианте; дорога, по которой движется человечество, идет под уклон, да и идут по ней люди, так сказать, спиной вперед, устремив глаза на недосягаемые идеалы прошлого, на которые равняются, увы, не слишком удачно.
Итак, время для одних, по существу, стоит на месте, для других течет от лучшего к худшему… Но не было ли в древности и таких мудрецов, которые вели бы историю от худшего к лучшему?
Уже в учениях древних была заложена мысль о возможности и необходимости совершенствования общественного устройства и самого человека: многие греческие философы верили в совершенствование духовных, нравственных, физических сил человека, в преобразование его социального окружения. Позднее гуманисты Возрождения, осознавая различие между эпохами, впервые разделили всемирную историю на три периода, знакомые нам по школьным учебникам: античная, средневековая и новая история. Но может быть, лучше всех своих старших и младших современников новый подход мыслителей Возрождения к истории выразил «неспециалист», которого звали Вильямом Шекспиром. Еще впереди были поиски наукой общих законов развития общества, а литература в лице великого драматурга уже чувствовала, что такие законы есть.
Советский историк М. А. Барг пишет в книге «Шекспир и история», что в исторических драмах Шекспира, описывающих события английской истории, обнаруживается «сознание различия исторических времен — даже в рамках одного столетия… Далее, в хрониках Шекспира явно прослеживается мысль о том, что, вопреки текучести, непостоянству, зыбкости дел человеческих, вопреки зримому хаосу событий, интригам, заговорам, переворотам, мятежам и кровопролитиям — этим следствиям неистовств постоянно борющихся на исторической сцене сил, в истории действуют определенные закономерности, которые способен постичь человеческий разум».
В драме «Генрих IV» граф Уорик говорит королю:
В XVII веке Готфрид Лейбниц в Германии совершенно убежден, что мы не только живем в лучшем из возможных миров, но этот мир еще и улучшается — постепенно, но постоянно и неизбежно. Лейбниц уже видит направленность истории, ее движение вперед, но в попытках объяснить ее вынужден обращаться к сверхъестественному. Кто улучшит мир? Бог. Лично.
Разразившаяся в конце XVIII века Великая французская революция знаменовала победу нового общественного уклада — капитализма. А философы XVIII века разработали для революционных буржуа идеологию, в которую вошли положения о том, что мир развивается к лучшему и что делают лучшее будущее настоящим сами люди.
Имена немца Иоганна Готфрида Гердера и француза Жана Антуана Никола Кондорсе менее известны, чем имена их современников Руссо, Вольтера, Дидро. Но именно Гердер и Кондорсе сумели с настоящей силой выразить идею прогресса, движения человечества вперед и вверх.
История упорядочена и закономерна, доказывает Гердер. Вся она «школа для достижения прекрасного венка человечности и человеческого достоинства». И как ученик в школе с каждым годом, так и человечество с каждой эпохой становится умнее и взрослее. «…Жалобы людей, что в истории одна смута, что едва заметен рост добра, происходят оттого, что печальный путник видит перед собой лишь небольшую часть дороги. Если бы он посмотрел шире и беспристрастно сравнил века, более обстоятельно известные нам из истории, если бы он вник, кроме того, в природу человека и взвесил, что такое рассудок и правда, он бы так же мало усомнился в этом, как в самых достоверных истинах физической природы».
Столь же последовательно идею прогресса отстаивал один из вождей Великой французской революции — Кондорсе. На десять эпох разделил он всемирную историю, и каждая последующая стоит выше предыдущих.
Вот идеальная программа Кондорсе в собственном его кратчайшем изложении: «Наши надежды на улучшение состояния человеческого рода в будущем могут быть сведены к трем важным положениям: уничтожение неравенства между нациями, прогресс равенства между различными классами того же народа, наконец, действительное совершенствование человека».
Философы XVIII века покусились на возможность долгого существования даже тех порядков капиталистического общества, которые еще только устанавливались, и, между прочим, устанавливались с их же помощью.
Скажем прямо, им очень помогала наглядность перемен в жизни общества в то время. В разгаре была промышленная революция — производственный переворот, изменивший самую основу общественного устройства. История пошла быстрее, и изменения в ней стали заметнее.
На протяжении XVII и XVIII столетий произошла масса политических событий, которым нельзя было подыскать аналогов в средневековой и древней истории. Сколько раз, например, на протяжении многих тысячелетий государи умирали насильственной смертью! Цари, императоры, князья, великие герцоги… Но, однако, умирали они, как правило, от руки убийцы. Иногда — очень редко — по приказу других государей, в чьей власти оказались после поражения. А вот в 1649 году был казнен по приговору парламента английский король Карл I. Впервые монарх пал на плахе по воле народа, оформленной юридически и подкрепленной силой оружия. Спустя примерно сорок лет английский парламент выгнал успевшего за это время стать королем младшего сына казненного Карла I.
В том же XVIII веке было сформулировано философами, в том числе Дидро и Гердером, положение о том, что природа находится в непрерывном развитии. И человечество тоже. Философы Просвещения не знали, по каким законам идет это развитие, не могли еще знать, но они сделали все, что смогли, чтобы познакомить со своим открытием современников.
Когда именно история приведет к крутому перелому, где, говоря словами Шиллера, «приют для мира уготован, где найдет свободу человек» — эти философы представляли плохо. Но перелом, революцию, исторический переворот они предвидели, предсказывали, ждали. Самый известный из этой плеяды — Вольтер говорил, что все происходящее вокруг «бросает зерна революции, которая наступит неминуемо, хотя сам я едва ли буду ее свидетелем… Счастлив тот, кто молод: он еще увидит прекрасные дни». Правда, за год до смерти и за двенадцать лет до начала революции, в 1777 году, Вольтер отодвигал срок «победы честных людей» уже на «три-четыре столетия», но в победе этой не сомневался.
В сознание лучших представителей молодой буржуазии внедрили философы мысль о неизбежности, необходимости революции, очищающей путь прогрессу, о том, что история указывает, каким должно быть будущее.
Роль самой науки истории менялась на протяжении веков. Античность поставила перед первыми историками две задачи: дать образ прошлого и представить современникам примеры, с которыми они могли бы сопоставлять события и людей настоящего. Собственно говоря, обе эти задачи стояли и перед искусством и литературой, и на протяжении многих столетий, вплоть до наших дней, историю сравнивали с литературой, проводя границы между ними и находя общие черты. Историю как вид искусства греки отдали под покровительство одной из девяти муз — Клио.
С точки зрения Аристотеля, главное различие между историей и поэзией в том, что первая описывает обязательно факты, имевшие место в действительности, а вторая этим не связана. Впрочем, такой принципиальный подход не мешал, например, древнегреческим историкам сочинять для исторических героев «речи», которые те могли бы произнести, — так было удобно от имени действительного лица объяснить его поступки и намерения, какими они представляются автору исторического труда. Римский педагог и литературовед I века нашей эры Квинтилиан полагал, что в тех случаях, когда история предназначена «для пользы потомков», ее можно рассматривать как «поэму в прозе».
И для гуманистов эпохи Возрождения история тоже вид литературы, только отличающийся следованием действительным фактам. В XV веке итальянец Леонард Бруни полагает главную пользу от чтения истории в том, что оно помогает выработать хороший стиль и доставляет величайшее удовольствие. А в XVI веке его соотечественник Винерано рекомендует устранять из исторических повествований все неприятное…
И, как от писателей, от историков на протяжении даже не веков, а тысячелетий требуется воздействие не только на умы, но и на чувства читателей. Надо сказать, что с этой задачей историки неплохо справлялись. Целые поколения воспитывались на трудах Геродота и Плутарха, и даже в наши дни сочинения историков, признаваемые чисто научными, читаются нередко с захватывающим интересом. Для скольких наших современников любимое чтение — курсы С. М. Соловьева и В. О. Ключевского, книги Е. В. Тарле, А. 3. Манфреда…
Но учителем жизни тем не менее историю начали называть не за эту ее роль особой разновидности искусства. Она представляла собой, с точки зрения равно древних греков и римлян, ученых мужей средневековья, деятелей Возрождения и мыслителей XVII–XVIII веков, своего рода энциклопедию, в которую сведены все возможные в действительной жизни важные политические события. А поскольку мир практически не меняется, то новые ситуации только повторяют те, что уже случались в прошлом, и даже не раз. Не может произойти ничего такого, чего уже не было. Флорентийский историк Гвиччардини в XVI веке так и пишет: «Дела прошлого освещают будущее, ибо мир всегда был один и тот же; все, что есть и будет, уже было в другое время, а бывшее возвращается, только под другими названиями и в другой окраске…» Но раз так, в затруднительном положении всегда можно посмотреть, как вел себя в аналогичном случае Перикл или Юлий Цезарь, или Марк Аврелий, или Генрих I. От истории требовали, чтобы она служила школой политики, ждали от нее именно уроков — конкретных практических выводов, основанных на конкретном материале. Человек, чье имя приобрело нарицательный смысл, — Макиавелли в своих политических рекомендациях государям постоянно ссылается на жестокий опыт Древнего Рима.
Мудрено ли, что значение так понимаемой истории все возрастает и возрастает, причем пик этого роста, по-видимому, приходится на эпоху Возрождения. В это время, пишет М. А. Барг, «авторитет истории был столь общепризнанным, а ее вердикты были столь непререкаемыми, что в глазах сильных мира сего история уступала разве одной лишь теологии. Придворный духовник и придворный историк в равной мере распоряжались посмертными судьбами правителей: первый — на небесах, второй — на земле… История восседала на интеллектуальном троне, а стоявшие по сторонам его философия и поэзия внимали ей с благоговением… Ни раньше, ни позже с подобной оценкой роли и значения истории в европейской культуре мы не сталкиваемся».
Однако похоже, что и позже истории нередко придавали не менее важное значение, чем в эпоху Возрождения. К середине XIX века, по мнению многих видных специалистов, она опять-таки на время оттеснила на задний план философию, богословие же в прошлом столетии не могло составлять ей такую мощную конкуренцию, как прежде. Но в ту же пору отношение к истории со стороны господствующего класса начинает меняться.
Пожалуй, один из самых распространенных парадоксов в истории науки — научная дисциплина по мере своего развития вдруг начинает иногда: в глазах общества терять свое прежнее значение. История, понятая как процесс развития, процесс постоянных перемен, неожиданно многими перестает восприниматься как учительница жизни. Раз, дескать, все менялось, то и учиться у прошлого затруднительно.
Суть же дела в том, что с пониманием сложности истории стало ясно: нельзя пользоваться ею как словарем, в который можно заглянуть, а там забыть на время, до возникновения новой надобности. Использовать исторический опыт действительно сложно, но общий принцип подхода к нему сформулировал Владимир Ильич Ленин: «Самое надежное в вопросе общественной науки и необходимое для того, чтобы действительно приобрести навык подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться в массе мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений, — самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это — не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»[10].
Исторический подход — мощное оружие марксистской теории. Именно он помогает разобраться в том, что Гегель назвал «сутолокою мировых событий», именно он связывает с «жизненностью и силой настоящего» то, что может показаться «бледным воспоминанием прошлого».
Но исторический подход смог проявить себя с полной силой только тогда, когда были решены важнейшие вопросы истории как науки: какие силы проявляют себя в движении общества во времени, каким законам подчинено развитие общества.
Путь к открытию этих сил и законов был долог и труден.
Что же, с точки зрения мыслителей разных эпох, вызывает перемены в истории, управляет ее событиями, даже если она движется по кругу, а тем более если не по кругу? Что же колеблет устои одной общественной системы, подготавливая замену ее другой?
Первый и «естественный» ответ на это был прежний, тысячекратно «проверенный» на неуязвимость: обо всем заботится бог. Ход истории определен волей божьей, план ее составлен на небесах. Но это только для ортодоксального христианства «пути провидения неисповедимы», то есть понять их человек не в силах.
Геродот приписывал (как позднее христианский идеолог Августин Блаженный в V веке нашей эры) управление ходом истории божественному произволу. Но для этого произвола отыскивал некие правила, по которым он действует, так сказать, руководящие принципы. Первый великий историк тут не имел единой четкой концепции. Он то легко принимает на веру и передает потомкам сообщение о совершенно фантастических событиях, то с дотошностью ученого более поздней и менее легковерной эпохи ищет для таких событий естественное объяснение. Иногда похоже, что весь ход истории для Геродота предопределен, задан и совершается по строгому божественному плану. Но с другой стороны, боги то и дело выступают в качестве судей, воздающих людям за преступления: «Рок справедливою карой всех нечестивцев карает».
Еще поразительнее, однако, третий мотив, не раз повторяющийся у Геродота. Он тоже связан с вмешательством богов в человеческую жизнь, но по причинам, которые и в Древней Греции почитались, во всяком случае для людей, довольно низменными. Боги, оказывается, завистливы и ревнивы, они не допускают, чтобы люди были долго счастливы. Вспомним рассказ о перстне Поликрата, царя острова Самос, — рассказ, давший сюжет для баллады Шиллера «Поликратов перстень», известной нашему читателю в переводе В. А. Жуковского. Во всем был удачлив Поликрат. И вот друг его, боясь, что Поликрата погубит зависть богов, дал царю Самоса совет пожертвовать чем-то очень дорогим его сердцу. Поликрат послушался и бросил в море свой любимый перстень. А вскоре к царскому столу была поймана рыба, в желудке у которой нашелся Поликратов перстень. Опять удача! И тут друг-советчик отступается от Поликрата: тот обречен, зависть богов погубит его. Так и происходит.
Снова и снова повторяет Геродот — то от собственного лица, то устами своих героев: «Всякое божество завистливо…», «Твои великие успехи не радуют меня, так как я знаю, сколь ревниво божество».
Итак, завистливые боги, ревнивые боги, боги несправедливые, мешающие наслаждаться слишком долгим счастьем…
А в общем-то этот вывод Геродота не так уж и странен: слишком очевидна была для мыслящих людей несправедливость мира, жестокость «судьбы» даже к недавним любимцам ее. Нельзя, как видите, считать, что боги для него непогрешимы и стоят выше суда. История о Поликратовом перстне и некоторые другие эпизоды из сочинений Геродота отводили небожителям довольно неблаговидную роль. Притом ведь он верил в них. А восстать против богов, в которых веришь, — ох, наверное, какое это трудное дело! Однако и люди у Геродота тоже деятели истории, пусть подчиненные божьей власти.
Постепенно мыслители, шедшие по пути Геродота, все более и более выводили человека, как деятеля, как творца истории, на первый план. Но при этом такими деятелями выступали лишь отдельные, особо выдающиеся люди. И именно их свершения определяли все, что происходило на Земле. Фридрих Энгельс с грустью констатировал: «Представление, будто громкие политические деяния есть решающее в истории, является столь же древним, как и сама историография.
Это представление было главной причиной того, что у нас сохранилось так мало сведений о том развитии народов, которое происходит в тиши, на заднем плане этих шумных выступлений и является действительной движущей силой».[11]
Историки Возрождения тоже видели ключ к прошлому не в воле божьей, а в природе человека и прежде всего в том, что человечество рождает героев, изменяющих ход времени. Эта идея, не впервые появившаяся в истории, с тех пор так и не ушла с арены идеологических споров, в разных формах она снова и снова возникала на протяжении последующих веков, с ней боролись Маркс и Энгельс, Ленин и коммунистические партии.
Правильное понимание этой проблемы далось нелегко, так что стоит остановиться на ней подробнее. Общество, согласно этой древней теории, резко разделено на «героев» и «толпу», на мыслящее и деятельное меньшинство, вовлекающее в исторические события пассивное, инертное, бездумное большинство.
Есть некие особенные люди; по воле богов или от природы (последнее объяснение, естественно, более позднее) они наделены замечательными свойствами и становятся героями. Герои древности, именовавшиеся иногда богами, иногда полубогами, научили остальных людей ремеслам, земледелию, создавали первые государства. И уж понятно, что именно такие необычные люди и в дальнейшем направляют течение исторических событий.
Родился в Македонии в царской семье мальчик, названный Александром, — и вот, пожалуйста, возникла держава в масштабах почти всего мира, известного к началу завоеваний. Умер Александр, едва дожив до тридцати трех лет, — и не стало всемирной державы.
В гордой римской семье Юлиев, ведущей свой род ни больше ни меньше как от богини Венеры-Афродиты, родился великий полководец Цезарь, а Цезарь усыновил своего хитрющего внучатого племянника Октавиана, принявшего позже имя Август, — и рухнула Римская республика, заменилась империей.
Киевскому князю Владимиру изо всех религий соседних стран больше всего понравилось византийское православие, а Владимир был человек решительный и твердый, — и вот Русь стала православной. Могла бы, выходит, она принять католичество или ислам, а то и вовсе остаться до наших дней языческой, если бы Владимир порешил иначе.
Достаточно так поставить вопрос и внимательно вглядеться в исторические факты, чтобы увидеть, что не «герои» определяют ход истории.
Римская республика была обречена историей, Цезарь и Август боролись не столько с теми, кто хотел ее сохранения, сколько с другими претендентами на звание самодержавных правителей империи, вызревшей в недрах Римской республики. Не Цезарь, так, скажем, Помпей стал бы полновластным владыкой Средиземноморья. И в этом случае мало что изменилось бы в истории. Вот разве титулы — царь, кесарь, кайзер, — ныне ставшие уже достоянием прошлого, зазвучали бы иначе, поскольку были бы произведены от имени Помпея, а не Цезаря…
Что касается Владимира Киевского, то ведь его бабка Ольга задолго до крещения Руси стала христианкой, причем приняла именно православие. Социальное развитие Древней Руси неизбежно вело к принятию христианства, а исторические связи Руси с византийской культурой определили утверждение его восточной ветви — православия.
А как же с Александром Македонским и его «мировой державой»? Этот эпизод во всемирной истории привлекал и привлекает особое внимание историков, и прежде всего не из-за интереса к действительно любопытной личности Александра или его походам, какими бы блестящими в стратегическом отношении они ни были, но благодаря дальним последствиям македонских завоеваний. Результатом их стало бурное развитие международной эллинистической культуры, соединившей многие элементы культуры всех завоеванных Александром стран. Центр греческой культуры переместился фактически в Египет, в Александрию, — именно там провели значительную часть жизни или всю жизнь хорошо знакомые всем нам, и не только по имени, математик Евклид, математик и физик Архимед, астроном и историк Птолемей… В лоне эллинизма в дальнейшем вызрело христианство.
И вот на протяжении двух с лишним тысячелетий то один, то другой крупный историк с грустью обращал внимание своих читателей на то, что всего за десять лет Александр создал великую державу и заложил основу для грандиозного переворота в культуре, — так чего бы он добился, проживи да процарствуй еще хоть два-три десятка лет!
Видный английский историк Арнолд Тойнби, самый, пожалуй, знаменитый в XX веке среди западноевропейских и американских историков, поставил мысленный эксперимент, такой модный сегодня в точных науках.
Он написал эссе под характерным названием «Если бы Александр не умер тогда». Это своего рода историко-фантастический рассказ. Александр не только вылечился от сгубившей его на самом деле лихорадки, но и одобрил принятые во время его болезни мудрыми министрами меры по стабилизации внутренних дел империи. Вслед за тем великий царь сокрушает Карфаген, включает в свою державу Рим — на выгодных для последнего условиях, захватывает не завоеванную прежде часть Индии, совершает победоносный поход в Китай, где спасает шесть слабых царств от поглощения их более мощным, седьмым (в действительности такое поглощение состоялось), за что шесть осчастливленных царей признают Александра своим владыкой. Так под властью македонца оказывается весь тогдашний цивилизованный мир. Наследники Александра, по Тойнби, цивилизовали Африку, открыли Америку… И Македонская держава стала поистине всемирной. О, Тойнби говорит не об одних лишь военных успехах Александра, но и о том, как умело используют Александр и его министры, а также его преемники политические и торговые способы укрепления связей между отдельными частями империи, как они привлекают к себе на службу наиболее выдающихся личностей каждой эпохи. Сын македонского полководца Птолемея, в этом варианте не царя, а только наместника Египта, основывает, как то и случилось в истории, знаменитые александрийские Музей, Библиотеку, университет. Ашока (на самом деле индийский император III века до нашей эры, прославившийся своей гуманностью) становится первым в истории министром здравоохранения всемирной Македонской державы. И Америку — под названием Атлантиды — открывает уроженец бывшего Карфагена Ганнибал, сын Гамилькара.
Журнал «Знание — сила» опубликовал это эссе Тойнби, а затем был организован «круглый стол» историков, обсудивших мысленный эксперимент английского ученого. Вот отрывки из некоторых выступлений ученых.
Доктор исторических наук Э. О. Берзин:
— Тойнби в своей разработке возможных вариантов прошлого подходит к истории слишком узко, разбирая лишь верхний слой событий. Для него — во всяком случае в этом эссе — историческая случайность сводится к особенностям расстановки личностей как шахматных фигур истории. Действие случайности ограничивается — впрочем, скорее расширяется — тем, что отдельная личность или группа личностей, появившаяся случайно, меняет ход истории. С Александром остальные реальные лица, события и процессы играют в поддавки…
Что происходило на самом деле? Мог ли Александр, завоевать хотя бы не весь мир, а еще несколько стран? Да ведь и до смерти грозного македонца то в том, то в другом уголке его державы вспыхивали восстания. Оппозиция существовала в центре — в Македонии, бурлила Греция, готовы были к мятежу некоторые его собственные полководцы. Приближенные Александра пытались покончить с ним. Смерть подстерегала Александра — не лихорадка в Вавилоне, так враги в одной из битв или собственные воины, у которых тирания растила сопротивление.
Доктор исторических наук Г. А. Федоров-Давыдов:
— Вспомним рассуждения Гюго в «Отверженных» о том, что случилось бы, пройди во время битвы при Ватерлоо дождик. Рассуждения Марка Твена о том, что было бы, не встань во время Столетней войны во главе французских войск Жанна д'Арк.
Но выигрыш Наполеоном битвы при Ватерлоо не спас бы его империи: он уже подорвал силы своего государства. И можно не сомневаться, что даже без Жанны д'Арк Франция освободилась бы в XV веке от английской оккупации. Случайности ускоряют или замедляют течение истории, но не меняют ее направления.
Тойнби выступает как апологет личности, личность у него способна перекроить ход истории. Вы подумайте только, стоило Александру Македонскому поберечь свое здоровье (вот какая мелкая случайность!) — и не было бы тысячелетий почти непрерывных войн, религиозных гонений и многих других бедствий человечества.
Проблема роли личности в истории достаточно разработана марксистской философией. И роль личности Александра — прекрасное подтверждение марксистско-ленинской концепции. Думаю, что образ Александра подвергся после смерти определенной идеализации. Александр, ставший во главе великой державы, был освещен юпитерами истории. То же случилось бы и с другими. Да, на месте Александра мог оказаться другой человек. Но и этот другой или рано умер бы, или стал бы свидетелем гибели своей державы.
Доктор исторических наук E. Н. Черных:
— Можно уверенно говорить о неизбежности появления культуры эллинизма, объединившей достижения греков и персов, македонцев и египтян, финикийцев, армян и индийцев.
Активное культурное взаимодействие Греции и Западной Азии начинается по крайней мере во II тысячелетии до нашей эры. И с каждым столетием усиливалось.
Доктор исторических наук С. А. Арутюнов:
— Тойнби — интересный историк и хороший писатель, но он, к сожалению, метафизик, а не диалектик и глубинные связи явлений подменяет чисто механическими, поверхностными. Эссе написано, чтобы изобразить идеальное всемирное государство. Как он, наверное, жалел, что мировая история не пошла по нарисованному им пути. Слабость таких построений, на мой взгляд, очевидна. Экономические, базисные причины в сочетании с географическими факторами обеспечивают существование государств в тех или иных размерах. Иран за две с половиной тысячи лет много раз расширял и снова сужал границы, но нынешняя его территория почти все время входила в состав одного, а не разных государств. Восточный Китай неоднократно рассыпался на составные части — и снова и снова объединялся. Вместе с тем вплоть до новейшего времени все попытки Китая, даже на вершине его могущества, утвердить свою власть на западе, за пределами собственно китайской земледельческой территории, оказывались тщетными.
И в Индии ядром возникавших здесь империй становились обычно долины Инда и Ганга, а покорить тропический юг Индии эти империи, как правило, не могли.
Историки вспоминали и о том, что за полвека до Александра царь Спарты Агесилай чуть не завоевал уже Персию, ее спасло только то, что угроза Спарте со стороны других греческих государств потребовала возвращения Агесилая на родину. И о том, что поход на Персию планировал Филипп, отец Александра, убитый в разгар подготовки к завоеванию Востока. И о том, что сам Филипп Македонский как личность был куда крупнее своего прославленного сына.
История «требовала» возникновения эллинистической культуры, и в каком бы то ни было варианте эллинизм должен был появиться! Его подготовило развитие производительных сил и производственных отношений. Развитие ремесла и земледелия повысило экономическую и политическую мощь государств в предшествующую эпоху, нужда в рабах как главном орудии производства и необходимость подавлять самую возможность их выступлений стимулировали войны и создали хорошо организованные армии. Македония и Эллада, опередившие в своем развитии Персию, смогли бросить против последней лучшее войско цивилизованного мира. «Деяние» Александра было только неизбежным следствием сложившейся в тогдашнем мире экономико-политической ситуации.
Но такое понимание истории стало возможным лишь через две с лишним тысячи лет после македонских походов. Хотя надо все-таки сказать, что даже в далеком прошлом некоторые историки умели замечать экономическую основу политических событий и даже иногда угадывали роль для них того, что сегодня мы называем классовой борьбой.
Словно чтобы подтвердить, что если в Греции, по словам одного чеховского героя, «все есть», то в Древней Греции «все было», Фукидид (V век до нашей эры) разбирает в своей «Истории Пелопоннесской войны» социально-экономические отношения в греческих государствах, более того, он до некоторой степени понимает, какую роль в войне сыграли классовые противоречия.
Римлянин Аппиан во II веке нашей эры видит материальную основу гражданских войн на территории республики в проблеме земельной собственности.
И даже те историки эпохи Возрождения, которые объявляли причиной любых общественных перемен одну лишь деятельность великих людей, отдавали себе отчет в том, что действуют эти гении не в вакууме, что проявляют они себя в социально-политической борьбе. Философы века Просвещения уже осознавали чрезвычайную важность имущественных различий внутри общества, некоторые философы видели и важность борьбы между классами, но тут большей частью ее значение для них перекрывалось и стиралось борьбой сословий.
Во Франции (да и во многих других странах) общество делилось на три сословия: дворянство, духовенство… и все остальные, то есть «простолюдины». При этом в третьем сословии одинаково оказывались нищий и миллионер, еще не купивший себе дворянского титула, адвокат и крестьянин, фабрикант и деревенский батрак, рабочий и ученый недворянского происхождения. Средневековое общество было по традиции разделено на сословия, причем формально принадлежность к сословию определялась только происхождением. И совсем не просто было в то время разглядеть классы «сквозь сословия». Даже Фрэнсис Бэкон, основоположник экспериментальной науки нового времени, видел в каждом государстве всего только «два сословия: дворянство и простой народ». Себя же считал стоящим над сословиями, вне и выше их. Однако осознанно или неосознанно, но каждая позиция есть позиция классовая, и что поделаешь, если «этикетка системы взглядов отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает не только покупателя, но часто и продавца»[12].
Во время Великой французской революции классовые, а не сословные только интересы проявились с достаточной силой, чтобы в самом начале XIX века великий утопист Сен-Симон смог объяснить события Французской революции, развитие ее и исход именно борьбой богатых и бедных, имущих и неимущих. Сен-Симон видит ее роль для политической истории развития производства. Для него в истории Франции самое важное не походы Карла Великого, не религиозные или какие угодно другие войны, но «промышленные успехи» (надо только заметить, что для Сен-Симона земледелец и животновод тоже промышленники, как и ремесленники, и рабочие, и фабриканты).
Огюстен Тьерри, долго сотрудничавший с Сен-Симоном, решил написать по его заветам вместо «биографии власти», которой, по определению Сен-Симона, была до сих пор вся история, историю как «биографию народа». Борьба феодалов и народа, который для него практически отождествляется с буржуазией, — вот, по Тьерри, основа всей истории его страны. Он пользуется понятием классовой борьбы, изучает роль в истории широких масс — и возмущается: «Удивительна упорная склонность историков не признавать за массой никакой самодеятельности, никакого творчества. Если какой-нибудь народ выселяется, ища себе новое местожительство, то наши историографы и поэты объясняют это тем, что какой-нибудь герой решил основать новую империю с целью прославить свое имя; если возникает какое-нибудь новое государство, то это объясняется инициативою того или иного государя. Народ, граждане представляют собой лишь материю, одухотворяемую мыслью отдельных лиц». На самом же деле, объясняет ученый, надо за всяким историческим событием искать классовый интерес!
Классовый подход к истории не был открытием одного Тьерри, и не только наука участвовала в открытии роли классов в жизни общества. Поразительно, с какой силой Бальзак выразил в своих произведениях именно классовое в человеческих интересах и психологии. А роман Стендаля «Красное и черное» по степени осознания классовых позиций героев далеко опережает исторические сочинения Тьерри. Вспомните, как четко ощущает Жюльен Сорель не только противостояние буржуазии, в том числе и мелкой, остаткам класса феодалов, высшей земельной аристократии (это противостояние видел и Тьерри), но и гораздо более важное противостояние неимущего, получившего возможность «свободно продавать свой труд», — господствующему классу, представители разных групп которого, при всех взаимных трениях, объединяются против ненавистного им человека из низов.
Открытиям писателей в истории слишком часто не придается должного значения, как будто важнейшие наблюдения и выводы из них должны непременно быть заключены в написанные для специалистов соответствующей области науки труды со справочным аппаратом. Маркс же и Энгельс не раз обращали внимание на исторические открытия, сделанные Бальзаком, Гейне, Диккенсом. Пусть открытия этого рода редко принимают облик точных определений, но они входят в общественный обиход, пронизывают духовную атмосферу общества и влияют не только на сознание масс, но и на работы философов и историков.
Открытие прошлого и настоящего идет по многим линиям. И если главная из них — научное открытие исторических законов, то это не значит, что другие — не важны для общества.
Литература в середине XIX века — Гоголь, Достоевский и Диккенс прежде всего — открывает «маленького человека». Если до сих пор писателей прежде всего интересовал, так сказать, потенциальный Герой с большой буквы, достигающий или не достигающий намеченных им целей в зависимости от социальных обстоятельств и тех или иных черт своего характера, то теперь в «зоне усиленного внимания» оказывается человек, цели которого мелки, возможности ничтожны, роль в обществе мизерна. И все же именно в пробуждении такого человека к нормальной, полноценной жизни — одна из самых важных задач общества; более того, неумение разрешить ее означает смертный приговор существующему строю.
Характерная составная часть русской, английской, французской литературы тридцатых, сороковых, пятидесятых годов прошлого века — так называемые «физиологические очерки». К науке физиологии они отношения не имеют — термин передает интерес писателей к глубинным слоям жизни. Это нередко настоящие социологические исследования, с привлечением статистики, промышленной, уголовной и иной, с размышлениями на темы экономические, политические и нравственные. Лучшие такие очерки — подступы писателей к той стороне жизни, которой литература прежде не занималась. С их страниц встает перед читателем, большей частью принадлежавшим тогда к буржуазии, страшная картина жизни рабочего класса, крестьянства, мелких служащих.
Все это неизбежно ведет к воспитанию чувства морального протеста против капиталистического строя. А такое чувство приводит лучших представителей буржуазной интеллигенции к социалистическим идеям. Между тем именно выходцы из буржуазии, как подчеркивал Владимир Ильич Ленин, только и способны были в XIX веке дать пролетариату революционную философию; сам рабочий класс, угнетенный, задавленный, фактически лишенный образования, выполнить эту работу был не способен.
С другой стороны, труды этнографов, археологов, антропологов развернули перед XIX–XX веками подлинную историю далекого прошлого человечества. На место шести-семи с небольшим тысячелетий, прошедших от библейского «сотворения мира», пришли сначала десятки, а потом и сотни тысяч лет. Оказалось, что человек стал художником по крайней мере тридцать тысяч лет назад (а в последнее время, похоже, этот срок еще удлиняется), а тружеником и мыслителем — уже и сотни тысяч лет.
Открытие роли народных масс в настоящем сопровождалось осознанием их значения в прошлом. Мы узнали, что жизнь рядового человека прошедших столетий была не только трудной, но и насыщенной событиями, мыслями, чувствами.
Вот что пишет академик Д. С. Лихачев в книге «Художественное наследие Древней Руси и современность»: «Чувство значительности происходящего, значительности всего временного не покидало древнерусского человека ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе. Человек, живя в мире, помнил о мире в целом как об огромном единстве, ощущал свое место в этом мире. Его дом располагался красным углом на восток. По смерти его клали в могилу головой на запад, чтобы лицом он встречал солнце. Его церкви были обращены алтарем навстречу возникающему дню. Восток символизировал собой будущее, запад — прошлое».
Странное на наш сегодняшний взгляд уподобление уже древними человека целой Вселенной наглядно свидетельствует о месте, которое занимал человек правда, по собственному мнению — в системе мира. Самовосхваление? Да, можно сказать и так. Но ведь хвалы-то по заслугам. Человек не повторяет собой Вселенную, но зато он повторяет, моделирует ее в своей голове, строит ее картину заново, в каждой стране в каждом поколении по-своему, в меру накопленных культурой знаний, с образной силой чувств, которыми эта культура наделяет каждого достойного своего представителя.
Маркс справедливо назвал все, что предшествует коммунизму, «предысторией человечества»; в этой предыстории было не только то, о чем следует пожалеть, но и то, чем пристало гордиться. Эта предыстория дает человечеству право на счастливую «настоящую историю». Именно изучение такой предыстории человечества позволило Марксу и Энгельсу открыть законы, ведущие общество к «настоящей истории».
И вот движение человечества во времени, в котором так редко угадывались прежде хотя бы элементы порядка, оказалось пронизано закономерностями. «Сутолока мировых событий» была приведена в систему, осмыслена на тысячи лет назад и десятки, сотни лет вперед.
Пирамиду общественных отношений, основанием которой до сих пор почти всегда считались отношения политические, Маркс и Энгельс «переворачивают вверх дном». Производственные отношения и есть на самом деле основа, определяющая все остальные общественные связи между людьми. А характер производственных отношений определяется, в свою очередь, развитием производительных сил.
Марксизм увидел общество как здание; вот его этажи по формулировке Г. В. Плеханова в работе «Основные вопросы марксизма»:
«1) состояние производительных сил;
2) обусловленные им экономические отношения;
3) социально-политический строй, выросший на данной экономической „основе“;
4) определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем психика общественного человека;
5) различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики».[13]
«Хаос и произвол, царившие до сих пор во взглядах на историю и на политику, сменились поразительно цельной и стройной научной теорией, показывающей, как из одного уклада общественной жизни развивается, вследствие роста производительных сил, другой, более высокий, — из крепостничества, например, вырастает капитализм»[14],— писал Владимир Ильич Ленин о роли исторического материализма Маркса.
Труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» вышел в свет только в 1859 году, но сама идея эта сформировалась у Дарвина уже в 1839 году, а первые очерки своей теории ученый написал в начале сороковых годов, — Маркс и Дарвин развивали свои идеи практически одновременно, и причина тут, конечно, не в том лишь, что даты рождения двух гениев разделены только девятью годами.
Эпоха рождает гениев, чтобы они выполнили необходимую ей работу, работу, для которой созрели необходимые условия. А условия для перехода к новым этапам в осознании человеком природы, общества и самого себя совсем не случайно созревают одновременно.
Только не надо думать, что марксизм сделал ненужным дальнейшее изучение и углубление открытых им основных законов. Если теория цельна и стройна, это не означает, что она проста. Кто скажет, что химия проще алхимии? Она «только» вернее. В том же отношении находится марксистская философия истории к домарксовым историческим учениям.
По Марксу, вместо великолепных героев и полубогов, вместо царей и пророков движение истории направляет развитие производительных сил и производственных отношений. Новая конструкция плуга, рождение принципиально новой системы станков — вот какого рода события определяли в конечном счете ход событий. И революции начинаются не из-за нескольких недовольных молодых людей, излишней роскоши королевского двора или неудачной войны, но потому, Что противоречия между производительными силами и производственными отношениями, преломленные через сотни призм классового сознания, требовал решения ряда экономических и социальных проблем. История куется не в столкновении рас или даже сословий, возглавляемых героями, но в суровой классовой борьбе. С точки зрения теоретиков эпохи Возрождения, средневековье было чередой темных столетий, достойным горького осуждения «историческим отступлением». Материалистический подход показал, что это в Целом было время движения вперед, прежде всего в области развития орудий труда. Усовершенствованный плуг, изобретенный в Северной Европе задолго до падения Римской империи, смог завоевать земли Франции и Италии только после гибели рабовладельческого общества: для работы с таким плугом нужен свободный или хотя бы крепостной крестьянин, раб же, абсолютно незаинтересованный в результатах своего труда, здесь не годится.
Старая история учила, что мечи варваров сокрушили развратившийся Рим. А развратился он потому, что стал, дескать, слишком богатым. Марксизм показал, что рабовладельческий строй не соответствовал тому самому уровню развития производительных сил, которого он же помог обществу достигнуть. И потому должен был погибнуть вместе с олицетворявшей этот строй Римской империей. Кроме мечей варваров и прежде мечей его погубило неумение использовать новые орудия труда. Приведенный пример с плугом и многими другими орудиями добавили археологи в последние уже десятилетия, подтверждая своими частными открытиями общую правоту учения о производственной основе всякого общественного строя.
Последний странствующий рыцарь Европы, Дон Кихот, подвергается бесчисленным насмешкам окружающих. Но самый страшный удар — в прямом смысле — он получает от ветряной мельницы, принятой им за великана. Может быть, не случайно Сервантес превратил именно механизм, обращающий природную энергию на пользу человеку, в великана, сокрушающего «последнего рыцаря»? Все убыстряющееся развитие орудий труда ведь и вправду несло гибель феодализму.
Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что гибель капиталистического общества предрешена его собственным развитием, что капитализм не только порождает собственного могильщика — пролетариат, но и вообще создает систему производства, уже в принципе не нуждающуюся в классе капиталистов как организаторе производства.
Путь к открытию прошлого шел через открытие настоящего, потому что именно капитализм обнажал классовую структуру общества. Маркс говорил о выявлении законов капитализма в чистом виде с тем большим успехом, «чем полнее устранены чуждые ему остатки прежних экономических укладов».[15]
Капитализм — высшая форма развития эксплуататорского общества, именно исследование капитализма оказалось для Маркса и Энгельса прямым и кратчайшим путем к открытию законов, действовавших в предыдущих формах общества угнетателей и угнетенных. Ведь буржуазное общество построено «из обломков и элементов» таких погибших форм. Маркс образно характеризовал ситуацию, в которой знание более развитого используется при изучении менее развитого, словами: «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны»[16].
Предмет или явление, когда они недостаточно развились, труднее изучать, чем более развитые. Ленин отмечал, что русский капитализм труднее изучать, чем западный, потому что капиталистическая эксплуатация в нашей стране была прикрыта феодальными формами.
…Так что же, значит, отдельные люди, пусть самые выдающиеся, не влияют на ход истории, коли не они определяют ее движение, коли не ими творится грядущее, коли они в каждом своем деянии выполняют волю законов социального развития? Нет, нет и еще раз нет. Марксизм не вычеркивает из истории личностей, больше того, он вводит в нее как личностей тех безымянных героев, имя которым — народ: Снова и снова повторяют Маркс, Энгельс, Ленин, что история творится людьми, что они не только актеры, но и авторы собственной драмы, что судьба людей не предопределена фатально их социальным положением, историческими условиями эпохи, что у них есть выбор — с кем идти, в каком направлении, «в каком сражаться стане». Сами судьбы Маркса и Энгельса, выходцев из буржуазных семей, и российского дворянина Ульянова показывают, как люди могут пойти против класса, к которому принадлежат от рождения, возглавив класс, за которым стоит будущее. И они тут исключительны только в той мере, в какой всякий гений — исключение. Потому что история сохранила нам имена царевичей древнего мира, возглавивших, как Аристоник в Пергаме, восстания рабов, средневековых рыцарей, вставших во главе крестьянских антикрепостнических армий, как Дьердь Дожа в Венгрии. Строго говоря, и это исключения, но такие исключения повторяются в истории достаточно часто, чтобы можно было объединить их правилом. А роль этого явления в истории просто нельзя переоценить.
У человека всегда есть выбор. Может быть, здесь стоит вспомнить шутливые, немного грустные и очень точные слова покойного польского писателя Станислава Ежи Леца: «У человека уже нет выбора — он должен оставаться человеком».
Случайно ли материальную основу и движущие силы истории открыли великие революционеры Маркс и Энгельс? Случайно ли объяснили мир те, кто решил, что, хоть все философы до них объясняли мир, задача состоит в том, чтобы его переделать?
Конечно, в этом была закономерность. Понять мир действительно мог только тот, кто понимал необходимость его преобразования. Стоит напомнить: один из великих предтеч коммунистического учения, утопист Сен-Симон, потому и сумел в XVIII веке увидеть многие черты настоящего, что думал прежде всего о будущем.
Открытие будущего
Каким будет грядущее? Что оно готовит нам? С тревогой и надеждой смотрит человек вдаль, с древнейших времен пытаясь угадать хотя бы: «любит — не любит», «чем сердце успокоится», «чем дело кончится». И прислушивается к голосам тех, кто утверждает, что может заглянуть в будущее. Кассандра в «Илиаде» и «Одиссее», слепой прорицатель Тиресий в «Царе Эдипе», три ведьмы в «Макбете» — литературные, так сказать, представители мистической породы предсказателей. Есть такие «предсказатели» и в Библии. Время от времени поднималась шумиха вокруг тех или иных исторических лиц, умевших якобы предвидеть будущее. Об одной такой «сенсации» стоит рассказать.
Итак, откроем первый том знаменитой Энциклопедии Брокгауза и Ефрона на странице 74. За статьей «Авель» — о том Авеле, что был убит своим братом Каином, — следует еще одна статья «Авель». Вот ее полный текст: «Авель — монах-предсказатель, р. 1757 г. Происхождения крестьянского. За свои предсказания (дней и даже часов смерти Екатерины II и Павла I, нашествия французов и сожжения Москвы) многократно попадал в крепость и тюрьмы, а всего провел в заключении около 20 лет. По приказанию имп. Николая I, Авель заточен был в Спасо-Ефимьевский монастырь, где и умер в 1841 г. В „Русской старине“ за 1875 г. напечатаны выдержки из писем Авеля, из его „Жития“ и „зело престрашных книг“, а также и некоторые из них рисунки».
Автор в свое время, едва впервые прочел эту статью, кинулся в библиотеку, заказал упомянутую «Русскую старину». Был в этом журнале и — вправду напечатан биографический очерк о монахе с именем несчастного библейского Авеля, были опубликованы отрывки из его «книг предсказаний». И очень бы интересно, конечно, поверить, что и вправду даты смерти государей предугаданы, и жил на нашей земле пророк — милостью божьей, или пришельцев, или генетической мутации… Да вот беда: предсказал этот Авель еще конец света со страшным судом божьим и назначил его на 1951 год. Те, кто читал соответствующий номер «Русской старины» в 1875 году, надо полагать, хоть на секунду с ужасом задумались, какая жестокая судьба постигнет их внуков и правнуков. А потом, вероятно, улыбнувшись, решили, что 1951 год еще далеко. Но мы-то с вами уж точно знаем, что намеченный Авелем страшный суд не состоялся.
Будущее интересовало людей всегда не меньше, а даже больше, чем прошлое. И узнать, каким оно будет, считалось чрезвычайно важным. В Древней Греции и Риме ничего мало-мальски серьезного не делали, не заглянув предварительно в грядущее. Шагу нельзя было ступить, не выяснив, что тебе этот шаг принесет. То, глядишь, тебе вещий сон приснится, то твоей жене, сыну, рабу, наконец… Перед любым серьезным мероприятием серьезные люди гадали… Чуть не все наши древнейшие сведения о китайской истории считаны с гадательных костей: на них выцарапывали иероглифами вопрос, на который должны были ответить боги, и швыряли кости (щитки черепах, бараньи кости и пр.) в костер. А затем смотрели, как именно кости растрескались. Узор трещины иногда был больше похож на иероглиф «да», иногда — на иероглиф «нет».
Крез, царь Лидии (это государство две с половиной тысячи лет назад занимало кусок теперешней Турции), решил повоевать со своим восточным соседом, персидским царем Киром. А был этот Крез, во-первых, до того богат, что поговорка о его богатстве до сих пор живет, и, во-вторых, чрезвычайно предусмотрителен и осторожен. Ни одного вопроса не решал, не посоветовавшись с богами. Способов узнавать их мнение еще в ту пору придумали множество. Волю богов и будущее узнавали, запрашивая оракула при разных храмах. В одном месте жрецы слушали, как шелестит священный дуб и журчит источник, тоже, понятно, священный, в другом — как шелестит лавр. В третьем — надо было заснуть и увидеть сон в храме. Ко всем известным ему оракулам отправил Крез послов, чтобы точно на сотый день после отъезда они задали вопрос, что сегодня делает царь Крез. А царь в этот день варил в медном котле черепаху и ягненка вместе.
Дельфийский оракул угадал! Именно тогда Крез и задал действительно важный вопрос: воевать ли ему с Персией? Ответ был прост и ясен: «Перейдя Галис, ты разрушишь великое царство». А река Галис была пограничной. Уверившись в успехе, Крез двинул войска через Галис — и был побежден.
Позже Крез, теперь уже всего лишь придворный Кира, сетовал: мол, подарки принимали, а обманули; и услышал, что никакого обмана не было: его собственное царство тоже было великим…
Древние историки оставили нам огромное количество свидетельств того, как предсказания сбывались. Но если бы они записывали истории и про несбывшиеся предсказания, у них ни на что другое просто времени бы не хватало. Да и сбывались чаще, как правило, предсказания туманные, вроде того, которое сделал Дельфийский оракул царю Крезу. С другой стороны, бывают и такие предсказания, которые не так-то трудно и сделать.
Вот лежит перед автором плотный том, вышедший тиражом всего 800 экземпляров, — «Ученые записки Тартуского государственного университета»; и еще одно заглавие у него есть: «Труды по знаковым системам», том 2. Есть в томе статья, где разбирается, как относился к предсказаниям древнеримский историк Светоний, автор знаменитого «Жизнеописания двенадцати Цезарей». Современный ученый замечает в статье, что для многих предсказаний, если они и в самом деле существовали, вероятность осуществления была много выше 50 процентов. Скажем, из первых двенадцати римских императоров, о которых пишет Светоний, семь были убиты, двое умерли при весьма неясных обстоятельствах. Человек, который предсказывал очередному римскому императору насильственную смерть, имел куда как много шансов угадать (а также и умереть раньше императора).
Точно так же знаток футбола, предсказывая результат матча хорошо известных ему команд, угадает наверняка более чем в 50 процентах случаев.
Человек, предсказавший в XVI веке дворянину смерть в поединке, тоже не палил в белый свет как в копеечку. Для сравнения: в ту пору Францию потрясали религиозные войны. Варфоломеевская ночь с избиением многих тысяч протестантов была в них лишь эпизодом. И что же? В годы самого разгара этих войн на полях сражений погибло меньше дворян, чем в те Же самые годы на дуэлях! Но когда сбываются предсказания, имеющие столько шансов сбыться, в этом нет ничего удивительного. Все тривиально, как любят говорить ученые любых специальностей о результатах, которых они ожидали. При огромном количестве предсказаний, делавшихся во все времена вплоть до XX века, часть их должна была сбываться просто по законам вероятности.
Почти вся эта небольшая книжка рассказывает, как настоящее вытекает из прошлого, следует из него, опирается на прошлое. Но сейчас, в последнем двадцатилетии XX, века, как никогда прежде человечество ощущает веяние будущего.
Более семидесяти процентов окружающих нас людей будут жить и в XXI столетии. Девяносто процентов всех когда-либо живших на нашей планете ученых живо сейчас, живет среди нас. Эти две фразы, словно выхваченные из фантастического романа, абсолютно верны, как показывают несложные расчеты.
Время — мера изменения мира, а изменяется он все быстрее, словно само время ускоряется. Миллионы лет продержался на земле первобытнообщинный строй, только четыре-пять тысячелетий — рабовладельческий, в десять с небольшим столетий уложилось средневековье, а капитализм, едва просуществовав два-три века, по крайней мере на части планеты оказался сменен социализмом.
История торопится. Торопится особенно сильно в последнее время. Всего лишь за последние полторы сотни лет скорость связи увеличилась — с внедрением телеграфа, а затем радио — в десятки миллионов раз! За то же время максимальная скорость транспорта с двадцати — тридцати километров в час (скорость парусника или почтовой кареты) достигла десятка с лишним километров в секунду — космические ракеты тоже ведь, кроме всего прочего, транспорт.
Энерговооруженность человечества выросла за век по крайней мере в тысячу раз. Правда, мощь оружия за тот же век, по некоторым подсчетам, увеличилась в миллионы раз…
Такому настоящему, в которое столь стремительно врывается будущее, насущно необходимо предвидеть, что конкретно ждет планету хотя бы в ближайшие десятилетия.
Ответом на это стали попытки научного моделирования будущего. Собственно говоря, научно предугадать отдельные черты науки, техники, быта грядущего люди пытались давно. Причем это делали не только авторы научно-фантастических романов. И некоторые такие попытки, сделанные, например, в конце XIX века, никак нельзя назвать неудачными. Некоторое время назад английский историк-марксист С. Лилли проанализировал, насколько верны оказались три прогноза научно-технических достижений XX века, сделанные один в 1906 году, другой — в 1915-м, третий — в 1920-м. И знаете, результат получился совсем неплохой. Примерно на 80 процентов было угадано развитие науки и техники. Еще бы, предсказывали ученые!
Но бывает, что самыми удачными пророчествами в науке оказываются те, что сделаны в шутку, в полной уверенности, что предсказанное не сбудется. Свифт, издеваясь над лапутянской академией, приписал ее членам множество открытий и изобретений вроде изготовления тканей из камня. И в большинстве случаев ядовитая насмешка обернулась точным пророчеством. А в 1862 году в английском юмористическом листке, якобы выпущенном через сто лет, в 1962 году, сообщалось (цитирую по Г. Бакланову): «Люди будут совершать увеселительные прогулки на Луну в электрических летательных машинах, грузы и почта из Европы в Китай будут доставляться в снарядах по воздуху. В России, в Сибири, будет выращиваться хлопок свободным трудом. Человечество будет любоваться движущимися фотографиями, женщины — изменять черты лица в салонах красоты, а американки будут ходить в отвратительном костюме — панталонах. Человечество сделает страшное открытие — способ горения воды, которое будет угрожать жизни на планете».
Так предсказывает юморист. Между тем немногим раньше великий фантаст Эдгар По «провидит» в куда более далеком будущем воздушные шары, несущиеся через океан со скоростью 300 километров в час…
Наверное, шутники выигрывают такое соревнование по пророчествам потому, что не ждут проверки и ведут себя более смело, или потому, что заведомо представляющееся невозможным в науке и технике как раз и оказывается часто по мере их развития наиболее реальным.
Следует помнить, однако, что всякая настоящая наука описывает и будущее — в своей области знания.
Астрофизики говорят нам о будущем Солнечной системы и Метагалактики. Кибернетики — о развитии, в частности, электронно-вычислительной техники. Экономисты рассматривают пути, по которым изменяется экономика. Советский ученый И. В. Бестужев-Лада пишет: «Пока что предсказательная функция в большинстве научных дисциплин развита слабее, чем объяснительная или описательная. Но это не подрывает принципа, согласно которому назначение каждой науки, если это действительно наука, — описывать, объяснять и предсказывать».
Подлинной «эпохой предсказаний» стали последние три с лишним десятилетия. Только для одних будущее выступает тут как бы в роли союзника, интересы которого надо учитывать, а для других — в роли врага, которого надо знать, чтобы с ним бороться.
Именно врага. Например, 3. Бжезинский, получивший особую известность как советник бывшего президента США Дж. Картера, писал: «Мой взгляд на роль Америки в мире все еще оптимистичен. Я говорю „все еще“, потому что сильно встревожен теми дилеммами, с которыми мы сталкиваемся как у себя, так и за рубежом, и особенно социальным и философским смыслом направления изменений в новые времена». Понятно, что «социальной и философский смысл направления изменений» в мире тревожит идеологов капитализма. Понятно и то, что в первые годы после второй мировой войны буржуазные «провидцы» боятся прежде всего третьей мировой войны, атомной. Угроз, которые несет в себе само «нормальное» развитие западного общества, они словно не замечают.
«Эксперты», привлеченные в послевоенные годы для решения вопроса о сроках грядущей военно-атомной катастрофы, определяли ее дату так: между 1960 и 1968 годами, с максимальной вероятностью — в 1964 году. Во многих рассказах, написанных в пятидесятых годах американскими фантастами, именно в 1964 году «разразилась» атомная война. Тем же годом обозначено действие трагического американского антивоенного фильма «На последнем берегу».
Но «холодная война» сменилась эпохой международной разрядки, самые мрачные из возможных предсказаний были опровергнуты жизнью. Как это отразилось на попытках предвидения будущего?
Западные «исследователи будущего», гордо именующие себя футурологами, дали множество прогнозов, причем самое, пожалуй, поразительное в них — несходство таких прогнозов между собой.
Одна группа футурологов, пожалуй наиболее влиятельная, предрекает, что около 2000 года человечество окажется в поистине трагическом положении: нехватка продовольствия, почти полное истощение сырьевых ресурсов, и это в перенаселенном мире, где загрязненность природной среды превысит все допустимые нормы.
Таковы прогнозы американских ученых из Массачусетского технологического института. Разработаны они по заданию так называемого Римского клуба — основанного в 1968 году в Италии международного объединения политических деятелей, видных чиновников и ученых-экспертов.
В то же время другие американские эксперты — из Гудзоновского института — предложили оптимистический вариант будущего, согласно которому миру удастся выбраться из всех ловушек и даже двадцать миллиардов людей смогут жить на нашей планете превосходным образом. Но при этом постулируется «вечное» существование капитализма, пусть и несколько «улучшенного».
Впрочем, новые прогнозы, сделанные буржуазными учеными в середине семидесятых годов, показывают, что «оптимисты» становятся более пессимистичными, а в предсказаниях пессимистов появляются радужные ноты.
Кому же верить — оптимистам или пессимистам?
Для этого надо познакомиться с их доводами. Подробно разобравший множество западных футурологических работ советский ученый Э. А. Араб-оглы убедительно показывает в своих книгах[17] несостоятельность самих принципов, с которыми буржуазные ученые подходят к будущему.
Эксперты Римского клуба видят, например, основное противоречие нашей эпохи в различиях между «миром» стран развитых — и «миром» стран развивающихся, между «богатыми» и «бедными» народами. Выход из этого противоречия для них в том, чтобы «богатые» народы добровольно поделились с «бедными» — и в то же время искусственно задержали и даже совсем прекратили развитие науки, техники, промышленности.
Но ведь это капитализм породил и порождает контрасты между бедностью и богатством. Э. Араб-оглы констатирует: «…опасность экологического и демографического кризиса исходит не от „легкомысленного расточительства“ абстрактного потребителя… а от расхищения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, вызванных анархией производства и погоней за прибылью в условиях капитализма…»
В этой маленькой книге, конечно, нельзя подробно рассказать о научно-технических прогнозах, как они того заслуживают.
Позволю себе сказать здесь еще относительно немногое. Угроза экологического кризиса отнюдь не вымышлена. Все толще становится Красная книга, на страницы которой заносят виды живых существ, исчезнувших или исчезающих с лица Земли. Жители многих десятков городов годами не видят звезд, чьи лучи не могут прорваться сквозь стоящий над этими городами слой дыма, иногда ядовитого, и выхлопных газов. К сожалению, и в нашей стране с охраной природы еще далеко не все обстоит благополучно, хотя государство делает для этого очень многое. Не стоит утешаться только тем, что у нас некому разрушать природную среду ради собственного кармана. Слишком много еще руководителей предприятий, нарушающих правила защиты природы из нерадивости, из нежелания затрачивать усилия и средства на ее охрану. Последствия такого хозяйствования бывают достаточно тяжелыми.
Но в нашей стране принят Закон об охране природы. Социалистическая система дает возможность планомерно заботиться об экологии. Вспомним: по Марксу, человечество ставит перед собой только такие задачи, которые может разрешить. Жизнь показывает, что в нашем обществе эти вопросы могут быть решены. И первые серьезные сдвиги тут уже есть. Лишь смельчак лет десять назад рискнул бы искупаться в Москве-реке напротив Лужников, и даже самый отчаянный оптимист не взмахнул бы здесь над ее водой удочкой. А сейчас купаются. Удят. Можно, значит, повернуть вспять процесс обезображивания природы.
Самым убедительным доказательством того, что это возможно, стала для меня одна публикация в «Пионерской правде». Звездолет с Земли прилетел к далекой планете, поразительно похожей на Землю — атмосферой, горами, морями, растениями, животными. Необычными оказались только некоторые насекомые (космонавты назвали их мухами): они летали со сверхзвуковой скоростью. Воздух был наполнен живыми пулями… Даже скафандры высшей защиты не спасали от них. Что надо было делать? — спрашивала газета у юных изобретателей.
Писатель-фантаст Генрих Альтов рассказывает, что редакция получила от читателей 1103 письма, в основном от учеников 5–8-х классов. 41 процент школьников предлагали истребить мух, 17 процентов советовали спрятаться от мух, 19 процентов — создать защиту от них…
А вот авторы 36 писем (3,3 процента всех читателей) утверждали, что надо отказаться от разведки планеты из-за недопустимости вторжения в чужой мир. Привели к этому, как пишет Генрих Альтов, «два хода» мысли. Первый ход: есть система («мухи»), входящая в обширную надсистему (чужой мир), и любое изменение системы может пагубно отразиться на надсистеме. Второй ход: нельзя нарушать экологическое равновесие на чужой планете, исследование невозможно, придется вернуться. Такова была логика рассуждений тридцати шести ребят из тысячи ста трех, каждого тридцатого. Много это или мало в данном случае — каждый тридцатый?
Уверен, появись эта задача в газете для детей (и не только для детей) лет двадцать назад — доля отвечающих именно так была бы несравненно меньше. Может быть, не оказалось бы даже ни одного подобного ответа. Так что каждый тридцатый сегодня — это очень много.
Мысль о необходимости охраны природы, о том, как важно экологическое равновесие, как дорого все живое, уже завоевала важное место в общественном сознании, раз 3,3 процента советских детей считают нужным оберегать живые существа на чужой планете. А ведь во скольких фантастических рассказах, особенно западных, «положительные», по оценке авторов, герои лихо пускают в ход всевозможное оружие, расправляясь с живыми созданиями природы, в том числе и разумными, причем отнюдь не только в порядке самообороны.
Бережное отношение к жизни вообще, ко всему живому еще не стало на деле всеобщим правилом, да это и невозможно, пока на земле существуют общества, состоящие из антагонистических классов. Но мораль опережает действительность, и эти тридцать шесть мальчиков и девочек говорят от имени будущего, которое они представляют в настоящем.
В последние десятилетия боль за живую природу чувствует все больше людей. Борьба против несправедливости по отношению к человеку смыкается теперь с борьбой в защиту всего живого. И пусть нами часто руководит при охране экологического равновесия эгоизм, — это, безусловно, эгоизм разумный.
Итак, человек как будто намерен добровольно отречься от захваченной его предками «царской короны», сменить в мире, которым он теперь действительно повелевает, пышный трон посреди сцены на скромное место в партере. Но эта скромность право же имеет источником отнюдь не мысль о собственной ничтожности. Нет, это результат осознания своей власти. Как говорил Саади, имеющий в кармане мускус не кричит об этом на улицах, запах мускуса говорит сам за себя. Мы так сильны, что поняли: чтобы сохранить свою силу, надо заботиться о слабых.
Однако не надо забывать: ни нашу страну, ни мир в целом даже в идеале нельзя превратить в некий заповедник, где леса и болота, пустыни и тундра только охраняются. Наука и техника, промышленность и сельское хозяйство не стоят на месте, а число людей на планете растет. Человек еще в каменном веке изменял свою среду, и, строго говоря, уже само возникновение земледелия и скотоводства было ударом по девственной природе.
Поля, сады и луга тоже ведь детище человека, и кто же будет спорить, что они природу не испортили. Задача в том, чтобы найти, так сказать, правильное сочетание интересов культуры и природы; осознание человечеством важности и сложности этой проблемы — гарантия того, что она может быть решена и будет решена. Главное в том, что в социалистическом обществе прогноз будущего становится основой планов, по которым будущее строится.
Бесчисленные грани взаимодействия человека с природой по-своему отражаются в письмах детей в «Пионерскую правду» и в физико-математических трудах по космологии, в философских сочинениях и в стихах. Конечно, все это неизмеримо сложнее прежнего: человек — царь природы, и все тут. Но разве для разумного существа простое лучше сложного, как бы мы порой ни тосковали по простоте? И будущее человечества будет тоже совсем-совсем не простым. Оно должно быть сложным и — счастливым.
Как ни важны сами по себе открытия и изобретения, но справедливо отметил Илья Ильф в своих записных книжках: когда-то думали — мол, будет радио и будет счастье. Вот радио есть, а счастья, случается, и нет.
Как ни ценны для человечества правильные прогнозы научно-технического и экологического развития, еще важнее было узнать, куда ведет людей Земли социально-экономическое развитие общества — ведь оно в конечном счете определяет решение стольких важнейших проблем.
Было время, когда будущего боялись. Большинство этнографов и историков религии дружно отмечают: верования доклассовых обществ, как правило, жизнерадостнее и оптимистичнее, по крайней мере когда речь идет о земной жизни, чем сменяющие их религии обществ классовых. В мифах родового строя картина гибели мира, чего-то вроде страшного суда, — очень редкий гость. Зато во времена рабовладения и феодализма мир с точки зрения многих мифологий и религий все ухудшается да ухудшается.
В Мексике до завоевания ее испанцами индейцы жили под страхом нового, очередного (такое, по мифам, уже имело место трижды) крушения мира. Именно для того, чтобы отсрочить его час, приносили ацтеки своему главному богу человеческие жертвы, поддерживая его силы кровью пленников. И Древний Иран ждал великого часа битвы между Агурамаздой, богом света, и Ариманом, богом тьмы. Победит в этой битве Агурамазда, но победа дорого обойдется человечеству.
Жизнерадостная Греция, властный Рим долго обходились древними, более оптимистическими мифами, но культ олимпийцев был вытеснен христианской религией, утвердившей идею не только личного бессмертия, но и страшного суда.
«Однако суд божий страшен только грешникам, — скажет верующий, — но зато потом наступит царство божье». Так оно и должно быть — по евангелию, — но каково это: принять вечное блаженство, зная, что столько других людей, пусть грешников, предано вечным мукам… Пути господни, конечно, неисповедимы, и пусть он, господь, сам успокаивает свою совесть, а человеческую совесть тут успокоить трудно, особенно как вспомнишь: что только не считается грехом по заветам религии!
И в то же время тысячи лет среди человечества сохранялась, вопреки ударам «судьбы» и мрачным предсказаниям мифов и религий, надежда на достойное будущее…
Лучше Достоевского тут не скажешь: «Золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже умирать».
Пусть философы, мыслящие логически, чаще всего сурово отвергали эту надежду, но ее выражали поэты и сказочники, а угнетенные вставали под знамя борьбы за осуществление такой надежды и такой мечты.
Утопические города и острова Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Фрэнсиса Бэкона, грандиозные планы переворота всего мирового порядка, изложенные в трудах Оуэна, Фурье, Сен-Симона… Мы знаем теперь, что все это были необоснованные мечты, преждевременные планы, которые рушились при встрече с действительностью. Но теории социалистов-утопистов можно сравнить с теориями некоторых из их современников-физиков. Те придумали теплород — переносящую тепло жидкость, перетеканием которой от огня, скажем, к чайнику объясняли, почему чайник нагревается. Теплорода не существует, но гипотеза о нем сыграла важнейшую роль в открытии реальных законов термодинамики. Утопический социализм стал одним из главных источников коммунистического учения.
Открытие марксизмом закона общественного развития позволило увидеть реальное будущее человечества. «В немногих словах заслуги Маркса и Энгельса перед рабочим классом можно выразить так: они научили рабочий класс самопознанию и самосознанию и на место мечтаний поставили науку» [18],— писал Ленин. Исторический материализм объяснил мир с тем, чтобы его можно было изменить. И подлинно пророческая сила учения Маркса — Энгельса — Ленина подтверждается самим ходом истории.
Посмотрите, сколько грандиозных предсказаний, сделанных марксизмом, уже осуществилось!
Маркс и Энгельс говорили о неизбежности пролетарских революций — и свидетелем скольких революций стал XX век! Была определена форма власти, которая должна быть установлена такой революцией, — диктатура пролетариата. Было показано, что XX век станет эпохой не только революций, но и войн, в которых примут участие все ведущие страны мира, что первая же война такого масштаба завершится мощной социальной революцией.
Маяковский констатирует:
И то, что очагом решающей пролетарской революции станет Россия, Энгельс тоже предвидел.
Ленин предрек освобождение стран Востока от тяжкого и унизительного подчинения западноевропейским империалистическим державам, скорое крушение колониальных империй (а ведь они еще лет сорок назад казались буржуазным историкам и философам, не говоря уже о политических деятелях, незыблемыми).
И кризисы, которые Маркс назвал непременным спутником капитализма, продолжают с неуклонной последовательностью потрясать капиталистическую систему.
Возможность победы социализма в одной стране — она тоже была предсказана, и история приняла это предсказание к исполнению, вопреки белым армиям, черным баронам, немецким дивизиям, британским и американским корпусам, французскому флоту у Одессы.
Возможность мирного прихода пролетариата к власти во многих странах, действительно совершившегося после второй мировой войны, тоже была предсказана Лениным за многие десятилетия.
Ленин еще в 1903 году писал:
«…Критерий практики, — т. е. ход развития всех капиталистических стран за последние десятилетия, — доказывает только объективную истину всей общественно-экономической теории Маркса вообще, а не той или иной части, формулировки и т. п… Единственный вывод из того, разделяемого марксистами, мнения, что теория Маркса есть объективная истина, состоит в следующем: идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше (никогда не исчерпывая ее); идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи» [19].
С тех пор прошло восемь десятков лет, но каждое слово здесь звучит современно.
И дело, конечно, не только в том, что марксистско-ленинская философия, метод исторического материализма опирается на знание действительно существующих, а не выдуманных законов истории. Сила марксистско-ленинской теории в том, что она стала идеологией широких народных масс — строителей нового общества. Мистические откровения «провидцев», вдохновленных «самим господом богом», последовательно опровергаются ходом истории. Предвидения, основанные на ее законах, сбываются. Только не надо ждать, что, пользуясь историческим материализмом, можно представить будущее как своего рода железнодорожное расписание: тогда-то и там-то, так-то и туда-то, во столько-то часов, с такого-то перрона, к такой-то станции, остановки по всем пунктам…
Исторический материализм открыл общее направление пути общественного прогресса, важнейшие его этапы, он определил главное — то, что в истории необходимо и неизбежно.
Но это не исключает и бесчисленного множества возможных вариантов, лежащих в одном русле истории, лишь один из которых будет реализован, а при этом возможны и временные неудачи. Карл Маркс писал: «Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо-благоприятных шансов. С другой стороны, история носила бы очень мистический характер, если бы „случайности“ не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями»[20]. Эти слова тоже ведь не только констатируют факты, знакомые Марксу по настоящему и прошлому, эти слова относятся и к будущему…
Чрезвычайно сложно наше время. Сотни народов самых разных социальных укладов живут сейчас на Земле — миллиарды людей. А ведь каждый человек — целый мир, человечество же, этот мир миров, вряд ли проще, чем Вселенная.
Астрофизика, вооруженная математикой, так и не решила в общем виде знаменитую «проблему трех тел», то есть не смогла дать формулу движения трех взаимно притягивающихся тел в мировом пространстве. Общество сложнее мира неживой природы, и можно только восхищаться тем, что Маркс, Энгельс, Ленин сумели определить генеральную траекторию, по которой настоящее идет к будущему.
Мера всех вещей (вместо заключения)
Яблони в цвету прекрасны — потому что есть кому почувствовать их красоту. Человек сумел найти красоту и в абстрактной истине, увидел красивыми математические уравнения, формулы — элегантными, теории — изящными.
Он словно поделился с миром, создавшим его, собственной силой, любовью и мечтой. С древности человека зовут мерой всех вещей — он ею останется, насколько бы добрее и нежнее мы ни научились относиться к той природе, что вне нас.
Велики и чудовищно далеки звезды, но мы уже рассчитываем траектории, по которым полетят к ним космические корабли.
В «черных дырах» видят и величайшую проблему космологии, и призрак, созданный воображением слишком премудрых теоретиков, пытаются объяснить тунгусский взрыв встречей Земли с крошечной «черной дырой» и т. п. А тем временем уже предложены способы добычи энергии из «черных дыр», — разумеется, очень маленьких. Такие проекты предусматривают, между прочим, доставку мини-«дыры» на околоземную орбиту.
Не только планета Земля, но и Вселенная становится хозяйством человечества.
Но даже овладение энергией большого мира и достижение всемогущества нельзя назвать главной задачей человечества. И создание истинно человеческих условий на Земле тоже — во всемирно-историческом масштабе — оборачивается средством для того, чтобы человек и человечество могли полностью открыть и раскрыть себя.
У Вселенной есть причины, но нет целей — люди же ставят цели перед собой. Высшая, главная цель того будущего, которое мы называем коммунистическим, истинного царства свободы, по выражению Маркса, — полное развитие человеческих физических и интеллектуальных сил, всестороннее развитие личности.
Но ведь к этой главной цели будущего мы движемся сегодня. Такое движение — одна из важнейших задач и нынешнего социалистического общества. Эта задача давно уже поставлена не в одних лишь философских теоретических трудах, она включена в практические, деловые, последовательно воплощаемые в жизнь партийные документы.
Принятое 26 апреля 1979 года постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» подчеркивает: «Постоянная забота о неуклонном повышении сознательности и активности народных масс, учил В. И. Ленин, остается, как всегда, базой и важным содержанием партийной работы». Потому что только человек думающий, разносторонний, деятельный может по-настоящему бороться за развитие общества, за его будущее.
Социалистическое государство сегодня — это государство тех, кто учится. Школы, дневные и вечерние, высшие и средние специальные учебные заведения, народные университеты, курсы повышения квалификации — образовательная система охватывает большую часть населения нашей страны. Каждый, кто хочет обогатить себя знаниями, развить свою личность, имеет эту возможность. В Отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева XXVI съезду нашей партии сказано: «Мы располагаем большими материальными и духовными возможностями для все более полного развития личности и будем наращивать их впредь» [21].
Статистика и социологические исследования констатируют постоянный рост в нашей стране образовательного уровня, расширение духовных запросов народных масс. Естественный при социализме путь к развитию индивидуальности лежит через участие в общей, коллективной работе. Участие сознательное, широкое.
«Сознательность» — слово, в которое стоит вдуматься. За этим понятием стоит осмысление человеком и общества в целом, и своего места в нем, социальной значимости собственной роли. Подлинно сознательный человек социализма — достигнутая к современному этапу вершина исторического развития личности, включившего в себя и все те великие открытия, о которых рассказывалось в предыдущих главах.
Каждое новое поколение начинает свой путь вверх с более высокой ступени, чем предыдущее. Геолог академик А. Л. Яншин замечает: «Юноши и девушки, оканчивающие сейчас школу даже со средними отметками, знают больше, чем лучший ученик моей молодости, особенно в области математики, физики и химии. Это я могу утверждать с полным основанием, потому что по названным предметам был бессилен помочь своему сыну в последние годы его школьного обучения».
Каждое новое поколение видит все больше и дальше, потому что, употребляя известное выражение Ньютона, оно стоит на плечах гигантов. Но надо помнить и о другой важнейшей стороне дела. В том же сборнике[22], откуда я взял высказывание А. Л. Яншина, напечатана и статья вице-президента Академии наук СССР П. Н. Федосеева. Ученый пишет: «Жизнь убеждает, что ни специально-научное знание само по себе, ни техническая культура сама по себе не дают ключа к решению социальных, духовно-нравственных проблем. Они приобретают гуманистическую ценность, когда пронизаны светом коммунистических идей, когда в их использовании прослеживается четкая социально-политическая направленность».
Молодежи, говорит П. Н. Федосеев, необходимо размышлять над фундаментальными основами человеческого бытия, и делать это надо, равняясь на систему социальных и нравственных идеалов и ценностей, выведенную из осмысления всего совокупного опыта человечества.
Осознавать себя полномочным представителем всего человечества в своей повседневной жизни, соотносить конкретные дела свои и окружающих с Историей, Будущим — очень важное условие для того, чтобы «быть сознательным гражданином своей Родины, своего социалистического Отечества».
В постановлении ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года говорится: «В условиях развитого социализма более чем когда-либо актуально ленинское положение о том, что государство сильно сознательностью масс, оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно».
А массы ведь состоят из отдельных людей. В открытии ими себя, в осознании каждым и всеми своей действительной общественной роли — залог силы великой страны, залог ускорения движения к коммунизму.
И к каждому из нас относится строгое определение Карла Маркса: «…мое собственное бытие есть общественная деятельность; а потому и то, что я делаю из моей особы, я делаю из себя для общества…»[23]