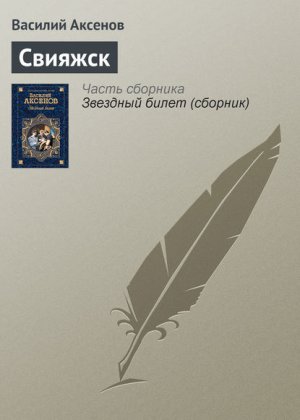
Василий Аксенов
«ВЗГЛЯД НА НАС И НА СЕБЯ…»
Писатель Василий Павлович АКСЕНОВ родился в 1932 году в Казани. В первые четверть века его работы вышли такие книги, как «Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора», «Мой дедушка — памятник», сборники рассказов «На полпути к Луне» и «Жаль, что вас не было с нами». Был и ряд заметных журнальных публикаций, среди которых упомянем повесть «Рандеву» в «Авроре», «Затоваренную бочкотару» в «Юности», «Круглые сутки нон-стоп» и «Поиск жанра» в «Новом мире».
В конце семидесятых годов Аксенов предпринял деятельное участие в выпуске «неформального» (как мы теперь назвали бы его) альманаха «Метрополь». Результатом этой акции в конце концов стал переезд Василия Аксенова за рубеж. Сейчас он живет в США, в Вашингтоне. Является профессором университета «Джордж Май-сон» по части русской литературы и творческого письма. За рубежом вышли его романы «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж», «Скажи изюм», повести «Стальная птица», «Свияжск», сборник рассказов «Право на остров», сборник пьес «Аристофаника с лягушками», книга об Америке «В поисках грустного бэби».
В начале осени прошлого года с писателем встретилась по просьбе «Авроры» нью-йоркская журналистка Наташа ШАРЫМОВА.
Запись этой беседы мы предлагаем вниманию читателя.
АКСЕНОВ. Я вас вот что хотел спросить, Наташа. Это интервью для «Авроры» — каким образом родилась его идея?
НАТАША. Когда я готовила гастрольную поездку в Союз танцевальной группы «Постмодерн-данс», я связывалась с редакциями литературно-художественных журналов, в том числе — и с «Авророй», и вот тогда-то от редакции и поступило предложение об интервью с вами. Сотрудники редакции, кроме того, просили передать вам предложение что-либо опубликовать на ее страницах, памятуя ваше сотрудничество с «Авророй» еще в семидесятые годы, до вашего отъезда в Америку.
АКСЕНОВ. У меня есть небольшая повесть «Свияжск». Она была опубликована в двадцать девятом номере «Континента», а потом ее поместил в своем нью-йоркском сборнике Игорь Ефимов, бывший ленинградец. Вот «Свияжск» я и могу предложить «Авроре». А чего они хотят от интервью?
НАТАША. Я спросила, как определить тему, — и в ответ услышала, что тема может быть любая. Я подумала, что если это интервью окажется возможным и его действительно напечатают, то это случится, вероятно, благодаря переменам, которые произошли в стране. Так вот что вы по поводу них, этих перемен, думаете?
АКСЕНОВ. Что я думаю?.. Я думаю, что по поводу этих перемен не стоит особенно думать, а надо их приветствовать. Происходит действительно нечто совершенно невероятное. Немыслимое еще в прошлом году, вчера. Все так быстро меняется. Скажем, этот Съезд, который там происходил. Можно предположить, конечно, что это — в какой-то степени управляемый эксперимент. Но с одной стороны — это эксперимент, движущийся, учитывая особенности страны, в правильном направлении. А с другой стороны — он не полностью управляем. И, честно говоря, я не ожидал, что все это именно так будет развиваться — и события, и такая бурная дискуссия, и такой накал страстей. Масса жизни — и полное отсутствие казенщины! Словом, что-то фантастическое происходит. И это нельзя не приветствовать… Другое дело, куда это может повернуться?
НАТАША. Не превратится ли это все в демагогию?
АКСЕНОВ. В демагогию это может обратиться в том случае, если все это остановят искусственно и скажут: «Ну, вот, мы уже достигли всего, чего хотели, на этом можно успокоиться. Давайте теперь наслаждаться!» Тогда все очень быстро превратится именно в демагогию, и в ход пойдет все тот же скверный человеческий материал, хорошо нам известный по так называемым годам застоя.
НАТАША. За годы застоя — и за предыдущие — в Союзе вообще очень привыкли к демагогии. Я недавно разговаривала с одним приезжим — очень милым и интеллигентным человеком, искренним и честным. И, описывая положение в стране, он говорил. «Я болею за державу». Но мне одних чувств показалось недостаточно — и я спросила: а что же вы делаете? Мне кажется, он меня не понял, даже удивился: почему я требую от него каких-то действий, когда слов и чувств вроде бы достаточно. Двоемыслие приучило, кажется, к тому, что слова и реальность категорически не совпадают…
АКСЕНОВ. Разумеется, это у большинства стало второй натурой. Тем поразительнее было слышать речи некоторых депутатов. Скажем, выступление бывшего штангиста, а ныне писателя Юрия Власова меня просто поразило. Он затронул все болезненные ноты. Тут уж трудно даже подозревать какую-то дурную игру. Важны интонации людей, какая-то появившаяся страсть. Совершенно замечательно, что литовцы и эстонцы ратуют за справедливость в Грузии. Понимаете — это явление солидарности. Во всем этом — какие-то сильнейшие эмоциональные сдвиги. И так — во всем мире. Во всем социалистическом лагере происходят какие-то немыслимые перемены — совершенно невероятные и неожиданные. Можно было ожидать всего. Можно было, скажем, предсказать развал экономики или, наоборот, укрепление экономики, немыслимую силу экономики или полную ее катастрофу. Можно было ожидать военных успехов или военных поражений. Но вот такого движения духовного сопротивления — из разряда той самой духовной революции, о которой говорил когда-то граф Лев Николаевич Толстой, — этого никто не ожидал.
НАТАША. Теперь — немного о ваших американских впечатлениях последнего времени. Скажите, насколько изменились вы за годы американской жизни и какую роль сыграла в этих изменениях Америка (будем надеяться, что читателей «Авроры» заинтересуют эти обстоятельства, коль скоро их вообще интересует беседа с вами)?
АКСЕНОВ. Америка не могла не повлиять на произошедшие во мне изменения. Это — моя среда, среда моего обитания. Я здесь живу. Это — мой дом.
НАТАША. Полагаю, одной из важнейших черт американцев является их умение уважать чужую точку зрения. Даже если вы расходитесь с кем-то во взглядах — это не делает вас врагами: у вас просто разные мнения по данному вопросу.
АКСЕНОВ. Да, это так. Я здесь как-то уже отвык от заверений в серьезности спора с оппонентом, который хватает тебя за грудки и, дыша трехдневным перегаром, требует от тебя дискуссии в стиле Дома литераторов. Здесь, у американцев, я научился определенного рода сдержанности. Это присутствовало у меня и ранее — стремление не вспыхивать, обдумывать свои поступки, — но здесь это качество развилось.
Еще я здесь научился улыбаться, хотя бы формально, растягивая углы рта. А это уже совсем неплохо. Америка этому учит. Советские критики обычно говорят, что это — страна формальных улыбок. Но моя мама, когда она оказалась в Париже и услышала, как ей говорили: «Ну, французы — они только формально улыбаются», — ответила: «Лучше формальная улыбка, чем искреннее хамство».
Я думаю, есть и еще какие-то изменения. Прежде всего они касаются преодоления языкового барьера. Это — колоссально! Сразу открывается огромная сфера, которая раньше была закрыта.
НАТАША. Теперь, вероятно, будет просто скучно говорить только на одном языке?
АКСЕНОВ. Да просто как-то уже и невозможно. И теперь невольно даже засоряешь свою речь, потому что один язык находит на другой, одни понятия — на другие… Сейчас я жалею, что так поздно начал изучать французский язык. Стараюсь каждый день хотя бы по десяти минут слушать французскую речь на магнитофоне. Я знаю: французский мне нужен. Здесь у меня сильнее проявилось ощущение причастности к человечеству. Я здесь почувствовал себя членом человечества. Почувствовал себя ближе к черным или к желтым. Китайцев я научился уважать именно в Америке. И не только потому, что они вкусно готовят. А потому, что они живут рядом. Они замечательно трудятся, работают. И черных я теперь ощущаю не просто стереотипно, как каких-то там угнетенных, а по-разному и по-человечески. Это вот ощущение Америки как этноса расширило мои представления, расширило мой мир. Это не значит, что ты отрываешься от своей родины. Хотя я и довольно сильно оторвался от сегодняшнего дня России, но ничуть не оторвался от ее культуры, даже стал ближе к ней.
НАТАША. Скажите, считаете ли вы, что сейчас хорошо знаете Америку? Ведь многие писатели, художники живут здесь в своеобразном гетто. Я имею в виду не только эмигрантскую среду, а общение, скажем, исключительно с университетской профессурой славянских кафедр, со студентами русских кафедр и вообще — общение исключительно с академическим миром. Это же совсем особая публика. Тончайшая прослойка, которая, мягко говоря, не заметна в американской общественной, культурной или коммерческой жизни. Профессора и студенты русских отделений — это какие-то нетипичные чудаки, которые прочли когда-то в школе Достоевского или встретили на своем юном жизненном пути русского (русскую), влюбились в Россию. Другие стали заниматься русским языком потому, что это было модно, соответствовало конъюнктуре дня. Словом, университетский мир — это так или иначе мир рафинированный, к реалиям американской жизни имеющий весьма отдаленное отношение…
АКСЕНОВ. Я не могу сказать, что знаю очень хорошо все пласты американской жизни. Это невозможно. Самые близкие мне американские слои — это, конечно, именно академическая среда. Не литературная. Я даже не знаю, существует ли здесь такое явление, как литературная жизнь…
НАТАША. Существует, существует…
АКСЕНОВ. Во всяком случае я в ней корней не пустил, якоря не бросил. Самый мой основательный якорь на американской земле — это академическая жизнь. Это не значит, конечно, что я там общаюсь только с русистами. Я сейчас вхожу в специальную группу профессоров нашего университета, созданную для возрождения истинного значения университетского образования. В ней пока полтора десятка человек, будет — двадцать. Представители самых разных специальностей: тут и биолог, и этнограф, и политолог, и физик, и так далее. Это — самая близкая мне среда и наиболее близкие мне люди. Что касается других сфер, я с ними, в общем-то, не соприкасаюсь.
У меня много знакомых журналистов, писателей, киношников, которых я знаю и люблю. Я сейчас работаю для телевидения, немножко начинаю работать для Голливуда. Из американской интеллигенции наиболее близкие мне люди — это журналисты-международники. Не обязательно даже побывавшие в России, но — именно международники. Они, во-первых, — профессионалы высшего класса, очень высокой квалификации. А во-вторых, все они — люди очень широкого кругозора. Такие космополитические американцы. В каждом из них есть хемингуэевская закваска. С этими людьми я всегда быстро находил общий язык.
А что касается американских писателей, с ними тесной дружбы не получилось. Да я к этому и не стремлюсь. Никто, наверное, не стремится…
НАТАША. Что вы думаете о положении писателя в современном американском обществе? Каков писатель в Союзе, мы достаточно хорошо представляем. А вот здесь — какова ваша точка зрения изнутри?
АКСЕНОВ. В Америке писатель — это автор книг, которые периодически появляются в продаже. И — все.
НАТАША. Не думаете ли вы, что во всем мире что-то изменилось — и место литературы стало другим? Такое ведь бывало.
АКСЕНОВ. Я думаю, изменилось — и еще будет меняться. И в Америке перед писателем стоит очень большая угроза выродиться в какого-то своего рода поднаторелого, квалифицированного, искусного сценариста развлечений — разного типа развлечений, иногда весьма серьезных, но именно развлечений. Как это ни парадоксально, в самой капиталистической стране происходит колоссальная социализация литературы. Литература в Советском Союзе, в России, оказалась наименее подверженной тоталитарным явлениям, то есть оказалась наиболее стойким, сопротивляющимся материалом, потому что литература — это индивидуальное дело. Не только потому, что в литературе были храбрые люди — их было немного, — а потому, что литература это именно индивидуальное дело.
Самое интересное в литературе, по-моему, сейчас то, что происходит с писателями Восточной Европы — югославами, сербами, чехами. А американская литература, боюсь, может выродиться в чисто писательский бизнес. Все здесь как-то слишком спокойно.
НАТАША. И последнее, о чем хочу спросить вас: считаете ли вы, что с вами произошли тут какие-либо сугубо психологические перемены?
АКСЕНОВ. Я бы сказал, что у меня появилось некое чувство разочарования. Я не могу даже сказать сразу — в чем именно разочарование. Может быть, уже просто — возраст разочарований. Мне кажется, что я отчасти разочаровался в товариществе, в ощущении принадлежности к некоей плеяде. То, что было раньше — невозвратимо. Ощущение причастности к плеяде — да и сама эта плеяда — все это невозвратимо. Это твое прошлое — и все. И все это — размыто…
Это интервью было взято летом прошлого года, а осенью Василий Аксенов после долгого перерыва побывал на родине: посетил Москву и Казань, где повидался с отцом; имел в столице несколько встреч с поклонниками его таланта; вычитал и подписал интервью и повесть в верстке первого номера «Авроры».
СВИЯЖСК
Семья наша никогда не страдала от переизбытка родственников. Революция, войны и чистки повыбили немало, да и многодетностью мы, Шатковские, никогда не отличались. Ходили, правда, слухи о каком-то колене, отделившемся от основного древа в отдаленные времена, чуть ли не в период Столыпинских реформ, и подавшемся на Дальний Восток в какой-то полумифический шахтерский край. Якобы пустило там это колено многочисленные корешки в девонский слой, расцвело и зашумело ветвями на долгие десятилетия и шумит будто бы и по сей день.
Связи, однако, с этими дальневосточниками не было никакой, и на чем стояла эта легенда, понять невозможно. Может быть, просто, увы, принималось желаемое за действительность. Всегда в хиреющем нашем клане при разговорах о дальневосточниках как бы присутствовала одна невысказанная мысль — мол, если даже мы все засохнем, то уж они — никогда. Впрочем, год за годом, десятилетие за десятилетием, но даже и пышный этот миф стал худеть, и в последнее время за редкими семейными застольями (чаще всего тезоименитства деда Виталия) упоминание о дальневосточниках стало уже считаться чем-то вроде дурного тона. К тому же и дед Виталий уже несколько лет как отправился в вечную командировку, а стало быть, и застолья прекратились, и все очень быстро зацементировалось.
Я ловлю себя за руку на перекрестке двух пустынных московских улиц под беспощадным праздничным небом — стой, одинокое пустое существо, оглянись в отчаянии! Пятьдесят лет, ветхая дубленочка, дурацкая профессия тренера по баскетболу, вегетативная дистония… порог старости, утекающие силы…
В молодости и даже позже, в победительные мужские годы, помышляя с улыбкой о старости, я всегда почему-то представлял себе крепкий деревянный дом, двухэтажный, с мансардой, вроде родового имения (откуда?), полный жизни, кишащий детьми, животными, полный музыки и щебетания, и я в нем — глава, некий чудаковатый румяный старик в свитере и отличных сапогах, надо мной слегка посмеиваются, но, конечно же, почитают и обожают. Источник этой коннектикутской идиллии совершенно неясен, скорее всего фильм какой-нибудь.
Разводы, первый, второй и, наконец, третий, вконец измучили меня. Где-то раскиданы по Москве ненавидящие меня женщины, среди них взрослая дочь. Бесконечные разделы жилплощади и связанные с этим обмены привели меня в конце концов в однокомнатную квартиру, в гигантский, длиной в полкилометра дом о двадцати этажах без особых примет.
В тот вечер закатный свет разделил наш дом на два равнобедренных треугольника. Я поднялся на верхнюю ступеньку подземного перехода, ведущего из метро к микрорайону, и меня вдруг всего свело от безысходной тоски… Что это за мир, если в нем не осталось ни одного потаенного милого звука, ни одной исторической, то есть одушевленной формы?
Морозное небо с дымами теплоцентрали и отдаленной химии, гигантское по фасаду словосочетание «Выше знамя пролетарского интернационализма!»
Все прошло, ничего не осталось… Со мной ли случилась прошедшая жизнь? В ужасе, будто хватая воздух ртом, боясь задохнуться в любую минуту или размазаться в крике по кафельной стене подземного перехода, я стал беспорядочно перебрасывать черные нечитаемые страницы… нечитаемая книга, темная… пока вдруг, как спасение (надолго ли?), не мелькнул краешек света: пионерский лагерь «Пустые Кваши» над Свиягой, лежу после футбола в траве, гляжу на ранние звезды над бором, думаю почему-то о фантастической Венеции, чувствую бесконечное благо, бесконечное чье-то присутствие, ликование предстоящей жизни…
Что же получилось? Что же открыло мне мое высшее натуралистическое физиологическое образование? Даже тайны клетки не открыло, такой малости. Вот так и сдохну здесь в подземном переходе от удушающей тоски, ничтожный и одинокий, потративший свою жизнь на престраннейшие занятия с мячом. Внезапно, как и явились, пропали Пустые Кваши, серое облако с немым ревом окутывало меня, и я не мог ни двинуться, ни остаться на одном месте, никому не пожелаю испытать такое состояние, когда не можешь ни двинуться, ни остаться на месте.
Вдруг оказался в людском потоке один добрый молодой человек. Очевидный провинциал, длинные волосы, спускающиеся из-под меховой шапки, делали его похожим на семинариста. Что с вами, спросил он, вам как-то не по себе? Вот странный юноша. У нас ведь здесь и через упавшего переступают, а я просто стоял. Просто, очевидно, меня вегетативная дистония сжала или, по выражению Льва Николаевича, «арзамасская» охватила тоска.
Светло-серые глаза внимательны и неформальны. Я улыбнулся через силу и сделал жест ладошкой — ничего, мол, полный хоккей. Он улыбнулся, на секунду притронулся к моему плечу рукой в вязаной белой перчатке и пошел прочь, но обернулся все-таки метров через пять, и вот, странное дело, такая малость — этот вопрос, прикосновение к плечу, улыбка и совсем уже внепрограммный поворот головы будто бы оживили меня, подействовали словно какая-то могучая инъекция.
Есть люди, способные передавать свою прану другим. Приятель, увлекающийся Востоком и эзотерическими теориями, давал мне недавно некий манускрипт, размноженный на ксероксе. По сути дела как раз такими людьми были святые, говорил манускрипт. Все чудеса Христа не метафора, а реальность, ибо Ему свойственен был высший дар передачи праны. Человек же, на ходящийся в особом болезненном состоянии, ну, скажем, охваченный вегетативной дистонией, воспринимает прану гораздо активнее прочих, ему иногда и простой улыбки-то пробегающего мимо гражданина бывает достаточно, чтобы на время спастись.
Я вышел из подземного перехода, не без некоторой даже бодрости думая о том утешительном, что почерпнул из полузапретного манускрипта. Запасы праны в мире неисчерпаемы. Учитесь передавать прану, усвойте, что, передавая прану другим, вы не тратите, а наоборот увеличиваете ваш собственный запас.
Раньше, когда подобных манускриптов в Москве и в помине не было и когда я просто-напросто был моложе на десять лет, я, кажется, очень неплохо умел передавать свою прану другим. Во всяком случае, я умел передавать ее команде. Такое иногда случалось в напряженнейшие моменты матчей. Я брал тайм-аут, ребята окружали меня и… возникало какое-то особое состояние, я как будто вздымался до высоты своих гигантов. Я говорил обычное: «держи его плотнее», «пробуй свои броски», «проходи по центру», и ребята кивали, но смысл этих наставлений в такие моменты им был не нужен. Все тогда говорили: «у Шатка вдохновение», а вот сейчас я понимаю, что излучал могучие волны праны. Ребята заряжались в этих волнах. В такие моменты я всегда понимал, что мы выиграли.
Теперь от меня не прана исходит, а муть и тоска, похожая на застойные ссаки. Теперь моя команда выигрывает только у тех, кто заведомо слабее, да и то по инерции. Уже несколько сезонов мы проигрываем «Танкам» без всякой борьбы, а раньше хоть и проигрывали этой военной машине, но всегда дерзко, наступательно, а то и выигрывали иногда.
Конечно, я знаю эту странную игру, ставшую моей жизнью, так, как мало кто ее еще знает, опыт у меня огромный, и в федерации меня ценят, но в напряженные моменты матчей ребята больше не окружают меня горячим плотным кольцом, а стоят расслабленные, словно усталые жеребцы, и вяло кивают. Иссякло мое вдохновение — и все цементируется.
В этом манускрипте цитируется индийский йог Свами Кришнадевананда, гласящий, что всякий должен ощущать постоянное присутствие Всемогущего, с которым соединяет тебя твоя бес-смертная душа, физическое же тело есть храм Бога, астральное же тело — это человеческая суть, малый залив в безбрежном океане мировой энергии, которая пульсирует вместе с тобой, вместе с каждым под метроном данного нам свыше священного слова Ом.
Десять или пятнадцать лет назад, в разгаре побед, если бы я услышал слова этого йога, я бы только усмехнулся, а скорее всего я бы их просто не услышал.
Сейчас мне кажется, что я уже ощущал этот священный метроном, там, у кромки бора в Пустых Квашах, когда лежал на спине в травах. Рядом на стебельке покачивалась очаровательная зеленая пушистая гусеница, в отдалении летела к Свияге очаровательная чайка, ветер прошел по папоротникам, конечно же очаровательным, и не коснулся очаровательных анютиных глаз, темнело минута за минутой, и звезды промывались под невидимыми, но безусловными накатами какого-то очарования, и каждое движение этой волны полностью соответствовало тому, что происходило тогда во мне, поистине я ощущал себя малым заливом гигантского океана и радовался этой причастности.
Конечно, я ничего не мог тогда знать о Боге (только и сохранилась из самого уже раннего детства мимолетная картинка — няня на коленях перед иконой, которую она обычно прятала в своем сундуке), религия была темой официальных острот, культурно-массового затейничества…
И вот сейчас я, атеист, член партии, член президиума Всесоюзной федерации баскетбола, все время возвращаюсь к тем счастливым дням и думаю: Бог ли тогда прикасался ко мне или просто молодое тело радовалось совершенству своих обменных процессов?
Кончай, говорит мне Яша Валевич, человек, выполняющий в моей жизни роль лучшего друга, в чьей жизни и я под той же графой, в скобках. Ты бы о боженьке-то, Олег, поменьше бы распространялся, не к лицу это тебе, засмеют, а то и говном закидают. Вот именно обмен тогда у тебя был в порядке, а сейчас вегетативка шалит, мужской климакс, транквилизаторы надо пить, холодной водой обтираться. Перекатишься через физиологический рубеж и будешь спокойнее. Так он говорит с нарочито неправильным ударением, и я соглашаюсь, перевод всего этого дела в житейский аспект и впрямь успокаивает меня. Должно быть, в соображениях Валевича есть некая часть правды, думаю я. Киваю Якову, а сам начинаю думать о своей няне Евфимии Пузыревой, о ее ночных молитвах. В последнее время она мне часто стала вспоминаться, из пучин забытой жизни все чаще стало выплывать ее лицо. Я ни с кем этими воспоминаниями не делюсь, да и с кем мне, собственно говоря, делиться, кроме Валевича, а ему смешно рассказывать о няниных молитвах.
Старухе тогда, должно быть, было столько же лет, сколько мне сейчас, хотя она давно уже считалась старухой, а я вот до сих пор еще в кавалерах. Вот ее-то, должно быть, и в самом деле мучил климакс, разладилась вегетативная система, терзали страхи, навязчивые мучения, эдакая глухомань жизни. Просыпаясь иногда по ночам, я слышал, как она ворочается в темноте и бормочет: «Пресвятая Богородица Царица Небесная, спаси и помилуй». Этот шепот наполнял меня уютом и лаской, я вновь уходил в свой счастливый сон, обещавший новый счастливый день. Вот сейчас-то я понимаю, как туго тогда было моей несчастной няне, засыхающей без цветения девушке.
Однажды посреди ночи я увидел ее на коленях. На полу лежал квадрат лунного света, и в этом квадрате стояла Евфимия на коленях в своей серой деревенской самотканой рубахе, на затылке куцая косичка. Она била поклоны перед иконой, которую обычно прятала в своем сундуке. Однажды я заглянул в сундук и спросил няню, что там такое. Образ, строго сказала она, поджала губы и прикрыла сундук. Сейчас она шептала горячим любовным шепотом: «Господи Иисусе, спаси и помилуй дитятю малую сию, родителей ея и рабу грешную Твою! Глянь с небес на нас, усталых, и дай нам силы! Оборони нас от лукавого и обогрей! Слава Тебе, Господи, и ныне, и присно, и во веки веков!..»
Она опустила лицо в ладони и плечи ее затряслись от рыданий, а потом, когда она обернулась, я увидел на ее лице удивительную молодую радость, она словно помолодела на двадцать лет, как будто снова стала вятской девчонкой, приехавшей в большой город за своим скромным счастьем. Она склонилась к «дитяте» своей, чтобы поцеловать, и «дитятя» тут же прикрыл глаза, прикинулся спящим. Мне кажется, что и тогда, в неполные четыре, я понимал, что происходит некое таинство и нельзя его нарушать, а может быть, тогда я понимал это лучше, чем когда-либо.
Как соотнести с Богом баскетбольное первенство страны, бесконечные разъезды, административные дела, тренировки, совещания, турнирные сетки? Можно ли придумать более далекую от веры профессию, чем советский баскетбольный тренер? Всю жизнь религия казалась мне абсурдом, вернее, я просто о ней почти никогда не думал, а вот сейчас дело моей жизни, баскетбол, кажется мне престраннейшим и нелепейшим вздором. Все чаще я вспоминаю нянино заплаканное лицо в комнате, наполненной лунным светом, и думаю: может ли вызвать такое мощное чувство то, чего, по заверениям нашего марксистского убожества, не существует. И все чаще и чаще после этого всплывает у меня в памяти сказочный силуэт Свияжска.
В послевоенный убогий год мы как-то отправились туда за кирпичом для каких-то пионерлагерных построек. У нас был большой баркас, и мы, старшие пионеры, сидели на веслах. Иначе, как на лодках, в Свияжск было не добраться. Городок помещался на острове в устье Свияги, с одной стороны его омывала свияжская тихая, илистая, несущая цветение мордовских лесов вода, с другой — крутая волна Волги-матушки, в те времена еще столь же крутая, сколь и прозрачная, чистая, без нефтяных пятен и мазутных колобашек.
Издали казалось, что подгребаешь ко граду Китежу. Многочисленные маковки церквей и колокольные башни создавали устремленный вверх средневековый силуэт. Высадившись, однако, мы увидели, что купола сквозят прорехами, колокольни полуразрушены, кресты погнуты и поломаны, а город вымер: остатки булыжной мостовой заросли высоченным чертополохом, безмолвны покосившиеся дома с выбитыми стеклами и пустые дворы, ни кошек, ни собак, ни домашней птицы. Как будто тут чума прошла…
Пионерам стало не по себе посреди безысходной этой юдоли, все примолкли. Затих и начальник нашего лагеря, однорукий инвалид войны Прахаренко, обычно сыпавший солдафонским советским юмором типа «я вас научу родину любить», или «дадим стране угля, мелкого, но много», или «на чужой жопе в коммунизм никто не проедет»… и так далее.
Вскоре, разумеется, пионерская фантазия стала оживать, в подвалах уже мнились детям склады оружия, может быть, даже времен покорения Казани, в торговых рядах можно было вообразить какие-нибудь там засады «беляков». Ожил и начальник, начал похрюкивать, гудеть большущим своим носопырой в адрес физрука Лидии. Последняя одна, кажется, не поддалась никаким влияниям заброшенного града, а только лишь сбросила быстренько юбку и кофту, чтобы и здесь не упустить солнца, ибо она была фанатиком загара, ловила каждый луч, да, собственно говоря, ради загара и в пионерлагерь-то приехала, чтобы осенью, трижды ха-ха, поразить весь факультет.
Вдруг до нас донеслись некоторые звуки, увы, не щелканье затворов, не звон шпаг, а самые обыкновенные детские голоса, какое-то хоровое пение, игра на аккордеоне… Мы явно приближались к какому-то детскому учреждению. В загадочной глухомани, оказывается, тоже размещались какие-то задрипанные пионерчики, вроде нас самих.
Детское учреждение, однако, оказалось не совсем обычным — Свияжский детский дом слепых. Мы приблизились к единственному на острове заселенному дому — длинное двухэтажное строение с обвалившейся штукатуркой, чугунные перила крыльца погнуты, будто их пытался вязать в узлы какой-нибудь сверхмощный орангутанг, но из окон, однако, пахнет прогорклой пшенной кашей, и мелькают внутри под закопченными сводами ребята в одинаковых бумазейных пилотках.
Вышел директор детского дома, тоже инвалид войны, руки, впрочем, целы, но нога на протезе. Оба начальника присели на крыльце, закурили, заговорили по-свойски — где воевал, кого знал, — они очень хорошо, по-товарищески смотрели друг на друга, и я впервые почувствовал симпатию к нашему Прахарю с его вечной словесной жвачкой во рту, впервые подумал, каково ему без руки, пусть жлоб, пусть солдафонище, но ведь наверняка не без ужаса иной раз посматривает на культю.
Поговорив о войне, начальники перешли на нынешние профессиональные темы как руководители близлежащих детских учреждений. «Да как же вы тут проживаете, островитяне! — удивлялся наш начальник. — Ну летом еще туда-сюда, но зимой-то?» — «Зимой как раз сподручнее в смысле снабжения, — возразил их начальник, — саночки есть, лошаденка, а то иной раз и грузовичок из Зеленого Дола по льду пропилит, а вот летом баркас достать почти без возможности». — «Кадры, небось, у тебя текучие?» — не без важности задал вопрос наш начальник. Он бросал по сторонам вороватые взгляды, выискивая Лидию, а потом, обнаружив ее совсем неподалеку, непонятным образом исказил свою мало привлекательную пасть.
Физручка между тем, не обращая ни на кого внимания, загорала, прислонившись к стене заброшенной церкви. Лицо с закрытыми глазами поднято к солнцу. Спортивные ноги и руки слегка подвывернуты, чтобы загорали не только наружные, но и внутренние поверхности.
«Кадры? — Начальник слепых был этим вопросом почему-то слегка смущен. — Нет, браток, кадры тут у меня стабильные, техническим персоналом полностью укомплектован». — «Да чем же ты их держишь в здешней-то разрухе?» — удивился наш начальник.
Начальник слепых замялся с ответом, но тут вдруг поблизости брякнуло железом по железу, некое подобие звона. Из детского дома, на ходу вытирая руки и поправляя платок, шустро выскочила старушка-оборвашка, просеменила через улицу и потянула скрипучие церковные двери. Удивительно — полуразрушенная церквушка, на которую опиралась наша солнцепоклонница, оказалась внутри живой: там теплились свечи, поблескивала тусклая позолота алтаря; донеслись старушечьи голоса, выводящие нечто загадочное для пионерских ушей «…и ныне… и присно… и во-о-о ве-ки-и…», запахло изнутри чем-то вроде канифоли…
«Вот этим и держим здешние кадры, — смущенно сказал одноногий начальник. — Одна церквуха осталась да попик еле живой, почитай, на сто километров в округе. Наука повсюду восторжествовала, это известно. Здесь раньше-то, в Свияжске, три собора было, два монастыря, малых церквей до десятка, торговля шла немалая перевалом на мари и мордву, русский капитализм проводил колониальную политику. Сейчас, конечно, ничего нету, потому что не нужен народу этот остров. Пока еще мы вот здесь слепых учим, а как переведут нас в Зеленый Дол, совсем здесь все илом затянет. Без надобности. Однако пока что здесь живем, а монашки остаточные у нас в техничках числятся. Между прочим, показатели по санитарии и гигиене у нас первые в районе».
Засим начальник слепых пригласил нашего Прахаренко внутрь удостовериться. Вскоре из окон первого этажа донеслись до нас бульканье влаги и громкие голоса обоих начальников. Наш пригласил слепых музыкантов к нам в Пустые Кваши на Большой костер по случаю Праздника Флота. На рейде большом легла тишина, и море окутал туман…
Пионеры, сообразив, что до кирпичей теперь дело дойдет не скоро, разбрелись по городку, разумеется, в поисках кладов. Мы с Яшкой прошли тихонько в церковь и встали в тени у стены, на которой смутно обрисовывался абрис продолговатого лица с большими коричневато-золотистыми глазами. Шапку сыми, сынок, шепнула старушка-мышка Валевичу, и тот торопливо стянул свою пилотку.
Здесь было не более дюжины свияжских монашек, «техничек», как их называл начальник, то есть нянечек, и один старенький, сухой и слабый батюшка. Они пели все вместе «Господу помолимся, Господу помолимся, Господу помолимся… во имя Отца, Сына и Святого Духа…», и удивительным покоем освещены были их лица… полный покой, ни тени тревоги, а ведь нам они казались беженцами, изгнанниками, тайно творящими подозрительный какой-то ритуал.
«Мир всем вам», — тоненьким голоском возгласил священник, подняв кадило. И мне вдруг показалось, что это и меня касается, что это и на мою долю ниспосылается мир, и в душе у меня, то есть где-то внутри, то есть просто не знаю где, шевельнулось нечто похожее на восторг или, скажем, на короткий всхлип восторга, и в этот миг я, загорелый мускулистый пионер и начинающий баскетболист, вдруг ощутил свою общность, может быть, и полное единство с замшелыми свияжскими старушками, общую детскую благодать под какой-то могущественной дланью.
Кажется, и Яшка испытал что-то необычное, мы потом никогда с ним впечатлениями о свияжской церквухе не делились и даже не упоминали ее никогда, а это безусловно тоже о чем-то говорит.
Впрочем, должен признаться, что мы очень скоро забыли этот короткий восторг непонятного свойства. Выйдя из церкви, мы обнаружили пропажу нашей физручки, а ведь она была у нас под постоянным секретным наблюдением. Мы помчались сквозь лопухи мимо покосившихся избенок и монастырских оград с проломами, за которыми угадывалась юдоль еще более тоскливая, чем на этих бывших улицах бывшего городка. Мы мчались…
Сейчас, когда я пытаюсь вспоминать этот день, клонящийся к вечеру, я вдруг осознаю, что не помню почти ничего. Как далеко это все ушло, как глубоко утонуло! Как мало остается от прошедшей жизни, сущая ерунда. Как говорят обычно — детали, детали… Почти все детали забыты. Что уж говорить о мимолетностях, о каких-то божественных, мгновенно опаляющих и улетающих ощущениях, о так называемых порывах. Чувство, посетившее меня, мальчика, тогда в свияжской церкви, неповторимо и невспоминаемо.
Когда ты изрекаешь некую мысль, вроде мной самим недавно изреченной, ну что-нибудь вроде «если этого, вернее, этого, не существует, то как оно, да-да оно, может вызывать столь сильные чувства, свидетелем которых ты являлся не раз в своей жизни», это значит, что ты вроде бы философствуешь, что мысль твоя, словно какой-нибудь фотонный корабль, уходит в пучины космоса и вдруг превращается в нечто большее, чем мысль, и тебе уже кажется, ты что-то поймал, но… смыкаются воды космоса, все исчезает, и вслед за подобием прозрения банально, как радиоволны, начинают распространяться здравые научные мысли о сублимациях, рефлексиях, гормональных стрессах, гипнотерапии…
Да и как могу я уверовать, некрещеная советская скотинка? Вот носят сейчас люди по Москве различные религиозные и эзотерические манускрипты, у многих крестики на шее, некоторые даже крестятся на купола. Я смотрю на таких людей с ознобом неловкости: уж не новый ли своего рода атеизм против нашей официальной марксистско-ленинской религии утверждают эти модники-неофиты? У меня, например, никогда рука не поднимется для крестного знамения. Вот ведь как вывернуты наши мозги, проклятье, если за собой я не признаю права на веру, то почему другим-то в нем отказываю? Что ж, если вера — удел лишь немощи и болезни, может быть, у всех этого хватает, каждый страждет так или иначе, каждый ищет в каких-то своих глубинах какой-то свой маленький полуразрушенный Свияжск.
Дался мне этот Свияжск! Признаться, я почти ничего не помню о нем: ни расположения домов, ни рисунка решеток, ни числа людей, ни их лиц, за исключением, пожалуй, лишь начальника Прахаренко с его здоровенным шнобелем да плакатной физкультурной физиономии нашей поднадзорной Лидии. Пожалуй, можно еще вспомнить высокую траву вперемешку с пучками камыша меж песчаных отмелей волжской стороны острова и загорелые ноги физручки, поднятые выше травы. В конце концов мы выследили ее и нашего начальника, спрятались за дюнкой и стали свидетелями удивительного акта, просто-напросто озарившего все это наше пионерское лето. Вот это все запомнилось замечательно, начиная с ее деловито-насмешливого «ну-ка, дайте, я сама», все звуки, хрипы нашего однорукого начальника, тоненькое повизгиванье физручки и, наконец, совместный восторженный вопль.
Когда баркас наш отваливал от острова, все кресты заброшенного града ярко пылали под закатным солнцем. Мы везли какой-то там кирпич, ерундовое количество, не стоило и ездить из-за такой ерунды, но на гнилых досках пристани нас провожали директор Дома слепых и несколько техничек, то есть монашек, и несколько слепых подростков с чистыми лицами и пионерскими галстуками на шеях, совет отряда, один из них играл на аккордеоне мелодию «На позицию девушка провожала бойца», и ради такой новой дружбы, конечно, можно было проплыть гораздо большее расстояние.
В темноте на другом берегу, пока шли от берега к лагерю через лес, мы с Валевичем слышали, как физручка строго выговаривала начальнику: «Наша физическая близость ни о чем не говорит. У меня совсем другой круг знакомых. Это университет и спортобщество. Вы к нему принадлежать не можете. Надеюсь, это понятно? Прошу не компроментировать меня». Только сейчас, в сумерках, она, расставшись с солнцем, надела белую юбку и майку с эмблемой «Буревестника», и сейчас вся белая, с выгоревшей гривой и поблескивающими зубами и белками глаз у подножия высокого темного леса казалась каким-то волшебным негативом. «Обожди, Лида», — хрипло сказал наш перепившийся, перекурившийся и усталый начальник. «Не обожду! — оборвала она его. — Если хотите сохранить, ха-ха, отношения, держитесь в рамках!»
Какие удивительные отношения — женщина преобладала над мужчиной! Светящаяся в ранних сумерках фигура… Сколько раз в течение жизни мы с Яшей вспоминали эту физручку, навсегда пропавшую из нашей жизни, растворившуюся в осенних дождях послевоенного года. Все, что связано с ней, запечатлелось ярко: высокие сухие травы и блики воды, высокий темный бор, высокий берег Волги, кусты ежевики, покосившиеся домики Свияжска… и далее — горящие на закатном солнце кресты… и далее — пение старух в дряхлом храме, и далее… Свияжск… При этом звуке всякий раз что-то чему-то противоборствует в душе и что-то с чем-то таинственно соединяется.
Впрочем, признайся, сколько раз за всю жизнь ты вспоминал этот городишко, вернее, свалку в устье илистой реки — пять раз, не более того, все поглощено было суетой вокруг странного круглого кожаного предмета, внутри которого воздух.
Он и в самом деле всякий раз поднимается из темных глубин, словно град Китеж. Лет десять назад команда ездила в турне по Волге. Это было развлечением для моих жеребцов. Они легко обыгрывали местные клубы, кадрили местных спортсменок и даже, кажется, слегка выпивали тайком от меня. Нам предстояла трудная поездка по Европе, и я тогда решил всех обхитрить, вместо нудного тренировочного сбора устроил ребятам развлекательную поездку по Волге. В Казани хозяева повели нас как-то купаться на какой-то волжский островок. Волга сейчас стала немыслимо широкой по сравнению с рекой моего детства. Благодаря плотинам она разлилась вширь на многие километры, образовав в устье Свияги многочисленные рукава, бухты и островки. Мы лежали на палубе катера и пили пиво, когда за одним из поворотов, или, как раньше говорили, за излучиной, возникло сказочное видение. В июльском мареве дрожал темно-синий силуэт, тесно сбившиеся и вместе устремленные ввысь купола и колокольни. «Впечатляет? — спросил местный начальник. — Это заброшенный город Свияжск. Построен еще во времена Ивана Грозного. К сожалению, до вечера обернуться не успеем, да, впрочем, и жалеть нечего — сейчас там просто утиль. Вот приезжайте лет через пять, будет чем похвастаться, есть решение открыть там молодежный турцентр с международным прицелом, вот тогда и повеселимся». Катер сделал широкий разворот, и силуэт Свияжска вскоре растворился в небе.
Не знаю, осуществились ли международные мечты казанской бюрократии, удалось ли им там отгрохать свою пошлятину с вожделенными саунами в народном стиле или совсем уже осыпались дряхлые стены…
Сейчас я с отчаянием вспоминаю этот синий появляющийся силуэт, я ощущаю себя словно выброшенный за борт какой-то странный никому не нужный предмет, размокший, тяжелый, но полый внутри, держащийся на плаву посреди мазутной волжской воды — ни затонуть нет сил, ни приблизиться. Как неожиданно грянула надо мной беда, и самое ужасное, что я и имени-то этой беды не знаю. Может быть, баскетбол тому виной? Вечное кружение, топот по настилу, огромные прыжки, захватывание мяча огромными ладонями… Вечно крутясь среди своих великанов, я, маленький и плешивенький, быть может, подсознательно представлял и самого себя в вечном зените психофизической, как сейчас говорят специалисты по спорту, стабильности.
Быть может, история с Серегой подкосила меня, может быть, Серега унес с собой мою прану? Как я постыдно вел себя тогда… Фантастическая история умирания двадцатипятилетнего центрового, нашего гениального Сергея Боброва. Уж, казалось бы, в ком больше жизни, чем в Сереге — по локоть выпрыгивал над кольцом, хохотал так, врывался так — молния и гром в комнате гуляют. Он был моим любимцем, я его открыл, воспитал, надеялся с ним прийти к чемпионским медалям, и я, кажется, был последним, кто заметил, что с Серегой происходит что-то страшное. Постыдный день — я сидел у него в больнице, рассказывал анекдоты и думал о временной замене центрового. И вдруг увидел его глаза, из которых стремительно убывала жизнь. Боже, подумал я тогда, мой центровой умирает, да есть ли что-нибудь более невероятное, Боже? Все было упущено, все пронеслось мимо, да видно, ничего и нельзя было поймать, и ничем я не мог ему помочь, кроме беспомощных жалких призывов — Боже! Даже и помолиться за него я не мог, когда он умер, — во-первых, не умел, а во-вторых, и не чувствовал себя вправе… Огромный окаменевший Серега, нестандартный гроб, невероятная процессия гигантов… Я чувствовал себя самым одураченным, самым маленьким ребенком среди своих двухметровых мальчишек.
Сейчас я судорожно пытаюсь вспомнить своих родственников, даже к мифическим «дальневосточникам» взываю. Говорят, «голос крови» — это не так уж мало. Вот, например, один мудрый гуру из московских ксерокопированных рукописей говорит, что все человечество переплетено, нет людей, не связанных друг с другом, тончайшая вязь, через наше космическое тело уходящая в Логос. Даже какой-нибудь новозеландский рыбак и тот связан с вами, и даже он может вам помочь, между прочим, если вы к нему обратитесь за помощью через такие гигантские расстояния. Что уж говорить о родственниках, они ближе к вам в этих вселенских кружевах, они лучше, яснее вас ощущают, их пране легче притечь к вам, то есть они могут вам помочь лучше, чем отдаленный рыбак из Новой Зеландии. Как это все красиво и даже величественно нарисовано — эдакая бесконечная человеческая симфония…
Но вот я представляю себе встречу с моим ближайшим нынешним родственником — мой дядя, брат отца, строитель гидростанций в отставке, великолепный советский сатирик, политический человек. По утрам он читает «Правду» и «Новое время», и не просто читает, но красным карандашом обводит какие-то не-доступные простому народу мудрости, засим внимает записным телевралям из «9-й студии», к вечеру вожделенно настраивается на «вражеские», как он их называет, голоса, с наушником в ухе, с лицом то задумчивым, то лукавым, а то и с жестикуляцией, вздымание указательного, предположим, пальца или негативное им помахивание, «нет, уж, позвольте, господа», от «Немецкой волны» через Би Би Си к «Программе для полуночников». Свободное время все посвящено выводам, умозаключениям, гипотезам, теориям, никаких кризисов вегетативной нервной системы.
В 37-м, после ареста и расстрела моего отца, крупнейшего деятеля социндустрии, дядю тоже замели, продержали, однако, за проволокой всего лишь три года. Тюремный опыт его, впрочем, мало коснулся, вернулся он каким и был, духовным здоровяком. Как он утешит меня, как поддержит в моем нынешнем распаде? Надо держаться, скажет он мне, будь таким, как твой отец, настоящим коммунистом, держись, Шаток! Вот так будет выглядеть «прана», которую он мне передаст в утешение. Может быть, не так уж мало…
Я держусь, я каждую минуту держусь. Хожу ведь, говорю с людьми, стою в очередях в магазинах, даже и работаю — то есть держусь каждую секунду. На тренировках я держусь изо всей мочи, стараюсь не взвыть, разыгрываю с ребятами различные игровые схемы и делаю все, что надо, хотя и думаю постоянно, во что сейчас превратился под землей наш общий любимец Серега, во что все они, такие красавцы, могут превратиться, случись какая-нибудь чудовищная мерзость. Я отгоняю от себя все эти пакости и держусь. Пакости возвращаются, и я их снова отгоняю и держусь, держусь, держусь… На пятнадцатом этаже, в своем жилом гиганте, если не лучше назвать его монстром, я каждую минуту ощущаю четырехугольник окна, меняющий цвет от голубого до черного, и держусь… Я знаю, что никогда этого не сделаю, но страх этого сжигает меня, и я держусь, держусь, держусь…
Валевич у телефона: вегетативка, климакс, переутомление — витамины, покой, транквилизаторы…
Дружище, может быть, это называется так, а может быть, и иначе, может быть, это называется «арзамасской тоской», как у Льва Николаевича, или, скажем, «утечкой очарования»?.. Должно быть, без очарования жизнью и жить нельзя. Любая хрюшка должна быть очарована жизнью, так или иначе. Что делать мне, если из меня вытекает прана. Все испаряется, даже тоска уходит вместе с другими человеческими очарованиями, оставляя на полу лишь только бессмысленное, подрагивающее от какого-то нижайшего страха тело?
Я лежал плашмя на ковре, когда в дверь позвонили. Разумеется, меня всего передернуло от этого неожиданного звука. Неожиданные звуки вызывают у меня сейчас что-то сродни короткой судороге. И не удивительно, объясняет мне всеобъясняющий Валевич, у тебя, старичок, переизбыток адреналина в крови, все нормально, нормально, вот подожди, подсохнут твои железы внутренней секреции и будет поспокойнее.
За дверью оказался тот юноша, что пытался ободрить меня на лестнице подземного перехода. Заглядывая в бумажку, он справился, верно ли попал, то ли я лицо, которое ему требовалось, и выходило так, что он не ошибся. Разумеется, он не идентифицировал меня внутриквартирного с тем подземным, он только лишь очень обрадовался, что поиски его окончились удачно, внес в прихожую небольшой чемодан и, сняв шапку, соломенноволосый и голубоглазый провинциал, оповестил меня, что привез привет из Самары.
Из Самары? Мучительно я пытался сообразить, откуда это. Он улыбнулся: ну, это просто так иногда по-старому они, самарцы, называют свой Куйбышев, город рабочей славы, ну, знаете, просто занятно, просто, понимаете ли, Самара — это как-то немножко экзотично, а Куйбышев, ну, ведь, это просто фамилия.
Без безобразной своей шапки-»меховушки» юноша выглядел довольно мило, длинные волосы его не висели более мочалкой, но даже как бы содержали некоторый намек на определенный стиль. Сняв неуклюжее пальто, он показался мне вообще каким-то скандинавом: джинсовая курточка, свитер-битловка, все как полагается. Я спросил его, не ошибся ли он адресом.
«Но ведь вы Шатковский, — переспросил он, — Олег Антонович, не так ли? Значит, я не ошибся. Я вам привез привет от моей бабушки, а она ваша родственница. Что касается меня лично, то меня зовут Женя, учусь в заочной аспирантуре МИФИ, приехал позондировать насчет защиты диссертации».
В Самаре, то есть в городе рабочей славы Куйбышеве, никогда не было у меня никаких бабушек в родственницах. Я пригласил Женю войти в комнату, пригласил его в кресло, даже предложил ему чаю и только после этого осторожно спросил, с какого боку его бабушка ко мне прилепляется.
«Ну, как же, — улыбнулся он, — она вам крестная сестра, Олег Антонович». Вот какой приятный сюрприз, подумал я, а ты все ноешь из-за недостатка родственников. Мальчик, кажется, собирается у меня остановиться. Явно собирается пожить у московского родственничка. Самарский мальчик приехал к столичному дяде. Впрочем, пожалуй, к деду — ведь это его бабушка мне крестная сестра…
«Как? Как вы назвали наши родственные отношения?» — только сейчас до меня стал доходить смысл слова «крестная». Вначале показалось что-то вроде «двоюродная», «троюродная», «седьмая вода на киселе». «Крестная сестра», — утвердительно кивнул Женя. «То есть, простите, Женя, вы хотите сказать, что бабушка ваша — сестра мне не по крови, а по крещению?»
Уцепившись за косяк двери, я смотрел, как он кивает, неуверенный и явно озабоченный, достаточное ли это родство, чтобы остановиться у меня на время своего диссертационного «зондажа». Сердце ходило у меня в груди, словно пароходный поршень.
В семье нашей, надо сказать, существовала когда-то некая легенда о моем крещении. Что-то рассказывала с двусмысленной улыбкой ленинградская тетя Марта, иногда и покойная мама как бы что-то припоминала.
В начале тридцатых годов мои родители представляли собой идеальную коммунистическую пару. Они называли друг друга по фамилии — «Ты ужинал, Шатковский?», «Ты обедала, Дальберг?» — и очень редко позволяли себе нежности, произнося с явной неловкостью: «Наталья», «Антон»… Он был директор индустриального гиганта, она — коммунистический лектор, партийный журналист.
Смутное, стыдливое и ненадежное предание гласило, что однажды носители пережитков прошлого, бабка и нянька, унесли идеальное комдитя, хозяина будущего, то есть меня, унесли куда-то. Якобы трехлетний бутуз сообщил потом маме, что был в «цирке», где «звоняют» и «моляются». Мама приступила к старухам с категорическим дознанием, на самом деле сама трепетала, как бы отец не узнал, что над его сокровищем совершен «унизительный обряд». Старухи в ответ только губы поджимали и гневно сверкали очами. Потом все это, разумеется, затерлось, замазалось, тема была молчаливо «снята с повестки дня» и старухи прощены, хотя осталось неизвестным, совершился ли этот обряд в действительности.
Потом пришел 37-й год, в первые три месяца этого года опустела наша большая квартира, после ареста родителей все комнаты были энкавэдэшниками опечатаны, за исключением одной, которую будущий хозяин лучезарного будущего некоторое время делил с пережитками прошлого, то есть с нянькой и бабкой.
В глухую ночь 42-го года, накануне, казалось бы, полного разгрома и неминуемого крушения нашей страны, моя бабушка провалилась в оборонную траншею, что за день до этого сама же и копала вместе с другими старухами по приказу управдома, хотя немцы были по крайней мере в двух тысячах километров от нашего города. Перелом шейки бедра, стремительно развивающаяся пневмония — и вот один из моих носителей пережитков прошлого отправился туда, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в одну реку.
Дитятю, то есть меня, для поддержания жизни забрала к себе тетка в свою многодетную полуголодную семью. Нянька тоже в конечном счете не пропала, ее забрали какие-то неведомые мне родичи к себе в отдаленный заречный район.
Каждое воскресенье на рассвете старуха отправлялась из своего заречья в долгое пешеходно-трамвайное путешествие к единственной сохранившейся на весь большущий город церкви при Царском кладбище. На обратном же пути из церкви в слободу неизменно навещала она свою растущую и очевидно любимую из последних душевных сил дитятю, то есть меня, которая, дитятя, уже играла в футбол на голодный желудок, уже и девочек высматривала среди пыльных военных закатов. Нянька садилась обычно у печки и терпеливо ждала, авось, забежит в квартиру дитятя, чтобы вручить обязательный свой гостинец в тряпочке: или колотого сахару несколько кусочков, или две-три карамели-подушечки.
Я даже не знаю, когда умерла моя няня и где похоронена, скорее всего на том же Царском кладбище, но что там сейчас найдешь…
Моя мать вернулась из колымских топей с явным интересом к религии, она носила крестик, читала Библию, хотя предпочитала держать все это при себе, никогда не вступала в дискуссии «по этому вопросу», ибо многие из ее подружек-каторжанок умудрились сохранить просвещенное материалистическое мироощущение, а иные даже полагали Сталина извратителем их чистой революционной идеи.
Однажды она рассказывала мне всякие забавные эпизоды из моего детства и вот коснулась «цирка, где звоняют и моляются». А вдруг старухи окрестили меня тогда, спросил я ее. А знаешь ли, это не исключено, ответила тогда мама и как-то особенно, пытливо на меня посмотрела. Она как бы приглашала меня развить эту тему, но я уклонился, не знаю почему, на том решил и остановиться — не исключено… Мелькала даже и поганая мыслишка — во всяком, мол, случае, не помешает… Перед смертью мама попросила похоронить ее по христианскому обряду.
Я жил с этим мифом о своем крещении, и он временами становился расплывчатым и зыбким, миражным и чужим в его анекдотических очертаниях, временами же приближался и согревал воздух, и я тогда страстно желал, чтобы он оказался правдой, и почти приходил в отчаяние, особенно в последнее время, когда понимал, что теперь уже никак не проверишь и что это — не что иное, как семейный анекдот. В часы пик в метро я смотрел на проплывающие мимо тысячи и тысячи московских лиц и думал о том, что большинство этих людей — нехристи, огромное, всепоглощающее, всеоглушающее наше большинство.
«Вот именно, крестная сестра, — неуверенно сказал Женя. — Когда бабка впервые увидела вас на экране телевизора во время финальных игр на первенство Союза, она сразу сказала: «Ба, да ведь это же Олежек Шатковский, мой крестный брат!» Она все собиралась вам письмо написать, да не решалась». — «Ну, а сейчас-то написала?» — спросил я не без труда. «Конечно, конечно, вот оно, это письмо. Лично я, Олег Антонович, не в курсе деталей, но думаю, что бабка дает там достаточную информацию».
«Уважаемый Олег Антонович, или попросту дорогой Олег! Вам или тебе (позволь уж мне, старой, называть тебя на ты) пишет Елена Петровна Честново, урожденная Мыльникова, о существовании которой ты, наверное, и не подозревал, а между тем я твоя крестная сестра. Да-да, не удивляйся, у нас с тобой один крестный отец Виктор Петрович Мыльников, мой старший брат, ныне покойный, а крещен ты был в нашем доме при спущенных шторах и закрытых ставнях отцом Сергием Боташевым, старым другом и единомышленником Виктора Петровича, что, конечно, тщательно скрывалось, потому что в те времена за такие дела по головке бы не погладили, а точнее, посадили бы в тюрьму.
Если тебя интересуют какие-нибудь подробности, то я могу сообщить, ведь ты был младенец, а мне к твоему крещению было уже 15 лет и я училась в медицинском училище и этот день запомнила во всех подробностях, в равной степени, как и твою крестную мать Евфимию Козыреву, няню, хотя видела ее только единожды в жизни, то есть тогда.
Сейчас обращаюсь к Вам, Олег Антонович, с огромной просьбой принять участие в моем единственном внучонке Евгении. Он впервые в столице и может растеряться. Извините за неожиданную назойливость, но у нас нет никого в Москве, да и вообще мало родных, все повыбиты жизнью. Ах, Олег… Господь тебя храни!
Елена Петровна Честново»
Я разрыдался. Я никогда прежде вообще не плакал, а тут весь пролился слезами. Что за неописуемое чувство охватило меня! Что за немыслимый душевный порыв! Как это назвать — бурей любви, тоски, жалости, ликования — никак не назовешь! Нечто настолько несомненное и единственное вдруг приоткрылось мне, и в этот момент раз и навсегда я осознал, что уверовал. Рыдания сотрясали меня, и слезы текли ручьем, без остановки. Кто знает, почему во время душевных потрясений выделяется столько влаги? Кто знает вообще, что такое человеческая влага?
Я упал в кресло, и оно слегка повернулось подо мной, ибо было обыкновенным вращающимся креслом, но даже это движение показалось мне необыкновенным, произошло нечто, названное мной в уме «потерей сознания», но на деле это было что-то другое, ибо я увидел себя в этот момент как бы со стороны и с огромного расстояния: маленькое тело, лежащее в кресле, вытянутые ноги, откинутая голова, ладони на лице. Крещен! Крещен!
«Олег Антонович! — донесся до меня голос испуганного гостя. — Дядя Олег!»
Спустя некоторое время из Самары пришли «подробности» и фотокарточка крестного отца, снятая в 1934 году, то есть близко ко времени моего крещения. Виктор Петрович был весь в коже — брюки, куртка, кепка, все из черной кожи. Среди подробностей одна оказалась совсем замечательная: Виктор Петрович был никем иным как личным шофером моего отца, то есть работником спецгаража крайкома партии.
«В те времена, — писала мне крестная сестра, — шофер была профессия почетная и редкая, особенно на легковой машине».
Я стал с напряжением вспоминать рассказы матери и дяди о нашей прежней жизни. Вдруг показалось, что очертания отцовского автомобиля выплыли и из моей собственной памяти. Да-да, машина была американская, с большущим кожаным диваном сзади. В дурную погоду натягивалась брезентовая крыша.
Брату приходилось много ездить, вспоминал дядя, объекты завода-гиганта были разбросаны по всему краю… Многие годы у него был шофером Виктор Петрович Мыльников, любопытнейшая фигура. Он не расставался с револьвером, потому что не только возил брата, но и охранял его — членам бюро крайкома предоставлялась такая привилегия. Опытный был чекист, но в классовом отношении человек не без пятнышка…
Далее из письма Елены Петровны Честново:
«…В 1917 году два моих старших брата Виктор и Николай заканчивали школу прапорщиков. Гражданская война разделила их. Николай оказался в белой армии. Судьба его плачевна, следы затерялись, некоторые даже утверждали, что он оказался за границей.
Виктор воевал на стороне красных и получил сильное ранение в голову, что помешало ему продолжить образование. Врачи рекомендовали ему сторониться умственного труда. Тогда он избрал профессию шофера. Она пришлась ему чрезвычайно по душе, потому что он еще и в гимназии проявлял склонность к механике…».
Я смотрю на фотокарточку. Любопытные глаза русского молодого человека смотрят на меня с плотной старинной фотобумаги. Типичное лицо русского механика или авиатора начала века. Сейчас такой тип уже не встречается, его заменил наш многомиллионный советский «технарь». Не так давно я заметил молодого актера с похожей внешностью в каком-то кинофильме о начале века, и оказалось, что не один я его заметил, у киношников-то видно нюх поострее на типажи, с тех пор этот актер кочует из фильма в фильм и все в стиле ретро и все по ранней самолетной или автомобильной технике — эдакий белесый, с любопытствующими глазами, фанатик магнето, обожатель двигателя внутреннего сгорания, типичный вроде бы русский, но как бы и европеец, вот странность…
Встретишь такого человека на улице, сразу в этом направлении о нем и подумаешь, вот, мол, технический интеллигент старого класса, какой-нибудь несостоявшийся Сикорский, ну, если глубже копнешь, можно подумать, что такие вот люди в строгом расположении свечей и цилиндров искали исчезающую гармонию, пытались спастись от идиотизма всех этих наших великих революций. Вот так по технической части классифицируешь человека и, конечно же, ошибешься. Всегда ошибешься, если бегло, с налета классифицируешь человеческие особи по отдельным видам. Вот и с Виктором Петровичем Мыльниковым не все так было просто, не только в автомобилях искал он душевную гармонию. Елена Петровна, в частности, писала:
«…с отцом Сергием Боташевым В.П. дружил всю свою жизнь, вплоть до разлуки в местах не столь отдаленных. В детстве Сергий Боташев был служкой в Храме Преображения Господня, а наш дом располагался как раз напротив храма. Меня еще не было на свете, когда мой брат Виктор по собственной воле зачастил в этот храм и прислуживал там при святых литургиях. Забыла упомянуть, что все это происходило в уездном городке Свияжске, откуда мы все, Мыльниковы, родом…»
Вновь новое ощущение. Прикосновение чудесного и теплого. Радостный и таинственный взмах рядом с лицом. То ли крыло с шелковистыми перьями, то ли рука с невесомой тканью. Свияжск. Вот так неожиданно все соединилось и заполнилось живым духом. Значит, связь эта существовала всегда, хоть и была неведома. Значит, мой детский восторг среди свияжского одичания прилетел не из пустоты, но через революции и войны от моего крестного отца мальчика Вити, значит, я тогда ощутил жизнь его духа, его чистого детства в чистом и процветающем, сытом и спокойном богопослушном Свияжске.
«…наш отец был почтмейстером и мы жили в большой квартире над почтой, а вокруг на островке располагались храмы, монастыри, торговые ряды и лавки. Свияжск в ту пору был густо населен и богат…»
Будущий Свияжск — международная турбаза. С тоской я представил всю эту пакость, жалкие комсомольские дискотеки и «фестивали песен протеста» с юными протестантами, дерзко под гитарку бичующими Пиночета. Да уж лучше прежнее запустение, уж лучше бы постепенно затягивался илом островок в устье малой реки, лучше бы постепенно, десятилетие за десятилетием, тихо оседали бы его фундаменты, осыпался кирпич… Хоть и горько, но все же достойнее истлеть в архивных записях, чем становиться гнездом ворья из бюро молодежного туризма «Спутник».
Постепенно мы все, кто связан с ним так или иначе, уйдем, и он уйдет из живой человеческой памяти. Монашки угасли, как свечечки в том единственном уцелевшем храме послевоенного года. Однорукий наш комиссар тоже, должно быть, уже отошел, а если и жив, то все позабыл в алкоголе, не только Свияжск, но и физручкины ноги. Помнит ли Валевич? Вообще, помнит ли он то лето? Сто лет мы уже не говорили с ним об этом. Я почему-то словно стыжусь тех воспоминаний. Может быть, и самоуверенный Яша Валевич тоже стыдится?
Я набрал номер его телефона. Трубку снял кто-то из его огромной семьи, началась обычная перекличка внутри четырехкомнатной валевической твердыни на Грузинах. «Папа, ты дома?» — «Кто спрашивает?» — «Одну минуточку, я узнаю… Погоди, в дверь звонят. Кто это?» — «Из телеателье?» — «Ну, наконец-то. Проходите сюда, товарищ… Да, папка же, тебя кто-то к телефону». — «Если из института, то…» — «Да нет же, это, кажется, дядя Олег». — «Что же ты меня сразу не…»
— Яшка, ты помнишь Свияжск? — спросил я.
Он некоторое время недоуменно молчал, потом хихикнул.
— Помню-помню… А вот ты, Олега, помнишь те бронированные мониторы, те речные линкоры? Помнишь, как нас взяли в плен?
И вдруг ярчайшим образом вспомнилось то, что многие годы совсем уже утонуло в памяти, так ярко, словно включили кинопроектор.
На Волге в те дни существовала военная флотилия. Для чего она была нужна? Чтобы в страхе держать чувашские и мордовские берега? Тогда таких вопросов никто себе не задавал. Существует — значит необходима.
База Волжской военной флотилии находилась где-то неподалеку от нашего пионерлагеря, и это, конечно, страшно нас интриговало. Много было разговоров о мониторах, удивительных, мелко сидящих судах с башенной тяжелой артиллерией, настоящих речных дредноутах. Увы, сколько ни вглядывались пионеры в волжские дали, не видели ничего, кроме обычных буксиров с баржами да старых колесных пароходов. В общем, эти мониторы стали нам уже казаться каким-то мифом.
И вдруг мы их увидели, целую эскадру в кильватерном строю, четыре темно-серых, почти синих броненосца. Весь отряд был потрясен. До этого мы шествовали по каменистой тропинке вдоль высокого берега Волги под водительством все той же физручки Лидии. Только что поймали отвратительную змею, кажется, медянку, для живого уголка. Обычная пионерская рутина. И вдруг — четыре серых, с военно-морскими флагами, с вымпелами и сигнальщиками, отмахивающими свою азбуку с верхних мостиков, каждый с двумя огромными орудийными башнями, с преогромнейшими спаренными пушками — вымирающее племя речных бронированных мониторов. Мы с Яшкой даже дар речи потеряли, разинули пасти и немо уткнули указательные пальцы в волжский простор.
Физручка подняла трофейную лейку, сделала снимок, помахала краснофлотцам и после этого зафиксировала свою позу с поднятой рукой, чтобы и самое себя запечатлеть в памяти этих четырех тяжелых мужчин. Вспоминая сейчас ее позу, я думаю, что это была девушка с какой-нибудь картины Дейнеки, заря социализма, один к одному.
Вдруг произошло невероятное: весь в мелькании сигнальных флажков, задний монитор покинул строй, описал умопомрачительную дугу через всю Волгу и приблизился почти вплотную к высокому берегу, на тропе которого стоял наш отряд. Теперь мы могли рассмотреть его во всех подробностях, все трапы и люки, зенитные пулеметы и мостики. А загорелые матросы, стоящие на палубе, лыбились нам так, что можно было все зубы пересчитать в их хавальниках. Последовала какая-то команда с мостика в мегафон, и часть команды попрыгала с борта корабля на прибрежные камни, а то и в воду. Еще минуту они уже бежали в гору к нам, не менее десятка матросов и один офицер. Чудо из чудес — они нас окружали!
Мы даже струхнули. Все струхнули, кроме, разумеется, Лидии, она наблюдала приближение моряков насмешливо прищуренными глазами. Задним числом мне сейчас даже кажется, что матросики сами слегка сдрейфили перед богиней солнечного социализма. Наверняка даже в онанистических снах этих бедных ребят не являлась им подобная штука.
«Вы фотографировали боевое соединение», — сказал физручке лейтенант. Он был в куцем тесноватом кительке, мал ростом, но горбился и сгибал плечи словно высокий человек.
«Допустим», — усмехнулась физручка и тряхнула гривой выгоревших волос. Она была на полголовы выше офицера.
Он смотрел на нее с кривой улыбочкой, как бы давая ей этой улыбочкой понять, что не видит в ней ничего, кроме годной для употребления девки, то есть «станка», но, увы, улыбочка эта выдавала его с головой, она явно указывала, что ему по какой-то неведомой табели о рангах даже и мечтать не приходится о такой особе, как наша блистательная физручка.
«Запрещено», — выдавил он из себя.
«Трижды ха-ха, — сказала физручка. — В «Красной Татарии» на днях был снимок этих кораблей».
Тут воцарилась какая-то странная пауза, и вдруг лейтенант стал быстро, профузно краснеть, фуражечка ему сделалась как бы мала, из-под нее потекли струи пота, и наконец обнаружилась причина стыда — все заметили, как брюки лейтенанта стремительно растягиваются неким странным выпячиванием, которое в конце концов приобрело форму основательного колышка, устремленного в сторону Лидии. Офицерик весь вогнулся внутрь, чтобы сгладить это выпячивание, удалить его из центра композиции, но ничего не получалось, то ли брючки были тесноваты, то ли предмет великоват.
Мы некоторое время молчали, понимая, что происходит что-то неловкое, но относя это к фотоаппарату, к съемке военного могущества нашей реки, а вовсе не к постыдному колышку, торчащему в направлении пионерского отряда. Первыми прыснули наши девчонки, потом гоготнули матросы, потом и мы, мальчишки, сообразили что к чему. Физручка победительно сверкала дейнековской улыбкой.
«Смирно! — пискнул офицерик своим матросам и совсем уже побагровел. — Я, конечно, извиняюсь, девушка… товарищ вожатый… но мне приказано изъять у вас аппаратуру… или… или…»
Он уже и не смотрел на физручку, уставился куда-то вбок и вниз, вроде бы на собственный каблук, но «предмет», однако, продолжал победоносно торчать, странное неуместное могущество на фоне хилой фигурки, впрочем, было в этом некоторое соответствие с тяжелым вооружением мелко сидящих мониторов.
«Или пленку засветить? — Лидия презрительно оттопырила губу. — Нет, уж, дудки! Берите лейку, а о дальнейшем…»
«О дальнейшем, может быть, в штабе флотилии?..» — с робкой радостью вопросил лейтенантик.
«Вот именно! Завтра же! Кто у вас главный? Контр-адмирал Пузов? Да мы с его дочкой на одном курсе, к вашему сведению!»
Она швырнула лейку офицеру, словно королева пригоршню серебра в толпу.
«Ребята, за мной!»
«Завтра же… завтра же… — лепетал лейтенантик, — …в Зеленодольске… в штабе флотилии… уверен, что разберутся… я буду лично… ждать на пристани…»
«Трижды ха-ха!» — скомандовала физручка.
«Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха!» — бодро ответствовал наш отряд, покидая поле престраннейшей этой битвы.
Валевич гулко хохотал в глубине московской телефонии, должно быть, все это и ему вспомнилось с достаточной яркостью.
— Помнишь, помнишь? — захлебывался он сквозь хохот. — Помнишь эту штуку?
— Еще бы не помнить, — отвечал я, и сердце мое наполнялось теплом и любовью к этому моему единственному другу, который кажется сам себе таким удачливым и сметливым и который на деле не кто иной, как толстый стареющий ребенок. Кто может быть ближе человека, с которым вы вместе по одному только слову или даже междометию отправляетесь в одно и то же место времени и пространства, на тридцать пять лет назад, туда, где меж серых камней торчали кусты ежевики, а тропа уходила в заросли орешника, туда, где лента Волги то просветлялась, то замутнялась в зависимости от конфигурации пролетающих над нашей сирой родиной облаков.
Где существует этот момент, если он может иной раз так ярко, с такими подробностями возникать из небытия?
— В памяти, — важно поясняет мне Валевич. — В клетках нашего мозга.
— Валевич, ты знаешь, что такое память, что такое клетки мозга, что такое момент?
— Исследования продолжаются, — говорит он.
— А все-таки ты помнишь Свияжск?
— Церковь? — тихо спросил Валевич. — Конечно, помню.
— Яша, приезжай, — попросил я его. — Давай встретимся на углу возле табачного киоска. Со мной происходит нечто экстраординарное.
Далее из письма Елены Петровны Честново:
«…ирония заключалась в том, что наш дом помещался как раз напротив крайкома партии. В тот день, возвращаясь с занятий и приближаясь к дому, я заметила, что все ставни закрыты. Во дворе я увидела автомобиль Виктора Петровича. Что такое? В доме происходило нечто удивительное: горели свечи, висели образа, светилась в полумраке парчовая ряса отца Сергия (в обычное время он одевался очень серо, так как скрывался от религиозных преследований), слышался крик младенца.
Что, мама, спрашиваю я, с каких это пор в нашем доме крещальня? Как видите, Олег Антонович, в свои 15 лет я была комсомолкой и в достаточной степени осторожной. Тише, тише, говорит мне мама, не дай Бог, кто-нибудь узнает, нам всем тогда не сдобровать — крестят сына самого Антона Ильича! Вот тогда я увидела вас, Олег Антонович, в виде голенького младенца, и вашу крестную мать Евфимию, а крестным отцом был, как я уже говорила, мой обожаемый старший брат Виктор Петрович.
Когда обряд подошел к концу, мне поднесли младенца. Поцелуй, Леночка, это твой крестный братик. Я вас поцеловала несмотря на свою естественную комсомольскую неприязнь к церкви и тот стыд, который я всегда испытывала, думая о своем собственном крещении.
Представьте себе мои противоречия, Олег: вокруг кипит комсомольская жизнь, мы развиваем пятилетку, строим огромные самолеты, покоряем Север, пустыню, и вдруг твой брат, передовой человек, механик-чекист отдает дань религиозному мракобесию и даже втягивает в него подрастающее поколение, которому жить при социализме.
Такая я была дура, Олег, но к чести своей могу сказать, что у меня и мысли не появилось — пойти и донести, как могла бы сделать любая моя подруга, напротив, я против своей воли прониклась каким-то странным щемящим чувством и поцеловала этого ребенка со слезами на глазах…»
Наш так называемый микро-, а на самом деле огромный район показался мне в ту ночь каким-то необычным. Среди пугающего однообразия 16-этажных тысячеоконных блоков я вдруг увидел едва сквозящий, но все-таки явно существующий творческий замысел. Быть может, кто-то из этих бедняг-архитекторов, которые штампуют такие микрорайоны, сумел и сюда протащить что-то маленькое свое, вдохнуть и сюда пузырек живого духа, как-то слегка нетипично повернуть всю эту линию жутчайших жилищ, как-то соединить ее вон с тем холмом, чуть-чуть приподнять над другими вон ту башню, оставить вот этот хвост лесной зоны внутри квартала, кто знает — вдруг он смог представить себе на мгновение, что будет вот такая лунная ночь, пустота и одинокий, потрясенный чем-то своим человек с этой позиции у табачного киоска вдруг увидит его замысел, лицо его города с некоторой живинкой в глазах, с огоньком под аркой, с этим вот расположением теней, с луной, висящей меж двух комплексов и серебрящей верхушки лесопарка, в ночь полнолуния, в ночь Божьей Благодати.
Проехала машина спецслужбы, что подбирает по ночам «портвеешников». Потом проскочил к развороту автомобиль Валевича.
— Олег, — сказал Валевич, — ну, хватит уж тебе. Ну, поехали к нам спать. Ну, давай мы тебя женим. Есть кандидатка. Ну, мобилизуйся, Шаток! Ну, хотя бы на финальную пульку мобилизуйся! Вот вчера ты на федерацию не пришел, а там мы сильный дали бой Подбелкину. Эта скотина и на тебя опять напал, опять на тебя телегу покатил, якобы ты снижаешь в своей статье прошлогодней ценность международных побед советского баскетбола, якобы ты вообще, не совсем… ну, в общем, мы ему дали по жопе… Ну, взъярись, Шаток! Ведь вам же в первый день с «Танками» играть! Только твоя банда и сможет выиграть у «Танков»! А потом я тебе обещаю все устроить — и путевку, и деньги, и попутчицу… поедешь в санаторий… ну…
— Яков, — сказал я ему, — меня сегодня Благодать осенила. Ну-ну, не дергайся, пожалуйста, все в порядке. Постарайся понять, я не могу выразить своих чувств словами… Ну, словом, я завязываю со спортом… Прости, но все наше дело кажется мне сейчас слегка нелепым, все наши так называемые победы, все эти страсти-мордасти вокруг простейшего предмета, кожаного шарика с воздухом внутри. Я попытаюсь, Яша, другую жизнь найти, не знаю, удастся ли…
— Да ведь вам же турне по Латинской Америке светит… — растерянно пробормотал большущий и толстый мой друг. Когда-то, в дремучие времена, когда баскетбол еще не был спортом гигантов, он играл в нашей команде центра, то есть «столба», то есть был самым высоким, а теперь еле до плеча достанет моему скажем, Славке Сосину.
— Без меня поедут, — сказал я. — Хватит с меня этой политики… Яшка, неужели ты никогда не думаешь о другой жизни?
— После, — глухо сказал он.
— Что после?
— Я иногда думаю об этом после первенства, после федерации, после заграничного турне, после чего-нибудь еще, но времени, Олег, никогда не хватает — после чего-нибудь сразу начинается еще что-то… — он явно разволновался и сунул в карман ключ от машины, который до этого московским молодеческим движением крутил на пальце. — И потом, Олежек, прости, я хотел тебя спросить — что же, кроме политики и подбелкинских интриг, ты ничего в нашем деле не видишь? Все же молодые ребята бегают, прыгают, играют… Разве это Богу не угодно?
Все казалось мне почти ужасным в день начала финальных соревнований. Мрак и туман окружали Дворец спорта с его неизменным лозунгом «Тебе, партия, наши успехи в спорте!» Болельщики лениво плелись ко входам. На самом деле в Москве баскетболом ведь мало кто интересуется. Мощь нашей сборной и ведущих команд мало соответствует популярности этого вида спорта, тут все дело в селекции, в специальных правительственных мероприятиях, так что не будь у начальства политического навара, баскетбол в нашей стране просто бы захирел. Впрочем, может быть, это касается и спорта вообще. Все извращено до крайней степени.
Парни мои сидели в раздевалке словно с похмелья, еще в джинсах и плащах, вяло переговаривались. С коровьей тупостью они посмотрели на меня и начали переодеваться. Резко запахло потом. Раньше я им не позволял приходить даже на обычную игру с нестиранными майками, не говоря уже о финале. Теперь мы были, кажется, друг другу неприятны — команда, обреченная на поражение, и тренер — пожилой тоскливый человек с собачьим измученным взглядом.
А ведь здесь не было ни одного случайного человека. Каждого из них я знал с детства. Обычно я присматривал в школах способных долговязых мальчишек, начинал за ними ухаживать, словно гомосексуалист, агитировал за баскетбол, начинал работать, постепенно подключал их к мастерам, и постепенно, год за годом, они в мастеров и превращались. Сейчас, по сути дела, это были мастера экстракласса, собранные в одну команду для побед, для побед даже над нашим сегодняшним противником, и… и… потерявшие смысл победы.
Сегодняшний наш противник, армейский клуб с солидной аббревиатурой, в кругах истинных болельщиков, а таких, между прочим, совсем немного, был нелюбим. Болельщики называли эту команду «Танки» и этим, вероятно, заодно еще выражали свое подспудное презрение к тупой карательной машине. Они не вырастили ни одного игрока. Полковники из этого клуба, следуя еще замечательным традициям спортивной конюшни Васьки Сталина, просто-напросто мобилизовывали уже сложившихся, хорошо тренированных спортсменов в армию и заставляли их играть за свой клуб. Так они и создали практически непобедимый, могучий отряд ландскнехтов.
В прошлые годы меня и моих ребят дьявольски злила эта милитаристская машина, и мы всегда играли против них очень круто, все круче и круче, от первого свистка до последнего, и даже иногда выигрывали. Помня это, особенно меня не любил некий псевдоспециалист и великий демагог Подбелкин. Впрочем, сейчас мы уже давно не соперники для «Танков» (весь азарт я растерял, поглощенный своими страхами и тоской, и команда это прекрасно чувствовала), но тем не менее Подбелкин любит меня все меньше и меньше и даже по некоторым слухам опять написал на меня солидную телегу в ЦК.
Мы вышли в зал и команда потянулась на разминку. Мы с помощником подошли к судейскому столику и стали что-то говорить об одном из судей этой встречи, нельзя ли его заменить, дескать он к нам придирается, словом, все как полагается, и в это время, как всегда с опозданием, роскошными прыжками в шикарных своих ало-голубых костюмах в зале появились «Танки» и выкатился круглым пузиком вперед их тренер Подбелкин, повторяю, заядлый демагог.
Что-то вдруг прежнее шевельнулось во мне или, быть может, что-то новое, быть может, что-то сродни тайной идее того неведомого архитектора, который выстраивал лунную линию нашего микрорайона или что еще другое, словом, жизнь вдруг снова шевельнулась во мне, и мне стало безумно жалко своих детей, которые иной раз бросали обреченные взгляды на сокрушительного противника, и в следующий момент я вдруг страстно, как в прежние годы, пожелал им победы. Я подозвал нашего капитана Славу и шепнул ему в наклонившееся ухо: «Мы у них сегодня выиграем!» Слава изумленно на меня посмотрел, вернулся к щиту и что-то сказал Диме, а тот Саше, и в конце концов вся команда бросила мячик и посмотрела на меня. Слава и Дима были самыми старшими в команде и они еще помнили мои лучшие времена, они оба даже участвовали в одном из наших исторических матчей, когда мы выиграли у «Танков».
Разминка кончилась. Началась телесъемка. Я объявил состав стартовой пятерки, из ведущих в ней был только Слава, остальные — сосунки со скамейки запасных. Краем глаза я заметил, что Подбелкин ядовито улыбается и что-то говорит своему второму, явно злится с самого начала. Дело в том, что тут с самого начала произошла моя маленькая психологическая победа. Инстинктивно я догадался, что Подбелкин с целью демонстрации полного к нам пренебрежения выставит в стартовой пятерке не основных своих страшнейших горилл международного баскетбола, а запасных. Так и получилось. Он как бы списывал нас, и меня как тренера, в первую очередь, с серьезного счета. И вдруг он увидел на нашей стороне четырех запасных в стартовой пятерке. Пренебрежение на пренебрежение. Увесистая психологическая плюха с самого начала. Менять состав он уже не мог — это было бы для него потерей лица.
За несколько секунд до начала матча произошло нечто поистине странное: я перекрестился и перекрестил свою стартовую пятерку. Поистине необъяснимый феномен: мальчишки перекрестились в ответ, как будто для них это привычное дело. Вся скамейка перекрестилась вслед за нами. Перекрестились второй тренер, врач и массажист.
Стадион загудел. Мгновенно погасли софиты телевидения. Позднее я узнал, что была настоящая идеологическая паника: передача, оказывается, шла прямая, и, следовательно, несколько миллионов телезрителей видели это безобразие — крестное знамение баскетбольной команды мастеров высшей лиги.
Матч начался. Я видел за столом федерации Валевича, который, закрыв лицо руками, в отчаянии мотал головой. В ухо ему что-то яростно шептал президент федерации, брюхатый комсомольский писатель Певский. Вся баскетбольная общественность сосредоточенно переговаривалась. Подбелкин растерянно хохотал и крутил пальцем у виска — дескать, рехнулся Шатковский.
Тем временем мои сосунки, ведомые многоопытным Славой, заваливали «Танкам» один мяч за другим.
Все игровое время я чувствовал себя, словно все ко мне вернулось без всяких потерь — и жизнь, и любовь, и все ритмы баскетбола. Мы все Божьи дети, думалось мне, мы играем свою игру под Его благосклонным оком. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
После матча ко мне быстро подошел Валевич, крепко взял под руку и отвел в сторону.
— Сейчас немедленно собирается президиум федерации, — сказал он тихо. — И ты понимаешь для чего. Олег, ты знаешь, какая у меня орава, и знаешь, что я всех кормлю баскетболом…
— Все понимаю, Яша, — так же тихо ответил я.
— Тебе лучше не ходить на президиум, — шепнул он, вернее, просто проартикулировал губами.
— Я и не собираюсь, — ответил я таким же образом.
— Но ведь я же не могу не пойти, — сказал он мне бровями и левой ладонью.
Я ответил ему правой рукой, приложив ее к левой груди. Внезапно лицо его озарилось далеким свияжским светом. Пространство времени, подумалось мне, сущая ерунда.
Мы сейчас с тобой сбежим, кричало мне мальчишеское лицо моего старого жирного Валевича. Плюхнемся в мои «Жигули» и за сутки докатим до Крыма, а там растворимся среди местного населения и гостей всесоюзной здравницы. Здоровье каждого — это здоровье всех, так сказал Леонид Брежнев. Бежим, товарищ!
Нет, друг, ответил я ему своим лицом, в свою очередь преодолевая пространство времени и проходя через зону свияжского сияния. Ты лучше иди на президиум. У тебя большая семья. Ты уже никогда не предашь меня, потому что предложил мне бегство.
— А ты куда сейчас? — спросил он опять уже с помощью голоса, но еле слышно. — Я тебе позвоню домой, когда вся эта бодяга кончится…
Перед уходом я хотел было отвесить общий поклон, но заметил, что некоторые члены федерации смотрят на меня с опаской, словно на источник инфекции, и от поклона воздержался.
В метро в этот час было малолюдно. Поезд с грохотом летел по длинному перегону на кольцевой. Я сидел с закрытыми глазами, чувствуя дикую усталость и полнейшее умиротворяющее спокойствие. Мне казалось, что я остался один в вагоне, и я снова как бы видел себя со стороны, но уже не с огромного расстояния, а как бы просто с потолка вагона, из дальнего угла. Я видел фигуру одинокого человека, сидящего в позе предельной усталости с вытянутыми в проход ногами, и мне казалось, что в нем видна какая-то полная раскрепощенность, когда не нужно ни о чем заботиться, можно уйти от любой суеты и все списать на усталость. Мне было даже довольно приятно смотреть со стороны на этого человека средних лет в обветшалой, но некогда очень хорошей одежде и думать о нем какой-то фразой то ли из старого романа, то ли из старого фильма, словом, какой-то дивной фразой из юношеских лет, что звучала примерно так. «Этот человек знал лучшие времена»… Давно уже мне не было так легко и просто.
Усталый не меньше меня машинист объявил по своему радио следующую остановку. Кто-то на моем диванчике поблизости зашевелился. Я открыл глаза и посмотрел в темное стекло напротив, в котором, пока летишь по подземному тоннелю, все замечательно отражается. Я увидел самого себя и рядом, на расстоянии не более метра, нашу физручку Лидию и начальника пионерского лагеря «Пустые Кваши» товарища Прахаренко.
Темное стекло в вагонах метро обычно молодит отражающиеся лица. Может быть, поэтому я их и узнал. Или, наоборот, может быть поэтому я ошибся. Я встал, отошел к дверям и посмотрел на парочку уже впрямую.
Да как же можно было в этой грудастой и задастой почти старухе найти нашу свияжскую «Девушку с веслом»? Да и как они могли оказаться вместе через тридцать пять лет, ведь не поженились же они в самом деле при наличии присутствия такого глубокого и пространного культурного разрыва. Она была звезда биофака, а он мельчайший советский «вася-теркин», пущенный на прокорм в самые что ни на есть сирые пионерские угодья. Туповатый солдафон, хвальбишка и пьянчужка, да к тому же, ба, ведь и без руки же!
Отсутствие руки и сейчас было явно в наличии, рукав пиджака был аккуратно вправлен в карман. Культурный разрыв и сейчас был очевиден. Она, условно именуемая Физручкой, была в брючном костюме, больших очках и стрижена «под мальчика» и покрашена под сивку-бурку, эдакая театральная московская дама или сотрудница Госкино. Он выглядел, пожалуй, как какой-нибудь «сосед по даче из простых». Культурный разрыв был хоть и очевиден, но не так вопиющ, как в те времена, когда…
…мы с Яшкой, сидя на веслах, смотрели в четыре глаза на нежный умопомрачительный силуэт Лидии, когда нам казалось, что она пахнет всеми травами Поволжья, и когда мы одновременно в четыре ноздри вдыхали запахи махры, сивухи, борща, прогорклого дыхания из пасти нашего командира…
Сейчас это был почти пристойный полустарикан, явно стыдящийся алкогольного прошлого и гордящийся боевым. По-прежнему впечатлял мясистый «шнобель» не совсем пристойных очертаний.
Заметив мое внимание, и они на меня посмотрели. Он, условно именуемый Прахарем, прикрыв рот ладонью что-то шепнул Физручке. Она досадливо поморщилась и отвернулась и посмотрела на меня, мимолетно как бы давая понять, что они люди разного круга, но ей приходятся в силу некоторых обстоятельств терпеть этого человека. Она распознала во мне нечто близкое, разумеется, не того мальчишку из послевоенного года, но интеллигента, птицу довольно редкую в наши годы «зрелого социализма». Он продолжал ей что-то шептать, а она вздохнула пару раз с горечью, но, впрочем, горечь эта показалась мне неглубокой и, может быть, даже как бы формальной. Они мне показались сейчас детьми, эти два старых человека, соединившихся когда-то в плавнях, в камышах для могучих и бравурных оргазмов и вот прошедшие вместе всю жизнь. Физручка и Прахарь, если бы вы знали, как я люблю ваши черты, просвечивающие сквозь эти деформированные лица. Я снова в эти короткие минуты подземного грохота перенесся к Свияжскому сиянию, в умирающий городок, к тем жалким лампадам, к тем мирным и важным коричневым ликам, к той тихой и радостной тайне, что соединилась, как ни странно, со всем тем пионерством, с греблей и ревностью, с твоим очарованием, о гипсовая богиня Пустых Квашей!
Я отвернулся. Если это они, напоминать им о Свияжске было бы бесчеловечно. На пересадке я их потерял и вновь увидел, как ни странно, в нашем подземном переходе. Они стояли впереди, она помогала ему влезть в серый макинтош, а потом привычным и явно не лишенном тепла жестом вправила пустой рукав макинтоша в карман. Им казалось, что они одни в ночном подземном пространстве, и они на секунду соприкоснулись головами и чему-то совместно посмеялись.
Один выход из перехода ведет к нашему дому, другой к соседнему гиганту. Прахарь и Физручка стали подниматься по нашей лестнице. Может быть, они и живут в нашем доме, в одном из его сорока подъездов? Фантастика!
Когда я поднялся из-под земли, я ощутил вокруг себя свежий и незабываемый мир. Луна была слегка на ущербе, но света ее вполне еще хватало, чтобы проникнуть во все глубины микрорайона и положить там резкие тени, вне всякого сомнения предусмотренные неизвестным архитектором и скрытые им от комиссии социалистического реализма.
Упомянутая выше пара приближалась к арке, ведущей во внутренний двор нашего дома, где шли подъезды под номерами от 21 до 40. Я приближался к своему подъезду, возле которого стоял в этот час рафик «Скорой помощи». Две массивные фигуры в белых халатах были рядом. Огоньки сигарет. Для кого вызвана карета? По чью она душу? Люди рождаются, болеют, умирают, а ты не знаешь никого из соседей, это — позор! С крыльца спустилась еще какая-то фигура, на этот раз в темном одеянии, в руке у нее зажегся фонарь. Я оказался в ослепительном круге, закрыл лицо локтем и все понял. Фонарь погас. Прошло несколько секунд, прежде чем я снова увидел подъезд, карету, людей, лунные тени, бесчисленные темные окна над головой, Физручку и Прахаря, подходящих к своей арке.
— Лидия, — закричал я. — Товарищ начальник! Помните Свияжск?
Они застыли под аркой. Не знаю, обернулись ли, я не успел увидеть. Фонарь ослепил меня.
Санта Моника
Май, 1981