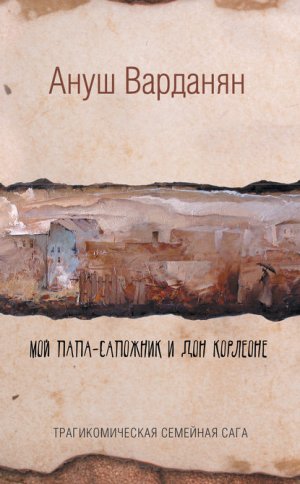
© Ануш Варданян, текст, 2014
© Александр Заварин, иллюстрация на обложке, 2014
© Владимир Трепецов, иллюстрации, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
Моему отцу, моему сыну и тому, что нас всех, я надеюсь, объединяет.
АНУШ Варданян
Забыть себя – вплоть до Родины.
А. Битов
Часть первая
Горы
Языками человеческими
Отец мой с трудом читал по-русски. Нельзя сказать, что он был книгочеем на своем родном языке, но по-армянски он хотя бы не заикался, составляя слова в предложения. И все же отец одолел одно произведение в мягкой обложке на русском. Это событие изменило не только всю нашу жизнь, но и, отчасти, нашу национальную принадлежность. С тех пор как отец припал к живительному роднику литературы, его начали называть «новым русским», а мы, трое его детей, стали гражданами мира. Книга, оказавшая столь революционное воздействие на нашу и на еще одиннадцать семей из отдаленной армянской деревеньки близ северных границ, называлась «Крестный отец» американского автора Марио Пьюзо. Конечно же, в переводе с английского на могучий язык графа Толстого. Вот она – дружба народов в действии! Таким образом, смело можно утверждать: в деле преображения моего родителя не обошлось без влияния великой русской культуры. Это точно! Ведь именно по-русски, под вой одичавшего в горах и залетевшего к нам в деревеньку зимнего ветра, отец мой учился быть настоящим воином духа. Да, даром такие вещи не проходят. С удовольствием расскажу почему. Об этом, собственно, мое повествование.
Из газет выписывал он лишь парочку: «Литературную Армению» и республиканскую «Советскую Армению». И не из безглазого советского патриотизма, но следуя традициям семьи. Лет шестьдесят уже его отец и отец его отца исправно подписывались на этот печатный орган ЦК компартии Армении. «Советская Армения» на тумбе возле дедовского кресла была одним из атрибутов патриарха – как место во главе обеденного стола, как фетровая шляпа в возрасте после сорока, как заложенные за спину руки – мы, мол, потрудились на славу в своей жизни, а теперь вот прохаживаемся и зорко оглядываем окрест, что вы тут, молодежь, творите? В шляпе из фетра я своего отца никогда не видел, а вот газету помню хорошо.
Бабушка и дед из-за газет обычно спорили, кому какую первому читать. То есть кому первому читать «Литературку». Ведь «Советскую-то Армению» не читал никто. Разглядев мутную фотографию на первой полосе и заголовок передовицы, складывали ее стопкой у печки или резали сапожным ножом на квадратики – в сортир, на гвоздь, решительно! Короче говоря, «Советскую Армению» не любили, и точка. Что спорить было бабушке и деду? Однако порой доходило до потасовок. Дед, в порыве социальной активности, начинал вдруг полемизировать с красивым, волной откатившим густые волосы партийным лидером нашей республики. Вернее с его газетным портретом. Карен Демирчан был похож на князька из исторического романа, еще не решившего, чью сторону занять в междоусобной войне. Словно раздумывал, как бы не ударить в грязь лицом, но вместе с тем как бы не прогадать фатально. Дедушка стучал натруженным пальцем по лбу партийца на фотографии.
– Вот дубина-то. Говорят, его пуп повитуха на помойку бросила, собакам. Вот с тех пор он такой дубина. Шалопут.
А если дед видел, как на фото в «Советской Армении» наш молодой, сам себе на уме, красавец-правитель пожимал руку седому, еще более красивому и княжистому Эдуарду Шеварднадзе – боссу соседней Грузии, то и тут он, крякнув, давал свой крепкий щелобан. Правда, с совершенно иным комментарием:
– А у этого-то пуп известно где.
– Где? – отрывалась бабушка от интересной статьи в газете «Литературная Армения».
– Его пуп родная бабка повитухе не доверила. И сама в губернаторский дворец снесла.
– Да ну?
– Точно тебе говорю. Под пол спрятала. Поэтому он и важный такой.
– Он после революции родился. Уже губернаторов не было, – говорила бабка из-за «Литературки».
– Значит, в губернаторском дворце уже ЧК находилось, – уверенно парировал дед. – Туда и снесла.
Бабушка с «Советской Арменией» в полемику не вступала. Ей хватало деда. Потрепав газетную страницу, протирала ею оконные стекла или еще что по хозяйственной нужде. А мама заворачивала в «Советскую Армению» на лето варежки, носки и шапки. Чтобы моль не лакомилась кусачей мягкой шерстью наших овец. Стоп, мама!
С нее ли все началось или раньше? А может быть, с отца? Или еще раньше? С того, что я не мог видеть, но отчего-то помню, отчего-то вижу… Чувствую запахи и звуки неведомых шагов, скрипы колес, половиц и стволов корабельных сосен, шелест юбок, щебет птиц, грохот дождя по крышам… Все смешивается в одну длинную звуковую волну и длится, и тянется, и несется. Врывается в мою жизнь и опаляет, ослепляет, обманывает. Нет звезды, а свет – вот он! В один терпкий дым смешиваются пары над котлами и кастрюлями на многоязычных кухнях в разных странах. Ложками, черпаками, с кончика ножа или пальцем снимают пробы повара и хозяйки. Причмокивают одинаково устроенными языками, пытаясь распознать, всего ли хватает в щах, мамалыге, босбаше или паэлье. И на разных языках объявляют родне или гостям:
– Все готово! Кушать подано! Милости просим!
Как же все просто. Но я начну все-таки с родителей.
Ангел Люся и Хачик-крестик
Отец – Бовян Хачатур Сергеевич, в просторечье Хачик, – комсомолец, бывший солист детского районного ансамбля народного танца, в урочный час был призван в вооруженные силы Советского Союза – выполнять почетный гражданский долг. У нас тогда считали, что парень, не отслуживший в армии, не может называться взрослым мужчиной. В городе, там – да. Там свои законы. Там служить охотников было мало, а у нас хоть отбавляй. Да и что делать здоровому половозрелому балбесу в деревенской тиши? Собирать табак да жать рожь до полудня? Перебирать помидоры и резать виноград в большие корзины днем? А вечером… А что вечером? Индийское кино на исцарапанной черно-белой копии, и то если отпустят строгие родители. Ведь ты еще не служил, значит, не взрослый и не самостоятельный мужчина. Вот отдашь родине должок, вернешься, женишься, дай Бог, на хорошей соседской девушке, вот тогда, пожалуйста, ходи в свое кино. Но какое кино у женатого человека? Приезжая ветеринарша в раме окна в момент вечернего переодевания или оперетта «Летучая мышь» в рамке телевизора, у кого имеется конечно. Так и образовывался замкнутый круг, попав в который наши парни вырастали равнодушными к кинематографу и неподкованными в области искусств. Лишь жалкие остатки экранных сердечных сцен, призраки любовных бурь, великодушно оставленные цензурными ножницами, – вот они-то и вызывали, порой, волнение юных масс, вплоть до предреволюционной обстановки в крепких армянских семьях. Так называемая эротика выливалась на экран через живительный родник «Генералов песчаных карьеров» или рассыпалась драгоценным «Золотом Маккены». Молва о том, что в «одном кино» присутствует эпизод «с голыми грудями», каким-то невероятным образом, в считаные минуты, облетала деревню. Похоже, что слухи разносил киномеханик Арик, ездивший за копиями в райцентр. Иногда его словоохотливость дорого ему стоила. Ведь щекотливая информация доходила не только до молодежи, но и до их бдительных родителей. Например, мой дед лично саданул киномеханика Арика полевыми граблями в тот момент, когда Арик нашептывал группке юнцов со сверкающими глазами:
– …И она повернулась и так посмотрела на него… А он руку так ей в волосы, а она, гимнастка, честное слово! Спина, как у аиста…
– Я тебе покажу, где у аиста спина. У аиста спина, где у тебя твой грязный зад! А там, где ты показываешь, у аиста шея! – закричал дед.
– Ай, ай, дядя Серёж, дядя Серёж! – визжал Арик, пытаясь увернуться от тяжелого удара.
Но деваться Арику было некуда. Стояли-то они с парнями между кинотеатром и каменным забором школы. А стены этих строений имели расстояние метра в полтора по фасаду, а затем сходились в двадцатисантиметровый проем, в который протиснуться мог только ребенок или щуплый юноша. Когда мой дед подстерег кружок по ликвидации половой безграмотности, заговорщики находились как раз на середине сужающегося прохода, подальше от шумного деревенского пятачка, где кроме киношки и школы находились также почта и медпункт. Там каждый мог засечь возбужденную агитацию киномеханика, вот они и проявили навыки конспирации, отошли на, как им казалось, безопасное расстояние. Дед издал свой боевой клич, оглушающий, нестрашный и, скорее, предупредительный. Парни поняли его верно и просочились в щель, поджав животы. Сиганули через крапиву и рассыпались по деревенским улочкам. Но Арик был тридцатилетним тружеником на ниве местной культуры. Живота хоть и не нагулял – где уж интеллигентному человеку растолстеть, с каких барышей? – зато обнаружил некоторую вялость в мускулатуре и плохую реакцию. Его-то и настигли дедовы грабли, оставив на спине и пониже косой росчерк из четырех красных полос.
– Дядя Серёж, разве можно так? – хныкал Арик и протискивался в проем.
– А вот я тебе еще раз, тогда узнаешь, можно или уже поздно.
Дед зачерпнул граблями, но Арик уже вытряхнул свое дряблое тело из каменной ловушки, а казенный сельхозинструмент, оказавшийся в умелых руках моего дедушки грозным оружием, только царапнул по стене, издав неприятный звук.
Но если для Арика неприятности на этом закончились, то моего молодого и ветреного отца Хачатура Сергеевича ждала тяжелая кара. А именно тяжелый и прямой взгляд родителя, старшины-артиллериста в запасе, сапожника в пятом поколении, а иногда и, вынужденно, колхозника. И вынести этот взгляд, поверьте, было значительно труднее, чем зуботычину. Как свидетельствует коллективная семенная память, в нашей семье рукоприкладства отродясь не применяли, и пронзительный взгляд был одним из самых грозных воспитательных действий. Помолчав, дед сказал:
– Служить пойдешь осенью в вооруженные силы.
Да, так и сказал дед, «в вооруженные силы». Хачатур повесил голову на грудь.
– Пойдешь с радостью! – приказал старик.
Но отцу моему в армию не хотелось ни с радостью, ни без. Он присел на скрипучий табурет и уронил голову в ладони.
– Проклятье на мою седую голову, Хачик! Ты что задумал?!
Папаня мой подумывал про обходные пути.
– Ты не хочешь быть настоящим воином, защитником слабых? А если завтра война? Если завтра тебе придется мать защитить, землю, кинотеатр?
Последний ли аргумент заставил отца смириться, или проклятие никогда не стать мужчиной тяготило его? Но пошел он принимать присягу, как проходить ритуальную инициацию, – больно, но надо.
Оказалось же не столько больно, сколько унизительно. В день, когда Хачатур Бовян, в домашней обстановке именуемый Хачик, давал Родине тожественную клятву защищать ее при любых обстоятельствах от всех возможных супостатов, случилось непредвиденное и малоприятное обстоятельство – воинская часть почти в полном составе отравилась чем-то и мучилась диареей. Отменить торжество было уже невозможно – приехали родные присягающих да высокие гости из штаба дивизии. После каждого «Вольно, разойдись!» не то что расходились – разбегались, рассыпались по сортирам, не соблюдая очереди, не видя срама. Так и запечатлелись на фото – у всех глаза, как мельничные колеса, – терпят из последних сил до следующей возможной отлучки.
И похоже, что это были все яркие воспоминания папы об учебке под Саратовом. Сколько ни спрашивал я потом отца, ничего интересного он припомнить не мог – ни о товарищах своих, ни о едком армейском юморе, ни о зверствах младшего офицерского состава над беззащитными юнцами. То ли не было ничего такого в те времена, то ли память утеряла что-то по пути от отца ко мне. Но ведь история – это лишь зафиксированные события. То, что произошло без надлежащего закрепления на странице регистрационного журнала или мемуаров, превращается в дым. Да и он быстро развеивается. Стерлось из воспоминаний, значит, и не было вовсе. А вот дальнейшее место службы моего папы стало благословенным и перстоположенным, по мнению всей моей родни.
– Ангел указал это место военному министру нашей великой страны, – говорила бабушка, поднимая свой аккуратный и крепкий пальчик, когда рассказывала о тех событиях. – Ведь отца должны были отправить в Архангельск. Но министр посмотрел на личное дело и подумал вслух:
– Бовян? Хачатур? Нет, на севере он замерзнет. Пошлем его на юг.
Сначала я пытался выяснить, откуда моя бабка взяла в разум этот внутренний монолог министра, но бросил это занятие. Бабушка утверждала, что знает, и этого было достаточно. По мнению многих, бабушка общалась с потусторонней силой, и некоторым ее утверждениям приходилось просто верить. Ангел так ангел. Говоря короче, север остался на севере, а Хачик поехал в пехотные войска в жаркий город Душанбе. И привез оттуда молодую жену – русскую девушку Люсю – мечту любого кавказца.
Он увидел ее на улице. До дембеля месяц. Жизнь пела громкие песни, да прямо в уши. Хачик стоял возле магазина «Соки – Воды», ел быстро тающее мороженое и рассказывал сержанту Брасюнасу о разнице между греческим сиртаки и аналогичным танцем древних армян.
– Смотри, – простирал он в стороны руки.
Мороженое отчаянно капало.
– На ноги смотри.
Высокий Брасюнас покорно опустил голову и начал изучать грубую кирзу на сапогах товарища Бовяна и представлял под нею ноги.
– Шаг, шаг, шаг, присяду.
Сначала Хачик показывал медленно.
– Еще шаг, еще шаг, еще присяду.
Ритм танца, подобно биению сердца, начал учащаться.
– Повернусь…
Брасюнасу все труднее было считать шаги. И почти невозможно было понять, присел Хачик или это его тело само, подобно пружине, сжимается, чтобы в заданный миг взмыть, рассечь воздух вокруг себя.
– Вот так! Вот так! – прыгал Хачик после очередной «дорожки».
Брасюнас поцокал языком, а папа совершил грациозный поворот – спасибо товарищу Иваняну из детского танцевального ансамбля. Еще поворот – и брызги мороженого обдали светлоголового сержанта сладким дождем. Брасюнас не гневался – не умел, только хмурился и белоснежным носовым платком оттирал с волос и гимнастерки липкие белые капли. Папа продолжал танцевать. Со стороны прохожих его пластическое самовыражение вызывало неловкость и беспокойство. Плыла над городом мутная и пряная жара. Из уличного репродуктора не к месту звучал вальс Штрауса, и отец увидел ангела. Только ангел улыбался отцу открыто и дружелюбно. Перед глазами Хачика вдруг запрыгали зеленые и фиолетовые пятна, сапожищи налились горячей тяжестью, и мой отец с радостной ответной улыбкой опрокинулся на мягкий от зноя асфальт в мир благодатной прохлады и внезапного удивительного покоя. Там, куда он попал, будто кто-то раскачивал его в большой люльке и напевал нежную песню.
– Хачик! Оп-на! – удивленно воскликнул сержант Брасюнас, будто Хачик, мой папа, выкинул нечто эксцентричное.
– Солнечной удар, – было последнее, что услышал отец, прежде чем уплыть в какой-то иной мир, и потерял сознание. И это сказал Ангел.
Даже когда отец очнулся, Ангел все еще не испарился, не перешел в иное состояние, а был тут, над папой, в прямом смысле этого слова. Он, а вернее она, стояла над распластанным телом, широко и крепко расставив ноги на немыслимых платформах, и звонким голосом давала распоряжения.
– Под голову подложите, под голову! А вы, товарищ, что там у вас? Минералка? На лицо попрыскайте. Зачем в рот льете? Он не может сейчас пить – он без сознания! Очнется – дайте попить, а пока – прыскайте. Девушка, у вас двушка есть? Звоните в скорую!.. Так звоните! В скорую и без двушки можно!
– Ой! Он открыл глаза, – пискнула девушка, которой велено было звать врачей.
– Ну и что? Все равно скорую! Человек нуждается в квалифицированной помощи! – категорически заявила моя будущая мать (а это была именно она) и, как всегда, оказалась права.
Папа действительно приоткрыл глаза, но, как только увидел над собой эти белые ноги, тут же снова отбыл куда-то в своей эфирной люльке.
Дальше Хачик вспоминал пунктирно: госпиталь – ангел в наброшенном на плечи белом халате – марлевая занавеска на двери – и все равно надсадное жужжание гигантских мух – сержант Брасюнас с транзисторным приемником – лицо Брежнева – потная спина главврача – голос Толкуновой: «В лесу говорят, в бору говорят, растет, говорят, сосенка…» – Люся – ангел – разбитый градусник – изумрудная глыба арбуза – длинный тонкий нож, вспарывающий ему брюхо, – арбузный сок стекает по губам ангела Люси – диагноз – воспаление легких.
– Откуда, мать вашу? В такую жару! – возмущался лейтенант Пивоваров, командир отделения.
Сообщили даже родителям в Армению. Мол, так и так, ваш сын слег, и не с чем-нибудь, а с легочным заболеванием, но беспокоиться нечего, рядом с ним опытные врачи и ангел Люся. Сообщение вызвало настоящий переполох в клане родственников, но бабушка поколдовала на утренней росе и заверила всех: Пивоваров прав – беспокоиться нечего. Вмешательство ангела было естественным в системе координат, в которой строился мир моей бабки. Поэтому, ничуть не взволновавшись о болезни сына, бабушка предупредила:
– Помяните мое слово, наш Хачик женится.
Дед только махнул рукой:
– Тут-то на него никто не позарится, а там-то и подавно.
– Откуда знаешь, старый ты и глупый человек, что там с нашим сыном произошло?!
Дед нетерпеливо всплеснул руками, отгоняя бабку, как назойливую муху. Она мешала ему втыкать подпорки для фасоли, которая имела одну особенность – очень стремилась вверх, но самостоятельно не умела дотянуться до солнца. Бабушка шла за дедом след в след и поправляла колышки.
– Может, он там крылья свои расправил, в орла превратился.
Дед только цокнул языком.
– В настоящего горного орла, – настаивала бабушка.
Дед покачал головой.
– И вообще, кто ты такой, чтобы про моего сына такие вещи говорить?! – не выдержала, наконец, она.
Некоторое время они еще общались в том же ключе. Затем дед, молчавший все это время, хотя и красноречиво общавшийся с женой глазами и богатой мимикой, закончил свое дело, приподнял бабушку за локти и переставил на траву. Она мешала ему пройти в сарай. Бабушка постояла, подумала и решила, что время покажет. И сын вернется орлом и женится на красивой, умной и образованной. А она, бабушка, мужу отомстит по-другому. А как, он, дурень, никогда не узнает.
И отомстила, маленькая, кругленькая Яга. Заварила, чего-то пошептала над чашкой и подала ежевечерний отвар конопли, что помогал деду от бессонницы. Но вместо того, чтобы заснуть, дед пустился в пляс, полночи бегал по деревне, навещая родственников и друзей. Искренне беспокоился об их здоровье и, главное, о том, как учатся дети и внуки. Ведь это так важно, чтобы дети хорошо учились. Ученье свет, а неученье – сплошное разочарование в жизни. Родственники и друзья были обрадованы, но, в основном, крайне удивлены временем, выбранным Серго для визитов. Что, спрашивается, взбрело ему в голову наносить ночные визиты? А тот болтал без умолку и, кроме всего прочего, рассказывал и о близкой свадьбе сына. И что невеста его – настоящая красавица.
Да, у мамы было все как надо – коса до пояса, глаза, как блюдца с чаем, узкие щиколотки и бесконечные, бесконечные, бесконечные ноги. К финалу их созерцания, остановленного беспощадным, как росчерк бритвы, краем маминой юбки – сантиметров на пятнадцать выше колен, – отец был влюблен. Алый подол этой юбки, как наваждение, полыхал перед глазами, распаляя его южное воображение. И жизнь его окрасилась в цвета жгучей депрессии. А именно: в красный – цвет этой чертовой юбки, белый – цвет кожи ангела, черный – цвет фармакологических снов, в которые он проваливался, синий – цвет стены, которую он видел перед собой каждый раз, когда просыпался. Скупая палитра радуги мучила, но не убивала, как неразделенное чувство. Понимал Хачик, люди, порой, живут серой жизнью, а его-то дни были расцвечены. Между взрывами эротических фантазий, когда изнуренный страстью мозг отца отдыхал, возникали в его голове и нежные мелодии сладких грез – красивые здоровые дети, светлоголовые, но черноглазые… Да, пусть у них будут глаза, как у него, – темные, а волосы, как у Люси, – белые, и кожа белая, как у Люси… Такая светлая… нежная… почти прозрачная у нее кожа… и родинка над ключицей… а в ложбинке под ключицей – прохладная тень, и хочется припасть к этой ложбинке и пить, все время пить ту прохладу… Дальше, без сомнения, следовала очередная гормональная буря, вконец измотавшая папу. Дождавшись затишья, он убежал в самоволку и сделал Люсе предложение.
Она снова удивила его. Первое, о чем спросила:
– Как переводится твое имя?
– Хачик? – Папа пожал плечами. – Хачик – это крестик.
Дело к свадьбе
Считалось, что моя мама была сдержанной и рассудительной особой. Но, видно, и маминому пресловутому благоразумию были положены границы. То есть сложнейшая генная инженерия внутри Люси имела некий механизм, защищающий от благоразумия, предохранитель от скучной нормы. Ведь если бы Господь полагался на одну лишь маму, то вряд ли она смогла бы продолжить чей-то род, включая, кстати, свой. Девушка, позволявшая себе расхаживать в алой юбчонке, на деле была отъявленной пуританкой. А юбка та была всего лишь маскировкой. Но милостив Бог, мама приняла папино предложение. Вы скажете, что это было чистейшим безрассудством – согласиться стать женой солдатика-пехотинца, уличного танцора кавказских кровей, чей дом и стол были столь же далеки отсюда, сколь и неведомы? И будете правы, хотя еще даже не ведаете о масштабах сумасбродства маминого поступка. Вы скажете, что это было опасно – сказать «да» человеку, вся духовная близость с которым определилась несколькими днями дежурства возле его бредоносящего тела? И это верно, хотя вы еще не знаете всех па грядущего «данс макабр», которые виртуозно исполнили папа и мама, Хачик и Люся – постоянные партнеры на безымянном турнире семейных пар. Ах, мама, мама, белокожая и нежная моя мама… И потом, я не вправе ее осуждать – она разволновалась. Видимо, так сильно, что повела себя самым неожиданным образом.
Мама говорила спокойно и даже чуть тише, чем это приличествовало в данных обстоятельствах. Но дело было не в уровне звука. Нет, она не бросилась на шею грядущему жениху и не влепила Хачику пощечину для острастки. Она кивнула. Помолчала. А затем заговорила. Это был первый коронный монолог в трагикомедии «Люсина жизнь, или Русская хозяйка большого армянского дома».
Если б можно было сегодня заплатить миллион, чтобы вернуться и послушать, как выступала тогда Люся, я бы, не задумываясь, отдал, благо сегодня у меня водятся большие деньги. Но я, как и никто другой, не в силах совершить сальто через годы, собственное рождение и время небытия. А в реинкарнацию я, увы, не верю. Я не могу попасть в тот удивительный миг и вынужден верить на слово своим родителям. А они, каждый в свою очередь, рассказывают следующее:
– Когда она выступала, я смотрел на нее с восторгом, хоть и не понял ни единого слова.
Это папины слова. Мама рассказала, что предложение приняла, сказав, что почтет за честь, что всегда рада оказать услугу, что по первому зову готова прийти на помощь, что, когда случится страшное, она непременно окажется рядом, а когда грянет гром, она не только поможет креститься, но даже научит, если Хачик этого не умеет. И вообще, у нее, Люси, есть множество разных умений, полезных для жизни, – так, например, она умеет кататься на горных лыжах и даже прыгала шесть раз с парашютом… Кстати, этот пункт папино сознание ухватило. Он почему-то представил, как Люся бросается из самолета в алой юбочке… Она падает камнем, а он умирает от страха на земле. Парашют все не раскрывается, зато юбочка… И вот, наконец, над ней открывается спасительный купол, такой же алый, как и юбка. Дальше сознание папы снова выключилось.
Она выпалила набор социально приемлемых формул, которые употребляют обычно, когда хотят не только познакомиться поближе, но и взять на себя некоторые обязательства и даже – кто за язык-то тянет? – гарантировать их исполнение. Такое можно сплошь да рядом встретить в международных отношениях, когда государства не только стремятся упрочить дипломатические связи, но и надеются заполучить выгодные торговые контракты. Поэтому в ответ на протянутую руку какого-нибудь сдержанного англичанина (или англичанки) наш бровастый Леонид Ильич тут же бросался лобызаться. «Я поцелуями покрою уста, и очи, и чело… Я-а-а по-це-лу-у-у-ями покр-р-р-ою уста и о-о-очи…»
Стало быть, мама согласилась, даже не поинтересовавшись условиями будущей сделки. Она поступила так, будто заранее спрогнозировала ход событий. Очутилась на душанбинской улице в солнцепек, спасла от неминуемой гибели советского солдата и ни капли не удивилась его внезапной влюбленности. Как будто она знала, что Хачик Бовян сделает ей предложение. Как будто много раз накануне перед зеркалом она репетировала свое хриплое «да».
В теории мама представляла себя загадочной и никем не понятой героиней декадентского романа. Дома, перед зеркалом ее «да» выглядело сдержанно, с достоинством и даже с капелькой неприкрытой иронии в качестве специальной приправы. Мол, мы оба понимаем, кто ты, а кто я. Но я все равно согласна. Ведь ты забавен, а я скучаю. Ведь вместе мы как… И вот здесь теория давала сбои. Да-да. Ведь согласно домашней заготовке нужно было произнести «как вода и огонь» или «как лед и пламень», «как черное и белое» или как, на худой конец, «красное и черное». Вообще, подошла бы любая банальность, призванная означить полярность и притягательность антиподов. Но Люся и сама была как огонь, и в тот момент, когда собралась произнести отрепетированные фразы, она… просто онемела. Противопоставление не строилось. Конфликта не получалось. Ни внутреннего со своим капризным «я», ни внешнего с этим черноглазым, похожим на плеть парнем.
И раньше так бывало. Как только Люся оказывалась лицом к лицу с реальными событиями, ироничная улыбка Беаты Тышкевич и Маргариты Тереховой немедленно сползала с ее лица, уступая место искреннему гневу, удивлению или страху. В зависимости от ситуации. Не удавалось маме натянуть на себя чужие одежки. Не шла ей чужая помада, а также чужие улыбки. Не умела она сдержать смех, когда щекотало нёбо, и слезы немедленно начинали капать, когда щипало в носу. Примеров тому было множество. Однажды она назвала ослом директора мясного магазина за то, что во вверенном ему заведении толстый мясник Султанчик обвесил ветерана войны. Директор магазина обиделся и перестал продавать из-под прилавка вырезку маминой семье. А был случай, когда Люся не смогла сдержаться и расхохоталась на городской конференции комсомольцев-активистов, потому что солидный докладчик из горкома оговорился, сказав:
– Партия и правительство всецело заинтересованы в постоянном унижении дефицита на прилавках наших магазинов…
Конечно, докладчик имел в виду «понижение». Просто оговорился человек. Но Люсе смешинка в рот попала, и она засмеялась. Конечно, впоследствии девушку отругали в первичной комсомольской ячейке, но характер-то не изменишь.
В конкретном случае папиного предложения, в деле столь же сердечном, сколь и общественно значимом (будущая семья – не шутка), прямодушие Люси предрешило не одну только ее судьбу.
Искренность, невидимая швея, принялась за работу. Она соорудила невесомый, как дым, но прочный, прочнее вечности, сачок. Фея сшила его из подола маминых свадебных юбок и поймала в него на небесном лугу, где паслись планиды еще не рожденных детей, три звездочки Люсиных будущих отпрысков. И хоть в воображении мама и видела себя роковой и капризной, но это была ошибочная теория. Пришлось оставить ее за бортом истории. На практике моя будущая мама высказала свою позицию столь отчетливо и громко, что темпераментному армянину Хачику Бовяну на секунду померещилось, будто на его предложение откликается не одна женщина, а целая дюжина.
А позже Люся пришла домой и сказала:
– Предки, я выхожу замуж.
Русские дед с бабкой, он – инженер-гидростроитель, она – инструктор юношеской команды по стрельбе из лука, выдержали паузу, каждый по своей причине. Он – дочитывал статью, она – боролась с волнением. После паузы возникли разногласия. Дед Павел сказал:
– Ну и хорошо.
А бабушка Лидия Сергеевна закричала:
– С ума сошла?
– Почему это? – удивилась Люся. Ей казалось, что никогда еще она не была серьезней.
– Потому что он пастух с Кавказа!
И хотя папа никогда не был пастухом, но маму зацепило не это.
– Ну и что? – искренне удивилась мама. – А ты русская немка из Средней Азии, которая стреляет из лука по мишеням. Скажи, в каком случае больше странностей, в его или в твоем?
– Я – спортсменка! Я – тренер! Я – мастер.
Мама молча согласилась с каждым утверждением и скрылась в своей комнате. Дед Павел взялся за журнал «Вокруг света», а бабушка Лидия Сергеевна обиделась и отправилась на кухню греметь посудой – пришло время ужина. Вообще-то бабушка считала себя русской, и потому упоминание о сгинувшем в сталинском лагере немецком отце воскрешало дурные воспоминания детства, когда от дворовой ребятни доставалось ей и за вой ну, и за голод, и за неведомый и далекий фатерланд.
– Немка! Я-то, может, и немка, а он бог его знает кто. Павлик, скажи ей! – закричала бабушка из кухни, отыскав, наконец, объект приложения энергии.
Дед Павел всегда выполнял просьбы бабы Лиды. Делал он это бесстрастно и точно, будто это в его жилах текла немецкая кровь.
– Армяне – древний и очень цивилизованный народ, – отчеканил дед, словно читал со страницы журнала о путешествиях.
– Павлик! Не нужно этнографии. Выскажи свою позицию! – потребовала бабка Лидия, появившись в дверном проеме с половником в руке.
Дед отложил очки и размял губы, как будто собирался разразиться скороговоркой. После чего весьма серьезно заявил:
– Моя позиция довольно сложна. Но я готов поделиться мнением, ибо оно основано на фактах и многолетних размышлениях. Европейская кровь сама по себе не способна уже дать полноценного продукта. Да и Восток одряхлел, устал, начал повторять сам себя. Славянские народы, как молодые, еще формирующиеся нации, в сочетании с кровью Востока и Азии могут…
Бабушка замахала половником:
– Что за расистская теория?!
Дед пожал плечами:
– Скорее антирасистская.
– Все равно! Это весьма странно слышать от тебя. Ты ведь коммунист.
– Вот именно. А в этом деле нет ни эллина, ни иудея.
– Я последовательный атеист! – заявила меткая бабуля.
– Еще бы. Ведь твой дед был лютеранским пастором.
– Павлик!
Дед пожал широкими плечами. Он-то ведь знал, что побушует Лидка и успокоится. Просто у нее позиция такая – всегда быть против. А ему нужно сохранить брак, рассудок и целостность бытия. Да еще не нарушить грубой случайностью некрепкое русло жизни дочери. Поэтому дедушка Павел вытянул шею и крикнул:
– Люська, прошу тебя, оставайся в старых девах. Твоей маме так будет спокойнее.
Объект конфликта – прекрасная Люся, выглянула из комнаты, скрестила на груди руки, ожидая развития сюжета.
– Павлик! – закричала баба Лида. – Это провокация! Не слушай его, Люся!
– Точно говорю, Люська!
Он окинул дочь взглядом и, кажется, остался доволен.
– Она хоть и ходит на платформе, но, кажется, уродилась в своего протестантского родственника.
– Павел!
– Честно, – преспокойно парировал дед. – Я тут видел, как она покраснела, когда прохожий спросил, как пройти к базару.
– Папа! Я покраснела потому, что он процедил сквозь зубы неприличное слово.
– Вот и я говорю. Краснеешь. А это проба качества.
– Папа!
– Павлик!
– Молчите обе.
И Павел Константинович поднялся и решительно направился во двор, вздремнуть под чинарой. Лидия Сергеевна, таким образом, теряла партнера по дискуссии, ведь дочь не собиралась обсуждать с ней этот вопрос. А Люся лишалась гипотетического союзника в случае внезапного и коварного нападения матери. Вдруг Лидия Сергеевна задумает что-нибудь злокозненное.
– Павлик!
– Папа!
– Я молчу, – твердо сказал Павел Константинович, укладываясь на кушетку, покрытую продранным, но мягким ковром.
– Павлик, у них будут смуглые дети.
Тахта привычно заскрипела, дед повернулся задом к своим беспокойным женщинам и предложил, не оборачиваясь:
– Люська, не надо замуж. Усыновишь блондина из дома малютки.
– Павлик, у них будут странные, невыговариваемые имена.
– Люська, назовешь всех по номерам, – сквозь зевоту отшучивался дед. – Так твоей матери сподручней запоминать. Да, номерки непременно нужно будет нашить на одежду, чтобы твоя мама, не дай Бог, не перепутала.
Нависла угрожающая пауза, которую дедушка неверно истолковал как финал темпераментного спора и возможность наконец поспать. Как настоящий контрабандист, он знал множество запретных тропок в царство сна. Некоторые из них вились в пространстве почти легальном и маскировались с помощью книги или газеты. Но в умении прошмыгнуть из реальности в благодатное сновидение высшим пилотажем было заснуть с риском для реноме, но с пользой для организма. Так однажды мой дед заснул на совещании, просто обхватив голову руками. Его похвалили тогда. «Вот как человек за дело радеет! Стыдно ему за то, что у нас тут происходит!» А дедушка Павел видел во сне, как он учится подделывать подпись Наполеона. Нынче он просто юркнул в щелочку сна буквально между ног Колосса Родосского, не зная еще, что Колосс решил дать гопака во вверенной ему лужице. Опасность, конечно, исходила от Лидии Сергеевны.
Здесь я должен оговориться, во избежание возможных негативных трактовок в дальнейшем, – моя русская бабушка была очень доброй женщиной. Да, она не любила животных, но залезла в люк достать упавшую туда соседскую кошку. Да, она терпеть не могла показных лобызаний, но проявляла беспримерную покорность, когда моя младшая сестренка Света, обучаясь навыкам коммуникации, облизывала все вокруг: сначала старые ботинки, а затем бабу Лиду. Да, Лидия Сергеевна не переваривала даже запаха баранины, но исправно готовила ее мужу, который обожал мясо молодого ягненка.
Просто Лидия Сергеевна была спортсменкой, да еще такой редкой специализации, как стрельба из лука. Она привыкла видеть перед собой мишень и бить точно в цель. А здесь она терялась. Она, конечно же, не была противницей замужества дочери. Просто Лидия Сергеевна очень смутно представляла себе невидимые слои жизни. Лучница по призванию и на деле, она не могла взять в толк, почему цель – в данном случае семейное счастье Люси – установлена так далеко, за Кавказским хребтом? И можно ли вообще стреле – читай, мысли человеческой или чувству – долететь туда? И потому последние слова мужа вывели ее из себя.
Он сказал: «Люська, назовешь всех по номерам. Так твоей матери сподручней запоминать. Да, номерки непременно нужно будет нашить на одежду, чтобы твоя мама, не дай Бог, не перепутала». Смутное подозрение зародилось в всполошенной голове бабушки Лиды. За кого ее принимает муж? О чем он говорит? Неужели?.. Вот это настоящее фиаско! Оказывается, Лида больше двадцати лет прожила с человеком, который, как выясняется, подозревает ее Бог знает в чем! Вот дела!
– Павлик! На что ты намекаешь?
Дедушка, которому тогда едва исполнилось сорок пять, застонал. Он начал пробираться по своим тайным тропкам в земли сновидений, но был грубо прерван и вынужден был вернуться. У него законный выходной. Погода чудная, дерево тенистое. Скоро обед. А после этого немного живописных этюдов, затем нарды с соседом. Еще позже – ужин и любительский телескоп на плоской крыше. Но этот гармоничный мир грозит вот-вот рухнуть, потому что его жена, кажется, сейчас получит инфаркт. И не будет ни обеда, ни телескопа, а придется ехать с ней в больницу, давать взятки медсестрам и врачам, сидеть в изголовье кровати, извиняться и клясться Лиде в вечной любви. А этого он не любил. То есть Лидию он любил, а вот клясться в вечной любви – нет.
– Ни на что не намекаю, – сжав зубы, прошипел Павел.
– Нет, ты намекаешь на то, что мой папа был немец. И что у меня должна, наверное, быть историческая память.
– Лида, остановись. Тебя заносит.
Дед по-прежнему лежал отвернувшись.
– Ты ведь про концлагерь имеешь в виду?
Бабушка бегала вокруг тахты, заглядывала мужу в лицо, но тот зарылся лицом в подушку.
– Ты мне концлагеря намекаешь?
Дед не выдержал и ринулся со двора. Бабушка с низкого старта рванула за ним.
– Но мои предки уже сто пятьдесят лет в России. Они не имеют никакого отношения к немецко-фашистским захватчикам.
– Боже правый!
– Ты на этих немцев намекаешь?! Но они – это позор нации. В моем роду…
– На спорт!
Дед был крупный мужчина. И когда он встал посреди гостиной и гаркнул «На спорт!», рюмки в серванте пискнули от страха и вспорхнули на пару миллиметров.
– На спорт я намекаю. У вас в спорте люди под номерами выступают.
Оба выдохнули. Бабушка была удовлетворена, но не хотела этого признать. В конце концов, главный вопрос – судьба дочери – так и не был решен, а они с мужем уже перешли на личности.
– Это твой дед, между прочим, был чекистом, – язвительно заметила Лида.
– Мой дед?! Он служил в ЧК фотографом…
– Нейтралитет – это не оправдание.
– А как же тогда Швейцария?
– Жалко и бессмысленно глядеть на картонный фасад этого пряничного государства, за которым скрываются зверства капиталистической действительности.
– Лида, ты не пишешь текстов для программы «Время»?
– А ты слушаешь радиостанцию «Свобода»!
– Кричи громче, еще не все соседи об этом слышали!
– Все и так слышат, когда радио трещит.
– Это твои коммунисты глушат голос разума.
– Диссидент!
– Ты еще настрочи на меня донос!
– Доносы – это к твоему дедушке-чекисту.
Вот в таком вот духе они спорили. Подноготную друг друга родители вспоминали около недели, и поэтому Люся, послушав их немного, обычно тихонько утекала на свидания с Хачиком. Возвращалась она поздно, когда родители уже рассыпались по разным концам кровати в общей спальне и делали вид, что спали.
Со временем они оба походили с дочерью во фрондах. Баба Лида – из принципа, дед Павел – из-за того, что выбор дочери стал испытанием и его брака. Но все же благословили Люсю и выдали в приданое хрустальную вазу и сберкнижку, заглянув в которую невеста изрядно повеселела, а жених, напротив, поник головой. Таким явственным был финансовый перевес в пользу будущей супруги. Вероятно, именно тогда зародилась в душе отца мечта о богатстве, пока еще невнятная, как мычание теленка, но настойчивая и требовательная. Глаза Люси лучились, а Хачик хмурил брови, отчего вид приобрел мрачный и даже зловещий.
– Что с ним, Люсенька? – встревоженно спросила моя будущая русская (немецкая) бабушка Лида.
– Мамочка, он… – Люся подбирала слова. – Он прячется.
Свадьба и новый путь
Мама кружилась перед зеркалом, примеривая новенькие сережки с «горным хрусталем» в золоченых лапках. На самом-то деле это была наипростейшая чешская бижутерия. Но молодость чурается показной роскоши, она тяготеет к показному равноправию. В тяжелом деле выбора между элегантностью и красотой молодость выбирает нечто третье – доступность. Чем стекло хуже бриллианта? И если сверкают они одинаково, то к чему грубые материалистические мечты, отбирающие покой и сон, а главное – деньги? Действительно, к чему тревоги и глухое отчаяние от невозможности обладать прозрачными камушками, каждый из которых, вернее его стоимость, мог бы дать человеку приют и пищу в какой-нибудь малоразвитой стране приблизительно на год? И потом моя мама ни разу не видела, как выглядят настоящие бриллианты. Вернее, видела всего раз, в ленинградском Эрмитаже, куда приехала на экскурсию вместе с родителями. Отстояв очередь вполдня, Люся, которой тогда было лет двенадцать, разглядывала в витрине громоздкие короны, похожие на неудобные и глупые шапки. Она смотрела и думала, что нет на свете ничего нелепее. Нешто ради этого пили кровь у народа всевозможные аристократишки и дворяне, и возникло неравенство классов, а потом похожая на африканского жука-носача «Аврора» грохнула своим холостым патроном? Нет, вряд ли нам близок этот путь, решила Люся, и бриллианты не будоражили ее воображение в юности. А чешское стекло продавалось обильно и было доступно Люсиному пониманию. Вот цветочек, вот листик. Вот еще цветок и божья коровка на стебельке. Вот ее Хачик смотрит черными глазищами, кажется, что до дна видит.
– Он прячется, мамочка.
– Куда прячется?
– У него душа, как зверек ночной. Прячется от чужаков.
Лидия Сергеевна насмешливо усмехалась, разглядывала свои ухоженные ногти, а затем купидончика на потолке, тот целился из лука в посетителей загса Ленинского района города Душанбе. Когда-то, до советизации Средней Азии, этот особняк принадлежал местному баю. Посетив делового партнера в Саратове, бай нашел свой дом более роскошным. Но одному позавидовал – крылатым толстым детям на потолке компаньонщика, заказал себе таких же.
– А от тебя не прячется? – по привычке продолжала наступать Лидия Сергеевна.
– Нет. Перестань ехидничать.
Бабушка пожала плечами. Она – заслуженный лучник СССР – привыкла бить в цель, сложности психологии были ей не по плечу. Да и зачем ей вмешиваться в предстоящую дружбу народов? Для этого существовали люди с длинными языками и дурными взглядами. Они-то уж перемоют косточки Люське. Вот бы ей услышать хоть немного из того, о чем уже судачат в квартале.
– Неправильно руку держит, – неожиданно произнесла Лидия.
Люся вскинула голову и, проследив за взглядом матери, уперлась в жирнотелого Купидона. Бог плотской любви – сам еще дитя – едва удерживал свое орудие, а все туда же, стремился к доминированию и манипуляции чужими судьбами.
– Ну и пусть. По тебе же главное, чтобы в цель бил.
– Смотри, Людмила, не прогадай, – вздохнула Лидия Сергеевна. – С твоими данными…
– Началось.
Бабушка уж и сама устала в сотый раз произносить свой, похожий на языческий охранительный заговор, материнский спич. Ее можно понять, она старалась за двоих. Ведь на дедушку рассчитывать не приходилось. Тот ушел в глухой нейтралитет, впоследствии переросший в просветленный мистицизм. Об этом нужно рассказать особо.
Надо сказать, что мой будущий дедушка Павел хотел на практике доказать, что политика партии и правительства в национальном вопросе – это единственное правильное место во всем марксистско-ленинском учении. Отчасти ему это удалось. Начало всему положила сама партия, отправившая в Среднюю Азию (против желания, разумеется) немцев, русских и прочие народы на постоянное место жительства. Видимо, партия решила, что перекос численности населения в пользу местного неблагоприятно скажется на общей политической обстановке в регионе, поэтому и придумала разбавить расслабленных азиатов трудолюбивой европейской породой. Как ни странно, эксперимент привел к результату. А потом те же чуткое ухо, зоркий глаз и деятельная длань партии – у этого чудного зверя всего было по одному – все это дрогнуло, мигнуло и почесалось, соответственно, и закинуло сюда же, на юго-восточные рубежи Советского Союза, незнакомые и чужие, маленького армянина Хачика Бовяна. Со стороны КПСС это был ход сомнительный по форме, но мистичный по сути. Так считал мой русский дед Павел. В том волшебном котле, в котором, как в алхимической лаборатории, проходили перегонку люди, превращаясь в однородный бульон, национальность была неуместной и слишком пряной приправой.
Но это был только первый акт дедушкиного жизненного спектакля. Во втором Павел Константинович попал в сети языческих, я бы даже сказал оккультных, воззрений и всерьез полагал, что брак дочери с армянином Хачиком – это дело его рук. Себя он видел почти что колдуном Мерлином, сотворившим из Артура настоящего, на все времена, короля. Серьезно, дед Павел так считал! И знаете, с этим трудно было не согласиться. Вернее, с этим нельзя было поспорить, так как имелись факты в качестве неоспоримых доказательств. Дело было вот как.
Павел Константинович строил по всей стране гидроэлектростанции. Затем расширил свой кругозор и переключился на гидроочистные сооружения. Не обошлось и без мелиорации. Диссертация тешила самолюбие, КБ давало возможность практической реализации. Готов был Павел Константинович превращать кинетическую энергию падающей на поля родины воды обратно в свет лампочек над тетрадями в сельских школах. Дед блистал нарасхват, впору было почувствовать себя звездой планетарного масштаба. Бывал он и в Чаде, и в Аргентине, и в Эфиопии, добрался и до Армении. Он часто рассказывал дома, что такого рассвета, как над снежной вершиной Арагаца, он не видел никогда. Что такого простора, как в горах и долинах Шамшадина вообще нет в природе. И, может быть, его восхищение природой Армении прошло бы бесследно, но, как я уже говорил, у деда Павла имелось увлечение – он рисовал. Сначала он стеснялся своего хобби и делал это тайно, а потом распоясался, ободренный первыми похвалами соседей, жены и дочери. Одну из своих небольших работ, составивших «Армянский цикл», он и преподнес в подарок своему будущему зятю. Хачик осторожно взял в руки подарок, бережно развернул упаковочную бумагу, а потом поднял изумленные глаза – сначала на маму, а потом на будущих тестя и его меткоглазую половину.
– Что? – встревоженно прошептала Люся.
– Это мой дом… – И он указал на серебристую точку под горой, заботливо укутанную зеленью. – Это крыша… Я ее клал… Отцу помогал…
Люся с нежностью провела ладонью по жесткому ежику волос Хачика, а потом подняла благодарный взгляд на отца. И не было сомнений, что, мол, это просто похожее место, мало ли затерянных в горах деревушек, мало ли блестящих жестяных крыш, тутовых дерев с корой, как морщинистые лица старух, мало ли петухов на перилах террас, мало ли женщин, вынимающих хлеб из печи, мало ли мужчин, починяющих на заднем дворе старые штиблеты с тихим вздохом: «Хороша кожа. Подобью, еще сто лет прослужат». Сомнений не было.
Именно за жизнью семьи Хачика невзначай подглядел Павел Константинович в перерывах между многотрудным и ответственным делом постройки систем возобновляемых источников энергии и орошения. Именно в этом доме он, еще много лет назад, как в платиновом отеле, забронировал местечко для своей красавицы-дочери, польстившись на покой, уют и небесную чистоту, царящую здесь. Так и повелось думать, что брак мамы и папы состоялся, если не на небесах, то явно где-то в художественном пространстве бытия.
– Люся, ну почему он такой серьезный? – не унималась Лидия Сергеевна.
– Разве? А почему же он должен каламбурить?
Лидия Сергеевна грустнела. Она и сама не могла сказать, почему? Но шутка, она ведь располагает людей к собеседнику. Мог бы и постараться будущий зять.
– Нет, не то. Но будь по-твоему, – притворно соглашалась моя будущая бабушка.
А затем, пожав плечами, снова отправляла дротик своего сомнения в цель. То есть она всего-то ткнула изящным пальцем в объявление на дверях, оповещающее, что в связи с майскими праздниками загс меняет привычное расписание работы.
– Видишь, ты хотела зарегистрироваться на майские. А они не работают. Это знак. Ты не находишь?
– Нет, не нахожу, мама, – смеялась Люська и для убедительности повторяла фразу по-немецки.
Но неутомимой бабушке Лиде казалось, что своими сомнениями она вот-вот попадет в мамино сердце. А в него нетрудно было попасть, ведь Люсино сердце разбухло от любви, сделалось одной огромной мишенью, бей – не хочу! Но вот что странно, все дурное, сомнительное, все кисло-горькое на вкус, все тлетворное на запах не долетало до Люсиного сердца, увядало где-то на полпути и, поверженное, падало.
– Милая, скажи, ты хорошо подумала? – вопрошал уже дед Павел, но шепотом, отдельно от жены.
– Папа, папа, милый папа! Кто как не я умеет крепко подумать? Кого ты учил математике и вкладывал в голову все о физике?
– Но это все вроде чувства, а никакая не математика? – неуверенно сопротивлялся дед Павел.
Но моя мама, молодая Люсенька, нетерпеливо вскакивает и, резко крутанувшись перед зеркалом, шуршит юбками.
– Всё математика! Всё математика! Всё математика!
Дед тогда подумал, что Люся тронулась умом в предсвадебной горячке, поэтому не стал уточнять, что именно она имела в виду. Так и у Павла Константиновича, и у Лидии Сергеевны остались две неразгаданные тайны. Бабушка не узнала, почему дочь сказала про будущего мужа, что тот прячется, а дед Павел не понял, что связывает брак дочери и древнюю науку цифр. Но, в конечном счете, и мать, и отец привыкли доверять дочери. Поэтому рано или поздно нужно было заставить себя преградить русло селевому потоку сомнений. Счастливые глаза Люси гарантировали, что она сумеет распорядиться и юной своей пылкостью, и добротными генами родителей.
И вот наступил судьбоносный день Люсиной свадьбы.
Хачик волновался до новой горячки. Где-то рядом плыла фетровая шляпа его отца деда Серёжа. Она то выныривала, то вновь окуналась в пеструю толпу гостей. Солдаты, строгие девицы из техникума – мамины товарки, подчиненные новатора Павла Константиновича, стрелки из лука нескольких поколений – подопечные русской бабули, соседи, бывшие соседи, родственники, чьи-то дети, чьи-то внуки – и все гомонят, щебечут, матерятся, хнычут, хохочут и ноют. Серёж был счастлив. Он не выезжал из нашей деревни, кажется, со времен службы в армии, которую добросовестно пронес поблизости от родины – на Военно-Грузинской дороге. Даже это обстоятельство не расширило его географических горизонтов. Интересных людей Серёж встречал столько, сколько встречалось на его жизненном пути. Но много ли их можно повидать между домиком над ущельем и колхозным полем? Между сапожной мастерской и деревенским кладбищем? Много ли их, интересных и новых собеседников, находит дорогу в маленькую деревеньку в горах? Поэтому сейчас, на свадьбе сына, будто наверстывая упущенное, дед Серёж погружался в людей, как в море, и, кажется, эта стихия была для него родной.
Говорят, приезжала и армянская бабушка, но ни на одной из фотографий со свадьбы родителей ее нет. Она вообще по каким-то таинственным причинам плохо или вовсе не получалась на фотографиях. Обнаружилось это много позже. После ее смерти, когда для кладбищенского памятника понадобилось фото… Но все это будет позже… А сейчас – свадьба…
Вот Люсю обступили подружки по техникуму. Товарки шепчут, чирикают и хлопочут вокруг невесты. Должно быть, она чувствовала себя посреди птичьей фермы.
– Нет, Люсь, тебе повезло.
– Я знаю.
– А какой он хорошенький…
– Люся, только невысокий…
– Не говорите так, ей, наверное, неприятно…
– Люся, не переживай, все с Кавказа маленькие, твой еще ничего…
Прямо скажу, барышни гнусно льстили. Отец не был красив – ни раньше, ни теперь. Нынче, когда Хачатур Бовян считается человеком солидным, их явные преувеличения достоинств тогдашнего мелкого Хачика могли бы показаться подобострастным кокетством. Но ведь в ту пору они еще не знали, по какой головокружительной орбите пронесется планида солдатика из армянской деревни и подхватит за собой целую прорву людей. Бойкое чириканье девушек было всего лишь авансом, маленьким подарком ко дню свадьбы – подружке Люсе. Да и как они могли говорить иначе? Они любили мою маму. Между собой они были не так деликатны. Они говорили так:
– Она что, с ума сошла?
– Просто боится, что замуж не выйдет.
– Люська-то? На нее ж все парни заглядываются.
– Вот с жиру и бесится.
– Нет, девки, если бы это не наша Люська была, которую мы вот так знаем, – подружка раскрывает ладонь и глядит прямо в центр. – Я бы сказала, что здесь кроется страшная тайна.
– Ну, например?
– Ну, например, Людмила влюбилась в Муслима Магомаева, когда он приезжал на гастроли. Ну и…
Подружки с горящими глазами ждут продолжения этого самого «ну и», но зачинщица рассказа неожиданно тушуется.
– Что, Таня? «Ну и…»-то что?
– Да ладно.
– Нет, ты скажи.
– Соблазнил он ее девочки, ясно?
– Да ну?
– Точно говорю. Она забеременела и, скрывая позор, выходит замуж.
– А почему нельзя за кого-нибудь из наших выйти, поближе да познакомее?
– Я же говорю, «скрывая позор». Как же поближе скроешь?
– Ну да. Тоже верно. Хотя ребеночком от Муслимчика я бы только гордилась.
Но это они моют косточки, подружки мамины, без нее, конечно. А когда рядом Люся, они – решительно на ее стороне. Вот, разместившись полукругом вокруг маминых юбок, они токуют. Пытаясь быть не слишком откровенными, они снова и снова кидают взгляды на жениха, нервно ерзающего на краешке стула в «мужском углу». А также на его армейских товарищей, выстроившихся за ним, как на фото. Девушки торопливо рассказывают маме о том, чего она, быть может, не знала:
– Как устроены мужчины?
– Как нужно проверять, не заныкал ли он малую толику зарплаты?
– Как сердцем почувствовать, есть ли у него любовница?
Это и многое другое, бесценное в семейной жизни. Но вновь и вновь девушки возвращаются к внешним данным жениха. Подробный анатомический анализ папиной, прямо скажем, непритязательной внешности заканчивается, впрочем, в его пользу. Основываясь на народной мудрости и вековом женском опыте, подруженьки заключают, что все не так плохо: если рост невелик, значит, мужик в корень пошел. Это подтверждается и больших размеров носом, конечно же, эквивалентом величины детородного органа. Согласно другой странной теории соответствий, нужно смотреть мужчине на руки – большая ладонь также сулит надежный, как в сберкассе, капитал, правда, совершенно не финансового рода. А у Хачика внушительные руки… Сколько еще глупостей было сказано… Но мама, моя прекрасная мама, ничего этого не слышит. Она смотрит на папу, и в душе ее звучит вальс Штрауса и другая небесная музыка, перекрывая постылого Мендельсона.
Глядя на своих родителей, я часто думаю о том, как женщины становятся женами президентов и прочих великих людей. Подумать только, что же делается в голове у женщины, если она знает то, о чем еще не догадывается мужчина! Женщины выбирают их – этих тонкошеих студентов, никому не известных журналистов, рассеянных и прыщавых молодых биологов, физиков, инженеров. Неужели они что-то предчувствуют, отказывая уверенным в себе отличникам, богатым сынкам и внушительным штангистам? Скорее всего, именно так. И это-то неосознанное ПРЕДчувствование, непостижимое, смутное, но настойчивое воспоминание о будущем, вело мою мать по красной ковровой дорожке к столу с регистрационной книгой, где на соответствующей странице оставила Люся Михайловская навсегда свою подпись, девичью фамилию и город Душанбе.
Нет, мой отец не стал и, скорее всего, уже никогда не станет президентом. Может быть, на том свете, хотя и сомнительно. Но мама все же не ошиблась.
Нет, все-таки я хочу знать, что он ей обещал?
Кроме большой свадьбы в родительском доме Люси, сыграли еще одну, импровизированную, в военчасти. Напились, конечно.
Мама неподвижно сидела на краешке неудобного железного яуфа, будто отдавала долг родине: семнадцать оголодавших мужиков жрали ее во все глаза. Но я точно знаю, что ни один мускул не дрогнул на лице моей юной матери. Она обнимала их всех своим лучистым медовым взглядом так нежно, так спокойно, что у парней рождалась и оперялась твердая вера в завтрашний день.
– Вещь, – лаконично заявил сержант-бульбаш и протянул отцу старинный нож, из рукоятки которого были старательно выковыряны драгоценные камни, а потом сказал: – Пили мы тут с одним археологом…
– Зарежешь, если изменять будет, – добавил, театрально поигрывая белесыми бровями, старшина-литовец и подарил новехонькую пару украденного из интендантской солдатского белья.
Зашел и капитан Савельев. Он подарил набор открыток «Таджикистан – солнечный край». Опрокинул стакан водки и затянул грустную песнь:
Далее следовал душещипательный и немного тревожащий рассказ о том, как некто, избирающий вместо прямых жизненных путей извилистые лесные тропы, долго зачем-то бродил по бурелому. Изможденный и угрюмый, он вышел к этому тайному дому на обочине всего мира и вместо того, чтобы попросить горсть еды, глоток воды и место для ночлега на сеновале, провел довольно времени, подглядывая за развеселой жизнью одинокой молодой женщины. Соглядатай влюбился и долго мучил себя, наблюдая, как женщина принимала у себя шумные компании всяких маргиналов – от разбойников до потусторонней лесной нечисти.
В гробовой тишине допел капитан до конца и ушел. К чему был этот клич истерзанной мужской души, никто не понял: ни мама, которая собиралась любить отца до гробовой доски и дальше, если получится, ни тем более отец, который не мог расшифровать тайного смысла фольклорной мудрости в силу недостаточного владения прекрасным языком Набокова и Стеньки Разина. Савельева нашли потом в подсобке между клозетом и спальнями в состоянии близком к помешательству. Он громко хохотал над письмом жены, которая оповещала капитана, что подыскала ему замену. Впоследствии капитан Савельев, оставшийся на службе в Душанбе, погиб, пытаясь примирить враждующих соседей в кровавой междоусобице девяностых.
Много бесполезных вещей получили в этот вечер папа с мамой, взяли всё, никого не обидели. И это было до… До села в горах, куда папа привез маму, до рождения троих детей (меня – включительно), до роковой любви отца к одной итальяночке и до самого главного в его жизни – романа Марио Пьюзо «Крестный отец».
Провидение в переводе на человеческий
Сколько бы я ни кружил по биографиям родственников, сколько бы ни колесил по выразительным рельефам их отношений, все равно мне придется возвращаться и возвращаться к книге Марио Пьюзо. Во встрече книги и Хачика Бовяна слышался отзвук скрипучего пера из небесной канцелярии. Этим пером бесполый и педантичный ангел заполнял папин формуляр и, выполняя распоряжение начальства, в графе «чудо» записал «максимум». Думаю, что точно такое же царапанье пера о плотную бумагу сопровождало первое свидание папы и мамы. Вот и мистер – сеньор – господин Пьюзо появился неспроста. Хачик Бовян не знал, как выглядит настоящее чудо, поэтому он не мог ни по достоинству оценить, ни ошибочно отринуть свершившийся факт – с ним произошло нечто экстраординарное. Он не умел молиться, но у него была совестливость блудного сына, впавшего в амнезию: «Помню, что нужно куда-то вернуться, да забыл куда, душит стыд, да не помню про что». Но я немного забегаю вперед, даю комментарии, оцениваю. Конечно же, вам лучше сделать свои выводы, когда я изложу суть событий. Итак, для отца и мамы началась новая счастливая жизнь в армянской глуши.
Мама любила читать, а папа нет. Не любил, и все. Хотя не видел в этом повода для гордости, но и не стыдился. Нет, Люся никак не провоцировала в муже тягу к печатному, а тем более к русскому слову. Наоборот, став женой Хачика, а что еще более важно – невесткой нашей суровой бабушки, моя будущая мать превратилась в настоящую армянскую матрону. Она не только быстро заговорила на этом древнем и сложном для славянской гортани языке, но и на родном-то стала звучать с отчетливым и тягучим акцентом. Бабушка научила невестку ткать ковры: и пушистые, с яркими цветами, и гладкие, с таинственным орнаментом зашифрованных посланий. Дедушка же научил Люсю писать и читать на нашем языке стародавних ашугов.
Дед был терпелив, так как учение это, в противоположность дойке коров, давалось маме с трудом: буквы, похожие на червячков и затейливых насекомых, разбегались перед Люсиными глазами, и не один раз она плакала от обиды и бессилья поймать их и сложить в слова. Но все преодолимо, и через пару месяцев мама с дедом осилили букварь.
Первое, что сделала мама, овладев грамотой, написала и прочла имя любимого супруга и благодетеля. Она не поленилась и полезла в армяно-русский словарь и с удивлением обнаружила, что не шутил супруг, сказав ей, что Хач – крест… Хачик – это крестик…
– Ты мой крестик, – слышал я все детство и думал, что мать нежно сетует на тяготы семейной жизни. Мол, несет хоть и не крест, но все же какой-никакой крестик. Несет и верует в лучшее.
Небольшое лингвистическое усилие – и вот уже переведено полное имя отца – Хачатур. Смысл его показался маме еще более логичным. Хачатур – крест дающий.
– Все математика, – шепчет мама.
С годами я понял, что имела в виду моя мама. Математикой она называла понятую по-своему теорию вероятности. Для нее она была скорее теорией невероятности, но чудесным образом «свышеустроенности», то есть гармонии. Не будучи по молодости религиозной, все чудесные хитросплетения судеб мама объясняла пользуясь научной терминологией. Могу сказать только, не так уж она и заблуждалась. В конце концов, именно из математиков вызрели великие мистики человечества, такие как Пифагор.
Я был вторым ребенком в семье. До меня появилась толстушка Света, а после худая, но впоследствии быстро переросшая нас Маринка-жердинка. Мы трое, а вместе с нами и наша мама, знали отца еще прежним: худощавым лысеющим сапожником с застенчивыми глазами человека, имеющего скрытый талант. Да, наш отец – сапожник. Это единственная его профессия. Как был сапожником и наш дед, пока не вышел на покой.
Шил папа заготовки для женских сапог, другого не доверяли, так как не считалось в обувном сообществе, что Хачатур Бовян владеет даром заклинателя шила и сапожного ножа. Но заготовки голенищ считались легкой работой. Раз в месяц папа отвозил свой задел в Ереван, в столицу. Там у зажиточного «цеховика» дяди Серопа – хозяина маленькой полуподпольной фабрики, папаша мой получал невеликие, но всегда желанные деньги. Погостив день-другой у столичных родственников, возвращался домой к нашему армянскому Генесарету, высокогорному маленькому озерцу, которое, конечно, не могло соревноваться со знаменитым Севаном, но, Боже, как же у нас красиво! Но не об этом сейчас. Возвращения отца ждали, потому что привозил он безделиц, которые интересно было распаковывать, предвкушая сюрприз, и разглядывать, пытаясь найти равновесие между разочарованием и благодарностью.
Итак, однажды между свертками в тонком пергаменте – презенты из ЦУМа, и кулями в сыром картоне – покупки из продовольственных магазинов, оказалась зажата книга. На обложке ее две крылатые ящерицы игриво покусывали друг другу хвосты и призывно косились на читателя.
– Марио Пьюзо, «Крестный отец», – бойко прочел я по-русски. Как-никак этот язык был для меня родным, как и армянский.
На дне той же сумки оказался толстый, обжигающий бесстыдной яркостью фотографий журнал – каталог итальянской обуви. Мы притихли. Книгу держал я, а полиграфическое чудо оказалось в руках у тощей Маринки. С этими неожиданными предметами, которым вскоре предстояло стать святынями, мы изумленно обернулись на отца. Никогда еще не привозил он книг или чего-либо подобного. Он смутился и сказал:
– В нарды выиграл.
И ушел к себе в мастерскую. Там по вечерам он обычно думал о жизни, которая казалась ему не слишком удачной, но и не прошедшей даром. Были ведь и другие люди – разбазарившие годы, не нашедшие любви, умершие в нищете и одиночестве. Ах, а ведь были и те, кто безудержно тратил силы свои и талант, не припрятывая мелочи по карманам. У этих счетчик включен и бешено наверчивает то ли цену подвигам, то ли сумму долга за них же.
А мы, когда отец ушел, загалдели, повалились на диван и стали разглядывать журнал. Перебивая друг друга, кричали, тыкали грязными пальцами в фотографии красоток, ножек или каких-нибудь бессовестных туфель-лодочек с хищными каблуками.
– А сюда, сюда посмотри! Вай-ме!
– А у этой ноги, как у тебя, – макароны.
– А ты тупая тыква! Вай, как краси-и-иво…
– Мама-джан, как коротко!
– Дуры, чем короче, тем красивее!
– Сам дурак!
– Мама, скажи ему, он пихается!
– Дети, не ссорьтесь!
Так мы бессмысленно провели пару часов. Вечерело. Стукнула дверь. Мать негромко, но внушительно сказала:
– Отец пришел, – она каждый раз говорила это негромко.
Так было всегда. Сколько я себя помню, было так: материнское «отец пришел» и несколько минут осторожной тишины.
Мы затихли и положили каталог на угол стола, где под бабушкиными очками обычно лежала еще не употребленная сегодняшняя газета. А книга так и осталась забытая в углу дивана. Ведь она была без волнующих фотографий и вообще без картинок.
Мать накрыла на стол. Отец начал есть. Она села напротив – глядеть на него. Мы наблюдали за ними из-за неплотно прикрытой двери. Мы знали наперед, по минутам, как сложится вечер. Вот отец ест – неторопливо, с достоинством человека, заработавшего свой хлеб. Мать негромко рассказывает ему о событиях дня. Она сидит спиной к двери. Мы видим ее красивый затылок, окруженный золотою косою-короной. За мамой то появлялся, то исчезал отец. Вот он смотрит на нее, слушает, перестал жевать. Половина его лица заслонена мамой, зато еще пронзительнее кажется черный, чуть навыкате глаз. Мы трепещем за дверью, потому что толстая Светка опять получила двойку по математике, я плевался в сестер, а Маринка ничего не ела, капризничала и хамила бабушке.
Мы знаем, что после ужина наш отец негромко позовет: «Дети». Мы выстроимся перед ним, и он молча станет смотреть на нас. Недолго, не сердито, но нам, как всегда, будет до жути страшно под этим взглядом. Потому что он наш создатель, мы чувствуем это сейчас. На эти несколько секунд нам покажется, что жизнь остановилась во всем мире, да и мир – весь вот здесь, в этом взгляде, и мы сами часть этого взгляда и мира. И совершенно неважно, кто из нас хамил, а кто плевался. Сейчас мы одно целое. Ни разу, ни за какие самые страшные детские провинности не тронул он нас и пальцем. Все его воспитание ограничивалось этими секундами жуткого молчания, какого-то первородного безмолвия. Потом отец погладит нас по головам, вздохнет, и мы сами выдохнем, загалдим, забегаем, и в доме снова появятся дети.
И на этот раз так было. Он погладил нас, посадил Маринку к себе на колено и водрузил на нос бабушкины очки, что он делал скорее для солидности, потому что читал все равно глядя на страницу поверх оправы. Раскрыл каталог итальянских штиблет и принялся разглядывать фотографии. Ухмылялся, крякал, бормотал под нос что-то вроде «и я бы мог» и неторопливо листал дальше. Но здесь произошло нечто странное. Неожиданно взгляд отца остановился на одной из фотографий: сначала глаза подозрительно повлажнели, а затем их будто заволокло каким-то туманом. Мы с сестрами, почувствовав неладное, перестали играть в стадо голодной саранчи, надкусывающей яблоки-ранет, что бабка приготовила для варенья, и заткнулись. Через отцовское плечо я разглядел страницу, к которой примерз его взгляд, и понял – папа влюбился. Он влюбился в модель. Нет, не в ту девушку, чьи дистрофичные ноги демонстрируют туфли в журнале, а модель обуви под номером 9900—013. Что здесь началось! В воздухе запахло переменами.
Не сильно рассчитывая на успех, а скорее повинуясь бессознательному чувству или же интуиции, которая, как оказалось, у него была развита беспримерно, отец вырезал купон в конце журнала, заполнил его – то есть написал цифровой код понравившейся ему модели обуви и наш адрес: СССР, Арм. ССР, Шамшадинский район… и послал в далекий город Милан. Писал, конечно, не сам, а рукою учителя английского, который убеждал его в том, что в английском и в итальянском языках совершенно одинаковые буквы, поэтому нет никакой, практически, разницы, на каком языке написано «СССР». Папа учителю, конечно, не поверил. Настоящий стопроцентный армянин, взращенный в атмосфере благоговения перед родным алфавитом, он никак не мог понять, как, каким образом одни и те же знаки могут быть использованы для начертания слов в совершенно разных языках. Недоверие свое он припрятал, потому что человек и так оказывает любезность. Да и не насмешничает над странной блажью односельчанина. Для подстраховки же отец, не мудрствуя лукаво, написал на отдельном листке письмецо по-армянски, номер сберегательной книжки, краткую автобиографию и фото, где был он запечатлен в своей сапожной мастерской в кожаном фартуке и с заготовкой сапога. Его немного смущало жирное пятно на авиаконверте с изображением легендарного крейсера «Аврора». Но мама его успокоила. Хачик послюнявил конверт, заклеил и даже посидел на нем для верности. А потом пошел на почту.
Папа шел по улицам. Мимо старой церкви, превращенной в зернохранилище, мимо магазина, перед которым собирались старики поделиться политическими новостями, мимо источника, близ которого встречались женщины посудачить всего лишь о деревенских событиях. Отец шел вдоль старинной каменной поильни, где путники могли передохнуть, а их утомленные дорогой ослы и лошади утолить жажду. Папа шел мимо обветшавшего за годы кинотеатра и постаревшего Арика, который приклеивал к доске афишу кинокартины «Любовь и голуби». Он шел мимо медпункта и школы. Все шел и шел, приближаясь к почте. И все заметили его в тот день. Даже ослы и мулы поднимали на Хачика удивленные и грустные глаза – куда ты идешь, оглашенный? А когда пришел папа на почту и послал свое письмо в далекий город Милан, он уже был не собой, а кем-то другим.
Терпение – иногда добродетель
Верьте мне: терпение – великое дело, вершина всех добродетелей. Я знаю, что говорю, я видел это. Терпение – дар и работа. И если одним оно не чуждо, то иным дается с трудом.
Папа начал ждать ответа. Чах, очень тосковал и из всех слов произносил только:
– Может быть, может быть…
Работа валилась из рук, но он не потакал унынию – за неделю сделал месячную норму на этот раз бордовых голенищ и отвез в столицу, в пыльно-розовый Ереван. А когда вернулся с выручкой, принялся ждать уже по-серьезному. Для начала он заболел – слег с простудой.
Армянский мужчина болеет так же, как и все мужчины мира. Сначала он говорит:
– Все… Я заболел, – и ложится на диван.
После таинственной паузы он уточняет:
– Я умираю.
Затем он межит веки и для верности накрывает их ладонью. За это время в комнате должны собраться домочадцы. Точно рассчитав время, болящий приоткрывает полные скорби глаза и укоризненно смотрит на жену, которая пытается шутить на тему дороговизны ритуальных услуг. Жена замолкает, посрамленная. На детей же он взирает с любовью – так глядят перед расставанием. А на мать – с чувством вины, так как она-старуха переживет его. В конце концов, простуженный мужчина велит похоронить себя «под раскидистым дубом» и, утомившись, наконец, засыпает. Здесь, считайте, кризис миновал. В остальное время армянский мужчина (если повезет родным) все же лечится.
Исцелять настоящего мужчину, неважно какой он национальности, не доставляет никакого удовольствия. Причин несколько:
– потому что он все время пристает с вопросом, где он мог подхватить эту заразу;
– потому что он вспоминает, что подхватил ее как раз в тот момент, когда дверь оказалась на минуту приоткрытой, а в комнату ворвался северный ветер, а он кричал: «Сквозняк! Сквозняк!» – а его никто не слышал;
– он сорок раз спрашивает, каковы побочные явления от употребления аспирина, кто изобрел пенициллин и нет ли, на взгляд домочадцев, у него аллергии на антибиотики.
Мужчина обожает лечиться, хотя ничего в этом не смыслит. И когда родная мать, искушенная в лечении собственного отпрыска как никто другой, отрицательно качает головой – нет, не было и вряд ли уже будет, нормальный мужчина требует дополнительной экспертизы.
Мой отец болел по-настоящему.
Я поражался терпению мамы, так как даже бабушка выходила из себя.
– Хачик! Я тебя растила, Хачик! – взмолилась она. – Нет у тебя никакой аллергии!
– Может, пришла…
– Откуда ей прийти, Хачик! Побойся Бога, пожалей эту бедную женщину, выпей таблетку…
Бабушка показывала на невестку. Мама стояла, прислонившись к дубовой балке, и держала в руках очередное отвергнутое отцом ароматное блюдо. Она грустно и сочувственно улыбалась ему. Затем мама тихо выскользнула на кухню, чтобы неслышно поставить тарелку с золотистыми ломтиками жареной картошки, посыпанными свежей кинзой и укропом, да чтобы унять беспокойные мысли, что прыгали в голове: «Нет, Люська, не можешь ты угодить мужу! Стыдно должно быть!» Я слышал ее мысли так же отчетливо, как другие слышат слова. Я не слишком вдавливал себя в понимание словосочетания «угодить мужу». Но точно знаю – именно этого хотела мама. И вдруг она повела себя странно. Мама уперлась руками в стол и постояла так над картошкой. Потом втянула в себя побольше воздуха, как ныряльщик перед прыжком в воду, схватила тарелку и – шварк ее в мусорный ящик. Получилось негромко, как и все, что делала мама, но убедительно. Кажется, ей стало легче. Заметив меня, она выбросила вверх руку с зажатым кулаком – гневный жест латиноамериканских революционеров «no pasaran!» – и, довольная, пошла дальше лечить отца. Я стоял открыв рот. Привела в смятение неожиданная догадка – рай не возник из ничего, он построен. Вот тебе раз! Я решил, что еще не готов узнать цену этого масштабного строительства.
Но, в основном, Хачик и вправду болел, а не придуривался. Он метался в бреду и приговаривал: «Еще подожду… я еще подожду…» Иногда его было так жалко, что маленькая Маринка подходила к кровати и прикладывала голову к папиной огромной подушке.
– Писем нет? – спрашивал отец.
– Писем нет, – отвечала Маринка.
Он вздыхал, и она вздыхала. Он закрывал усталые глаза, и она сладко зевала, он открывал глаза – она умудрялась уже заснуть.
– Мам, возьми девочку, – хрипло шептал отец.
Бабушка низко наклонялась над Мариной, просовывала под ее худое тельце узловатые полиартритные руки и взваливала ее на себя, принимала на грудь бесценный груз. Иначе поднять бабушка ничего не могла, болели кости.
Ответа из итальянского города Милана все не было. Папа настолько пал духом и раскапризничался, что не ел уже четыре дня. Мама пригрозила расправой:
– Не дам!
Он не отреагировал.
Мама легла рядом и сложила на груди руки:
– Ты не ешь, я тоже не буду. Умрем от голода. Дети тоже умрут от голода, пусть все умрут от голода.
Тогда папа, чтобы избежать вселенской катастрофы, слабым голосом попросил куриного бульона. Мама немедленно вскочила и радостно выбежала на крыльцо.
Наши куры по-хозяйски выхаживали по двору и клевали землю. Мама присмотрелась. Она была похожа на ястреба в поисках жертвы. Наконец она выбрала белого поджарого цыпленка – подростка по кличке Фарос. Мама нырнула в сарай и вернулась с деревянной плошкой зерна. Рассыпая его вокруг себя, мама призывала кур:
– Чу-чу-чу-чу-чу… Чив-чив-чив-чив… Сюда, сюда, сюда…
В голосе мамы я слышал фальшивые нотки, но куры явно глухи к полутонам. Когда Фарос, потеряв всякую бдительность, подошел слишком близко, он был схвачен моей родительницей и лишен жизни.
Это был ритуал, который я наблюдал неоднократно.
Длинным прутом мама очертила безупречный круг. Поместила жертву в центр и, прижав ее голову к земле, отсекла топором. Топорик всегда был под рукой – стоял прислонен к доскам сарая, рядом с косой и большими деревянными граблями. Кровь фонтаном полилась на землю, просачиваясь в ее глубины, смешивалась с ней. Потом она стала бить из Фароса какими-то толчками. Обезглавленный куренок стоял посреди этого пятачка и задумчиво ждал прихода смерти. Затем он несколько раз обежал по очерченной окружности и повалился на бок.
Подобные сцены я видел многократно, но каждый раз вожделенно и страшно впивался глазами снова. Бухало сердце – медленно и неточно. Я не понимал, почему птица бегает после смерти. А однажды я видел, как ей забыли начертить магический круг, и белая курочка бегала по двору и хрипела легкими, будто пыталась через открытые артерии зачерпнуть немного жизни. Представляете, бегает, такая, без головы, посреди ясного дня? А мне казалось, я различаю слова:
– Где моя голова?! Отдайте голову?! Верните вы мне мою голову, больше ничего не прошу.
Когда мама варила убитую куру, я смотрел на янтарные капли жира на поверхности бульона и слышал приятный и чуть сладковатый запах. В сок мертвой птицы мама бросила головку лука для чистоты цвета, затем пару кружочков моркови – для аромата и чуть присыпала резаной свежей зеленью – у меня потекли слюнки. Стало стыдно и томительно от ожидания развязки.
Папа попивал бульон из гильотинированной куры, а я глазел на него. Он отпил пару маленьких глотков и, кажется, не ощутил вкуса. Пригубил еще и отстранил от себя мамину руку с чашкой дымящегося супа:
– Хватит.
По идее, мама была преступницей, а отец заказчиком убийства. И сам я тоже ощущал невольное соучастие в этом деле. Сколько я перевидал уже куриного пуха и желтых бородавчатых лап в большущем ящике для компоста, сколько потрохов я отдал соседскому псу-брехуну?! И еще перевидаю, и еще брошу через ограду и буду смотреть, как грозный овчар-кавказец поедает внутренности очередной нашей жертвы. А также много других форм убийства я увижу в нашей благословенной горной Пасторалии – жертвенный баран с красным бантом на шее, что станет ароматным жарким, туповатая корова по кличке Пятно, что станет праздничным шашлыком, безымянная свинья, что станет новогодней ветчиной. Но в тот день, когда мама приговорила Фароса, я впервые задумался о необратимости смерти в раю. Для того чтобы рай существовал, необходимы убийства. Почему-то мне не стало тошно, и страшно мне не было, или еще как-либо нехорошо. Напротив, мне показалось, что нет ничего естественнее сцены, которую я только что увидел. Я подумал: «Когда женщина растит своих кур, потом сама же их убивает – это и есть жизнь в деревне».
Прошло несколько дней. Отец перестал бредить. Он уже стеснялся хныкать и не отказывался от пищи. Из солнечной Италии вести до нас пока не долетали. Началась вторая, и самая главная стадия его ожидания. Этот особенный момент наступил, когда папа начал ходить и однажды прошагал к дивану. Присел и под диванным валиком нашел ту самую книгу, которую всего три недели назад привез из города вместе с каталогом обуви. Скептически посмотрел на ящериц и прочитал:
– Крост-ний отэц… Кростний, – повторил он, – отэц…
Снова оглядел ящериц, даже провел по ним пальцем, раскрыл книгу и…
– «За всяким большим состоянием кроется преступление», – прочел он эпиграф по складам.
А потом:
– Бальзак… О, Бальзак! Это Бальзак сказал, Люся, – обрадовался он французскому писателю, как старому знакомому, и снова уставился в страницу.
И покатилось:
– «Америго Бонасера сидел в отделении уголовного суда № 3 Нью-Йорка, ожидая победы правосудия. Ждал, когда возмездие падет на головы негодяев, которые безжалостно изувечили его дочь и пытались над ней надругаться».
Отец в ужасе посмотрел на толстую Светку и тощую Маринку и спросил у мамы хриплым шепотом по-русски:
– Люсик, правосудие, что такое?
Наверное, именно тогда началось незаметное глазу перерождение смуглого армянина в нового русского.
– Правый суд, то есть справедливый, – ответила мать.
Отец кивнул. Прошелестел:
– Понял…
Мама взметнула голову от корзины с душистой овечьей шерстью, которую перебирала и пушила, готовясь к священнодействию с веретеном. Люся посмотрела на мужа, уже обычного сощурив близорукие глаза. Мамино сердце подпрыгнуло в груди. Она так и сказала бабушке:
– Мам, я у вас корвалолу откапаю?
Бабушка поджала губы в знак согласия, но без одобрения. Бабушка слыла у нас самой больной. Это знали все и чтили ее привилегию. Она была сердечница, гипертоник, страдала суставами и бессонницей. Про остальные болезни нам судить трудно, но от бабушкиной бессонницы по ночам тряслись стены – так громко она храпела. Теперь она чувствовала, что кто-то наступает на ее территорию. Бабушка занервничала:
– И мне накапай.
По дому поплыл лазаретный дух сердечных капель. Мама и бабушка опрокинули по стопке – за самочувствие. Но отец, всегда внимательный к здоровью домочадцев, кажется, не учуял мятного облака, нависшего над комнатой. Теперь мама и бабушка воззрились на отца вдвоем. Наступила выразительная тишина, замечать которую он и не собирался. Папа рассматривал буквицы на строке. Они складывались в слово «надругаться», и хмурился. Затем он оторвался от страницы и заявил:
– Люся, я все понял! Я читал и все понял. Какие-то подонки обидели дочку уважаемого человека, а судья отпустил гадов! Совсем не наказал сволочей – купили его. Как нашего Киракосяна, помнишь?
Мама, конечно, помнила. И бабушка помнила, и все мы. Да вся наша республика помнила эту историю. Минувшим летом только о том и говорили. Даже наш дедушка, закаленный борьбой с председателем колхоза и перегибами в политике по отношению к крестьянам, и тот не вынес и слег с сердцем. История и впрямь была жуткой, и мы – дети – слушали ее по многу раз, с отчаянным вожделением собирая и сочиняя новые леденящие душу подробности. Ведь каждая история в устах очередного рассказчика приобретает оригинальную интерпретацию. Однако по нашей с сестрами версии, в отличие от того, что говорили взрослые, судья Киракосян здесь был ни при чем.
Великая сила воображения
А произошло следующее. Один злодей (он был рыжий) черной-черной ночью украл ребенка. И убил этого ребенка. Но, перед тем как убить, он эту девочку испортил. У моей младшей сестры Марины в этом месте рассказа выкатывались от ужаса глаза. Видно было, как в ее голове с невероятной быстротой проносились картины тех многочисленных изуверств, которые она совершала по отношению к куклам, мухам, брату и сестре. А также однажды, играя в больницу, лечила кур, делая им уколы игрушечным шприцем. Куры верещали и бегали сломя голову от Марины, как от их куриной чумы. Ну действительно, как еще можно испортить живое?
Но и мы со Светой не пришли к единому мнению, как выглядит процедура порчи невинной дитяти? Мы-то были постарше и чувствовали, что связано это с полом, с тем заповедным и темным, одна мысль о котором ввергала в горячечную слабость. Чувствовать чувствовали, но кроме смуты в душе – ничего определенного.
Именно от того, что нечто важное оставалось для нас тайной, и мы воображали и додумывали подробности, которых никогда не было, тем ужаснее эта криминальная история представлялась каждому из нас. Так, например, Марина утверждала, что убивец – рыжий. И что она его видела – ведь он проходил по нашей улице накануне своего злодеяния. Непонятно, конечно, как он мог тут проходить, если совершил он свое черное дело в другом конце района, но мы живо его представляли. Марина же еще сказала, что он обернулся и неприятно так посмотрел, как она пылит скакалкой по немощеной улице.
У меня воображение сказочное. Я-то очень даже вижу картину: рыжий злоумышленник в черных брюках-клеш глядит на то, как юбка моей сестренки подпрыгивает вместе с ней и ее скакалкой, то открывает, то прикрывает неровный белый треугольник хлопковых трусиков, чуть маловатых ей и потому врезающихся между ягодицами. Сколько раз я видел задницу моей сестры от ее рождения – розовую и пухлую, до сего дня – тощую, но ладную? Да каждый день! (Вот и сейчас она расхаживает по дому в пижаме из тончайшего шелка, и задница вполне отчетливо перекатывается под тканью.) И никогда я не думал, что испытаю настоящий гнев, только лишь представив, как рыжий упырь с вожделением и злым умыслом роняет похотливую слюну, глядя, как скачет Маринка! Кстати, слюни придумала Света. Она предположила, что у него мокрые уголки губ.
– Всегда мокрые, – подчеркнула она. – И запах изо рта, как из ослиной глотки.
Она же придумала, что орудием злодеяния рыжего был полосатый милицейский жезл, отнятый им у гаишника дяди Фаэтона. Мильтон Фаэтон как-то раз напился и действительно потерял свою старую боевую подругу – с облупившейся краской и всю в зазубринах деревянную палку. Он скорбел о ней у нас дома, запивая горечь потери молодым вином и рассказывая моему отцу о том, чем была для него эта самая палка.
– Понимаю, – сказал отец, – источником пропитания.
Дядя Фаэтон мутно моргнул и заплакал.
– Не понимаешь… Жена есть. Говорит – бриллиант хочу. Дочка есть. Говорит – в Сочи хочу. Сын тоже есть, «Волгу» хочет. И только моя Изабелла, моя стройная, моя девочка, говорила: «Фаэтончик, дорогой, может быть, ты тоже что-то хочешь? Хочешь? Ну так взмахни мною, и ты будешь на шаг ближе к своей мечте…»
Здесь дядя Фаэтон опрокинул голову на стол и разрыдался. Папа задумался.
– Может, тебе завести любовницу, – предложил он и получил подзатыльник от бабушки.
– Нет, – вздохнул гаишник, – она тоже что-нибудь запросит. А как я без Изабеллы?
Видимо, именно потому, что у милицейской палки была своя душещипательная история, Светка и приплела ее в эту кровавую драму. Но кроме преступления в истории с рыжим было и наказание. И вот какое.
Рыжего (а может быть, он все-таки был и не рыжий) поймали довольно быстро. И судили. Но суд, а именно судья Киракосян, признал преступника невменяемым и отпустил его. Нас, детей, не удовлетворил пробел в сюжете, и мы придумали, что он вышел из тюрьмы, что от него отказалась родная мать и не пустила на порог дома. От него отказались все, и он бродил по окрестным лесам и питался тем, что ловил птиц и крыс, сворачивал им головы и ел сырыми. Он не мылся, и потому лицо его было в пуху и крови съеденных животных. Одежда его была рваной, а сам он высох от физических страданий.
Рассказывая друг другу о мытарствах рыжего преступника, мы вдруг почувствовали, что начинаем его жалеть. А этого никак нельзя было делать. Потому что наказание, которое он понес – не в нашем воображении, а по-настоящему, взаправду, – было простым и страшным. Как только в жизни и может быть. Хотите знать, как это было?
Разъяренная толпа схватила преступника на улице. Люди перекрыли квартал машинами и расставили часовых. Они подвесили «рыжего» на веревке. Но не насмерть, а так, чтоб вполгорла дышалось все же. Люди раздели его до срама. Люди принесли с собой отточенные ножи. Они срезали куски его кожи, ровные, как ремни, и посыпали его раны солью. Здесь мы не сочинили ни слова. Ведь нам было понятно, что такое соль, кожа, нож и как можно перекрыть автомобилями квартал. Тогда нам еще не совсем было понятно, что такое ярость. Но и в этом случае очевидность и простота изложенных фактов были несокрушимыми.
Говорят, что рядом мучился продажный судья Киракосян, который за взятку признал сумасшедшим распутника и убийцу. Ему люди ничего не сделали, только заставили смотреть. И с ним произошло то, что он прописал своему протеже, – он сошел с ума. Еще надо добавить, что случилось это средь бела дня. И за оцеплением квартала стояли милицейские машины, но никто не нарушил ужасного пиршества мести. (Или это тоже сочинили мы?)
Родители погибшей девочки не получили утешения, но справедливость, по их мнению, была восстановлена. Как постепенно и робко возрождается жизнь после разрушительного землетрясения или смерча. Как пробивается молодой росток на месте кровавой битвы. Кто здесь помог безутешным родителям? Может, какой-нибудь местный дон Корлеоне восстановил нарушенный миропорядок?
Отец учится читать и находит учителя
Дни бежали. Итальянский обувной концерн безмолвствовал. Каждый день папа исправно ходил на почту и спрашивал у телеграфистки, телефонистки и письмоносицы Пепроне, нет ли посылки на имя Бовяна Хачатура Сергеевича? Тетя Пепроне с изумлением оглядывала посетителя. Ведь она приходилась папе, ни больше ни меньше как двоюродной сестрой, а следовательно, близкой родней. Она прекрасно знала, как его зовут, какого он года рождения, а также многие другие перипетии биографии Хачика. Но после каждого визита он официально кивал ей и с достоинством удалялся, не пускаясь в объяснения.
Через неделю тетя Пепроне забеспокоилась не на шутку. Она говорила уборщице Марик, наблюдая за тем, как та тщательно намывает крашеные доски пола.
– Бедный мальчик не в себе. Не повезло ему в жизни. Что делать, Марик, не у всех счастье живет на пороге, наподобие сторожевой собаки.
– Может, это от того, что он на русской женат? – предположила Марик, не отрываясь от швабры.
– Ты с ума сошла, Марик?! Это Люсик-то русская? – обрушилась Пепроне на трудолюбивую подругу.
Едва договорив, она уже осознала свою фактическую ошибку. Мама-то действительно была русской. Но отступать оказалось уже некуда, позади тетки маячила бледнеющая репутация семьи.
– Да она почище тебя армянка. Она книги на армянском читает. «Войну и мир», например. Или «Королеву Марго»! (Кстати, наглые наветы! Эти шедевры мамой были прочитаны по-русски.) А ты в последний раз в руках какую книгу держала?
– Я-то читать люблю. Но меня утомляет, и глаза болят, – оправдывалась растерявшаяся Марик.
– А она успевает! – настаивала Пепроне. – Вай ме, бедная девочка. Без родителей и без поддержки, а муж все мечтает о чем-то.
– Ты неправа, Пепроне, про брата так говорить. Он все же сын сестры твоего отца. Так нельзя. Какой бы ни был, он все-таки родная кровь. А ты чужую хвалишь, своего ругаешь.
– Может, Хачик все-таки умом тронулся? – спрашивала сама у себя Пепроне, не обращая внимания на нравоучения уборщицы.
– Может, и так. Это нетрудно проверить, – отвечала Марик, принимаясь вновь намыливать полы.
– Может быть. Может быть… Нужно будет у тетки моей, у его матери, выяснить. – Телеграфистка Пепроне уже мысленно планировала разведку боем. – Только ты пока никому ничего не говори, Марик.
Уборщица вздыхала, стыдливо прятала глаза, словно она уже проболталась всем до одной соседкам.
– Да кому я скажу?
Так, в результате кровной клятвы молчания, по деревне пошел слушок – Хачик спятил. Это бы ладно. Но разве творческий человек, каким, по сути, был мой папаша, может произрасти в вакууме воображения? О, нет! В нашей деревне воздух особенный. Наши люди врут самозабвенно, сплетничают страстно, предаются фантазиям, как навязчивому и сладкому пороку. Поэтому разговоры об отце стали достойны всех Оскаров, Нобелей и Гонкуров. О, это были не просто слухи! Это были ненаписанные романы, неснятые фильмы, непережитые любовные драмы. Благодаря им образ отца стал отрываться от него самого, а заодно и от земли и приобретать оттенки если еще не мифа, то чьей-то отчаянной выдумки. Говорили, например, что он написал диссидентский роман и опубликовал его в каком-то подпольном издательстве на берегу Гудзона. Теперь же он ждет ареста. Говорили, что у него нашелся покровитель – престарелый миллионер, который всю жизнь мучился ногами, а Хачик, и только Хачик, сшил ему такие ортопедки, что теперь бегает тот миллионер, как мальчик, и все свое имущество отписал нашей семье. Теперь папа ждет, когда старикашка преставится. Говорили, что при живой жене и беспокойных детях Хачик завел любовницу за границей и теперь ждет от нее приглашения, чтобы уехать, бросив «русскую» и ее отпрысков, то есть нас.
Мы беспокоились. Отец не реагировал. Он читал: «Дон Вито Корлеоне был тем, к кому обращался за помощью всякий человек… Он не давал напрасных обещаний, не прибегал к жалким отговоркам, что в мире есть силы могущественнее его…»
– Правильно… Так надо… – шептал отец.
И вот в чем фокус – как только папа начал читать, он перестал чахнуть. Он садился за книгу, брался за нее, приступал к ней. Он держался за нее.
Никогда не видел я ни до этого случая, ни затем, что такое настоящее ожидание. Оказалось, это тяжелая работа. Человек, который по-настоящему ждет, – по-настоящему трудится. Его незримая служба одновременно похожа на непрерывную медитацию и непримиримую ежесекундную борьбу. И если впасть в благословенное созерцание пустоты удается немногим, то в борцах ходят все остальные. Человек, который ждет, борется с сердцебиением, с унынием и с самим временем. С последней непостижимой субстанцией у ожидающего в корне меняются отношения.
Чего ждут люди? Письма, известия, события, перемен, исцеления, смерти. Все это может носить положительный и отрицательный характер. Тот, кто, скажем, ждет своего десятого дня рождения, волнуется и торопит время, уже подглядев, какой подарок припрятали для него родители. И сетует на то, что время тянется нестерпимо медленно. Тот же, кто, скажем, ожидает смертной казни, становится участником обратной метаморфозы. У ожидающего конца полотно времени ткется не минутами или секундами, а совершенно иными единицами измерения – ударами сердца, взмахами ресниц, пульсацией крови в висках или выкуренными сигаретами. Но мой отец не курил. Конечно, контур его склоненной над «Крестным отцом» спины был далек от силуэта бодхисатвы, сидящего на цветке золотого лотоса, но папино ожидание тоже было, в своем роде, совершенным. Ожидая – читал. Он работал над книгой – он работал над собой.
Бывает и такое: вдруг человек решает пуститься в далекое путешествие, с единственным спутником, помощником и компасом в руке – с книгой. Теперь он читатель. Если книга интересная, то она переносит читателя в мир описываемых событий. Если книженция бездарная, то она вызывает раздражение, а порой летит через всю комнату от дивана, где лежит читатель-путешественник, до противоположной стены и, ударившись, падает за комод, где ей и место. Великая книга по-своему ломает человека. Она заставляет его со скрипом менять ход мыслей, вдруг высвечивает пятнами истин небольшие островки в море беспросветной путаницы в мозгах. Зачем? Чтобы только показать: вот она, твоя жизнь – сплошной хаос и мусор? Чтобы подарить человеку шанс новой жизни? Всего лишь сотня-другая страниц, переплетенных вместе, а предсказать эффект от них иногда невозможно.
Но обычно между книгой и человеком всегда есть какая-то дистанция. Человек способен отвлекаться от чтения, есть, пить, ходить на работу – в общем, жить своей жизнью. А потом, добравшись до последней страницы, взять новую книгу и плыть по иной реке, предаваться следующему сюжету, соотносить себя с другим героем и любить его чувствами другую женщину, произносить за них смелые фразы и верить, что слова эти самые подлинные. Но – это если мы говорим о профессиональных читателях. Тех, кто имеет навык и чувствует прелесть этого процесса. Но мой отец – другое дело. Такие, как он, предпочитают образованию ремесло и умствованию авторитет крупной личности. Ремесло у папы было, весомой личности в обозримом пространстве – ни одной. Книжный дон Корлеоне – крестный отец нью-йоркской мафии – и стал для Хачика такой фигурой. И он снова стал подмастерьем, на этот раз у несуществующего «бумажного человека».
Отец шептал:
– «Дон встал из-за стола. Его лицо оставалось бесстрастным, но от его голоса стыла кровь».
Лицо папы менялось, вытягивалось и становилось мужественным. Казалось, он переселился в послевоенный Нью-Йорк, где старый гангстер дон Вито Корлеоне посвящал его в тайны подлинной власти над умами и волями, над людьми и их пороками. Мы с сестрами распоясались, потому что отец больше не смотрел на нас после ужина всепроницающим взглядом демиурга. Он читал. Мать из последних сил выдавливала из себя мудрости восточной жены. Но чувствовалось, что в ее личном конфликте побеждает славянская горячность и независимость. А отец все бубнил:
– «Во главе семейного клана Корлеоне стоял дон, он управлял всей деятельностью семейства. Три замкнутых уровня отделяли дона от тех, кто вершил его волю внизу непосредственно, исполняя приказания. И ни один след не мог привести к дону…»
И пока папа героически продвигался вперед, вслед за героями Марио Пьюзо, я чуть не взорвал полдеревни, учинив пожар на колхозном складе химических удобрений. Дело было так.
Как горел склад
Бывает, что люди совершают ошибки. Это не новость. Наш мир – картотека человеческих промахов и метафизического лиха. Так говорят философы. Он даже полон глупости, этот мир. И с данным товаром наметился явный перебор. Как вся мерзость бытия помещается в таком ограниченном пространстве, как наша планета, – вот ведь секрет. Об этом я тоже читал у разных умных людей и полностью с ними согласен. Да-да, так и есть: зло, попустительство и глупость, но последнее из них – наиважнейшее. Хотя сам я неоднократно убеждался и на собственном примере: глупость, как лебеда, – где жизнь, там сорняки. Если, к примеру, кому-нибудь полностью удалось вывести сорную траву с земельного участка, это означает, что газон этот отлит из цельного куска пластика. Так и с чепухой. Скорее всего, присутствие глупости признак того, что планета пока еще не населена андроидами. Ведь только искусственный разум не умеет производить ошибок. Этими теориями я очень увлекался в малые годы. Выспрашивал в сельской библиотеке свежие, всего с каким-то двух-трехмесячным опозданием доходившие до нас «Науку и жизнь», «Науку и религию», «Технику молодежи», где время от времени печатали фантастику, а реже пускались в рассуждения о кибернетическом будущем планеты. Читал взахлеб. И вот что я вдруг понял.
Во все времена и в каждом существенном деле важен вопрос баланса. А иначе смерть. Вернусь к примерам с земельным душком, они ближе всего мне – человеку крестьянского происхождения. Сорняк ведь тоже отступает под натиском превосходящих сил настойчивого садовода-огородника и позволяет вашим помидорам произрастать на грядке. То есть возникает условное перемирие, тот самый баланс, стыдливый компромисс во имя светлого будущего и… наискорейшего продолжения войны. Ведь окончание ее будет означать, что одно поглотило другое. Одна форма жизни победила другую. Поэтому уступки взаимовыгодны. Они позволяют обдумать все «за» и «против», взвесить собственные силы и оценить возможности противника. В каждом деле, будь то война или сельскохозяйственные работы, а может, неразрешимые вопросы бытия, нужно временами остановиться, выдохнуть и достичь точки, равной покою. Для чего? Чтобы понять, чем его впоследствии можно нарушить. Верьте мне, люди, по собственному опыту говорю, гармония – это затянувшееся перемирие, ведущее к новой войне. Ведь у любой передышки есть конечный чек-пойнт. Итак, о вопросе баланса.
Равновесие между здравым смыслом и шутовством в нашей деревне всегда было кажущимся. Призрачность его можно понять на следующем примере. Один из умнейших людей у нас – Торос Васильевич Арутюнов. Нынче кандидат исторических наук, лет эдак сорок назад, когда еще не было за его плечами институтов и званий, а была миловидная гладкость в облике, присущая первой молодости, он принял на себя первый удар Судьбы. И в результате козней Фортуны – Немезиды Арутюнов получил прозвище Дырка-Торос. А всего-то поспорил с приятелем, что его лошадь – самое послушное и преданное существо на свете. Возможно, это и было правдой. Но Торос пошел дальше и утверждал, что, мол, обладает особенной властью над животными. Чтобы доказать сказанное, он с силой дернул лошадь за хвост, ожидая, очевидно, одобрительного кивка или благодарного гогота, а может, просто молчаливой покорности. Но лошадка – так рассказывал мне дед – не стерпела оскорбления и лягнула будущего кандидата, да так, что на лбу справа, под самой кромкой волос, образовалась яма размером с половину конского копыта. Уму-то ничего, а сомнительный красоте пришел безусловный капут. И, как вы думаете, у нас теперь называют Тороса? Вы думаете, когда он приезжает из столицы в деревню, «на дачу», моя бабушка говорит деду: «Приехал Торос Васильевич, кандидат исторических наук»? Нет, она обычно бросает:
– Приехал Дырка-Торос.
А дед ворчливо кряхтит:
– Как ума не было, так и нет. Точно.
Вот такой вот баланс.
В вопросах равновесия противоположных понятий наши односельчане неизменно проявляли смекалку. Я считаю, что именно у нас удалось привести к гармоническому сочетанию глупость и беззаботную самонадеянность. И сделал это я. Вот я расскажу, в чем дело, а вы сами судите. Что произошло? Всего-то немного.
Пока папа изучал путь воина на примере биографии дона Корлеоне, я сделал первую затяжку. Хорошо помню, что это была сигарета с желтым фильтром, из иностранных, но недорогих. Принес ее, зажатую в кулаке, мой школьный товарищ – Ваник, племянник нашего соседа, Хромого Карапета. Ваник, естественно, вытянул сигарету у отца из пачки. Где ж еще берут в этом возрасте курево? Сигарета слегка помялась, печально искривилась и пропиталась потом юного воришки. Но мы все равно с волнением и, я бы даже сказал с некоторым священным трепетом, сделали по затяжке. Это был наш с Ваником пакт о вечной дружбе, наша общая тайна.
Стараясь подражать взрослым, спокойно и с достоинством выдохнули дым, который облизал нёбо невкусным, горьким теплом. Никто из нас не затягивался взаправду, но и не признавался, что заповедный процесс курения, а по-честному вонючая гадость, не доставляет никакого удовольствия. Известно, что всех подростков тянет к сигарете. Говорят, так они чувствуют себя взрослее, так они примериваются к месту отцов, дядьев или старших братьев. Я, к слову сказать, не курю сейчас. И тогда-то не хотел. Мне не понравилось. А вот Ваник, что называется, подсел. Товарищи наши, одноклассники, те так просто бредили случайным окурком или выпрошенной у залетного торговца-азербайджанца овальной сигаретой без фильтра. У своих просить было нельзя, все в деревне знали друг друга и могли донести родителям.
У меня же была другая страсть, которую я никак не мог разделить с сестрами. Почти такая же запретная, как если бы я начал курить. (Кажется, мы впервые столкнулись с проблемой «М – Ж». Что нравится мальчикам, обязательно возмущает девочек.) Дело в том, что под влиянием все той же «Науки и жизни» я увлекся всем, что горит, шипит, взрывается, взлетает в воздух и производит театральный грохот. Да, о Боже, да! Горит и взрывается, шипит и лопается со взрывом, тлеет, блестит, а потом разламывается с грохотом и рассыпается тысячами искристых игл. Я пристрастился к взрывоопасному искусству пиротехники. Сестры же мои панически боялись любого искрометного опыта, справедливо допуская, что маленькая искорка может привести к глобальному катаклизму. Хоть и они любили фейерверки, но предпочитали глазеть на них издали, и лучше всего в мутном экране телевизора. Может, они думали, что мои эксперименты с огнем непременно изуродуют их прекрасные лица? Какая безнадежная наивность, какая, простите, глупость! Пожалуй, это был единственный случай (и на сегодняшний день остается таковым), когда мы с Мариной и Светой не поддержали друг друга. Но это факт.
Меня не будоражила мысль об ароматной затяжке, зато я по-настоящему заразился пироманией. У старого охотника, живущего отшельником за горной грядой, менял я патроны на старые дедовы костюмы, сыреющие в нашем подвале. А затем там же, на горе, смешивал селитру с порохом и, засыпав в патроны, бросал их в костер. Томительно ждал. Вместе с взволнованными ударами сердца прыгали робкие минуты. В огне начинало потрескивать. И… они разрывались! Один за другим – глухие хлопки, раскатистые, дробные… И эхо разносило эти звуки по округе. Они метались между стен ущелья, приподнимались над озером и улетали за перевал, чтобы где-то там раствориться. В этот момент я чувствовал себя Господом Богом, перед тем как тот нажал на кнопку и запустил свой Большой взрыв. Я чувствовал себя демиургом миров и властелином всех будущих колец грядущего Сатурна. Это была страсть! Подлинная любовь, мой первый по-настоящему религиозный опыт. Но о безграничных масштабах своего увлечения мне только предстояло узнать.
После уроков, а часто вместо них нас, школьников, отвозили на работы в поля, на табачные плантации или на виноградники – в помощь родному колхозу. Нас это вполне устраивало, казалось одним длинным приключением. Нас сажали в грузовую машину и вручали инвентарь, необходимый для конкретных работ. Парни пропускали девчонок первыми, но не из галантности, а чтобы подсмотреть за мелькнувшими под юбкой трусами. Потом запрыгивали мы, и бригадир, приставленный к нам для порядку, стучал по кабине, давая сигнал водителю: «Поехали!» Ехать было очень весело, особенно когда машина подскакивала на ухабах. Ух и смеялись же мы! Но рассказывали, что когда-то при таких же точно обстоятельствах, когда грузовичок, доставшийся колхозу от военной американской гуманитарной помощи, подпрыгнул и приземлился, вилы проткнули глаз Сурику – сыну тогдашнего зоотехника. Это был, что называется, самострел, то есть вилы были не чьи-нибудь, а самого Сурика. Теперь вот ходит парень со стеклянным глазом и работает учетчиком на лесопилке. Это случилось давно, нас только стращали этой историей, но в целях безопасности весь инструмент, только что розданный у школы, изымался и складировался вдоль бортов грузовика, а по прибытии на место раздавался вновь.
На этот раз мы ехали по пыльным дорогам к табачным плантациям. По пути мы увидели старого Арменака с осликом, один другому утирал слезы. Потом видели, как встретились у родника две женщины – Мелине и Сусанна. Они делили одного мужчину, который никак не хотел определить, кто же из них войдет в его дом на правах хозяйки. Потом мы увидели, как стало голо на площади перед управой, когда снесли с клумбы памятник Ленину, вернее, то, что от него осталось. Гипс, из которого была отлита статуя, оказался плохого качества, и бодрого человечка с простертой рукой практически смыло дождями.
Мы ехали и ехали. Через кукурузные поля и лоскутные долины, мимо абрикосовых садов и загадочных виноградников. Меня баюкал неровный ход машины, но, когда я вот-вот готов был заснуть, оказывалось, что мы уже приехали по назначению. Ровные шеренги табачных кустов. Почти симметрично листья стрелами выскакивают из плотного круглого стебля. Пирамидка белых цветов, венчающая куст, как маковка шлема воина, знак отличия, знак принадлежности к единой армии. И так десятки и десятки, сотни и сотни метров! Километры – ряд за рядом, плечо к плечу. Словно табачный лист еще там, на земле, предчувствует равенство в сигаретной пачке.
Листья рвали в большие корзины, и от хмурого табачного сока темнели ладони. В тени сидели женщины, которым мы сгружали набранное, а они ловко нанизывали лист за листом на проволоку черными огрубелыми пальцами, а затем натягивали ее струна за струной под деревянными навесами. Табачный лист должен высушиться, но не сгореть на солнце. Табачный лист должен висеть часто, чтобы чувствовать соседа, но не слишком плотно, чтобы не смешаться в общую массу. Табачный лист – штучный товар, хоть и листок похож на листок. Километры натянутых струн. Вот полощутся на жарком сухом ветерке ряды бледно-зеленых, только собранных листов. А вот другой навес, и здесь листья уже побурели, поменяли форму жизни и настроение. В этой безупречной стройности я отчетливо слышал кастрюльное звяканье тарелок и медный привкус духовых. Неведомые музыкальные темы отдавали плацем и военными маршами. Ряды, шеренги, перевязи и подвязки табака – тянутся ряды. И лист усох, уменьшился, стал почти готовым к преображению. Трансформация почти завершена – табак стал совсем светлым, охристым, готовым к следующим метаморфозам. Теперь его упакуют в тюки и – на фабрику, в сигареты, в расход. Плантация, со своим законом полного равенства, как прообраз будущей пачки, миллионов пачек по всему миру, стала последним аргументом в пользу моего выбора – я не курил и собирался не курить впредь.
На поле нас должны были распределить по территории плантации и прикреплять к разного рода работам. Можно было погорбатиться на сборе, можно было заняться сортировкой. Но, помаячив немного перед учителем труда, сопровождавшим нас, мы разбрелись по интересам. Стало жарко, и я предпочел пойти под навес к женщинам, говорливым, шумным, всегда готовым рассмеяться над нехитрой шуткой. Мы болтали о том о сем. Меня спрашивали о сестрах и бабушке, о маме и болит ли у деда нога. Я отвечал. Об отце не спрашивали, боялись, наверное, задеть за живое. Я не понимал этого и рассказывал о нем с удовольствием. Женщины переглядывались и сочувствовали.
Нанизывать на струны сочные листья табака было сложно. Струны часто протыкали пальцы, а мясистый стебель не всегда поддавался с первого раза. Но наши женщины давно уже приобрели опыт и механическую сноровку, порхание черных от табачного сока, огрубевших рук воздействовало гипнотически. Я сам стал поддаваться нескончаемому живому порядку этой работы. Мой голос и рассказ об отце отделились от меня самого, и я готов был поведать все семейные тайны, рассказать о том, чего не было, но что могло произойти. А потом бы я почувствовал, что и этого мало, и перешел бы от семейных секретов к загадочным страницам нашего древнего рода. Но тут дергает меня Ваник, кивает головой и подмигивает, будто у него нервный тик. Мол, пошли-ка, отойдем. И тут я снова спрашиваю, есть ли на свете передышка от глупости или нету? Где пресловутое перемирие между человеческой глупостью и самонадеянностью воображения? Хочу его! Требую. А иначе призову к ответу тех великовозрастных дураков, что расположили табачную плантацию в непосредственной близости к складу ядохимикатов и удобрений. Я – вежливый, воспитанный мальчик, извинился перед женщинами и пошел с Ваником.
– Что такое?
Тот расплылся в улыбке и повел меня за дощатый домик для хранения инвентаря. Там Ваник, он же Веник, он же Эник-Беник и, как апофеоз детской стихотворной мысли, Ебеник, протянул мне, своему лучшему другу, пропотевшую в ладошке самокрутку. Я покачал головой. Курить я не хотел. Как я уже говорил, не нравилось мне это занятие.
– Сам понимаешь, задаром здесь все. Покурим.
Энтузиазм Ваника искрился подлинным вдохновением. А мне стало стыдно, я очень хотел отказаться. Память воскресила мерзковатый привкус тлеющего во рту кизяка, которым, как мне казалось, пахнет цигарка. Еще гаже стало, когда к нам стали подтягиваться товарищи. На дармовщинку приобщиться к взрослой жизни хотелось многим. И как тут откажешься? Невозможно. Чтобы не прослыть трусом или, чего доброго, «девчонкой». Не объяснять же им, что моя пробуждающаяся мужественность не нуждается в подобного рода стимуляциях. Ну может же человеку не нравиться вкус сигареты?! Но отступных ходов почти не оставалось. Я с тоской наблюдал, как вокруг нас с Ваником сжимается кольцо одноклассников. Ваник закурил первым, сигаретку пустили по кругу.
– А тут склад есть, слыхали? – спросил один из моих бесшабашных приятелей и похлопал по дощатой стене хибарки.
– Какой? – уныло отозвался я. Через одного очередь затянуться сигаретой доберется до меня, и придется сделать это под бдительными взглядами остальных. И если я смухлюю, вдохну отвратительный дым и просто подержу его во рту, а потом выпихну его из себя, зоркие эксперты немедленно заметят это. Только затяжка, пропущенная через верхние дыхательные пути, смешанная и утяжеленная углекислым газом, который вырабатывает обычное человеческое дыхание, дает ровный, синеватый поток из легких. А в остальных случаях дым, как случайное слово, выскакивает изо рта бесформенным облаком. И товарищи немедленно закричат:
– Не взатяжку, не взатяжку!
Я смотрел, как изо рта круглолицего мальчишки, сына нашей фельдшерицы, выплывает сизый дракон и, задохнувшись свежим воздухом и благолепием белого дня, распадается на составные части.
– Химикаты какие-то, – ответили мне друзья.
В этот момент сигарета оказалась у меня, но разве это было главным?
– Да?! Какие?
Я автоматически поднес сигарету к губам и замер, совершенно искренне поразившись сообщению:
– Селитра.
– Да ну?
Мой неподдельный интерес к взрывчатым веществам отсрочивал ненавистное курение.
– Честно. Удобрения. Говорят, что здесь временно разместили, а потом построят большой склад из жести.
– Пошли!
Я поднес к губам сигарету, сделав вид, что затягиваюсь.
– Пошли. Кто не пойдет, тот трус.
– Куда? – немного растерялись мои друзья.
Я с облегчением бросил самокрутку на сухую траву прямо под стеной сарая и поспешно придавил башмаком.
– Эксперимент ставить будем.
Ультимативность моего поведения совершенно заворожила друзей, и они не успели проследить за цветом и траекторией дыма из моих губ.
– Да куда идти-то? Все здесь.
Ваник похлопал по дощатой стене домика.
Все вместе мы обошли постройку, подергали замок, а потом, не найдя изъянов в его конструкции, полезли в узкое оконце, расположенное высоко, под самой крышей. Мы подставляли спины и, оттолкнувшись один от другого, ныряли вглубь душного помещения.
Ваник должен был спрыгнуть последним, а еще двое мальчишек оставались снаружи, в качестве караульных. Наши глаза уже совсем привыкли к темноте, а Ваника все не было. Кто-то шикнул в щель между досками:
– Ваник, ты где?
Но снаружи раздавалась возня и топотание. Я уже приметил в глубине плотно уложенные бумажные мешки и какие-то канистры. Товарищи растерянно озирались по сторонам. Совершив не один, а целых два антиобщественных поступка: покурив и нелегально проникнув на склад, – мальчишки выполнили свою подростковую программу непослушания на сегодня. Теперь они совершенно потерялись. Их, похоже, ничего здесь не заинтересовало, хотелось поскорее выбраться. Конечно, гораздо безопасней издеваться над туповатым, нервным трудовиком или, зацепив разогнутой скрепкой подол девчоночьей юбки, подглядеть, какого цвета у нее трусы.
– Ваник, придурок. Ты где? Здесь такое!
Когда мои руки уже схватили какой-то брикет с латинскими нечитаемыми буквами на плотном скользком пластике упаковки, воротца со скрипом отвалились, и на пороге возникли несколько взрослых и наши незадачливые караульщики. На их плечах лежали тяжелые ладони крестьянок, а Ваника держал за ухо учитель труда. Да вывернул ухо так, что мой друг был вынужден униженно извиваться.
– А ну вон отсюда! Как только попали сюда?! Замок же висит! – гаркнул трудовик.
По склону холма к сараю уже ковылял старик-сторож с допотопной берданкой. Бежал, прихрамывая, так как не успел толком обуться. Ружье держал прикладом к бедру, кажется, что вот-вот начнет палить, по-ковбойски, от ноги. Хрипел на ходу, но не мог вымолвить ни одного толкового слова. Только:
– Я… Где… Мать… Хрен… Отец…
Заметив в моих руках упаковку опасного химиката, трудовик закричал громко, но нестрашно:
– Бросай брикет!
И женщины согласно закивали:
– Это правильно, мальчик. Не надо баловаться с этим. Яд это.
Я послушно бросил – спорить с ними было бессмысленно. Да и были правы они – мы, шайка малолетних хулиганов, проникли в закрытое помещение и пытались спереть казенное имущество. Вернее, это я сделал. Мне и отвечать. Я бросил брикет на землю. Под ноги.
– Выходи! К директору поедем.
Я вышел из сараюшки, побежденный, но не сломленный. Мои товарищи потянулись за мной. Трудовик, наконец, перестал терзать Ваниково ухо и толкнул его ко мне. Наверное, не со зла, но он сказал, обращаясь ко мне:
– Я знаю, это ты всех совратил. Я знаю! Кто бы еще до такого додумался? Отец ненормальный и сын туда же!
Не стоило ему говорить этого. Он и сам понял что перегнул палку, правда, чуть позже на полмгновения после того, как слова были уже брошены. Но учитель труда был не слишком оборотист мыслью. Женщины покачали головами. Мальчишки мстительно просияли, предвкушая крутой поворот истории, в которую они влипли из-за меня. Ведь центральным объектом внимания старших становился я, выводя их из-под прямого удара. И я принял вызов.
– Мой отец, если узнает, что вы про него говорите, никогда не сошьет вам сапоги, – процедил я.
– И не надо! Я в городе покупаю, в магазине.
– Мой отец никогда не сошьет вам сапоги, когда вы покалечите ногу и не сможете ходить в магазинных.
Наш трудовик был энциклопедистом по части ремесел, эдаким Дидро молотка и болгарки. Но тут он растерялся. В моей интонации он уловил сигнал опасности, но сами слова до него не долетели. С чего это он должен покалечить ногу? Может быть, я что-то знаю, о чем он еще не догадывается? Может быть, мне от бабки передались кое-какие способности ведовства, о которых в деревне шушукались, но всерьез никто не верил? Или…
– Ты мне?! Сопляк, ты мне угрожаешь? – догадался, наконец, учитель.
Женщины посмотрели на меня осуждающе, правда, через поволоку нежности. Это были взгляды сожаления перед казнью слишком молодого осужденного. Не более. Я ошибочно принял их как знак ободрения и вместо того, чтобы заткнуться, все лез и лез на рожон:
– Я не угрожаю, просто предупреждаю.
– Всякое может случиться.
– Не верю своим ушам!
– Жизнь длинная штука, – я представлял себя героем вестерна.
– Выходи, пойдем к твоему отцу, разбираться! – не вытерпел учитель.
– Вы же сказали к директору.
– И к директору!
Но никто никуда не пошел. Онемев от ужаса, Ваник вдруг воздел руку и указал на дымящуюся в углу сарая солому, которая быстро занялась сине-белыми языками пламени. Они громко хлопали, как птицы крыльями.
– Женщины! Ведра! Вода! – успел скомандовать полевой сторож.
Но учитель труда все-таки недаром считал себя человеком просвещенным. Кое-что и он понимал в жизни.
– Поздно! – крикнул он, учуяв характерный горьковатый запах. И потащил всех подальше, на край поля, в канаву.
Через секунду раздался взрыв! Что это был за фейерверк, что это было за зрелище! Любуясь им, я поднялся из нашего убежища, хоть меня и тянули вниз чьи-то цепкие руки. Хлопок за хлопком, по нарастающей, раздавались взрывы. Снопы зеленовато-синих искр вылетали из-под крыши, а затем полились из всех щелей домика. Все, что в нем могло гореть, поддержало эту затею… Пламя плясало, пульсировало, клокотало. Оно то отступало, вдруг увлекшись созерцанием синеватых искр, а то разгоралось с новой силой, поглощая и искры, и их мерцающий свет. Затем наступала очередь искр белых, а потом лиловых и даже черных. И каждый раз огонь влюблялся в них заново, обещая каждому цвету свою вечную верность. И каждый раз обманывало, каждый раз испепеляло своей любовью и изменяло, не простившись, не попросив прощения. Это было пиршество огнепоклонника. И я был им в эту минуту.
По счастью, огонь сосредоточился только внутри и немного вокруг временного склада, давая надежду на то, что остальное колхозное имущество останется в сохранности.
И все это я рассказал отцу, когда меня привели к нему на допрос. Он слушал внимательно, а за дверьми гостиной, где я изливал ему свою душу, напряженно ожидали его решения мама, дедушка, бабушка, директор колхоза, трудовик и даже сторож. Несколько женщин были делегированы с поля. Они говорили, что я хороший мальчик. А я думал, что пришел судный день. Может быть, убьет меня папа за то, что я опозорил его имя. Может быть, в последний раз я гляжу на его суровое и спокойное лицо. Он сидит спиной к окну, и я вижу своих сестер. Они залезли на кривую шелковицу, чтобы не пропустить ничего из того, что произойдет в комнате. Лицо мужчины и две девочки, ползущие по ветке. Маленькая – бесстрашная, впереди, мимоходом сует в рот спелые тутовые ягоды. А та, что постарше и потяжелей, – держится ближе к стволу и машет мне. Глядя на них, я понимаю, что жизнь не закончена, она продолжается, и я рассказываю отцу про то, как закурил…
А когда мы с отцом вышли из комнаты, многим ожидающим на нашей террасе пришлось разочароваться. Он сказал:
– Сын мой был неправ, но наказывать его одного было бы несправедливо. Их пятеро было? Пятеро и ответят.
Он сказал это так, что никому и в голову не пришло спорить с ним. А он продолжил:
– Можно подыскать алкоголику работу в цехе розлива водки? Можно. Но беда тому алкашу и тому цеху. А если нужно испытать на прочность диван? Допустимо ли лентяя определить к этому делу? Почему бы и нет? Но диванная лежанка продавится раньше предусмотренного срока, это определенно. А на боках у испытателя обозначатся пролежни. Что поделаешь, в жизни так и бывает – подобное притягивает подобное. Грех и факт, мечта и грабли трутся друг о друга, высекая когда восторг, когда горестное недоумение. Но если вдуматься, то почему они не могут соседствовать? Так, как это произошло у нас. Мой мальчик любил огонь. Другие мальчики любили курить. А вы разместили склад химикатов против всяких правил безопасности. Кто виноват?
Отец удивил всех. Мама первая открыла рот. Дед слегка поддел ее локтем, и она тут же, по-бабьи, прикрыла рот ладонью. Председатель колхоза завертелся на стуле, искал глазами зама, чтобы устроить ему разнос. Но суровый взгляд моего отца нашел глаза председателя и поднял со стула грузное его тело.
– Вот были слова, а теперь начнутся дела, – сказал папа.
И он отвел взгляд, и председатель упал обратно, надежно припечатавшись к скрипучему сиденью.
– Мы поделим расходы с отцами всех мальчиков. А вы напишете, что склад сгорел сам.
Председатель закудахтал было, стал жаловаться на жизнь, прибедняться. Рассказывал, как тяжело приходится человеку в его положении – скидок никаких, а спросу много. Но мой папа раскусил подлеца. Он знал, что председатель мечется между желанием получить отступного и грядущим наказанием, которое непременно последует от областного руководства. Но если, с деньгами или без них, разнос от начальства неминуем, не лучше ли замять дело полюбовно? Председатель колхоза задумался. Что ж, деньги все же слаще, с ними любое наказание можно пережить. А ведь его старшему сыну даже самая неказистая невеста в деревне отказывает, потому что он хоть и из хорошей семьи, но глуповат, и поправить положение можно только покупкой ему личного автомобиля. На машину каждая клюнет. И председатель выдохнул:
– Замнем, пожалуй.
Отец удовлетворенно кивнул. И все остались довольны.
Когда все ушли и мы с отцом остались одни, он взглянул на меня печально и спросил:
– Как ты думаешь, в чем твоя вина?
– Отец, я не специально…
– В чем вина?
Я молчал, подбирая мысли, составляя их в слова. Папа терпеливо ждал.
– Я сделал то, что нельзя исправить, – выдавил наконец я.
Тень улыбки скользнула в глазах. Он погладил меня по голове и поднялся. Разговор, урок и наказание были закончены, предмет исчерпан.
Вечером я случайно подслушал разговор родителей. Они сидели на террасе, на старом продавленном диване и смотрели на звезды, засеявшие небо. Мама спрашивала, где же мы найдем столько денег, а отец отмалчивался и гладил ее по голове.
– Ты мне всегда говоришь «не волнуйся – не волнуйся», а я не могу не волноваться, мне детей кормить, – ответила мама, будто отец что-то сказал. – Откуда у нас деньги? Все и так заложено-перезаложено. Вот теперь сынок дел натворил.
Отец тихо улыбнулся, сверкнув в темноте белоснежными зубами.
– Обещаешь, что все будет хорошо? – спросила Люся.
Хачик потеребил кончики ее пальцев.
Я стоял под звездным небом в кустах чайной розы и пытался на всю жизнь запомнить увиденное. Я старался запечатлеть каждую деталь, каждый штрих, словно завтра мне предстояла вечная разлука с родителями. Короткий и болезненный подзатыльник нарушил мою идиллию. Покачнувшись, я схватился за первое же, что попалось под руку. Им оказался затрепанный френч деда.
– Держись-держись, свалишься, – сквозь улыбку прогудел дедушка. – Пошли в дом.
Я стоял оглушенный видением открытой, не запертой от глаз любви моих родителей. Мне нужно было время, чтобы осмыслить увиденное.
– Я буду ночевать в саду. В доме жарко.
Она и ради нее!
Наш родитель продолжил читать «Крестного отца» и начал что-то подчеркивать в книге школьным карандашом. Дона Корлеоне подстрелили конкуренты. Папа переживал.
Сестры возились на тахте, и Света, свалившись, сломала лодыжку. Она лежала в гостиной среди подушек, загипсованная по колено. Папа читал.
«Дружба это все. Дружба больше таланта, сильнее любого государства. Дружба весит столько же, и даже чуть больше, чем семья…»
Марина открыла во дворе парикмахерскую и подстригла и покрасила восемь белых кур и двух коз. Фиолетовые с зеленой окантовкой твари пугали людей и других животных. Увидевшая их первой соседка – бабка Вардуи – приняла близко к сердцу эстетический удар от увиденного и была транспортирована в районную больницу. Папа был погружен в литературу.
«Дон Корлеоне нетерпеливо отмахивался от лирики. Умные люди всегда найдут выход из деловых затруднений…»
Мама пригрозила выйти на работу. Воплощая в жизнь свои угрозы, она пошла на курсы стенографисток. Папа хранил спокойствие с книгой в руках.
«– Я хотел бы работать на вас.
Говоря иначе – с безоговорочной преданностью, беспрекословным признанием верховной родительской власти дона…»
Дедушка смастерил в сарае модель «У-2», практически не отступая от оригинальных размеров. И грозился запустить с горной кручи, сев на место пилота. Папа шелестел страницами.
«Никогда не впадай в ярость… Никогда не угрожай. Заставь человека рассуждать здраво. Главное искусство состоит в том, чтобы подставлять левую щеку, когда тебя ударят по правой…»
Бабушка уехала к родственникам и вернулась. Папа не заметил и этого. Нет, вернее, он все замечал, но попал в какое-то зачарованное состояние.
«Есть в этом человеке настоящая твердость?»
А через пару месяцев пришла, наконец, иностранная посылка. К этому времени отец одолел восемьдесят одну страницу романа Марио Пьюзо.
У почты собралась вся деревня – поглазеть, как отец получает яркую иностранную коробку, замотанную желтыми клейкими лентами, наподобие бинтов. Люди хотели, наконец, понять, что же происходило со скромным сапожником Хачиком Бовяном?
Отец заплатил наложенным платежом, важно кивнул соседям и торжественно пронес свою долгожданную добычу по деревне. Увидев картонную коробку с желтыми лентами, многие были разочарованы. Но пришлось довольствоваться и этим. К тому же наклейки давали простор для фантазии.
– Это чтобы по пути не развалилась, – предположила тетка Дездемон, сморщенная лицом, похожая на чернослив старуха.
– Это чтобы сразу ты узнал свою коробку, чтобы с другими не перепутал, – сказала моя тетка Пепроне.
– Да как вы не понимаете, там что-то ядовитое, вот и наклеили, чтобы без специальных перчаток грузчики не брали в руки, – сказал пенсионер Степанян.
– Что ты говоришь такое? Хачик-то взял да понес, – заклевали его женщины.
– А потом, ядовитое красным выделяют!
– Вот вы ничего не понимаете, женщины. Хачик-то об этом еще не знает, – настаивал пенсионер.
От почты до дома его провожали односельчане и тревожно ждали на улице, пока Хачик, водрузив посылку в центр обеденного стола, распаковал ее дрожащими руками. Заглянул внутрь, тепло и нежно ахнул и… достал из недр ту самую пару чудесных босоножек, что пленила его на журнальной фотографии. Изящные, как пара лебедей, с каблуками такой невероятной высоты, что захватывало дух, с ремешками и бусинами пряжек, темно-бордовыми и соблазнительными, как спелые ягоды ежевики…
И папа сказал:
– До сих пор были слова, а теперь же начиналось дело.
И это сказал уже не он. Это был уже вселившийся в него дух вымышленного сицилийца Вито Корлеоне. Это был последний день творения.
Папа мой Хачатур Сергеевич оказался человеком благодарным. Не знаю, какого Бога благодарил бывший комсомолец Бовян, но по нашей армянской традиции созвал он на пир всю деревню, чтобы отпраздновать приход бандероли. Там же прилюдно взял на себя зарок – больше никаких пиров до… Он не сказал до чего, но мы уже понимали: он что-то задумал.
Слова закончились, началось дело.
Перемены
Не знаю, до какой страницы дочитал отец, но изменения происходили на глазах. Столичным родственникам отец заложил дом, машину и кукурузное поле, которое он один возделывал вместо целой колхозной бригады, а потому ему принадлежала половина урожая. На вырученные деньги он нанял десятерых сапожников, закупил материалы и принялся за воспроизводство итальянской красавицы. Мой отец прекрасно сознавал, что в случае неудачи рискует абсолютно всем, но под влиянием дона Корлеоне решил идти до конца.
Дело было осенью. Папа сказал, что весною партия его «девочек» должна быть первой на прилавках буквально всех магазинов. Нам стало смешно. Но маленькая Маринка, которая не ходила в школу и обладала неуемным воображением, захныкала, представив горбатых детей девичьего пола, прикованных, как рабы на галерах, к обувным прилавкам. Когда мы объяснили ей, что под «девочками» папа разумел свои босоножки, которые он и его работники наплодят в полном соответствии с оригиналом, то она вообще разревелась, потому что представила себе папины высококаблучные изделия везде – вместо мяса, масла и сахара, вместо лимонада, конфет и хлеба! Маринка ревела, а мы со Светкой хохотали до колик.
Одно замещение все же произошло. Когда в мастерской были сняты соответствующие мерки с пары революционных итальянок, папа принес ее домой и водрузил на телевизор, на кружевную салфетку, где, сколько мы себя помнили, красовалась хрустальная ваза – мамино приданое. Ваза перекочевала на буфет. По вечерам, когда мы все, и даже суровая бабушка, напряженно всматривались в черно-белый экран, переживая то за Анну Каренину, то за рабыню Изауру, отец глядел поверх телевизора на туфли. Потом опускал голову к книге и читал.
«С начала года семья Корлеоне вела войну против пяти семей нью-йоркской мафии. Эхо жесточайшей резни рокотало с газетных пол ос. Многие полегли с той и с другой стороны…»
Что отец видел за этими строчками? И что вообще ему было за дело до далеких итало-американских гангстеров, их детей, любовниц, врагов и многочисленных просителей, что не верили в закон страны, в которой жили, но веровали в право сильного? Какие картинки будоражили отцовское воображение? Об этом мы тогда и не догадывались. Он снова стал глядеть на нас после ужина, но как-то иначе. Он смотрел и мучился прочесть что-то в наших лицах. Что?
Ежиная война
У нашей семьи был враг – ближайший сосед – хромой Карапет. Глупо сказать, но враждовали мы из-за ежиков. Дело было вот как.
Когда-то, еще во времена моего прадедушки, жило под домом Карапета (точнее, его прадедушки) семейство обычных ежей. Ежи при доме, как известно, означали благополучие и атмосферу благолепия в жилище. Однажды по какой-то неведомой людям, но, очевидно, известной остальному животному миру причине ежиный клан собрал свои вещички, под удивленными взглядами обоих человеческих семейств прошмыгнул под плетеной изгородью, разделявшей сады соседей, и юркнул под старые камни нашего дома. Ни я, ни мой отец, ни дед, ни прадед, во времена которого началась эта ежиная война, ни родственники хромого Карапета – мы все никогда не узнаем, чем же сырость и плесень под нашим домом выгодно отличается от Карапетовой? Биологическая загадка. Но с тех пор семьи враждовали. Прадед Карапета обвинял моего прадеда в том, что он специально переманил ежей-покровителей.
– Чем же? – удивлялся мой прадед.
– Твоя жена читала заклинания! – бросал страшные обвинения Карапет.
– Кто сказал?
– Люди видели!
– Глаза бы этим людям выколоть!
– Люди, вы слышали, вам хотят выколоть глаза!
– Мурло!
– Дубина!
– Тупица!
– Ишак!
– Ишачья задница!
Обвинения достигали целей в обоих направлениях, и кончилось тем, что соседи подрались.
Но прабабка-то, судя по рассказам, и вправду не чужда была общения с потусторонним миром. Часто бродила она по горам, собирая травы, камни, глину и всякую грязь. Говорят, что в молодости она была женщина красивая, но опрокинула на себя чугунок с горячим молоком и чуть не померла. Странствующий курдский дервиш вылечил ее примочками и заклинаниями, просидел возле нее целую ночь и ушел. Прабабушка – тогда еще юная девица, очнулась живая, без ожогов, без шрамов, только немного рябоватая. Дервиша и след простыл, а прабабка Сусанбар осталась с тайным знанием на руках, как девственница с нежданной беременностью перед алтарем. Но Сусанбар смирилась со своим даром, хоть и горевала поначалу. Ее поддержали братья и дядья-священники. Говорили, что дар напрасным не бывает, а только человек бывает глухим к языку Бога, и девушка должна покориться воле Господней. Она покорилась. Лечила народ, причем не корыстно, а лишь из соображений добровольного служения. Старалась она не напрасно – люди излечивались от несерьезных и назойливых недугов, с которыми тяжко было ехать в больницу – через перевал и пустые мусульманские села, вокруг которых шастали молодые курды – темноликие и белозубые. Излечивались люди, но боялись Сусанбарихи. Шла за ней и дурная слава ведьмы.
Поэтому-то и взъярился ее муж от слов опрометчивого соседа и полез с ним драться, защищая честь супруги. В этой драке мой предок получил увечья на лице, а соседский пращур сломал руку. Оба лежали в грязи и тяжело дышали. Прабабушка делала примочки как своему заступнику, так и обидчику. Карапетова-то прабабка была на сносях, и нельзя ей было волноваться.
Я вот думаю, странные это были люди. И странные войны. Ежи и от нас ушли со временем в азербайджанскую деревню неподалеку. Но семьи наши не сплотились даже после этого.
И вот настал день, когда папа мой – Хачатур Бовян – принял важное решение. Он встал с дивана, отложил книгу Марио Пьюзо и вышел на улицу мириться с Карапетом.
Вокруг надрывались зурны, дребезжали ситары и ухали барабаны. Сосед гулял на всю деревню – у него, у хромого Карапета наконец родился сын! Уже целую неделю все только об этом говорили. Женщины входили в магазин со словами:
– Слышали новость? У хромого Карапета родился сын.
Мужчины приводили коней к водопою и кивали друг другу со словами:
– У хромого Карапета родился сын. Вот это новость!
Старики кидали кости на доску нард и перед тем, как назвать комбинацию цифр, объясняли:
– У этого мальчишки хромого Карапета родился сын, так что он теперь настоящий мужчина. Но он не умеет играть в нарды. Пусть научится, чтобы играть с нами.
Деревенские бабки, как водится, знали больше других:
– Это Бовяна Хачика прабабка смилостивилась с того света и сняла проклятие. Пусть, говорит, меня и обидел когда-то предок хромого Карапета, ведьмой обозвал, но против него самого я зла не держу. Пусть, говорит, родится у хромого Карапета сын, сколько можно приданого девкам копить.
В такой вот обстановке готовил Карапет свой главный праздник. Он перекрыл движение на главной улице деревни, распростер брезентовый шатер над дорожной пылью и созвал всех односельчан. Его жена, вся в золотых зубах и непокорных кудряшках, была посажена в высокое кресло на манер трона и держала драгоценный, в кружевах, сверток, который время от времени тихо попискивал. Хромой Карапет ликовал – он победил природу. Шесть кудрявых дочек, каждая из которых была младше предыдущей на 10 месяцев, смотрели на младенца серьезно и без умиления. Так и должно было случиться, и так произошло. Все приглашенные пили за здоровье этого крохотного мальчика. Все, кроме моего отца, ибо он не был приглашен на пиршество. Но он все же пришел.
Отец подошел к трону и поклонился женщине с ребенком. Соседу сказал:
– Помиримся, сколько можно…
Карапет сполз со стула и некоторое время растерянно оглядывал соседей, словно говорил: «Люди добрые, я не ослышался?»
– Не ослышался, брат, – услышал Хачик внутренний голос Карапета.
И они обнялись. Да так крепко и долго они обнимались, что казалось, каждый из их дедов и дядьев, что отказывали себе в этом удовольствии больше века – похлопать соседа по плечу, – встали в очередь и теперь с чувством и расстановкой участвуют в процедуре примирения. Дело дошло до того, что бабушке и матери Карапета пришлось рассаживать сыновей, почувствовавших вкус мужских объятий. Жена Карапета не могла и пошевелиться под многопудовой тяжестью золотых украшений и святостью новорожденной ноши. Она думала, чем обернется это примирение? Новое братство скрепилось и древним обычаем – отцу доверили разливать вино. И отец, знавший традиции, встал, поклонился и спросил, как полагается:
– Люди добрые, как разливать вино, по-божески или по справедливости?
А народ-то уже раздухарился. Всем уже просто выпить было охота. К словам-то уже никто и не прислушивался. Все крикнули, как и полагается в подобных случаях:
– По-божески, по-божески.
Получилось нестройно, но Хачик все понял.
– Хорошо, – сказал отец.
Он стал обходить всех вином. И тут голоса и смех стали постепенно угасать. Нестройно и не в лад замолчали музыканты. Все уставились на отца, который меж тем исправно выполнял обязанности виночерпия. И кому сколько досталось – не всем поровну. Кому капля, кому полбокала, кому полный.
Карапет удивился.
– Хачатур?
Отец широко улыбался.
– Хачик. Не с ума ли ты спятил, – прошипела моя мать. – Что ты делаешь, Хачик? Позоришь нас, да и только.
Папа спокойно продолжал свое дело.
– Люся. Народ велел наливать по-божески. А ведь Господь не всем одинаково отпускает: одному он дает много, другому мало, третьему – еще меньше. Я так и делаю. Как Бог дает, так и я разливаю.
– Хачик, но ты не Бог, – прошептала Люся.
Ее взгляд молил о пощаде. Не все и не в любую минуту готовы услышать что-нибудь в духе: «Дорогая, я хоть и не Бог, и даже не его правая рука, но, кстати сказать, перчатка на его руке, рад познакомиться». Мама посмотрела на мужа глазами полными печали и тайной надежды. Может быть, пронесет?
– Люся, поговорим позже, – ответил папа, и Люся, его законная супруга, поняла – нет, все так, как, щемя, подсказывало сердце. Ее муж теперь совсем другой человек. Это не сапожник Хачик. Это новый мужчина, который не принадлежит себе самому и уж тем более не ей. Перед ней мужчина, над которым взяла власть его дорога.
– Да, конечно, – только и ответила мама. – Конечно, поговорим.
– Хачатур? – снова спросил хромой сосед. – Разве дело это?
– Но вы все ответили – по-божески.
Папа улыбнулся и поставил кувшин на стол. А Карапет немного даже растерялся, так была открыта папина улыбка. И не было в ней ни подтекста, ни лукавства.
– Это просто так говорят. Люди говорят, поступаем по-божески, – развел руками Карапет.
– Просто так никто ничего не говорит. Человек сам и добровольно – раб своей судьбы, а слова – это его оковы. Может быть, люди добрые, все-таки будем по справедливости?
– Согласны, согласны, – заголосили гости. – Наливай по справедливости.
И всем налили снова. Ропот перешел в смех, у гостей отлегло, а папа впал в задумчивость.
– Что-то снова не так? – осторожно спросил Карапет.
– Ах, если бы ко всем по справедливости, нас бы тут никого не осталось, – прошептал папаша – сапожник, не читавший никогда ни Достоевского, ни Честертона.
Мама сидела рядышком, с тревогой поглядывала на мужа. Он не пил, почти ничего не съел и не вымолвил ни единого слова. Она ломала пальцами сухие хлеба, а он иногда брал с блюда яблоко или гранат, нюхал его и оставлял. Под конец вечера Карапет подошел к отцу и подсел к нему.
– Хачик, ты вообще-то хорошо говорил. Просто неожиданно как-то. Но, вообще, хорошо.
– А что толку, Карапет. Меня никто не услышал.
Карапет обнял за плечи соседа на правах вновь обретенного приятеля.
– Слушай, Хачик. Хочу тебе сказать, если тебе нужны будут верные люди, то знай, я всегда готов.
Отец хотел сделать вид, что не понял, о чем это толкует сосед, и даже на всякий случай спросил:
– Ты это о чем?
Но это так, на всякий случай он спросил. А на деле-то знал Хачатур Сергеевич, что Карапетовыми устами с ним говорит Господь. И говорит буквально следующее:
– Хачатур! Что в переводе на русский означает дающий крест. Сын мой! Ты уже вырос до того, что люди тебя уважают. А уважаемый человек должен и выглядеть уважаемо. Почему один ходишь? К чему маешься? Собери единомышленников и иди ровной широкой дорогой смело и без остановок.
Карапет терпеливо ждал ответа. Папа молчал, потому что вдруг услышал и другой, адский голос, лукаво перефразирующий мысль Карапета:
– А вдруг Карапет подводит тебя под монастырь?
– Изыди, Сатана, – буркнул папа.
Карапет удивленно вскинул бровь.
– Я не тебе, братишка, – успокоил его Хачик.
– Интересно. И часто ты сам с собой разговариваешь?
– Да я не с собой.
– Хочу, Хачик, понять для себя, кто ты? Клоун, как думают большинство наших односельчан, или мудрец, как думаю я? – Карапет начал издалека, но попал точно в цель.
– Я сапожник.
Искреннее простодушие отца стало злить соседа.
– Сапожник, согласен. Но какие у тебя планы? Что ты думаешь о будущем?
– Цех открою.
– Трудно.
– Кто говорит, что легко?
– Милиция, ОБХСС, председатель колхоза.
– А он при чем?
– Ты же расширяться будешь. А значит, людей набирать будешь, а значит, с полей заберешь. Если платить будешь чуть больше, чем крестьянам за трудодни дают, люди к тебе валом повалят. Председатель рассердится.
– Послушай, но я же не собираюсь строить обувную фабрику.
– Кто знает?
– Мне нужно всего лишь несколько обученных обувному делу человек.
– Чем больше, тем лучше.
– И место.
– Само собой.
– А место у меня есть.
– Сарай?
– Сарай.
Сарай был камнем преткновения, а вернее приграничной недвижимостью. Он был распростерт по обеим сторонам небольшого оврага, сначала как мост между соседями, а затем, после того как соседи стали враждовать, блокпостом. По сути это являлось общей собственностью, но она нигде не значилась. Мост, заваленный хламом, или сарай на пустом месте, или овраг с выросшей над ним пирамидой камней.
– Бери и мою половину, – великодушно позволил Карапет.
Отец, наученный прочитанными страницами о крестном отце, промолчал. Кто много говорит, тот не глубоко думает.
– Бери. Тебе это не будет стоить ничего, – настаивал сосед.
– Так не бывает.
– Хачик, только не подумай, что я думаю о корысти. Я не думаю. Я вообще ни о чем не думаю.
– Это плохо, дорогой.
Отец задумчиво посмотрел на соседа.
– У тебя наследник, думай о будущем, – сказал он. Сказал и пошел к маме.
Карапет остался стоять и думать, что означали слова соседа. Это была угроза, совет или просто дежурные фразы?
Думай о будущем…
Вся деревня говорила о странностях в поведении Хачика Бовяна. И люди были правы. Говорили, у Бовяна завелись деньги, и тут не соврали. Он купил кожи, сапожные машины, люди? Люди сказали, что Бовян Хачик задумал осуществить переворот в жизни своей семьи. И Карапет верил этому.
Вообще, когда у нас в народе ходят слухи, нужно покориться им. Мы – немногочисленный, но очень любопытный народ. Мы принимаем все очень близко к сердцу. Своей мы ощущаем не только боль земляка, своей мы ощущаем также и его радость, его семейные перипетии и его долги. Это наше дело, когда Гаго не может отдать Сако вовремя деньги. Это наше дело, когда у сослуживца дальнего родственника появляется любовница. Здоровье знакомых нас тоже очень волнует. Когда настоящий армянин узнает, чем лечат его соседа, он немедленно подозревает заговор врачей. Он тут же вспоминает, что отец сестры жены его крестного служит в какой-то больнице по хозяйственной части. И нужно обратиться к нему за помощью. И вот уже несчастного поднимают с одной больничной койки и за большие деньги перевозят в другой госпиталь. Там оказывается, что профиль данного лечебного учреждения совершенно не соответствует заболеванию, но тайфун ведь остановить невозможно. Чтобы не ударить лицом в мерзкую грязь невыполненных обещаний, доброхот платит свои деньги, чтобы его «лучшему другу», «самому близкому человеку на свете», «парню, равных которому еще не рождала армянская земля», чтобы этому человеку оказали почет, уход и самое лучшее лечение. Очень скоро оказывается, что стоит все это немало, и сосед начинает соседа ненавидеть. Но, слава Богу, все как-то очень быстро приходит в норму – подшефный либо быстро излечивается, либо в одночасье умирает, очевидно, от интенсивности терапии.
Так что происходящее с моим отцом напрямую касалось Карапета. Любопытство соседа достигло апогея, когда на следующий день Хачик прислал ему коробку, в которой копошилась пара ежей.
Перемены – устрашающий масштаб
Заканчивалась зима. Было произведено двадцать тысяч пар – сводных сестер итальянской красавицы. Отец дошел до двадцать третьей главы нетленного романа.
«Он понял, почему дон так любит повторять, что каждому предначертана своя неповторимая судьба…»
Выброшенная на рынок первой, партия обуви отца разошлась за считаные дни. Он расплатился с долгами, арендовал ангар побольше, нанял еще шестнадцать сапожников и следующую партию произвел на свет в рекордно короткие сроки. Она уже не была похожа на дитя любви, скорее, так, побочные дети – мизерабли. Отец больше не медитировал на телевизор, а место туфель снова заняла ваза, к несказанной радости мамы. Вторая партия разошлась еще быстрее, потому что была середина весны. А мой отец все читал:
«Все предусмотрел Майкл Корлеоне, вплоть до малейшей случайности. Все безупречно рассчитал, принял все меры предосторожности. На год вперед запасся терпением, надеясь за это время окончательно завершить все приготовления».
Что-то магическое было в строчках этой книги, она потихоньку творила в моем родителе необратимые перемены. Так, вслед за младшим Корлеоне, он запасся терпением и произвел еще одну партию туфель для модниц СССР. И они – эти модницы, эти амазонки больших городов и стихийные феминистки маленьких деревень, эти хрупкие, но несгибаемые борцы за всемирное дело красоты, приезжали в Армению, республику-сестру, со всей страны, чтобы между осмотром древних руин совершать опустошительные набеги на магазины. С победным кличем бросались они к прилавкам с папиным товаром и покупали его до тех пор, пока не кончались у них деньги или не оставалось ни одной пары в душной лавчонке или центровом магазине. А потом летели, летели, неслись во все концы страны посылочки и бандерольки с папиными изделиями: сестрам, дочерям, подругам, начальницам и соперницам, в подарок, на взятку, на удивление и на зависть… Между тем сама модель изменилась немало. Она была модифицирована кое-какими деталями. Потом начались мотивы, вариации и поздние дописки… Прошло лето.
Короче говоря, когда к концу лета отец перевернул последнюю страницу книги, он был уже состоятельным человеком. И, возможно, на этом наша история завершилась бы. И не выстроил бы отец в точности, как описано в «Крестном отце», восемь домов в полукольце парковой аллеи с прожекторами у подъездной дорожки, но не в Нью-Йорке, а в городке у другого океана. А мама не стала бы хозяйкой модной мастерской по изготовлению ковров и гобеленов, и прошли бы даром уроки моей суровой бабушки. А мы, мы бы с сестрицами никогда… Но по порядку…
Папа чувствовал неловкость от неожиданного своего богатства. Некоторое время он делал вид, что ничего не изменилось. Он не поменял ни гардероба, ни привычек. А мы – дети и домочадцы – совсем еще не понимали того огромного, что на нас надвигалось. Осень прошла в папиных частых отлучках в Ереван и в мамином напряженном ожидании его возвращений. Они о чем-то шептались по ночам, а наутро дед и бабушка ревниво посматривали на них. Сын и невестка не спешили посвящать стариков в неведомые дальносрочные планы. Чета фамильных патриархов почувствовала себя свергнутой с родового престола. Зачинались разговоры и обрывались незаконченными. В воздухе повисали слова, невысказанные вопросы, ускользающие интонации. Они не растворялись, создавая вокруг нас невидимые, но липкие паутины. Маме как-то удавалось возвращать расположение свекра и свекрови, но происходило это от одного папиного возвращения из города до другого все труднее, а отлучки затевались все чаще. Хачик ходил собранный, и это состояние легко было спутать с угрюмостью, что, кстати, некоторые и делали. Выпал снег.
Забота о воде считалась женской работой. К слову, это тяжкий труд, выполнение которого приносило не благостную усталость и неизменное удовлетворение. За годы усталость переходила в хронические болезни позвоночника и устойчивую женскую убежденность – я принесла пользу своей семье, я носила ей жизнь. Зимой замерзал Молочный родник, и за водой приходилось ходить к другому источнику – Мадо. Карабкаться по скользким уступам, затем, достигнув вершины безымянной горы, похожей на окоченевшего альпиниста, спускаться в долину, которая милостиво подставляла ладони усталому путнику. Возле Мадо можно было отдохнуть, пока в ведро, кувшин – глиняный или медный – бежала тонкой струйкой вода. Тяжелые ведра с водой носили в основном дачники – дилетанты, они расплескивали на пути к дому половину драгоценной влаги. Кувшины и карасы[1] были для профессионалов, для тех, кто может поднять на плечо или водрузить на голову плоское донце. Но кувшин невелик, а наше семейство потребляло много воды. Мама Люся ходила к источнику с большущим медным карасом. Заполнив, его нужно было заткнуть пробкой, обмотанной тряпицей, и водрузить на плечо плашмя. Маме нравился именно этот способ. Ей казалось, что она несет на себе огромную птицу, которая отчего-то не может взлететь.
В ту зиму женщины старались справиться с тяжелой работой водоносиц засветло – кто-то пустил слух, что на дороге к Мадо неспокойно. Говорили, что здесь разбит временный блокпост лихих людей. Шушукались, что они останавливают прохожих и редкий транспорт и требуют оброк на благое дело будущей независимости Армении. Почти беззвучно, трепещущими губами шептались, что люди эти не просто люди, или, вернее, не совсем люди, а суровые призраки старинных героев-фидаинов – борцов против всех возможных иноземцев-завоевателей, поборников свободной, маленькой, но гордой Армении. Все знали – в наших местах у многих родные воевали в двадцатые годы против большевиков. И все знали – они проиграли. В Закавказье пришла советская власть, электричество и новые имена – Трактор, Колхоз и Марксэн. Побежденные романтики свободы давно уж сгинули: одни ушли через Иран и Турцию на Запад, другие сгинули на Дальнем русском Востоке. Одних помнят, о других совсем забыли, но чтобы самоотверженные герои прошлого тревожили нас бряцаньем костей с того света, этого не бывало. А уж чтобы обирать честных селян – никто и слыхом не слыхивал, чтобы призрак просил презренного металла…
Папа не верил в эти россказни, обвиняя односельчан в том, что их завиральные фантазии вылились через прозрачную границу, положенную воображению, затопив все вокруг, возобладав и над здравым смыслом, и над крупицами самоиронии. Но он не был бы Хачатуром Бовяном – плоть от плоти родной земли, если бы не оставил на донышке сердца крупинку сомнения: «А что, если?..» Поэтому в помощь маме отец подрядил меня. Я исправно выполнял возложенную на меня обязанность. Мне было интересно совершать с матерью это недолгое, но увлекательное путешествие. Редкая удача – провести с ней час-другой, не разделяя ее внимание ни с сестрами, ни со старшими домочадцами. Но в тот день отчего-то не пошел. И вот что случилось…
Люся шла по дороге. На плече у нее лежал медный карас. Уточню – уже полный воды. Хоть и было Люсе тяжело, она не забывала об осанке и мерно, как судно бортами, покачивала бедрами в такт движению. Так было легче справиться с ношей. Тело само знало, как себя нести. Мама шла, а вокруг плыли голубоватые облака тумана, стелились по дороге, ластились к ногам, как прирученные небесные бараны. Мама думала о родителях, которые хотели приехать погостить летом, когда мужем Хачиком завладели буйные идеи по переустройству жизни. Мама подумала о дочерях, которые были такими неумехами – одна другой несмышлёнее. Дети, наивные девчонки с клокочущим воображением. Мама задумалась обо мне и моем неведомом будущем. Мальчику нужно получить хорошее образование, обзавестись перспективной профессией, а этот мальчишка все жмется к старикам и все дни напролет записывает в тетрадке россказни, что подслушал у бабок и дедков. Вспомнив о старшем поколении, мама прошлась шелковой мыслью и по образам своих любимых свекра и свекрови. Деду все труднее было ходить – подводили ноги, калеченные тромбами, а у бабушки портился характер – все чаще она видела в людях дурное и все чаще оказывалась права… И вновь мысли Люси вернулись к Хачику. Она подумала о муже и взмолила Бога, чтобы Хачик ненароком не свихнулся, изучая жизненный опыт дона Корлеоне. И еще мама любовалась видом: гора, в подоле деревня, на скале двое застывших каменных воинов. Маме всегда казалось – древнеримских. Нос одного напоминал ей о том, что даже мужественные легионеры когда-нибудь останавливаются, оглядываются назад и каменеют. И вдруг Люсю окликнул хриплый мужской голос.
– Эй, сестричка, – сказали ей. Да так тихо, что Люся сначала решила – показалось. Или, может, это зимняя птица сказала подружке:
– Эй, сестричка, видишь, рябина на дереве, вот там внизу. Полетели туда.
Но она вновь услышала отчетливо и по-человечески произнесенное:
– Сестричка, стой, уважаемая.
Голос раздавался позади мамы, гундел ей прямо в затылок. Но секунду назад она сделала шаг «оттуда» – «сюда», из «было» в «сейчас» – и там, позади, никого не было. И мама вспомнила о грозных призраках давно ушедших фидаинов. Она приняла решение не останавливаться, рассудив, что детская уловка не замечать опасности превосходный способ избежать ее.
– Сестра, – вновь произнес голос.
Конечно, это был голос мужчины. И мужчины, которому явно что-то было нужно от нее. Люся не сбила ни ритма, ни скорости. Шла себе своим путем, несла своего медного лебедя на плече. Не пристало замужней женщине откликаться на призыв незнакомца, даже если он, как волк, прячется за овечьей шкурой и называет тебя сестренкой. Но незнакомец – здоровенный детина с густой бородой, наступавшей на глаза, – был настойчив.
– Эй, ты что, не слышишь, сестричка? Что такая заносчивая? Идет, пыль поднимает.
Мама могла бы смолчать. Но иногда молчание вовсе не золото, а признак слабости. Ее могли бы уличить в трусости, а этого дочь лучницы и инженера снести не могла.
– На льду пыли не бывает, – сказала мама, а я потом проклинал себя за то, что не был в тот миг рядом с мамой и не мог слышать, как она предложила незнакомцу: – Говори откровенно, что тебе нужно, и иди с миром.
Мужчина улыбнулся, как показалось маме, довольно похабно.
– Чего хочу? Это тебя интересует? Моя откровенность может стоить тебе спокойствия. Ну что? Сказать?
Внезапно Люся почувствовала себя оскорбленной. Наглец намекает, что властен над ее настроением? Вот уж нет! Она дернула плечом, вода в карасе заколыхалась. Мама решила не терять энергию накатившего возмущения – обида рождала инициативу.
– Говори, будь милостив. Дует. Меня дети ждут.
– Разве это справедливо, что такая красавица идет с тяжкой ношей по холоду. Вот и руки красные, вот и лицо уже не белое.
Не добившись ответа на свой прямой вопрос, мама даже расстроилась. Что теперь будет? Она попыталась обойти незнакомца, но тот преградил дорогу палкой, просто-напросто упер ее в скалу. Люся вскинула голубые глаза на злодея и стала ждать, что сделает мужчина. А тот вдруг возьми да скажи:
– Бедняк съел землю. Про него сказали: «От голода все!» А богатый съел, сказали: «Это он лечится так». В чем мораль?
– В том, что оба бестолковые. И богатый, и бедный набивают свой рот всякой дрянью.
И мама толкнула плечом незнакомца. Повинуясь мгновенному рефлексу, он схватил ее за руку. Но Люся словно ждала этого момента и показала класс. Быстро сняв с плеча карас, она перекинула детину через себя. Как учили ее мать и наставник в секции самбо. Незнакомец брякнулся оземь, да так, что загудела скала. Потеряв всякую жалость, Люся вышла за рамки спортивного поведения – наступила ногой на грудь обидчика.
– Ух ты, – простонал мужик.
А мама переступила через него, подхватила воду да пошла дальше. Мужик разлегся на дороге, как на собственной веранде. Он оперся на локоть и смотрел вслед уплывающей в туманце Люсе.
– Хорошо, хоть кувшином не огрела, – донеслось до мамы. Она вновь поставила кувшин на землю и обернулась. Мужчина каким-то чудом был уже прямо за ней.
– Слушай, я не знаю, кто ты и что тебе надо, – мама старалась скрыть волнение. – Но если ты помешаешь мне пойти к моим детям, я тебя не пощажу.
– Да не нужна мне ты. Мне твой муж нужен, – заявил странный дядька.
– Если тебе нужен мой муж, то что же ты возле юбок моих увиваешься? Разве это по-мужски?
– Пробовал тебя на прочность.
– Я тебе что, танковая броня?
– А что? Жена мужу и броня. Ибо сказано: скажи мне, кто твоя жена, и я скажу, кто ты.
– Кем сказано?
Мужчина пожал плечами:
– Не знаю. Так говорят.
Мать покачала головой и ушла. Когда уступ горы остался за поворотом, она прибавила шагу. Деревня была уже близко, дом было видно с холма. Навстречу стали попадаться знакомые, но мама, в противовес обычному радушию, только кивала. Она уже не заботилась о плавности походки, о достоинстве образа. Светлые волосы распушились, длинные пряди выбились из-под туго затянутого платка. Она ворвалась в сарай, что стоял на мостке между участками Карапета и нашим. Там папа и его работники делали новых «девочек».
– Хачик!
Отец поднял голову.
– Хачик, я должна тебе что-то сказать.
Отец качнул головой, что означало:
«Погоди женщина, я работаю, приду на ужин, все расскажешь».
Мама знала этот птичий язык и ответила сразу:
– Хачик, это не подождет до ужина. Это очень важно, поверь мне. Я обязательно должна тебе это сказать.
Отец отложил туфлю и с почтением водрузил на стол инструмент, снял с себя передник, и все это степенно, без суеты, чтобы не потерять лица перед работниками. Что за мужчина, который по первому же зову встает и идет за женой? Мать побарабанила пальцами по дверному косяку. За окном, выходящим на сторону Карапета, сосед испуганно заглядывал в сарайчик-мастерскую.
– Хачик, что случилось? – спросил хромой Карапет.
– Не знаю, – начал раздражаться отец. Он не любил, когда в туго сбитый распорядок дня врывалась импровизация мамы. Но за раздражением пряталось, конечно, беспокойство.
Хачик последовал за Люсей. А когда они вышли на двор, мама, усадив его рядом на ствол поваленной шелковицы, рассказала о том, что с ней приключилось. Хачик выслушал и долго безмолвствовал. Про себя он обдумал произошедшее, но вердикта не вынес. Принятое решение не торопилось сорваться с губ словами. Попросту говорить не хотелось, воздух сотрясать. Но пауза затягивалась.
Мама беспокойно терзала уголок платка. Что сказать этой женщине? Правду? Она умрет от тревоги. Солгать во благо? Она почувствует ложь и сама будет оскорблена. Нет, все же и ей придется еще многому научиться от семейства Корлеоне. Ведь супруга дона не должна задавать лишних вопросов. И когда отец в уме своем подобрал нужные слова и приготовился ими поделиться с мамой, снова появился Карапет и спас положение. Он вынырнул из кустов и спрятался за кривой дикой грушей. Сосед выглядел виноватым, что не сумел справиться с любопытством, и бросал из своего укрытия вопросительные взгляды. Папа помолчал, посмотрел, как в сухой прошлогодней траве копошатся ежи, и, почесав в голове, махнул соседу:
– Подойди, Карапет.
Сосед молча подошел. Присел на край шелковичного ствола.
– Люся, а ты иди в дом.
Маму захолонуло возмущение. Но она только вскинула брови и мгновенно согласилась.
– Хорошо. Я пойду, – сказала она.
Папа сделал вид, что не расслышал угрозы в голосе жены. Но когда она удалялась вверх по дорожке сада, папа сокрушенно покачал головой.
– Что, брат Хачатур, трудно укротить женщину?
– Трудно, брат Карапет.
– Да, может, и нет на земле ничего труднее, – нараспев соглашался Карапет.
И они заговорили о важном. Но не о таком труднодостижимом, как согласие с женщиной. Но о том, что столь же важно для судьбы мужчины, как согласие с женщиной.
Люся из окна наблюдала за мужем и соседом, а мы клином выстроились за ней и вторили материнскому примеру. Ничего не понимая, мы все дергали ее, окружив гомоном и любопытством:
– Ма, о чем это они?
– А что случилось?
– Нет, ну правда. Что случилось?
– Мам, это из-за того, что я с тобой не пошел?
– Нет, сынок, нет же, – отмахивалась мама и так напряженно вглядывалась в лица Хачика и хромого Карапета, будто по губам могла прочесть, о чем они толкуют. Всем было понятно, что на наших глазах происходит что-то из ряда вон, но что, никто из нас не знал. Дед зашуршал газетой.
– Люся, чего ты там застыла?
– Папа, я смотрю, рамы на окнах менять надо, трещины пошли.
– Поменяем, – сказал дед и снова закрылся газетой «Известия».
А мама продолжала наблюдать за тем, как Карапет, уже побледнев, что-то говорит ее мужу.
Отец потом рассказал мне, что Карапет, задумав большое дело, тут же струхнул и стал открещиваться от всего.
– Что ты, сосед, это не я.
– Брат, ты не бойся, скажи лучше, что задумал.
– Я?! Я ничего не задумал.
– Отберу ежей.
– Бог с тобой. Только Анаиду расстроишь.
– Вот и я говорю. Расстроится, молоко пропадет, а тебе нужно наследника кормить хорошо. Наши прадеды до девяти лет молоко материнское имели.
Карапет подумал, что ежи ежами, а ведь и дальше жить придется по соседству с Хачиком. Так не лучше ли быть правдивым? Хотя именно это давалось людям большими трудами.
– Послушай меня. Они пришли сами и предложили: сведи с соседом, будет нас пятеро, будем как пять пальцев на одной руке, станем, как единый кулак, крушить недругов.
– Карапет, ты отец, ты муж и ты сын. А все еще балда балдой. Кто эти люди? И почему один из них напугал мою жену?
Карапет понурил голову.
– Беглый один рецидивист, другой брат его, а третий умный человек, который не захотел жить как все, в горы ушел, ближе к природе. Но заскучал.
Впоследствии оказалось, что «рецидивистом» был бывший бухгалтер, сбежавший из Еревана из-под бдительного ока КГБ, «его братом» – обычный врач-психиатр, который нашел в себе силы и не выполнил приказ соответствующей организации и не впрыснул в кровь несчастного парня шприц с развязывающим язык зельем. Никак не мог взять в толк въедливый доктор, в чем вина интеллигентного мужчины, просто сообщающего на каждом шагу прохожим:
– Арарат наш! Арарат наш! Слышите, люди?! Арарат наш!
Психиатр и сам так считал. Ну и что, что по взмаху руки нетленного Ленина священная для каждого христианского сердца гора оказалась в кровожадных лапах турецких янычар? Все равно в душе каждого достойного человека есть убеждение – Арарат наш. Но кто это здесь христиане?! – взъерошилось КГБ. И откуда эти мелконационалистические уколы? И бывший бухгалтер незаметно для себя стал диссидентом. Сочувствующий ему психиатр – тоже. Ну а третий, кого Карапет назвал «умным человеком», был самый настоящий пациент той же клиники, который увязался во время бегства бухгалтера-патриота и честного доктора. Он был человеком двухметрового роста и умел скручивать бантом куски арматуры. Он просто выдергивал их из бетона и скручивал. Но это все выяснилось позже, а тогда Карапет весьма сумбурно объяснял распределение ролей в импровизированной банде.
И опять народ оказался прав: мотивы бескорыстного патриотизма действительно сквозили в действиях этой троицы. На их борьбу действительно нужны были деньги, а еще больше они были нужны на выживание и пропитание.
– Они к тебе пришли или ты сам их нашел? – допытывался Хачик.
– Я, – признавался сосед с затаенной гордостью.
– И что тебе, то есть вам от меня нужно?
Карапет схватил отца за руку:
– Прошу, Хачик, выслушай их. Они к тебе придут, не гони. Поговорить хотят, вот и все. Говорят, ты тот человек, который нужен.
Папа помолчал. И тихо ответил:
– Так я и не понял, Карапет, кто им нужен.
Но Карапет был в ударе, в него вселился дух красноречия. Сосед вскочил, стал размахивать руками и был очень убедителен:
– Посмотри со своего великого полета, посмотри с высоты, на которую ты взобрался благодаря родной земле и природной смекалке, посмотри и увидишь, что есть на свете люди, которые нуждаются в тебе.
– Я знаю, что есть такие люди, – спокойно отвечал отец. – Род мой, родители, дети, Люся.
– Такой, как ты, может иметь семью гораздо большую. Очень большую семью.
Отец пожал плечами.
– Ты понимаешь, о чем я, Хачик?
Отец побрел в дом.
– Я тебе полсарая отдал, – закричал Карапет ему вслед.
– Спасибо, – ответил Хачик, не оборачиваясь.
Он шел к дому. Посмотрел на темнеющее небо, подвязал повисший уголок навеса над грядками позднего лука, смахнул с очерствевшего, как горбушка, огуречного листа жирную гусеницу, подобрал на тропинке Маринкину игрушку.
Увидав в окно, как приближается муж, мама стала собирать на стол. Отец видел внизу под горой первые огни редких уличных фонарей и первые, орошенные некрепким тусклым светом окошки в домах, крыши, припорошенные робким снежком. И вдруг почувствовал страшную тоску, будто действительно расставался с любимым, безмятежным миром. Как будто вот-вот должен был окунуться в неведомую, бурлящую пучину. Он уже знал, что все это означает. Призрак дона Корлеоне витал в эту минуту над моим отцом. И говорил с ним в эту минуту:
– Если есть страх, ничего не получится.
– Я знаю, дон Корлеоне.
– Если есть сомнения, ничего не выйдет.
– Я понимаю, дон.
– А если есть знание и понимание, то какого черта ты, сукин-слабак-сын, уклоняешься от великой чести и великой ответственности?
– Да я и не уклоняюсь, дон Корлеоне. Я просто не знаю, в чем она выражается.
– Не торопись. Поймешь еще.
– Хачик, я на стол накрыла. Мы все есть хотим, – негромко крикнула мама, высунувшись в окно.
И дух дона Корлеоне временно исчез.
Вечером папа и мама шептались, а я подслушивал.
– Хачик, – горячо шептала мама, – этот человек проверял меня. Он не просто так смотрел на меня, он меня изнутри прощупывал.
Она все не могла успокоиться от встречи с бывшим психиатром. А это был именно он. Но папа смотрел на нее с нежностью и гладил по голове.
– Но ты же была молодец?
– Я старалась, но мне было не очень приятно. Он лежал там на дороге, как будто она ему принадлежит, как кровать или раскладушка какая-нибудь. Как будто ему мягко там было. Очень неприятно мне было, Хачик.
– Ты смелая женщина, ты моя жена.
– Хачик, я знаю, чья я жена. Но эти люди…
– Мы пока не знаем, кто они. Пожалуйста, будь спокойна. То, что рассказывает Карапет, еще раз сто проверять надо. Он же олух, ты ведь знаешь.
Отец улыбнулся печально и нежно, но на маму это не подействовало обычным успокаивающим образом. Когда она волновалась, то ковыряла до крови заусенцы вокруг ногтей. Эта ее привычка передалась и Светке. Но Светку за это поругивали, предвещая в будущем уродливые узловатые пальцы, а маму некому было отчитать – папа людей за слабости только жалел. Люся отчаянно понимала: ребенок не виноват, он берет пример с родителей, и поэтому всеми силами скрывала свой порок. В присутствии детей Люся держала себя в руках, вернее, руки свои держала при деле, не допуская праздности. Но Хачик, он другое дело, при нем можно расслабиться. Вот обкусывает она кожу вокруг некрупных, но, увы, потерявших юношеский перламутр ногтей, а папа терпеливо отводит Люсины руки ото рта, как с ребенком с ней обращается, честное слово. А Люся, ну точно ребенок, безропотно подчиняется.
– Мы не знаем, чего они хотят от нас, но знаем, что чего-то хотят. – Хачик говорит веско. А мама уже трясет его за рукав и требовательно наставляет:
– Если они будут вовлекать тебя в какую-нибудь опасную игру, ты, Хачик, не вовлекайся.
Папа уклончиво качает головой.
– Неужели ты согласишься?! Это опасно!
Папа вздыхает, а улыбка сама собой опять расцветает на его смуглом лице.
– Не будем торопиться, родная. Не будем за них фантазировать. Мы скоро все узнаем. И про этих людей, и про их намерения.
И он, как всегда, был прав. Эта троица заявилась сама, той же ночью.
Еще до того, как они стукнули в окно, проснулись ежи. Зашуршали в заиндевевшей траве и разбудили чутко спящего деда. Он крякнул, крутанулся на кровати и растревожил бабушку. Она храпела, и потому, когда что-то в безмятежной ночи ее грубо выбрасывало из райских кущ сновидений, последний аккорд ее храпа был устрашающим, как трубный глас, возвещающий общий сбор перед последней битвой. И этот апокалипсический пассаж бабушки разбудил маму. Она вскинулась и… пошарив рукой, рядом не нашла отца.
Он стоял у открытой двери за прозрачной марлевой занавеской. С улицы за ней его не было видно, зато он мог наблюдать за происходящим. Он стоял и просто ждал. Он видел, как к дому приближаются трое бородачей, один из которых выделялся невероятным ростом. Раздался короткий стук в окно, который заставил проснуться всех. И дом, и его обитатели замерли в ожидании.
– Дверь моего дома никогда не запирается. Кто вы и зачем пришли?
– Мы путники, хотим ночлега.
– Пожалуйста, проходите, гости дорогие. Мой дом – ваш дом.
Путники переглянулись.
– Что ж, говорят, у тебя сарай есть. Пойдем туда, чтобы не будить домашних.
Отец согласился.
– А курево есть? – спросил самый крупный из гостей.
– Мой табак – твой табак.
И они ушли.
– Света, а Света, ты спишь? – толкнул я в бок сестру, когда пробрался к ее кровати.
– Отстань, не сплю я.
– Пошли, послушаем, о чем они говорят.
– Не пойду, холодно.
– А ты одеялом обмотайся.
Я хорошо знал характер сестрицы: две-три фразы отрицания, короткая пикировка и в финале ворчливое согласие. И на этот раз мне удалось ее убедить, и Светка даже оделась в теплый свитер и шерстяные носки. Мы осторожно выскользнули из комнаты, чтобы не разбудить Маринку. Но когда мы пробрались к входной двери и потянулись было к огоньку из оконца сарая, цепкие руки матери отловили нас у порога.
– Ага, – сказала она. – Не спите.
Мы с сестрой пришли в замешательство. Ведь мы были уверены, что сейчас с позором будем водворены назад – в детскую спальню. Но, против ожиданий, Люся сказала:
– Дети, значит, так, послушайте меня внимательно, сделайте, что я попрошу, а потом навсегда забудьте, что вы это сделали.
Мы со Светкой беспокойно переглянулись. Люся, казалось, была не в себе.
– Дети, идите и послушайте, о чем говорят эти люди с вашим отцом.
Мы, остолбенев, глядели на мать.
– Понятно? – требовательно вопрошала она.
Мы тупо кивнули. Но чего-то не хватало. И она привела последний и сокрушительный аргумент:
– Это очень важно.
Судя по ее сосредоточенному лицу, по лихорадочно пылающим глазам, потемневшим этой ночью, утратившим русскую прозрачность, отразившим неведомые нам доселе бездны Люсиной души, «это» действительно было очень важно. Не просто же так мать толкает детей на семейное преступление – подслушать, о чем говорит их отец со своими хоть и непрошеными, но гостями. Это была наша мать – решительная, самоотверженная – мы узнавали ее такой. Но это была другая женщина – знакомые черты пролились через ведомые границы в заповедные области. И такой мы ее совсем не узнавали. Оба наших родителя вдруг превратились в неведомых пришельцев из других миров.
– Ну? Пойдете? Идите!
Мы сомневались, мы не понимали. И конечно, согласились.
Кружной тропой мы пробрались к окраине нашего сада и нырнули в самую гущу кустов сирени, где наша младшая сестра Маринка устроила себе тайное укрытие, «лесной домик» – нечто среднее между шалашом и землянкой. Мы осторожно залегли в ямке, вырытой неизвестно для каких нужд нашей сестрою-фантазеркой. Опавшие листья в углублении образовали естественную перину. В целом нам было удобно, если бы не строжайший наказ матери:
– Не шуршать! Лесные люди очень осторожны. Почувствуют неладное, нам несдобровать.
Мы прислушались. Голоса звучали ровно, без всякой агрессии, без малейшего намека на возможный конфликт.
– Ты человек серьезный. По всему видно, – говорил отцу тот, что напугал маму. Это был психиатр Тигран.
Папа промолчал. Гость продолжил:
– Ты добился большого личного успеха. За это мы тебя уважаем.
Папа снова промолчал.
– Ты добился этого успеха сам. За это мы тебя уважаем еще больше.
Папа ответил:
– О каком успехе ты говоришь, уважаемый?
– Я говорю о личной победе над собой. О смелости, которую ты проявил, чтобы изменить свою жизнь.
Собеседник был умным, затевать с ним игру было ни к чему.
– Она еще не изменилась, – сказал Хачик.
– Она изменится, – заверил гость.
Папа кивнул. Для всех было очевидным – это будет.
– Что вы от меня хотите, братья?
– Мы хотим, чтобы и наша жизнь изменилась.
– Вы умеете шить туфли?
Бородачи переглянулись. Безумный Гагик давно положил пытливый глаз на клещи, взял и разогнул их.
– Нет, туфли не умею. И ничего не умею.
– Так как же я могу вам помочь?
– Позволь нам быть рядом, – сказал Тигран, и слова были увесистые, как дыни по осени.
Папа посмотрел на свои руки. Они были проколоты сапожной иглой, в шрамах и в ссадинах запеклась пыль от обувных кож, а также от едкого на захват и на запах клея. Что им сказать, чтобы они поняли, гонял мысль наш отец. Что он ничего не готовил специально? Что его ангел-хранитель просто в должный час взмахнул хлыстом, и он – Хачик Бовян, просто исполнил приказание? Поймут ли они? Особенно этот психиатр? Молчание тревожно нарастало. И вдруг Хачик вспомнил одну спасительную притчу и начал говорить:
– Что ж, люди. Ваши требования весомы, и речи ваши очень мудрые. Но задайте себе один вопрос: что произойдет, если человек будет поступать вопреки своему нраву?
Гости переглянулись, а отец продолжал:
– Когда-то в наших местах водились львы. Слыхали? Так вот, была одна львица. Она жила в камышовых зарослях, и было у нее два львенка. И раз, когда львица ушла на охоту, прискакал всадник и захватил львят. Потом он безжалостно убил их, унес их шкуры, а растерзанные тела львят оставил неподалеку от логова. Вернулась львица и увидела своих детей растерзанными, завопила, зарычала и стала рвать зубами свое мясо, желая только одного – истечь кровью и умереть.
Потом увидела ее птица щегол и говорит львице:
– Зачем ты плачешь, зачем горюешь?
Говорит львица:
– Затем, что вижу смерть своих львят.
Говорит щегол:
– Так же скорбели косули о своих козлятах, так же вопили и горевали они о своих детенышах, которых ты съела вместе со шкурами и костями. И написано: «Что посеешь, то и пожнешь».
Львица не стала даже отвечать. Скорбь захватила ее целиком.
И спрашивает птица щегол:
– Сколько тебе, львица, лет?
И отвечает львица:
– Сорок мне лет.
– Чем кормилась ты сорок лет?
– Сернами, косулями и другими дикими животными.
– Были у них отцы и матери?
– Были.
– Так почему же не слышишь ты, как рыдают они и вопят они так же, как ты? Будь и ты, как они.
И выслушала львица все это и поняла по-своему. И решила поступить вопреки нраву своему: не стала больше охотиться и есть мясо, поселилась в изобилующем разнообразными плодами лесу и кормилась там. Но львица была большим животным, и ей много нужно было пищи. Плоды не успевали народиться – все съедала львица, а другим животным не хватало. И даже для птиц пришли тяжелые времена – тяжелее, чем в засуху и голодный год. И тогда собрались, пришли к львице голуби и другие птицы и сказали ей:
– Ты отказалась от своей обычной пищи. Зачем же ты поедаешь нашу еду и обрекаешь нас на голодную смерть?
И пошла львица в покрытые сочной травой луга и паслась там. Львица изнуряла себя непривычной едой, стала худой, как привидение, золотистая когда-то шерсть теперь вся вылезла. Львица терпела страшные мучения, но свято чтила слово, данное себе, – не быть причиной горя для другого зверья. Но и здесь, в лугах, все повторилось. И собрались к ней буйволы, и быки, и олени и сказали ей:
– Нет смысла в том, что ты изнуряешь себя. Ты убиваешь нас тем, что поедаешь то, что предназначено нам.
Отец замолчал. Пришельцы переглянулись. Психиатр, как самый хитрый, спросил:
– И к чему ты это нам рассказываешь?
Папа развел пустые ладони.
– У каждого свое место в жизни. Мое – это мое, а ваше – ваше.
Психиатр пожал плечами.
– Не спорю. Но ты сам определи свое место, чтобы мы знали. Не вводи нас в искушение занять его.
Папа не спешил частить словами. Можно и торопиться, но тогда рискуешь ошибиться в точности формулировки. Тогда слова становятся не пулями, разящими точно в цель, а только нечистым духом, принесенным случайным ветром. Диссидент, как самый мудрый, задал к месту вопрос:
– Договаривай, брат. Что ты нам хотел сказать этой древней историей? Ты лев, косуля или щегол? Сам скажи.
– Если я та львица, что потеряла свое место, то ведь и вы такие же. Вся разница между нами – я догадался об этом раньше вашего.
Сумасшедший Гагик вскочил, схватив вывернутые наизнанку клещи. Диссидент остановил нетерпеливого друга. Просто взял за руку.
– Зачем нас обижаешь? Почему про место наше говоришь? Мы сами творцы своих дней.
– А зачем тогда ко мне пришли? Со словами о переменах на устах не ходят люди, что точно отгородили себе площадь на земле.
– Это все, что ты можешь нам сказать?
Папа снова помолчал. Дон Корлеоне говорил: «Не теряй преимущества, не выдавай своего превосходства сразу».
– Но вы недослушали конец моей притчи.
– Говори.
– Львица вняла просьбам животного царства. И пошла тогда львица в высокие горы, в скалистые горы и грызла зубами камни и говорила:
– Птицы и буйволы, косули и лани, неужто и сюда вы придете?
Ведь она не хотела нарушать данного себе обета.
Воцарилось гробовое молчание. Мы со Светкой в яме прижались друг к дружке, вокруг нас копошились ежи – ночные звери. И мы: я и сестра, трое бродяг, и даже ежи – поняли, выбор совершает каждый. И каждый может сорвать печать рока и измениться. И после того случая он – этот рок – всегда мне представлялся патокой, вытекающей из оленьего рога, вероятно, из-за созвучия слов. Каждый может перехватить стрелу, запущенную еще до рождения. Нужно просто выстрелить по этой стреле другой, чтобы задать старой новое направление.
– Нужно обладать мужеством, чтобы идти выбранным путем, – резюмировал отец.
– Философия! – презрительно воскликнул диссидент, чтобы скрыть смущение.
Какой-то сапожник будет рассказывать ему про мужество, ему, не выдавшему палачам из КГБ ни одного товарища, призывающему к независимости Армении и требовавшему у Турции отдать, наконец, нам священную гору Арарат.
– Как хочешь, брат. Только ты выбрать-то выбрал, а ведь ко мне зачем-то пришел.
Диссидент замолчал, немного обидевшись. Причем и на отца, и на своих друзей, которые уговорили прийти к этому знаменитому в этих краях сапожнику.
Теперь инициатива была полностью у Хачика, и он мог снова стоять на земле уверенно.
– Зачем пришли, братья? Зачем жену мою напугали?
– Прости нас за это, – сказал психиатр. – Хорошая она женщина. А про нас знай. Мы хотим с тобой остаться.
– Мне охрана нужна?
– Будет скоро нужна. Не охрана, а целая армия. Тебя уважают, ты можешь повести за собой людей.
– И на какое дело? – поинтересовался отец.
– Еще не придумали, – честно признался безумный Гагик.
– Я так и понял. Ладно, утро вечера мудренее. Если хотите, устраивайтесь здесь на ночлег.
Он стукнул шваброй об пол, как посохом.
– А вы выходите оттуда, помогите гостям устроиться, – сказал папа, обернувшись к нашему укрытию.
Он встал и направился к выходу.
– Дети устроят вас, принесут все необходимое – и еду, и одеяла. Спокойной ночи.
И он пошел к дому, а мы выползли из кустов, испачканные глиной, обнюханные ежами. Я видел, как уходит к дому отец. Только потом я вдруг понял, через долгие-долгие годы, как трудно было ему идти ровно, а не бежать вприпрыжку. Но он шел, стараясь не расплескать свое ликование. Его еще не назвали Доном. Но нечто подобное ведь и произошло сейчас.
Люся, моя мама, как-то призналась, что тогда ей было физически больно преодолеть оцепенение, в котором она провела тот час мучительного ожидания. Но она справилась, увидев, что отец приближается к дому, шмыгнула под одеяло и даже не стала спрашивать, что там, да кто, да что говорили, когда папа вернулся и лег рядом. А Хачик сказал:
– Постель холодная, и пятки у тебя ледяные.
– На веранде стояла, ждала тебя.
– Так и понял.
На этом и замолчали, и обнялись, и заснули, как тысячи ночей до этого и много тысяч после.
Я по природе – рассказчик. Мне кажется, я ничего не придумываю. Слушаю, запоминаю. Иногда, когда не хватает сведений, я пытаюсь реконструировать события простым, но действенным способом – если это так, а это так, то вот это могло бы произойти приблизительно таким вот образом. Конечно, выдуманное невольно просачивается в мою реальность. И я все боюсь, что, дописывая, доигрывая за других, я складываю вымысел, как кирпичную стену, между реальностью и идеалом.
Стать во главе
Наутро мужчины, к которым присоединились мой дед Серёж и сосед Карапет, завтракали под тутовыми деревьями. Девчонки и мама метали на стол, под который приспособили пару спиленных стволов дикой груши и старую снятую с петель дверь, которую мой дед отшлифовал и заново окрасил. Сидели хозяева и их гости на стволах поваленных деревьев, покрытых коврами. И сделалось вокруг все мягким и уютным.
Я слонялся поблизости, потому что единственный был без дела. К мужским разговорам меня еще не звали, а от женской работы я уже старался отлынивать. Быть ни большим, ни маленьким оказалось даже чем-то выгодно. Ты вроде бы есть, а вместе с тем тебя, получается, и не существует. Быть двенадцатилетним – это лучшая маскировка, ты неприметен.
Ночью я осознал, что мой отец без пяти минут величина. Не только для меня и моих сестер, не для одной лишь Люси или для деда с бабкой, я почувствовал, не сердцем, а понял исключительно силой своих извилин: мой отец кое-что значит для остального мира. И пусть мир этот малюсенький – наша деревенька с окрестностями, но сапожник Хачик может быть в нем королем. А я твердо решил стать летописцем при его дворе, внести лепту в историю нового царства в назидание потомкам и на радость историкам. Чтоб потом не говорили: не осталось, мол, источников, поэтому, дескать, трудно установить истину. Ее, эту истину, я решил преподнести будущему готовенькой. Я забрался на старое дерево с тетрадкой и карандашом в зубах и торопливо записывал все, что говорили взрослые.
Папа говорил:
– Я не вожак, друзья. Вам придется самим выполнять то дело, которое вы задумали. Но я долго молчал и в это время много думал о жизни. Если вы будете с радостью внимать и воспринимать, я покажу вам простыми словами, как нынче живут люди.
– Давай, Хачик, расскажи им, – бодро задавал тон Карапет, который вчера от страха просвечивался до кишок, можно было даже рассмотреть его чуть увеличенную печенку.
Папа размял губы и начал:
– Вот собрались однажды все козы и написали волчьему народу такое послание: «Мудрому и могущественному и победоносному народу волчьему, Богом укрепленному. А пишем ему мы, немощный и жалкий, неразумный и беззащитный козий народ. Бьем мы челом и рогами и приветствуем великославное царство ваше, волки. Молим сжалиться над нами и заключить с нами любовь и мир и дружбу, чтобы прекратилась между нами вражда наследственная. Как слышали мы, так делают цари других народов».
– Ха, и что ответили волки? – спросил нервный диссидент.
Папа посмотрел на нетерпеливого и покачал головой. Товарищ последнего – безумный Гагик – толкнул его в бок. Папа продолжал:
– Прочел послание волчий народ, кто там был у них грамотный, и обрадовался доброму предложению. И написали волки козам послание, которое гласило: «Мудрейшему, блаженнейшему, благочестивому, обновляющему души, святому козьему народу пишем мы, грешный, злонравный и бесстыжий волчий народ. От всей души приветствуем мы вас и уведомляем, что ваша просьба нашептана Богом, и она и есть источник благ. Но мы слыхали от стариков наших, что старый пастух и его злой пес суть виновники ссоры между нами и вами. И если вы изымете их, мы с радостью исполним то, что вы изволили нам предложить. И будут жить наши народы в мире и согласии».
– И что козлы? – не выдержав, хмыкнул психиатр Тигран, который в лесах растерял многое из того, что изучал в медицинском институте.
– И прочли это козы, и прогнали прочь старика-пастуха и пса его, лохматого и грозного. И приняли клятвенную грамоту и договор о любви и дружбе сроком на сорок лет. Время ликования пришло на землю козьего царства. Козы высыпали беззаботно, стали пастись по горам и полям, под тенью дерев, у вкусных лугов, вдоль студеных родников.
– И все?! – теперь взорвался вопросом безумный Гагик.
– Потерпели волки сорок дней и потом, собравшись, всех коз истребили, – закончил папа.
– Ну и в чем мораль? – высокомерно усмехнулся психиатр Тигран.
– И наступил мир, – тихо закончил папа.
Гости переглянулись. Потом один за другим стали хихикать, пока, наконец, не сотряслись диким хохотом.
Дед недовольно покачал головой. Он подождал, не захочет ли Хачик продолжить, но увидел, что тот, довольный, добродушно улыбается, ведь рассказ его понравился гостям. Дед Серёж, как человек обстоятельный и справедливый, не любил оставлять дело на полдороге, пусть даже это была просто детская сказочка.
– У этой притчи есть назидание. О нем не сказал еще мой сын. А ведь это очень важно.
– Говори, отец, – тут же угомонились гости, давая возможность почтенному старику почувствовать себя главой стола.
– Трудно утвердить мир среди тех, у кого сердце от природы ожесточилось во вражде.
Гости закивали.
– Ожесточение сердец возникает вследствие ненависти народа к народу, рода к роду, человека к человеку. Об этом и в книгах пишут, и в газетах частенько. Потому и трудно установить любовь и мир между народами, как то хорошо видно на примере богатых и бедных и общей классовой непримиримой борьбы на всей планете.
Дед закончил фразу и эдак взмахнул в воздухе рукой. Очарование притчи, которое вроде бы должно было раствориться благодаря дедовской «борьбе классов», вернулось, но не в прежнем обличье безупречной мудрости. Вроде и вывернул старик наизнанку святую простоту, но все-таки не опошлил ничего. Слушатели, которые еще недавно чувствовали себя пигмеями рядом с бушующим миром образов сапожника Хачика, повеселели и перестали комплексовать. А дед, как будто у них было договорено, кивнул сыну, как музыкант-джазист, отыгравший положенное соло и передавший партию товарищу-оркестранту. Папа видел: гости недовольны.
– Я снова говорю вам – каждому свое место, – вновь начал мой отец. – И в дружбе, и в деле. Больше добавить ничего не смогу. Разочаровал вас?
– Да уж. Мы думали, ты обрадуешься, что такие бравые ребята пришли к тебе и говорят – бери нас, мы станем одним целым. А ты нас с вечера до утра потчуешь какими-то сказками.
Хачик коснулся ладонью сердца.
– Я бы взял, люди! Да ответственность не по силам. Я еще должен вырасти над собой. Мне еще самому многому надо научиться. Поймите меня, братья, и будьте ко мне снисходительны.
– Ладно, – ответили лесные бородачи. – Только когда ты вырастешь над собой, обещай, что дашь нам знать.
Отец кивнул серьезно и искренне.
– А мы будем поблизости. Мы будем присматривать за тобой, – сказал психиатр Тигран, словно папа был пациентом его клиники. А диссидент уточнил:
– Во-первых, чтобы не пропустить момент, когда ты вырастешь над собой.
– А во-вторых, чтобы кто-нибудь тебя не обманул. Ты ведь как ребенок, – закончил безумный Гагик.
– Только обещайте не обижать людей на дорогах.
– А на что мы будем жить?
– Я буду давать вам денег, – обреченно вздохнул отец. – Не много, но на пропитание вам хватит.
Так у моего отца Хачика Бовяна появилась маленькая армия на содержании, которая по первому зову могла прийти к нему на выручку. Они клялись в вечной преданности, хотя из них никто не вытягивал обещания клещами. Папа понимал – пока, и, возможно, довольно долго, их рвение останется невостребованным, но решающий день мог настать внезапно.
Бородачи ушли в горы и предались важному делу. Они поддерживали воинственный дух и настоящую спортивную форму. Стреляли по мишеням, охотились и пытались понять, надул ли их Хачик Бовян или это они невольно обвели его вокруг пальца. Они бы не хотели, чтоб в один прекрасный день этот предприимчивый сапожник выставил бы им счет за содержание. Но сколько бы лесные люди ни говорили об этой встрече холодными ночами у костра, они никак не могли найти хоть какой-нибудь самой незначительной логической прорехи.
Но и Хачик терзался мыслями. В наших местах в одном доме чихнешь – вся деревня отвечает «будь здоров». Люди уже, пожалуй, прознали, какие гости приходили сегодня ночью в дом Бовянов. А советскую власть, несмотря на объявленную ею перестройку, никто пока не отменял. Доморощенные абреки выдвигали политические требования, готовые хоть немедленно, втроем, начать священную войну с сопредельной Турцией за подаренную ей когда-то Лениным двуглавую гору Арарат, прекраснее которой нет ничего на свете. Кто видел, тот поймет. Так что же теперь, ждать ли Хачику визита милиционера Фаэтона или брать рангом повыше сельского гаишника? Папа решил посоветоваться с отцом.
– Ничего не бойся, – ответил дед, будто он уже переговорил с парой-тройкой нужных людей и дело было уже решенное. – Все будет хорошо.
– Почему ты так думаешь, отец?
– Я тебе никогда не рассказывал об одной страничке жизни твоего дедушки Мовсеса, пусть земля ему будет пухом. Теперь пришло время рассказать.
– Чего я такого не знаю о дедушке Мовсесе, царствие ему небесное? – заулыбался отец. Он любил и хорошо помнил своего толстого добродушного дедушку с мягкими седыми усами.
– Ты ведь знаешь, дедушка твой много пожил, много путешествовал, переменил множество профессий. Так он познавал мир. Моряком – в Тасманию, золотоискателем – на Аляску, кочегаром – в Петербург, который ныне зовется Ленинградом.
– Помню, отец, помню.
– Много томов можно написать о приключениях твоего дедушки, но пара страниц останется все же затертой. Так вот что написано на этих страницах – твой дед, до революции, был абреком. Не в нашем районе, в соседнем, и недолго, но было дело.
Хачик изумленно воззрился на отца.
– Прошли годы. И когда мой брат и твой родной дядя Арам устанавливали в наших местах советскую власть, поймали их лесные разбойники, которых множество пряталось тогда по ущельям и пещерам. Спрашивают разбойники:
– Ты комиссар?
– Комиссар, – отвечает мой брат Арам.
А те:
– Как звать?
– Арам Бовян, – говорит.
А те:
– Ты не того ли Бовяна сын, не Мовсеса, который лет тридцать назад был хозяином этих мест?
– Его, – отвечает Арам. – Я Арам Мовсесович Бовян.
– Жив ли твой отец нынче?
– Жив и здоров.
– Великий человек, великий, – шептались меж собой лесные люди. – Давайте, братья, отпустим этого сына великого человека, – посовещавшись, решили они. – А то, если убьем, то зверь побежит, расскажет Мовсесу, если убьем, птица полетит, расскажет Мовсесу, и падет на нас кара великого человека. Отпустим.
Дед любовался произведенным своим рассказом впечатлением.
– Так решили абреки и отпустили дядю твоего Арама, – закончил он.
– Ну и дед, вот тебе и седые усы! – смеялся папа.
– Дурень, я тебе это рассказываю, чтобы ты знал, из какого ты рода. Всей славы его, даже если ложками хлебать, не исчерпаешь в один присест. Да и в два не выйдет. Наверняка и эти что-то слышали про Мовсеса Бовяна. Или ты думаешь, что жизни одного человека достаточно, чтобы снискать славу и почет, которыми тебя сегодня кормили эти мелкие воришки?
– Отец, я понял тебя. Но поверь, я познаю мир и людей иначе. Чтобы путешествовать, я не хочу быть моряком или кочегаром, чтобы разбогатеть, я не хочу отнимать монету у бедняка или богача без разбору.
– Мальчишка!
– Верно. Чувствую, что встал на ноги, а ходить-то и не умею. А мне ведь тридцать пять лет почти уже. Я еще не знаю как, но пойду своей дорогой.
– Я рядом, – напомнил дед и углубился в роман «Цусима» Алексея Силовича Новикова-Прибоя о героической гибели русской эскадры в войне с японцами в 1905 году.
Неожиданно разбогатевший отец вдруг потерял покой. Ему бы жить да радоваться тому, что уже не приходится работать руками и по вечерам не надо закусывать от боли губу, когда нежная жена мажет кровавые трещины на его пальцах облепиховым маслом. Радоваться, что не дует хлесткий холодный ветер в окна и не нужно вздрагивать от каждого чиха болезненных зимою детей, радоваться, что к матери-старухе, насквозь пропахшей валерьянкой, теперь всегда можно вызвать настоящего «дохтура». И жена, все еще красавица, больше не глядит украдкой за горы и не сжимает в нитку когда-то полные, готовые к поцелую губы. Жить бы да ликовать, что благодаря заработанным деньгам из чудесной деревни нашей мы переехали в пыльный и душный Ереван, в столицу!
Столица
Другой бы ликовал, но не отец, потому что здесь-то, в столице, и овладела папашей новая, невозможно будоражащая мечта почище, чем мания итальянских туфель. После уважения, выказанного абреками, папу окончательно замкнуло на Корлеоне. Да он уже чувствовал себя Корлеоне! Я даже почти уверен, что Хачика преследовали навязчивые сны, в которых некие адепты учения дона Корлеоне внушали ему идею поменять фамилию. Но папа отгонял назойливых эфирных шпионов. Мало ли нечисти шатается по закоулкам теневой стороны, искушают, черти, обманывают. Вот, если бы сам Крестный отец явился бы и попросил, то Хачик не отказал. Не посмел. Но дон не стал бы просить, слишком он уважает идею семьи, и род, и родителей, давших жизнь. Для него это свято, свято и для Хачика. Так мой отец и метался между мудростью и наивной детской преданностью учителю своих перемен, мастеру своих преобразований, провидцу своей миссии и всеми нами, что нуждались в отце, муже и сыне. Мама терпеливо ждала, поскольку понимала: перед ней все еще кокон. Уже не гусеница, но еще не бабочка.
Переезд в город был предсказуемым продолжением папиной эволюции, однако почти спонтанным в реализации. Мы еще жили в деревне. Мама вдруг заторопилась сделать ремонт в старом доме, торопилась обработать поле, собрать ранние яблоки, а еще очень просила нас приносить отметки, которые не стыдно будет представить и в другой школе.
– Мама, в какой? – хлопала ресницами Маринка.
– Не знаю пока детка, но, кажется, вы перейдете в другую.
Летом мы паковали вещи, а папа, пока его маклер подыскивал нам новый дом, дважды перечитал любимый роман. Похоже, что своей манией папа перезаражал всех нас. Вот и мама начала немного сходить с ума. Это и понятно. Папа часами читал нам вслух про жизненные перипетии своего любимца.
– Какой человек, какой человек! – причитал отец, подняв голову от книги на середине какой-нибудь захватывающей сцены. – Всего сам в жизни добился.
– Пап, он же бандитом был… – робко вступала Светка.
– Не говори так, дочка. – Отец медленно мотал головой, отгоняя от себя наваждение Светкиных слов. – Это был человек с большой буквы. На него валились настоящие беды, но он решал проблемы. Он умел противостоять напастям.
Через некоторое время отец вдохновенно декламировал целые главы романа, доводя нас до какого-то полурелигиозного экстаза. Мы даже перестали понимать, за что мы уважаем отца больше – за его успехи в труде и созидании нашего светлого будущего или за неожиданно вскрывшуюся любовь к литературе? Он казался таким всемогущим со своими натруженными деньгами и таким умным со своей уже затертой книгой. До сих пор мы с сестрами не можем разрешить вечную загадку о курице и яйце, мы не знаем, деньги ли сделали из деревенского сапожника уверенного в себе дельца или же могучий образ дона Корлеоне стал для него путеводной звездой? Мы и не узнаем этого, так как в жизни события не приходят согласно очереди. Они наваливаются гуртом, горланят, требуют внимания, взывают к участию.
С кем папа никак не мог согласиться, так это с Бальзаком с его сентенцией о злодеянии, стоящем за каждым состоянием. С ним он отчаянно спорил, как будто не писатель Марио Пьюзо собственноручно поставил это изречение эпиграфом к своей книге, а коварный Оноре де Б. самостоятельно прокрался на первую страницу романа «Крестный отец», изгваздал ее словами, а затем трусливо бежал с поля боя.
– Так что, каждый богатый – преступник? Вот, – говорил он, – я – богатый. Не убил, не украл…
Отец рисовал нам план расположения всех восьми особняков в полукольце парковой аллеи. Все они принадлежали дону Корлеоне. Но, отдав их в пользование родственникам и верным людям, сам он жил скромненько, в глубине этого квартала-крепости. Отец был потрясен мудростью дона, так как в этом вопросе ему явно было куда расти – наш папа, оказалось, любил блестящие вещи. И любил ими любоваться. Осчастливив дом очередной безделицей – статуэткой или фарфоровой вазой, он – смуглый, большеносый – радостно и гортанно курлыкал над ней и около часа переставлял ее с места на место в поисках нужного ракурса. И дом в Ереване он купил большой и очень гордился соседством с академиком от астрономии, раскланивался с ним, а по вечерам играл в нарды.
Правда, у жен отношения не заладились. Академикова супруга Галина Витальевна была, как и мама, русской – в прошлом актрисой из Саратова. Ее тяготила идея социального равенства как таковая, а уж наглядная иллюстрация в виде нашей многоголовой и многоголосой семейки доводила жену академика до тихого бешенства. Она была интеллигентной женщиной, любительницей Дрюона, Пикуля и Набокова, и полагала, что виной несовершенству бытия является неожиданно возникшее экономическое процветание людей, подобных Хачику Бовяну.
Один раз я слышал через распахнутые окна академической гостиной, как Галина Витальевна отчитывала мужа за порочащее приятельствование с «этим неучем» и, о ужас, «цеховиком, по которому плачет тюрьма». Маму нашу она жалела и говорила о ней не иначе как «эта несчастная женщина». Когда же академик спросил, чем же это она, интересно, несчастна, – холодная Галина поджала губы и удалилась. Академик же подошел к раскрытому окну, облокотился грузным телом на подоконник и, надкусив персик, лениво посмотрел окрест. Заметив меня, он приветливо улыбнулся и сказал:
– Скажи отцу – пиво есть. Холодное… Сегодня я у него в нарды выиграю. Передай ему, я настроен решительно.
Так и жили.
За то, что Галина чванилась и плохо говорила своему мужу о моих родителях, писал я темными вечерами на ее розовый куст у дома. Сестры донесли об этом матери. Мать дала мне подзатыльник и пригрозила сказать отцу. Хоть я и знал, что никогда – никогда моя мама не станет предательницей, но я плакал в своей комнате от обиды – ведь страдал я безвинно от руки своей родительницы, ведь за ее честь радел и загубил Галинино ботаническое чудо. Кстати, соседка так никогда и не узнала, почему зачахли розы под окном гостиной.
Но все же и Галина иногда улыбалась. Особенно если мы играли с ее нелюдимым ребенком, пол которого я и сестры определили не сразу. Оказалось, это очень умная, но угрюмая девочка в очках, сутулая, коротко подстриженная и рыхлая. Звали ее отчужденно и коротко – Зоя. Хоть она и не была худой, однако всякий намек на женственность пропадал в ее недюжинном интеллекте. Казалось, Зоя живет внутри огромного облака формул, цитат и иностранных слов. Она не могла подняться по лестнице не оступившись, но говорила на трех языках. Бремя познаний сильно и разнонаправленно давило на ребенка, вытравляя из Зои вкус к жизни. Порой она смотрела на яблоко и говорила:
– В этом плоде идеально сбалансированы витамины и минералы. Количество железа и аскорбиновой кислоты увеличивает иммунный потенциал, стабилизирует давление и очень показано печеночным больным.
Маринка даже пару раз всплакнула о судьбе несчастной Зои, и мы стали звать ее с собой поиграть на тихой улице. Нет, уговорить ее влезть в чужой сад или виноградник было невозможно, но все же она иногда соглашалась пройтись с нами по улочкам квартала. Но самое главное, с нами она иногда улыбалась. Может, смотрела и думала: «Какие же они необразованные». А, ну и что, что она думала! Главное, улыбалась, а мы были люди щедрые, не спрашивали плату за благое дело.
Отец бросал кости и говорил академику:
– Шеш – у – беш… Вот ты наукой занимаешься, Саша. Ты, Саша, счастлив?
– Ну, дорогой мой! Ты сразу и… счастлив! Гм… Шеш джахар… – называл академик выпавшие ему кости и переставлял костяшки нард на соответствующее число ячеек.
– Да ты просто ответь, да или нет, – не унимался отец.
– Понимаешь, Хачик, мне кажется, так нельзя говорить: счастлив-несчастлив, – осторожно заводил ученый человек свою механическую философию.
– Почему нельзя?! – изумился отец. – Я точно могу сказать – несчастливый я.
Академик грустно улыбался, а отец, отпив пива, продолжал:
– Нету у меня никакого горя, это точно. Но и счастья нет.
– И давно так? – сочувственно интересовался специалист по черным дырам.
Обычно отец пожимал плечами, а однажды ответил:
– С тех пор как разбогател. Да, несчастье без денег, но с деньгами точно счастья нет.
– А чего же тебе надобно? – спрашивал академик, вешая сырое полотенце на шею – стояла такая жара, что пот лил ручьем с толстого астронома.
Отец же, напротив, застегнутый на все пуговицы модной рубашки, сверкая глазами и бриллиантовым перстнем, доказывал ученому соседу, что родился не для того, чтобы разбогатеть, а родился и разбогател, чтобы быть счастливым. На праве быть счастливым папа настаивал. Академик бесился, говорил, что счастье категория идеалистическая, и приводил примеры из истории философии. Но философия эта была чужда сапожнику из горной деревни. Ах, если б знал мой бедный родитель то, что знаю сегодня я: можно быть бедным и счастливым, можно быть бедным и несчастным – ситуация вполне диалектическая, быть же богатым и несчастным – точка абсолютного замерзания, безысходно, как ад. Хорошо, что он не знал этого, – мог бы удавиться. Не знал наш темный отец слова «депрессия», не знал, что есть такой синдром Мартина Идена, не знал, ибо это замечательное произведение Джека Лондона прошло мимо него. Не знал и потому карабкался, работал, платил мзду кому надо, ладил с конкурентами, мирил враждующих, крестил детей своих сапожников, доставал соседу-академику лекарства, а на Новый год открывал ворота пошире и принимал всех: участкового милиционера Степана Петросовича, русского дворника-старообрядца Колю, бежененок из Душанбе – маминых товарок по техникуму и многочисленных родственников. Он стал человеком, который решает проблемы. Всю жизнь не выделялся из общей массы, работал всю жизнь и ждал своего срока, и мы с ним ждали.
Дождались. Союз рухнул.
В далеком Душанбе мыкались наши русские родственники, и мама, обезумев от волнения, названивала им каждый вечер, упрашивая, чтобы дедушка и меткоглазая бабушка переехали к нам. Но они протестовали, не хотели оставлять насиженные места. Мама звонила, пока было возможно. Но, когда на улицах интернационального среднеазиатского города начали палить и полилась кровь, телефонная связь прервалась.
– Привези их, Хачик. Поезжай и привези! – рыдала Люся.
Папа погладил ее по голове, собрал небольшую дорожную сумку и пустился в долгий путь. Самолеты в Душанбе не летали, и, что самое дурное, у нас тоже намечались черные времена. Начались перебои с электричеством и газом. Железная дорога как институт прекратила свое многолетнее и успешное существование. Маленькая Армения воевала с превышающим по мощи и ресурсам соседом за пядь цветущей земли, за Карабах. Империя пала. И если сама Россия, как говорят, избежала гражданской войны, то бывшие окраины, отпадавшие от ее большого тела, как ступени взметнувшейся в космос ракеты, умывались в крови бывших братьев и сестер.
Мы еще не знали в то время нужды ни в топливе, ни в пропитании, ибо деньги, живые, настоящие деньги, если и не решали всех проблем, то временно побеждали подавляющее их большинство.
Оборотная сторона горя
Когда папа, через восемь дней пути, добрался до домика тестя, он проклял день и час, когда научился смотреть и видеть. Дом выгорел почти полностью. Лидия Сергеевна и Павел Константинович, вернее, то, что от них оставил огонь, были привязаны к своей кровати армейскими ремнями. Ремни сгорели вместе с плотью моих родных, но медные армейские пряжки со звездами впечатались в их обугленные тела. Отец похоронил по-христиански тестя и тещу и вернулся домой.
Люся лишь посмотрела на Хачика и зашлась беззвучным криком. Она просто открыла рот и достала из легких тихий звук, похожий на ласковое движение черной пыли в степи. Он длился и длился, он тянулся, как песчаная река. Отец подошел к маме и накрыл ей рот широкой ладонью. Он испугался, что это Люся выпускает наружу запас своей дивной жизни. Еще немного, и, казалось, кончится в ней этот божественный резерв, который вдыхает в каждого ребенка ангел при рождении, иссякнет, и Люся упадет замертво. Хачик все держал и держал ладонь на маминых губах и не мог оторваться, потому что глаза ее тоже кричали, потому что он знал, стоит ему оторвать руку, как этот шершавый сиплый выдох продолжится.
Подошли бабушка и дед. Окружили, обняли сильно.
– Ты не сирота, девочка, – сказал дедушка.
– Ты наша. Ты моя, – шептала бабушка.
Они ее очень любили. Она это знала. Но произошло странное, она куда-то ушла от нас, направилась далеко вслед за своим беззвучным криком, метнувшимся прочь от нашей простой жизни. Туда, где воздух легче и возможно дышать через раз, где сердце почти не бьется, а взмах ресниц кажется обвалом в горах.
Мы все ее любили, совершенно не представляя, как можно помочь нашей маме. Мы готовы были выполнить любое поручение, любую работу. Мы учились так, что впору было перескочить через класс. По дому мы ходили на цыпочках, боясь хоть чем-то, хоть самой малостью расстроить нашу светлую Люсю. Ведь по-армянски «луйс» – это свет.
В дом стали приходить люди. Почти никого из них мы не знали. Это были суровые мужчины с твердыми, как придорожные камни, глазами. Они пожимали руку отцу и коротко кланялись, потом вставали за спиной матери и клали свои ладони ей на плечо. Она сидела, вся в черном, тесно прижав прямую спину к креслу. Соболезнования и скорбь были сотканы из молчания и глубокой тайны. Мне, как и моим сестрам, тогда еще казалось, что взрослые знают ответ на страшную загадку жизни и смерти, но нам не говорят. Нам было рано еще знать об этом. Я несколько раз даже видел во сне, как сосед-академик приходит к нам и говорит:
– Дети, ваш отец не умеет говорить красноречиво, поэтому эта почетная миссия легла на мои плечи. И я с радостью выполню ее – раскрою вам секрет жизни и смерти. Моя дочь Зоя уже давно знает его. Поэтому она у нас такая серьезная. Но сначала я должен, согласно древнему правилу, спросить вас: хотите ли вы войти в круг посвященных и остаться в нем?
И в этом своем сне я неизменно и отчаянно кричал:
– Нет, нет, не надо! Я не хочу знать этот секрет! Я всего лишь ребенок и хочу оставаться им всегда.
И я был прав в своем сновидении. Когда я смотрел на суровых мужчин, не умеющих плакать, что притрагивались участливо к плечу моей матери, я понял: никто не знает главного секрета. Никто не сможет вернуть Люсе ее родителей, отчего дома, ее юности. И когда мы с сестрами повзрослеем, то непременно тоже потеряем что-нибудь очень важное. И поэтому лучше никогда не добиваться посвящения в круг знающих. Да и нет такого круга! Есть сама тайна и лишь вынужденное смирение перед ее непостижимой разгадкой. Видимость смирения. Хорошая мина при чудовищно бездарной игре.
– Что там у нас после смерти?
– Да так, знаете ли…
Не вопрос жесток, а отсутствие ответа невыносимо.
Сорок дней в доме царил глубокий траур. Маринка боялась, что мама заблудится в дремучих лабиринтах своего горя и не найдет дорогу обратно. Ей было немного легче остальных, ведь она – младшая – почти не помнила бабку Лиду и деда Павла. А Люся и вправду все дальше пробиралась по узким коридорам лютой, застывшей ярости. Ее скорбь, не растворенная в слезах, которых не было, бурила соляные катакомбы в мозгу и только оттачивала самоубийственное оружие воспоминаний. Под ногами скрипели мелкие осколки когда-то цельной жизни. Бусинки дней раскатились и смешались. Когда Люся находила осколочек поцелей, она с жадностью хватала его, не боясь порезаться, и все разглядывала. Так блуждала она от эпизода к эпизоду, реконструируя события крупные и ничтожные, складывая их в дни и годы. Вот ее мама бреет голову отцу… Отец гоняется за мухами с мятой газеткой в руках… Соседка принесла несколько платьев на продажу, отец берет одно из них, пытаясь разобраться, где горловина, а где подол. Лидия ворчит, отбирает у него пеструю тряпицу… Оба – отец и мать – тащат по гигантскому арбузу. Устав нести, садятся на лавку у соседского дома и тут же, послав их мальчишку за ножом, взрезают арбузы, угощают уличную ребятню… И Люся гордится своими родителями – щедрыми, умными и справедливыми… А теперь, кто знает, может, это тот же соседский мальчишка, став мужчиной и вступив на путь борьбы за свободу и независимость своей родины, ворвался в их большой, ладный дом и убил Люсиных пожилых родителей? Это один из тех детишек, по подбородку которого тёк арбузный сок, связал и поджёг их, освобождая таким образом пространство для отправления демократии?
Люся умирала от горя. Она превращалась в соляной столб, который от первого же ливня грозил истаять, исчезнуть, смыть то немногое, что еще оставалось от нашей матери, – ее очертания.
Но Люся выбралась, благодаря отцу. Хачик спустился за ней в подземелье и вывел обратно. И хоть не был он голосистым Орфеем, но ему удалось ухватиться за краешек ее сознания и уже не отпускать. Отец часами сидел рядом с мамой и что-то тихо шептал ей в ухо. Однажды ночью я услышал:
– Люся, я тебе обещаю, зло не останется безнаказанным. Ты послушай, Люся, у дона Корлеоне тоже была такая ситуация. Сын за него людей убил, на Сицилию отправили. Там он влюбился, женился на девушке, а ее тоже убили. И тогда он стал мстить. Люся, я тебе обещаю, эти злые люди, что убили Лиду и Павла Константиновича, он будут наказаны.
– Кем? – устало спросила Люся. – Господом Богом? Не думаю, что доживу или когда-либо узнаю об этом, Хачик.
– Нет, Люся, не Богом. Бог нам только мысли внушает, а остальное мы сами делаем. Я так думаю, хотя, может быть, я и неправ.
– Я – хорошая женщина, Хачик. Я была хорошей дочерью, хорошей женой и матерью. Так почему я должна безропотно смириться с тем, что мой мир разрушил плохой человек? Не ветер, не наводнение, не эпидемия чумы? Плохой человек! Какой-нибудь безработный, которого напоили водкой, одурманили опием, дали в руки оружие? Какой-нибудь дезертир или выпущенный из тюрьмы убийца? Я перед кем должна смириться, перед мокрицей? Или перед законом? Или перед Богом? Не Бог убил моих родителей. И я не могу смириться. Не могу и наказать убийц. Поэтому я не могу подняться. Вот так вот, Хачик. И твой дон Корлеоне вряд ли мне поможет.
Сказала это Люся сгоряча. Не подумала. Да разве могла она тогда думать? Хорошо, что вообще решила заговорить. И отец ей потом был очень благодарен. Но Люся была неправа. Не знала бедная женщина, что быть доном не означает взять в руки старенький, родом из вестернов, кольт. Да и не было у нас такого. Не слишком внимательно вникала она в страницы романа Марио Пьюзо, когда их вслух, спотыкаясь, читал нам отец (потом уже бойчее, когда выучил наизусть). В эти моменты Люся отключалась, наверное, и думала, все ли сделала по хозяйству, перебирала в голове знакомые ей блюда, чтобы приготовить завтра на обед и не повториться, чтобы дети ели и взрослым нравилось. Подсчитывала, сколько будет стоить машина дров, если ее заказать не у председателя колхоза, а на старой лесопилке, где после обработки много древесных отходов бесполезно сжигается… Не слушала, урок не усвоила.
Не страшно, подумал отец, ведь дон Корлеоне – это его университеты. «И вот что, Люся, – хотел ей сказать отец и не сказал, а только подумал. – Неправа ты, Люся. Быть доном означает снискать такое уважение и обладать таким авторитетом, что в итоге найдется немало людей, которые поднимут оружие за своего кумира!» Но Хачик промолчал. Он, мой папа, уже почти, уже вот-вот был дон. И уж с этим никто ничего не мог поделать. Вот так-то, дорогая Люся.
События развивались следующим образом. В доме ненадолго воцарилась тревожная тишина, а потом появились безумный Гагик, психиатр Тигран и яростный диссидент – папины старые знакомые из наших краев. Где они подвизались все это время, я не знаю, но все трое выглядели вполне пристойно, даже набрались откуда-то странного шика. Безумный Гагик обзавелся очками в тонкой оправе, от чего сделался похож на героя боевика, который еще не переступил грань между нормальной жизнью и тем миром, в котором стреляет даже указательный палец, направленный случайно в небо. Диссидент приобрел карманные часы на толстенной цепи и все время заглядывал на циферблат, и вовсе не для того, чтобы сверить астрономическое время со своим внутренним ритмом, а лишь чтобы с шиком щелкнуть массивной крышкой. Психиатр подстригся, сбрил бороду и стал производить впечатление человека, который что-то потерял, какую-то мелочь, не слишком крупную, но архиважную. Какую же именно, я все-таки спросить не решился. Лидер маленькой группы поборников справедливости все еще казался опасным. Они вошли в дом, поклонились бабушке с дедушкой, подержали свои ладони на маминых худеньких плечах и очень скоро удалились. Я даже не заметил, чтобы они о чем-то говорили с отцом. Всякий раз я удивлялся, как они бесшумно исчезали, впрочем, так же неожиданно, как и появлялись.
А когда они прибыли вновь, наша мама ожила. Прошло каких-нибудь две недели, а чудо перемены было явлено нашему маленькому миру – семье, соседям и родственникам. Но до этого была кульминация. За закрытыми дверьми папиного кабинета, который он завел исключительно в подражание своему учителю – дону Корлеоне, троица папиных почитателей поведала о своих свершениях, продемонстрировав для наглядности фотографии – свидетельства проделанной работы. На всех участников тайного совета взирал со стены дон Вито Корлеоне – вернее, портрет Марлона Брандо в судьбоносной роли Крестного отца. (Портрет был заказан молодому художнику – непутевому сыну почтенного архитектора Варданяна, чье семейство проживало через дом от нас. К слову сказать, рама для картины стоила гораздо дороже, чем сама нетленная живопись.)
Перебрав фотографии, отец молча вышел из комнаты. Троица компаньонов переглянулась. Отец вошел в мамину комнату без стука и без спешки – все ведь уже свершилось, и уже невозможно ни опоздать, ни помешать. Так же молча Хачик взял жену за руку и поднял с кресла, к которому она, казалось, приросла в своем горе, и ввел ее в свой кабинет, под тяжкий взгляд Марлона Брандо. Ей, как хозяйке, поклонились диссидент, психиатр и безумный Гагик. Мама кивнула и немедленно заметила фотографии на пустом столе мужа.
Вопрос в ее глазах был, пожалуй, лишним. Когда Люся вбила в себя каждую деталь со снимков, когда впечатала в сознание мельчайшие подробности изображений, когда запечатлела в памяти ракурсы, полутона и даже, кажется, почувствовала запахи и услышала звуки, доносившиеся с бездушных бумажек, она встала и погрузила снимки к себе в карман, будто они там могли утонуть, исчезнуть. Потом случилось вот что.
Она подошла и поцеловала каждого, кто сделал то, что было на фотографиях. Она молча кивнула и Хачику, и даже тень улыбки промелькнула во взгляде. Она вышла из комнаты и, изрезав снимки на мелкие кусочки, бросила их в камин.
Когда я подошел, как всегда, привлеченный огнем, я увидел обрывок снимка, упавшего под решетку. Это был кусочек человеческого лица – пустая глазница, из которой словно достали глазное яблоко, и искореженный криком рот. Воображение живо дорисовало остальное. Я поспешно подцепил этот останок останка, чтобы не дай Бог не увидели сестры, и уронил в огонь. Через открытую дверь папиного кабинета я увидел, как почтительно прощалась с отцом опереточная троица – авангард его новой гвардии. Они выполнили его приказание, покарали виновников смерти его родных – родителей его жены. Они повязаны теперь кровью, первой кровью праведного наказания. Теперь он – Дон – и за них отвечает. Теперь их проблемы также и его проблемы. Ну и наоборот, тут и слов не надо.
Я поспешно отвернулся и побежал в сад. И чуть не закричал от неожиданности. Люся переоделась в светлые одежды. Люся вышла на порог дома и зажмурилась от яркого солнечного света – так давно она не видела его. А мы давно не видели ее – так бесконечно долго тянулись мучительные недели маминой скорби. И снова она посмотрела на меня тем взглядом соучастницы, как тогда, когда она зарезала Фароса.
Сватовство тракториста
На нашей улице жили молокане. Эта секта в духе несостоявшегося русского протестантизма была обильно представлена на Кавказе и у нас за хребтом. У нас стояли целые деревни молоканские, с русскими названиями, которые странно гладили ухо: «Семеновка», «Фиолетово», «Глыбунка». Выдворенные при царе Горохе из России, они осели на окраинах империи и не только не смешались с местным населением, но и сохранили быт, культ, речь, а главное – внешний облик. Молоканский культ по меркам наших людей казался почти анекдотическим, но беспримерная терпимость местного населения позволила сектантам сохранить не только веру, но и все приметы вырванного от живых корней этноса. Гостям Советской Армении, особенно из Советской России, внешность молоканов чудилась ветхозаветной. Русским русские казались какими-то ненастоящими, словно это не люди были, а ожившие куклы из хорошего краеведческого музея.
Мужчины ходили в кафтанах, подвязанных плетеными поясами рубахах, картузах. Штаны из плотного, часто полосатого сукна заправляли в сапоги. Женщины непременно в длинных юбках (а замужние обязательно подвязывали поверх юбок передники) и цветастых кофточках ступали легко, но смотрели скромно, платочками покрывали голову. В праздники, разумеется в их молоканские праздники, а также по воскресным дням – все наряжались. Рубахи доставались из сундуков атласные, расшитые, пояса потяжелее да поцветистее. Белели кругом кружевные передники и платочки. Девушки и девчонки не покрывали голов, только вплетали в толстенные русые косы шелковые ленты. Они все были светленькие, в основном голубоглазые, с прозрачными кроткими взглядами людей, всегда готовых к смерти за свои убеждения. Детей они выучивали только в начальной школе, хотя известны случаи, когда им было позволено закончить восьмилетку.
– Люся, а почему они такие? – спрашивал отец.
– Хачик, они такие же, как и ты.
– В каком смысле?
– Во всех.
Папа не понимал, что общего у него – армянского сапожника, может быть с молоканским родом-племенем, и попытался нащупать в окружающей действительности хоть какие-то детали, на которые можно было бы опереться.
– Они умеют шить сапоги?
Мама пожала плечами:
– Почему нет? Такое тоже бывает.
– Я думал, они только дворники.
– И дворники тоже.
Мама чистила рыбу. Она ненавидела это дело и стремилась быстрее покончить с ним, а тут над ухом канючил Хачик.
– А изиды?! – Он очень хотел разобраться, а кто лучше Люси мог бы объяснить ему некую странность в дворницкой артели Еревана. И кстати, вопрос папы был правомерен.
В Ереване за метлу крепко держались представители двух странных сообществ – уже названные молоканы – в основном крепкие мужчины с окладистыми бородами в картузах и сапогах, бередящие смутные воспоминания о нечетких репродукциях в альбоме русских передвижников, а также темноликие изиды, «езды» – по одним данным ассирийцы, по другим – курды. Эти чаще делегировали в дворники женщин. Изидки в плиссированных юбках из блестящей твердой парчи, надетых одна на другую, в платках из прозрачной органзы, стоящих над макушкой удивительным колпаком, казались сосланными за непослушание феями. Неужели они не нашли для себя дела получше, удивлялся я первые свои ереванские годы. На персидских миниатюрах я видел похожих дамочек, но, безусловно, без метлы в руках. Мужчины – они где-то прятались от общественного внимания, занимаясь каким-нибудь ремеслом. У дедушки моего была своя версия происхождения этого народца. По его словам, они были почитателями культа Изиды и, по преданию, пришли когда-то из Египта, расселились сначала в передней Азии, а потом нужда погнала их дальше на юго-восток. Как бы то ни было, у изидов были странные обычаи. Например, они не ели зеленый салат, обнаруживая в нем присутствие дьявола, а еще почитали выходным днем среду. Странно все это, но так мы учились терпимости.
Короче говоря, будет справедливым утверждать, что такого штата дворников не знал ни один город мира. И те и другие болтались без родины и только мечтали об обетованном рае. И те и другие выполняли самую неквалифицированную работу и негласно причислялись к касте неприкасаемых. Но нам сызмальства твердили о дружбе народов, поэтому хоть во взрослых и бродило подспудное недоверие к этим вненациональным отщепенцам, но дети дружили. Все, кто попадал на улицу, вырвавшись из-под опеки родителей, – дрались, играли в прятки, бегали наперегонки, поджигали фантики, царапали мелками асфальт и стены соседей – дружили. Папе моему почему-то не давали покоя молокане.
– Нет, ну скажи, Люся, как это так? Вот они ходят бородатые…
– Ну и что? Зато они не пьют.
– Ну и что? Я тоже не пью.
– Поздравляю тебя, Хачик, ты почти совершенство.
Мама поцеловала его в выпирающий нос, но Хачик не угомонился.
– А какому Богу служат? – все больше распалялся отец.
– Господи, Хачик, да какая ж тебе разница?!
– Нет, ну как какая? А вдруг они на своих сборищах детей едят…
– Господи помилуй, что мелет этот человек? – Мама воздела глаза к небу и на время даже перестала терзать рыбину. – Мракобесие, да и только!
– А мне говорили, что они еще, ну… знаешь, занимаются любовью.
Нож мамы вновь заходил над доской.
– Все люди занимаются любовью. Так рождаются дети.
– Во время своих молебнов. – Папа пытался скрыть смущение, но любопытство влекло в опасное пространство двусмысленности, а в аллюзиях на тему секса мой папаша был не силен.
– Хачик, не говори глупостей. – Люся расставила все по местам. – Что ты за глупыми бабками всякий вздор повторяешь?
– Ну, Люся, ответь мне. – Похоже, Хачику понравилось злить жену. Еще ему нравилось, как тряслась Люсина рука, сдирающая чешую с очередного сига. – У тебя чешуйка на щеке…
Мама попыталась ребром ладони смахнуть ее, но нож оставался в Люсиной руке, и Хачик даже отпрянул, потому что угрожающее расправой острие пронеслось прямо перед его носом. Серебристый же ноготок чешуйки, как перламутровая мушка, по-прежнему оставался на розовой маминой щеке. Она даже шла Люсе, но, чтобы вновь приблизиться к жене, папе пришлось попросить позволения.
– Можно? – осторожно спросил он, и, когда она, кивнув, наконец опустила нож, он подошел и двумя пальцами снял с маминого лица нечаянное дополнение.
Объятие затянулось, но мама хорошо знала свое дело – семья должна получить рыбу на ужин. Поэтому она тихо сказала:
– Твои дети, между прочим, дружат с молоканскими девчонками.
Папа от растерянности выглядел глупо и задал такой же глупый вопрос:
– Которые?
Мама снова взялась за рыбу.
– Светка и Маринка дружат с Катей и Наташей.
– С чего это?
– Они хорошие девочки, они одного возраста с нашими, им интересно вместе. Ты знаешь, Хачик, этого обычно достаточно для зарождения дружбы.
– Я знаю, что нужно для дружбы!
– Откуда? У тебя же нет друзей, – сказала вдруг мама.
– Есть! – проявлял детское упорство отец.
– Разве? Ну кто? Назови.
– Ты!
– Я – не считается! Я – твоя жена.
– Тогда…
– И родители не считаются.
– Тогда…
– И книжные персонажи не считаются! – отрезала мама.
Хачик посмотрел на нее осуждающе. Книжный персонаж! Это кто ж тут книжный персонаж?! На кого это намекает эта глупая женщина? Уж не на дона ли Корлеоне?
– У меня есть друзья, – гордо сказал отец и с достоинством удалился. Его внезапно обозначившаяся горделивая осанка была лишь декорацией, за кулисами которой уже бурлила тайная мысль – неужели она права, и у него нет друзей? И отец удалился перебирать в памяти имена и фамилии живых, реальных людей.
Против молоканов он с тех пор затаил нечто, похожее на обиду. Ведь с них, с проклятых, начался этот мучительный процесс раздумий о сути и смысле дружбы. Не почитатели или соратники или готовые на все прихлебатели, а настоящие друзья – есть ли? Вроде бы и не был Хачик сказочно богат, чтобы много шушеры липло, хотя и ее имелось достаточно. Вроде бы не был даже могущественным, есть люди гораздо влиятельней, но просители не переводились. А вот – ох ты – друзей-то и нет. Один только дон Корлеоне, что бы там ни говорила умная жена Люся.
Теперь всякий раз, когда Хачик видел молоканов и молоканок на улице или их детей, играющих у нас в саду, он впадал в задумчивость. Два злополучных вопроса: есть ли у него друзья и как нужно называть дона Корлеоне – возвращались всякий раз, когда взгляд падал на густую, никогда не стриженную бороду сектанта, на его серые заношенные штаны в узкую полоску или на кружевной платочек на головке какой-нибудь молодухи. Но обида обидой, а все ж таки и тут пришлось папе доказать, что он без пяти минут великий человек.
Одна из молоканских подружек моих сестер, голубоглазая Наташа, умела смеяться звонким серебристым смехом. Она была особенной – эта Наташа. С вечным сомнением во взгляде, с пытливым вопросом: «Хорошо ли это?» Кротость ее граничила со святостью. Ни разу в жизни я не слыхал, чтобы эта девушка (а в свои четырнадцать она была вполне оформившейся формами) прикрикнула на своих многочисленных младших братьев и сестер, ни разу не пропела с интонацией молодой ехидны: «Я-э-то-го-не-хо-чу… Я-э-то-го-не-бу-ду…», что свойственно было моим сестрицам. Ни разу она не взяла лишнего куска, если угощали щедро, а у нас всегда угощали щедро. Она просто половинила свою порцию – часть съедала, а оставшееся относила матери…
Отец их обширного семейства с рыбьим именем Карп погиб когда-то от удара молнии, и в общине поговаривали, что его настигла кара небесная. Мол, слишком гордый да независимый был человек… Наташа отца не забывала. В отличие от младших своих братьев и сестер, которые навеки расстались с родителем еще во младенчестве, Наташа очень его любила и воскрешала в памяти слишком живо. Совсем не так, как полагалось смиренной молоканской девушке. Она даже стала придумывать о нем разные сказочные истории и рассказывала младшим. В этих сказках отец представал настоящим богатырем, героем-победителем. Часто просила ее трудолюбивая и тихая мать, чтобы Наташа перестала теребить свое воображение – в них соблазн и тягостное искушение. Многое человек может победить, но не химеру. Василиса – мать Наташи – даже позвала общинного старосту, чтобы тот переговорил с девочкой. Пришел, принял строгий вид, собрался журить и отчитывать, но оказалось, напрасно. Наташа сразу же смиренно согласилась – ее память об отце чересчур горяча, за это Господь может и покарать. Но она не могла иначе. Всякая истовость претила ей, и потому она сама раскаивалась в том, что никак не могла унять свои воспоминания.
То ли это, а может, еще что, но мой папаша внезапно изменил свое отношение к старшей подружке моих сестер. Кажется мне, он увидел в Наташе родственную душу. Хачик ведь тоже был мечтателем, но, в отличие от Наташи, не умел слагать историй.
Внимание Хачика к чужой девочке естественным образом распространилось также и на ее родных. Василиса одна тянула пятерых детей, бралась за любую работу и без помощи общины вряд ли вообще смогла бы свести концы с концами. Очень она рассчитывала на старшую дочь – помощницу, а та, вишь, истории сочиняет про отца – победителя Карпа, аж архангела Михаила из него сделала. Хачик стал давать Василисе пустяковую работу, а платил вдосталь. Действительно хотел подсобить, но больше всего прочего стремился к одобрению любимой жены Люси. Чтобы у Люси развеялось ложное впечатление, будто он, Хачик, нетерпим к религиозным меньшинствам. Любовь к маме значительно расширяла духовные горизонты моего отца.
И вот вам поворот сюжета. У нас во дворе копали яму под фундамент гостевого домика – мы теперь все время расширялись. Выдолбить в ереванской, превратившейся в каменную плиту почве лопатой и киркой хоть мало-мальски обозреваемое глазом углубление было невозможно. Нужны были техсредства, и они были призваны в лице молокана Васи. Вася, знатный бульдозерист, временами пересаживался на трактор, мог при надобности и за крановщика выступить. На стройке был бы незаменимый человек. И разбогател бы уже к своим двадцати двум неполным годам. То есть светлая имелась у Васи голова, если бы не один порок. Парень пил. Хачик не мог подавить ядовитую иронию и позволял себе немного злорадного торжества. Говорил маме:
– Видишь, и они не святые. Среди них есть пьющие.
Мама не отрицала этого факта, но отвечала, что все же любая убежденная вера лучше безверия, так как религия – есть мощный сдерживающий фактор на пути всякого безобразия. Но папа не спешил соглашаться. Про веру он мало что понимал, а сдерживающий фактор – это другое дело, и Хачик свой фактор отлично знал. С годами авторитет дона Корлеоне только возрастал. «Подобно тому, как в прежние времена правители городов неусыпно держали в поле зрения племена варваров, что рыскали вокруг стен, – так дон Корлеоне зорко следил за всем, что творится на свете за пределами его владений».
Между запоями и работой на стройке Вася все же находил время пригнать разок-другой свой трактор с прилаженным к нему ковшом. В результате яма была выкопана, но случилось непредвиденное – у нас в доме Вася увидел Наташу, и искра заветного пламени занялась в метущейся душе тракториста. Быстро справившись с замешательством, Вася взвился вьюном вокруг белокурой Наташи и моих сестер, имитировавших деятельность скорой помощи (это называлось игрой). Все сразу поняли, что Вася – из молоканской общины другого района Армении – влюбился. У них таких красивых девочек отродясь не было. Поняла про это странное Васино чувство и сама Наташа. Она хоть и была чуть растеряна из-за новых ощущений, но блюла достоинство совсем по-взрослому. Пылкий Вася стал напрашиваться к нам, обещая выполнить любую работу в саду или в доме, бросил пить и однажды даже подарил цветы нашей маме. Оказалось, он пришел свататься.
Люся доходчиво объяснила трактористу, что она, увы, не станет лоббировать его интересы. Мама старалась быть не просто ангельски терпеливой – она была ласковой, как ангел, приветствующий раскаявшегося грешника, – ведь она не хотела ранить случайным словом пробуждающегося для истинной жизни Васю. Она говорила, что девочка слишком юна, чтобы идти замуж. Но запретить это Люся тоже не вправе, ведь Наташа, хоть и дружит с ее девочками и совсем как дочь ей, но всё ведь не дочь. Поэтому цветочки она, Люся, рекомендует отнести Василисе – законной матушке Наташи. Вася серьезно поблагодарил Люсю, поклонился и поступил так, как она сказала. Сделал и… получил отлуп. Василиса отказала трактористу талантливо. Она сказала:
– Ужо тебе.
Не зная, что до неё великий русский поэт Пушкин вложил эти слова в уста своего маленького Евгения, грозившего Петру Великому, Василиса повторила их без малейшей агрессии, но очень уверенно:
– Ужо тебе.
А потом мир Васи рухнул окончательно. Выяснилось, что и сама Наташа не горит желанием выходить за него. Причин было множество. В силу слишком нежного возраста. Из-за нехарактерной для сектантского сообщества тяги к образованию. Или по причине какого-то неосознанного, но вживленного свыше в кровь и плоть генетического механизма выбирать лучшего из тех, кто способен продлить через нее и с ней род человеческий. Ее страшит его пьянство. Вася божился бросить. Наташа обещала подумать.
Неизвестно – то ли поминание имени Господа всуе, то ли неодобрительное отношение Наташи к Васиному пороку или еще какие причины привели в действие кровожадный механизм фатума. Произошло следующее. Вася с горя запил и не появлялся у нас дней десять. Однажды Наташа вышла прогуляться с подругами на пустырь. Там росли травы, помогающие от кишечных недугов. Спорыш да чабрец – слабительного свойства, а еще горькие, возбуждающие аппетит одуванчик и подорожник. А еще цикорий и полынь – обволакивающие, помогающие, когда что-то изнури давит и жизнь кажется безрадостной и утомительной. Всему этому Наташа умела помогать. Но на пустыре девушки увидели заброшенный трактор Васи. И поскольку из кабины не торчала вечно взъерошенная голова тракториста, девочки решили, что его там и нет, и стали подшучивать над Наташей. Мол, довела парня, удавился на кипарисе, поди сейчас найди. Наташа рдела как маков цвет, робко отстреливалась словами. Дружно смеялись. И вдруг – случилось – трактор рыкнул и поехал назад, неожиданно, сам собой. Заскрежетал и, набирая ход и ломая лезвием кусты, приближался к девчонкам. Те заойкали, запричитали, толкаясь, и, не переставая смеяться, наконец, разбежались. Одна Наташа стояла и, не шевелясь, наблюдала самопроизвольное движение трактора, как чудо. Ей было непонятно, как это рокочущая махина стронулась с места сама собой. Девушка до того была заворожена этой загадкой, что мысли о суетном стерлись. Стояла и раздумывала о судьбе непутевого Васи, об одиноком тракторе, о том, что все хорошее в жизни – от Бога, а все плохое – плод не слишком тяжких усилий человека. Через некоторое, совсем непродолжительное время ей предстояло в корне пересмотреть свою жизненную позицию. Все плохое от Бога, а сносное создают люди, сцепив зубы, сопротивляясь обстоятельствам, собственному страху, лени и противодействию себе подобных – тупым и злым своим собратьям. Невероятные усилия единиц против действующей вразнобой, но мощно дышащей мышечной массы, лишенной интеллекта… Трактор двигался, уверенно полз с пригорка, сдирая ковшом кусты можжевельника, сдирая с присиженных мест кривенькие низкорослые сосенки, жалкие, высохшие без заботы кипарисы. Махина ползла прямо на Наташу. Подтверждая все возможные законы физики из раздела «механика» (которые Наташа, в отличие от единоверцев, все же знала, ибо не бросила школу на стадии представлений о круговороте воды в природе), трактор, споткнувшись об зубчатый неотесанный камень, вздыбился, подняв вверх три колеса. Погарцевав на одном, порычав вхолостую, он завис в этом положении на несколько секунд, словно решил немного покрасоваться, а затем сорвался и рухнул вниз… Вместе с молодым кипарисом попала под купол ковша и юная Наташа. Рок, да и только…
В больнице прелестной Наташе ампутировали ногу. Об этом девушка узнала только через несколько дней, которые провела между жизнью и потусторонним. В бреду ей виделся усопший папаша, который то хмурился, то улыбался, но в целом давал понять, что загробной жизни нет, а также просил передать привет маме. Наташа даже рассердилась немного.
– Да как же это нет, ежели ты мне вот видишься как наяву. Это значит, что ты где-то ведь пребываешь?
– Ну да, – мямлил покойный молоканин. – Я к тому, что таким молоденьким да хорошеньким девушкам здесь не место.
– А где же место?
– Там, где детишки родются. Где мелом на асфальте рисуют. Где дождик по деревьям лупит… А ты, дочка, даже замужем еще не была.
Похоже, что на том свете Карп сделался и вовсе мягким. Ни в его облике, ни в интонациях и намека не было на сектантскую суровость.
Карп гнал от себя дочь дня четыре, и Наташа решила не покидать наш бренный мир – не оставлять мать и сестер с братьями. Опять-таки нужно было передать привет Василисе. Наташа очнулась одноногой и, по идее, обреченной на одиночество и страдания. Но действительность оказалась иной.
Пьяный Вася уснул в кабине. Когда лишенный тормозов трактор искорежил Наташу, Вася вывалился из кабины и, стукнувшись головой о камень, ненадолго пришел в себя. Осознав свершившееся, парень вновь потерял связь с реальностью – на этот раз от ужаса содеянного. Скорая помощь увезла Наташу в больницу, а воронок Васю в КПЗ. Там-то и навестил его мой отец и застал следующую картину. Вася сидел на приваренной к стене койке и монотонно раскачивался из стороны в сторону. По сторонам он не смотрел, на скрежет замка в двери не реагировал. Так продолжалось уже двое суток. Наташа все еще пребывала в коме.
– Вася, это я, Хачик. Помнишь меня?
Вася даже не поднял головы.
– Ты мне яму копал, помнишь?
Какая-то тень пробежала по Васиному лицу, но, что это было: призрак узнавания или фантом боли – было неясно.
– Ты у меня в доме познакомился с Наташей, помнишь?
Упоминание о Наташе вывело Васю из оцепенения, да так, что мой папа в одно мгновение сто раз пожалел об этом. Парень забегал по камере, стал биться головой о стены и громко стенать, протяжно завывая Наташино имя.
– Постой, – сказал папа. – Послушай меня, мальчик, – предложил он, хотя немногим был старше непутевого тракториста. – Есть выход. И он устроит всех, и даже ментов…
А еще через два дня, когда Наташа пришла в себя, у ее кровати на коленях стоял Вася и просил руки. К всеобщему облегчению, Наташа приняла предложение тракториста, чуть не сгубившего ей жизнь.
До сих пор – это одна из самых крепких семей на моей памяти. Вася бросил пить, мой отец помог Наташе с иностранным протезом. Она наловчилась ходить, лишь слегка прихрамывая, носила брюки, поверх которых все тот же старорусский наряд. Родила Васе троих шебутных мальчишек и никогда не гневила Бога бессмысленным роптанием. Она считала, что ее благословил отец Карп с того света, а Вася до сих пор считает виновником своего счастья моего отца Хачатура Бовяна – в доме которого эта любовь началась и там же и узаконилась: свадьбу гуляли у нас. Согласитесь, есть доля правды и в том и в другом мнении.
Когда рухнул Советский Союз
Уже некоторое время страны, в которой я родился и чуть подрос, не существовало. Республика наша стала независимым государством и, успешно миновав стадию процветания и благоденствия, низверглась в пропасть жесточайшего кризиса. На севере шла война с соседями за лоскут цветущей земли, в противовес нашим скалистым и часто безводным. Все стало приходить в запустение, будто жизнь впадала в забытье… Поля выжгло солнце. Деревья в садах гнулись под тяжестью несобранных плодов, и по ночам люди слышали хруст ломающихся веток, похожий на звуки выстрелов. А может быть, это и были выстрелы? Война то накатывала страшными волнами, то отступала. Вчерашние герои Карабахского фронта сегодня хозяйничали на улицах.
В Ереване не горела ни одна лампочка. Ни одна заводская труба не дымила. Ни один фабричный гудок не оглашал окрестности. Ни один синий цветок не поднимался из газовых конфорок наших сограждан. Что делать? Как жить? Как терпеть? И долго ли? Повисло страшное слово «блокада». И как назло – зимы того периода были отчаянно холодными, как и должно быть на высокогорных просторах. Плотность мыслей о спасении явно уступила плотности населения. Наше правительство не смогло создать ни одного мало-мальски действенного плана выхода из страшного тупика. Люди – замкнутые, темнолицые жители деревень и расслабленные, по-европейски улыбчивые ереванцы – держались до последнего. Окна домов ощерились трубами буржуек, розоволицые туфовые фасады зданий почернели от копоти. Топили собранным скудным хворостом, ящиками, найденными у магазинов, собственной мебелью. Стали рубить палисадники с тутовыми и персиковыми деревьями. Люди начинали уставать – держаться, бороться, терпеть. Они верили, что все это лишь временные неудобства, что победа не за горами, и, как могли, поддерживали привычный образ жизни – выходили на вечерние прогулки, хотя света на улицах почти не было, сиживали в кафе, хотя кофе был дешевый и премерзейший.
Часто в связи с «временными неудобствами» поминали блокадный Ленинград. Вскоре и ящики, и мебель – та, что не жалко было бросить в топку, – закончились, но локальные боевые действия в маленьком Арцахе приобрели характер затяжной войны. Кое-какие заводы заработали – бывший резиновый и ереванский автомобильный. Круглосуточно, в три полновесных смены, они делали снаряды для тех, кто отправлялся на карабахский фронт, а также гробы для тех, кто вернулся оттуда в горизонтальном состоянии.
Начался исход. Люди бежали от холода и голода, от неизвестной окраски завтрашнего дня – кровь или траур? Прятались от безысходной тоски в хлопотах переездов. Бежали кто куда, направление выбирали спонтанно, повинуясь не логике, а смутным воспоминаниям и хаотичным ассоциациям:
– У дяди Размика в Москве знакомые были, помнишь? Говорят, он им очень помог, и они чувствуют себя обязанными.
– В Бостоне у меня двоюродные сестры – обе старые девы, им нужно помочь.
– Помнишь, мы отдыхали в Лоо, там у нас хозяйка была, Неля кажется? Она снова приглашала.
– Как вы думаете, если открыть кафе в Мытищах, будет хорошо?
– А где лучше климат – в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке? А если там перчатками торговать?
– А у вас есть шенгенская виза? Говорят, можно в Бельгии хорошо устроиться.
Такие реплики можно было услышать повсеместно: в увитых виноградом двориках, на изрезанных пылкими признаниями парковых скамейках, с террас открытых кафе. Стартовым выстрелом к отъезду могло стать что угодно – срубленное соседями тутовое дерево на растопку печи, околевший от голода волнистый попугайчик, неурочная смерть любимого родственника или… Да что там! Толчком к эмиграции могла быть пришедшая с полугодичным опозданием новогодняя поздравительная открытка или случайно разбитая чашка. Ехать, ехать! В дружественную Россию, ведь в ходу еще были советские паспорта старого образца, на равнодушный Запад, если были заграничные документы нового поколения. Люди отдавали за билет в один конец квартиры и машины, золото и редкие книги. Деньги потеряли всякую ценность.
Бабушка с дедом только головой качали, устав прощаться с родственниками и соседями.
– Армянин, который может жить без своего дома, может жить везде, – говорил дед, и было совершенно непонятно: это он с осуждением говорит или одобряет.
Мы держались благодаря папиным накоплениям и тем дружественным связям, которыми он успел обзавестись в своей новой жизни стихийного дона, крестного отца – самородка. Хачик уже несколько лет следовал за своей путеводной звездой «Корлеоне» и, конечно, снискал уважение. Но, знаете, бывает такая почтительность, что сдобрена большой порцией иронии. В таких случаях при упоминании имени обсуждаемой персоны все радостно кивают, мол, конечно, отличный человек. Но широкие улыбки, как вспышки фотокамер, ослепляют, нивелируют значение личности, ее весомость в их кругу. «Хороший человек» и «Большой человек» – разные, как говорится, вещи. Моего папу никто не боялся. Да и сам он будто разыгрывал сцены из любительского спектакля по мотивам книги Марио Пьюзо. Сам, как мог, написал либретто, сам играл, сам режиссировал. И видит Бог, никого не обременял своим странным увлечением. Статисты и актеры на вторые роли приходили сами, вживались в персонажей с разной долей убедительности и оставались рядом с отцом ровно столько, сколько им хотелось. Разной шушеры крутилось много. Верных, поверивших, избранных – единицы.
Хачик не был воинственным, он не сидел в тюрьме, не был партийным бонзой или комсомольским вожаком. Он просто разок разбогател, только и всего, и тратил свои деньги таким образом, чтобы о нем оставалась добрая память. Вот и сейчас, в трудные времена, отец изо всех сил содействовал всякому, кто нуждался. Объектом его благодеяний были не только наши родные или просто знакомые, но часто совершенно посторонние люди, если они просили о помощи или об их нуждах случайно узнавал отец. Кому билет добыть до Москвы – самолеты летали без расписания. Кому достать солярки для обогревательного прибора. Кому-то требовались лекарства. А кому-то гроб и место на кладбище. Все стоило денег, и у отца они еще были.
Но старинная порука, связи и честные принципы книжного дона слабели на глазах. Не мудрость, а короткоствольный автомат в руках укуренного анашой ветерана стали главным оружием нашего мира. Дон Корлеоне никогда не хватался за пушку без повода, и Хачик все еще считал, что время большой пальбы не настало. Мама, кажется, впервые в жизни растерялась. Она не знала, как поступить – уезжать или остаться? А папа не хотел верить, что принципы Крестного отца дают осечку, что они просто не срабатывают в наше время, полное несчастий. Он сетовал на изменчивое время и был, в сущности, прав. Наступил 1995 год.
Армения – этот приют Ноя и его разноликого, многоголосого сераля (парень явно любил животных) – и сама стала ковчегом. Веками географической деградации лишенная морей, крошечная, как истрепавшийся на ветру лоскуток с неровными краями, она плыла в океане огромных стран, страшных и политических хитросплетений – заложница, наложница, постаревшая в безвестности, забытая, но еще живая. У нее было только одно желание, как и всегда, во все века – быть. Люди, охристая пыль городов, синеватый мерцающий туман гор, переплетения виноградных лоз и полный звезд разломанный гранат – все это было пущено в плавание и, казалось, обречено на погибель.
Говорят, каждый человек чуть напоминает какое-нибудь животное или птицу. Кто-то похож на лису – ум, верткость и высокие скулы, в ком-то просматриваются черты кузнечика – мощные челюсти и равнодушие к последствиям. Хачик был похож на кого угодно, только не на крысу. Бежать с тонущего корабля он не мог. Он был скорее птицей – большеносым туканом, который так любил рай своего дерева, деревни, древности, что мог помыслить о перелетах только в момент крайней опасности для своего потомства. И такая пора настала.
Один-единственный случай решил нашу дальнейшую судьбу. Это событие можно было истолковать по-разному, даже повернуть комически. Но юмор не был сильной стороной личности отца. Да и дело касалось драгоценного – дочери.
Светка занималась музыкой. Особенных дарований у нее не было, но папа всегда говорил, вздыхая:
– Девочка ведь…
А девочка – уже барышня с округлившимися формами, намекающими на будущее плодородие, проявляла очевидные способности в забивании гвоздей в стену, перетягивании обивки на креслах, в пользовании мастерком и стеклорезом. Папа качал головой, глядя на ее коротенькие пухлые пальцы, и говорил:
– Люся, а это навсегда?
Руки моей сестры никак не походили на длинные крылатые пальцы именитых музыкантов, которых показывали по телевизору. Светка вся была в порезах, царапинах, из-под ногтей вечно свисали ошметки клея, запястья окольцовывали разводы плохо смытой краски. Мама Светку всегда выгораживала:
– Хачик, у нее нет способностей к музыке. Это не хорошо и не плохо. Это так.
Но папа робко настаивал:
– Ведь девочка же…
– Послушай, значит, она талантлива в чем-то другом.
– В чем? Она пойдет в хозяйственный магазин резать стекло? – без всякой иронии интересовался отец.
– Мы еще узнаем. Пока это неизвестно. Она сама еще не знает, она ведь только подросток. Ее будущее скрыто завесой судьбы, но настанет день… – Мама напускала таинственности в этот вполне житейский узелок семейной жизни, надеясь, что интонация фатума скорее доберется до сознания мужа, чем обычные логические доводы.
– Думаешь? – сомневался Хачик.
– Уверена!
– Но ведь девочка…
Тут он вспомнил, что дон Вито Корлеоне всего себя отдавал детям, при этом умудряясь держаться от них на расстоянии. Как и подобает настоящему мужчине. Собственно, он и затеял свой не слишком легальный бизнес только для того, чтобы четверо детишек – трое мальчишек и невесть какая красивая девочка (мои сестрицы были явно симпатичнее), чтобы все они были счастливы и, главное, чтобы их будущее определилось в нужном направлении – подальше от криминальных соблазнов улицы и поближе к читальному залу какого-нибудь университета. Уважаемый Вито не вмешивался в процесс воспитания малышей, целиком доверяя в этом деле своей почтенной жене – заботливой итальянке, а также американской системе образования. У Хачика не было ни секунды сомнений в том, что мама воспитывает нас хорошо, только вот его мечты парили выше доверия. И он так и не спросил у Светки, чего же она сама хочет – в кружок «Умелые руки» или в фортепьянный класс с чопорной не по-кавказски преподавательницей?
Светка ненавидела свое пианино. Нельзя сказать, что она не проявляла усердия, но при взгляде на элегантную, как коллекция «Армани», и скучную, как она же, клавиатуру у моей сестры портилось настроение. Она жаловалась на боли в животе, в суставах и в голове. Она прикидывалась одержимой внезапным порывом к математике. Она усаживалась в садике и подолгу вглядывалась в землю, для верности брала дедушкину лупу и делала вид, что увлечена жизнью насекомых, и, конечно, забыла о том, что у нее через неделю отчетный концерт. А потом, после многократных напоминаний матери, снова жаловалась на боли в пояснице. Конечно, конечно, Светка брала пример с бабушки, которая называла любые недомогания:
– У меня приступ!
Люся не раз говорила дочери:
– Твое спасение в честности. Подойди к нему и скажи, что больше не хочешь заниматься музыкой.
Светку передергивало от такой перспективы.
– Я лучше умру.
– Но почему?!
– Он расстроится, а я буду чувствовать себя виноватой.
– Когда-нибудь тебе придется это сделать.
– Мама, может быть, ты?
– Э, нет, моя дорогая. Я это я. А это твоя проблема. И потом, кто тебе сказал, что я с ним не говорила? Но он всегда будет иметь возможность сказать: «Это твое мнение. Это ты так думаешь. А что думает наша дочь?» Поняла меня?
– Поняла, – хмуро отвечала Светка и худо-бедно дотянула до шестого класса музыкалки, порадовав отца выпускным экзаменом.
Это было открытое мероприятие – в зале сидели родители, принаряженные братья и сестры. Многие принесли цветы для педагогов и своих даровитых чад. Светка отыграла программу, снискала жидкие аплодисменты и убралась за кулисы. Папа сидел торжественный и счастливый. Но потом на пороге музыкальной школы дочь сообщила ему, что бросает обучение. Он был обескуражен.
– Неужели ты сам не видишь, как я играю? Я даже младшим в технике уступаю.
– Но как же так? – лепетал отец. – Я же видел – ты играла!
Сестра объяснила, что для того, чтобы быть хотя бы на стойком среднем уровне, ей приходится пахать в три раза больше, чем остальным. Слишком велики нагрузки. И слишком слабо Светкино дарование. Она пообещала не бросать музыку совсем, а заниматься «для себя» с каким-нибудь частным педагогом, который устроит родителей. Это был разумный компромисс, на который отец, поразмыслив, пошел.
Итак, Света стала посещать веселого частника, который принимал учеников в клубе глухонемых, снимая там каморку с фортепиано, явно не нужным хозяевам клуба. Старичок-музыкант без устали травил театральные байки, так как всю свою жизнь провел в оркестре ереванской оперы, и вот уже четыре с половиной месяца разучивал со Светой «Лунную сонату». Бетховен и сам, наверное, в райских кущах возненавидел свое произведение, слушая, как моя сестрица терзала инструмент. А мы возненавидели Бетховена. Она делала ошибки в одних и тех же местах. Она спотыкалась каждый раз, когда мягкая пассивная прелюдия начинала вливаться в поток «разработки музыкальной темы», то есть из первой части переходить во вторую. До третьей части Света не добиралась. Ей приходилось начинать снова и снова. Но на должной ноте в определенном такте она опять попадала по соседней клавише. Я, ожидая этого, заранее хихикал, пытаясь сбить Светку раньше, но она мужественно доходила до фатального такта, как до колючей проволоки, государственной границы, и только тогда сбивалась, будто получала разряд электрического тока. Я дразнил ее бездарной, а она бегала за мной, пыталась отлупить. Раздражало ее и дедушкино чаепитие, и бабушкино похрапывание во время послеобеденной сиесты.
Но, справедливости ради, небыстро, но дело двигалось. Раз сестра возвращалась домой с вечернего занятия. Шла себе, грезила о том, как станет взрослой, как будет красивой и талантливой и научится так играть на фортепиано, что однажды удивит гостей на случайном дне рождения. В сгущающихся сумерках зажглись фары какого-то автомобиля. Светка придумывала, во что же она будет одета в этот день, который еще не наступил, но который обязательно настанет. Она мысленно выбрала белое платье-халат – простое, даже строгое, застегивающееся на пуговицах спереди. Но в ушах ее будут маленькие сережки-гвоздики с чистыми, как слезы, бриллиантами. Машина поехала за Светой. А та уже придумала, что в просторной комнате, в «зале», в тех же гостях, окажется молодой человек – высокий сероглазый красавец с русой шевелюрой. Он будет не просто высок – он на десяток лет старше нее. Он заметит ее, как она появится в комнате, но подойдет не сразу, будет наблюдать за ней издалека. И только когда она сядет за рояль, наигрывая сложную, но прекрасную пьеску, он возникнет рядом и поможет справиться с произведением – ведь там будет кусочек для игры в четыре руки…
Почему мы так расслабились? Почему мы решили, что созданы для счастья и дорога, по которой ведет нас отец, будет всегда ровной? И почему Хачик решил, что он в состоянии учесть все извивы пути, неожиданности, уготованные поворотами, гулкие биты взволнованных сердец, страх, сомнения? Отчего же папе казалось, что он способен держать все это под контролем? А почему нет? Ведь на его стороне был мощный союзник – дон Виторио Корлеоне.
Со временем дон Корлеоне стал казаться мне кем-то вроде ангела-хранителя, святого, которому можно поставить в церкви свечку и нашептать: «Дон Вито, дон Вито, пусть все будет хорошо…» И некоторое время эта мантра работала. Вместе с папой и мы уверовали в вечные блага.
Мы не просто считали себя хозяевами жизни – так оно было на самом деле. Отчасти так, но близко к идеалу. В Ереване в те годы автомобиль на ходу считался редкостью. А у нас имелась хорошая немецкая машина. Официально бензина не продавалось, а тот, плохо очищенный, что удавалось достать «по коммерческим», то есть баснословным ценам, большинству был не по карману. Но для моего отца не существовало ограничений. И свой генератор имелся, поэтому в доме горел свет, было тепло, и газ на кухне сулил ужин не только нам, но и обнищавшим соседям. Мы были не просто хозяевами жизни – мы в этой жизни были дома. И все же мы потеряли бдительность…
Света шла, помахивая папкой, а машина медленно ехала за ней. Ни тени бедственного предчувствия, ни намека на сумеречное подозрение – это кто ж такой катит за ней уже битых полчаса, ничто, вообще ничего не омрачало грезы моей сестрицы. Светка неожиданно ощутила прилив творческих сил, она запела. Ни больше ни меньше – это был кусок из «Лунной». Света пела:
– «Па-ба-бам, па-ба-бам…»
У нее получилось! На том месте, где обычно грубоватые пальцы Светы спотыкались о серенькую гармонию бетховенской сонаты, там, где образовывалась дьявольская трещина между идеальной до стерильности музыкой и ее хромым, благодаря бездарности Светы, воплощением, появился мост – человеческий голос. Громкий, не знающий стыда голос моей сестры удивительно точно выводил мелодию, проносясь над неумением и привычными ошибками. Света так удивилась, что списала удачу на воображаемую встречу с сероглазым красавцем в своих мечтах и попробовала снова:
– «Па-ба-бам… Па-ба-бам…»
Невзрачный автомобиль, ехавший за сестрой, остановился. Между мостовой и тротуаром был разбит газон. Трава на нем замерзла и покрылась колючим инеем. Из машины вышел человек. Низкорослый и коренастый, он подбежал, пряча руки в карманах, от этого его бег казался нелепым. Он вихлял вокруг своей оси, пытаясь сохранить равновесие на скользкой траве. Так он добежал до Светки и попытался просунуть руку ей под юбку. Но рука только скользнула по внутренней стороне бедра – невысоко, не достав до горячего и влажного. Рука дернулась, и парень испуганно отпрянул. Светка перестала петь, обернулась и удивленно уставилась на недомерка.
– Вы ошиблись, – сказала Светка, взмахнув пушистыми и светлыми ресницами.
Человек растерянно улыбнулся. Он привык к разной реакции, он ожидал приступа страха у девушки, бешеного рывка и побега, или, возможно, агрессивного выплеска – попытки ударить, на орать. Да, он был готов к тому, что девчонка огреет его папкой. И тогда житель деревеньки под Ереваном, хозяин крошечного огорода и двух тощих овец, который, наезжая в столицу, прикидывался героем карабахской войны, вот тогда бы он разошелся. Он крикнул бы, распаляя в себе праведный, хоть и выдуманный гнев:
– Ах, так, мрази?! Булочками питались, пока мы землю армянскую грызли, защищая вас?! Героев обижаете?! Инвалидов не жалеете?! Я за вас кровь проливал, контузию получил! – и сам бы поверил в это.
Но огородник растерялся. Девочка, крупная для своих лет, с него ростом, разглядывала его без всякого страха, скорее удивленно, и хлопала длинными ресницами.
– Вы ошиблись.
– Ага, – сипло ответил самозванец.
Девочка склонила голову, сменив ракурс, и продолжала изучать его. Видела колючий страх в его глазах, перхоть на засаленном пиджаке, прилипшие к рукаву опилки. Неожиданно сказала:
– Вы можете меня проводить, а то фонарей нет, страшно.
– Ага, – снова просипел он.
И они двинулись в путь. Самозванец повеселел. За каждым поворотом огородник предвкушал скорое веселье. Но, странное дело, ему показалось, что он больше не руководит своими действиями. Воля парализована, желания помутились, пропала ясность намерений. Он словно забыл, для чего остановил машину, подошел к девочке. Он помнил только прохладное ощущение на ладони, когда он мазнул ею под коленкой девчушки. Он хотел испытать его вновь, но тут его спутница остановилась.
Света привела этого типа как раз к нашему дому. Здесь она неожиданно схватила его за руку и потянула к себе.
– Идите, я кое-что скажу вам.
Он нагнулся, окончательно потеряв волю. И тут Светка совершила один из своих подвигов, которых в дальнейшем было немало на ее жизненном пути. Она заорала что было силы:
– Люди, люди, бегите сюда! Бегите! Ловите его! Он пытался меня убить!!!
Слово «изнасилование» уже существовало в ее лексическом обороте, но насилием она считала нечто в кроваво-пенистых тонах. Этот же эпизод казался нелепой случайностью для себя и преступной глупостью для своего обидчика.
– Идите, идите, люди!!! – кричала Светка сильным голосом гонца, предупреждающего об опасности даже ценой собственной жизни.
И люди выбежали – из любопытства и по соображениям межсоседской добродетели – просто узнали голос дочки Хачика Бовяна. Голос Светы узнал и мой отец. В этот момент он резал хлеб к ужину, решив, что немного домовитой хозяйственности не повредит его суровому образу. Он выбежал на улицу и, раздвигая людей, пробрался в горячую точку событий. В центре толпы стояла его старшая дочь и держала за руку крохотного человечка с бегающими мышиными глазками.
– Что? – хрипло выдохнул отец. Но он уже все понял. По нервному тику на щеке мужчины, по испарине на лбу. По распахнутым глазам своей дочери, в которых заколыхались слезы, и, казалось, только сейчас дошел из мозга сигнал страха. Света тоже все поняла, развязка прочитывалась однозначно – кухонный нож в руках отца красноречиво намекал на кровопролитие. И тогда Света поступила по-своему – она толкнула своего обидчика изо всех сил. Выскочив из ступора, он побежал на свой вихлявый манер. Хачик рванул за ним, но его удержали благоразумные соседи. Подбежавшая мама бросилась к дочери, быстро ощупала сохранность членов, обняла, прижалась к уже почти сравнявшейся с ней по росту Свете.
Отец ушел в свой кабинет и долго смотрел на свою миланскую любовь – ту самую пару босоножек, что сделала богачом деревенского сапожника. Никому теперь не нужны были папины босоножки с оттиском на подошве «made in Italia». К ночи он вернулся в гостиную, положил руки на плечи маме и сказал коротко:
– Люся, мы уезжаем…
Он сказал это ровным голосом и даже тихо. Но должный знак препинания, усиливающий смысл сказанного, поставил мой уравновешенный дед. Он хмыкнул и упал замертво.
Часть вторая
Снег
Смерть и ликование
Похороны дедушки для нас, самых юных представителей семейства Бовянов, оказались последним значительным событием детства. И последним важным вкладом в процесс, который я впоследствии назвал «младенчество и взросление героя». И это я не о нас – детях. Это я о нашем отце, которому Всевышний дал возможность в рамках одного физического воплощения пролопатить две полноценные жизни, построить две независимых судьбы. Две роли в одной пьесе – подарок для любого артиста. Маленький скромный человечишка – без особенных грехов, без особенных долгов, без дерзкой мечты, и великий воин – без сомнений, без страха и без жалости. В своем втором младенчестве он лишился страха. «Без жалости и сомнений» – к этому он еще придет. Россия конца девяностых станет самым лучшим спортивным клубом, где тренируются элитные солдаты для жизненных боев без правил – стойкие к испытаниям, глухие к боли – своей и чужой.
Да, папаня мой слопал, как минимум, две жизни. Прорыл два тоннеля, причем случайно, как в анекдоте. Помните, старый такой? Решено строить тоннель под Ла-Маншем. Объявлен открытый проектный конкурс. Один дороже и прекраснее другого, каждый требует людей и миллионов. Вдруг приходит Рабинович. И говорит:
– Не надо миллионов, я пророю тоннель гораздо дешевле! И людей не надо.
Ему говорят:
– Отлично, но как это вы один осилите такую махину?
– Зачем один? Я буду рыть от Франции, а Кац из Англии. Так мы будем копать навстречу друг другу и встретимся посередине.
– А если не встретитесь, если промахнетесь и пройдете мимо друг друга?
Рабинович задумался, затем резонно ответил:
– Таки у вас будет два тоннеля!
Вот и Хачик хотел лишь встречного движения. По высшей иронии, два Хачика (или один с двумя судьбами) должны были встретиться в какой-то особенной точке, ее надо было только распознать. Но Создатель забыл сообщить Хачатуру Бовяну координаты места встречи с самим собой. Или не забыл, а нарочно не сказал – иногда Всевышний мерзко шутит. И вместо одного подземного лаза у Хачика получилось два параллельных. Точка пересечения тоннелей была успешно проигнорирована.
Россия тех лет оказалась тем самым горнилом, где плавились национальные черты, индивидуальные качества, где все было брошено на один, не успевающий просохнуть от жертвенной крови алтарь, ради одной лишь цели, одного лишь желания – добиться цели. Сама «цель» оставалась туманным объемом неких жизненных благ, но о них по отдельности уж никто и не помнил. А вот добиться, пробиться, вырваться из серой массы – стало ключевыми словами, и рты, их выплевывающие, похоже, забыли, что «добиться» – возвратный глагол, так же как и «учиться» или «умыться», то есть – «умыть себя», «учить себя», «добить себя»…
В квартире, что купили мы в странном, похожем на затяжной зимний сон районе Купчино, родилось и уже никогда не отпускало ощущение тесноты. Все то время, пока мы там жили, – по счастью, не слишком долго. Таких тесных кухонь, где трудно разместиться большой семьей, таких сдавливающих ребра коридоров, комнат, в которых от стены до стены можно добраться в два бодрых детских прыжка, мы никогда не видели. Хоть и было в этой квартире четыре жилых помещения, хоть и выходила квартирка своими окнами в дряблых трухлявых рамах на три стороны света из четырех возможных, хоть и прилажена была к кухне длинная лоджия, загогулиной опоясывающая стену, но все равно – кроме нас там, в этой квартире, постоянно проживали все ветры этого города, и было блекло. Из окон видны плоские и грязные крыши хрущевок и зданий пониже нашего шестнадцатиэтажного, а также куцый парк. Тоненькие стволы деревьев вызывали у меня горькие слезы и нестерпимую жалость к тусклой природе, несправедливо обделенной красотой. Жалел я и себя, несправедливо лишенного детства.
Последним воспоминанием об армянской жизни были похороны дедушки. Даже дон Корлеоне был уязвим перед бесстрастным выбором смерти. Как известно, в войне за господство в каменном Нью-Йорке Крестный отец потерял сына. Не то чтобы он считал своего дурака Сонни застрахованным от чрезвычайных и непоправимых последствий, но гибель первенца, пусть и непутевого, рьяно нарывающегося на фатальные неприятности, выбила его из колеи. Да и сам он тогда был не в лучшей форме – тяжело раненный конкурентами, отчаянно пытался сохранить остатки былого не мира, так хоть равновесия. Не удалось. Нужно было достойно схоронить Сонни и лишь затем задуматься о будущем семьи Корлеоне. И пришел старый дон к похоронщику по имени Бонасера и сам одернул покрывало с тела сына:
«Америго Бонасера не смог сдержать вопль ужаса. На столе лежал Сонни Корлеоне, изрешеченный пулями. Его левый глаз был залит кровью, зрачок раскололся и был похож на колючую звезду, нос и челюсти раздроблены.
Дон протянул руку, желая опереться о плечо Бонасера.
– Посмотри, что они сделали с моим сыном».
Кто поспорит – смерть печальна. Она приносит горе, она опустошает плотные ряды того мира, который человек ошибочно считает своим. Смерть словно пробивает оборонительные рубежи осаждаемой крепости – дальние подступы, когда человек юн, а вокруг умирают любимые старики, и главные ворота, очередь которых подходит, когда твое поколение приблизилось к черному порогу и уходят твои сверстники. Некоторые воспринимают смерть, стоически стиснув зубы, проповедуя о неизбежности, другие панически боятся своего часа и с каждым покойником выплакивают море слез. Да, за тысячелетия духовных поисков, краха великих цивилизаций, необъяснимого возникновения новых все это время, несмотря на великие научные открытия, технические обретения и окончательное торжество прогресса, никто так и не перестал плакать, узнав о смерти горячо любимого человека. Я не буду писать о том, чего не знаю. Научное разъяснение смерти – этой самой великой из тайн мироздания, я оставлю медикам, физикам, философам и прочим самонадеянным смельчакам. Я их уважаю, но смотрю на дело с другого ракурса. В моем взгляде есть место шутке.
Уход деда все мы переживали остро и обставили проводы дорогого родственника со свойственной Востоку пышностью, следуя всем ритуалам и предписаниям. Но внезапно я осознал и другую, вовсе не темную сторону погребальной культуры нашего народа. Оказывается, мы смерти не боимся. Ну не все поголовно, есть печальные сбои в национальной программе, но в массе своей не боимся.
Древние традиции учат правильно прощаться с мертвецом, экипировать его в дальний путь, вооружив молитвами оставшихся на этом берегу Стикса родных и близких. Четкая разница между скорбью и страхом не парализует волю и дает простор юмору. Знатоки скажут – шутовство вытесняет боязнь, и будут правы. Но эти же доки могут упрекнуть – ирония лишает явление подлинной ценности, сталкивает с пьедестала, умаляет значение. Возможно. Ну и что?
Я знал случай, когда одна пожилая женщина на старости лет впала в веселенькое помешательство и довольно долго пребывала в этом состоянии, пока, наконец, не почила. Все вздохнули с облегчением, особенно ее родная дочь. Старушке было без малого сто лет, и дочь ее к тому времени сама была матерью, бабушкой и трижды прабабушкой, очень переживала, что в почтенной участковой докторице проснулись вдруг странные повадки. Дочери трудно было принять, что ее родная мать бегала по микрорайону нагишом и многих родственников принимала за таинственного незнакомца – свою первую любовь. Все было бы неплохо, если бы бойкая, но сбрендившая старушка вдруг не проявила удивительные познания в эротической сфере. К своему «возлюбленному», то есть к множеству безвинных людей, она обращалась с одной-единственной просьбой:
– Возьми меня! Возьми меня стоя!
Откуда у ровесницы века, не знавшей (по официальной версии) ни одного мужчины, кроме мужа, жившей до эры видеомагнитофонов и немецкой порнографии, а к моменту их появления почти лишившейся зрения и слуха, оказались столь пикантные познания о технике соития, осталось вековечной тайной. Короче говоря, старушка, наконец, померла. Семейство было большим и очень активным – со всех окраин бывшего СССР потянулись родственники всех степеней близости, а также друзья и знакомые. Внуки из Москвы, кунаки из Самарканда, свояки из Магадана, друзья из Риги, пациенты из Автономной республики Тыва.
Похороны, третий день, седьмой, девятый, сороковой… Зять умершей – Варужан, никогда до этого не проявлявший слабости перед алкогольными напитками, неожиданно дрогнул – коньяк в доме лился Ниагарским потоком. Один из сыновей этого доблестного зятя, то есть внук старушки, вернулся с похорон бабушки в Москву и, чтобы как-то взбодрить родителей в Ереване, отпустил в общем-то грубоватую шутку – он послал телеграмму следующего содержания: «Долетела благополучно. Дедушка встретил хорошо. Не волнуйтесь, у меня все в порядке. Целую, ваша бабуля». Муж-то этой старушки, понятное дело, давно помер. Вот внук-то и пошутил. Мол, встретились на том свете, все нормально. Но, как ни странно, шутка дома пришлась по вкусу. Этот зять – Варужан – взял телеграмму и торжественно водрузил ее в сервант. Когда приходила очередная партия соболезнующих, а они шли косяком все сорок дней, почтительный зять наливал коньяк по стопкам и провозглашал:
– За мою тещу. Святая была женщина.
Люди думали и шептались между собой:
– Какой человек, а?! Какой души! Как за свою тещу переживает! – и жалели его. – Варужан, не переживай так. Она отмучилась, да будет земля ей пуховой периной.
А Варужан опрокидывал очередную стопку коньяка и спокойно соглашался:
– А я знаю. Я телеграмму получил, – и с достоинством доставал телеграмму и прочитывал ее, вконец обескураживая своих слушателей…
Разные истории бывали со смертью. И у нас не обошлось без анекдотца.
Полный курс бытия нам преподала древняя родина отца. Парад жизни, перетекающий в маскарад смерти, стал и моим личным опытом, неотъемлемым от сознания, от естества и дыхания. И поверьте, если бы эта глава нашей семейной саги была бы скучной, я никогда не отвлек бы ваше внимание, с радостью пролистнув десяток страниц. Но уверяю вас, дело стоит того, чтобы остановиться на этом вопросе.
Мой дедушка был человеком худощавым и невысоким. То есть когда-то распахнутые плечи и летящая походка делали деда похожим на богатыря из армянского национального эпоса «Давид Сасунский», но старость, хоть и благостная, подприжала его к земле. Теперь он лежал в огромном дубовом гробу, обитом белым бархатом и шелком, – маленький. Он терялся в этой гигантской ладье, призванной переправить его в юдоль скорби. Дорогой гроб, назначение которого (кроме прямого, разумеется) было в том, чтобы продемонстрировать всему миру, как наша семья уважает покойного патриарха, выполнил поставленную задачу. При этом у ситуации появился непредвиденный подтекст. Короче говоря, гроб дедушки сослужил злую шутку. Своими несусветными размерами он продемонстрировал всем, насколько старичок меньше наших амбиций.
Дедушку было жалко, жалко было нас, осиротевших без его доброго взгляда, без его затейливых, похожих на сказки жизненных историй. Жалко себя было до слез. Я и сестры, не скрываясь, ревели, но в промежутках между ритуальными мероприятиями чудовищно бесились, запихивая в карманы гостей горсти конфет, песка и куриных костей. За этим занятием нас застукала мама и больно накостыляла мокрым скрученным полотенцем. Мы снова плакали, мешая слезы обиды с прощальными стонами по дедушке. А он – крохотный и беззащитный, лежал в своем безмерном гробу, водруженном на исполинского размера стол в гостиной, за которым через несколько часов после погребения устроится орава гостей – поминать.
На похороны приходят в Армении все – звать не надо. Люди узнают о трагедии в некоем доме друг от друга – сосед от соседа, сослуживец от сослуживца, родственник от родственника. Как правило, большинство присутствующих на похоронах с покойником знакомства не водили, в глаза не видели, не знали даже, чем он занимался при жизни. Кто-то приходит отдать дань почтения умершему, но таких мало, люди приходят выказать почтение живым. Учитывая положение моего отца, желающих выказать соболезнования могущественному Хачику оказалось изрядно.
Некоторые из обрядов вызывали у меня и сестер нервические смешки, за которыми мы прятали наш страх и неловкость за взрослых. Мы лучше папы и даже лучше бабушки чувствовали фальшь в голосах и позах многих гостей.
От нашего дома траурная процессия, возглавляемая духовым оркестром, направилась к широкой улице, движение по которой временно приостановили дружественные папе милиционеры. Из уважения, конечно, к Хачику. За оркестром шли мы – дети, руки затекли от тяжелых охапок гвоздик. Оркестр чудовищно фальшивил, и мы едва сдерживались, чтобы не морщиться, не прыснуть от декоративной искусственности происходящего. Но лица наши, согласно ситуации, полиняли до скорбной отрешенности. За детьми шли Хачик с Люсей, поддерживая бабушку с обеих сторон. Они практически волокли ее, неожиданно ставшую крохотной и почти невесомой. Открытый гроб с телом нашего дедушки несли двадцать шесть здоровенных мужиков с траурными ленточками на рукавах. Среди них были замечены безумный Гагик со своими подельниками и другие серьезные люди с загадочными биографиями и репутацией. За гробом шествовали родственники, которым посчастливилось нести немногочисленные трудовые награды Серго на атласных подушечках, а также его бессменную фетровую шляпу. А уж за ними брели соболезнующие и примкнувшие к соболезнующим – соседи, сослуживцы соседей, дальняя родня сослуживцев соседей – цепная реакция почтения. В толпе была пара-другая плакальщиц. Кто их пригласил, я не знаю, очевидно, они добровольно являлись на похороны в надежде на наживу. Начал накрапывать дождь.
Улица текла под гору. На перекрестке, возле трамвайной остановки, где скопились зеваки и раздраженные обыватели, которые не могли понять, почему же битый час нет транспорта, гроб закрыли. Обыватели немедленно перестали раздражаться – у людей горе, все это у нас понимают. Загрузились в «Икарусы», поехали на кладбище.
Папа мой был молчалив, но глаза его мерцали сухим недобрым огоньком. Мама плакала только тогда, когда не видела бабушка. Бабушка плакала не переставая. Мы с сестрами устроились на заднем сиденье и искрометно комментировали происходящее.
Шел проливной дождь. Возле вырытой накануне ямы трагически надрывался ансамбль народных инструментов – оркестр, выполнив свою публичную функцию, был отпущен восвояси. Люди у нас гордые, и почему-то никто не решился открыть зонт. Что подумают окружающие, что подумает многоуважаемый Хачик! Вдруг он решит, что мы ничем не хотим пожертвовать ради него, даже дождя убоялись. Начались речи. Мы с сестрицами уже пребывали между непроходимой смеховой истерикой и подростковым глумлением над традициями.
– О, этот чудный человек…
– Великий труженик…
– Покинул нас сегодня один из величайших мудрецов человечества…
– Дорогой Хачик, твою семью постигла великая утрата, и опереться ты можешь на нас на всех…
– Хачик, я не знал твоего отца, но я знаю тебя. Человек, воспитавший такого человека, он настоящий человек…
И все в таком духе. Дождь не прекращался. Я с восхищением наблюдал, как дедушкин гроб наполнялся водой. Ходил поп с кадилом. Бурчал молитву и тоже выкладывался по полной – в знак уважения к многоуважаемому Хачику. Скорбящие из первых рядов с ужасом стали замечать, что крохотный старичок в гробу несколько приподнялся – пропорционально уровню воды. Священник, вдохновленный сам собой и предстоящими барышами, запел псалом, выводил скорбный канон чистым тенором. Он запрокинул лицо к небесам, подставив его под дождевые струи, и прикрыл глаза. В разверстых хлябях он усматривал смысл и втайне надеялся, что это именно с ним говорят небеса. Но зрители уже перестали слушать своего духовного пастыря и с интересом стали наблюдать, как в гробу всплывало маленькое, как изюминка, сморщенное тело моего дедушки. Моя мама тревожно посматривала мужа, но Хачик молчал, будто все это его уже не касалось. Поп заливался райской птицей. Из странного варева, созданного из напускного почтения, любопытства «чем дело кончится» и одухотворенного оцепенения, всех вдруг вывел голос, раздавшийся из задних рядов:
– Батя, кончай свой концерт. Дедушка ведь в компот превратится.
Все обернулись, чтобы увидеть, кто это сказал, и после паузы грохнули от смеха.
И даже папа.
Осталось только заколотить дом. Мы почти ничего не взяли. То, что было дорого маме, уместилось в одну коробку – фотографии, первые выпавшие молочные зубы детей, прядки волос и старинный головной убор – подарок одной деревенской старухи. Папа взял с собой портрет дона Корлеоне, пейзажик, подаренный тестем на свадьбу, потрепанный том Марио Пьюзо и пару своих итальянских красавиц – тех самых босоножек, что помогли Хачику стать уважаемым человеком. Бабушка была еще лаконичней – старинный молитвослов, сонник и травник в одной книге. А в остальном она доверяла маме.
Правда, потом караван из деталей роскошной мебели и пышного аляповатого фарфора еще пару лет продолжал тянуться через смущающие воображение пространства России из нашей затесавшейся меж каменных зубьев Армении. Мы давным-давно обзавелись другой мебелью, ели из другой посуды. Но контейнеры все приходили, они всё двигались и двигались в северо-западном направлении с неутомимой суровостью перелетных птиц. Как раз последний предмет обихода пришел к нам, когда мы вновь упаковывали коробки, но это уже другая история…
Питер. Первый взгляд
На этом детство кончилось. Я подсчитал убытки, но записывать не стал. Не стал предъявлять счетов, так как в те времена еще не знал, кому их обычно нужно сунуть в рожу. Бога я тогда знал только одного – папу своего Хачика Бовяна. А если бы верил в другого, пришлось бы встать в длинную очередь недовольных.
Все получилось как-то бессмысленно, по-дурацки как-то получилось… Зачем нужно было переезжать посреди мрачной осени в холодный и темный город? В чем вообще был резон, ехать в плывущий в туманной луже Петербург, вместо того чтобы водвориться в шумную и веселую Москву? Москва была бы в нашем случае оптимальным решением – в конце концов, она находилась южнее Петербурга, незначительно, но все же. В родительском решении читалась какая-то необъяснимая обида на все подряд, и почему-то на столицу Российской Федерации, хотя для Хачика Бовяна Москва еще не успела развернуться худшей своей стороной, то есть вообще еще не успела зарекомендовать себя, но он решил наказать ее тем, что проехал мимо. Не знаю, как эту измену перенесла русская столица, но я был обижен, я был по-настоящему обижен, когда увидел из окна серые здания и пепельное небо. Самым ярким цветовым пятном оказался черный силуэт голого дерева. Оно торчало – неправдоподобно одинокое и неправдоподобно голое, бессмысленно болталось от ветра, и мне пришлось отвернуться – от обиды. Я не хотел рассматривать его, не хотел видеть пластиковый пакет, который трепал ветер, не хотел видеть ржавую лужу, которую вылил из берегов проехавший на скорости автомобиль. Не хочу видеть, не хочу запоминать, не хочу записывать. Больше ничего не буду писать, а уж тем более про отца, который нас сюда приволок. Если все это серое нечто должно стать частью моей жизни, то лучше перестать замечать детали. К чему подробности, если каждая из них забивает очередной маленький гвоздик в гроб твоих надежд?!
И хоть я и клался себе, что никогда больше не притронусь к семейной летописи, но вечером я так и написал в своем дневнике – общей тетради под номером ТРИ. Я написал: «Голый клен забил гвоздь в гроб моих надежд». Через несколько лет я пытался припомнить, почему мои надежды оказались в гробу или, того хуже, гробом, но так и не смог. Мрачная метафора, очевидно, была навеяна недавними похоронами дедушки, не иначе.
Где блистательный Невский проспект? Где величавый изгиб Невы? Где строгий и ажурный одновременно Зимний дворец? Золотые вертикали шпилей Адмиралтейства и Петропавловской крепости? Где все, что мы видели в альбомах и путеводителях? Так я раз и навсегда понял, что под одним именем на этой возмутительно плоской вертикали живут два города, два существа. Как оказалось позже, одно из них неохотно отзывается на свое имя. Неотесанный и обиженный этот Питер предместий иногда выливался, как наводнение, на улицы настоящего города – во время городских праздников и футбольных матчей, и высокие сумеречные окна домов темнели еще больше… Во всем этом я начал ориентироваться позже, а пока я просто лелеял свою обиду на родителей.
Все-таки это было странно. Зачем мы приехали сюда? У нас ведь не было проблемы выживания. В армянских горах просто жили, и жили неплохо. Если и стоило двигаться дальше, то навстречу к новому уровню процветания. Так думалось мне, но папа решил иначе, не уступив посулам Москвы и остановив свой выбор на бывшей столице. И уж конечно было бессмысленно выбрать жизнью окраину этого города. Это означало навсегда убить в себе любовь к прекрасному городу. Купчино убивает любовь. Я смотрел на крыши, они неестественно ядовито блестели – новое кровельное железо отдавало мертвым блеском…
Второе утро было солнечным и ветреным – тучи то приоткрывали солнце, давая простор лучам, то вновь закрывали его. Но большие куски неба все же оставались чистыми, пронзительно голубыми. Мне было мучительно жаль и сестер, и себя, и это небо. Да, второе утро было другим. Оно заронило чувство, которое уже трудно было вытравить из сердца. Мы с Маринкой и Светкой решились выйти на вольный выпас, осмотреться. Улица наша оказалась невероятно длинной и злодейски широкой – у нас в Ереване даже главный проспект, имени Ленина, конечно, не был так широк. Мы стояли и, открыв рот, смотрели, как несутся машины и троллейбусы, как бредут люди, как у магазина толкутся корявенькие и морщинистые мужички. Все они были навечно пьяными и навечно злыми и, сколько бы ни тянулась их персональная «вечность», – вышучивали все вокруг. Мы стояли на тротуаре и думали, как выполнить мамину, застигшую нас в дверях, просьбу – дойти до магазина и купить продуктов. Очевидно, это было сказано в педагогических целях, мол, осваивайтесь, дорогие дети, переходите от выдувающих поступок рефлексий прямехонько к действию. В общем-то ничего сложного в ее поручении не было – сыр, молоко, возможно, что-то к чаю. Для этого нужно было разобраться в новых для глаз упаковках, понять, может ли быть вкусным втиснутый в пластик кусок желтоватой, подозрительно однородной массы, которую называют здесь сыром, для этого нужно было понять условный язык денежных символов, а для начала пройти через мужиков-пересмешников.
– Почему они там стоят? – угрюмо спросила Марина. – У них что, дел нету?
– Стоят себе и стоят. – Света старалась быть взрослой и рассудительной. – Нам-то что?
– Ну и иди, если тебе все равно.
– Нам всем мама сказала пойти, – отбилась Света от сестры. – Она никого не выделила.
– А как ты думаешь, что значит «чувилосран»? – спросила меня Марина, предчувствуя нечто не слишком добросердечное, зацепившееся за шершавые звуки в незнакомых словах загорелого не по сезону мужика. Очевидно, она обратилась ко мне, как к человеку паче других приблизившемуся к роковой черте греха, – мне ведь попадало чаще других за всякого рода глупости… Но даже я, несмотря на свою «испорченность», даже я не знал, что это такое.
Я покачал головой. У меня не было никаких версий. И даже то, что впоследствии превратилось в понятое и осознанное, искусно отточенное по ритму и энергетике словосочетание «чувило сраный», все равно все еще носит привкус того первого звучания. Первый «чувилосран» был страной, прибежищем каких-то мутных и туповатых жителей. У них вечно пустые руки и головы, у них нет пар, они всегда одиноки, и скорее всего потому, что их беспокойный интерес лежал в какой-то другой области.
Через мужиков спокойно шли усталые с самого утра женщины с мятыми сумками. И даже дети их не боялись, привычно расталкивая или привычно огибая. И только мы нерешительно мялись в двадцати шагах от магазина. Может быть, они для нас там стояли – эти нелепые стражи магазина, первой ступени нашего российского испытания? Шайка выродившихся Керберов-попрошаек, ждущих то ли работы, то ли жалости. У меня же они вызывали необъяснимую странную брезгливость. С тех пор я каждый раз испытываю странное чувство вины, когда что-либо, а тем более нечто одушевленное, вызывает у меня брезгливость. А пока это чувство только зарождалось во мне, я оглянулся, пытаясь все-таки понять, что за мир нам предстоит покорить. Обратного хода не предусматривалось.
Утро было прозрачным, оно высветило стекла высоких магазинных окон, превратив грязь на стеклах в благородную сталь. А я в этот момент все еще мог остановить порочный и мучительный процесс сравнения – я все в России стал сравнивать с моим потерянным каменным раем, моим сердцем, моей крохотной державой – со своим армянским детством.
По сравнению с ним все было тусклым, все было предательски сложным. Да ведь и утро у нас совсем не такое! Оно поднимается от колючей прохлады и стоит густым сладким маревом, чтобы потом поплыть неспешным и целепримеченным днем. Но первый питерский день не дал мне счастливой возможности связать части моей собственной жизни. Потому что принцип жизни в России – это чрезвычайное «вдруг»!
Итак, вдруг с пугающим визгом пронеслась по тротуару машина, вырулив откуда-то из глубины квартала, из неведомых мне дворов. Вырулила и сбила мирно бредущую пожилую женщину. Совсем рядом с нами. Сбила и… проехала мимо. Совсем рядом с нами. Это-то и вывело нас из оцепенения. Вернее, не само событие, а то, что произошло сразу после, а еще вернее, то, что НЕ ПРОИЗОШЛО. Из машины донесся обрывок песни: «Я стою на переходе, из меня любовь выходит…» В общем-то, получилась почти истинная правда – старушка даром что не стояла, а прилепилась щекой к тротуару, будто это любимый ее муж, которого она не хочет отпускать на войну, и из нее вытекали, действительно уходили силы. Женщина тихо охала.
Несколько секунд вообще ничего не происходило. Мужики отбрасывали тени у магазина, тщетно пытаясь воссоединиться с ними, женщины, скользнув взглядом по внезапно образовавшейся неровности на дороге, брели дальше со своими покупками. Мужчина в очках обернулся, скользнул взглядом, но мало ли почему женщина с милым лицом устроилась в неудобной позе возле кучи палых листьев с навязчивым запахом гнильцы. Прошел мимо. Проходили мимо. А мы стоим… Секунды прибираются в горстку. И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!
И тут раздался крик, в общем-то вопль – высокий, как взмывающая в воздух лодка-качель на несмазанных аттракционах в городском парке. Это кричала моя младшая сестра Марина. Зачем кричала? От страха. От растерянного непонимания, что делать нам, и почему никто не бросился помочь этой женщине? Крик чужой девочки вроде бы разбудил людей. Они побежали, сначала небыстро, а потом даже набирая темп. Даже мужики у магазина выдвинулись в поход на помощь, правда, их тени, кажется, остались стоять на месте. Люди встрепенулись, забегали. Кто-то устремился к парикмахерской, позвонить. Кто-то стал утешать пострадавшую, пихать ей валидол. Стали уверять, что хулиганов, разъезжающих по проезжей части, хорошо знают и номер их машины немедленно сообщат милиции. Доколе?! Хватит! Проснулась и сама пострадавшая. Ее голос, до того воплощавшийся в слабых стонах, окреп и приобрел уже характер коротких и настойчивых криков боли. Возможно, это была спекулятивная психологическая реакция пострадавшей на внезапное внимание окружающих, а может, и простая попытка перекричать плотный гомон окружающих. У женщины оказался перелом, что и констатировала приехавшая скорая помощь.
Внезапно встрепенулась моя сестрица Марина. Она собралась и, наметив цель – тени мужиков у входа, решительно устремилась к магазину.
– Так! К черту! К черту их! К черту их всех!
Марина отодвинула мужиков, которые повесили свое удивление на собственные тени и посторонились, прикрепившись к стене. Они пропустили девчонку и ее свиту без единого комментария, без похабной шутки или наглой просьбы. Света, умевшая пользоваться обретениями и победами старших, победоносно оглядела алкашей. Марина вошла в магазин, а мы за ней, не понимая, что происходит с сестрой и что будет с нами.
Марина швырнула на прилавок деньги, в номинальных достоинствах которых ничего не понимала. Она бросила их с таким видом, будто она всю жизнь этим только и занимается – покупками в российском магазине. Она ткнула пальцем в продукты, щелкнула пальцем и сказала:
– Лучшее, – и протянула продавщице список нашей мамы.
Получив продукты, мама была довольна нами…
Адаптация
Я категорически запретил себе сравнивать – неважно, что и с чем бы я сопоставлял, все равно все бы я вычесывал настоящее из хрупкой его ткани. Оставлял бы только прошлое, неповторимое и уже сгинувшее. Время тянулось как пытка. У нас с сестрами были светлые волосы, армянские фамилии и чудовищный акцент. Никто толком не понимал, кто мы. Питерская школа с углубленным изучением английского языка была озадачена целиком, вместе с гардеробщицей Леонидой Ильиничной и обитателями зооуголка. Еще не настало время тотального беженства или великого переселения Азии на Запад. Еще не выветрились из голов старшего поколения уроки интернационализма, а в младшем еще не зародились смутные подозрения, что эти новоявленные чужаки – враждебные захватчики.
День за днем мы осваивались в новых для нас обстоятельствах. Сам я себе напоминал выздоравливающего от тяжкой болезни – сегодня я присел на постели, сделал на шаг больше, шевелил пальцами руки. Я чувствовал себя инвалидом. И, что очевидно, был им. Моя невольная ущербность проявлялась во всем. Я сбегал с последних уроков, потому что точно знал, что мое отсутствие никто и не заметит. Я не понимал анекдотов, которые мне рассказывали, не понимал специфического языка, на котором излагались нехитрые истории моих новых товарищей. Шутил сам и не видел отклика, потому сам первый начинал смеяться над ними – невпопад, стыдливо. Сообразив, что никогда не стану душой компании, ушел в себя и предавался мрачным идеям о побеге обратно в Армению.
Мне все время казалось, что наша жизнь стала состоять из пустяков и мелочей, хотя кажется, что на новом месте людей ждут великие свершения, открытия, сродни эпохальным, динамические вехи, схожие с тектоническими сдвигами почвы, в результате которых возникает новый континент или вымирает целый вид млекопитающих. Но нет. Удивительное дело, в великой стране люди жили мелкими победами и горестными поражениями, постоянно озираясь в поисках злокозненного виноватого. Восток, так тяготеющий к эстетизму и придающий огромное значение внешнему обличью предметов, а не их этической сути, стал мне казаться не просто потерянной родиной. Теперь – издали – он казался уничтоженной Александрийской библиотекой, Великой Троей, все еще пахнущей пожаром и не отрытой, никогда не обнаруженной Шлиманом. Здесь – в России, в Питере – все было иначе. Люди, предметы, здания – между ними не было никакой видимой связи, в лучшем случае находились реалистические мотивировки отдельно взятого поступка. В лучшем, потому что поступок не существовал во взаимодействии с другими действиями других людей. События делились на время и на самих себя.
Я смотрел на отца и не понимал, чего он ждет. Его бездействие приносило страдания мне – его сыну, его законному наследнику. Папа вроде бы не замечал этого, а мне казалось, не замечал меня. Мне казалось, что это и есть смерть, что я вот-вот умру, а папа так и не заметит этого.
А отец примерялся к действительности. Ни словом, ни делом он не выдал своего бывшего уважаемого положения на покинутой родине. Да и что бы он рассказал? Самопровозглашенный дон без армии, без последователей, без врагов. Но, вполне возможно, папа вел себя как профессиональный разведчик, засланный в стан врага. Я сам придумал ему задание. Он должен был разузнать, как тут относятся к чужакам, разведать, что о них говорят, как эти люди обращаются с такими, как он, – то есть с теми, кто не может выстрелить, но никогда не останется в стороне.
Единственное, что украсило наше жилище на первых порах, был немедленно распакованный портрет Марлона Брандо в золоченой раме. С тех пор я и мои сестры очень уважаем этого человека – из благодарности за то, что он заполнил тягостную пустоту новоселья. А когда мистер Брандо умер, мы, сложившись, заказали заупокойный молебен. Ведь его портрет в роли дона Корлеоне перекинул мосток от покинутого нами благополучия в неведомую и так мало похожую на реальность жизнь. Брандо-Корлеоне не дал забыть и нашему папе, что он еще не выполнил своего жизненного предназначения – так и не стал настоящим доном. Каждый день, встречаясь глазами с прибитым к стенке Марлоном Брандо, я умолял его не опускать твердого ироничного взгляда, сверлить им папин затылок, спину или лоб, что там окажется в поле зрения всемогущего дона. Может быть, взгляд этот пробудит папашу к действию, и он снова замыслит такое, что вывернет нас из рутины обыденности. А ведь я всерьез полагал, что папа присягнул на портрете, что дана им торжественная клятва, которую Хачик непременно выполнит, а иначе да покроется неизгладимым позором его теряющая густоту темноволосая голова! Ведь настоящий Отец всегда выполняет свои обещания!
Потом и мама повесила на стену пейзаж кисти нашего русского дедушки – мирная армянская деревня плыла в подоле горы, а мы в то время еще не появились на свет, видимо, где-то витали вокруг… Может быть, вот этот листик – я? А стрекоза на коряге – моя сестрица Марина? А в тени от смоковницы нетрудно разгадать силуэт Светы. Она любила присесть прямо на траву возле тропинки и выковыривать занозу из ноги. Я подолгу стоял возле этой картины. Но вот парадокс: чем дольше я всматривался в нее, тем всё более незнакомой, чужой мне казалась изображенная на полотне идиллистическая пастораль. С возрастающим трудом я находил здесь знакомые приметы быта, поэтому начал их додумывать, сочиняя другую, несуществующую реальность. Что это за дерево? Должна быть смоковница, а похоже на кизиловое. А почему у ослика такой хитрый прищур? Он должен быть печальным созданием. Что это делает старушка? Кажется, что взбивает шерсть, а я был уверен, что мелет муку каменным жерновом. Прошлое изменялось, потому что нет ничего недостовернее воспоминаний. А когда я вдруг заметил, что мои сестры не слишком часто подходили к дедушкиному пейзажу, я понял – они не тоскуют. У девчонок механизм выживания сколочен плотнее. Чтобы двигаться дальше, я должен был выбраться из узкой щели, которая звалась «между». И я старался. Брал пример с сестер, но они, конечно же, не должны были об этом догадаться. Я брал пример с мамы, хотя ей казалось, что она живет, как и раньше, и в ее поведении нет ничего выдающегося. Но я хотел равняться на отца, который перестал думать, что судьба – это для кого-то другого.
Я уже тогда вовсю марал бумагу, записывая приключения моего отца, но в основном их выдумывал. Правдивые истории, долетавшие до меня краем, превращались в моих тетрадках в подобие романов плаща и шпаги, где мой отец представал героем и низвергателем мирового зла, эдакой помесью Робин Гуда и д’Артаньяна. Капитана Немо и капитана Блада… Тогда еще я не имел чести быть знакомым с Ахиллом, Энеем, Гектором и слишком смутно представлял себе даже короля Артура. Но даже все эти герои вместе не смогли бы отра зить все мое уважение к Хачику и весь мой трепет, всю мою любовь и всё – целиком – мое доверие. Поэтому мой собственный сокрушительный провал я переживал каким-то странным образом – в одиночестве, в обособленном уничижении, изолировавшись от своей семьи. Я потерял рай своего деревенского детства, затем и суетливый, но гармоничный мирок большого города (других я тогда не знал и поэтому Ереван считал огромным) – крошечный Вавилон, осколки которого все еще живы в каждом восточном скопище, сбивающем с толку запахами, голосами и красками. Я так страдал, почти не отдавая себе отчета в том, что точно так же могут усыхать от тоски мои сестрицы. Но они не казались мне несчастными. Очевидно, запас наивного доверия к жизни в них был заложен чуть больший, чем было отпущено мне…
Папа посматривал в окно и чего-то ждал. Наконец он дождался. В квартире раздался первый звонок. Я увидел блеск в его глазах и понял: дон Хачик возвращается к себе. Послушав собеседника, пару раз хмыкнув в ответ, он положил трубку и сказал мне:
– Поедем со мной.
Я, уже отчаявшийся найти в моей обыденной жизни развлечения, которыми изобиловал мой южный быт, взвился от радости. Мама поправила мне воротничок рубашки под курткой, самолично поправила шарф, и мы с отцом пошли.
Внизу ждала машина. Я в нерешительности топтался возле, пока папа и водитель тепло, хоть и не без церемоний приветствовали друг друга. Обнимались, похлопывали друг друга по плечам. Мне даже показалось, что определенное количество раз – может, в этих хлопках был заложен тайный код неизвестного мне ритуала.
Водитель, которого звали Алик Сумбатов, повез нас куда-то, и я впервые увидел город. Не наши серые купчинские кварталы, похожие на корабли-призраки, следующие куда-то из советского картонного равноденствия в длинное, почти бесконечное небытие. А настоящий город, миф и прекрасная смерть которого некоторое время даже вдохновляли меня. Он провез нас по мостам, проспектам, мимо дворцов и домов, которые казались дворцами. Проделав этот туристический вояж, мы вернулись в новостройки. Оказалось, в свой же район.
Огромный ангар, размерами не уступающий заводскому цеху, был абсолютно пуст.
– Мы тут все убрали, – сказал Алик.
Мимо прошмыгнула крыса.
– Хорошо, – кивнул отец. И неожиданно обратился ко мне: – Как тебе?
Я растерялся. Я не знал, что ответить. Не знал, чего он от меня ждет.
– Холодно, – шмыгнул я носом и, засунув руки в карманы, поднял плечи.
Хачик же неожиданно обрадовался.
– Холодно! Да, холодно! Правильно, сын. А вот закипит работа, и станет жарко.
Засыпая вечером и глядя в темное окно, я вспоминал строки из «Крестного отца»:
«До войны Майкл был его любимцем, и, без сомнений, именно ему предполагалось передать в должный час бразды правления семейными делами. Он в полной мере обладал той спокойной силой, тем умом, каким славился его отец – врожденной силой избирать такой способ действия, что люди невольно начинают его уважать».
Неужели это и обо мне? Неужели Хачик, как и Вито своему сыну, доверяет мне и сделает со временем преемником? Ну конечно мне, конечно меня. Кого же еще? Значит, я должен соответствовать его чаяниям. Я должен стать достойным, если уж стал избранным. Я заснул, пытаясь удержать в памяти возникшие в засыпающем сознании сценарии своих побед.
Будни
Папа купил «мерседес», и бабули на скамейках у подъезда впервые назвали его «новый русский». Папа не обиделся. Наверное, ему это даже льстило.
У отца тоже появились проблемы, с которыми ему предстояло сражаться. И он снова почувствовал себя счастливым. Бывали моменты, когда он просто-таки светился счастьем. Например, когда лопнула труба. Или когда рабочие отказались поднимать наверх тяжелый шкаф. Особенно он просветлел тогда, когда кто-то разул его «мерседес»: за ночь были сняты колеса, дворники, зеркала и с мясом вырвана вся музыкальная техника. Бабули у подъезда начали было торжествовать победу социальной справедливости, однако озадаченно замолчали, когда увидели, как отец в прекрасном расположении духа, напевая что-то на тарабарском языке, сметает веничком осколки разбитого стекла.
Бабушек тех отец очень любил. Одарил всех пестрыми шейными платочками к Восьмому марта, покупал рыбу их многочисленным котам и очень расстроился, когда мама сказала, что рыбу эту старухи варят себе.
– Не искушай людей. Ты треску котам покупаешь, вот они и шуршат по углам, что, мол, черный новый русский совсем зажрался.
– Какие бедные, какие бедные… – причитал отец, будто не слышал, что не о них речь, а о нем.
Мама сокрушенно вздыхала.
– Всех ты не накормишь, а люди, вместо того чтобы благодарить, станут завидовать.
Но папа легкомысленно отвечал:
– Пусть завидуют. Хоть позеленеют от зависти. Зависть не пожар, тушить не надо.
– Хачик, они не просто зеленеют! Отчаявшиеся люди, кстати, могут и поджечь.
Но папа снисходительно махал рукой. Он не произносил клишированного и давно уже обесцененного «молчи, женщина», потому что он так никогда не думал. Но Хачик давал понять, что в его духовных кущах, в его заповедных владениях никто никого жечь не будет!
– Не произойдет беды, Люся, – строго оповещал папа.
Теперь уже мама была вынуждена махнуть рукой. Нет, неисправим ее Хачик. Никогда не расстанется с мечтой о всеобщем благоденствии.
А старухи действительно шептались, заряжая воздух вокруг тяжкими пророчествами. Они чуяли горе государственного масштаба во внезапном появлении чужаков. И были старухи, в сущности, правы – перемены никогда не бывают к лучшему. Тетя Валя, пожилая скандалистка с отчетливыми признаками паранойи, вечно собирала вокруг себя народ. По любому поводу ей удавалось привлечь к себе внимание окружающих. Улица, двор, сберкасса – все становилось для нее трибуной. Но иногда она сочила свой яд напрямую. Теперь вот она наклонилась к уху собеседницы и жарко шептала, будто делилась непристойными подробностями бурной своей жизни, похожей на разрозненные страницы советского песенника:
– Из собеса шла, и что-то давление подскочило, схватило так нехорошо. А я забыла, куда иду-то. Тут я на урну мусорную присела, думаю, все, умру. Так не умерла…
Так и было. Ничего не придумала старуха.
Она шла из собеса, и вдруг, действительно, голова закружилась, она присела на мусорную урну.
– Ничего, ничего. Сейчас посижу чуток и дальше пойду, – сказала она самой себе, поскольку на улице и не было вроде никого, а те, кто и были, казались прикрепленными к воздуху, как тени в кино. Помнит ведь, ходила раньше в кинотеатр «Слава» смотреть «Сладкую женщину». Ой, и что вспомнила?
Но тут остановилась большая черная машина. В блеске ее налаченного борта бабка увидела свое искаженное отражение и подумала, что это сам ангел смерти пришел. Обе двери открылись, и выскочили двое, что еще больше напугало тетю Валю. Но человеческие голоса вернули несчастную к реальности. Это были мои отец и мать.
– Сам-то выходит из машины, и жена его выходит, – продолжала тетя. – Меня вперед сажают, а жена-то назад садится. Вот как. Место мне уступает. А я говорю, склероз у меня. Не помню, куда я шла. Помню, что из собеса. А вот куда? А он говорит: «Вы, говорит, мама, в моем подъезде живете. Вот туда я вас и доставлю». А я про себя думаю, какая я тебе мама, нежить некрещеная?
– Армяне – христиане, – назидательно поясняла Вера Викторовна, геолог в отставке, искавшая в Армении газ, а нашедшая залежи обсидиана и многолетний слезоточивый роман с женатым инженером, который исправно приезжал два раза в год в туманный Петербург выяснять отношения с темпераментной геологиней.
– Но домой-то доставил? – поинтересовалась Маргарита Сергеевна, бывший учитель математики.
– Доставил, черножопый, – как-то мстительно ответила тетя Валя, будто заставила Хачика ехать не к собственному подъезду, а куда-нибудь в район Всеволожска. – И домой сопроводил. А жена его мне бульону принесла. И помидорчики.
– И помидорчики… – эхом отозвалась геологиня Вера Викторовна. – Помидорчики… – Она задумалась. Или предалась воспоминаниям о сильно потеющем армянском инженере.
Маргарита Сергеевна порылась в сумочке и, достав пудреницу, погляделась в зеркало.
– Но жена-то у него русская?
– Похоже.
– Ни на что не похоже. Одна хрень кругом! – внезапно встрепенулась тетя Валя. – Что армян, что туркмен – по мне разницы нет. Мне товарищ Ленин завещал пятнадцать республик-сестер. И я их берегла. Товарищ Сталин мне наказал держаться за руки и не опускать ладоней от лба. И я не отпускала, я держалась. А теперь что, пропадай страна?! Все! Просрали! Уничтожили! А мне каково?! Я верила, я песни пела… – Трагическое контральто тети Вали разлилось по двору. Воробьи вспорхнули с веток, кошка шмыгнула под днище машины, с дерева опали последние листья, пошел снег.
И только моя бабушка, вышедшая во двор осмотреться, осталась равнодушной к этому вдохновенному искреннему монологу. Она все еще делала вид, что плохо понимает по-русски. (К слову сказать, ни с одной из этих пожилых женщин моя бабушка так и не сдружилась. Справившись с тоской по деду, она вдруг решила, что со старичьем ей совсем неинтересно, и завела в друзья молодых соседей, но об этом я еще успею рассказать.)
К концу первого нашего года в Питере на самой окраине Купчино, в свежевыкрашенном ангаре уже вовсю работала фабрика отца. Делал он теперь не только обувь. Но и сумки, ремни, коврики для ванн, автомобильные чехлы и еще много всякой всячины. На этом бы остановиться. Воспеть новое время, минуя перипетии с денежными реформами и лопнувшими трастовыми фондами, с пальбой на питерских улицах и бесконечными похоронами каких-то незнакомых нам с сестрами людей в возрасте от восемнадцати до тридцати шести лет. Но нет, не перешагнешь… Слишком часто кричал отец в телефонную трубку:
– Кто теперь?! Не может быть!
Слишком часто соболезновал черным, как горе, пожилым и серым, как тоска, молодым женщинам и прибивал к их стенам гвозди для траурных фотографий. А потом, вернувшись домой, запирался у себя в кабинете. Садился перед здоровенным, в тяжелой золоченной раме портретом Марлона Брандо в роли дона Корлеоне из знаменитого американского фильма «Крестный отец» и часами смотрел ему в глаза. Самозабвенно глядел, как будто тягался с масляно-красочным Корлеоне в детской забаве – кто кого переглядит, до первого взмаха ресниц. Но нет. Эту игру Корлеоне-Брандо всегда выигрывал, а папины глаза от напряжения начинали слезиться, словно кто-то бросил ему в лицо горсть песка. Он часто-часто и беспомощно моргал, точно стеснялся этих слез. Я наверняка знал, что он плакал. А Дону Брандо было хоть бы хны. И не стыдно вовсе, что заморочил человеку голову – сказал: «Ты герой! Ты можешь им быть. Им может стать всякий, кто захочет, кто превозможет собственные пределы и выйдет из себя, как из темной комнаты». Но папа медлил, а Дон продолжал улыбаться одними морщинками.
Я не особенно вникал в происходящее, не говоря уже о моих сестрах. Им, в отличие от меня, в России понравилось. Особенно решительной и деятельной Свете. Худенькая Марина находилась пока еще под влиянием старшей сестры. И потому собственных страданий еще не заработала.
Ну, значит, война…
Мой папа всегда был сапожником. Даже в те времена, когда он уже не шил обувь, он ее продавал, придумывал, пристрастно контролировал качество и работу тех, кто продолжал свой ручной крестовый поход против высоких технологий, то есть тех, кто, попросту говоря, пахал на Хачика Бовяна. Он очень хотел оставаться сапожником и даже имел на это право. Он доказал – в великой схватке с собственной судьбой обычный человечишка способен вести счет. Но наступила другая эра – великих мешочных походов за моря и границы – в Китай, Турцию, Польшу и другие неведомые еще места. Шить обувь в России оказалось нерентабельно. А тех, кто мог купить себе пару обуви ручной работы за какой-нибудь десяток тысяч долларов, в окружении отца вроде бы не было. Да и сам Хачик Бовян так и не стал брендом – ни на ремесленном поприще, ни на криминальном.
Что ж, папа, как всегда, не стал ломать обстоятельства, он просто сумел постараться и уловить нужный момент, как серфингист волну. Туфли туфлями, но и жить как-то нужно. Так началась великая челночная эра. Хачик сколотил прочный коллектив, состоящий в основном из крепких бабёшек – женщин лет сорока – сорока пяти, бывших библиотекарей, учителей, инженеров и даже одной особы с научной степенью – кандидата экономических наук. Они стали ездить на специальных автобусах в самое близкое, даже ближайшее к нам «зарубежье», то есть в финский город Лаппеэнранта. Оттуда везли хозяйственную ерунду, порошки, мыла, сумки, кое-что для личной гигиены, подушки, одеяла, сумки на колесах, ну и прочее, бытовое и копеечное. Мужчины почему-то этой работы не выдерживали. Автобусы – поначалу их было всего два, – закупленные отцом, пользовались популярностью. Они были чуть удобней и намного чище, чем автобусы обычных перевозчиков. В путешествия стали напрашиваться и другие челноки. Пришлось прикупить еще пару автобусов, а потом и еще. Так, почти не заметив этого, отец стал хозяином транспортной компании. Он заботился о многих и теперь думал, что он окончательно стал доном Корлеоне, который достиг уважения, не пролив ни капли крови. Тот эпизод в Душанбе, куда были посланы его верные воины – троица из сумасшедшего дома, – он постарался не то чтобы забыть, но поместил в памяти отдельно от всего остального. И вновь ошибся. Вернее, поспешил с выводами.
Однажды произошло страшное. На темной дороге автобус отца затормозил. Была ночь, и женщины не обратили на это особого внимания. Многие спали. Возможно, водителю дяде Саше показалось, что он наехал на что-то. Машину действительно повело в сторону, и он, молодчина, вовремя остановился. Вышел, посмотрел и не поверил своим глазам: проколы были по всем четырем колесам. Метров за двадцать от раненой машины обнаружился и виновник чрезвычайного происшествия – лента шипастого «ежа». Дядя Саша тихо выматерился и поднялся с корточек. И тут его голова встретилась с чем-то безжалостно твердым, и водитель потерял сознание. Он упал лицом в мокрый асфальт, в опасной близости от шипа.
Несколько человек, сравнительно молодых и безусловно жестоких, в темных тренировочных костюмах и вязаных шапочках, надвинутых на самые брови, вошли в салон автобуса. Один выстрел в потолок, пробивший крышу автобуса, немедленно сигнализировал пассажиркам, что к чему. Во всяком случае, так казалось бандитам. Определив приоритеты, налетчики легко справились с беспомощными женщинами. Челночницы были обобраны до нитки. Бандиты захватили не только папин товар, но и обобрали бедных женщин, сняв с них кольца и серьги, выпотрошили кошельки, сгребая жалкие деньги. Они взяли даже дешевенькие часы, у кого были, и пару редких в массе мобильных телефонов.
Хачик покрыл расходы. Не то чтобы безропотно, но без всяких внешних эмоций. Выплатил женщинам жалованье, шоферу лечение, остальное было его прямым убытком. Так и записал – «потеря товара по обстоятельствам чужого злоумышления». То есть не сам, конечно, записал, а велел бухгалтеру.
– Так не говорят, – сказала мама.
– Так не делают, – ответил отец.
Вроде бы замялось дело. Но ограбление повторилось.
Пережившая его уже однажды кандидатша экономических наук громко возмутилась:
– Опять?! Я тебя запомнила, гнида. – В своем обращении женщина решила использовать далеко не академический лексикон. И это были ее последние слова.
Очередь из автоматического пистолета прервала не только ее речь, но и жизнь. Очередь полоснула по животу кандидатши, зацепила по ходу еще пару человек.
Бандитская доля, она такая – первая кровь всегда бывает первой, но последняя, как правило, твоя. Этого те мальчики в черных шапочках еще не знали.
Хачик был потрясен. В Армении мы крови не видели. Там был кукольный театр. Здесь – гладиаторские бои. И готов ли ученик дона Корлеоне к войне, должно было показать не время – мгновение.
Чего он хотел? Уважения? Но его уважали. Власти? Я почему-то до сих пор думаю, что это стремление в нем отсутствовало. Власть ему делегировали другие – те, кто уважал. Он хотел постичь судьбы мира, какую-то загадку в дыхании человека, но отлично знал, что в одиночку этого сделать не сможет. А достойных соратников не было. Единомышленников не было – ибо мыслями своими Хачик делился скудно. Его уникальность, зародившись в нем, им же и кончалась. Из таких, как мой отец, со временем, подумывал я, получаются отличные маньяки.
Когда он взглянул на фотографии с место нападения на автобус, у него закружилась голова. Кровь толчками забухала в уши, словно кто-то надувал там меха. Хоть он и сидел, но показалось, что вот-вот упадет. Тонкими пальцами ухватился за край стола. Извинился. Майор Тарасов внимательно посмотрел на вызванного Бовяна и мысленно поставил ему плюс. Переживает мужик. По всему видно. За годы работы он научился распознавать показное от искреннего. Потом он рассказал все, что полагалось знать отцу. Ведь он и его бизнес в этой истории явно тянули на роль косвенных пострадавших.
– Орудует банда из местных. Но они отморозками еще недавно были. Потом влились в группировку Н-ских. А те еще большие отморозки, только хорошо организованные. Так что делай, друг, выводы.
– Какие? – с надеждой спросил папа.
– Ну воевать против них мы не сможем, как ни крути, – заявил Тарасов, предвосхищая целую группу вопросов и предложений. За годы работы Тарасов научился распознавать, какой вопрос ему задаст человек, после того как пройдет первый шок.
– Но как же так? – растерялся папа. Он как раз раздумывал над тем, как сформулировать ловчее по-русски предложение накрыть банду преступников и вчинить им по полной.
– И не проси, – грустно сказал Тарасов.
– Я не прошу, просто это странно.
– И нам странно. Но предпринять мы ничего не можем. Честно.
– Так а что же мне делать?
– Ну, наверное, – Тарасов искал ответ. – Ездить другими дорогами. Или, – его постигло озарение – Заняться другим бизнесом!
Нужно было немного поразмыслить об этом. Отец вернулся домой, рассказал обо всем Люсе. Я подслушал разговор и записал его. Перечитав, я понял, что особенно нравится мне папин пассаж о майоре Тарасове:
– Понимаешь, Люся, он хороший человек. Очень хороший. Но совершенно бесполезный. Ему даже самому от себя пользы нету.
– Здесь очень много таких людей.
– Почему? Заурядных и у нас хватало.
– У нас даже самый заурядный любит свою семью. А здесь люди потеряли смысл слова «семья». Семья здесь не святое. Это иногда долг, а иногда обуза.
– Неправда! У нас хорошие соседи. Я видел, какие у них семьи.
– Хачик, опомнись! Ты видел лишь внешнее. Кто из них пускал тебя внутрь или хотя бы пригласил в дом?
– Никто, – пришлось признать отцу.
У него временами словно прерывалась связь с внешним миром, как будто короткое замыкание происходило. Эдакий кратковременный когнитивный диссонанс. Для того чтобы восстанавливать полноценную картину бытия, Хачику нужна была Люся, но, чтобы поддерживать прочную связь с миром, нужны были все мы. И особенно дети. Видимо, он всерьез надеялся, что следующее, так сказать, поколение имеет какие-то бонусы перед неведомым создателем, в которого Хачик верил, хоть все-таки, временами, сомневался. А мы с сестрами были тогда слишком юны, мы не знали мира целиком и жили лишь в ограниченном его сегменте. И именно этот сегмент – мечты наши, фантазии, оторванность от реальности, – этот фрагмент не нужен был для нынешней российской мозаики Хачика Бовяна. Он страдал – ведь и сам был мечтателем. Он хотел бы не изменять себе, но выходило погано. Купчинский ангар вымораживал фантазию.
Хачик понял: мир здесь отчетливо делится на две неравных части – нормальный, населенный всеми: и женщинами, и детьми, и стариками, и молодыми мужчинами, – и второй – невидимый, сворачивающийся спиралью к центру, к точке, к пустоте. Этот мир был словно подпольем первого, но там и варились судьбы мира. Это существовало примерно так же, как при официально признанном искусстве существует андеграунд или при публичной экономике еще и теневая. Это мир спекулянтов и авангардистов, компьютерных хакеров и всевозможных гениев.
В папином случае подполье реальности и было единственной реальной силой в стране. Там правили безжалостные мужчины, там молодые истребляли соперников, а заодно и уважаемых авторитетных стариков. Вон отсюда, вон, вон! У вас есть деньги? Все, нету денег. У вас есть бизнес? Оговорим условия. Нет прибыли? И голова строптивца летела в каменную стену. Но была и логика в этом бреду, очень простая логика: мир – страдание, мы все умрем, поэтому умри ты сегодня, а я завтра.
Я так и представлял себе этот мир – подполье, огонь, закопченные чаны, в них бурлит какая-то мерзкая, вонючая дрянь. Пары этого варева доходили доверху и отравляли политику, экономику и искусство. И поскольку мы жили вне прямого взаимодействия с политикой или искусством, а наша семейная экономика в России имела унылые черты средненького бизнеса, Хачику казалось, что его минует беда прямого столкновения с передовым подпольем рэкетиров, бандитов или их руководителей. Хачик не хотел туда, он сопротивлялся всеми силами. Отец старательно избегал опасных топей, но вокруг все было отравлено. Честный труд и безграничность мечтаний, по его мнению и опыту, – вот достаточные условия успеха. Но Россия – колоритный, вечно живой, пульсирующий ад – требовала других подходцев.
Если посмотреть трезво, а именно так, как следовало бы смотреть к середине девяностых, проблемы как таковой не существовало. Была необходимость убрать с пути неожиданное и опасное препятствие. Не все же его людям, его трепетным челночницам, едва выдохнувшим с облегчением под заботливым крылом моего папеньки, страдать и гибнуть от рук порченных жизнью и навсегда испуганных мальчишек. И отец решился действовать. Позвонил старому приятелю, давно уже переехавшему в Россию. Тот занимался грузовыми перевозками по стране, хорошо вроде бы стоял на ногах. И опять же, как ни крути, тоже, выходит, транспорт. И крышует его кто-то определенный. И этот абстрактно-определенный некто может, а возможно и должен, знать тех, кто бесчинствует на дорогах.
В общем, как всегда – Хачик спросил Вачика, Вачик Ташика, Ташик Аркашика, и так постепенно собралась необходимая информация. Но переданная в обратном направлении, она обросла подробностями и прочими гиперболами и выглядела теперь примерно как фильм-катастрофа. Согласно полученной информации, падение папы было трагически неизбежным и героически прекрасным. Обреченность только добавляла к безупречному облику Хачика мученических красок.
В сухом остатке история вытанцовывалась такая.
Летучий партизанский отряд, объявивший войну русским челнокам, состоял из двадцати восьми боевиков, шестнадцати человек штабного назначения и руководителей подразделений и еще двух светлых голов, которые и дергали за все веревки. Два генералиссимуса – это много, это слишком, подумал Хачик и конечно же решил воспользоваться слабым местом в обороне противника. Ведь там, где две головы, со временем появляются две дороги. А дороги, как правило, норовят разойтись. Вам в Керчь, а мне в Одессу.
В целом папа был бы настроен мирно, если бы собственными глазами не видел тело убитой челночницы. Он ее знал, конечно, что называется, и при жизни. Она была миловидной, решительной и без налета скорби о своем новом положении. Да, она кандидат и даже преподаватель вуза – но это в прошлом, а прошлое миф. Сейчас она здесь, в этом прекрасном автобусе, едет за прекрасными товарами в прекрасную Финляндию, и ей нравится ее жизнь. Ей очень нравится жизнь. Не знаю, что в этой мантре было правдой, а что лишь успешным элементом самовнушения, но она так действительно говорила. А теперь вот не говорит. И как ни странно, русская эта женщина носила армянскую фамилию, потому что, так же как и наша Люся, связала свою жизнь с армянином. Правда, он был милым волооким интеллигентом питерского разлива, не говорившим ни слова на языке далеких предков. Безутешный вдовец рыдал на плече папы и говорил, что не знает теперь, как поставить на ноги красивого и своенравного сына-подростка. Ну и папа, конечно, не вытерпел. Он позвонил в Ереван и сказал в трубку коротко и определенно:
– Пора, братья.
– Неужели тебе нравится убивать? – спросил Хачик, глядя в глаза правой головы.
– Да что ты, – усмехнулась правая голова и посмотрела влево. Сейчас место было пусто, но обычно там восседала левая голова. – Я в жизни даже червяка не задавил.
– Один из твоих парней убил женщину. Мою женщину. На меня работала.
Видно было, что правая голова едва подавила насмешливый вопрос «а сам-то ты кто?» и спросила только:
– Значит, это карма?
– Что? – не понял папа. У Марио Пьюзо такого слова он не встречал, но безошибочно понял, что это что-то связанное с судьбой.
– Она, наверное, громко кричала, а мой парень – любитель тишины.
– Хм… Твой парень ничего не знает о тишине. А если говорит, что знает, если говорит, что имеет ее в себе, то, значит, он украл ее у кого-то. Не у тебя ли?
Правая голова забеспокоилась. Он был весьма расположен к потустороннему, но сейчас вот не понял ни бельмеса в том, что сказал этот лысоватый чернявый олух. Нет, в книгах Кастанеды он не встречал таких терминов. Нет, он был не готов признать немедленное поражение, хотя признал, что встретил достойного соперника.
– Что мой парень сделал?
– Спроси лучше, чего он не сделал?
– Перестань топтать мне мозг, – правая голова начала раздражаться. – То, что ты меня нашел, еще не дает тебе право…
– Твой партнер не придет. Не жди его, – сказал папа.
Правая голова, в принципе уже единственная, бешено ворочала шестеренками. К этому моменту было уже понятно, что партнер не явился на назначенную встречу. А вот причины неявки вызывали вопросы.
– Хочешь узнать почему? Спроси меня об этом сам.
Все это время папа стоял, а осиротевшая голова сидела, растекшись в кресле. Не меняя позы, «генералиссимус» махнул охране. Нарочито подобранные, насупившие брови на юных лицах ребята вышли из комнаты. Голова указала Хачику на кресло напротив. Но папа садиться не стал. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенную вдоль стопку бумаг и бросил ее перед головой. Тот потянулся, а потом вдруг понял, что поторопился, выдал свой интерес, свой страх. Запоздало спросил:
– Что это?
Хачик развел руками – прочитаешь, узнаешь.
Голова цапнула бумажки, зашелестев, начала читать. Шуршание становилось мелким, дробным и каким-то беспрерывным – как будто мышь грызла упаковку, чтоб подобраться к сахару. В этих бумагах черным по белому говорилось о том, что компания, которой официально владели они с партнером и которая до сего момента успешно прикрывала рэкетирский промысел, теперь, можно сказать, опорочена, осквернена, да-да, растерзана. По этим бумагам выходило, что партнер отдал свою долю этому армяшке. Как так?! Правая, а теперь единственная голова облизала губы.
– Что ты с ним сделал?
– Не беспокойся, брат. С ним все в порядке.
– И где он?
– Ему сейчас хорошо.
– Не сомневаюсь, – усмехнулся осиротевший.
– Знаю, о чем ты подумал, друг, – теперь папаша улыбался. – Все не совсем так. Совсем не так. Он сейчас загорает в одном приятном местечке. Думаю, что так. Да.
Пока папа говорил, словно в реальном времени вершил судьбу открепившегося партнера, этот, оставшийся, пытался привлечь внимание своей охраны. Однако безуспешно. Троих сильных, как телки, и таких же неопытных юнцов крепко держала папина троица – бухгалтер-диссидент, психиатр Тигран и безумный Гагик.
Ничего сверхординарного папа не сделал. Он не пролил ни капли чужой крови. Просто он дождался своих верных товарищей, и все вместе они провернули стандартную операцию по а) выявлению слабого звена и б) применению полученной информации. Было установлено, что партнер правой головы, то есть голова левая, тяготился своим компаньоном, небезосновательно предполагая, что может пасть жертвой его властолюбия. Поэтому было решено честно выкупить его долю и отправить на вечное поселение в какой-нибудь райский уголок Юго-Восточной Азии. «Честно выкупить» – означало решить его денежные проблемы и предъявить неоспоримые доказательства того, что, если он немедленно не примет «армянское предложение», следующим в списке жертв может оказаться он сам. Доказательства оказались грандиозными, они помогли полностью перетасовать колоду на рынке межотраслевого транспорта.
Дело в том, что Сомов Леонид Васильевич, правая голова, не только был ментовским информатором, но и выстукивал донесения конкурирующей бандитской группировке. Он долго вычислял, кто же тут самый сильный, к кому, наконец, примкнуть. И ведь верно чувствовал, сукин сын, что время небольших боевых фаланг стремительно уходит, и просчитался в одном – думал слишком долго и наследил извилинами. Теперь он, как блоха, был весь на раскрытой ладони Хачика, а тот мог раздавить его, как блоху, а мог и помиловать.
– Убивать меня ты не будешь, – констатировал Хачик. – Но тебя могут убрать свои, если узнают. Так?
– Да, – не пытаясь юлить, согласился Сомов.
– Тогда мы партнеры.
– И все? Нет других условий?
– Почему нет? Есть. Ты отдаешь мне парня, который убил мою женщину.
– Бери, он твой.
– Вот так вот просто отдаешь? – искренне поразился папа легкости, с которой Сомов сливал своих.
– Он солдат, знал, на что шел.
– Воины так не поступают.
– Я разве сказал, что он воин? Он солдат, мясо, он расходный материал.
– Не понимаю я этой твоей философии. Но, может, это даже и к лучшему.
– Скажи, куда его доставить, и тебе привезут тело.
– Нет, – жестко ответил отец. – Если я решу его наказать, то сделаю это сам. Живого!
Почему противники появляются всегда ценой чьей-то жизни? Почему конкуренция не может быть здоровой, животворящей? Этот вопрос кольнул мирного сапожника в самое сердце, но ответа в своем сердце он не нашел. Не мог найти и ответа на насущный вопрос сегодняшнего дня – что делать с убийцей несчастной кандидатши. Отдать его под суд? Ведь целый автобус свидетелей мог указать на убийцу. Но где гарантия, что суд будет справедливым? Тогда он обратился к своей библии – к бессмертному творению Марио Пьюзо. Обманчиво-легкий Пьюзо (есть же такие люди!) не рассказал ничего утешительного. История похоронщика Бонасеры, которую он и так знал наизусть, выпотрошила последние сомнения. Дон Корлеоне, самый мудрый человек на земле, самый справедливый и самый несчастный, потому что он знал – покоя не будет. Не мир пришел я дать вам, но меч. Папа закрыл книгу и вышел на кухню.
Остановившись в дверях, он понаблюдал за тем, как бабушка шепчется о чем-то с соседом Толиком, называвшим себя магом белых сил. Чтобы не мешать им, папа развернул флаги в противоположном направлении и в полутемном коридоре наткнулся на меня.
– Ты боишься темноты? – спросил он.
– Что ты, пап!
– А чего боишься?
– Не знаю, пап. Вроде бы ничего.
– Это хорошо. А я вот воды боюсь.
– Нет. Я в бассейн хожу.
– Надо же, отец боится воды, а сын нет! – Хачик был в восторге.
Я же недоуменно улыбался, совершенно не понимая, куда толчками пробирается нетривиальная мысль моего папаши.
– А меня боишься? – совершил он свой неожиданный выпад.
– Нет, – решительно каркнул я и тут же испугался. Не его самого, а странной внезапности его вопроса, своей торопливой поспешности в ответе, того, что ответ мой мог показаться неискренним, что это действительно было неискренне.
– Нет… Это хорошо. Если ты не боишься, то и остальные тоже.
Никогда я не мог понять, как в голове Хачика вызревали выводы. Набухая из текущих проблем, они выпадали из его головы странными парадоксами. Какая связь была между моими страхами и мнением окружающих о Хачике Бовяне? За остальных я ответа не держал, но странность конфигурации моих отношений с папашей была налицо. Я был стремительно мужающим подростком, отроком пятнадцати лет, который лишь недавно понял, что ему тесноваты вещички из детской.
Но Хачик, кажется, остался доволен диалогом с сыном. Глядя на меня, он с гордостью ощутил, что бросил в землю железное семя, и оно проросло несокрушимым копьем. Бедный папа, на основании ложного суждения о моей смелости он принял и свое темное решение.
В купчинский ангар доставили стрелявшего. Свои, которые теперь были такие же свои, как и папины, уже немного поработали над ним. Ведь именно из-за него завязалась хреновая эта катавасия с приблудным армянином. Парня звали Паша, и лицо его было похоже на большую сливу – гладкую, налившуюся синевой и из которой в любой момент может брызнуть сладкая кровь.
– Вы сказали – живого. Вот он – живой, – насмешливо сообщил маленький, юркий пацанчик с умными глазами мелкого хищника. В словах его не было не только должного почтения, но и малейшего намека на положенную субординацию.
Папе такой расклад не понравился, и он качнул головой, словно сожалея о промашке мелкого. Безумный Гагик приложил руку к поясу и сделал странный выпад, будто хотел достать шашку из ножен. Люди Сомова шагнули вперед, но Хачик остановил Гагика, чуть приподняв указательный палец, и люди Сомова отступили на полшага назад. Папа понял одно: проучить нужно теперь не одного только Пашу, нервный палец которого, заплясав на курке, убил неповинную женщину, но и этого наглого хорька, вздумавшего смеяться над новоявленным крестником дона Корлеоне. Папа задумался. Получалось, что Сомов в данный момент проверял Хачика на вкус и на прочность. Стало понятным – кровь неизбежна.
И он заговорил по-армянски медленно и спокойно. Боевое трио папаши на сторонний взгляд выглядело свирепо, а тут еще они и подобрались, слушая своего лидера. Русские забеспокоились, естественно, не понимая ни слова.
– Эй, хачик, говори по-русски, – прикрикнул хорек. И это он назвал отца не по имени, а обозвал обидно. Но оскорбление не достигло цели ввиду понятного совпадения.
– Меня действительно зовут Хачик, и я говорю со своими людьми. А ты помолчишь и подождешь немного.
Папа продолжил свой недолгий монолог, у его друзей прояснились лица. Парни Сомова, вынужденные слушать щекочущие слух слова, напряглись и потеряли бдительность. Этот черный говорил, и как будто песком заносило головы ребят. Потом черный встал и вышел.
Папа щелкнул ключом, открыв машину. Из ангара донесся глухой звук выстрела.
Папа сел в машину. В ангаре раздались короткие выкрики и снова прозвучал выстрел. Потом все стихло. Папа уехал.
К вечеру Сомову доставили труп хорька, а похожий на сливу избитый пацан – убийца кандидатши-челночницы, вылизывал руку Хачика, хотя ему было предложено зализывать раны и кровоточащую совесть.
Сомов удивленно поднял бровь, увидев тело своего боевика.
Психиатр Тигран спокойно пояснил:
– Ничего страшного, друг мой. Ничего страшного. Это был хороший урок для всех, не так ли?
Вопрос не предполагал ответа. Всем было понятно, что произошло показательное наказание. То, что в женщину шмальнул перепуганный дурень Пашка, было чистой случайностью, а злобный хорек показал свои желтые острые зубки и пытался приподшатнуть авторитет дона Хачика. Все дело в уважении, мать его. В одном только уважении. Собственно об этом и говорил мой отец своим товарищам на родном языке. Он не призывал их убить наглеца, он заострил их внимание на идее почтения к старшим. Первый выстрел срезал нерадивого балбеса, второй предупредил остальных: здесь не шутят, здесь не жарят шашлыки и не распивают вино, не коротают время за разговорами бесперспективными о жизни – здесь работают.
Славик
Рядом с нами жил удивительный человек. Он называл себя магом белых сил, посланцем небес и спасителем града Петрова. От кого он собирался спасать город трех революций, неизвестно, во всяком случае сам он не рассказывал, но эта его избавительная миссия была растиражирована в рекламных объявлениях и служила своего рода гарантом его профессиональной компетентности и душевной чистоты.
Познакомились мы с ним, конечно же, не случайно. Просто встрепенувшаяся от траура бабушка решила все-таки наладить отношения с соседями. Ходила по квартирам, предлагая только что испеченную гату или толму с пылу с жару: «Здравствуйте, мы ваши новая сосед». Ее ломаный русский немного настораживал, но будоражащие запахи из лотков и кастрюлек обладали колдовской силой устанавливать доверие между людьми. Эффект бабушкиной стряпни – весьма сомнительной в Армении, но весьма изысканной в России, был невероятен – все вдруг полюбили нас и страшно зауважали отца. Только одна дверь все еще оставалась запертой для бабушки – на нашем этаже в углу жил кто-то, кто не желал впускать в свою жизнь щедрое разнообразие кавказской кухни. Дверь никогда не отворяли. Даже тогда, когда бабушка взяла с собой Маринку и Светку. Они, принаряженные, тоже держали перед собой блюда – с хашламой и кюфтой, – дверь оставалась запертой. Но результатом бабушкиной кулинарной дипломатии была обширная сеть добровольных осведомителей. Они-то и рассказали, что живет там некий Славик. Он одинок и совершенно не в себе. Часто уходит и бродит где-то сутками, хоть и не пьет и в бомжатских притонах не замечен. Или дома вот сидит и носу не кажет на улицу, пока не кончатся продукты. Бабушка всенепременно захотела увидеться с этим молодым человеком и несколько дней провела в непосредственной близости к прихожей, слушая, не повернется ли дальний замок. А когда, наконец, дождалась малопривычного лязганья засова и кинулась к двери посмотреть, сосед уже скрылся за своим порогом. Видимо, последний бастион отстраненной холодности в лице Славика не давал бабушке покоя, но со временем она потеряла интерес к таинственному соседу. Да, он по-прежнему представлялся ей почти что бессловесным идиотом, нуждающимся в постоянной опеке, но зимой бабушка сильно заболела и немного подкорректировала приоритеты.
Славика подобрал папа. Он шел как-то домой, поднимался на седьмой этаж пешком – что-то случилось с лифтом. Почти достигнув цели, на полутемном лестничном пролете он увидел темное бесформенное пятно, прилепившееся к стене. Пятно слабо зашевелилось, став трехмерным, приобрело антропоморфные очертания.
– Что сидишь? – спросил Хачик.
Существо захныкало что-то о бренности бытия, тяжкой своей миссии и общей деградации общества, которое его не только не понимает, но и намеренно даже игнорирует.
– Заходи, разберемся. Знаешь где живу.
Отец не оставил парню выбора, и тот, конечно же, пришел.
Он пришел дней через пять. Стоял на пороге в домашних тапочках и нервно покусывал заусенцу на указательном пальце. Он заявил:
– Пришел к Хачику.
Я отступил, пропуская его в дом, крикнул с порога:
– Пап, к тебе гость.
Оккультный бизнес Славику не давался, а он так хотел быть признанным на этом поприще. Он жаждал власти над человеческими слабостями, хотел научиться жонглировать ими, подчинять темные и светлые, но всегда тайные силы – себе, себе, себе. Но, чтобы запечатать в бутылку беса и заставить его служить, нужно самому обладать невероятной личной силой, а ею-то Славик и не располагал. Поэтому он стал ходить к отцу учиться мастерству плетения интриг.
– Почему ко мне пришел?
– Вы умеете обманывать. Я вижу.
– Интересно думаешь. Но неправильно. Ошибаешься, друг, сильно ошибаешься. Я никогда не обманываю. Но я часто обхожу проблему. Я часто ее обхожу. Это я умею. Да.
– Научите меня. Вам все равно, а для меня это архиважно.
– А чего же ты хочешь?
– Я хочу, чтобы, когда я делаю прогноз или вот гадаю на рунах, или на Таро, или просто заглядываю в глаза человеку, он бы верил, что я про него всё-всё знаю.
Отец говорил ему, посмеиваясь:
– А ты навесь на себя банку с мазью, ступку и говори всем: «Я ученый, я ученый и врач». Если спросят, утверждай, что знаешь средство от всех болезней.
Маг был совестливый. Он честно признался в своих намерениях и так же честно – в собственной неудачливости. Одно дело – обмануть пару-тройку богатых идиотов, пообещав, что в их бизнес-начинаниях вдруг свершится невероятный прорыв, и совсем-совсем другое – когда людей массовым порядком хочется обмануть, запутать и, по возможности, обобрать.
– Действуй. Делай хоть что-нибудь, – мягко призывал Хачик.
– А как же? А вдруг меня разоблачат?
Отец долгим пытливым глазом смотрел на Славика и удивлялся его простодушию.
– Нет, не разоблачат.
– А вдруг я непохожий на мага для них. Найдется прохвост пошибче меня, скажет: «У него вся рожа в прыщах и бородавках, а он еще про исцеление говорит!»
Отец преспокойно пожал плечами:
– Вот тогда-то ты и покажешь, на что способен.
Славик хлопал круглыми глазами и стал похож на сову.
– Но я… – лепетал он, – ничего не умею.
– Грози расправой усомнившемуся. Говори, что проклянешь и не будет ему счастья, что ты нашлешь на него порчу.
– Но я не умею.
Папа обернулся и закричал громко, чтобы голос долетел в отдаленную комнату квартиры:
– Мам! Тут Славик спрашивает, как на соседа проклятие наслать.
Сначала было тихо. Бабушка в то время болела и почти не выходила из своей келейки. Но тут послышались шаркающие шаги, перебиваемые, как запятыми, стуком бабкиной палки об пол. Она вышла и, постояв у стола, внимательно рассмотрела Славика, за которым так долго охотилась. Нависала над ним теплым, живым еще скелетом, как будто считывала с его неприглядной физии нужную ей информацию. Это за этим робким чучелом она охотилась несколько последних недель? Ну да, за этим – как пить дать чучело. Оставшись довольной своим анализом, бабушка поманила Славика за собой.
В комнате посадила его напротив и сказала:
– Паук ткёт паутину. В этом его природа. Иной раз он так наткется, что кажется, умрет от напряжения. А плоды его усилий – какая-то муха. А иной раз не муха, а целая бабочка ему попадется или паук, да покрупнее его самого. Всякое бывает. Или не бывает. А ты даже мухи не поймал в свою сеть, потому что сеть дырявая, а поймать хочешь крупную добычу.
Славик и зачастил слушать то бабушкины притчи, то отцовские авторские реминисценции на тему дона Корлеоне. Папа учил Славика уму-разуму, а бабушка пыталась натаскать его в области бытовой практической магии. Мы же с сестрами по привычке где подглядывали, где подслушивали, что было не так уж сложно, учитывая небольшую площадь нашего питерского жилища. Оба – и Хачик, и бабушка, хоть и преподавали разные дисциплины, но твердо сходились в одном:
– Ты должен оборудовать одну комнату под ритуальное помещение. Больше черного бархата, больше черных свечей, – настаивали они. – Люди любят пугаться. Это совершенно точно, Славик, это даже дети знают.
И дело вроде бы пошло.
К нашему Славику ходили люди разные. В том числе и начинающие бизнесмены. О берущихся за дело в те годы нынче принято рассказывать анекдоты, хотя мне, честно говоря, хочется о них забыть, стереть их из памяти. Не потому, что воспоминания страшны, а потому, что воспоминания бесплотны. Не все – именно эти. Мне кажется странным поиск сюжетов и вдохновения для современных фильмов и книг в помоях и вонючей требухе обыденных преступлений. Сплошь и рядом, каждый день, в день по многу раз. Время то было уродливым – люди некрасивы, и одежда, и все остальное. Хочется забыть, но нет сил. На совести многих из них – бравых предпринимателей тех лет – были жизни. Это казалось нормальным, что и пугает теперь. Я точно знаю, что чья-то беспокойная, как моя, или немая, как у моего отца, память записывала их некрологи на свой счет.
Тогда начинающие, прыткие, молодые, они приводили меня в тайный восторг. Щенком каждый пес хочет стать бойцовым. «Чем ты за это заплатишь, сынок?» Ну вот и эти – клиенты нашего Славика, начинали наподобие Сомова и его сбежавшего с папиной помощью партнера. Удивительное дело, вокруг била ключом красная-красная кровь, так как ценность нефти еще была недооцененной, а все вдруг сделались страшно суеверными. Составляли бизнес-гороскопы, совершали какие-то таинственные ритуалы, магические церемонии, по окончании которых истцу даровалась индульгенция по прошлым грешкам и полная свобода действий, эдакий карт-бланш на скоротечное будущее – за крупные, разумеется, деньги и при добровольной их отдаче. Еще не было в ходу фиксированной таксы на те или иные магические услуги, и бравые парни, предпочитающие скрывать от товарищей свои оккультные заходы, несли «сколько не жалко», помножив сумму надвое – вторая часть подношения полагалась за молчание колдуна. Вот и эти Славиковы визитеры уже ходили к какой-то гадалке и разузнали, что бизнес их будет успешным, доходы колоссальны, а совесть никогда не разбередит покой. Но все-таки снились покойники – утопленные в конкурентных боях за место под солнцем, за квартиру с видом на Невский, за машину с высокой посадкой, за дачу из красного кирпича с непременной башенкой и высоким, метров в шесть, забором. Покойники обычно так и снились – вдоль забора. Тогда снова шли к поганому гадале, чтобы загнал мертвяков обратно, где у них там их поганое место.
В таком вот порядке двое начинающих дельцов, еще не заматеревших, не поумневших, не подобревших, пришли к Славику просить магической поддержки у черных, а по возможности, еще более темных сил. Славик, как полагается, облачился в белые одежды, подпоясался цепью и принялся ходить вокруг кинжалов, кортиков и бутафорских мечей, разложенных на полу кругом. Он походил вокруг и снаружи, он поднимал каждый предмет своего магического арсенала и норовил проткнуть то глаз, то сердце, а то и печень каждого из партнеров, как попеременно, так и одновременно, орудуя двумя руками. При этом, по совету бабушки, он то выталкивал из себя заклинания «тайным голосом», задействовав утробные звуки, то изрыгал клокочущие гортанные ноты.
– Азраил, Мафусаил, Нафанаил, Левиафан, Гавриил, Михаил… – трубил Славик, мешая в один ком ангелов, архангелов, падших, вознесшихся, библейских пророков и прочих загадочных тварей.
Друганы чуть не потеряли сознание от страха, когда из-за пыльной гардины в комнату повалил лилового цвета пиротехнический дым.
Славик расставил парней по обеим сторонам магического круга, сам же выплясывал в самом его центре. Он вертел мечами над головами интересантов и всячески давал понять, что их бледные хари совершенно несимпатичны потусторонним обитателям. Но он – великий Славик, так уж и быть, договорится с кем надо, перетрет там сейчас с ними на их языке, и на поприще так называемого бизнеса у ребят наступят благословенные времена – делай что хошь и ни за что не отвечай. Ни конкурент, ни поганый мент, никто не доберется до них. И пуля облетит стороной, и даже взрывпакет, прилаженный к днищу машины, окажется комически подмоченным. А как же с покойниками? И тут Славик выдал по полной. Он стал называть имена:
– Иван смотрит на тебя, и Шурка, и Валерка, и еще кто-то худой. А вот я вижу Костика.
– Костика не я! – закричал один из партнеров.
– Это я его… – шепнул второй.
– А чё мне не сказал?
– А хули. Времени не было…
Потом в нашей гостиной Славик рассказывал, что просто наборматывал имена и прилагательные. Они шли вразнобой, и клиенты сами связывали в пары: «Васька Косой» или «Павлик Длинный». Страх и грозное возмездие, в которое на словах, конечно же, никто не верил, были лучшими союзниками начинающего мага, а отец мой и бабушка – лучшими на свете учителями.
Короче говоря, сделал маг свое дело и получил долгосрочных клиентов. И все было хорошо, пока друзья оставались друзьями. Но через некоторое время возникли проблемы при дележке шальной прибыли в виде восьми цистерн украденного этилового спирта. И тут они пришли порознь – сначала немногословный Борисов по кличке Муся, тот, что замочил Костика, а потом суетливый и все больше склоняющийся к православному раскаянию Тюленев, с неожиданной кличкой Дерево. Теперь они хотели избавиться друг от друга, но так, чтобы не уступить дорогому товарищу ни капли – будь то спирт или вонючее варево из котла их общего бизнеса.
Они были нестрашные, эти самые Муся и Дерево, и рассказы о них вполне могли бы веселить в светской компании, но Хачик не был светским человеком и, встретив, скажем, господина Пиотровского, не узнал бы его ни по очкам, ни по шарфу. Мой папа был сапожником, а это значит, что по форме стоптанного ботинка он мог сказать, сколько вы весите и есть ли у вас проблемы с позвоночником, сердцем или с кошельком. И дело, поверьте, не в стоимости обуви – дело в вашей походке.
Мой папа слушал и учился. Конечно, он наставлял Славика, а бабушка давала уроки практической армянской магии – первая пионерка в своей деревне, она вдруг вспомнила столько разной всячины о духах, бесах и ритуалах, что впору было зачинать труд по фольклору, но через Славика он манипулировал теми. Он знал столько об их бизнесе и об их затаенных грехах, что, если бы хотел, легко бы подмял под себя. Но он не хотел. Кажется, не хотел…
Пришел момент, когда Муся и Дерево захотели убить друг друга. Об этом – каждый в свой черед – заявили несчастному Славику. И каждый, заглядывая со значением в глаза нашему соседу, хрипел, шептал, истекал горьким, неумолимым желанием душегубства:
– Скажи, получится? Я хочу. Ты даже себе представить не можешь, что он для меня значил. Но я не могу с собой справиться. Это больше меня. Я знаю, дьявол завладел моим сердцем, и я не устою, я покорюсь, я сделаю.
Глупо и страшно это звучало в пересказе Славика. Наверное, так оно и было – глупо и страшно, но я до конца не верил, мне казалось, должно быть что-то еще, какая-то сила, какой-то смысл. Тогда я еще искал его и не находил, как я думал, по собственной неопытности, по молодости. Вот, казалось, прочитаю еще десяток книжек и начну понимать. Но Хачик, из учивший, как известно, лишь одну книгу, давно знал – смысл может быть только в том, в чем конкретно ты видишь смысл.
Все как-то глупо совпало (мне кажется любое совпадение глупым и даже вульгарным событием, лишенным пресловутого тайного значения). Короче говоря, совпало – Муся и Дерево вынашивали друг против друга коварные планы, а Славик, как мог, противостоял их убийственным аппетитам, но тут в его дерматиновую дверь постучался новый клиент. Он был сложен как-то нестандартно, асимметрично, что ли, и был похож на локальный горный хребет, пучок вздыбившихся камней, который завершала маленькая лысенькая вершина. Между небрежно прилаженными к голове ушами, вокруг местами кривоватого, местами вздернутого носа, то спускающегося, то поднимающегося над мнением собеседника, выныривали из-под век глаза – появлялись, проводили разведку боем и снова прятались. От мужчины веяло опасностью, да что там веяло – несло с ураганной силой. Славик пытался напустить на себя свой самый воинственный вид, но через несколько мгновений сам собою скис, маска воина духа сползла на колени, а колени-то между тем выплясывали под бархатной мантией, колотились от страха.
Мужчина протянул фотографию. Спрашивает:
– Видишь?
– Вижу.
– Ты гляди.
Славик долго вертел снимок в руке, а потом ответил коротко, почти с буддистским смирением:
– Да.
– Ну?
– Человек.
– Я вижу, что человек, а не макака.
– Ну как еще сказать… Человек же, несмотря ни на что.
– Тьфу ты черт! Я сам знаю, кто здесь человек, а кто гондон. Какой, я спрашиваю, человек? Какая у него, я тебя спрашиваю, цель в жизни?
– С большой буквы.
– То есть… это… – Глаза визитера сжались в крохотные щели, из которых, как из амбразур, лил смертоносный огонь на поражение. – Это – хороший человек?
– Хороший.
– И цель мирная?
– Мирная.
Славик по наущению моей бабушки вообще старался быть немногословным – так люди гадательно ощущали присутствие тайны. Славик напускал на себя важный вид, и каждое слово звучало как эхо. В случае чего всегда можно было сказать:
– Я не говорил. Это ты сказал. Я только размышлял вслух.
– Так что? Можно с ним иметь дело? – без всякой торопливости уточнил незнакомец.
– Дело. Можно.
Человек-хребет впервые посмотрел на Славика с некоторым интересом.
– Ты говоришь, это – хороший человек…
– Человек, я сказал, – робко отбил опасный выпад сосед.
– Ага… Ясно… – Голос визитера сделался до противного ласковым.
Славик почувствовал, что пол под ногами отчего-то стал мягким, как перина, и что он, маг по призванию, начинает утопать в этом странном и вязком, как джинн, возвращающийся в место своего заточения, – у кого-то это лампа, а у кого и узор на ковре.
Предчувствие беды не подвело. Посетитель обрушился вдруг на Славика страшным криком:
– Это чучело пыталось отнять у меня все!
– Все принадлежит Всевышнему, Всемогущему и Благодатному.
– Что ты сказал?! А ну повтори!
– Да я просто спросил…
– Что спросил? Спроси снова, мудило!
– Я… я… Как можно отнять то, что принадлежит Богу? – Славик не просто заикался, он казался заикой, которого мучает икота. Но его неожиданная любознательность была вознаграждена – он получил сильный шлепок по лбу той самой газетой, в которой было размещено его объявление. И этот унизительный удар был чем-то сродни озарению – Славик вдруг понял: положение безвыходное. (Отсюда проистекала укоренившаяся впоследствии привычка бить себя по голове, чтобы дойти до какой-либо мысли или запомнить чужую.)
– Ты чего, не понял? Оно, это чертово отродье, пытается отнять у меня все!
– Я понял, понял, – пищал в ответ Славик.
– Ну и вот. А теперь ты его убьешь.
– Я?!
– Да.
– Как?!
– Как? – удивился бандит и пожал предгорьями-плечами. – По фотографии.
Он ткнул в газету с объявлениями, по которой он и нашел Славика. Там где-то между тараканами и абортами находился и портрет Славика. Он пучил глаза в объектив и имел глупый вид.
– Что здесь сказано?
Бандит ткнул Славика в страницу. Славик стукнулся лбом о стол, в полете успев прочесть собственное объявление:
– Работа по фотографии.
– Вот я и говорю: грохнешь.
– Но это же убийство.
– Какое убийство?! – грозно прорычал клиент. – Это работа. Работа, мать ее, работа. – И он тюкал Славика лбом в страницу, пока та не порвалась. – Вот и работай, работай, работай.
– Грех это. Я так не умею, – едва не прокололся Славик.
– Ничего, залечишь. Вернее, замолишь.
Конечно, клиент оговорился сначала, но слово «залечишь» как нельзя лучше подходило к искореженному лбу нашего Славика.
Носитель лысой головы кивнул, расплатился, не спросив о цене, и ушел. Он сам положил деньги на стол, сам проводил себя к прихожей и закрыл за собой дверь. А Славик по-прежнему сидел на высоком кресле с прямой спинкой, и ноги его под мантией выплясывали танец тревоги. А все почему? А все потому, что Славик узнал человека с фотографии – да и кто бы не узнал, даже мы узнали бы, хотя и не были старожилами. Славик подумал, что если его убьют в этом кресле, делающем значительней любого, кто усаживается в него, то его труп будет неплохо смотреться на газетных фото или в криминальной хронике по телевизору. Но это лишь в том случае, если он, Славик, героически примет смерть в лицо – маленький солдат магического фронта. Но он наверняка испугается, побежит, схлопочет пулю в спину, распластается на полу, будет лежать тут в луже крови и уже ничего не почувствует – ни страха, ни изглоданного самолюбия. А все потому думал так Славик, что он узнал человека с фотографии.
«Им» была женщина – некрасивая, немолодая, грубо сколоченная, как забор между поссорившимися соседями, – жена действующего губернатора. Она была страшна во всех отношениях – не только одутловатыми щеками, бровями, низко и реденько повисшими над крохотными безжалостными глазками, а еще и мыслями, что метались в ее голове, черна она была и сердцем, которое полюбило деньги больше, чем родных детей. Славик узнал ее, конечно же! Хоть и умна была эта женщина, понимала, что страшна, и не раздражала горожан лишним своим появлением на экране телевизора, но приходилось ей мелькать порой в качестве первой леди городского верха. Поговаривали, что именно она управляет городом, соткав паутину из бандитов всех мастей – от уличных хулиганов до теневых воротил. Да, подумал Славик, убьют его ни за грош, и вытечет из-под него лужа теплой крови. Страх навалился на Славика. И у страха было имя – Горькая мама.
Горькая мама Фира
Ее звали Ираида Фирсовна, но так уж повелось, что называли ее не иначе как Фира, мама Фира. Так на сходняках и терках бандиты с разных конфликтующих сторон уважительно поминали ее имя, пытаясь перетянуть удачу – каждый на свою сторону. Кому-то везло, кому-то не очень. Горькой ее окрестили горожане, традиционно не способные к сопротивлению, однако улавливающие оттенки и полутона. Петербуржцы видели многих злодеев и хорошо понимали, что монстры не поедают сразу, сначала они отравляют горьким ядом отрешенного безразличия – к вашим бытовым тяготам, к социальным брешам и даже к утомительному ожиданию перемен. Зато потом они вас поедают целиком – отупевших от усталости, обессилевших от ярости, парализованных неизвестностью. Горькая мама была злодейкой другого толка. Хорошо, хоть и интуитивно, осознав метод предшественников, она установила новый порядок. Она сосредоточилась на связях. Она связала все со всем – бизнес с бандитами, бандитов с политиками, политиков с шоу-бизнесом, шоу-бизнес с консалтингом, консалтинг с бандитами. Круги множились и расширялись, пересекались и уплотнялись. Это была настоящая паутина, которая не могла не ужасать, не могла не восхищать.
Осознав произошедшее, Славик явился к нам и шушукался о произошедшем с отцом.
– «Хороший человек», – шептал маг. – Он спросил: «Хороший ли это человек?» А она монстр, настоящий монстр. Разное говорят, но то, что нас называют криминальной столицей, – всё из-за неё.
– Из-за одной женщины?
– Горькая мама – не женщина. Она, я говорю же, монстр.
Хачик молчал и внимательно глядел на соседа. Он старательно отделял страхи Славика от полезной информации, словно тот был агентом Хачиковой разведки в стане врага. Хотя, честно-то говоря, в данной ситуации папа и сам еще не понимал, что происходит. Образ Горькой мамы прошел мимо него.
– Ты понимаешь, Хачик, я же жил себе спокойно. Ну зачем мне все это нужно было, скажи, а? Кто навел? Кому понадобилось?
Он трясся так, что руки плясали по коленям. Казалось, Славик играет на невидимой пианоле, и, несмотря на ее виртуальность, мне казалось, что я слышу расстроенный трескучий звук. Сбитое дыхание душило Славика, волосы над ушами вздыбились. Соседу нужна была помощь медицинского характера, которая и была незамедлительно оказана ему нашей мамой. Она твердой рукой вкатила Славику успокоительного и присела рядом, с состраданием читая отпечатавшиеся на лбу Славика части газетных объявлений. Славик заснул, а бабушка и папа пошли совещаться.
Бабушка долго и презрительно смотрела на фотографию.
– Такую и убить не грех. Как только бедный Славик не видит этого. Наверное, Господь лишил его зрения.
– Не надо так, мама. У него совсем нет опыта.
Бабушка была настроена воинственно.
– Нет опыта людям в глаза смотреть? Здесь черным по белому – в глазах этих горе чужое улеглось.
– Мама, успокойся. В этом городе не каждый успевает в глаза людям смотреть, а потом они здесь все время вниз смотрят.
И вовсе не стыд папа имел в виду. Он коротко объяснил и без того понятное бабушке:
– Очень скользко.
И это была истинная правда голого факта. Я так и не успел понять или полюбить город Санкт-Петербург, он не внушал мне благоговения, восторга или хотя бы дружелюбного панибратства, однако была одна штука, которая приводила в ужас, – гололед в Питере. Я никогда не мог с ним справиться, и, сколько я знаю, никто из моих близких тоже. Гололед и постоянная потребность все время концентрироваться на подошвах собственных ботинок – это, конечно, своеобразная медитация, но точно не для продвижения по духовной лестнице. Уже по зрелом размышлении приходится учитывать и этот фактор для составления психологического портрета петербуржца. Во всяком случае, я всерьез думаю, что гололед вполне мог послужить причиной некоторого духовного отставания нашего соседа Славика.
– Скользко не скользко, это не оправдание! – настаивала бабушка.
– Мама, погоди.
Бабушка презрительно фыркнула.
– Что делать будем, скажи лучше? – настаивал папа.
Бабушка отвернулась и теперь смотрела в окно.
– Мама, убьют человека ни за что ни про что. Либо ее, либо его.
Бабушка посмотрела на отца мудрыми глазами. И теперь она уже не капризничала, не ребячилась.
– Эх, эх, эх… В этой истории непременно кто-то кого-то убьет. Убьет, убьет.
Она так часто повторяла это слово, что отец поежился.
– Ну и нам как?
Бабушка подалась вперед, положила на стол свои морщинистые руки и совершенно безапелляционно заявила:
– Нам не нужно вмешиваться.
– Мама…
– Сынок, они нам посторонние. Мы не можем.
Всякое я видел, но чтобы папа рассердился на бабушку! Это в России у него нервы напряглись. Это Петербург его довел. И на моей памяти подобное больше не повторялось. Хороший сын в нем обычно брал вверх. Но на этот раз он точно вышел из себя.
– Кто нам чужой?
– Они. – Бабушка мотнула головой в сторону окна. – Они нам посторонние.
– Они?! Это Люся тебе чужая? Это Люся тебе посторонняя?!
– Нет, Люся – наша.
– Вот и они – братья мои.
– Я их не рожала.
– Это моя страна была! Это братья были мои. Меня так учили. Бывают братья бывшие? Разве, мама, бывают?
Бабушка махнула рукой. Не устало, не презрительно – она просто признала поражение:
– Успокойся. Помогу.
– Как?
– Еще не знаю. Надо подумать.
Когда Славик проснулся, оглядывая стены в полутемной гостиной, то некоторое время он, как и полагается, пребывал в паническом оцепенении – никак не мог сообразить, где он. Со скоростью долетевшего оскорбления в голове Славика мелькали страницы его тусклой биографии. В ней было очень мало событий. Настолько мало, что до последних умопомрачительных приключений он добрался стремительно. Отчего-то он не узнавал места, в котором проснулся. Славик подумал было, что его украли, взяли в заложники и будут держать до тех пор, пока он не убьет… Кого-то… Кого только? Он никак не мог вспомнить. Славик вскочил и подобрался к двери в коридор. Он приложил свое мясистое ухо к щели, прислушиваясь к звукам. Было тихо. Он приоткрыл дверь и воскликнул от страха – моя сестра Светка напугала мага, появившись в коридоре в фосфоресцирующей в темноте футболке с черепами.
– Бабушка, он проснулся! – заорала Света и равнодушно прошла мимо Славика к уборной.
Славика немного отпустило – так он выяснил, что находится у нас, хотя совершенно не помнил, почему же заснул здесь.
Он добрел до кухни и увидел там бабушку. Она чистила картошку и бросала ее в большую миску с водой. Очистки падали в мусорное ведро, стоящее у ее ног. Славика посетило легкое дежавю, но ничего конкретного он не вспомнил, память заблокировала пережитой кошмар, запрятав его в своих тайных комнатах. Бабушка молча кивнула соседу. Он припал к тазику с водой, куда бабушка кидала чищеный картофель, и пил, пока картофелины боксировали его по лицу и падали на пол. Допив, Славик выдохнул, отдышался и сказал:
– Я должен его убить!
– Кого убить? Помнишь?
Славик похолодел. Еще только произнося свое «убить», он все еще рассчитывал, что это смутное знание – всего только омерзительное послевкусие страшного сна. Но нет. Армянская старуха не удивилась, и потому все так, как оно есть.
– Подними картошку. – Бабушка раздраженно подтолкнула к раковине убежавший клубень. Сосед бросился поднимать просыпанное.
– Я придумал. Я его убью сам! А потом для виду повожу над фотографией, и выйдет, что это мое колдовство его убило.
– Ты ж не помнишь – кого.
– Фотография вроде была, – неуверенно промямлил Славик.
Кончиком ножа бабушка подвинула к соседу снимок Горькой мамы. Едва взглянув на лицо мамы Фиры, Славик рухнул без чувств.
– Люся, опять укол нужен! – крикнула бабушка.
Вошла мама, взглянула на соседа и констатировала:
– Вряд ли ему нужно успокоительное.
Пока женщины хлопотали над Славиком, пока я и мои сестры, как всегда, пытались проникнуть в суть явлений, происходящих у нас дома, пока мы манкировали свои занятия, уроки и даже бесхитростные свидания ради одной только цели – не пропустить очередной виток биографии Хачика Бовяна – нашего отца, сам Хачик наводил справки.
Карнавал
Хачик сидел в своем ангаре, окруженный обувными коробками. Рабочий стол был перенесен прямо на середину, и потому коробки, еще не гнутый картон, упаковочная бумага, слои кож, рулоны целлофана – все это создавало вокруг него странноватые укрепительные сооружения. Телефон, мобильники, какие-то бумажки кругом со странными пометками. Двери в ангар были распахнуты, и, чтобы удерживать хоть какое-то тепло, безумный Гагик и его неразлучные товарищи приволокли обогревательную пушку. Они приобрели ее за гроши у вороватого администратора какого-то сериала. Что ж, Хачик готовился к серьезной войне, а для вступления в нее нужно было серьезно, очень серьезно подготовиться. Со всех возможных и невозможных мест, из всякого самого наивного, крошечного, неприметного источника потекла к нему информация. В открытые двери ангара приходили люди, в основном кавказцы – хмурые автомеханики, приземистые сапожники из глухих лавчонок, ночные бомбилы-таксисты, повара ресторанов, окраинных шалманов, музыканты-народники, обслуживающие многолюдные свадьбы, студенты и даже служители культа. Они несли информацию. Они делились слухами, байками, сплетнями, которые распространялись в «людской».
У моего папы не было ровно никакого влияния в питерском бизнес-сообществе. Был кой-какой уже авторитет в кругах средненьких да на мелководье. Но он и сам не стремился прорваться к высотам – он хорошо понимал, чем рисковал. Нами, новым домом, а возможно, и нашим будущим. А Хачик – воспитанник дона Корлеоне – не хотел рисковать по пустякам. Конечно, как я уже рассказывал, приходилось ему выпускать когти из мягких лап. Но в его окончательном решении вступить в ту или иную войнушку всегда был – даже нет, лежал на поверхности какой-нибудь особенный альтруистический мотив. А тут, в истории со Славиком, он еще и чувствовал ответственность. Ведь именно он направил соседа по извилистому пути оккультных изысканий.
Чем больше папа узнавал о женщине на фотографии, тем отчетливей понимал – эту войну ему не выиграть. Но, разок пригубив хмельного винца победы, Хачику было трудно устоять перед искушением вступить в новый бой. Он ухватился за «Крестного отца». Что там на этот счет говорит Учитель? А дон Корлеоне высказывался вполне определенно, в духе: «Война, значит, война». Ну что ж, оставалось начать и закончить дело.
Славик все это время – недолго, пару дней – жил у нас. Вернее, он спал. Оказалось, что у него был какой-то благословенный тип нарколепсии или что-то типа того – как только он приходил в себя, осознавал, что по-прежнему находится в квартире Хачика, вспоминал причину, по которой здесь оказался, то немедленно снова опрокидывался в сладкий сон. Сладкий, потому что во сне он причмокивал и напевал детские песенки.
– Глупый ты! Совсем глупый! – сердилась на него, спящего, бабушка. – Другой бы собрался уже, другой бы уехал уже далеко.
– «Ах, вот идет по лесу мишка, ах, косолапый…» – отзывался фальцетом Славик.
Бабушка качала головой, подтыкала плед на Славике и шла хлопотать на кухню. Через какое-то время Славик просыпался и выползал в сортир или попить воды. Увидев бабушку, он, охнув, присаживался на стопку журналов, которые мама приговорила к помойке, а бабушка зажилила, прельстившись яркими картинками.
– Как же мне быть? – стонал сосед.
– Беги.
Бабушка говорила это так же естественно, как сказала бы, например, «чихни» или, может быть, что-то более экспрессивное, допустим «плюнь».
Тут Славик норовил снова отключиться, но мы, уже уставшие перетаскивать его на диван, в другой конец квартиры, не давали ему стечь на пол, мы подхватывали его под руки и несли к облюбованному месту.
Через пару дней отец вернулся и прямиком направился в гостиную, где в спасительном забытьи Славик напевал:
– «На медведя я, друзья,// выйду без испуга,// если с другом буду я, //а медведь без друга…»
Папа потряс соседа за плечо:
– Эй, любитель смерти! Просыпайся.
Славик спросонья вскочил. Увидев Хачика, он не сразу узнал его и заорал дурниной. Потом схватился за сердце. Выдохнул, наконец, стал смотреть на папу с надеждой смертника, ожидающего внезапного помилования.
– Она – женщина-дракон, – заявил папа, и Славик снова поплыл. Но Хачик не дал ему этой возможности, он треснул соседа по уху, и тот немедленно очнулся.
– Прости, – беззлобно сказал Хачик, а бабушка не смогла сдержаться – улыбнулась.
– Что-нибудь… случилось? – робко спросил окончательно вернувшийся к реальности маг-надомник.
– Пока нет, но с твоей помощью мы повернем историю.
Бабушка добавила свои пять копеек в нищенскую мошну соседа:
– Сделаешь все в точности – спасешься. – Она не стала его мучить, упиваться властью было ей несвойственно. – Мы все придумали.
План был таков. Славик тянет резину и дожидается второго визита человека-горы. А тот непременно придет, не дождавшись исполнения заказа. То, что он обратился к Славику, то есть к магу-пройдохе, означает только одно: сам он не может подобраться к Горькой маме.
– А может быть, иначе? – размышлял отец, обращаясь к безмолвной на этот раз троице из сумасшедшего дома. – Он находится в близком окружении этой мадам и боится засветиться. В любом случае, он не может нанять киллера. Ни один киллер в городе не станет связываться с этой драконихой.
На этих словах безумный Гагик привстал с места, но папа жестом осадил его.
– Мы в таких делах не участвуем. Наших детей она не обижала, наших стариков не лишала крова.
– Но весь город платит ей дань, – сказал бывший бухгалтер.
– И выходит, что мы тоже, – согласился бывший психиатр.
– И это несправедливо, – добавил бывший патриот.
– Мы не будем менять законы, установленные не нами. – Хачик мотал головой, будто дискутировал не с тремя – с тридцатью или с сотней. И все эти голоса звучали в его голове.
– Когда придет тот человек, мы установим, кто он. Постараемся установить. А дальше мы… поймем, как действовать.
Это было разумно, и все сразу же согласились.
Тем временем бабушка всерьез решила попробовать свои силы в магических практиках. Я думал, что все кругом слегка спятили или просто мы с сестрами не были малолетками – все видели, многое понимали и… конечно, больше боялись. Отец пропадал целыми днями в своем ангаре, мама запасалась продуктами, будто готовилась к долгой осаде, бабушка, позабыв сон, корпела над тетрадками, куда она записывала отрытые из недр своей непостоянной памяти старинные армянские рецепты по дистанционному воздействию на объект. Почему-то чаще ей вспоминались методы оживления мертвецов, и она уже всерьез подумывала, как вернуть деда, но ограничилась сеансом столоверчения.
– Я медиум, медиум, вызываю духа Сергея Бовяна.
– Номер паспорта, – шепотком съязвила Маринка. И Светка прыснула.
Бабушка, не отрываясь от своего основного дела, взглянула на внучек округлившимися от гнева глазами. Последняя часть заклинания:
– Дух, появись! – пришлась как раз на этот взгляд. Девицы притихли.
В ту ночь родителей дома не было – несколько дней назад они купили домик в карельских лесах и теперь спешно готовили его к эксплуатации. Мы с сестрами с радостью присоединились к бабке, ожидая отличное развлечение. Сестры мои, разросшиеся задницами и грудями, уже бредили парнями. Они непременно хотели вызвать дух Клеопатры, которая должна была от щедрот своих поделиться с этими соплюхами секретами женского успеха. Но, когда Маринка и Света узнали, что вновь встретятся с дедушкой, они притихли. И совершенно не собирались отказываться от предложенного бабушкой мероприятия. Страсть к скрытому от глаз была разлита в их крови – гены есть гены. На наш импровизированный шабаш был приглашен и Славик. «Приглашен» – в данном случае всего лишь эвфемизм. Он был пригнан к нам, как «остарбайтер» нацистами. Бабка стучала по его спине сухой ручкой и приговаривала:
– Давай, сынок, давай. Будем делать… Будем что-то делать… Будем учить тебя работать с расстоянием. – Бабушка говорила по-русски медленно, видимо, переводила в уме с родного. Но от этого каждая сказанная ею фраза была адски точной. – Мы будем отличать живого от мертвого.
И вот, водрузив пальцы над блюдцем, мы слушали голос бабушки и биение собственных сердец. Мы ждали дедушку.
Сначала блюдце качнулось в сторону, и мы, заорав, оторвали руки от его золотистого канта, но бабушка продолжала держаться ритуала. Мы, пристыженные ее несгибаемым намерением, вернулись к своим обязанностям. Через несколько минут, плывших как дым над вечерним костром, зашевелилась портьера в углу, а вместе с ней и волосы у нас на головах.
– Сержик, это ты? – дрогнувшим голосом спросила бабушка.
На портьере появился легкий развод, будто кто-то с другой стороны провел ладонью. Мне показалось, будто кошка прошла под столом, потершись о мои ноги. Но никакой кошки у нас не было, никакой кошки.
– Сержик, скажи мне, любимый мой, когда ты меня к себе заберешь? – Бабушка говорила по-армянски.
За портьерой отчетливо проступил силуэт человека, а потом как будто отступил. Блюдце под нашими пальцами отплясывало по размеченной буквами и цифрами бумаге, накрывавшей поверхность стола. Буквы сливались в слова: «НЕСКОРОЕЩЕТЕРПИСОВСЕМНЕСКОРОКУДАТОРОПИТЬСЯ». Мы были впечатлены. Однако самым удивительным оказалось то, что армянский язык неожиданно оказался понятым Славиком.
– Не скоро! Видите, не скоро! Пусть идет с миром!
– Не тебе решать, – рявкнула на него бабушка по-армянски.
– Но чем он может нам помочь? – заскулил сосед, однако, скорее, по привычке. Он заметно возмужал со времен своего последнего обморока.
– Чем сможет – поможет!
– Бабушка, пусть дед скажет, когда мы отсюда уедем, – взмолилась Света.
– Ты идиотка? У меня турнир по танго скоро.
– Цыц все! Сержик, Серёж, тут такое дело… Скажи, как нам справиться с такой проблемой – чтоб женщину плохую, очень плохую, чтоб ее как-то наказать? Не говори сейчас ничего, просто приснись мне ночью и расскажи.
Хотя у меня и имелись обоснованные сомнения насчет подлинности ритуалов нашей бабушки, но не сегодня. Мне так хотелось подбежать к колышущейся гардине и обнять, что бы там за ней ни оказалось. Я понял, как соскучился по деду. Девицы тоже, я уверен, потому что они ревели. Бабушка проявила чудо самообладания и сказала:
– Сержик, без иносказаний, что нам делать?
И тут, без всяких иносказаний, в дверь позвонили. Бабушка, не отрывая пальцев от блюдца, а взгляда от занавески, приказала:
– Славик – сидеть. Девочки – открывать. Ты – страхуешь сестер. Нужное – на кухне.
«Нужное» – это газовый баллончик, валявшийся в одном из ящиков кухонного комода. Пару раз он был использован, и не кем-нибудь, а именно бабушкой – старики темными зимними вечерами, а тем более старики с авоськами, часто становились объектом нападения. Сестры потянулись к входной двери, они нервно хихикали, подталкивали друг друга, скользили по паркету на тряпичных подметках своих дурацких тапочек.
Подобравшись к дверному глазку, они не разглядели ничего, кроме чего-то огромного и скомканного. На лестнице было темно, а апрельская ночь отливала черным глянцем.
– Кто там? – нараспев, перемежая слова смешками, спрашивали сестры. – Чей дух явился к нам в гости?
– Соседа вашего ищу.
– Ищите, конечно! – издевались девицы.
– Где ваш сосед? Дверь-то откройте.
Света немного разозлилась, она терпеть не могла приказов.
– Моя дверь! Хочу открываю, хочу закрываю.
Я уже выруливал из-за угла с баллоном, но Света подняла палец, призывая к вниманию, и показала на дверь. Казалось, все вокруг затянуло пленкой сомнительной тишины – это когда ты не слышишь звуков, производимых физическими действиями или реальными объектами, это когда ты слышишь намерения «другого», это когда ты слышишь его сомнения, чувствуешь тональность его паузы. Удивительно неприятное чувство, и как же прекрасно, что шестое чувство покинуло человечество в массовом порядке.
– Короче, передайте ему, если увидите, что заходил Павел, хотел… обменяться любезностями.
– Передадим, обязательно, – заверила ночного визитера Марина.
Мы не шевелились. Мы слышали, как он топчется у двери, потом идет к лифту. Мы дернули в комнаты, не сговариваясь, приняли наблюдательные позиции у окон, выходящих на разные стороны, так как в нашем здании кроме парадного входа был еще и запасной. Мы заприметили визитера вальяжно выходящим со стороны черной лестницы. Сверху это странное человеческое сооружение казалось еще более нелепым. Мы толком не могли его рассмотреть, вернее, у каждого сложились свои собственные ощущения по его поводу. Но зато мы прекрасно рассмотрели его автомобиль, и в этом у нас расхождений не было. Посетитель сел в белый «мерседес» представительского класса самой распоследней серии. И самое главное, что он сел на место пассажира.
Мы вернулись в гостиную, где бабушка и Славик удерживали дух нашего дедушки. Они, казалось, не замечали нашей беготни, они таращились в угол, где на занавеске проступили странные подпалины, некоторые штрихи напоминали плечи, руки и ноги. Лишь головы не было у этого существа, которое посетило нас и убралось восвояси.
Бабушка заявила, что ей нужно поспать и во сне пообщаться с духом дедушки, Славик решил пробраться к себе, проверить, как там поживают высаженные им плантации белены и болиголова. Но сосед так боялся нынче всего, что нам пришлось сопроводить его на другой край лестничной площадки. Мы ребячились, пока Славик обмирал от каждого шороха или смятой бумажки, мы искали следы взрывных устройств, находя их то под ковриками соседей, то в болтающемся телефонном проводе. Когда мы подвели Славика к его квартире, он от страха не мог попасть ключом в замочную скважину. Мы помогли ему и в этом. Потом, когда втолкнули соседа в дом, то ринулись и сами за ним. Тут, в родной стихии, его немного отпустило, а мы, так и не найдя возможности угомониться, устроили настоящий шабаш, переодевшись в его ритуальные мантии. Когда ночь растворялась в рассветном колебании и мы с сестрами расползлись по своим берложкам, я подумал, что весь этот случайный карнавал, пожалуй, лучшее, что случилось со мной в странном городе Петербурге.
Когда вернулись родители, мы, перебивая друг друга, стали рассказывать о событиях минувшей ночи. Мама качала головой – ей не нравились все эти странные мистические эскапады бабушки. Ее прекрасная, наполненная заботой и энергией жизнь превращалась в детективный роман с потусторонним уклоном. Какая нелепость, акробатическое па из выспреннего модерн-балета в смиренной кадрили ее жизни. Но Люся принимала события такими, какими они приходили. И если всё уж повернулось таким образом, очевидно, следовало постараться стать героиней хоть небольшой веточки сюжета. Пока она не видела своей роли в разгоняющихся событиях, но не сомневалась, что вот-вот найдет ее.
Она подошла к занавеске, на которой четко обозначились подпалины, провела по ним ладонью, а потом осторожно заглянула за портьеру. Там на радиаторе стоял обмотанный проводами старый ватный Дед Мороз, засунутый туда после финальных судорог новогодних праздников. Он стоял на дополнительном обогревателе, о котором мы, честно говоря, абсолютно позабыли. Обогреватель включался от розетки за креслом, и необходимости заглядывать за занавеску не было. Дед Мороз несколько обуглился, но не сгорел благодаря своему старинному покрытию – что-то из клейстера и металлической стружки.
– Я, кажется, просила убрать его в коробку и на антресоли? – тихо спросила мама, обернувшись к нам с останками Деда Мороза.
Мы замерли, торопливо мечась по недавним воспоминаниям, кого именно просила Люся сослать ватное чучело, которое никто из нас не любил, – мы были слишком молоды, чтобы ценить антиквариат. А Дед этот был дорог Люсе, он скрашивал ее южное детство, а возможно, и детство кого-то из ее родителей.
– Мама, вот ваш призрак. Развлекайтесь дальше.
И она вышла из комнаты.
Первой ожила наша бабушка. Отдельно друг от друга, как у сложной, но все же управляемой марионетки, ожили ее руки, вскинувшись ввысь и очертив круг над головой, ожила собственно голова, описавшая на, казалось бы, безнадежно заржавевшей шее такой же круг, только поменьше. Ожило ее тело, устремившееся куда-то вслед за ногами, ноги, скакнувшие догонять голос:
– Люся, это неважно! Мало ли как оно проникает к нам. Он был здесь, Люся! Я просила его присниться мне, и он пришел. И он научил!
Мама оглянулась в дверях или нет – уже за ними, мама остановилась и как-то безнадежно посмотрела на нас на всех. Она как будто перестала быть нашей частью. Или мы ее?
Папа молчал, он не знал, что сказать. Жить шутя, жить как в чьей-то будущей истории, в детской сказке, иногда страшной, часто веселой, а порой безрассудно дикой, уже не получалось. Этот город что-то с нами вытворял. А мы, как глина, поддавались. Единственная молитва должна была бы накрепко приклеиться к губам Хачика, одна-единственная: «Господи, не доведи до греха». Но она все сползала, все стекала мелкой лужицей. Старания не в счет, и страдания не в счет. Это процесс – возможно, он пойдет в зачет, когда человек предстанет пред очи Создателя, но я думаю, сейчас думаю, что важен результат. Удержался или нет. Отговорки, объяснения, оправдания – все это для убогих или для интеллигентов. Это им положено не просто сделать шаг или оступиться, но и написать потом книжку – почему оступился. Мой Хачик был не из этих. Но он был и не из тех. Теперь он не знал, остаться с нами или идти за женой. Потерянный, он обнаружил неожиданную проблему выбора там, где и не ждал ее вовсе.
За Люсей пошел я.
– Ну что ты, мам?
– Все хорошо.
– Правильно, все хорошо.
Она внимательно оглядела меня. Просто сцепила на коленях руки и смотрела. Я не выдержал:
– Ну что?
– Уезжать нам отсюда надо.
– Мы же недавно приехали.
– Семь месяцев, – вытолкнула она из себя так, как будто это было семь веков, и все это время она толкала в гору камень.
– Ну давай уедем. – Я предложил это смело, как мужчина, который что-то решает. – Только куда? – На этом моя «взрослость» иссякла.
– Все будет так, как он скажет.
– Все будет так, как ты ему скажешь.
Мама потрепала меня по голове.
– Все хорошо, все нормально. Просто надо подождать немного. Привыкнуть. Мы привыкнем. Я привыкну. Вы уже привыкли. – Она склоняла глагол, трогательная, как ребенок, выпущенный поиграть в чужой двор, робко пинает перед собой сдувшийся мячик. Мне было жаль ее, до резкой боли в животе, до слез. И я заревел. В голос. В хрип.
– Ну что ты, милый, ну что ты?!
Она обняла мою голову, качала ее одну, огромную, лохматую, как младенца, и плакала вместе со мной. Дверь дернул отец, остолбенел, увидев такую картину, но быстро ожил, подбежал, рухнул рядом, обнял нас обоих, причитал что-то. Потом появились сестры и бабушка. Мы все клубком свернулись на кровати родителей. И все плакали. Отец – о той крови, которую прольет, бабушка – о том, что уже не вернется, сестры – за компанию, и каждая о своем, крохотном, девичьем.
С пролитыми слезами пришло облегчение: мы снова были вместе.
Переворот
Единственными пока не задействованными персонажами в истории заочного Славикова киллерства были достославные Муся и Дерево А их не стоило сбрасывать со счетов как и зубья что отрастили они друг против друга. Они хорошо стояли на ногах и вхожи были в кой-какие круги. Даже пару раз заносили чемоданец-другой для Горькой мамы Каждый из них в урочный час был призван на ковер к Славику. Встретив там один другого они икнули разом будто столкнулись – каждый – с собственной изувеченной тенью Там же были ошарашены новыми вводными Славик хорошо справился со своей ролью он уже вполне освоился в ней Он поведал своим сметенным клиентам что горечь разочарования усталость и желание найти источник щемящей тоски – это вполне естественные чувства.
Славик мастерски адаптировал слова моей бабушки переведя их с ее собственного на обычный русский язык. Правда и то, заливался Славик, что накопившемуся негативу нужно, непременно нужно найти выход. Конечно, первое побуждение – вывалить задержавшееся дерьмище на ближайшего, то есть на партнера. За это никто не осудит Мусю и Дерево, и пусть бы они сами думать забыли об осуждении друг друга, а уж тем более самих себя. Здесь партнеры швырнулись выразительными взглядами, и Славику показалось, что в ход пойдут пушки – вот-вот сейчас грохнут выстрелы, и его черная-черная комната поплывет в небытие черным пороховым облаком. Но товарищи сдержались – карты были выложены на стол. Оба чувствовали: сейчас произойдет нечто важное, совершенно колдовское, желательно расчудесное. И оно произошло.
Из-за черной бархатной занавески вышел Хачик. Весь в черном, с густо смешанными с бриолином и зачесанными назад остатками волос. Вместо галстука висел шнурок с серебряной пряжкой, в точности такой, каких он нагляделся в американских фильмах с ярко выраженной техасской ориентацией. Он подумал, что это должно произвести впечатление, и не ошибся. Он стоял перед незадачливыми товарищами, показывая себя, наслаждаясь произведенным эффектом. Он представился магом.
– Я – колдун, – так и сказал он. – Дело серьезное, ребята.
Муся и Дерево заволновались, немедленно став похожими на несчастных детей, которым только что сообщили, что в приличном доме матом не ругаются, и если они будут продолжать в том же духе, то соберут вещички и отправятся жить туда, где непристойности в моде, – например, под мостом. Но ни одному ребенку не хочется жить под мостом – это факт. И потому два состоявшихся предпринимателя разом затараторили:
– Да мы чё!
– Мы ж ничего!
– Скажите, сколько надо, и все будет!
– Чё делать-то?
– Я расскажу вам притчу. – Отец сел, потеребил задумчиво кончики галстука-шнурка. – Готовы?
Муся и Дерево были готовы на все, лишь бы тягостное неведение наконец растворилось, а что еще лучше, растворился бы этот странный черный человечек, похожий на беса.
– Была у человека лавка, и в ней он вполне успешно торговал медом. Не так чтоб золотые горы зарабатывал, но неплохо, совсем неплохо… Понимаете меня?
Парни синхронно кивнули.
– Упала на землю одна капля, так бывает, что ж… На нее, естественно, тут же присела оса. Конкуренция между осами была такая, что, как только появлялись дополнительные ресурсы, их тут же рвали между собой на части другие осы. А тут вокруг ни одной другой осы, и поэтому нашей осе показалось, что ей несказанно повезло. Она налетела на каплю меда, села, пила и, довольная жизнью, думала: «Спасибо, Господи, за такой подарок». Всем пока все понятно?
Отец оглядел жиденькую аудиторию и обнаружил, что самое бессмысленное лицо, пожалуй, у Славика.
– Но вот вопрос, как отличить искушение от дара? – Хачик немного повысил голос и тут же сбавил обороты – хороший ход. – Кот прибежал и схватил осу. Но бежал-то он мимо пса, который мирно дремал на пороге. Пес погнался за котом и схватил его, да так, что только клочья летели. Но, кроме того, что кот был болван, впрочем, как и оса, и пес, он был еще каких-то там необыкновенных кровей. Но этого не знал хозяин кота – держатель медовой лавки, размахнулся палкой, чтобы отогнать собаку, но так неудачно, что раскроил ей темечко. Пес-то был не из местных. Он был из соседнего городка и, повторяю, породистый, сукин сын. И хозяин пса, как узнал, что лавочник убил его собаку, страшно разгневался. Он прибежал и убил лавочника.
– Ну нормально, я б тоже убил, – заявил Муся.
– А я бы нет, – сообщил Дерево.
– Тут поднялись крестьяне обеих деревень, начали между собой великую войну, и произошло такое побоище, что в живых остался только один человек. Как вы думаете, кто?
– Кто?
– Ну кто?
Если бы мне задали этот вопрос, я бы ни секунды не раздумывал. Я бы точно знал: что бы ни случилось, в живых останется Хачик – мой отец. У папы была своя версия. Им был пьяница, который кутил ночь напролет и в это утро спал, гадко мучаясь похмельем. Вот ему-то и достались медовая лавка, кузница, церковь, засеянные поля и ломящиеся огурцами огороды крестьян обеих деревень.
– Вот хрень.
– Не говори, брат. Какому-то огрызку на подносе весь конвейер.
– Вы поняли мою мысль.
Папа не спрашивал, он настаивал. Однако Муся и Дерево простодушно трясли головами.
– Нет, но все равно обидно.
– Вы сейчас – это передравшиеся жители соседних деревень. И вы готовы убить друг друга.
Муся густо покраснел. Дерево яростно грыз ноготь.
– А кто алкаш?
– Вот это неправильный вопрос, брат. Им может оказаться кто угодно. И какая вам разница, кто после вас окажется у руля?
– Тогда кто эта паскудная пчела? – нахмурился Муся.
– Да. Подозреваю, что она была в сговоре с алкашом, – добавил свои пять копеек Дерево.
Сапожник Хачик оторопел. Пожалуй, впервые в такой неопровержимой, конкретной очевидности столкнулся с разницей мышления южан и северян. Папа мыслил по-своему красочными, отвлеченными от жизни картинками. По правде говоря, то были куцые символы, щипанные, как цыпленок, но все же – образы! Любой южанин бы понял, что он имеет в виду, рассказывая притчу про каплю меда. Но эти двое мыслили конкретно. И, что Хачика поразило в самую-самую сердцевину его натуры, так это то, что вопросы партнеров были не только не лишены смысла, но вдобавок указывали на уязвимость логической конструкции моего папаши. Внезапно он понял, что Муся и Дерево стали успешными не только потому, что благополучно избавлялись от конкурентов. Они были умны, расчетливы, последовательны и осторожны. Хачику нравилось иметь дело с людьми умнее себя. Вызов? Отчасти. А по трезвом размышлении – чистый расчет. Значит, они поймут верно, что Горькая мама Фира – и есть главный враг их процветания. Именно она не дает возможности раскрыться талантам мужественного Муси и его верного товарища широкоплечего Дерева. Именно она обирает честных предпринимателей. Именно она, коварная, стравливает одних с другими, провоцирует на тайные и открытые войны, управляя таким образом запуганными осколками бизнес-сообщества. Горькая мама Фира была язвой – нет, не язвой – гнойной раной города. Из-за нее городу трех революций приписывалась дурная слава колыбели общероссийского криминала. И разве можно с этим согласиться? Разве можно вот так вот сдать город врагу, не предпринять ни одной попытки сопротивления? Неужели так бы поступил гуру свободного духа и раб безупречной сицилийской чести – достославный дон Вито Корлеоне?! Теперь вся собранная Хачиком информация должна была переместиться в головы друзей.
Славик отказался от чести присутствовать при этом таинстве, он пил чай на нашей кухне. Прихлебывал из большой кружки, грыз пряник и поглядывал, что там готовит бабушка. Она же была на удивление молчалива, резала чахлый укроп, посыпала им суп, а затем вдруг со всего маху дала Славику могучий подзатыльник. Тот наскочил зубом о край фаянсовой кружки с портретом Марлона Брандо из кинофильма «Крестный отец» и взвыл от боли.
– За что?!
– Все из-за тебя!
– Но как же… – Несчастный Славик, которому еще минуту назад казалось, что тут, на этой кухне, в этой самой квартире он наконец обрел семью, которой у него толком никогда и не было, почувствовал себя вероломно преданным. – Я же… Вы же…
– Что я? Что мы? Во что сына моего втравил?
– Но он сам…
– Сам!
Бабушка тяжко рухнула на стул. Ее узловатые пальцы сцепились в клубок, она мелко и часто била им о стол.
– Сам… Конечно, сам…
Она успокаивалась, Славик облегченно выдохнул.
– Дай посмотрю. Рот открой.
Славик послушно разинул пасть, бабушка взглянула, не навредила ли она зубам соседа. Все как на подбор были на месте.
– Ладно. Будем ждать.
Собственно, дальше все потекло-покатилось предсказуемым руслом. Муся и Дерево, оказавшись на авансцене великих событий, неожиданно легко вошли в роли спасителей отечественного бизнеса – да что там! – самого отечества. Ведь что такое бизнес – залог процветания страны, а потому избавить родину от чудовищного вампира в образе Горькой мамы Фиры представлялось им подвигом истинного мученичества. А то, что им предстояло принять героические страдания, они не сомневались. Хоть и объяснял им Хачик, что никаких последствий не будет, что мелковаты Муся и Дерево, и никогда подозрения не лягут на их белоснежные репутации, но те уже представляли себя – один с терновым венцом голове, а другому отчего-то виделись ромашки… Ромашки на могильном холмике. Нет, нет и нет, отвечал папа – никаких могил. А для верности прикомандировал к партнерам «своих людей» – безумного Гаго и его товарищей, будто у русских не было своей охраны, будто у армян не было своих дел.
Муся и Дерево были вхожи в круги – это да. Но дальше порога их еще не пускали. Возможно, со временем они могли бы пробиться наверх, если бы доказали свою преданность Горькой маме, отстреляв пару-тройку коллег, на которых указал бы ведьминский перст подлой Фиры. Со временем, но не сейчас. Этот факт еще недавно расстраивал их, болезненно теребил неудовлетворенные амбиции, недавно – но не теперь. Нынче их не обидело, когда на приеме в честь надуманного юбилея (триста лет со дня основания завода по производству мочалок) в одном из пригородных дворцов Петербурга их не узнавали или, узнав, не могли вспомнить по именам. Отлично! План работал. Безупречная его стройность проявилась еще две недели назад, когда Муся и Дерево «неожиданно» получили приглашение на этот так называемый «юбилей», который был не чем иным, как воровским сходняком. Это было делом сложным, но вполне выполнимым. Хоть Фира и окружила себя проверенными людьми, но у каждого ее верноподданного имелся стилист, кардиолог и ювелир. А у них, в свою очередь, парикмахер, массажист и сантехник. Многие из этих людей были армянами, хотя национальный фактор здесь и ни при чем. Сложную траекторию, по которой двигались вожделенные приглашения от канцелярии фактической хозяйки города в руки новых союзников Хачика, проследить было невозможно. Это было первой крошечной победой, и все же главное было впереди.
Съезд гостей – обычная, довольно нудная процедура. Чтобы скрасить ожидание гостей, официанты обносили их шампанским и другими благородными напитками. В центре зала плевался мерными волнами фонтан шоколада, камерный оркестр, исполняя Бриттена, настраивал пищеварение участников мероприятия на конечный положительный результат. Щелкали фотокамеры репортеров светской хроники, время от времени в той или иной группе хорошо знакомых, которые, словно невидимым облаком, были окутаны своими прежними отношениями, нынешними тайнами и будущими грехами, громовым раскатом ухал дружный смех, иногда пробивался отборный мат, но строгий Бриттен упрямо выправлял ситуацию.
Основные события – тайные, скрытые от пытливых глаз коллективной твари, настойчиво именуемой в газетах «элитой российского бизнеса», – происходили в это время в подсобных помещениях. Вечер должен был начаться небольшой формальной частью – конференцией, на которой собирались подвести итоги деятельности предпринимателей, осветить деятельность завода-юбиляра, доказав его инвестиционную привлекательность, что в переводе на человеческий язык означало: «Делим поляну, зачем нам мочалки, если их можно поставлять из Китая, а тут помещения, территория, коммуникации, кто больше, господа, деньги на бочку!» После этой получасовой вводной части (на которую, к слову сказать, были потрачены немалые городские деньги) предполагалось большое застолье, во время которого едоков должны были развлекать звезды российской эстрады. Затем, уже перейдя в один из красивейших залов дворца, гости, определенно пришедшие в состояние полной благости, перешли бы в другой зал и там насладились бы пением сэра Элтона Джона. Забегая вперед, скажу: в целом план был исполнен, однако ожидаемый эмоциональный строй мероприятия был нарушен с самого начала.
Гости проследовали в просторное помещение – большую придворную гостиную, ранее служившую для сбора фрейлин, советников и караула. Нынче здесь были расставлены стулья, а перед каждым что-то вроде пюпитра с гравированными папками – логотип, девиз: «Личное богатство – залог богатства страны» – все как полагается у серьезных людей. Красивые получились папки. Берешь в руки, понимаешь – вещь. А то, что внутри безвольно сжались совершенно бесполезные материалы конференции, – кого это волнует. Расселись люди, кто-то лениво открыл свой экземпляр. Открыл и… оглянулся, а оглядевшись, обнаружил еще несколько таких же встревоженных лиц с глазами, полными растерянности и даже страха.
А в это время хозяйка приема в свойственной ей решительной манере докладывала своим заклятым друзьям-товарищам:
– Друзья – мы опора отечества…
В папке грузного господина азиатской наружности, сидящего в первом ряду, поверх стандартного набора бумажек лежала фотография коллеги, развлекающегося в бане с полудюжиной девиц.
– Приумножение личного капитала никак нельзя назвать меркантильным занятием. Это бой, который мы ведем ежедневно, ежечасно…
В папке господина с крупным мясистым носом, испещренным сосудистой сеткой и рытвинами, лежала фотография конкурента. Тот был выхвачен камерой, когда выходил из клуба где-то в веселеньких кварталах Амстердама, – он был одет в женское платье, измалеван косметикой, но вполне узнаваем.
– Бизнес – это творчество, и нет такой силы, которая смогла бы остановить наши фантазии, – продолжала Горькая мама Фира, и в сущности была совершенно права.
Болезненно худой господин, со следами выведенных татуировок на руках, получил фото своего соседа справа. Тот был запечатлен во время странного ритуала – то ли новых язычников, то ли старых добрых сатанистов – в сущности, совершенно безобидных, но настолько же безумных.
Люди тревожной волной покачивались без всякого порядка и логики – озирались. Горькая мама уловила беспокойство и форсировала голосом аудиторию:
– Мы диктуем порядок, в наших руках управление умами людей. Это миссия, господа. И мы должны гордо нести возложенный на нас крест.
Она так и не поняла, что случилось нечто экстраординарное. Она почувствовала неладное, ведь была Горькая мама Фира законченной хищницей, но все же не распознала опасность. Инстинкт подвел ее на этот раз, слишком уж обвыклась со своим непоколебимым положением. А люди, ее соратники, приспешники, подельники, ее глаза и руки, ее тугие кошели, ее надежные банковские ячейки, ее безупречные страховые полисы на все времена, на веки вечные, – все эти люди задавались одним-единственным вопросом: кто, кроме нее, мог положить в каждую папку снимки с компроматом? И ответ был очевиден: только она. Кстати, были «счастливцы», которым достались фотографии с их собственными грязными делишками. Но в данном раскладе еще неизвестно, что было страшнее – получить шлепок грязи по собственной физиономии или стать невольным правообладателем чужого грешка. И в любом случае красная лампочка тревоги зажглась в каждой голове, будь эта голова нашпигована формулами из области высшей математики или сермяжным воровским понятием. И тревога эта звучала так: ЗАЧЕМ ЕЙ ЭТО НАДО?!
Пока Горькая Фира продолжала призывать к сплоченности в рядах, каждый из присутствующих, проделав минимальное логическое усилие, пришел к простому умозаключению: она их стравливает. А раз так, то пришло ей время уйти со сцены.
Муся и Дерево старательно делали вид, что тоже потрясены увиденным, хотя стоит ли говорить, что именно они принесли во дворец, практически принадлежавший Горькой маме, весь этот фотобестиарий. Раскладывали, конечно, не они, а те, которых обычно нанимают и забывают о них немедленно, – «технические помощники», стоит ли говорить, все как на подбор, люди, связанные с теми, кто связан с моим отцом.
Сам Хачик в это время сидел в неприметной машине неподалеку от дворца. Он не уехал оттуда, пока мимо не проехали автомобили Муси и Дерева, а следом не пронеслась раздолбанная «газель», управляемая безумным Гагиком.
Когда происходили эти события в недоступном нам месте, в бывшем царском дворце, мы: бабушка, сестры, Славик и я – сидели за столом в гостиной, почти так же, как когда решили воззвать к духу дедушки. Мы взялись за руки и напряженно вглядывались в свечу. Почему-то было холодно. До озноба холодно.
– Это страх, – пояснила бабушка.
– Да, страшно, – согласился Славик.
Мы действительно ощущали опасность, которая нависла над всеми участниками операции, в подробности которой мы тогда, конечно же, не были посвящены.
В комнату тихо вошла мама. Она села между мной и бабушкой, разбив нашу тесную цепочку. Но Люся тут же взяла нас за руки. Ее ладони были теплыми – нет, они были горячими. Озноб улетучился, словно с приходом Люси все встало на свои места. Никто не проронил ни слова. Фитиль свечи медленно вращался, будто веретено, наматывал пламя, время, и наше единственное желание было, чтобы наш отец вернулся из этого боя всегдашним победителем.
Повернулся ключ в замке, на столбик свечи стек слезой горячий воск.
Хачик вошел в квартиру…
Любовь и смерть под одной крышей
Кто из них, из присутствующих на том приеме, принял окончательное решение, было ли оно коллективным? Никто никогда не ответит мне на эти вопросы. Никто никогда не найдет того первого, кто опустил палец, или того последнего, чей голос оказался решающим. Но приговор был вынесен и приведен в исполнение.
Холодным сумеречным утром, когда лето прячется за предчувствием новой осени, машина Горькой мамы Фиры выехала из ворот загородной резиденции. Ворота бесшумно сдвигались, повинуясь неумолимому электронному сигналу, и ничто не намекало, что этот день чем-то выделится из череды прочих. Помощники еще вчера представили разблюдовку сегодняшних перемещений, не обозначив ни одного важного события – ни приезда московского руководства, ни прочих представительских обязанностей, которые Фира честно блюла при муже, хоть и не были они ей по сердцу. А сердце-то болело. С того самого вечера – бывшего уже полтора месяца назад – с того приема по случаю юбилея завода идиотских мочалок. Официально-то он назывался «Завод по производству пеньковых изделий», но понятно, кроме как «мочалками» их никто не называл. Приватизировали, наконец, этот заводик, переписали на надежного человечка. Все путем.
Ворота закрылись. Машина выехала на дорогу, ведущую к шоссе. Надо подстричься, подумала Горькая мама Фира, поймав свое безобразное отражение в зеркале. И это было последнее, что мелькнуло в ее голове, потому что через секунду та самая голова, что нуждалась в опытных руках парикмахера, оторвалась от тела, как, впрочем, и многие другие его составляющие.
Взрыв был такой силы, что опергруппа несколько дней собирала по кустам кровавые куски мамы Фиры и ее водителя – одного из двух, того, кто в это утро поменялся со своим сменщиком, чтобы с завтрашнего дня иметь подряд три выходных – любил он рыбалку и уху на костре.
Понимал ли мой папа, что его авантюра стоила жизни паре душ, одна из которых, скорее всего, уже танцует тарантеллу с чертями по месту новой прописки, а вторая, возможно, покачивается на облаке, все еще мечтая о рыбалке? Вряд ли. Он спасал своего случайного «крестника», того, кому дал шанс в жизни, чье доверие обмануть не мог, просто не имел права.
Славик не просто оценил Хачиковы хлопоты, он готов был высечь у себя на лбу «верный раб». И рабство это было бы добровольным и вечным. Если бы, конечно, кто-то из них мог рассчитывать на вечность. А, впрочем, вечность вечности рознь.
Через несколько дней после казни Горькой мамы, в неоговоренный смурной час, раздался короткий звонок в дверь Славика. Вошел человек, выправкой и ещё чем-то неуловимым он напомнил того зловещего заказчика, что принес фотографию Фиры. Он вошел молча, просто скользнул глазом по физии Славика и в целом по его бестолковой фигурке и прошел в комнату. Он поставил на стол небольшой чемоданец и, щелкнув замками, достал завернутый в бумагу небольшой брикет. Ну как будто бы два пломбира завернули вместе. Не торопясь, но и не секундой не задержавшись лишку, мужчина закрыл портфель и ушел. Славик и так в последнее время только и делал, что трепетал от любой малости. Недавно, ночью, на дереве перед своим окном он увидел спящую ворону. Оказывается, во сне эти птицы ворочаются так же, как и люди. Возможно, они даже что-то бормочут, хотя и не поручусь за это. Вороны могут вращаться вокруг ветки, непроизвольно распахивать то одно крыло, то второе, вращать головой. Бедный Славик, увидевший подобное, стал неистово креститься, потому что знаний в области орнитологии у него не было никаких, зато, обладая опасной нервной возбудимостью и раскачав дремавшую до встречи с семьей сапожника Бовяна фантазию, сосед наш немедленно представил, что странная ворона перед окном – вестник его скорой кончины, горнист его проклятия, Гермес вековечных мучений. И конечно, он не нашел ничего лучшего, как заявиться к нам со своим негаданным трофеем.
– Что это? – спросила бабушка.
– Не знаю, – прошептал Славик.
Бабушка пожала плечами и преспокойно вернулась к приготовлению босбаша.
– Что это? – спросила Люся, зашедшая на кухню помыть фруктов.
– Он не знает, – ответила бабушка.
Мама пожала тоже плечами. Уходя, посоветовала зайти к Хачику. Хоть и у него было столпотворение. Дверь в его кабинет не была затворена – не поместились бы иначе пришедшие люди. Я видел – все эти водители, повара, массажисты и парикмахеры целовали руку моего отца…
Славик дождался финала. Он вошел к Хачику, когда тот одиноко сидел за столом: маленький, он внезапно сжался и стал казаться постаревшим мальчиком, в голове которого бродили противоречивые мысли – удрать из дому или, к примеру, устроиться на почту, разносить телеграммы.
– Хачик… У меня тут… Тот человек принес.
– Покажи.
Брикет бухнул на стол – Славик выронил его от волнения. Отец развернул и увидел деньги.
– Бери их и беги.
– Куда?
– Я не знаю. Но это не должно повториться.
Он поднял голову, будто почувствовал постороннее присутствие. И был прав: в его жизни безотлучно присутствовал человек – выдумка, мутант, сотворенный из писательской выдумки, из фантазии незадачливого читателя да обаяния мощного актера. Папа уперся взглядом в портрет Марлона Брандо – Дона Корлеоне, а этот лишь тем и занимался, что смотрел на Хачика: ежедневно изучал и докладывал духам раздора и порядка. И если раньше портрет Дона висел наподобие иконы, являясь источником вдохновения, собеседником, вовсе не молчаливым – просто отвечающим невесомым и прозрачным шепотом, который слышен лишь посвященному, то теперь человек на портрете стал казаться папе соперником. Каждый добился того, чего хотел: Вито Корлеоне создал свою противоречивую империю, а Хачик и здесь, и снова «невольно» стал доном. Вымышленный книжный дон с радостью нашел новое тело для своей вечной, как стон, души, а Хачик чувствовал, что вот-вот не вынесет ее тяжести.
Отличная выстраивалась картина: кто-то в этой истории, как ты ни переставляй фигуры на шахматной доске, должен был умереть. Горькая мама, Славик, его грозный заказчик. Они и еще кто-то, кто оказался бы рядом. Заданность беды походила на примитивную математическую функцию – я к этому времени как раз увлекся математикой. И это не должно было повториться. Нужно было стереть с доски условие задачи и способ ее решения.
Славик не нашел в себе храбрости сбежать. Он прилепился к Хачику, как детеныш обезьяны к мамкиной шкуре, вцепился, не выпускал, не представлял, что будет делать один-одинешенек в какой-нибудь незнакомой стране, в любом другом месте, где его никто не будет считать родным. Вот в чем причина – быть чьим-то, иметь «отца» или «мать». Нет – лучше отца.
О смерти Горькой мамы Фиры я прочел в случайной газете, оставленной кем-то на скамейке в метро. Хачик тоже узнал о казни. Но сделал вид, что ничего не произошло. Бабушка тоже промолчала. Мама померкла глазами, она перестала разговаривать, она перестала напевать безымянные песенки, когда делала домашнюю работу. Она вообще перестала работать по дому, так как теперь эти хлопоты взяла на себя Зульфия, которую приглашали дважды в неделю – мыть полы, сметать пыль и доводить до зеркального блеска краны, смесители, зеркала и стекла книжных полок.
Люся стала чаще заглядывать в наши спальни. Мы с сестрами все чаще стали сбиваться вместе, как в детстве, когда нам казалось, что счастье разлито повсюду. И чем глубже вбивались в Хачика морщины, изгибая книзу края тонких губ, делая лицо похожим на клинок, тем отрешенней казалась мама. Ее мало что связывало с жизнью: прежней нет, как не было, будущей нет, как и не будет. Настоящее ей не шло, как чужое ношеное платье. Даже когда нас не было дома – протирали ли мы штаны в школе или еще где – Люся заходила в наши комнаты, садилась на край постелей и долго рассматривала фотографии, постеры на стенах или бумажки на столах. Она никогда ничего не трогала, мы давно распоряжались своим имуществом сами, на нас же лежала непосильная ноша уборки собственных комнат. Естественно, они быстро зарастали хламом, и робкие просьбы матери «разобрать на столе» заканчивались криками Светы, слезами Марины и моими собственными скорбными вздохами о несовершенстве бытия. Конечно, мать могла на нас повлиять, вернее, надавить, пригрозить чем-нибудь, сыграть на наших чувствах к ней. И не думаю, что это не приходило ей в голову. Но Люся была ангелом, и, если всю свою счастливую жизнь она была снисходительной к Хачику, почему она должна была манипулировать сердцами его детей.
Люся сидела в наших комнатах и, вероятно, лишь в тишине, в отсутствие девичьего щебета, трескотни игровой приставки к телевизору, телефонных звонков, радостных воплей и постоянного, неутихающего призыва: «Ну, мама!» – только тогда она осознавала – время вылилось, вернуть ничего не удастся, ничего нельзя изменить… Вот так вот… Сначала она прибегает к тебе зареванная и крошечная и тычет тебе свои ободранные ручонки:
– Мама, я упала, мне больно, подуй, скажи, чтоб болело у кошки, а у меня не болело…
Потом она же тычется распухшим от первых горьких горячечных слез в шею и шепчет, как кричит:
– Мамочка, что теперь будет, что теперь будет, что теперь будет, он меня бросит, я не беременная, как ты думаешь, только не говори никому…
– Родная, кому, кому я скажу?
Мы выросли неожиданно даже для себя самих. И я действительно подозревал – хотя нет, был уверен, что моя старшая сестрица Светка с радостью и присущей ей бесповоротной решимостью распрощалась с девственностью, а Маринка – наша младшая, как мы привыкли думать, всерьез занялась выбором профессии, подходя к этому занятию исключительно расчетливо. Такое слово, как «призвание», звучащее высокопарно и порабощающе, ни разу не слетело с ее языка. У моей сестры была предельно конкретная цель, пожалуй единственная, а от того великая. Она полагала, что должна помочь человечеству выжить. А человечество нуждалось во врачах. Особенно Африка нуждалась, о которой Марина могла говорить часами: люди темного цвета кожи чаще страдают от таких-то заболеваний, безжалостный климат Африки провоцирует сякие-то заболевания, определенный психотип, связанный с историческими и социальными обстоятельствами развития… Ну и всё остальное в таком вот духе. Марина избрала созидательный путь.
Света же была революционеркой – выскочить замуж за прижимистого миллионера, а потом разорить его до опилок, до эха, которое будет перебрасывать от стене к стене его одинокий вопль в пустом доме, из которого коварная Света вывезет при разводе всю мебель, – так она иногда представляла себе будущее. Мебель она, конечно, сожжет на темной лесной поляне – горите, доллары, горите! Ну или отдаст крестьянам на дрова – не пропадать же добру. Для Светы важен был процесс соперничества с мужчиной и момент победы над ним. Так же естественно, как и выйти на баррикады, защищая человечество от давосской нечисти. Ее чувства дымились пылкими взаимоизгоняющими кострами – отдать все и взять все.
Я же искал себя во всем, в чем только находил свое слабое отражение. И… я мучительно искал отца. Его я часто видел в себе, но с собой не встретил ни разу. Он перестал быть нашим богом, он так и не стал нашим другом. И чем меньше я слышал внутри хриплый голос его крови, тем все четче видел нежный, почти невесомый образ мамы. Я словно недавно проснулся, и, пока я спал, прошли не только годы – свернулись в клубок расстояния, рассыпались вдребезги мечты. Нет, ничего конкретного – наша жизнь и была мечтой, просто мы тогда этого не знали. Портрет матери моего детства, на все, казалось, времена запечатлевшийся где-то под веками, давно не соответствовал оригиналу.
Моя мать, светловолосая Люся, совсем растерялась в этом большом холодном городе. Я вспомнил, как она нас учила, недавно, всего год назад, когда мы только приехали. Говорила нам по вечерам:
– Дети мои. Вы здесь чужие. Несмотря на цвет глаз, волос и прозрачную кожу, которая боится солнца. Поэтому остерегайтесь того, кто нагнулся за палкой.
Мы промолчали, были делано задумчивы. Мы не знали, что ей ответить, и просто тянули время. Я посмотрел на сестер. Одна из них, кажется, всхлипнула. Это была Марина. Я был почти уверен, что если и нагрянет кто-то с дурными мыслями в голове, то она первая подставится и под палку, и под камень, под острый нож и под любое другое оружие.
– Мам, но если он уже пришел с палкой? – осенило меня снять напряжение дурацким вопросом.
Мама погладила меня по голове.
– И кто сказал, что у нас с собой тоже не может быть палки? – поддержала меня Светка.
Марина кивала, соглашаясь, в сущности, нет ничего невозможного, в конце концов, и ее пацифизм имеет границы.
– Теперь я знаю, вы не пропадете, – улыбалась тогда мама. А потом все реже и реже…
Я понял, как дорога мне моя мать, при очень странных обстоятельствах.
Мы переехали на новую квартиру. Это случилось неожиданно, почти сразу после гибели Горькой мамы Фиры. Мы привыкли к переездам и уже не видели в них ничего экстраординарного. По соседству с нами поселились и Славик, и Гагик, и все остальные. Их жизни уже давно не имели ценности помимо воли моего отца, его бесхитростных желаний и наших семейных потребностей – довольно скромных, надо сказать. Квартира мне нравилась – на тихой улочке, которых мало осталось в центре Петербурга, в большом красном доме с кариатидами, с лепными лепестками и полукруглыми окнами.
Вид этого здания будоражил мое воображение и что-то еще… Стало казаться, что… мы уже встречались. Я и это здание, я и… женская головка, подпершая макушкой балкон, – где-то, когда-то мы были «на ты». Когда она была живой. Когда еще не была проклята и приговорена к вечному стоянию, пока не окаменела здесь. А может, это я был тому виной, может статься, моими грехами нынче упиваются черти в аду, грехами, что я бесстрашно плодил в те времена, когда был пиратом. Мечты о будущем одолевали детские сны. Но безмолвно стояла эта смиренница, потупив глаза. Я открывал окно, усаживался на широкий подоконник и смотрел на ее профиль, который как раз располагался рядом – между моей комнатой и спальней Марины. За этим мечтательным сидением я мог проводить часы – столько часов, чтобы успеть смертельно закоченеть, придя в состояние, близкое положению моей романтической избранницы. К тому же я сочинил несколько вполне типичных юношеских стихотворений, основным мотивом которых была смерть и невыносимость разлуки с любимой. И уж коли она мертва, то и поэту жить на земле незачем. Поэтические стенания наматывались по кругу, от всегдашней, изначальной небытийности избранницы к собственной, поэта, физической смерти, как к единственной возможности воссоединиться с объектом обожания. Я писал и рвал в клочья написанное, не испытывая ни малейшей жалости или хоть какой-либо привязанности к рифмам, которые источало мое юношеское гормональное цунами. Люся находила в помойном ведре обрывки моей горячечной мысли, собирала их как пазл, читала и снова погружала в ведро. Ни словом она не обмолвилась о том, что знает мою тайну. А я знал, что она знает.
И вот случилось так, что, едва осознав, что у меня есть мать, я чуть ее не потерял. Эта наша новая квартира была оснащена водогреем – газовой колонкой. Большой бойлер обеспечивал комфортом круглогодично – в Петербурге отключали на лето горячую воду. Папа хотел заменить его на электрический, но отчего-то передумал. Да нет – не «отчего-то», он просто понимал, что данное пристанище не просто временное – оно, как ветка дерева, где нужно лишь передохнуть стае и направиться дальше, поэтому и не стоит обустраиваться основательно. Бойлер работал так: нужно было поднести к фитилю зажженную спичку и повернуть рычаг со спортивной маркировкой «start». Загорался огонек, который, при включении горячей воды, дробился на множество подобных голубых язычков – так вода становилась горячей через каких-нибудь полторы минуты. Был поздний вечер. Мама зажгла спичку, поднесла ее к колонке. Раздался взрыв – настоящий, как в кино про гангстеров. Я первым, а за мной и все остальные побежали на грохот… Взрыв был такой силы, что на кухне, отделенной от ванной комнаты кирпичной стеной метра в три шириной – не меньше, – свалились ходики. Бабушка, наливавшая себе в тот момент травяной настой на ночь, ойкнув, присела на стул. Моя мама стояла в ванной, окаменев от ужаса. Во все еще протянутой к бойлеру руке она держала потухшую спичку. С головы до пят Люся была обсыпана серым пеплом. Округлившимися от страха глазами она взглянула на меня и прошептала голосом, который тоже обсыпал пепел:
– Я ничего не сделала…
А мое сердце ухнуло острым и странным чувством, которого я никогда раньше не испытывал, по крайней мере к живому человеку. И если бы его можно было высказать, слова бы сложились так:
– Как я люблю эту женщину!
Казнь
Казнь Хачика не была назначена. Расплата настигла его с тыла, напала неожиданно – только так и совершаются зловещие и великие предательства. Отец так и не узнал, что был казнен. Он так и жил дальше, не понимая, что таскает свою пустую оболочку, уже лишенную всякого одухотворенного содержания. И, как всегда, именно я обнаружил приговор и фактически привел его в исполнение. Ведь, если бы не моя воспламенившаяся любознательность, так и шелестело бы все дальше – негромко, будто кто-то проводил металлическими щетками по барабану. Но я, как повелось, был причастен ко всему самому важному в жизни отца.
Теперь уже не знаю, гордиться ли этим или забыть, закопать в залежах своих воспоминаний, как на дне старого чемодана с фотографиями, облезлыми игрушками и пожелтевшими страницами журналов с моделями самолетов Второй мировой. Делиться чужой тайной – дело возбуждающе-опасное, но носить чужую тайну в сто крат опаснее, и нервы щекочет так, что хочется слагать песни об этом и наполнять их тридцать девятым смыслом, понятным лишь тебе и, возможно, тем немногим, кто также посвящен в невыносимый секрет. В моем случае узок был круг обладателей ужасного вердикта: собственно я и автор приговора – моя сестра.
Все просто: я нашел дневник сестры, старшей – Светы. И вот что я прочел, открыв наугад: «Я ненавижу своего отца».
Я оторопел и несколько секунд раздумывал, зачем меня вообще дернуло прихватить из ее комнаты потрепанную тетрадь с многочисленными наклеенными на обложку вырезками из журналов – в основном это были портреты российских олигархов, известных экономистов и парней с запятнанной репутацией. Преобладал в этом иконостасе образ Анатолия Чубайса. Никакой сверхординарной причины красть дневник сестры у меня не было, затем в поисках мотивации я понял – я просто хотел больше узнать о девушках, о том, что их интересует, беспокоит, привлекает, отвращает. Я искал совета у близкого человека, но стеснялся попросить о помощи напрямую. Вот так я оказался в своей комнате со Светкиным дневником на коленях. И прочел это: «Я ненавижу своего отца».
У меня упало сердце, и в груди обнаружилось изрядное пространство совершенной пустоты. Это было сродни тому, чтоб застать отца голым. Или, того хуже, как будто я застал свою сестру за подглядыванием за голым отцом. Ощущение чудовищного греха, который мы посмели заварить за спиной Хачика, на несколько долгих минут парализовало и мозг, и волю, и обычные физические рефлексы. Но возвратного механизма этот аттракцион не предполагал, и я пошел за строчками:
«Я ненавижу своего отца. Большего негодяя я не видела. Ну ладно я, кто я, собственно, такая. Думаю, что большего негодяя просто нет на свете. Как с ним мама живет? Я несколько раз пыталась поговорить с ней, но она, словно чувствует каждый раз, что я хочу вывести ее на разговор. Поэтому выдумывает всякие уловки – нужно съездить в аптеку, нужно посидеть с бабушкой – она себя плохо чувствует. Она еще то и дело переводит разговор на меня – не слишком ли короткие юбки я ношу, ведь это может не понравиться папаше. Она настоящая стопроцентная „преданная жена“. Я никогда не буду такой. Никогда, никогда, никогда, даже если придется умереть. Это он – мой папаша – сделал из мамы рабыню. А она была умной и красивой. А теперь я попыталась поговорить с ней о политике, и она сразу сказала, что не готова рассуждать на эту тему. Ей, видите ли, совсем непонятна ситуация в России. А что, ситуация в Северной Корее ей знакома лучше? Или ее интересует нечто иное, что-нибудь поверх политики? Может быть, живопись? Современная фотография? Мода? Но она не виновата – это все он! Убийца и зверь. И людоед. Он ведь съел маму. Просто взял и проглотил целиком. Ну что ж, я не дам ему сделать то же самое со мной или с моей сестрой. Нами он подавится. Я обещаю пользоваться всем, что может предоставить его кошелек, я по возможности облегчу его, но я не поддамся. Я так ненавижу его, что хочу его убить. Но кошелек еще некоторое время спасет ему жизнь. Некоторых спасает бронежилет, других – надувной спасательный круг, а моего отца – его кошелек. Я не понимаю людей, которые считают его мудрым. Я думаю, что он чудовищный болван. В нем есть два качества, которые я не перевариваю, – жестокость и самомнение. Чем, интересно, он оправдает себя, когда предстанет перед каким-нибудь Богом, если он, конечно, существует. Я не верю, но он, наверное, верит. И пусть бы он испытал горе, когда бы встретился со своим придуманным богом, гребаным богом, лживым и лицемерным богом. Ненавижу, ненавижу, ненавижу…»
Я ненадолго остановился. И, наверное, если бы не подробности о маме, я бы подумал, что все написанное – это Светкины фантазии. Ведь пишут же подростки на тетрадях: «Смерть, смерть, смерть…» – или вдруг: «Я хочу умереть». И не всегда этот пример решается сложно, не всегда человек, написавший такое, подходит к краю крыши и доставляет свою голову к самой неожиданной встрече на свете – знакомству с серым и грязным асфальтом. Что ж, мантра сестры «Я ненавижу своего отца» могла значить не так уж много, если бы не странное ощущение, что она описывает привычный мне мир в совершенно незнакомых красках, насыщает его деталями, которые с таким же успехом могли быть доставлены на страницы ее дневника с созвездия Пернатого Ящера или из галактики Бездетных Медведей. Было ясно: мы не только по-разному смотрим на вещи – мы и видим разное. Игнорировать это невозможно, кто-то из нас тяжко болен, и я испугался – не я ли?!
И ведь что-то она увидела в отце, что пропустил я. Но вдруг меня подбросило от невероятно, неправдоподобно простой мысли: она не увидела, не почувствовала – она что-то знала наверняка. Я выдохнул и снова начал читать:
«Я ненавижу своего отца. Я видела, как ему целуют руку незнакомые мужики. Интересно, за что? И еще интересно, если он им прикажет застрелиться немедленно, что бы произошло? Они бы выстрелили в него, спасая себя, или подчинились бы? Не понимаю, в чем истоки этого рабства. Неужели людям просто нравится иметь короля? Почему они лебезят и боятся? А я знаю почему – никто не хочет руководить своей жизнью. Им всем нужен „папик рулящий“. А мне нужен просто „богатенький папик“. И когда я смотрю на своего папашу Хачика, я просто изучаю мужиков.
И еще… Я знаю, почему он приехал в Россию. Там – у нас (нет, уже не „у нас“ – у них) – он не мог убивать. Очень хотел, но не мог. Слишком много там условностей, реверансов всяких, слишком много. А в России можно убивать. Это такое место, где убивать легко. Много места для этого, и люди будто готовы к этому. Всегда готовы к этому».
Я снова взял паузу, чтоб передохнуть, высунулся в окно – глотнуть свежего воздуха – и увидел, как подъехала машина отца. За ним припарковалась другая, поскромнее. Папа и какой-то незнакомый мне мужчина из второго автомобиля начали разговор. Они говорили негромко и неторопливо. Время от времени мужчина похлопывал отца по предплечью, но Хачик никак не реагировал, просто слушал, иногда отвечал, иногда улыбался. Потом он кивнул. А после мужчина согнулся в поклоне и поцеловал руку Хачика.
Возможно, моя сестра в чем-то права, но поручать ей складывать мое мировоззрение, на долгие годы вперед формировать отношение к родителям, и особенно вырезать из моего сердца родного отца, как она делала со своими любимцами, вырезая их головы из журналов, я не собирался. Все-таки я прочитаю до конца Светкин дневник, решил я, хочу насладиться ее глупостью. И я вновь стал читать:
«Мой брат – идеальный придурок. Так, конечно, нельзя говорить о своем близком родственнике, но я за него радею, когда так высказываюсь. Вернее, я почти никогда не высказываюсь, оттого что меня бы прибил отец. Он вечно визжит, что я неуважительно отношусь к родным, но я-то знаю, что да как. Первый придурок Хачик, а номер два – его пришибленный сын…
Хачик привез нас сюда и думает, что мы должны быть ему благодарны. Да он просто спасал свои деньги. Только и всего. Если бы я была парнем, я бы пошла и вступила в какую-нибудь террористическую организацию. Я хотела бы уничтожать таких, как мой папаша, таких, какие мы все вместе взятые. И таких, как мы, много, и мы приносим горе. Правильно, что нас презирают. Мы приехали и заняли чьи-то места под солнцем. И мы приехали не от бедности и горя, а чтобы спасти свои деньги и, как бы сказала моя сестра Марина, – эксплуатировать себе подобных. Маринка хочет, чтобы ее жизнь закончилась быстро и ярко. А я бы пожила так долго, сколько нужно, чтобы погубить этого монстра. Я буду тайно бороться с отцом, я буду воровать его деньги и тратить их на себя или отдавать Маринке, а она пусть раздает бедным.
Ненавижу его. Я его ненавижу.
У меня здесь нет друзей. И не надо. Русских я ненавижу точно так же, как и армян. Странно, что при этом я наполовину русская и на другую армянка. Я чувствую в себе силы отказаться от национальности. Я космополит и гражданин мира. Об этом я читала в одной книге. Мне понравилось. Только маму жалко по-прежнему. Как она живет с отцом? Надо все-таки вдолбить ей в голову, чтобы ушла от него…
Мне не нравятся парни моих лет. Я умнее любого из них. Хотя любые мужчины – существа полезные – они сильнее, чем я, поэтому их можно использовать в моей борьбе. Пока не знаю как. Еще нужно решить, буду ли я рожать детей. Потому что я еще не решила – рожать или нет детей, сыновей для борьбы с существующим строем? Или, наоборот, нужно перестать давать этому страшному миру хоть что-нибудь, хоть даже катушку ниток. Больно много чести – отдавать миру своих детей. И я точно знаю: все равно этот мир будет разгромлен. Но мой брат, точно, настоящий придурок.
А мой отец – убийца».
Честно говоря, меня мало тревожили Светкины плевки в мою сторону, я все равно знал: она меня любит. Но Хачика верная дочь действительно ненавидела. И вот что самое мерзкое во всей истории – сердце мое вернулось на место, но отяжелевшим от нового знания. Нет, я не поверил в то, что мой отец убийца, я горевал по своей сестре – ей, несчастной, приходится жить с убеждением, что ее отец убийца…
Однако приговор подписан и приведен в исполнение. Хачика больше нет. Нет его цельного, звенящего красками образа. Нет радости в переплетении морщин, нет света, играющего между пальцев, нет ожидания чуда, которого ждет от отца ребенок.
И если бы тем месяцем, несколькими днями позже, папа не сказал свое привычное:
– Мы уезжаем, – я, наверное, сбежал бы из дому.
Занавес
Хачик сказал, что хочет в такое место, где не будет ни русских, ни армян, где люди не станут вцепляться в глотку друг другу ради куска хлеба и местечка под солнцем. А в новом их доме должно быть много солнца. Я крутил глобус и прикидывал, что это за место будет? По-прежнему решения принимал Хачик, по-прежнему никто из нас не смел советовать ему. Мы привыкли не подчиняться – мы привыкли доверять своему отцу. Что бы там не писала Света, что бы она не думала, но даже она безропотно приняла известие:
– Лос-Анджелес.
Ее брови поползли вверх, но сестра промолчала. Мама улыбнулась и кивнула. Бабушка пошла собираться. Марина захлопала в ладоши. Ей нравилась идея глобальной реконструкции жизни. А я набрался смелости и спросил:
– Отец, что мы делаем? Там много армян и много русских.
Хачик ответил, что мы будем жить «отдельно» и ни с кем из своих общаться не станем.
– Но тебя все знают!
– Кто?
Я смутился:
– Я имею в виду родственники, друзья и знакомые все тех… с кем ты имел дело. Если не знают, то слышали о тебе, точно.
– Разве?
– Я так думаю.
– Неважно, что ты думаешь.
Я поджал губы.
– Не обижайся. В таких делах, в человеческих делах, важно, что ты знаешь, а не то, что предполагаешь. Но, даже если ты что-то знаешь наверняка, если дело касается людей, то дели свое знание на множество вопросов. Человек как вода, суждения меняются быстро. Так что не важно, что скажут те, кто знал меня когда-то. И так же неважно, что скажут те, кто узнает меня когда-нибудь. Важно, что думают те, кто со мной сейчас. А сейчас со мной вы.
Если бы он знал, что уже казнен, мой бедный отец. Если бы знал…
Но, даже казненным, напоследок Хачик преподал мне урок. Он отправил меня на кладбище.
– Пойди на кладбище и вознеси хвалу могильным камням.
Про себя я пожал плечами и подумал, что папа сошел с ума. Но я пошел и сделал. Моя мысль была предельно простой – если он так говорит, значит, он так поступал (поправка, поступал, когда был живым). Или мог бы поступить. Возможно, таким образом он приобрел ценный опыт, которым сейчас безвозмездно делился со мной. Что ж, я воспользуюсь, я обязательно возьму все то, что накопил отец. И если сестрица моя хотела поживиться кошельком отца, то почему мне не начать растаскивать его душевные богатства?
Кладбище походило на густозаселенную коммунальную квартиру, с неряшливыми и небогатыми жильцами. Я бродил по тропкам и, разглядев какой-нибудь портрет, громко декламировал:
– О ты, Сидоров Петр, тысяча девятьсот двадцать девятого года рождения! Ты прекрасен, умен и мудр! Ты, верно, был профессором химии или знатным сталеваром – хвала тебе!
И, только произнеся величавую тираду, я замечал дату смерти – тысяча девятьсот тридцать пятый. «Знатный сталевар» умер ребенком, не совершив ни одного подвига, не став ни профессором, ни парикмахером, ни стукачом. Скорее всего, он даже не успел научиться писать.
Дома я отчитался о проделанной работе и полученном опыте. Хачик не стал комментировать мои действия. А на следующий день он снова послал меня на кладбище.
Но теперь он сказал:
– А теперь пойди и побрани их – эти камни.
Я снова сделал так, как наказал мне отец. Но почему-то на этот раз мне было действительно не по себе. Я пытался не смотреть на портреты на памятниках и крестах и не читать фамилии вечных постояльцев заведения. Я просто бубнил:
– Сукины дети. Сволочи. Алкоголики. Кто из вас ушел сухим – без наркотиков, без водки, без таблетки, хотя бы обезболивающей. И что вы жили? И что померли? Дебилы, докладываю вам – в мире ничего не изменилось после вас. Никто даже не заметил, что вас иссякло множество.
Но тут я вспомнил: папа инструктировал меня, чтоб ругал я не людей, а камни. Я попытался изменить текст:
– Камни, вы – идиоты, вы полные ничтожества. Вы неудачники! Потому что из нормальных камней строят дома или ставят фонтаны, высекают конные статуи победителей, а могильники, которые могут порадовать разве что птиц, которые срут на вас с деревьев…
Короче, я выполнил отцово поручение. И вечером он меня спросил сам:
– Возгордились от хвалы твоей камни?
– Нет.
– А огорчила ли их брань?
– Нет, папа. Совсем нет.
– Вот так-то, сынок.
И он кивал своим мыслям, что проносились в голове. А в моей голове сухим щелком взорвалась бомба. Ну хорошо, не бомба – бомбочка, но все равно толчок был ощутимый. Накопившиеся вопросы, которые я обычно проглатывал и потому никогда не имел ответов, они вдруг заорали все разом. Они стали топать крохотными ножками, вытаптывая в моем мозгу удобные дорожки. И я не выдержал. Хачиковы притчи, его побасенки, его простенький арсенал метафор – все это мне смертельно надоело. Когда нужно было, он никогда ничего не мог объяснить по-человечески. Ну вот я и взбесился.
– Что, папа?! Что ты хотел сказать? Объясни мне. Сколько же можно прятаться за своей ролью? Почему ты все объясняешь чужим людям и совершенно не помогаешь нам?
Хачик остановился от удивления и даже забыл обернуться. Кажется, он остолбенел. Однако он справился с собой:
– Поступай так же, как они: не раздувайся, когда тебя хвалят, и не огорчайся, когда бранят.
Сказал и пошел обдумывать, что же такого он сделал не так в этой жизни, что даже собственный сын его не понимает.
То суживая границы невозможного, то расширяя границы возможного, папа двигался. В сущности, уже давно было неясно – куда? И все-таки зачем? Последний наш переезд из Купчино в центр тоже был совершенно бессмысленным. Его очевидная торопливость казалась похожей на бегство. И ладно. Людям сторонним вообще свойственно оценивать других по какому-то странному критерию поступательного пути, который обязательно должен привести к переменам – и обязательно, и разумеется, к положительным (к позитивной цели). Но это не так. Я полагаю, что это крайне вредное и даже опасное заблуждение. Подобное суждение низводит внутреннее движение к судорогам внешних метаний, к тягостным усилиям физических действий. Кроме усталости, подобное поведение ни к чему не приводит, то есть ровным счетом ни к чему не приводит. Тем более когда у тебя на руках трое детей и верная боевая подруга, которая уже почувствовала отравляющий вкус западной жизни и все больше отдаляется от тебя. А твоя старенькая мать вдруг преобразилась в женское воплощение Агасфера. Только вместо проклятия на ней был крест ответственности за сына. Сына, который стремился быть похожим на выдумку, который почти превратился в выдумку.
Все тоньше взаимовлияния, все тише диалог. Папе осталась только исповедь, но он избегал ее. Судить может каждый, вот выслушать – вряд ли.
Эпилог
Другое солнце
Забавно. Чем больше я пишу об отце, тем больше вру. Я отдаляюсь от себя в поисках отца, в его сотворении.
Мы переехали. Мы – это семья Хачика, Гагик со своими людьми, Славик, Муся и Дерево с женами и детьми. Хачик выстроил-таки дом своей мечты, вернее, целый квартал – восемь домов в полукольце парковой аллеи с прожекторами у подъездной дорожки. Все как завещал нам Марио Пьюзо. Он повесил в кабинете портрет Марлона Брандо и смотрел, как жизнь протекает мимо. Он не учил английский. Вокруг были армяне – сплошная шушера, и русские – в основном безосновательно тяготеющие к кинематографу. Ему такие встречались. Здоровое ядро обеих диаспор жило по своим правилам, непонятным папе. Я хорошо понимаю, он пытался найти в новой стране дух Корлеоне. Он даже совершил паломничество в Нью-Йорк, хотя следовало бы посетить Сицилию… Увидев огромные здания, за которыми нельзя было разглядеть солнца, но иногда можно поймать его отражения в стеклянных стенах, он вернулся в Лос-Анджелес и захандрил.
Хандра его усиливалась пропорционально нашим достижениям. Мама с бабушкой открыли ковровую лавку. Мы с сестрицами успешно учились. Все его бывшие крестники-помощники делали уверенные шаги по интеграции – обзаводились магазинчиками, мастерскими, даже женами из местных. Папа ждал, что кто-нибудь обратится к нему за содействием, но никому не требовалось его участие. Часто его стали заставать в небольшом баре неподалеку. И, естественно, хозяином его был армянин, а завсегдатаями – интернациональная компания из стран бывшего Союза. Там он пытался научить уму-разуму молодых незнакомцев.
– Пойманного вора, – рассказывал папа, – привели к султану, который приказал привязать преступника к позорному столбу, чтобы каждый проходящий мог плюнуть в него.
Люди поддерживали султана. Вор не вызывал никакого сочувствия. Но папа настаивал:
– Несколько дней спустя султан пришел на площадь и подходит к позорному столбу. Увидев наказанного, он спрашивает:
– Ну что? Есть ли на свете позор, тяжелее того, который тебя постиг?
– Есть, – отвечает вор.
– И какой?
– Самое тяжелое горе, когда приходит гость, а тебе его накормить нечем, когда твои дети просят есть, а тебе их накормить нечем…
Люди пожимали плечами. Есть множество способов прокормить семью, и каждый из них начинается с хорошо знакомого Хачику глагола «работать». Он ли не работал? Зачем ему было искать оправдания за нашими спинами, этот вопрос так и остался безответным.
Он возвращался домой пешком. Из-за отсутствия собеседников он стал разговаривать с самим собой. Правда, часто он полагал, что говорит с самим Крестным отцом. Шел и бубнил:
– Люди, люди, что вам нужно? Скажи, Вито, что им надо? Куда делось уважение? Где их мечты? Где их желания?
В своем монологе он обрушивался на всех, но особенно доставалось соотечественникам. У стены стоял красивый молодой негр.
– Вон стоит… Скажи еще, что и ты армянин.
– Нет, – сказал негр, – но немного говорю по-армянски. Я работал в армянской пекарне.
Видимо, это было для него уже невыносимым – ловушка захлопнулась. Папа посмотрел на него с тоской, равной всей скорби мира, всем его грехам и всем его тысячелетним потерям. Он посмотрел, схватился за сердце шутовским опереточным жестом и упал замертво.
И вот я смотрю на своего отца, лежащего в большом дорогом гробу. Он и похож, и не похож на себя. Его тело напоминает мне о том человеке, который когда-то мечтал о справедливости для всех, об уважении и неиссякаемом благополучии. О том, чтоб стереть национальное, найти опору в человеческой природе – в страхе, в стремлении к вечному движению. И только в этот миг я понял: чтобы обрести себя, нужно осмелиться убить своего отца. У моей сестры хватило смелости казнить его еще несколько лет назад, я же малодушно дождался, пока он сам не иссяк из этой жизни, не перестал быть моим кумиром, а я же не перестал быть его прямым творением.
Знал бы папа, как сложились впоследствии наши судьбы, может быть, он передал бы привет с того света? Но он ни разу не приснился мне. Возможно, потому, что «того света» не существует, или по другой причине – ему не нравилось, как мы живем. Марина осталась в США, занималась гуманитарными проектами в Африке и Азии. Она первая стала забывать оба родных языка. Начала писать для уважаемых изданий и добилась того, что писали уже о ней. Света укатила в Россию с искрометным русским – богатым авантюристом. В Москве она помогла разорению своего избранника в кратчайшие, просто-таки стахановские сроки. Бросила его ради следующего, кажется итальянца, и теперь наслаждается светской, с позволения сказать, жизнью. Я же…
Прихватив портрет Марлона Брандо, я попытался всерьез вернуться в Армению в поисках своего детства, в поисках отца, с твердым намерением при встрече вновь его убить. Но там уже не было ни детства, ни даже тени Хачика. Так и мотаюсь по миру в надежде все забыть. Я по-прежнему нежно люблю мать, но совершенно не выношу ее нового мужа. Джон Смит – это уже несерьезно. Это карикатура, честное слово.
К слову сказать, бабушка наша еще жива. Ей скоро исполнится девяносто, но она, кажется, не помнит об этом. Ее привозят на берег Тихого океана, столько воды она не видела никогда. Она сидит часами в шезлонге и ни о чем не думает.
Санкт-Петербург 2013