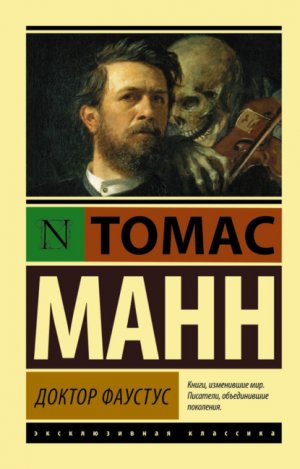
Thomas Mann
DOKTOR FAUSTUS
Печатается с разрешения издательства S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
© Thomas Mann, 1947
© Перевод. Н. Ман, наследники, 2014
© Перевод. С. Апт, наследники, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
I
Cо всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна, этой первой и, так сказать, предварительной биографии дорогого мне человека и гениального музыканта, с которым столь беспощадно обошлась судьба, высоко его вознесшая и затем низринувшая в бездну, я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу. Единственным моим побуждением была мысль, что читатель, вернее, будущий читатель, ибо в настоящее время нельзя и думать о том, чтобы моя рукопись увидела свет, если только чудом она не окажется за стенами осажденной «крепости Европы» и там хоть отчасти приоткроет темную тайну нашего одиночества… Но лучше начну сначала: только в предположении, что читатель захочет узнать, кто же это пишет об Адриане Леверкюне, я предпосылаю его биографии несколько слов о самом себе – не без боязни, конечно, вселить в читателя сомнение, в надежные ли руки он попал. Иными словами, посильна ли человеку моего склада эта задача, задача, на выполнение которой меня подвигло скорее сердце, нежели право духовного сродства?
Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, беспокойство, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая anno 1943, через два года после смерти Леверкюна (вернее, через два года после того, как из темной ночи он перешел в ночь беспросветную), собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрейзинге на Изаре, к жизнеописанию моего с миром почившего – о, если бы так! – несчастного друга. Да, нелегко у меня на душе, ибо настойчивая тяга к сообщительности – увы! – парализуется страхом сказать нечто не подлежащее огласке.
Я человек уравновешенный, по натуре здоровый, что называется, хорошо темперированный, словом, приверженный гармонии и разуму, по роду занятий я ученый, conjuratus[2] «латинского воинства», не вовсе чуждый искусству (играю на viola d’amore[3]), но отношения мои с музами носят скорее академический характер, и сам я рассматриваю себя как преемника немецких гуманистов эпохи «Писем темных людей», Рейхлина, Крота из Дорнгейма, Муциана и Эобана Гесса. Демонического начала, хотя я отнюдь не собираюсь отрицать его влияния на человеческую жизнь, я всегда чурался, инстинктивно его избегал, не чувствуя ни малейшей склонности отважно спускаться к силам тьмы или самонадеянно вызывать их из бездны, а если волею судеб они порой искушали меня, я им и пальца не протягивал. Этому своему убеждению я приносил немало жертв, идеальных и меркантильно-житейских, – так, я без малейших колебаний до срока отказался от любезной моему сердцу педагогической деятельности, как только понял, что она не идет в ногу с запросами и духом нашего исторического развития. В этом смысле я собой доволен. Но такая решительность, или, если угодно, ограниченность моей натуры, тем более заставляет меня сомневаться, по плечу ли мне тот урок, который я себе задал.
Не успел я взяться за перо, как с него уже сбежало слово, втайне смутившее меня, слово «гениальность». Я говорил о музыкальном гении моего покойного друга. Впрочем, слово «гений», хотя и сверхмерное, все же обладает благородным, гармоническим, по-человечески здравым звучанием, и поскольку я, обыкновенный человек, и в мыслях не имею считать себя причастным к этим высоким сферам или исполненным divinis influxibus ex alto[4], то у меня, собственно, нет разумного повода страшиться этого слова, как нет причины страшиться благоговейно, радостно и почтительно говорить о гениальности. Похоже, что так. И тем не менее нельзя отрицать, да это никогда и не отрицалось, что в сияющей сфере гения тревожно соприсутствует демоническое начало, противное разуму, что существует ужасающая связь между гением и темным царством и, наконец, что именно поэтому эпитеты, которые я старался к нему приложить: «благородный», «здравый», «гармонический», – не совсем подходящие эпитеты, даже когда – с болью решаюсь я на такое разграничение – речь идет о чистой, неподдельной гениальности, которою Господь Бог благословил (или покарал?) человека, а не о гениальности гибельной и порочной, о грешном, противоестественном сжигании своих талантов, о мерзостном выполнении богопротивной сделки…
Тут меня останавливает неприятное чувство, что я допустил некую артистическую промашку. Сам Адриан, уж конечно, бы не потерпел, чтобы, ну, скажем, в симфонии так преждевременно зазвучала эта тема. У него она проступила бы разве что потаенно, почти неощутимо, словно издалека. Впрочем, возможно, то, что сорвалось у меня с языка, воспримется читателем как нечто туманное, как сомнительный намек, и только я один в этом усматриваю грубую и непростительную нескромность. Человеку моего склада кажется трудным, едва ли не фривольным подойти к предмету, который ему дороже жизни, который переполняет всю его душу, с рассудочно-игровой расчетливостью компонующего художника. Потому-то я раньше времени и заговорил о различии между просветленным и непросветленным гением, различии, которое я отметил лишь затем, чтобы тут же в нем усомниться. И правда, пережитое заставило меня так напряженно, так неотступно размышлять над этой проблемой, что временами, к ужасу моему, мне начинало казаться, будто меня самого выносит за пределы предуказанной мне ограниченной сферы и я недозволенным образом превышаю уровень своих природных способностей…
Но обрываю и этот ход мысли, так как вспомнил, что заговорил-то я о гении и о его бесспорной причастности демоническому началу лишь затем, чтобы объяснить, почему я сомневаюсь, обладаю ли я необходимыми данными для разрешения предстоящей мне задачи. Рассеять мои сомнения может только один успокоительный довод. Мне было суждено долгие годы прожить в доверительной близости с гениальным человеком, с героем этих моих записей, знать его с детства, быть свидетелем его становления, его судьбы и в скромной роли помощника даже участвовать в его творчестве. Либретто для задорной юношеской оперы Леверкюна по комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» написано мною, да и текст к гротескной оперной сюите «Gesta Romanorum»[5] и к оратории «Откровение Святого Иоанна Богослова» составлен с моей помощью и отчасти по моему почину. Вдобавок я обладатель бесценных записей, которые покойный мне, а не кому другому, завещал еще в добром здравии или, вернее, в юридически неоспоримом, относительно добром здравии; на эти записи я и буду опираться в своем повествовании и даже вставлять в него обдуманно выбранные из них отрывки. Но первейшим и решающим моим оправданием, если не перед людьми, так перед Богом, было и осталось то, что я любил его – с ужасом и нежностью, с состраданием и беззаветным восторгом, при этом нимало не заботясь о том, отвечает ли он хоть сколько-нибудь на мою любовь.
О нет, он не отвечал на нее. Если он и завещал мне наброски своих композиций и дневники, то это свидетельствовало лишь о его дружелюбно-трезвом ко мне отношении, я почти готов сказать: о милостивой и для меня, несомненно, почетной вере в мою добропорядочность, преданность и корректность. Но любить? Кого же любил этот человек? В свое время женщину, пожалуй. В конце жизни ребенка. И еще, быть может, обаятельного вертопраха, которого он, не потому ли, что к нему привязался, прогнал от себя. И прогнал в смерть. Кому он открыл свое сердце или доступ в свою жизнь? Этого с ним не случалось. Беззаветную преданность Адриан принимал, – я в этом убежден, – подчас вовсе ее не замечая. Его безразличие было так велико, что он едва отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, в какой компании он находится, и так далее. Лишь в самых редких случаях он называл своего собеседника по имени, и это заставляет думать, что он просто не знал его имени, хотя собеседник имел все основания предполагать противное. Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царила стужа, и как тяжко стало мне, когда, написав это слово, я вспомнил, что он сам однажды употребил его, и в какой страшной связи! Жизнь и постижение ее наделяют отдельные вокабулы оттенком, вовсе чуждым их будничному смыслу, грозным нимбом, невидимым тому, кто хоть однажды с ними не столкнулся в их самом страшном значении.
II
Я зовусь Серенус Цейтблом, доктор философии. Мне самому странно столь запоздалое представление, но ход моего рассказа мне не позволил сделать это раньше. Возраст мой – шестьдесят лет, ибо я родился в 1883 году (первым из четырех детей у моих отца и матери) в Кайзерсашерне на Заале, в округе Мерзебург; там провел свои школьные годы и Леверкюн, посему я воздержусь от описания нашего городка до той страницы, когда начну о них рассказывать. Поскольку мой жизненный путь неоднократно переплетался с жизненным путем великого композитора, то о том и о другом, пожалуй, лучше рассказывать слитно, дабы не забегать вперед, а в эту ошибку легко впадает каждый, у кого много накопилось на сердце.
Здесь замечу только, что я родился в семье, принадлежавшей к весьма скромному кругу бюргерства, к людям, так сказать, полуобразованным. Отец мой, Вольгемут Цейтблом, был аптекарь, считавшийся лучшим в городе. В Кайзерсашерне имелось еще одно фармацевтическое заведение, но оно не пользовалось таким уважением и доверием горожан, как цейтбломовская аптека «Благие посланцы», и с трудом выдерживало конкуренцию. Наша семья принадлежала к маленькой католической общине Кайзерсашерна, основную часть населения которого составляли лютеране; моя мать была набожною прихожанкой, усердно выполнявшей религиозные обряды, тогда как отец, вероятно, за недосугом, относился к ним спустя рукава, хотя всегда и во всем поддерживал своих единоверцев, полагая, что такая солидарность имеет политическое значение. Примечательно, что у нас в гостиной, помещавшейся над лабораторией и аптекой, частенько сиживал не только наш духовник, церковный советник Цвиллинг, но и городской раввин, доктор Карлебах – гость навряд ли мыслимый в протестантских домах. Внешне представитель римской церкви был куда более привлекателен. Но у меня осталось впечатление, вероятно, основанное на словах отца, что низкорослый и длиннобородый талмудист, никогда не снимавший ермолки, ученостью и остротою религиозной мысли значительно превосходил своего коллегу-иноверца. Может быть, эти юношеские воспоминания да еще острая восприимчивость еврейских кругов к творчеству Леверкюна и побудили меня не согласиться с позицией, занятой нашим фюрером и его паладинами в отношении евреев, что, собственно, и заставило меня отказаться от педагогической деятельности. Конечно, мне приходилось сталкиваться и с совсем другими представителями этого племени, – взять, к примеру, хотя бы культурфилософа Брейзахера из Мюнхена, о крайне неприятных чертах которого я не премину сказать в свое время.
Что касается моей принадлежности к римской церкви, то таковая, конечно, сформировала и до известной степени определила мое сознание, хотя колорит католической культуры никогда не вступал в противоречие с моим гуманистическим мировоззрением, с моей любовью, как говорили в старину, к «прекрасному в искусстве и в жизни». Оба эти элемента отлично во мне уживались, что, впрочем, неудивительно, ибо я вырос в стенах старинного города, исторические традиции и архитектурный облик которого сложились во времена церковного единства. Правда, Кайзерсашерн расположен в исконном краю лютеранства, в самой его сердцевине, среди таких городов, как Эйслебен, Виттенберг, Кведлинбург, Гримма, Вольфенбюттель и Эйзенах, что, в свою очередь, проливает свет на внутреннюю жизнь лютеранина Леверкюна и отчасти объясняет его поступление на богословский факультет. Реформацию можно сравнить с мостом, перекинутым из схоластических времен в наш век свободного мышления, но также из нашего времени в глубь Средневековья, пожалуй, в еще большую глубь сравнительно с не затронутой расколом христианско-католической традицией светлой любви к просвещению. Во всяком случае, я чувствую себя как дома в той золотой сфере, где Пресвятую Богородицу зовут «Jovis alma parens»[6].
Чтобы еще немного дополнить необходимейшие сведения о моей vita[7], замечу только, что родители дали мне возможность посещать гимназию, ту самую, где, двумя классами младше, учился и Адриан. Она была основана во второй половине пятнадцатого века и до самого последнего времени именовалась «Школой братьев убогой жизни». Отказаться от этого наименования ее заставил только стыд перед его архаическим и, для современного уха, несколько смешным звучанием: теперь она по имени соседней церкви зовется гимназией Св. Бонифация. Окончив ее в начале нынешнего столетия, я без малейшего колебания отдался изучению древних языков, к которым чувствовал влечение еще на школьной скамье и которыми последовательно занимался в Гисенском, Иенском и Лейпцигском университетах, а с 1904 по 1905год, не случайно, еще и в Галле, где тогда учился Адриан Леверкюн.
Здесь я не могу отказать себе в удовольствии обронить хотя бы мимоходом несколько слов о внутренней почти таинственной связи классико-филологических интересов с любовью к красоте и разуму человеческому – связи, заявляющей о себе уже в том, что ученых-античников называют гуманитариями, но главное в том, что внутреннее родство языковой культуры и гуманитарных знаний венчается идеей воспитания, призвание педагога как-то само собой вытекает из приверженности к классической филологии. Человек, занимающийся естественноисторическими реалиями, может, конечно, быть учителем, но никогда не станет воспитателем в том смысле и в той степени, как некто, посвятивший себя изящной словесности. Да и язык звуков (если позволительно так именовать музыку), быть может, более проникновенный, но странно нечленораздельный, не кажется мне относящимся к педагогической гуманитарной сфере, хотя мне, конечно, известно, что музыка играла подсобную роль в воспитании эллинов и в общественной жизни древнегреческих городов. Несмотря на всю логически-нравственную суровость, которой ей угодно прикрываться, музыка, как мне представляется, все же причастна миру духов, и я не поручусь за полную ее благонадежность в делах человеческого разума и человеческого достоинства. А что я вопреки сказанному всем сердцем ей предан – одно из благих или пагубных противоречий, неотъемлемых от природы человека.
Опять я позволил себе отступление. Впрочем, пожалуй, что и нет: ведь вопрос, можно ли провести четкую грань между наставнически-благородным духовным миром и этим миром духов, имеет прямое, – увы! – даже слишком прямое отношение к этим моим записям. Да и существует ли вообще такая область человеческого, пусть наисветлейшая, наидостойнейшая, которая была бы вовсе не доступна влиянию темных сил, более того, не нуждалась бы в оплодотворяющем соприкосновении с ними? Мысль эта, не вовсе чуждая и человеку, отнюдь не тяготеющему к демонизму, стала приходить мне на ум еще во время моего полуторагодичного путешествия по Италии и Греции, которое мне дали возможность совершить мои добрые родители, едва только я сдал государственный экзамен. Глядя с высоты Акрополя на Священную дорогу, по которой проходили участники мистерий с шафрановой повязкой на лбу и с именем Вакха на устах, и позднее, когда я стоял на месте посвящения в таинства близ Эвбулея на краю Плутонова ущелья, под нависающими скалами, я смутно проникся чувством, которое мы зовем полнотою жизни, чувством, побудившим олимпийское эллинство преклоняться перед богами земных глубин. Впоследствии я не раз говорил с кафедры своим ученикам из выпускного класса, что истинная культура – это благочестивое, гармоничное, я бы даже сказал, примиряющее приобщение темных сил к культу богов-олимпийцев.
По возвращении двадцатипятилетний путешественник получил должность в гимназии своего родного города – иными словами, в той самой школе, которая дала ему первые зачатки знаний. Я преподавал там в младших классах латынь, греческий, а также историю, но уже в 1914 году перешел в баварское школьное ведомство и обосновался во Фрейзинге, ставшем с тех пор моим постоянным местом жительства, в качестве учителя гимназии и доцента богословской академии, чтобы в продолжение двух десятилетий с удовлетворением трудиться на поприще истории и филологии.
Несмотря на свой юный возраст, едва определившись на должность в Кайзерсашерне, я женился. Любовь к порядку и желание честно, по-хорошему начать самостоятельную жизнь подвигли меня на этот шаг. Елена, урожденная Ойльгафен, моя дорогая жена, которая и сейчас обо мне печется, была дочерью моего старшего коллеги по должности и по факультету из Цвиккау в Саксонском королевстве, и, не боясь вызвать усмешку читателя, я признаюсь, что имя милой, свеженькой девушки – Елена, это любезное мне звукосочетание, сыграло не последнюю роль в моем выборе. Елена! Трудно устоять перед освященной преданием прелестью этого имени, даже если внешность той, что зовется Еленой, лишь по-бюргерски скромно отвечает его высоким запросам – да и то лишь на краткий срок, покуда не поблекло ее юное цветение. Нашу дочь, давно уже вышедшую замуж за отличного человека, прокуриста в регенсбургском филиале Баварского кредитного банка, мы тоже назвали Еленой. Кроме нее, моя дорогая жена подарила мне еще двух сыновей, так что я, как то и подобает смертному, познал радости и горести отцовства, впрочем, не слишком бурные. Должен признаться, что в моих детях не было ничего из ряда вон выходящего. Ни в какое сравнение с чудно красивым мальчиком Непомуком Шнейдевейном, племянником Адриана и утехой его последних лет, они, конечно, идти не могли, я первый готов это утверждать. В настоящее время оба моих сына – один на гражданском поприще, другой в вооруженных силах империи – служат своему фюреру, и так как мое критическое отношение к власть имущим в моем отечестве создало вокруг меня своего рода пустоту, то и связь обоих молодых людей с отчим домом заметно ослабела.
III
Леверкюны были родом искусных ремесленников и зажиточных земледельцев, процветавшим в Шмалькальденском округе да еще в Саксонской провинции на берегах Заале. Прямые предки Адриана на протяжении многих поколений владели хутором Бюхель в приходе Обервейлер, неподалеку от железнодорожной станции Вейсенфельз, – всего в сорока пяти минутах езды от Кайзерсашерна, – от которой дальше приходилось добираться уже на лошадях. Хозяева такого хутора, как Бюхель, с его пятьюдесятью моргенами пахотной земли, лугами, лесными угодьями и поместительным деревянным домом на каменном фундаменте, по справедливости считались богатеями. Вместе с овинами и скотным двором усадьба образовывала четырехугольник, в середине которого – никогда мне ее не забыть! – росла могучая старая липа, в июне месяце вся покрывавшаяся пахучими цветами и, как кольцом, окруженная зеленой скамейкою. Прекрасное это дерево мешало движению подвод во дворе, и я слышал, будто каждый старший сын в молодые годы упрашивал отца срубить его, но лишь затем, чтобы позднее, в качестве хозяина, его же защищать от злокозненных умыслов наследника.
Как часто, должно быть, играл и потом засыпал в тени старой липы маленький Адриан, второй сын Ионатана и Эльсбеты Леверкюн, родившийся в 1885 году в одной из верхних комнат бюхельского дома в пору, когда только-только зацвели деревья. Брат Георг, теперь, без сомнения, хозяин хутора, был на пять лет старше его. Сестра, Урсель, появилась на свет через такой же промежуток времени после Адриана.
В Кайзерсашерне у Леверкюнов был обширный круг друзей и знакомых, к которому принадлежали и мои родители; более того, между нашими семьями издавна существовали наисердечнейшие отношения, и в теплое время года мы все нередко проводили воскресные дни на хуторе, где фрау Леверкюн закармливала нас, горожан, чудесной деревенской снедью: на славу пропеченным хлебом с необыкновенно вкусным маслом, золотистым сотовым медом, душистой клубникой со сливками, кислым молоком из синих кувшинов, посыпанным сахаром и черными сухарными крошками. Когда Адриан, или Адри, как его называли домашние, был еще совсем маленьким мальчиком, хозяином хутора считался его дед, хотя всем уже давно заправляло младшее поколение и участие старика в хозяйстве сводилось лишь к тому, что он, – впрочем, всегда почтительно выслушиваемый, – шамкая беззубым ртом, пускался за ужином в пространные деловые рассуждения. Образы Адрианова деда и бабки, скончавшихся почти одновременно, стерлись в моей памяти. Зато тем яснее стоят перед моими глазами образы Ионатана и Эльсбеты Леверкюн. Речь здесь идет, конечно, не о застывших образах: за мои школьные и студенческие годы они под неустанным, хотя как будто и незаметным воздействием времени из молодых и сильных превратились в пожилых и утомленных людей.
Ионатан Леверкюн был немец в лучшем смысле слова, тип, который ныне едва ли встретишь в наших городах и уж подавно не встретишь среди тех, что во всем мире с таким удручающим буйством представляют наш народ. Черты его, прочно сохраненные сельской жизнью, казалось, были вычеканены в далеком прошлом и в наши дни перешли из времен, предшествовавших Тридцатилетней войне. Так думалось мне, когда я, подрастая, смотрел на него глазами, понемногу научавшимися видеть. Пепельные, всегда спутанные, не по моде длинные волосы Ионатана Леверкюна ниспадали на затылок и на выпуклый лоб с проступающими жилками на висках, возле маленьких, красивой формы ушей переходили в кудрявую окладистую бороду, белокурые завитки которой плотно покрывали скулы, подбородок и углубление под нижней губой. Эта губа сильно и как-то округло выпячивалась из-под свисающих усов, и на ней играла улыбка, приятно сочетаясь с чуть робким и каким-то углубленным взглядом голубых глаз. Линия носа у него была тонкая и красиво изогнутая; на щеках, скорее худощавых, там, где их не скрывала борода, голубели небольшие впадины. Жилистую его шею редко стеснял воротничок – Ионатан не любил общепринятой городской одежды, да она и не шла к нему, особенно к его рукам, к сильной, загорелой, сухой и немного веснушчатой руке, которою он сжимал набалдашник трости, когда мирские дела вынуждали его отправляться в деревню.
По дымке усталости, подернувшей его взгляд, по нежной прозрачности висков опытный врач сразу бы определил, что Ионатан Леверкюн подвержен мигреням. Так это и было на самом деле. Впрочем, мигрень случалась с ним редко, не чаще одного раза в месяц, разве что на несколько часов, да и то она не нарушала обычного распорядка его трудового дня. Он любил курить трубку, недлинную фарфоровую трубку с крышечкой, и ее своеобразный крепкий запах – куда более приятный, чем застоявшийся дым сигар или папирос, – насквозь пропитывал воздух в нижних комнатах леверкюновского дома, а также любил на ночь выпить кружку мерзебургского пива. В зимние вечера, когда все его достояние покоилось под снежной пеленою, он частенько читал – преимущественно огромную, доставшуюся ему от отца Библию в тисненой свиной коже и с кожаными застежками, отпечатанную с герцогского соизволения в 1700 году в Брауншвейге и содержавшую не только глубокомысленные введения и примечания на полях доктора Мартина Лютера, но еще и всевозможные назидательные выводы, locos parallelos[8] и стихотворные толкования каждой главы Писания, принадлежащие перу господина Давида фон Швейница. По преданию, в достоверности которого никто из Леверкюнов не сомневался, эта фамильная Библия некогда принадлежала той самой брауншвейг-вольфенбюттельской принцессе, что вышла замуж за сына Петра Великого. Согласно этому же преданию, она сумела искусно инсценировать свою смерть и бежала из России на остров Мартинику, где сочеталась браком с каким-то французом чуть ли не в час своих «похорон». Адриан, до страсти любивший все смешное, в зрелые годы вместе со мною потешался над этой историей, которую отец рассказывал, подняв глаза от книги и глядя в пространство своим мягким, глубоким взглядом, после чего, нимало не смущенный довольно-таки скандалезной судьбой их семейной реликвии, вновь углублялся в стихотворные комментарии господина фон Швейница или «Мудрые Соломоновы назидания правителям».
Ионатан читал не только духовные книги, но и другого рода сочинения, несомненно, свидетельствовавшие о его склонности «предаваться размышлениям о праэлементах»: я имею в виду его занятия – в весьма умеренных, конечно, масштабах и с привлечением самых скромных пособий – естествознанием, биологией, а также физикой и опытной химией, для чего моему отцу случалось ссужать его необходимейшими материалами из своей лаборатории. К несколько устарелому и сомнительному определению его занятий я прибег потому, что в них был какой-то мистический привкус, нечто в былые времена считавшееся чуть ли не колдовством. Здесь я должен заметить, что недоверие религиозно-спиритуалистической эпохи к растущей страсти проникнуть в тайны природы мне было всегда понятно. Благочестие видело в этом панибратское заигрывание со сферой подзапретного, не говоря уже о том, что Божье творение (природа и жизнь) становилось таким образом чем-то морально подозрительным. Сама природа так избыточно полна порождений, готовых вот-вот переплеснуться в колдовство, двусмысленных причуд, завуалированных, неопределенных намеков, что исследование ее не может не представляться смиренному благочестию дерзостным нарушением того, что подобает человеку.
Когда отец Адриана по вечерам раскрывал книги с цветными иллюстрациями, рассказывающими об экзотических мотыльках и морских животных, мы, то есть оба его сына, я, а иногда и фрау Леверкюн, заглядывали в них через спинку его вольтеровского кресла, следя, как он водит указательным пальцем по изображениям этих диковин: сияющих всеми красками палитры, темными и ярчайшими, выточенных с изысканнейшим вкусом славного ювелира и разукрашенных прелестным узором тропических бабочек и насекомых, что в своей фантастически преувеличенной красоте проживают эфемерно краткую жизнь. Иные из них слывут у туземцев злыми духами, приносящими малярию. Дивная окраска, сказочно прекрасная лазурь, которою они сияют, поучал нас Ионатан, вовсе не настоящий их цвет, ибо он возникает благодаря мельчайшим буграм и желобкам, испещряющим чешуйчатый покров их крылышек, – сложнейшей призматической микроструктуре, искусно преломляющей световые лучи и бо́льшую их часть поглощающей, в результате чего наш глаз воспринимает одну лишь светозарную голубизну.
– Смотри-ка, – я как сейчас слышу эти слова фрау Леверкюн, – выходит, это все обман?
– А небесную синеву ты тоже назовешь обманом? – возразил муж, взглянув в ее сторону. – Ведь никто не знает, из каких красок она составлена.
Право же, когда я это пишу, мне начинает казаться, что я все еще стою с фрау Эльсбетой, Георгом и Адрианом за креслом отца и слежу за движением его указательного пальца. На картинке изображены стеклокрылые бабочки; их крылышки, вовсе лишенные чешуек, кажутся нежно-стеклянными, чуть подернутыми сетью темных прожилок. Такая бабочка, в прозрачной своей наготе вьющаяся под сумеречными кронами дерев, зовется Hetaera esmeralda. На крылышках у нее только один красочный блик – лилово-розовый, и этот блик, единственно видимое на невидимом созданьице, в полете делает ее похожей на подхваченный ветром лепесток. Была там еще и листовидная бабочка; ее крылышки сверху блещут полнозвучной триадой красок, с нижней же стороны дьявольски точно воспроизводят древесный лист не только формой и прожилками, но еще и скрупулезным повторением мелких шероховатостей, даже будто бы капельками росы или бородавками грибка. В ветвях дерева это лукавое существо, стоит лишь ему высоко поднять крылышки, так полно сливается с листвою, что его не отыскать и самому алчному врагу.
Ионатан небезуспешно пытался передать нам свою растроганность такой утонченной мимикрией, повторяющей все – вплоть до мельчайшей ущербленности. «Ну как этого достигла бессловесная тварь? – спрашивал он. – Как через нее достигла этого природа? Ведь невозможно предположить, что неразумное созданье расчетливо и обдуманно усвоило столь хитрый прием. Но природа, та точно знает свой листок, знает не только все его совершенство, но и все его изъяны и заурядные недостатки; вот ей и вздумалось с лукавым дружелюбием повторить его совсем в другой сфере – на нижней стороне крыльев мотылька, чтобы оставить в дураках другие свои создания. Но почему именно этому существу даровано коварное преимущество? Если ему на пользу в неподвижном состоянии быть точь-в-точь древесным листком, то какая же в этом польза для голодных его преследователей – ящериц, птиц и пауков, которым он предназначен в пищу? Они глаза себе проглядят, а его все равно не обнаружат. Я спрашиваю вас, чтобы вы не успели спросить меня».
Пусть эта бабочка для самозащиты становится невидимой, но достаточно перевернуть несколько страниц в книге Ионатана Леверкюна, и мы уже знакомимся с другими, которые достигают той же самой цели броской, более того – навязчивой видимостью. Это бабочки не только очень крупные, но и избыточно роскошно окрашенные да еще покрытые богатейшим узором. Они, как пояснял папаша Леверкюн, с хвастливой медлительностью летают в своем вызывающем наряде; но эту медлительность никак не назовешь дерзкой, скорее, есть в ней что-то унылое, ибо ни одно живое существо – ни обезьяна, ни птица, ни ящерица – даже не взглянет им вслед. Почему так? Да потому, что они мразь. И об этом они оповещают яркой своей красотою и медлительностью полета. Сок такой бабочки до того зловонен, до того отвратителен на вкус, что если какая-нибудь тварь по ошибке или в надежде полакомиться схватит ее, то тут же со злобным отвращением выплюнет свою добычу. Мерзость их в природе общеизвестна, и они, не таясь и не прячась, существуют в безопасности – в печальной безопасности. Во всяком случае, мы, стоя за креслом Ионатана, мысленно спрашивали себя, нет ли в этой безопасности какого-то обидного бесчестья и можно ли ее считать счастливой. Ведь к чему все это привело? К тому, что другие породы бабочек коварно нарядились в такие же роскошные одежды и даже усвоили медленный, надменно-меланхолический полет, хотя и были, безусловно, пригодны в пищу.
Заразившись весельем, в которое повергали Адриана эти сведения, – его форменным образом трясло от смеха, и слезы выступали у него на глазах, – я тоже от души смеялся. Но папаша Леверкюн утихомиривал нас кратким «цыц!», ибо хотел, чтобы ко всему этому относились с благоговением, с таинственным благоговением, какое было написано у него на лице, когда он рассматривал непостижимые письмена на некоторых раковинах с помощью своей большой четырехугольной лупы, время от времени предоставлявшейся и в наше пользование. Конечно, лицезрение всех этих существ, морских черепах и раковин было в высшей степени поучительно, по крайней мере для тех, кто рассматривал их под руководством Ионатана. Подумать только, до чего надежно, с каким смелым и тонким чувством формы был сделан этот домик, каждый его сводец, каждая извилина с ее розоватым входом; как непостижимо хороши в своем, я бы сказал, фаянсовом великолепии были эти всегда несхожие между собой изгибы, созданные студенистыми обитателями такого жилья, если, конечно, считать, что слизняки и вправду построили себе столь пленительное укрытие, иными словами, если держаться убежденья, что природа сама себя созидает, не зовя на помощь творца, которого, право же, нелепо воображать себе в роли даровитого художника или искусного гончара, так что поневоле впадаешь в искушение признать существование демиурга – Бога-умельца, Бога-посредника.
– У вас, – говорил нам Ионатан, – и в этом вам легко убедиться, стоит только пощупать собственный локоть или ребра, внутри имеется костяк, скелет, на котором держится ваша плоть и мускулы и который вы неизменно таскаете в себе или, вернее, он вас таскает. Здесь происходит обратное. Эти существа свою твердость вынесли наружу не в качестве остова, а в качестве крова; но как раз то, что твердость у них не скрыта, вынесена наружу, и является причиной их красоты.
Мы, мальчики, Адриан и я, при таких замечаниях отца касательно тщеславия всего видимого переглядывались, подавляя несколько озадаченную улыбку.
Эта внешняя красота была порою не лишена коварства: иные обитатели раковин, очаровательно асимметричные существа, как бы окунутые в колер бледно-розовый с прожилками или медово-желтый с белыми пятнами, пользовались дурною славой из-за ядовитого своего жала, – да и вообще, утверждал хозяин хутора Бюхель, всему этому разделу жизни присуще нечто сомнительное, нечто фантастически двусмысленное. Странная двойственность их внешнего вида сказалась и в том многообразном употреблении, которое делали из этих роскошных существ. В Средние века они были неотъемлемым инвентарем колдуний и алхимиков, так как раковины их считались наиболее подходящими сосудами для яда и любовных зелий. Но, с другой стороны, они служили в церквах украшеньем ларчиков для святых даров и реликвий и даже причастия. Что только здесь не воссоединилось: яд и красота, яд и волшебство, но также волшебство и церковное таинство. Может быть, мы всего этого и не думали, но пояснения Ионатана Леверкюна заставляли нас смутно это чувствовать.
Что касается таинственных письмен, не перестававших волновать воображение Ионатана Леверкюна, то они были словно выведены красновато-коричневой краской на белом фоне новокаледонской раковины среднего размера. Этот узор у краев переходил в чистейший штриховой орнамент, но на большей части выпуклой поверхности благодаря своей тщательной сложности напоминал пиктографию. Насколько мне помнится, эти знаки очень походили на ранневосточные письмена, к примеру, древнеарамейские, так что моему отцу в конце концов пришлось брать для своего друга из городской библиотеки Кайзерсашерна, кстати сказать, очень неплохой, археологические книги, дававшие возможность сличать и сравнивать. Такие изыскания, как и следовало ожидать, не давали никаких результатов или лишь весьма путаные и вздорные. Ионатан и сам уныло в этом признавался, показывая нам таинственную вязь. «Теперь уж установлено, что проникнуть в смысл этих знаков невозможно. Увы, дети мои, это так! Они ускользают от нашего понимания, и как ни обидно, но так оно будет и впредь. Впрочем, когда я говорю «ускользают», так это только противоположность понятию «открываются», и никто на свете меня не убедит, что природа начертала этот шифр, ключ к которому мы не можем найти, просто для украшения одного из своих созданий. Украшение и значение всегда шли бок о бок: ведь и старые манускрипты равно служили целям украшения и просвещения умов. Пусть смысл этих знаков нам недоступен, но погружаться мыслию в его противоречивую суть уже само по себе великая радость».
Думал ли он, что природа, коль скоро речь здесь шла о тайнописи, должна располагать собственным, в ней самой зарождавшимся членораздельным языком? А если нет, то какой из созданных людьми избрала она для того, чтобы себя выразить? Помнится, я тогда, еще совсем мальчиком, ясно понимал, что внечеловеческая природа по сути своей безъязыка; это, на мой взгляд, и делало ее страшноватой.
Да, папаша Леверкюн был, как сказано, мыслителем и созерцателем, и его исследования, если можно говорить об исследовании там, где все сводилось к мечтательному умствованию, всегда принимали определенное, а именно – мистическое или смутно-полумистическое направление, в котором, думается мне, почти неизбежно движется человеческая мысль, стремящаяся постичь природу. Предерзкая затея производить опыты над природой, побуждать ее к феноменам, «искушать» ее, обнажая – путем экспериментов – совершающиеся в ней процессы, это граничит с чародейством, более того, уже является чародейством, происками «искусителя», – таково было убеждение прошедших времен, убеждение, по-моему, весьма почтенное. Хотелось бы знать, какими глазами смотрели тогда на человека из Виттенберга, который, как рассказывал нам Ионатан, сто с лишним лет назад изобрел опыт со «зримой музыкой», не раз нами виденный. Среди немногих физических аппаратов, которыми располагал папаша Леверкюн, была круглая стеклянная пластинка, насаженная на стержень. На ней-то и разыгрывалось это чудо. Пластинку посыпали мельчайшим песком, и когда Ионатан проводил старым смычком от виолончели сверху вниз по ее краю, она начинала вибрировать, и песок, пришедший в движение, ложился в виде удивительно отчетливых и многообразных фигур и арабесок. Эта зрительная акустика, в которой так прельстительно сочетались наглядность и таинственность, закономерное и чудесное, очень нравилась нам, мальчикам; впрочем, мы сплошь и рядом просили папашу Леверкюна показать нам этот опыт не столько для нашего, сколько для его удовольствия.
Не меньше радости доставляли ему морозные узоры. В зимние дни, когда эти кристаллические осадки целиком покрывали маленькие окна дома, он иногда по получасу – то невооруженным глазом, то через увеличительное стекло – разглядывал их структуру. Если бы эти порождения соблюдали положенную им симметрию, математически точное и регулярное чередование, у него скорее достало бы сил взяться за дневные труды. Но они – прямо-таки с шарлатанским бесстыдством! – подражали растительному миру, очаровательно воссоздавали листья папоротника, травинки, чашечки и лепестки цветов. Ионатан никак не мог примириться с тем, что они со своими «ледяными возможностями» пытаются дилетантствовать в органическом мире, и, разглядывая узоры на окнах, долго-долго качал головой – неодобрительно и в то же время восхищенно. Вопрос заключался в том, предваряли эти фантасмагории растительные формы или же повторяли их? Ни то и ни другое, в конце концов отвечал он себе, это параллельные явления. Природа – выдумщица, время от времени ее выдумки повторяются; если здесь может идти речь о повторении, то разве что обоюдном. Надо ли считать прообразом подлинные цветы лугов только оттого, что они обладают органическим, глубинным бытием, морозные же цветы всего-навсего мираж? Но ведь и этот мираж – результат не менее сложных сочетаний материи, чем те, которые мы наблюдаем в растительном мире. Если я правильно понимал нашего гостеприимного хозяина, то его неустанно занимала мысль о единстве живой и так называемой неживой природы; по его мнению, мы впадали в грех перед последней, проводя слишком строгую границу между обеими, тогда как на самом деле эта граница не так уж прочна и, собственно, нет такой элементарной функции, присущей живой природе, которую биолог не обнаружил бы, наблюдая мертвую.
Как волнующе-странно сливается одно царство природы с другим, поучала нас «питающаяся капля», которую папаша Леверкюн нередко потчевал на наших глазах. Кто мог бы поверить, что капля, ну, скажем, парафина или эфирного масла – не помню уж точно, каплей чего была «наша капля», кажется, впрочем, хлороформа, – словом, что капля, не будучи ни животным, хотя бы примитивнейшим, ни даже амебой, могла чувствовать аппетит, принимать пищу, поглощать подходящую и отвергать неподходящую? Тем не менее наша капля все это проделывала. Она одиноко висела на стенке стакана с водой, куда помещал ее Ионатан с помощью тонкого шприца. Затем он производил следующие действия: брал пинцетом тонюсенькую стеклянную палочку, скорее даже ниточку, покрытую шеллаком, и близко подводил ее к капле. Все остальное уже делала капля. На своей поверхности она образовывала маленький холмик, нечто вроде воспринимающего бугорка, через который и начинала вбирать в себя палочку. При этом капля вытягивалась в длину, принимала форму груши, стремясь целиком поглотить свою добычу, не дать ее концам высунуться наружу, и затем – честное слово, я видел это своими глазами – начинала, вновь округляясь и принимая уже яйцеобразную форму, поедать шеллаковое покрытие стеклянной палочки и распределять его в своем тельце. Покончив с этим и вновь вернувшись к своему шарообразному обличью, она препровождала очищенную от питательного покрова палочку к своей периферии и выбрасывала ее в воду.
Не скажу, чтобы я был большой охотник до этих опытов, но смотрел я их с интересом, так же как и Адриан, хотя его всякий раз душил смех, который он старался подавить единственно из почтения к отцу и его сугубой серьезности. Конечно, «питающуюся каплю» можно было находить смешной, но уж никак не смешны были те невероятные и полупризрачные порожденья природы, выращиваемые папашей Леверкюном в оригинальнейшей культуре, на которые нам время от времени тоже дозволялось смотреть. Никогда мне не забыть этого зрелища. Сосуд, в котором кристаллизовались эти странные образования, был на три четверти наполнен слегка слизистой водой, вернее, жидким стеклом. Из песчаного грунта там поднимался гротескный маленький пейзаж, сомнительная заросль синих, зеленых и коричневых всходов, похожих на грибы, неподвижные полипы, а также на мох, раковины, плодовые завязи, деревца, водоросли или ветки малюсеньких деревьев, а иногда на руки, пальцы или ноги человека, – ничего более удивительного я в жизни не видывал. Но самым поразительным в этом «ландшафте» была не его причудливая странность, а разлитая в нем глубокая грусть. Когда папаша Леверкюн спрашивал, как мы думаем, что это такое, мы отвечали – растения. «Нет, – говорил он, – это не растения, они только притворяются ими. Но не вздумайте из-за этого пренебрежительно к ним относиться. Как раз то, что они изо всех сил стараются притвориться растениями, и заслуживает всяческого уважения».
Оказывается, то была поросль, безусловно, неорганического происхождения, возникшая с помощью химикалий из аптеки «Благих посланцев». Прежде чем влить в сосуд раствор стекла, Ионатан засевал песок на дне сосуда различными кристаллами, если не ошибаюсь, хромокислым калием или медным купоросом, и из этого-то посева, как результат физического процесса, так называемого осмотического давления, развилась та убогая растительность, к наисердечнейшему сочувствию которой нас призывал экспериментатор. Папаша Леверкюн доказывал нам, что эти жалкие подражатели жизни жаждут света, что они «гелиотропны», то есть обладают свойством, признаваемым наукой за одним лишь органическим миром. Он ставил аквариум так, чтобы три его стороны оставались в тени, а одна ярко освещалась солнцем, и, смотрите-ка, к этой створке сосуда вскоре приникала вся сомнительная семейка – грибки, фаллические стебли полипов, деревца, похожие на полусформировавшиеся члены человеческого тела, и так страстно жаждала она тепла и радости, что буквально лезла на освещенную солнцем стенку и плотно к ней прилипала.
– И подумать только, что они мертвы, – говорил Ионатан, и слезы выступали у него на глазах; Адриан же, я это отлично видел, трясся от еле сдерживаемого смеха.
Я лично не берусь судить, надо ли тут смеяться или плакать. Могу сказать лишь одно: такой морок, безусловно, создается природой, и прежде всего природой, которую дерзко искушает человек. В благородном царстве гуманитарных наук мы не сталкиваемся с подобной чертовщиной.
IV
Поскольку предыдущий отрывок очень расплылся, мне кажется правильным приступить к новому, чтобы, пусть в немногих словах, воздать должное хозяйке хутора Бюхель, доброй матушке Адриана. Не исключено, конечно, что благодарное чувство, которое всегда испытываешь к своему детству, равно как и лакомые кушанья, которыми она нас потчевала, создали ореол вокруг этого образа, – но я должен сказать, что в жизни мне не встречалась женщина привлекательнее простой, нимало не претендующей на интеллектуальность Эльсбеты Леверкюн, и я не могу говорить о ней иначе, как с благоговеньем, ибо, помимо всего прочего, убежден, что Адриан в значительной мере обязан своим гением ее радостной и светлой натуре.
Если я с таким удовольствием всматривался в прекрасное старонемецкое лицо папаши Леверкюна, то, уж конечно, не в меньшей степени привлекал мой взор ее своеобразный и на редкость гармонический облик. Она была родом из Апольды и принадлежала к тому темноволосому типу, который иногда встречается в немецких землях, хотя его генеалогия, в той мере, конечно, в какой ее можно установить, и не дает основания подозревать здесь примесь римской крови. По яркому румянцу, черным волосам и черным, всегда спокойным, ласковым глазам ее можно было бы принять за итальянку, если бы в строении лица не замечалось германской грубоватости, – овал скорее круглый, несмотря на довольно острый подбородок, нос неправильный, с чуть вдавленной переносицей, к тому же слегка вздернутый, рот спокойный и мягко очерченный. Волосы ее, покуда я подрастал, начавшие медленно серебриться, наполовину закрывали уши и были так туго затянуты, что блестели, как зеркало, пробор надо лбом обнажал белую кожу. Несмотря на это, несколько пушистых завитков не всегда, а следовательно, не нарочно – премило выбивались у нее возле ушей. Коса матушки Леверкюн, в годы нашего детства еще очень тяжелая, была, по крестьянскому обычаю, на затылке уложена в узел, в который по праздничным дням вдевался пестро расшитый бант.
Городское платье было ей не по душе, так же как и ее мужу, да оно и не шло к ней, тогда как деревенская старонемецкая одежда – жесткая домотканая юбка, нечто вроде корсажа, остроконечный вырез которого открывал ее крепкую шею и верхнюю часть груди, украшенной простеньким медальоном из дутого золота, – чудо как ее красила. В смуглых, привычных к труду, но не загрубелых, хотя и не холеных ее руках с обручальным кольцом на безымянном пальце было столько надежного, по-человечески правильного, что невозможно было смотреть на них без удовольствия, так же как и на ее уверенно ступающие ладные ноги, не большие и не слишком маленькие, в удобных туфлях на низком каблуке, в красных или зеленых шерстяных чулках, обтягивающих стройные лодыжки. Все в ней было приятно, но лучше всего был ее голос, по тембру – теплое меццо-сопрано, в разговоре – а говорила она с легким тюрингским акцентом – неотразимо обольстительный. Я не говорю «обольщающий», ибо от этого слова неотделима какая-то нарочитость, преднамеренность. Очарованье ее голоса шло от внутренней музыкальности, потайной, если можно так выразиться, ибо Эльсбету Леверкюн музыка нисколько не интересовала; она, так сказать, не причисляла себя к ее приходу. Иногда она, правда, снимала со стены гитару, в виде украшения висевшую в гостиной, брала несколько аккордов и вполголоса мурлыкала строфу то из одной, то из другой песни, но по-настоящему никогда не пела, хотя я ручаюсь головой, что великолепнейшие вокальные данные у нее имелись.
Так или иначе, но я не знал более милой манеры разговаривать, хотя говорила матушка Леверкюн только самое простое, житейское. Я придаю большое значение тому, что эти благозвучные, подсказанные врожденным вкусом интонации Адриан слышал с первой же минуты жизни. Этим я отчасти объясняю и ту, казалось бы, немыслимую музыкальность, которая проявляется в его творениях, хотя мне, конечно, могли бы возразить, что на последующую жизнь брата Георга, подраставшего вместе с ним, все это никакого влияния не оказало. Впрочем, он и наружностью больше походил на отца, тогда как Адриан выдался в мать, хотя – странным образом – склонность к мигреням от отца унаследовал именно Адриан, а не Георг. Весь облик покойного – множество разных внешних признаков: смуглый цвет лица, разрез глаз, строение рта и подбородка, – все шло от матери. Особенно это бросалось в глаза до того, как он, уже в последние годы, отрастил столь сильно его изменившую клинообразную бородку. Чернота материнской и голубизна отцовской радужной оболочки в его глазах смешались в сине-серо-зеленое с металлической искоркой и темным, цвета ржавчины, колечком вокруг зрачка. Я всегда от души радовался, сознавая, что цвет его глаз произошел от смешения таких несхожих глаз его родителей; не потому ли он всю жизнь не мог решить: какие же глаза ему больше нравятся, черные или голубые? Его всегда подкупала только крайность – смоляной блеск меж ресниц или небесная голубизна.
Фрау Эльсбета была в наилучших отношениях с работниками хутора, кстати сказать, многочисленными только в пору уборки урожая, когда в помощь батракам нанимались еще и крестьяне из близлежащих деревень; более того, ее авторитет среди них был даже выше авторитета самого хозяина. Кое-кого из этих людей я помню как сейчас, конюха Томаса, например, того самого, что встречал нас на станции Вейсенфельз и потом отвозил к поезду; он был одноглазый, на редкость длинный и костлявый, хотя высоко между лопаток у него торчал горб, на котором нередко катался верхом маленький Адриан; надо добавить, что он впоследствии не раз меня уверял, что это было очень удобное и надежное седло. Помню я и скотницу Ханну, особу с трясущимся бюстом и босыми ногами, вымазанными в навозе, с которой маленький Адриан по причинам, о которых следует рассказать подробнее, тоже водил тесную дружбу, да еще фрау Шлюхе, заведующую молочной фермой, вдову с неизменным чепцом на голове и необыкновенно достойным выражением лица: оно до некоторой степени служило протестом против такой фамилии, но главным образом относилось к ее общепризнанным талантам по части изготовления тминного сыра. Иногда она вместо хозяйки приглашала нас в теплый, благодатный полумрак коровника, где из-под быстро снующих вверх и вниз рук работницы, сидевшей на низенькой скамеечке, лилось в ведро парное, пенящееся, пахнущее здоровьем молоко.
Я бы, конечно, не стал подробно распространяться об этом буколическом детстве, о простых декорациях, в которых оно протекало, – поле, лес, пруд и пригорки, – если бы в этом раннем мирке Адриана, в его отчем доме и среди окрестной природы, мы с ним так часто не оставались вдвоем. Это было время, когда зародилось наше «ты», когда не только я его, но и он меня называл просто по имени. Сейчас мне уже не помнится, как это было, но ведь нельзя предположить, чтобы шести- или восьмилетний мальчуган не говорил мне просто «Серенус» или даже «Серен» в ответ на мое «Адри». Я не помню точно когда, но, кажется, в самые первые школьные годы он уже перестал доставлять мне эту радость, и если вообще окликал меня, то обязательно по фамилии; мне же казалось грубым, даже немыслимым платить ему тем же. Да, так оно было, – пусть, впрочем, никто не думает, будто я жалуюсь. Мне только кажется важным упомянуть, что я звал его Адрианом, а он или вовсе обходил обращение по имени, или же называл меня «Цейтблом». Но довольно об этом курьезе, к которому я, кстати сказать, совсем привык, и вернемся снова на хутор Бюхель!
У него, да и у меня тоже, был там закадычный друг – дворовый пес Зузо, – как ни странно, но так он именовался, – собака довольно ободранная, которая смеялась во всю пасть, когда ей приносили еду, но для чужих была отнюдь не безопасна. Она вела унылое существованье цепного пса, весь день сидела возле своих мисок и конуры и только ночью свободно гоняла по двору. Вдвоем с Адрианом мы заглядывали в грязную тесноту свинарника и, вспоминая слышанные на кухне истории, – будто эти неопрятные существа с хитренькими голубыми глазками, смотрящими из-под белесых ресниц, и жирными телами цвета человеческого тела иногда пожирают детей, – поневоле начинали подражать их языку, их глухим хрюкающим голосам и не могли отвести глаз от розового потомства только что опоросившейся свиньи, так и кишевшего у ее сосков. Вместе потешались мы над педантической, полной размеренно-достойных звуков, вдруг переходивших в форменную истерику, жизнью куриного племени за проволочной сеткой курятника и вместе же наносили, весьма, впрочем, краткие, визиты пчелам на пчельнике позади дома, так как слишком хорошо знали пусть не столь уж нестерпимую, но оглушительную боль, стоило одной из этих собирательниц сладости вдруг сесть тебе на нос, по глупости решив, что этот предмет необходимо ужалить.
Помню я также смородину в огороде и то, как мы ели ее кисточки, медленно вытягивая из сжатых губ уже объеденный стерженек, помню, каковы на вкус полевая кислица и многие другие цветы, – мы наловчились высасывать из них крохотные капельки нектара, – помню желуди в лесу, которые мы разгрызали, лежа на спине, а также пурпурную, нагретую солнцем ежевику – она росла вдоль дороги, и ее терпкий сок хорошо утолял жажду. Мы были детьми – и не в силу пустой сентиментальности трогает меня этот загляд в прошлое, а только в силу раздумий о нем, о его судьбе, о том, что ему было предначертано из долины чистоты подняться до высот пустынных и страшных. Это была жизнь художника, и так как мне, простому человеку, суждено было близко наблюдать ее, то все мое душевное сочувствие к людям и людским судьбам сосредоточилось на этой особой форме человеческой жизни. Для меня благодаря моей дружбе с Адрианом жизнь художника стала парадигмой формирования всех судеб, классическим поводом для глубокой взволнованности тем, что зовется становлением, развитием, предназначенностью, – да такова она, должно быть, и есть. Хотя художник всю жизнь остается ближе к своему детству, чтобы не сказать – более верным ему, чем человек, поднаторевший в практической деятельности, хотя он, в противоположность практику, можно смело сказать, куда дольше пребывает в чисто человеческом, задорно-радостном состоянии мечтателя-ребенка, его путь от нетронутого младенчества до поздних непредвиденных фаз становления бесконечно сложней, извилистей и для наблюдателя куда страшней, чем путь заурядного человека, для которого утрата детства, конечно, не так болезненна.
Мне приходится убедительно просить читателя все, что, может быть, с излишним чувством сказано здесь, отнести за счет пишущего эти строки и никак не думать, что я говорю это в духе Леверкюна. Я человек старомодный, застрявший на некоторых милых мне романтических представлениях, к которым относится и трагическая противопоставленность художника обыкновенному человеку. Адриан, уж конечно, холодно опроверг бы эти слова, – если бы вообще взял на себя труд опровергать их. Об искусстве и жизни в искусстве он судил в высшей степени трезво, резко, даже уничижительно, и к «романтическому тру-ту-ту», в свое время поднятому вокруг искусства, относился с таким недоброжелательством, что едва терпел, когда подобные речи велись в его присутствии, – это было видно по его лицу. То же самое и со словом «вдохновение»; при нем лучше было говорить «удачная мысль». Он ненавидел это слово, всячески над ним издевался, и даже сейчас, вспомнив об этой ненависти и издевке, я невольно снимаю руку с листа промокательной бумаги на моем столе, чтобы прикрыть ею глаза. Слишком много муки было в этой ненависти, чтобы считать ее просто порождением времени и моды. Впрочем, мода здесь тоже играла известную роль, я помню, как он, еще студентом, однажды сказал мне, что девятнадцатое столетие было, наверное, на редкость уютной эпохой, ибо человечество никогда с такой горечью не расставалось с воззрениями и привычками прошлого, как в наше время.
Вскользь я уже упоминал о пруде, окруженном плакучими ивами, всего в десяти минутах ходьбы от Бюхеля. Он звался «Коровьим Корытом», отчасти из-за своей вытянутой формы, отчасти же потому, что коровы приходили туда на водопой. Вода в этом пруду почему-то была колюче-холодной, купаться в нем мы решались разве что в послеполуденные часы, когда ее уже основательно прогрело солнцем. Но если идти к пруду не напрямки, а дорогой, взбиравшейся на пригорок, то это была приятная прогулка, длившаяся уже добрых полчаса.
Пригорок этот назывался, наверное, с очень давних времен и совсем неподходяще, «горой Сионом». Зимою, когда я редко бывал в Бюхеле, с него хорошо было кататься на салазках, летом же с его «вершины», где в тени раскидистых кленов на мирской счет была сооружена удобная скамейка, открывалась широкая панорама, которою, в вечерние часы перед ужином, мы нередко любовались вместе со всем семейством Леверкюнов.
Здесь я вынужден сделать одно примечание: та рамка, и в смысле пейзажа, и в смысле домашнего обихода, в которую Адриан позднее, уже зрелым человеком, вставил, если можно так выразиться, свою жизнь, поселившись у Швейгештилей в Пфейферинге, в Верхней Баварии, удивительно напоминала, даже повторяла все, что окружало его в детстве. Иными словами, зрелая его жизнь протекала в обстановке, курьезнейшим образом воссоздавшей обстановку его ранней поры. Мало того, что вблизи Пфейферинга высился пригорок с «мирской» скамейкой, правда, называвшийся не «горой Сионом», а «Римским холмом», и на таком же примерно расстоянии от хутора, как Коровье Корыто, находился пруд, называвшийся «Круглый Колодец», с на редкость студеной водой, но весь дом, двор и семейные взаимоотношения до странности точно воспроизводили Бюхель. На дворе Пфейферинга росло дерево, тоже мешавшее проезду и тоже сохраняемое из соображений уюта и по привычке, – только это была не липа, а раскидистый вяз. Надо, впрочем, сказать, что по архитектуре дом в Пфейферинге разительно отличался от леверкюновского дома, ибо это было старое монастырское строение с толстыми стенами, глубоко сидящими сводчатыми окнами и переходами, в которых попахивало плесенью. Но крепкий табак хозяйской трубки, как и там, насквозь пропитывал воздух нижних комнат; хозяин и его хозяйка, фрау Швейгештиль, исполняли роль «родителей»; он был длиннолицый, скорее молчаливый, рассудительно-спокойный земледелец, она – тоже уже в летах, немного, пожалуй, слишком пышная, но очень пропорциональная гармоничная женщина, со стройными руками и ногами, всегда гладко причесанная, живая и энергичная; был у них и взрослый сын-наследник по имени Гереон (а не Георг), в хозяйственном отношении весьма прогрессивно мыслящий молодой человек, увлекавшийся новейшими сельскохозяйственными машинами, и дочка Клементина, значительно моложе его. Дворовый пес в Пфейферинге тоже умел смеяться, хотя первоначально звался не Зузо, а Кашперль, – первоначально потому, что на этот счет у жильца Швейгештилей имелось свое мнение, и я был очевидцем того, как под его влиянием кличка Кашперль мало-помалу превратилась в воспоминание и собака сама уже охотнее откликалась на имя Зузо. Второго сына в Пфейферинге не было, отчего, по-моему, сходство только увеличивалось, а не уменьшалось; ибо кем же был бы сей второй сын?
Я не говорил с Адрианом об этом назойливом параллелизме; смолчал на первых порах, а потому молчал и позднее, но никогда мне это не нравилось. Выбор места, словно воскрешающего обстановку раннего детства, прибежища в давно минувшем или хотя бы во внешнем антураже минувшего, мог, конечно, свидетельствовать о глубине привязанностей, но в большей мере свидетельствовал о тяжелом, очень тяжелом душевном состоянии. В случае Леверкюна все это выглядело еще более странным потому, что особо пылкой любви к родительскому дому в нем не замечалось; он рано и без сожаления его покинул. Неужто это искусственное «возвращение» было всего-навсего игрой? Нет, не поверю. Мне все это напоминало историю с одним моим знакомым: несмотря на плотное телосложение и окладистую бороду, он был хрупкого здоровья и, чуть захворав, что случалось частенько, лечился только у врача по детским болезням. Кстати сказать, этот врач, единственный, кому он доверился, был так мал ростом, что «взрослая практика» была ему в буквальном смысле слова «не по плечу», почему он волей-неволей и стал педиатром.
Тут мне кажется необходимым поскорей признать, что этот анекдот о странном пациенте и детском враче – недопустимое отступление, хотя бы потому, что ни тот, ни другой уже не встретятся в моих записях. Если это прегрешение, а я прегрешил еще и тем, что, поддавшись своей склонности забегать вперед, уже рассказал о Пфейферинге и Швейгештилях, то я покорнейше прошу читателя отнести такую торопливость за счет тревоги, которая владеет мною с той самой минуты, как я начал эту биографию, – и не только в часы работы над нею. Уже много дней я тружусь над этими страницами, но пусть мои усилия придать известную гладкость фразам и выразить подобающим образом свои мысли не обманут читателя, – увы! – я нахожусь в непрестанном волнении, и мой почерк, до сих пор еще, безусловно, твердый и четкий, становится дрожащим и неровным. Надеюсь, однако, что читатель со временем не только поймет мое душевное потрясение, но и сам его испытает.
Я позабыл упомянуть, что на хуторе Швейгештилей – никого это уже не удивит – тоже была скотница, Вальпургия, с пышной грудью и с вечно вымазанными навозом ногами, походившая на Ханну из Бюхеля не больше и не меньше, чем все скотницы походят друг на друга. Но речь здесь не о ней, а о ее прообразе, Ханне, с которой маленький Адриан дружил из-за того, что она была охотницей петь и с нами, детьми, устраивала маленькие спевки. Не странно ли: Эльсбета Леверкюн, обладавшая прекрасным голосом, из какой-то своеобразной робости воздерживалась от пения, тогда как эта пахнущая хлевом девица, нимало не стесняясь своего визгливого голоса (слух у нее, впрочем, был отличный), по вечерам на скамейке под липой без устали пела нам народные, солдатские, а также уличные песни, душещипательные или жестокие, слова и мелодии которых мы немедленно запоминали. Когда мы начинали петь, она предоставляла нам верхний голос, сопровождая его в терцию, затем переходила вниз на квинту и сексту, четко выдерживая второй голос, и при этом, чтобы мы еще больше прониклись гармоническим наслаждением, смеялась, растягивая рот до ушей, точно Зузо, когда ему приносили пищу.
Под «мы» я подразумеваю Адриана, себя и Георга, которому минуло уже тринадцать лет, когда его брату было восемь, а мне десять. Сестренка Урсель была слишком мала, чтобы принимать участие в сих музыкальных упражнениях, да, собственно, при трехголосом пенье, до которого скотница Ханна сумела возвысить наше незатейливое одноголосное пение, один из четырех певцов был и без того лишним. Она обучила нас канонам, конечно, простейшим: «Как люблю я в час вечерний», «Звенят наши песни» и еще про осла и кукушку. Потому-то вечерние часы, в которые мы предавались этому развлечению, и сохранились с такой ясностью в моей памяти – хотя правильнее будет сказать, что по-настоящему значительным это воспоминание сделалось уже позднее, когда я понял, что именно в эти вечера мой друг впервые соприкоснулся с «музыкой», несколько более сложно организованной, чем одноголосное пение. Здесь фокус заключался во временны́х сдвигах, в запаздывающем повторении музыкальной фразы, к которому Ханна пинком в бок понуждала очередного певца, когда мелодия доходила до определенной точки, но еще не кончалась. Здесь имело место разновременное расположение отдельных отрывков мелодии, отчего, однако, сумбура не получалось, так как повторение первой фразы вторым певцом находилось в полной музыкальной соотнесенности с ее продолжением, исполнявшимся первым певцом. А когда первый певец, к примеру, в песне «Как люблю я в час вечерний», доходил до слов «звон раз-да-ался» и уже начинал звукоподражательное «бим-бам-бом», оно служило басовым сопровождением не только к словам «и над речкой», но и к начальному «как люблю я», с которым вступал в музыкальное время третий певец, получивши очередной пинок, а когда он добирался до второй фразы мелодии, начальные слова вновь переходили к первому певцу, в свою очередь передоверившему звукоподражательное «бим-бам-бом» второму. Партия четвертого певца неизбежно совпадала с партией одного из трех, но он стремился отклоняться от этого тождества тем, что мурлыкал мелодию октавой ниже или же начинал досрочно выводить фундирующее «бим-бам-бом», если попросту не довольствовался сопровождением всех стадий песни вибрирующим «ла-ла-ла».
Итак, во времени мы, можно сказать, расходились, хотя мелодическая партия одного отлично сочеталась с мелодической партией другого, так что в результате получалась очень приятная музыкальная ткань, какой, конечно, не создает «одновременное» пенье, сочетание голосов, которое нам нравилось, но до природы и причины которого ни мы, ни даже восьмилетний Адриан не пытались доискиваться. Или, может быть, короткий и скорее насмешливый, чем удивленный смешок Адриана, когда в вечернем воздухе растворялось последнее «бим-бом», – смешок, характерный для него и в позднейшие годы, – все же означал, что он понял, в чем фокус этой песенки, заключавшийся просто-напросто в том, что начало ее мелодии составляет второй голос, а третья ее часть служит для обоих басом? Ни один из нас не догадывался, что под регентством скотницы Ханны мы поднялись на сравнительно высокую ступень музыкальной культуры, в область имитационной полифонии, которую, для нашего удовольствия, открыл пятнадцатый век. Теперь, когда я вспоминаю этот смешок Адриана, мне начинает казаться, что в нем уже было нечто от знания и иронии посвященного. Я часто слышал его, сидя бок о бок с Адрианом на концерте или в театре, когда его поражал какой-нибудь незаметный для массы слушателей искусный трюк или остроумный ход внутри музыкальной структуры, какой-нибудь тонкий психологический намек в диалоге драмы. Пусть совсем еще не по годам, но во времена Ханны смешок у Адриана был тот же, что и в зрелом возрасте. Он запрокидывал голову, делал легкий, короткий выдох ртом и носом, холодно, даже презрительно, так, словно хотел сказать: «Недурно, смешно, оригинально, занятно!» Но глаза его при этом настораживались, искали чего-то в пустоте, и еще темнее становился их крапленный металлом сумрак.
V
И этот только что законченный отрывок, на мой вкус, слишком расплылся, и опять мне приходится просить читателя запастись терпением. Для меня представляет жгучий интерес каждое слово этих записей, но столь же ли оно интересно для людей сторонних? Хотя я и должен помнить, что пишу не для сегодняшнего дня и не для тех, кто ничего еще не знает о Леверкюне, а потому и не жаждет подробнее узнать о нем. Эти воспоминания пишутся впрок, но я твердо уверен, что придет время, когда предпосылки для общественного вниманья к ним будут благоприятнее и потребность глубже узнать эту потрясающую жизнь, независимо от того, умело или неумело о ней рассказано, станет поистине насущной потребностью.
Время это придет, когда наша тюрьма, пусть обширная, но тем более тесная и насквозь пропитанная миазмами, наконец откроется, иными словами – когда так или иначе окончится бушующая сейчас война; ужас охватывает меня от этого «так или иначе», ужас перед самим собой, перед страшным рабством, на которое судьба обрекла душу немецкого народа! На самом деле я имею в виду только один исход этого «так или иначе» и на него надеюсь вопреки своей гражданской совести. Неустанная пропаганда крепко внедрила в наше сознание, как убийственны, как ужасающе страшны будут последствия поражения Германии, и мы против воли пуще всего на свете боимся его. Но есть нечто, чего мы – одни считая себя за это преступниками, другие откровенно и в сознании своей правоты – боимся еще больше, чем поражения, и это – победа Германии. Я едва решаюсь себя спрашивать, к какой из этих двух категорий я принадлежу. Может быть, к третьей, к тем, кто упорно и сознательно, пусть мучаясь угрызениями совести, вожделеет поражения? Все мои надежды и упования восстают против победы немецкого оружия, ибо она похоронит все созданное моим другом, печать запрета и забвенья будет, возможно, сотни лет лежать на его творчестве, его время ничего о нем не узнает, и только позднейшие поколения восстановят историческую справедливость. В этом заключается особый мотив моей крамолы, мотив, который со мною разделяют считанные и вдобавок разбросанные по свету люди. Но мой душевный разлад – только разновидность того, что, за вычетом случаев чрезмерной глупости или грубейшей корысти, стало уделом всего немецкого народа. Я приписываю этому уделу исключительный, доселе небывалый трагизм, хотя знаю, что и другим нациям приходилось во имя собственного и общечеловеческого будущего желать поражения своему государству. Но, принимая во внимание немецкий характер, его прямодушие, доверчивость, врожденную верность и законопослушность, я не могу не считать, что в нашем случае эта дилемма приобретает неслыханную остроту, так же как не могу не испытывать глубокой ненависти к тем, кто привел такой славный народ в душевное состояние, достающееся ему – я в этом уверен! – тяжелее, чем другим, более того – отчуждающее его от самого себя. Достаточно себе вообразить, что мои сыновья, в силу какого-нибудь несчастного стечения обстоятельств обнаружив эти записи, со спартанским презрением к мягкотелости предадут меня в руки тайной полиции, – и я даже со своего рода патриотической гордостью воочию вижу всю глубину конфликта, в котором мы запутались.
Я вполне отдаю себе отчет в том, что и вышеприведенный отрывок получился намного длиннее, чем мне хотелось, и во мне невольно всплывает мысль – уж не сам ли я ищу всех этих затяжек и промедлений или хотя бы с тайной готовностью принимаю их, ибо страшусь того, что мне предстоит сказать. Но, откровенно указав читателю на причину моих блужданий вокруг да около, на страх перед задачей, которую я взял на себя из чувства любви и долга, я спешу заявить: ничто, даже собственная моя слабость, не помешает мне продолжить рассказ. Возвратимся же к моему утверждению, что Адриан впервые соприкоснулся с музыкой в часы, когда мы распевали каноны со скотницей Ханной. Правда, я знаю, что подростком он посещал вместе с родителями деревенскую церковь, куда на богослужение приезжал из Вейсенфельза ученик музыкальной школы, чтобы прелюдировать на маленьком органе, сопровождать пение прихожан и напутствовать их при выходе из церкви довольно робкими импровизациями. Сам я при этом почти никогда не присутствовал, так как мы обычно приезжали в Бюхель уже после обедни, и могу только заверить, что не слышал от Адриана ни единого слова, из которого можно было бы заключить, что упражнения сего адепта затронули его юные чувства или, если уж это было невозможно, что его хотя бы поразил самый феномен музыки. Насколько я понимаю, ни тогда, ни еще целый ряд лет спустя он не дарил музыку особым вниманием и сам от себя таил свою причастность к миру звуков. В этом, по-моему, сказалась сдержанность его характера, но есть тому и физиологическое объяснение, ибо на четырнадцатом году жизни, следовательно, в пору пробуждения полового инстинкта и утраты младенческой невинности, он, живя у своего дяди в Кайзерсашерне, начал без сторонних побуждений музыкальные эксперименты на фисгармонии. В это же самое время стала мучить его и наследственная мигрень.
Будущее старшего брата, Георга, которому предстояло унаследовать хутор, было заранее определено, и жизнь его протекала в полнейшей гармонии с этим предназначением. Вопрос о том, кем предстояло сделаться второму сыну, для родителей оставался открытым и должен был разрешиться в зависимости от его способностей и склонностей; примечательно, как рано в его семье, да и у всех нас, сложилось убеждение, что Адриан станет ученым. Какой специальности? Это уже покажет будущее, но весь habitus[9] мальчика, его манера выражаться, его самобытность, даже взгляд и выражение его лица не позволяли моему отцу, например, усомниться в том, что этому отпрыску рода Леверкюнов предстоит возвыситься над своей средой, стать первым ученым, носящим это имя.
Такая идея возникла и укрепилась благодаря удивительной легкости, с какой Адриан закончил курс начального обучения. Учился он дома, Ионатан Леверкюн не посылал своих детей в деревенскую школу – не из социального чванства, как я полагаю, а из благого намерения дать им лучшее образование, чем то, которое они могли бы получить, сидя рядом с малоразвитыми детьми из Обервейлера. Школьный учитель, человек еще молодой, щупловатый и так никогда и не переставший бояться собаки Зузо, под вечер, покончив со своими служебными обязанностями, являлся в Бюхель (зимою Томас ездил за ним на санях), и, когда он уже преподал тринадцатилетнему Георгу почти все знания, которые должны были служить основой для дальнейшего, в его руки, по восьмому году, перешел Адриан. Он-то, учитель Михельсен, и был первым, кто взволнованно, во всеуслышание заявил, что мальчика надо «во славу Господа» отдать в гимназию, а затем и в университет, ибо никогда еще ему, Михельсену, не встречался столь живой, восприимчивый ум, просто стыд будет «не расчистить ему дороги к высотам науки». Так, несколько по-семинарски, выразил он свою мысль и даже заговорил о «гении», отчасти, конечно, чтобы щегольнуть высоким словом, которое перед лицом этих азбучных достижений выглядело довольно смешно, но сказано было в чистосердечном изумлении.
Я не присутствовал при этих уроках и знал о них понаслышке, но мне не трудно себе представить, как озадачивал Адриан своего юного ментора, привыкшего то ласкою, то строгостью вдалбливать начатки знаний в ленивые и упрямые головы, – и не только озадачивал, но даже порою и огорчал.
– Если ты все уже знаешь, – я так и слышу его голос, – то мне здесь делать нечего.
Разумеется, его ученик знал далеко не «все». Вид у него был всезнающий просто потому, что он все схватывал и усваивал легко и самостоятельно, – случай, когда учителю лучше воздержаться от похвалы, ибо столь гибкий ум не способствует скромности душевной и толкает на высокомерие. От алфавита до синтаксиса и грамматики, от ряда чисел и четырех действий арифметики до тройного правила и пропорций, от заучивания наизусть небольших стихотворений (впрочем, здесь о заучивании не могло быть и речи: стихи схватывались мгновенно и с абсолютной точностью) до письменного изложения собственных мыслей об истории земли или немецкой истории – все воспринималось одинаково успешно. Адриан слушал краем уха, и тотчас же на его лице появлялось выражение, как бы говорившее: «Ладно, ладно, я все понял, хватит уж, дальше!» Учительской душе это кажется чуть ли не мятежом. Не сомневаюсь, что юный ментор не раз чувствовал искушение воскликнуть: «Да как ты смеешь? Стараться надо!» Но как прикажете стараться, если в этом нет ни малейшей нужды?
Я уже говорил, что не присутствовал на этих занятиях, но не сомневаюсь, что мой друг воспринимал научные сведения, которые ему сообщал господин Михельсен, с тою же самой миной – описать ее я не берусь, – какую он состроил на скамейке под липой, узнав, что девять тактов мелодической горизонтали, если они по три расположены друг над другом вертикально, составляют гармоническое трехголосное построение. Учитель Адриана немного знал по-латыни и, передав свои знания ученику, объявил, что ему впору – это в десять-то лет – поступить если не в четвертый, то в пятый класс. Его же учительские труды в Бюхеле окончены.
Итак, на пасхальной неделе 1895 года Адриан покинул родительский дом, чтобы поступить в гимназию Св. Бонифация (собственно, в «Школу братьев убогой жизни»). На жительство его взял родной дядя, брат отца, Николаус Леверкюн, видный гражданин Кайзерсашерна.
VI
Относительно моего родного города на Заале приезжему следует в первую очередь сообщить, что он расположен южнее Галле, в сторону Тюрингии. Я едва не сказал «был расположен», – ибо так давно из него уехал, что для меня он отодвинулся в прошлое. Тем не менее его башни все еще стоят, где стояли, и, насколько мне известно, его архитектурный облик даже не пострадал от беспощадной воздушной войны; а это была бы непоправимая утрата, – ведь он полон чудесных исторических памятников. Я говорю об этом сравнительно спокойно, так как, в согласии со значительной частью нашего населения, даже наиболее тяжко пострадавшей и оставшейся без крова, полагаю, что нам воздается по заслугам, а если расплата за грех страшнее самого греха, то следует помнить: кто посеял ветер, пожнет бурю.
От Кайзерсашерна рукой подать до Галле, города Генделя, и Лейпцига, города кантора Св. Фомы, до Веймара, Дессау и Магдебурга, но Кайзерсашерн, большой железнодорожный узел с двадцатью семью тысячами жителей, довольствуется самим собой и, как, впрочем, всякий немецкий город, мнит себя культурным центром, самобытной историческою величиной. Кормят его различные фабрики и заводы: машиностроительные, кожевенные, ткацкие, арматурные, химические, а также мельницы; имеется там еще и культурно-исторический музей, собственно, небольшой зал, где хранятся ужасающие орудия пыток, и весьма ценная библиотека в двадцать пять тысяч томов, а также пять тысяч рукописей, среди них два аллитерированных колдовских заклинания на фульдском наречии, по мнению некоторых ученых, более древних, нежели мерзебургские, впрочем, вполне невинных и посвященных одной только цели – накликать дождь. В десятом веке, а затем в начале двенадцатого и вплоть до четырнадцатого века Кайзерсашерн был епископской резиденцией. Есть там замок и собор, где находится гробница императора Оттона III, внука Адельгейды и сына Теофании, который именовал себя Imperator Romanorum и Saxonicus[10], и не потому, что хотел слыть саксонцем, а по той же причине, по какой Сципион звался Африканским, – то есть как покоритель Саксонии. Когда в 1002 году, после изгнания из обожаемого им Рима, он скончался от горя, останки его, перевезенные в Германию, были водворены в Кайзерсашернском соборе – словно ему назло, ибо Оттон III был воплощением немецкого самоотрицания и всю жизнь мучительно стыдился своего немечества.
В этом городе – я предпочитаю говорить о нем в прошедшем времени, ибо это Кайзерсашерн нашей юности, – удивительно сохранилась средневековая атмосфера, так же как средневековым остался и его внешний облик. Старинные церкви, любовно сбереженные бюргерские дома и амбары, строения с незаделанными балками и выступами этажей, круглые башенки под островерхими крышами, встроенные в замшелые стены, площади, мощенные булыжником и обсаженные деревьями, ратуша, по своей архитектуре находящаяся на полпути между готикой и Ренессансом, с колокольней на высокой крыше, лоджиями под ней и двумя остроконечными башнями, которые, образуя эркеры, идут по фасаду до самого низа, – все это, вместе взятое, дает человеку почувствовать непрерывную связь с прошедшим; весь вид Кайзерсашерна словно выражал знаменитую формулу вневременности, схоластическое nunc stans[11]. Идентичность места, оставшегося таким же, как триста, как девятьсот лет назад, противостоит потоку времени, что проносится над ним, многое изменяя; но иное – решающее в его облике – остается незыблемым из пиетета, иными словами – из гордыни, из набожного нежелания склониться перед временем.
Это касательно внешнего обличья города. Но и в самом воздухе здесь застоялось что-то от человеческой психологии последних десятилетий пятнадцатого века, от истерии уходящего Средневековья, от его подспудных психических эпидемий. Странно говорить это в применении к прозаическому современному городу, но он не был современен, он был стар, а старость – это прошлое, живущее в настоящем, прошлое под тонким наносным слоем нового. Пусть это звучит рискованно, но, право же, крестовый поход детей, пляски в честь святого Витта, визионерско-коммунистическая проповедь какого-нибудь «босоногого брата» у костра, сжигающего презренные предметы «языческой» церковности, обновление креста и мистический крестный ход, – казалось, все это здесь вот-вот разразится. Конечно, ничего такого не случалось, да и не могло случиться. Полиция в согласии с эпохой и ее порядками никогда бы этого не допустила. И все же! Чего только в наши дни не допускала полиция – опять-таки в полном согласии с эпохой, которая до всего этого снова стала охоча. Ведь наше время тайно, да нет, какое там тайно, вполне сознательно, с на редкость даже самодовольной сознательностью, поневоле заставляющей усомниться в естественном развитии жизни и насаждающей ложную, дурную историчность, тяготеет к тем ушедшим эпохам и с энтузиазмом повторяет их символические действа, в которых столько темного, столько смертельно оскорбительного для духа новейшего времени, – сожжение книг, например, и многое другое, о чем лучше и вовсе не говорить.
Признаком анахронической патологии и подспудной эксцентричности города служат многочисленные «оригиналы» – чудаки и полупомешанные, проживающие в его стенах и, подобно старинным постройкам, неотъемлемые от местного колорита. Их антиподами являются дети, мальчишки, которые гурьбой бегут за ними, высмеивают их и затем, охваченные суеверным страхом, бросаются наутек. Старух определенного типа в определенные времена без всяких околичностей объявляли ведьмами, – обвинение, основывавшееся на их уродливо-живописной внешности, которая, надо думать, по-настоящему-то и формировалась под воздействием подобных подозрений, почти в точности повторяя образ ведьмы из народной сказки: маленькая, старая, сгорбленная, тонкогубая, с виду коварная, с носом, похожим на клюв, со слезящимися глазами, размахивающая неизменной клюкой; были у нее и другие атрибуты – кошка, сова, говорящая птица. В Кайзерсашерне никогда не переводились старухи такого обличья, но самой популярной, самой задразненной и устрашающей была «подвальная Лиза», прозванная так оттого, что ютилась в подвале на улице Медников. Вид этой старухи до такой степени соответствовал суеверному представлению о ведьмах, что даже самым здравомыслящим прохожим при встрече с «подвальной Лизой», особенно если за ней бежали ребятишки, а она проклятиями и бранью отгоняла их, овладевал архаический ужас, хотя Лиза была вполне добропорядочной старухой.
Здесь я позволю себе замечание, подсказанное опытом наших дней. Для ревнителей просвещения в самом слове «народ» всегда слышится что-то устрашающе архаическое. Мы знаем, что обращаться к массе как к «народу» часто значит толкать ее на дело отсталое и злое. Что только не совершалось на наших и не на наших глазах именем «народа»! Именем Бога, именем человечества или права такое бы не совершилось! Но верно и то, что народ всегда остается народом, во всяком случае, в его существе имеется архаический пласт, который побуждает жителей с улицы Медников, в день выборов опускающих в урны социал-демократические бюллетени, приписывать что-то бесовское бедной старушке, прозябающей в подвале, и, завидя ее, хватать своих детей, чтобы уберечь их от ведьминого сглаза. Если бы такую женщину теперь предали сожжению, – а у нас это вполне возможно, разве что причину подыскали бы другую, – они бы стояли у костра, воздвигнутого перед магистратом, глазели, но о бунте бы не помышляли. Я говорил о народе, хотя такой древненародный пласт есть в каждом из нас, и скажу откровенно: я не считаю религию тем средством, которое не позволяет ему прорваться наружу. Здесь, по-моему, может помочь только литература, проповедь гуманизма, выдвигающего идеал свободного, прекрасного человека.
Но возвратимся к чудакам Кайзерсашерна: был там еще один мужчина неопределенного возраста, который от каждого внезапного окрика начинал отчаянно дрыгать ногой; при этом с его лица не сходила какая-то печальная, уродливая гримаса, словно он просил прощенья у уличной детворы, с гиканьем его преследовавшей. Далее, в Кайзерсашерне проживала некая Матильда Шпигель, казавшаяся выходцем из другого века: она носила платье с рюшами и со шлейфом и так называемый «фладус» – смешное слово, собственно, испорченное французское flûte douce, что, вообще говоря, означает «лесть», здесь же – высокую прическу с локонами и бантами. Эта особа, ярко накрашенная, но, по своей придурковатости, вовсе не способная на легкое поведение, прогуливалась в юродском своем чванстве по улицам Кайзерсашерна в сопровождении двух мопсов в атласных попонках. Был там, наконец, еще и мелкий рантье с красным носом, усеянным бородавками, и массивным кольцом-печаткой на указательном пальце, по фамилии Шналле, но прозванный ребятишками «Тюр-лю-лю» из-за привычки к каждому слову прибавлять эту дурацкую трель. Он любил ходить на вокзал и, когда отправлялся товарный поезд, всякий раз, грозя пальцем, предупреждал человека, сидящего на задней площадке последнего вагона: «Смотрите не свалитесь, не свалитесь, тюр-лю-лю!»
Может быть, не совсем уместно, что я заговорил здесь об этих юродивых, но подобные фигуры были весьма характерны для психической картины нашего города – рамки, окружавшей Адриана Леверкюна до его поступления в университет, то есть в течение девяти лет его и моей юности. Хоть я и был, в соответствии со своим возрастом, на два класса старше его, но в перемены на окруженном стеною школьном дворе мы держались вместе, нередко сторонясь своих одноклассников. Виделись мы и после обеда, иногда он приходил в мою комнатку над аптекой «Благих посланцев», иногда я отправлялся к нему на Парохиальштрассе, 15, в дом его дядюшки, где весь мезонин был занят широко известным леверкюновским складом музыкальных инструментов.
VII
Это был тихий уголок Кайзерсашерна, в стороне от делового квартала, от Рыночной площади и Ветошного ряда, извилистая улочка без тротуара, неподалеку от собора; дом Николауса Леверкюна был самым видным на ней. Трехэтажный, не считая выступающих в виде эркеров помещений под крышей, настоящий бюргерский дом шестнадцатого века, принадлежавший еще деду нынешнего владельца, с пятью окнами по фасаду над воротами и четырьмя в третьем этаже, где уже находились жилые помещения, а снаружи начиналась деревянная резьба, тогда как нижняя часть дома не была даже побелена. Лестница тоже становилась пошире лишь с площадки полуэтажа, расположенного довольно высоко над каменными сенями, так что гостям и покупателям, – а последние иногда приезжали издалека – из Галле и даже из Лейпцига, – приходилось с трудом добираться до вожделенной цели, но сейчас читатель поймет, что эти труды были не напрасны.
Вдовец Николаус Леверкюн, – жена его умерла в молодые годы, – до появления Адриана жил в доме один со старой экономкой фрау Бутце, горничной и со своим учеником и помощником в изготовлении скрипок, – ибо дядюшка Леверкюн ко всему был еще и скрипичным мастером, – молодым итальянцем из Брешии по имени Лука Чимабуэ (он и вправду носил фамилию художника итальянского треченто, прославившегося своими мадоннами). У Николауса Леверкюна были пепельные, всегда растрепанные волосы и безбородое приятное лицо с сильно выдающимися скулами, крючковатый отвисший нос, большой выразительный рот и карие глаза с проникновенно-добрым и умным выражением. Дома он всегда ходил в застегнутой до самой шеи просторной бумазейной блузе. Мне думается, что бездетному вдовцу радостно было принять в свой не в меру обширный дом родного по крови мальчика. Говорили, что хотя его брат из Бюхеля и вносил плату за право учения сына, но за стол и квартиру Николаус Леверкюн ничего с него не спрашивал. Он обходился с Адрианом, на которого возлагал большие, пока еще неопределенные надежды, как с родным сыном и был очень доволен, что уже не сидел за столом в обществе одной лишь фрау Бутце да (на патриархальный манер) Луки, своего подмастерья.
Могло показаться странным, что этот итальянец, приветливый молодой человек с приятным, слегка надтреснутым голосом, несомненно, имевший возможность совершенствоваться в своем ремесле и на родине, отыскал дорогу в Кайзерсашерн к дядюшке Адриана. Но это лишний раз доказывало, что у Николауса Леверкюна были прочные связи не только с немецкими центрами производства музыкальных инструментов, как то: Майнц, Брауншвейг, Лейпциг, Бармен, но и с заграничными фирмами в Лондоне, Лионе, Болонье и даже в Нью-Йорке. Во всех этих городах он закупал свой симфонический товар и славился тем, что в его магазине наличествовал ассортимент не только первоклассный, но, не в пример другим, и неизменно полный. Если где-нибудь в Германии предстояли баховские торжества и для полного оркестра требовался oboe d’amore[12] или даже исчезнувший из оркестров более низкий гобой, то в Кайзерсашерн непременно приезжал какой-нибудь оркестрант и шел прямо в дом на Парохиальштрассе; здесь он наверняка мог приобрести свой элегический инструмент да еще на месте его испробовать.
Магазин в обширных помещениях полуэтажа, из которого во всевозможных тональностях неслись звуки пробуемых инструментов, являл собой великолепное, манящее, я бы даже сказал – в культурном отношении чарующее зрелище, неминуемо повергавшее в волнение и трепет акустическую фантазию. За исключением рояля, – в эту отрасль музыкальной промышленности не вторгался Адрианов приемный отец, – там имелось все, что звучит и поет, что гнусавит, ворчит, гудит, гремит и звякает, – но и клавишные инструменты тоже были представлены там в образе прелестного колокольного фортепьяно – челесты. Здесь же за стеклом или в футлярах наподобие гробниц с мумиями, сделанных по контурам своего обитателя, висели или лежали очаровательнейшие скрипки, покрытые желтым или коричневым лаком, стройные смычки, у рукоятки обвитые серебром и держателями прикрепленные к крышке, – итальянские, которые внешней красотой изобличали для знатока свое кремонское происхождение, и еще тирольские, нидерландские, саксонские, миттенвальдские и, наконец, самые новые, вышедшие из мастерской Леверкюна. Рядами стояли здесь певучие виолончели, совершенством своей формы обязанные Антонио Страдивариусу, но и их предшественницу, шестиструнную viola da gamba[13], занимавшую столь почетное место в старинных произведениях, а также альт и вторую сестру скрипки viola alta всегда можно было найти в магазине. Да и собственная моя viola d’amore, на семи струнах которой я играл всю жизнь, тоже была родом с Парохиальштрассе, – подарок родителей ко дню моей конфирмации.
Вдоль стены во многих экземплярах стояла гигантская скрипка – violone – почти неподъемный контрабас, способный на величественные речитативы и пиччикато, более звучное и громкое, чем звон литавр, при взгляде на который не верилось, что он располагает такими флажолетными звуками. Среди деревянных духовых инструментов был здесь, тоже не в малом количестве, и его антипод, контрафагот, шестнадцатифутовый, как и контрабас, то есть звучащий октавой ниже, чем то указывается в его нотах, мощно усиливающий басы и вдвое превышающий габариты своего меньшего брата, фагота-пересмешника, как я его называю, ибо это басовый инструмент, лишенный подлинной мощи баса, со своеобразной слабостью звука, блеющий, карикатурный. Но до чего же он был хорош с его изогнутой духовой трубой, с нарядным блеском рычажков и клапанов, какое прелестное зрелище являло это воинство свирелей, столь усовершенствовавшихся в своем позднейшем техническом развитии. Каждый из этих инструментов прельщает виртуоза своими неповторимыми свойствами: пасторальный гобой, задумчиво-печальный английский рожок, оснащенный множеством клапанов кларнет, в низком Chalumeau-регистре звучащий призрачно-мрачно, но в более высоком расцветающий серебряным блеском благозвучия – в качестве басет-горна и бас-кларнета.
Все они, покоившиеся на бархатном ложе, предлагались в магазине дядюшки Леверкюна; рядом с ними еще поперечная флейта всевозможных систем и видов – из бука, из розового и черного дерева, с раструбами из слоновой кости или сплошь из серебра, возле крикливой ее родственницы, флейты-пикколо, высокий голос которой, пронзая тутти оркестра, умеет так хорошо плясать в хороводе блуждающих огоньков или при заклинании огня. А вот у той стены – блестящий хор медных инструментов, начиная от щегольской тубы (кажется, видишь глазами ее звонкий сигнал, дерзкую песню, переливчатую кантилену) и любимицы романтиков валторны с вентилями и кончая стройным могучим тромбоном, корнет-а-пистоном и предельно низкой, тяжеловесной басовой трубой. Даже музейные раритеты инструментального мира, вроде пары красиво изогнутых наподобие бычьих рогов, повернутых вправо и влево бронзовых лур, можно было почти всегда найти у Леверкюна. Но для глаз мальчика, – а такими глазами я продолжаю это видеть и в воспоминании, – ничего не было там краше и радостнее богатейшей выставки ударных инструментов, и, наверное, потому, что эти вещи когда-то были игрушками, сбывшейся мечтой, и лежали под рождественской елкой, а теперь предстали перед нами в солидном, почтенном виде, взрослые и предназначенные для взрослой цели. Малый барабан! Насколько же он выглядел по-иному, чем та непрочная штука из дерева, пергамента и веревок, которой мы забавлялись лет в пять, в шесть. На шею его не повесишь; нижняя шкура этого барабана обтянута бычьими жилами, сам же он для удобства оркестранта наклонно привинчен к трехногому металлическому штативу, в боковых кольцах которого соблазнительно торчат деревянные палочки, куда благообразнее наших. Были там и колокольчики, на ребяческом подобии которых мы некогда силились выбивать «К нам певунья слетела», здесь же точно настроенные металлические пластинки размещались в красивых ящиках, свободно подвешенные попарно на поперечных рейках. Мелодический звук извлекался из них стальными молоточками, что лежали в обитых материей коробочках под крышкой ящика. А вот и ксилофон, казалось, нарочно изобретенный для того, чтобы в хроматической последовательности воссоздавать полуночную пляску мертвецов на погосте. Был здесь и обитый медью гигантский цилиндр большого барабана, а рядом с ним медная литавра. Берлиоз вводил в свой оркестр шестнадцать разных литавр, так как ничего не знал об инструменте, имевшемся в магазине Леверкюна, – механизированной литавре, которую оркестрант одним движением руки приспособляет к сменам тональности, предусмотренным партитурой. Как сейчас помню мальчишескую нашу проделку, когда то ли Адриан, то ли я, – нет, конечно один я, – желая испробовать эту штуковину, дубасил палками по ее шкуре, а благодушный Лука переставлял невольку, отчего получалось удивительное глиссандо, скользящая вверх и вниз дробная стукотня. Нельзя не вспомнить и о диковинных тарелках, которые умеют изготовлять только китайцы да турки, ревниво оберегающие секрет ковки раскаленной бронзы: удар – и оркестрант с торжеством оборачивает их к публике, – а также о гремящем тамтаме, цыганском тамбурине, о треугольнике, что так звонко отзывается на прикосновение стальной палочки, и о кимвале наших дней – полых, щелкающих в руке кастаньетах. Попробуйте только представить себе всю эту блещущую, разумно взвешенную радость, которую венчает золотое великолепие эраровских педальных арф, и вы поймете, что торговый склад дядюшки Леверкюна, этот рай молчащего, но в сотнях форм возвещающего о себе благозвучия имел для нас, мальчиков, поистине магическую притягательную силу.
Для нас? Нет, лучше уж я буду говорить о себе, о том, как я был зачарован, как я наслаждался, и оставлю в покое своего друга, ибо он, то ли как член семьи, для которого все это было привычно и обыденно, то ли вообще как холодный по натуре человек, сохранял несколько насмешливое равнодушие ко всему этому великолепию и на мои восторги по большей части отвечал коротким смешком или неопределенными «да, недурно», «смешная штука», «чего только люди не выдумают», «все лучше, чем сахаром торговать». Случалось, что, посидев в его мансарде, откуда за скопищем городских крыш открывался прелестный вид на дворцовый пруд и старинную водонапорную башню, мы, – по моей инициативе, повторяю, всегда только по моей – спускались вниз и затевали не вовсе подзапретный осмотр магазина, и к нам неизменно присоединялся милейший Чимабуэ, отчасти, думается, чтобы присматривать за нами, отчасти же, чтобы быть нашим чичероне. Он познакомил нас с историей трубы: она прежде делалась из нескольких прямых металлических трубок, соединенных пустотелыми шариками, покуда мастера не достигли искусства гнуть медные трубы так, чтобы они не рвались, наполняя их сначала варом и канифолью, а потом свинцом, который затем снова выплавлялся в огне. Он любил оспаривать мнение некоторых знатоков, утверждавших, что совершенно все равно, из какого материала, будь то металл или дерево, сделан инструмент; его звучание, как они полагали, определяется формой и размером, а то, что флейта деревянная или из слоновой кости, труба из меди или из серебра – это значения не имеет. Маэстро, zio[14] Адриана, говорил он, в силу своей профессии прекрасно разбирающийся в свойствах материала, породах дерева, в качестве лака, с ними не согласен и уверяет, что по звуку флейты может сразу отгадать, из чего она сделана, да, впрочем, и он, Лука, знает в этом толк. Еще он показывал нам своими маленькими, изящными, типично итальянскими руками механизм флейты (за последние сто пятьдесят лет, после знаменитого виртуоза Кванца, претерпевший столь большие изменения к лучшему), сравнивая мощную звучность цилиндрической флейты Беме с ее более сладкозвучной конической предшественницей. Он ознакомил нас также с аппликатурой кларнета и фагота с его семью отверстиями, двенадцатью закрытыми и четырьмя открытыми клапанами, звук которого сливается со звуком валторны, а также с диапазоном этих инструментов, обращением с ними и тому подобным.
Задним числом я, конечно, понимаю, что Адриан, сознательно или бессознательно, следил за наглядными объяснениями Луки уж по крайней мере с не меньшим вниманием, чем я, и, конечно, с куда большей для себя пользой. Но ни разу, ни единым движением не выдал он своей заинтересованности, хотя бы будущей заинтересованности. Вопросы итальянцу задавал обычно я, он же по большей части отходил в сторону, рассматривая совсем не тот инструмент, о котором шла речь. Я вовсе не хочу сказать, что он представлялся, и отнюдь не забываю, что музыка в ту пору имела для нас чисто предметную действительность, воплощенную в сокровищнице Николауса Леверкюна. Правда, мимоходом, если можно так выразиться, мы уже соприкоснулись с камерной музыкой: раз в две недели, а то и каждую неделю, у дядюшки Леверкюна устраивались маленькие концерты, на которых я, так же как и Адриан, бывал лишь от случая к случаю. С этой целью на Парохиальштрассе являлись наш соборный органист, заика господин Вендель Кречмар, которому в скором времени предстояло стать учителем Адриана, и преподаватель пения в гимназии Св. Бонифация; с ними дядюшка исполнял избранные квартеты Гайдна и Моцарта, причем сам он играл первую скрипку, Лука Чимабуэ – вторую, господин Кречмар – партию виолончели, а учитель пения – альтовую партию. Это была непринужденная мужская компания. Каждый ставил на пол возле себя кружку пива и играл с сигарой в зубах. Иногда они сбивались, обычно по вине учителя пения, и начинали пререкаться; их голоса чуждо и сухо вторгались в язык звуков, кто-то сердито стучал смычком и вслух отсчитывал проигранные такты. Настоящего концерта симфонического оркестра мы никогда не слышали, что для желающих может, конечно, послужить объяснением явного равнодушия Адриана к миру музыкальных инструментов. Во всяком случае, сам он считал это достаточным объяснением для других да и для себя тоже. Я хочу сказать, что он прятался за этой отговоркой, прятался от музыки. Долго, с вещим упорством, прятался этот человек от своей судьбы.
Покуда же никому и в ум не шло как-то связывать мальчика Адриана с музыкой. Мысль о том, что ему предназначено стать ученым, прочно засела во все головы и постоянно подкреплялась его блистательными успехами в гимназии, где он был первым учеником; отметки его несколько ухудшились только уже в самых старших классах: из-за мигреней, которые мешали ему с должной тщательностью готовить уроки. Тем не менее он легко справлялся с гимназической программой, впрочем, слово «справлялся» здесь не совсем уместно, ибо учение ему не стоило никаких трудов. Но отличные успехи в школьной премудрости не снискали Адриану любви учителей, а скорее их неприязнь, чему я не раз был свидетелем, вплоть до попыток провалить его; казалось, он чем-то уязвлял их, они не то что считали его зазнайкой – то есть, пожалуй, все-таки считали, хотя он и не чванился своими успехами, а, напротив, слишком мало ими гордился, – но именно в этом и сказывалось его высокомерие по отношению к тому, что так легко ему давалось, – к учению, к тем знаниям, передача которых молодому поколению составляла и честь и доход учительского персонала, посему не терпевшего пренебрежительного к ним отношения.
Что касается моей особы, то у меня с ними установились куда лучшие отношения – да и неудивительно, ведь вскоре мне предстояло стать их коллегой, и я уже с полной серьезностью заявлял об этом своем намерении. Я тоже вправе был считать себя хорошим учеником, но мне это удавалось единственно из благоговейной любви к древним языкам, к поэтам и писателям классической древности, – эта любовь подстегивала меня, заставляла напрягать все свои силы, тогда как Адриан по всякому поводу давал понять мне и, как я опасался, учителям, сколь безразличен, сколь второстепенен был для него курс гимназического обучения. Меня это пугало – не из-за будущей его карьеры (с такими способностями она была ему обеспечена), а потому, что меня тревожил вопрос, что же в таком случае для него не безразлично, не второстепенно. Я не видел «главного», да и нельзя было его увидеть. В такие годы школьная жизнь подменяет самую жизнь, да, собственно, и является ею, ибо интересы школы замыкают горизонт, необходимый любой жизни, чтобы создать те нравственные ценности, которые, при всей своей относительности, станут пробным камнем характера и способностей человека. Но это возможно лишь в том случае, если их относительность остается нераспознанной. Вера в абсолютные ценности, пусть, как всегда, иллюзорная, мне лично кажется необходимейшим условием жизни. Меж тем таланты моего друга мерялись по ценностям, относительность которых, видимо, была ему ясна, но что давало ему право считать эти ценности относительными, об этом никто не догадывался. Плохих учеников – сколько угодно. Адриан же являл собою неповторимый феномен: он был плохим и в то же время первым учеником. Я сказал, что это меня страшило, но, с другой стороны, как же это мне импонировало, как привлекало меня, как укрепляло мою беззаветную преданность, к которой – не знаю, поймет ли читатель почему – отныне стала примешиваться какая-то боль и безнадежность.
Впрочем, в иронически-уничижительном отношении Адриана к гимназическим премудростям и требованиям, как и во всяком правиле, имелось исключение. Я говорю о его несомненном интересе к дисциплине, в которой я не очень-то преуспевал, а именно к математике. Собственная моя слабость в этом предмете, кое-как компенсировавшаяся рьяным усердием на филологическом поприще, заставила меня понять, что отличные успехи в какой-либо области непременно обусловлены симпатией к предмету, и потому для меня было истинной отрадой сознавать, что и мой друг подвластен этому закону. Ведь математика в качестве прикладной логики, тем не менее пребывающей в сфере высокой и чистой абстракции, занимает своеобразное, посредствующее положение между науками гуманитарными и естественными, а из того, что Адриан в разговоре не раз упоминал о том, какое она ему доставляет удовольствие, явствовало, что это посредствующее положение он воспринимал как положение высокое, доминирующее, универсальное или, употребляя его эпитет, «истинное». Сердце радовалось слышать от него такое слово, оно было точно якорь, точно опора. Значит, недаром я себя спрашивал, что же для него «главное»… «Ты просто медведь, если этого не понимаешь, – сказал он мне однажды. – Нет ничего лучше, как наблюдать за порядковыми соотношениями. Порядок – все. «Что от Бога, то упорядочено», Послание к римлянам, тринадцать». Он покраснел, а я только глаза раскрыл: он, оказывается, религиозен.
С ним все как-то «оказывалось», всегда надо было его на чем-то словить, застигнуть, «поймать с поличным», раскрыть его карты: тогда он краснел, тебе же хотелось стукнуть себя по лбу за то, что ты раньше ничего за ним не заметил. Даже то, что он для собственного удовольствия занимается алгеброй сверх всякой меры, освоил таблицу логарифмов, сидит над уравнениями второй степени – я узнал совсем случайно. Этому предшествовало другое открытие, чтобы не сказать разоблачение, о чем я уже мельком упомянул выше, – его самостоятельное, тайное изучение клавиатуры, аккордики, розы ветров тональностей, квинтового круга и то, что он, ничего не слышав о расстановке пальцев, не зная даже нот, использовал эти гармонические находки для всевозможных упражнений в модуляциях и для создания ритмически весьма неопределенных мелодических построений. Однажды вечером – Адриану шел тогда пятнадцатый год – я нашел его не у себя в комнате, а за фисгармонией, занимавшей малопочетное место в одной из проходных комнатушек жилого этажа. Наверное, с минуту я слушал, стоя за дверью, потом устыдился, вошел к нему и спросил, чем он тут занимается. Он спустил раздувальные мехи фисгармонии, засмеялся и слегка покраснел.
– Праздность, – сказал он, – мать всех пороков. Мне было скучно, а когда я скучаю, меня часто тянет сюда побренчать. Эта старая шарманка стоит в забросе, но в смиреннице много чего скрыто. Смотри, как любопытно, то есть, конечно, любопытного тут нет ничего, но когда это делаешь сам, да еще в первый раз, все эти взаимосвязи и движения по кругу и вправду кажутся любопытными.
Под его руками зазвучал аккорд, сплошь черные клавиши фа-диез, ля-диез, до-диез, он прибавил к ним ми и этим демаскировал аккорд, поначалу казавшийся фа-диез-мажором, в качестве си-мажора, а именно – в виде его пятой или доминантной ступени.
– Такое созвучие, – заметил он, – само по себе не имеет тональности. Здесь все взаимосвязь, и взаимосвязь образует круг.
Звук ля, который стремится к разрешению в соль-диез, то есть переводит тональность из си-мажора в ми-мажор, повел его дальше, и вот он через ля, ре и соль пришел к до-мажору, и Адриан тут же мне показал, как, прибегая к бемолям, можно на каждом из двенадцати звуков хроматической гаммы построить мажорную или минорную тональность.
– Впрочем, это уже старая история, – сказал он. – Я уж давно над этим думаю. Слушай, вот так звучит благороднее! – И он принялся демонстрировать мне модуляции в далекие тональности, используя так называемое терцовое родство и неаполитанскую сексту.
Как называются все эти штуки, он не знал, однако повторил:
– Взаимосвязь – все. И если тебе хочется точнее ее определить, то имя ей – «двусмысленность». – В подтверждение своих слов он взял на фисгармонии аккордовую последовательность, в тональности, на слух неопределенной, и показал, как, опустив звук фа, который в соль-мажоре заступил бы фа-диез, можно создать впечатление тональной неопределенности, колеблющейся между до-мажором и соль-мажором, или же как слух не может решить при опущении звука си, который бы понизился в фа-мажоре на си-бемоль, имеет ли он дело с до-мажором или фа-мажором.
– Знаешь, что я думаю? – спросил он. – Что в музыке двусмысленность возведена в систему. Возьми один тон или другой. Можно понять его так, а можно и по-иному, снизу он будет казаться более высоким, а сверху более низким, и если у тебя есть смекалка, ты можешь обратить в свою пользу эту двусмысленность.
Одним словом, он в принципе уже постиг энгармонические замены и даже некоторые приемы, позволяющие использовать эти превращения для модулирования.
Почему я был не только удивлен, но взволнован и даже немного испуган? У него горели щеки, чего никогда не случалось во время школьных занятий, даже на уроках алгебры.
Я, правда, попросил его еще немножко поимпровизировать, но почувствовал нечто вроде облегченья, когда он отказался, воскликнув: «Вздор, вздор!» Что ж это было за облегченье? Оно могло бы объяснить мне, как я гордился его всегдашним безразличием, и еще – как ясно я ощутил, что, после того как он сказал: «Смотри, до чего любопытно», – это безразличие стало не более как маской. Я почуял зарождение страсти – Адриановой страсти! Может быть, мне следовало бы радоваться? Но я вдруг застыдился, даже испугался.
Что он, оставаясь один, занимался музыкой, это я теперь знал, а так как фисгармония стояла в проходной комнате, то долго это не могло оставаться тайной. Однажды вечером приемный отец Адриана сказал ему:
– Итак, племянничек, то, что я сегодня слышал, доказывает, что ты не впервой подошел к инструменту.
– Что ты хочешь сказать, дядюшка Нико?
– Ну-ну, не корчи, пожалуйста, невинного младенца! Ты у нас стал музицировать.
– Что за выражение!
– Им пользуются, говоря о более пустых занятиях. Твой переход от фа-мажора в ля-мажор был вовсе не плох. Тебе это по душе?
– Ах, дядя!
– Надо думать, что да. Так вот что я тебе скажу. Эту старую рухлядь, на которую никто не польстится, мы отнесем наверх, к тебе в комнату. Пусть будет под рукой, когда тебе придет охота поиграть.
– Ты страшно мил, дядюшка, но, право же, не стоит трудов.
– Труды так невелики, что удовольствие, надо надеяться, все же будет больше. И еще одно, племянник. Тебе надо учиться играть на рояле.
– Ты думаешь, дядюшка Нико? Брать уроки музыки? Не знаю, но в этом есть что-то от «благородной девицы».
– Насчет благородства я согласен, а девица не обязательна. Если ты будешь заниматься с Кречмаром, дело пойдет. Последнюю шкуру он с нас, по старой дружбе, за твои уроки не снимет, а под твои воздушные замки будет подведен фундамент. Я поговорю с ним.
На школьном дворе Адриан дословно воспроизвел мне эту беседу. И с тех пор стал два раза в неделю заниматься с Венделем Кречмаром.
VIII
Вендель Кречмар, в ту пору еще молодой, лет под тридцать, не более, полунемец-полуамериканец, родился в штате Пенсильвания и там же получил музыкальное образование. Однако его рано потянуло в Старый Свет, откуда происходили его дед и бабка и где залегали его собственные корни, а также корни его искусства. Страннический путь Кречмара, на котором привалы редко длились больше года или двух, привел его к нам, в Кайзерсашерн, где он стал соборным органистом, – но это был только эпизод, которому предшествовали многие другие (Кречмар служил капельмейстером в небольших театриках Германии и Швейцарии) и за которым многие должны были последовать. Он сочинял еще и пьесы для оркестра, а его опера «Мраморный истукан» небезуспешно шла на многих сценах.
Этот с виду довольно невзрачный, приземистый человек с круглым черепом, закрученными кверху усиками и часто смеющимися карими глазами, в которых то отражалась задумчивость, то прыгали веселые чертики, был бы истинной находкой для духовной и культурной жизни Кайзерсашерна, если бы таковая имелась. На органе он играл великолепно, с большим знанием дела, но, увы, можно было по пальцам одной руки сосчитать прихожан, способных оценить его игру.
Тем не менее дневные церковные концерты органной музыки, когда он исполнял Михаэля Преториуса, Фробергера, Букстехуде и, само собой разумеется, Себастьяна Баха, а также всевозможные оригинальные и жанровые композиции промежуточной поры между расцветом Генделя и Гайдна, собирали довольно много народу, а мы с Адрианом никогда их не пропускали. Зато полной неудачей, внешне, во всяком случае, оказались лекции, которые он, нимало этим не огорчаясь, в продолжение целого сезона читал в помещении «Кружка общественно полезной деятельности», сопровождая их фортепьянными иллюстрациями и для пущей наглядности даже чертя схемы на грифельной доске. Неуспех его выступлений объяснялся, во-первых, тем, что наши горожане были полностью непригодны для слушания лекций, во-вторых, темы он выбирал сугубо недоступные и капризно-случайные, в-третьих же, он заикался, и его лекция превращалась в тревожное плаванье меж подводных скал; слушателей попеременно одолевали то страх, то смех, и внимание их обращалось не на смысл его слов, а на боязливо-напряженное ожидание следующей речевой конвульсии.
Заиканием он страдал очень тяжелым и даже необычным. Настоящая трагедия, ибо это был человек большого, мятущегося ума, страстно приверженный к словесному общению. Случалось, правда, что его кораблик мчался по волнам с неимоверной легкостью, казалось бы, преодолевшей роковой недуг, но время от времени он обязательно налетал на риф – и самое страшное, что каждый напряженно ждал этого мгновения, а несчастный Кречмар стоял перед слушателями, как на пытке, с налившимся кровью лицом, все равно мешало ли ему шипенье, похожее на шум спускающего пары локомотива, вырывавшееся из его широко растянувшегося рта, или же единоборство с губным звуком, от которого его щеки раздувались, а губы исходили частым огнем коротких, беззвучных взрывов. Иногда ему вдруг не хватало дыхания, и он начинал ловить воздух воронкообразным ртом, словно рыба, выброшенная на сушу, – причем его увлажнившиеся глаза улыбались, ибо, видимо, он легко относился к своей беде; но это не каждому служило утешением, и в конце концов публику нельзя было винить за то, что она чуралась этих лекций, и чуралась так единодушно, что в партере нередко сидело не более полудюжины слушателей: мои родители, дядя Адриана, юный Чимабуэ, мы двое да еще несколько гимназисток, которые всякий раз хихикали при непроизвольных запинках оратора.
Кречмар даже выказал готовность из своего кармана покрыть расходы на зал и освещение, никак не окупавшиеся входной платой, но мой отец и Николаус Леверкюн договорились с правлением Кружка, что оно возьмет на себя убытки, вернее, откажется от платы за помещение ввиду общественной полезности лекций. Это была дружеская услуга, ибо «общественную полезность» здесь приходилось взять под сомнение хотя бы уже потому, что общество на лекциях отсутствовало, что, повторяю, объяснялось еще и сугубо специальным выбором тем. Вендель Кречмар во главу угла ставил положение (его рот, изначально сформированный английской речью, не раз твердил нам об этом), что суть не в интересе других, а в собственном интересе, иными словами – в том, чтобы пробуждать интерес, – чего можно достичь, если ты сам увлечен предметом; говоря о нем, ты поневоле втягиваешь в круг рассуждений и других людей, заражаешь их и таким образом созидаешь доселе не бывший, не чаянный ими интерес, а это куда достойнее, чем подлаживаться к уже существующему.
К сожалению, наша публика почти не давала ему возможности проверить эту теорию на практике. Зато на нас, считанных слушателей, сидевших у ног оратора в зияющем пустотою старинном зале, уставленном нумерованными креслами, она подтвердилась сполна; мы были захвачены тем, что, казалось бы, не могло захватить нас, и даже ужасное заикание в конце концов воспринимали лишь как интригующие паузы в яростном устремлении его мысли. Когда случалась такая неприятность, мы все вместе ободряюще кивали ему, и кто-нибудь один успокоительно и негромко восклицал: «Так, так!», «Все в порядке!» или «Не беда!». Тут на губах Кречмара появлялась радостная и виноватая улыбка – с запинкой было покончено, и некоторое время речь его текла дальше несколько даже слишком бегло.
О чем он говорил? Этот человек был способен битый час разбирать, «почему в фортепьянной сонате опус 111 Бетховен не написал третьей части», – вопрос, разумеется, вполне достойный рассмотрения. Но вы только представьте себе такой анонс, вывешенный на здании «Общественно полезной деятельности» или помещенный в кайзерсашернском «Железнодорожном листке», и вы невольно усомнитесь, мог ли он возбудить любопытство наших уважаемых сограждан. Ни один из них знать не желал, почему в опусе 111 всего две части. Мы же, явившиеся на вышеупомянутый разбор, разумеется, обогатились ценнейшими сведениями, хотя никогда прежде не слышали сонаты, о которой шла речь. Зато теперь мы ее узнали, и узнали досконально, ибо Кречмар сыграл ее на дрянном, дребезжащем пианино (на рояль Общество не раскошелилось), и сыграл великолепно, прерывая игру, чтобы поведать нам внутреннее содержание сонаты и заодно убедительно и ярко рассказать о житейских обстоятельствах, в которых композитор писал ее и одновременно две другие. При этом лектор еще с язвительным остроумием распространялся о собственном объяснении маэстро, почему он решил отказаться от третьей части, корреспондирующей с первой. На вопрос своего фамулуса Бетховен ответил, что за недосугом предпочел несколько растянуть вторую. За недосугом! И как спокойно он это объявил! Презрение к вопрошателю, заложенное в таком ответе, по-видимому, осталось незамеченным, но самый вопрос вполне его заслуживал. Тут оратор охарактеризовал душевное состояние Бетховена в 1820 году, когда его слух, пораженный неизлечимым недугом, был чуть ли не вовсе потерян и уже выяснилось, что маэстро больше не в состоянии дирижировать своими произведениями. Он рассказал нам, как все настойчивее становились толки, будто прославленный композитор окончательно исписался, будто творческий его дар угас и он, неспособный более создавать крупные произведения, занялся, подобно старику Гайдну, записью шотландских песен, – ведь вот уже сколько лет его имя не стоит под сколько-нибудь значительным музыкальным творением! Однако поздней осенью, вернувшись в Вену из Мёдлинга, где он провел лето, маэстро сел и, как говорится, одним махом, почти не отрывая глаз от нотной бумаги, написал эти три композиции для фортепьяно, о чем поспешил сообщить своему благодетелю, графу Брунсвику, тревожившемуся относительно его душевного состояния. Далее Кречмар заговорил об этой сонате в до-миноре, о том, что очень нелегко понять ее как замкнутое в себе, одушевленное единым чувством творение, почему тогдашним критикам, а впрочем, и друзьям Бетховена, было так трудно разгрызть сей эстетический орешек, все эти друзья и почитатели, продолжал он, оказались просто не в силах перешагнуть вслед за боготворимым маэстро вершину, на которую он в пору своей зрелости возвел классическую симфонию, фортепьянную сонату, струнный квартет, и потому в произведениях последнего периода с тяжелым сердцем усмотрели процесс распада, отчуждения, ухода от привычного, с чем они породнились, некое plus ultra[15], казавшееся им усугублением и прежде свойственных Бетховену недостатков – чрезмерной склонности к размышлениям и умствованию, избыточного детализирования и ученого музыкального экспериментаторства; временами он-де этим перегружал даже простейшую материю, например тему ариетты в неимоверно долгой вариационной ее разработке, составляющей содержание второй части разбираемой сонаты. И так же, как вторая тема сонаты, проходящая через сотни судеб, сотни миров ритмических контрастов, перерастает самое себя, чтобы наконец скрыться в головокружительных высотах, я бы сказал, уже нездешних или абстрактных, – переросло себя и бетховенское искусство. Из обыденных сфер традиций, на глазах у людей, испуганно смотревших ему вслед, оно взмыло в пределы сугубо личного, в абсолютность «я», изолированного омертвелым слухом от всего чувственного, – одинокий властелин страны духов, откуда веяло чуждыми ужасами даже на преданнейших ему современников, лишь редко, лишь на краткий миг умевших внимать страшным вестям издалека.
– Все это верно, конечно, – говорил Кречмар, – и все же лишь относительно, недостаточно верно. Ведь с идеей сугубо личного обычно связывают идею безграничной субъективности и воли к абсолютной гармонической выразительности – в противоположность полифонической объективности (он хотел, чтобы мы вникли в это противопоставление: «гармоническая субъективность» и «полифоническая объективность»), а такое противопоставление здесь, да и вообще применительно к поздним вещам Бетховена, совершенно несостоятельно. Право же, в средний период его творчество было куда более субъективным, чтобы не сказать личным, чем под конец; в те годы он прилагал больше усилий к тому, чтобы личное начало поглотило все условное, формальное, риторическое, чем так богата музыка, стремился все это вплавить в свою субъективную динамику. К условностям поздний Бетховен хотя бы в пяти своих последних фортепьянных сонатах, при всей единственности, всей неслыханности их построений, относится более мягко и снисходительно. Отъединенная от «я», нетронутая, не преображенная субъективным началом условность в них часто проступает в полной наготе, можно даже сказать, опустошенности, что производит более величественное и страшное впечатление, чем любое самоволие.
В этих произведениях, добавил оратор, субъективное и условное вступают в новую взаимосвязь – взаимосвязь, обусловленную смертью.
На этом слове Кречмар запнулся. Его язык пулеметным огнем обстреливал нёбо, челюсти и подбородок сотрясались в такт этому огню, пока наконец не обрели покоя в гласной, позволившей угадать, что это за слово. А когда оно уже было узнано, оратор не дал его у себя отнять, не позволил, чтобы, как это нередко бывало, кто-нибудь услужливо и весело крикнул его с места. Он должен был сам выговорить это слово и своего добился. «Там, где сошлись величие и смерть, – пояснил он, – возникает склоняющаяся к условности объективность, более властная, чем даже деспотический субъективизм, ибо если чисто личное является превышением доведенной до высшей точки традиции, то здесь индивидуализм перерастает себя вторично, вступая величавым призраком уже в область мифического, коллективного».
Он не спрашивал, понятно ли нам это, да и мы себя не спрашивали. И если Кречмар почитал главным, чтобы мы это слышали, то и мы держались того же мнения. «В свете вышесказанного, – продолжал он, – и следует рассматривать произведение, о котором мы сегодня преимущественно говорили». Тут он уселся за пианино и на память сыграл всю сонату, ее первую часть и необычайно громоздкую вторую; в исполнение он умудрялся вклинивать свои комментарии и, чтобы обратить наше внимание на построение сонаты, еще и пел с воодушевлением, подчеркивая отдельные моменты, что все вместе являло зрелище столь же увлекательное, сколь и комическое, на которое живо отзывалась наша маленькая аудитория. Так как удар у него был очень сильный и в форте он отчаянно гремел, то ему приходилось кричать изо всей мочи, чтобы его пояснения хоть как-то до нас доходили, и петь, до крайности напрягая голос, ибо он во что бы то ни стало хотел еще и вокально оттенить исполняемое. Ртом он воспроизводил то, что играли руки. «Бум-бум, вум-вум! Тум-тум!» – иллюстрировал Кречмар резкие начальные акценты первой части и высоким фальцетом пел полные мелодической прелести пассажи, которые временами, словно нежные блики света, освещают мрачное грозовое небо этой сонаты. Наконец он сложил руки на коленях, передохнул несколько секунд, сказал: «Сейчас оно будет», – и заиграл вариацию, «Adagio molto semplice e cantabile»[16].
Ариетта, обреченная причудливым судьбам, для которых она в своей идиллической невинности, казалось бы, вовсе не была создана, раскрывается тотчас же, полностью уложившись в шестнадцать тактов и образуя мотив, к концу первой своей половины звучащий точно зов, вырвавшийся из душевных глубин, – всего три звука: одна восьмая, одна шестнадцатая и пунктированная четверть, которые скандируются примерно так: «си́нь-небе́с», «бо́ль любви́» или «бу́дь здоро́в», или «жи́л-да-бы́л», «те́нь дере́в» – вот и все. Как дальше претворяется в ритмикогармонической и контрапунктической чреде этот мягкий возглас, это грустное и тихое звукосочетание, какой благодатью осенил его композитор и на что его обрек, в какие ночи и сияния, в какие кристальные сферы, где одно и то же жар и холод, покой и экстаз, он низверг и вознес его, – это можно назвать грандиозным, чудесным, небывалым и необычайным, так, впрочем, и не назвав все это по имени, ибо поистине оно безыменно! И Кречмар, усердно работая руками, играл нам эти немыслимые пресуществления, пел что было сил: «ди́м-да-да́» – и тут же перебивал свое пение криком: «Непрерывные трели, фиоритуры и каденции! Слышите эту навязчивую условность? Вот-вот… речь… очищается… не от одной только риторики… исчезла ее… субъективность. Видимость искусства отброшена. Искусство в конце концов всегда сбрасывает с себя видимость искусства. Ди́м-да-да́! Прошу внимания, мелодию здесь… перевешивает груз фуги, аккордов: она становится монотонной, статичной! Два ре! Три ре подряд! Это аккорды – ди́м-да-да́! Прошу слушать, что здесь происходит».