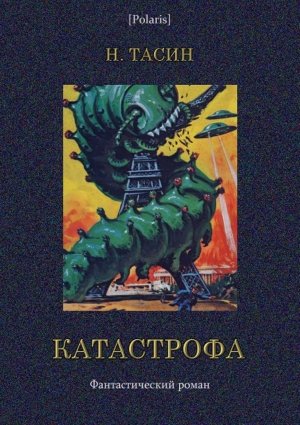
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
В экстренно созванном 27-го марта 1987 года заседании Французской академии наук им дали название зоотавров.
Никто, собственно, толком не уяснил себе, почему остановились на этом именно, а не на каком-либо другом названии. Сам предложивший его достопочтенный Морис Лемерсье, прославившийся своими многолетними и многотомными трудами по исследованию строения болотных жуков Патагонии, вряд ли мог бы объяснить это с обычной для него обстоятельностью.
К тому же, заседание прошло в атмосфере растерянности, почти паники, т. е. в условиях крайне неблагоприятных для спокойного обсуждения. «Бессмертные» имели вид людей, застигнутых в море страшной бурей и ждущих неминуемой гибели. Бледные, с беспредметно блуждающими взорами, они зябко ежились и то и дело потирали руки, чтобы согреться немного, хотя в зале было далеко не холодно. Говорили вполголоса, почти шепотом, словно боясь спугнуть кого-нибудь.
— Вы их видели?
— Нет. А вы?
— Тоже нет, но их видел мой ассистент.
— Что же он рассказывает?
— Он был так потрясен и оглушен, что упал без чувств, и кроме первого впечатления ужаса ничего не помнит.
— Где он в это время был?
— На улице, вблизи Пантеона: он как раз возвращался с одного затянувшегося заседания… Ночь была пасмурная и небо обложило густыми тучами, которые совершенно закрыли луну и звезды. Мой ассистент прекрасно помнит, что минуты за две до катастрофы он посмотрел на часы: было 35 минут второго…
Оказалось, что из присутствовавших никто собственными глазами не видел зоотавров, хотя все были разбужены и в большей или меньшей степени оглушены их налетом.
— Итак, вы полагаете, господа, что они прилетели с Марса? — спросил, ни к кому, собственно, в отдельности не обращаясь, президент Академии Марсель Дювернуа, который напоминал пергаментный мешок, наполненный костями.
— Да… Все говорит за это… Иначе было бы непостижимо… — раздались отдельные голоса.
— Это не научная постановка вопроса! — задребезжали кости в пергаментном мешке. — Здесь, под этими сводами, мы привыкли оперировать только с точными, положительными данными. На чем, собственно, основано это… предположение? Потому что мы даже не имеем права назвать это гипотезой…
Ответом было смущенное молчания.
— Г. секретарь! Какие у вас имеются сведения об интересующем нас предмете?
Секретарь поежился, зябко потер руки, потом вынул из бокового кармана сложенную вчетверо бумагу, развернул ее, разгладил рукой, откашлялся и сказал:
— Прежде всего, я считаю печальным долгом доложить почтенному собранию дошедшие до меня сведения о несчастьях, постигших в истекшую ночь значительное число членов нашей Академии. К великому прискорбию, список довольно длинен. Если вы позволите…
— Читайте! — сказал председатель.
Секретарь стал читать. Худой, сухой, в длинном черном сюртуке, он походил на дьячка, читающего над покойником. По мере того, как он читал, тусклее казался свет огромной электрической люстры, свешивавшейся над столом, присутствовавшие все ниже опускали головы и сильнее пожимались от холода.
Вот что сообщил секретарь:
Знаменитый астроном Поль Оливье, который не дальше как за 2 недели до того, а именно 13-го марта, праздновал 60-летний юбилей своей научной деятельности, в роковую ночь и в роковой час сидел в своей обсерватории, поглощенный наблюдениями за кометой Галлея. Рядом с ним находился его любимый ученик, подающий большие надежды молодой ученый Ксавье Монтеро. Maitre Оливье стал излагать вслух какие-то чрезвычайно интересные научные соображения, но в этот момент раздался адский шум и водворилась кромешная тьма, точно тысяча планет вдруг обрушилась на землю, как выразился Монтеро. Когда этот последний бросился к своему учителю, он нашел его мертвым на полу, у телескопа, с остеклевшими, широко раскрытыми от ужаса и изумления глазами. Монтеро выразил твердое убеждение, что его маститому учителю показалось, будто комета Галлея надвигается на землю.
Известный физик Эмиль Краузель был застигнут налетом зоотавров в своем рабочем кабинете, где он производил опыты со вновь изобретенным им электрическим прибором для усиления тепловой энергии. Его нашли убитым электрическим током, почти обуглившимся, с головой, размозженной о край изобретенного им прибора.
Ботаник Жан-Пьер Леконт, составлявший гордость и славу французской науки, умер в момент налета зоотавров от разрыва сердца. Эта же трагическая участь постигла геолога Гюи Форестье, энтомолога Эспинаса, математика Клода Ферье.
Некоторые из «бессмертных» были разбиты парали-чем. Вообще, французская наука понесла в эту роковую ночь тяжкие потери. Да и не только французская: по дошедшим, — правда, крайне неполным, большей частью, случайным сведениям, — налет зоотавров имел роковые последствия в Лондоне, Берлине, Риме, Петербурге.
— Не можете ли вы сообщить нам на этот счет более точные данные? — спросил председатель.
— К сожалению, это пока еще невозможно, — ответил секретарь. — Сношения с научными центрами Европы и других частей света чрезвычайно затруднены. Есть основания полагать, что благодаря налету зоотавров радиотелеграфные станции и подводные кабели во многих местах попорчены. Пока удалось получить только отрывочные сведения, из которых явствует, что налет зоотавров был одновременно замечен в Англии, во всей Средней и Южной Европе, а также в Соединенных Штатах Северной Америки.
— Ну и что же? — спросил президент, укоризненно, чуть не угрожающе задребезжав костями. — Там люди науки тоже держатся… предположения, что зоотавры налетели с Марса?
— По-видимому, — ответил секретарь. — По крайней мере, об этом свидетельствуют сообщения из Берлина, Рима, Гринвича, Нью-Йорка и Пулкова.
— Странно! Я не понимаю, как могут люди науки… Ведь это даже не гипотеза, ибо гипотеза все же должна иметь некоторые научные предпосылки, между тем как тут мы имеем дело почти исключительно с напуганной обывательской фантазией…
И президент Академии, маститый Марсель Дювернуа, который всю свою долгую жизнь не признавал на свете ничего, кроме точных наук, негодующе развел руками.
II
В известной степени президент Академии наук был прав: сведения, доходившие из разных мест Франции и других пунктов земного шара, носили на себе явную печать напуганной обывательской фантазии и меньше всего свидетельствовали о научной постановке вопроса. Сообщения были чрезвычайно сбивчивые, противоречивые, подчас совершенно фантастические. Только в одном пункте они сходились, а именно, что налет зоотавров начался в ночь с 26-го на 27-е марта, около половины второго, и продолжался вплоть до рассвета. В дальнейшем, каждый из очевидцев давал полную волю своему воображению.
Одни уверяли, что зоотавры налетели с севера, со стороны Бретани; другие, не менее достойные свидетели утверждали, что явились они с юга, со стороны Средиземного моря; по пришедшим позже сведениям из провинции, некоторые рыбаки клялись, что они собственными глазами видели, как зоотавры вынырнули из пучины морской и поднялись чудовищной, заслонившей все небо массой на воздух.
На вопрос, каков внешний вид зоотавров, ответы получались тоже крайне противоречивые. Пекарь Жак Рено из Парижа, который как раз в момент налета был в своей пекарне, заготовляя к утру свежий хлеб, уверял, что они напоминают гигантских крылатых быков с рыбьими хвостами. Содержатель ночного кабачка на Монмартре, толстяк Муано, наоборот, со свойственной ему горячностью утверждал, что зоотавры не что иное, как крылатые слоны, только таких чудовищных размеров, что слоны, которых он видал в Зоологическом саду, кажутся по сравнению с ними настоящими букашками.
— Видали вы когда-нибудь гигантскую черепаху? — пытался, в свою очередь, изобразить зоотавров аптекарь Пуаро, клятвенно уверявший, что один из них пролетел всего лишь в нескольких метрах над его головой в то время, как он, около половины второго ночи, возвращался с именин своего приятеля домой. — Ну, так вот: увеличьте мысленно эту гигантскую черепаху в 300, в 500, в 1000 раз, наделите ее огромными, длиной с эту площадь, крыльями — и вы получите точную копию зоотавра.
Но сосед аптекаря Пуаро, галантерейный торговец Пти-божан, жестоко спорил с ним, доказывая, что зоотавр ни капельки не похож на черепаху, что это ему, аптекарю, показалось с пьяных глаз, а что если уж сравнивать налетевших чудовищ с каким либо из известных людям животных, то уж скорее с китом, чем с черепахой.
— Вообразите себе гигантского, в несколько сот метров, кита, — разумеется, с крыльями, иначе он не мог бы летать: это и будет зоотавр. Я одного из них видал совсем близко, так как вот теперь вас вижу…
— Какой там кит! — возмущенно говорил переплетчик Кордье, который передержал в руках немало книг, считал себя, поэтому, человеком, понимающим толк в науке, и питал большую слабость к ученым словам. — Вы хотите знать, что такое зоотавр? Ну, так слушайте, я вам скажу: зоотавр — это фе-но-мен!
— То есть как феномен? — недоумевали слушатели.
— Вы понимаете, что такое зоотавр? Нет? Я тоже не понимаю. Самые знаменитые ученые тоже не понимают. Ну, а то, чего никто не понимает, в науке называется фе-но-мен! Теперь ясно?…
В общем, говорили мало, да и то вполголоса, точно боясь, что их подслушают нагнавшие на всех панический ужас зоотавры. Все были какие-то пришибленные, точно у всякого в доме был покойник. Да, в сущности, покойников было очень много: налет зоотавров стоил жизни тысячам людей в одном только Париже, и гробовщики едва справлялись с работой, как если бы по стране прошла смертоносная эпидемия. Часть зоотавров спустилась так низко, что задела крыши некоторых домов, от чего рухнули верхние этажи, похоронив под собой многих из жильцов. Немало народа, особенно среди женщин, стариков и детей, умерло от страха, — главным образом, в тех местах, где зоотавры пролетали совсем низко над землей.
Если почти никто толком не видел налетевших чудовищ, то все их слышали. Они наполнили землю таким шумом и грохотом, что разве только мертвые могли не услышать их. Вначале многим вообразилось, что это набег каких-то гигантских воздушных кораблей, вроде тех, какие имели место, судя по книгам и рассказам старожилов, в начале этого столетия, во время великой европейской войны. Но 90-летний Этьен Легран, который прекрасно помнил эту войну и никогда не упускал случая порассказать о ней, категорически заявил, что тут никакого сравнения быть не может.
— Почему? — приставали к нему представители трех следовавших одно за другим поколений, т. е. сыновья, внуки и правнуки.
Этьен Легран долго шамкал беззубым ртом, точно пытаясь определить вкус чего-то только что проглоченного им, долго качал, как игрушечный медведь, лысой, как колено, головой, наконец сказал:
— То что было тогда… все эти готы, цеппелины, Берты… ничто по сравнению со вчерашним… это как… как писк мышонка и… и….
Он добрых пять минут еще шамкал губами, пока, наконец, на выручку ему не пришел один из его многочисленных внуков.
— Рычанье льва? — спросил он.
Старик перестал шамкать и начал без конца кивать головой в знак того, что внук верно передал его мысль.
— Вот именно… Писк мышонка и… рычанье льва…
На другой день после налета в Париже появились тысячи испуганных людей, прибежавших из провинций. Кто мог, приехал по железной дороге, другие притащились на лошадях, ослах, даже на коровах, захватив с собой все, что могли. Забитые, пришибленные, не зная, куда идти и что делать, толклись они около вокзалов и на прилегающих улицах, еще более усиливая царившую в городе панику. От них совсем уж ничего нельзя было узнать толком, — такой суеверный, мистический ужас нагнал на них налет зоотавров.
То и дело слышны были рассказы о жертвах минувшей ночи, о разрушенных домах, церквах и даже целых деревнях. Уверяли даже, что город Блуа, который подвергся налету нескольких зоотавров, превращен в груду развалин, похоронивших под собой добрую половину населения. Те, которые чудом уцелели, бежали куда глаза глядят, большей частью пешком, так как вокзал и железнодорожная линия были разрушены, а вьючной скот почти весь погиб.
Какой-то кюре из Бретани, грязный, оборванный, мало чем отличавшийся от крестьян, с которыми он приехал, собирал вокруг себя толпы народа и замогильным, глухим голосом, воздевая руки к небу, говорил о том, что это кара Господня за грехи человеческие, что чаша терпения Божия переполнилась и что пробил час Страшного суда.
— Кайтесь, грешники! — взывал он, грозя толпе корявым и узловатым грязным пальцем. — Кайтесь, ибо не только дни, но и часы ваши сочтены. Те, которых вы в ослеплении своем принимаете за налетевших с Марса чудовищ, суть аггелы Божии, явившиеся на нашу грешную землю, чтобы творить святую волю Его.
Толпа смотрела на угрожающий палец кюре, слушала его угрожающие речи, ежилась под взорами его лихорадочно блестевших глаз и сокрушенно вздыхала. Многие шептали молитвы и истово крестились. Женщины причитали и вытирали передниками слезы, а дети, которых они носили на руках или которые цеплялись за их юбки, со страхом смотрели на черного сердитого дядю, который все чем-то пугал, и с громким плачем просились домой.
Такие проповедники стали появляться все чаще. В разных концах города они собирали толпы народа, говорили о каре Божьей, о светопреставлении и призывали к покаянию. Церкви, особенно на окраинах, в кварталах, населенных беднотой, были битком набиты, точно люди видели в них единственное надежное убежище в эти роковые часы; здесь тоже раздавались проповеди о пришествии Страшного суда и необходимости великого, последнего покаяния.
Тревожное настроение росло с каждым часом. По мере того, как солнце клонилось к закату, люди провожали его грустными глазами, словно видя в нем единственного защитника против нагрянувшей беды. Хотелось верить, что пока солнце стоит на небе, ничего страшного не может случиться; но ночи боялись, ей не доверяли, так как привыкли думать, что все злые, темные дела совершаются под ее покровом.
— Что-то будет ночью? — вздыхали люди.
Некоторые, большей частью люди с хорошим аппетитом и правильным пищеварением, уверяли, что зоотавры провалились в тартарары или улетели на какую-либо другую планету.
— У нас им не понравилось! — говорили они. — Прилетели, понюхали, увидели, что ничего здесь интересного нет — и отправились куда-нибудь подальше… на Меркурий, Сатурн, или Юпитер, что ли… Мало ли есть хороших мест! Охота им на нашей грязной земле засиживаться!
Но люди с больной печенью и плохим пищеварением, слушая их, только головами качали.
— Никуда они не улетели! — говорили они. — Не беспокойтесь, еще явятся! Очень может быть, что они, как ночные птицы, не выносят солнечного света.
Когда солнце зашло, залив целым морем пламени всю западную половину небосклона (в чем, к слову сказать, суеверные люди усмотрели лишнее предзнаменование грядущих бед), по городу, из квартала в квартал, из улицы в улицу, поползли зловещие слухи.
— Летят! Летят!
— Где? Откуда?
— Неизвестно, но с Монмартра слышали шум их крыльев.
Такие же вести приходили и из окрестностей: из Кламара, Медона, Сен-Дени и других мест. Везде якобы слышали этот характерный шум, и отовсюду бежали впопыхах в Париж, точно его каменные громады представляли более надежную защиту против неведомых чудовищ, чем дома предместий.
Скоро распространились слухи, что в какой-то подгородной деревне находившийся в поле крестьянин видел поднявшегося из за леса зоотавра, который будто бы полетел по направлению к северо-западу, в сторону Ламанша.
Наконец, около 10 часов ночи, раздался характерный шум, точно гигантский мотор с треском пролетал над городом, а минуту спустя, то скрываясь за обложившими небо тучами, то снова появляясь, показался чудовищных размеров зоотавр.
Началась невообразимая паника. Люди, как обезумев-шик, точно стая цыплят, увидевших кружащего над ними коршуна, стали метаться из стороны в сторону.
— В подвалы! В подвалы! — слышались крики.
— Нет, нет! — кричали другие. — Если дом рухнет, в подвалах верная гибель!
— В церковь! — звали третьи. — Если суждено умереть, умрем в доме Божьем.
Несколько минут спустя улицы опустели, выметенные, словно гигантской метлой, безумным, ослепляющим и оглушающим, сковывающим члены и леденящим кровь страхом.
А над городом треск чудовищного мотора становился все оглушительнее. Скоро к первому мотору прибавился другой, третий, четвертый.
Начался новый, второй по счету, налет зоотавров.
III
Эта вторая ночь была еще более богата событиями, чем первая.
К жертвам, погибшим при обвалах домов, от разрыва сердца, паралича, прибавились в одном только Париже тысячи новых: зоотавры, спустившись совсем низко, разрушали здания, в которых прятались люди, выхватывали их десятками из тесно сбившихся куч и уносили неизвестно куда. Это было так ужасно, что даже многие из тех, которых зоотавры не тронули, но которые присутствовали при похищении, либо тут же умерли, либо лишились рассудка.
Таким образом, почти никто не мог рассказать толком, как все это произошло, как появились в том или ином месте зоотавры, как они выхватывали свои жертвы и какой у них внешний вид.
Газетный репортер Пелетье, один из немногих очевидцев этих ужасов, которому удалось сохранить жизнь и относительную ясность суждения, в следующих выражениях описывал, как один из зоотавров похитил его жену и еще с десяток мужчин и женщин:
— Все жильцы дома сбились у нас в квартире, в нижнем этаже, над самым подвалом. Собралось нас человек шестьдесят. В подвал спускаться не хотелось: сыро, холодно, да, пожалуй, еще опаснее… Ну, сидим ни живы ни мертвы, говорим шепотом, а больше все молчим. Кругом все бледные, челюсти дрожат, зуб на зуб не попадает. Спустили шторы на окнах, чтоб света с улицы не было видно, и сидим при одной маленькой электрической лампочке; потом взяли да и эту потушили: казалось почему-то, что в темноте безопаснее. Наверху, над головой, все время треск, грохот, точно кругом сотни домов рушатся… Так прошло с полчаса, а, быть может, и целый час. Как вдруг, трррах! Слышу, что-то налетело на наш дом, ломает крышу и стены, швыряет их в стороны, как если б они были игрушечными. Тут такое пошло! Плач, душу раздирающие крики… Несколько женщин лишились чувств. Потом вдруг сверху на нас кирпичи посыпались, известка, балки. Несколько человек убило, других изувечило. Еще через минуту нас вдруг осветило, тоже сверху, через рухнувший потолок, ослепительно ярким снопом света.
Пелетье сделал передышку, долго вытирал со лба и с шеи обильно выступивший пот и продолжал:
— Это и был он, зоотавр… Мгновенно крики прекратились: голоса, должно быть, не хватило. Забились все тесной кучей в один угол, каждый старается поглубже уйти, за других спрятаться; головы втянуты, лица руками закрыты. Ну, а потом… Черт его знает, как это, собственно, произошло! Сверху, через разверстый потолок, спустилась какая-то чудовищных размеров лапа, черная, глянцевитая, как у ящера, с изогнутыми, похожими на серпы когтями, и стала шарить по комнате. Нащупала кучу человеческих тел и загребла сколько могла. Тут только опять раздались нечеловеческие вопли. Жена моя крикнула так, что у меня и теперь еще этот крик в ушах стоит. Она уцепилась изо всех сил в меня, так что меня тоже приподняло было немного; но через несколько мгновений руки ее разжались: должно быть, лишилась сознания… Я, по-видимому, тоже потерял на время сознание. Когда я пришел в себя, то увидел картину, от которой у меня кровь застыла в жилах: среди груды обломков валялось, где и как попало, до трех десятков человеческих тел; некоторые были изувечены и истекали кровью. Мой приятель, художник Гранье, лежал с размозженной головой, изуродованный, обезображенный, с вытекшим глазом. Из кучи тел слышались глухие стоны. Я только тут почувствовал, что сам тоже контужен… в голову и правое плечо. На щеке и шее была запекшаяся кровь: должно быть, хватило каким-нибудь обломком… Возможно также, что зоотавр когтем задел…
Слушатели долго молчали; наконец, один из них, бакалейщик Гаспар, сказал:
— Н-да… Вот вам и обитатели Марса! Сколько с ними в последние годы возились ученые! Обменивались с ними какими-то каббалистическими телеграфными знаками, говорили о световых волнах чудовищной силы, о подаваемых с Марса сигналах, о необыкновенно высокой культуре марсиан. Совсем уже было собирались завязать с ними правильные сношения. Даже какое-то общество с крупным капиталом основалось… Ну и вот, марсиане сами к нам явились: очень приятно познакомиться! Да-с, накликали господа ученые беду: пожалуйте, мол, к нам на землю, человечины отведать! А человечина, по-видимому, марсианам пришлась по вкусу…
В общем, в эту ночь в Париже погибли, по установленным позднее официальным данным, без малого 14 тысяч человек, причем разрушено было 182 дома. Около трети жертв были похищены зоотаврами; остальные погибли при обвалах или же от разрыва сердца. Несколько десятков изуродованных трупов, представлявших собою бесформенные груды окровавленных костей и мяса, были найдены среди улиц и даже в поле: по-видимому, несчастные были подняты зоотаврами на воздух, а потом почему-либо сброшены обратно на землю.
Больше всего жертв было на вокзалах, особенно на Северном, на котором в эту ночь скопились тысячи обезумевших от ужаса людей. Поскольку удалось установить из бессвязных рассказов уцелевших очевидцев, этот вокзал подвергся нападению целой стаи зоотавров. Некоторые уверяли, что их было по меньшей мере десять, другие же, наоборот, утверждали, что всего лишь три или четыре. Они разворотили и расшвыряли, точно игрушечные домики, весь огромный вокзал со всеми окружающими его пристройками и службами, разбили вдребезги сотни вагонов, на целый километр привели в полную негодность железнодорожную линию.
Из остальных вокзалов сильно также пострадали Лионский и Восточный, на которых в эту ночь скопились многие тысячи провинциалов, покинувших свои насиженные места и в смертельной панике бежавших в Париж. Провинция, привыкшая обращать взоры к столице во все трудные минуты жизни, — и на этот раз твердо верила, что в Париже уже что-либо придумают для спасения от нагрянувшей беды. И подобно тому, как в средние века, в эпоху феодальных войн, окрестное население спешило под защиту города, так и теперь провинция тянулась беспорядочными людскими потоками к Парижу, этому гигантски разросшемуся становищу на путях вечно странствующего, вечно куда-то стремящегося человечества.
Но — увы! — Париж и сам был беспомощен, и ему было не до забот о десятках и сотнях тысяч беженцев, которые черной лавой растекались по его улицам. Полуразрушенный, пришибленный ужасом, он не мог ни приютить их, ни накормить, тем более, что в большинстве предприятий работы приостановились, магазины закрывались одни за другими, а пекарни, ввиду сильной убыли рабочих, вырабатывали не больше половины потребного для населения хлеба.
Между тем, поток беженцев, заливавший Париж, становился все более бурным и угрожающим. Провинция грозила наводнить, затопить столицу. Тяжелые, безмолвные, упрямые, согнувшись под тяжестью своих мешков, шли крестьяне, мрачные и непреклонные, как рок, и чувствовалось, что никакая сила не заставит их повернуть назад. Они стучались в дома и таверны, устраивались со своими семьями и со всем скарбом на тротуарах, у входов в общественные учреждения, среди развалин полуразрушенных зданий. Они пока еще не говорили, не предъявляли никаких требований, но в этом тупом молчании угадывалась грозная опасность: чувствовалось, что когда голод возьмет их за горло, они, все так же молча, с тем же тупым выражением на неподвижных заскорузлых лицах, встанут, двинутся сплошной массой, глядя в землю, вперед — и тогда уж ничто не спасет тонкий, культурный, рафинированный Париж от разгрома.
Уже около полудня было зарегистрировано немало случаев нападения на булочные, мясные и продовольственные склады. Впрочем, это не были еще крестьяне; во всяком случае, не они играли руководящую роль в этих нападениях: главными действующими лицами были местные жители, большей частью из беднейших кварталов. К тому же, в минувшую ночь зоотаврами была разрушена центральная тюрьма: часть арестованных погибла, а остальные разбежались; они бродили голодными толпами по улицам, шарили в разрушенных домах и частенько забирались в дома, совершенно не пострадавшие от налета зоотавров.
Местные власти совсем потеряли голову. На стенах то и дело появлялись энергичные призывы к населению о необходимости соблюдения порядка, сопровождаемые не менее энергичными угрозами по адресу его нарушителей; но власти сами прекрасно понимали, что все эти угрозы никого не напугают и что они не располагают, в сущности, никакими серьезными средствами для охранения порядка.
Наскоро был учрежден военно-полевой суд, который уже около 4 часов дня расстрелял на площади Согласия с дюжину грабителей. Но мера эта никого не устрашила. Никто почти не явился посмотреть на казнь, и небольшая кучка расстреливающих и расстреливаемых совершенно терялась среди огромной пустынной площади. Вся процедура казалась какой-то нелепой комедией, для которой даже не удалось собрать хотя бы несколько десятков зрителей. И судьи, и исполнявшие роль палачей солдаты, и даже сами приговоренные, казалось, испытывали неловкость за ненужность происходящего: так чувствуют себя актеры, играющие глупый фарс при почти совершенно пустом зале.
Один из приговоренных, накануне только бежавший из тюрьмы главарь воровской шайки Фелисьен Лекаж, известный под кличкой «Лорд», за несколько минут до смерти, в то время, когда секретарь суда читал приговор, вдруг потянулся всем телом, сладко, без всякой рисовки, зевнул — и сказал:
— Бросьте, господин секретарь! К чему это? И без того знаю. Только сон нагоняете…
Секретарь сконфуженно умолк. «Лорд» артистически сплюнул сквозь зубы и прибавил, обращаясь к членам суда:
— А вы бы, господа судьи, тоже стали рядом со мной. Право! Все равно не сегодня-завтра слопают зоотавры. Уж лучше умереть от пули, чем попасть к ним на зубы… Не хотите? Напрасно! Я вам по дружбе советую… Ну что же, солдаты? Пора! Стреляйте, а то спать хочется…
Перед вечером грабежи приняли повальный характер. Из общественных складов растащили все, что могли. Не пощадили и частные магазины. Грабили открыто, на глазах полиции. Формировались даже отдельные отряды грабителей, которые подчинялись тут же выбранным главарям и отмежевывали себе отдельные участки. Пришлые из деревень крестьяне держались большей частью отдельно, грабили хмуро, тяжело, без всякого подъема, без увлечения, которое сказывалось в работе городских грабительских шаек. И когда солдаты открывали по ним стрельбу, они так же хмуро, в тяжелом молчании, встречали ружейный огонь, а потом, переступая через убитых и раненых, снова лезли сплошной, серой массой вперед.
Около 8 часов вечера удалось, после долгого перерыва, исправить поврежденную радиотелеграфную станцию и снестись с Лондоном, Берлином и другими центрами. Но, по-видимому, станции там работали плохо, потому что ответы получались отрывочные, с большими пробелами.
Так, Лондон ответил: «Погибаем… больше сорока тысяч… Вестминстер… мосты… отрезаны… Голод…»
Из Берлина тоже пришли невеселые вести: «Развалины… Погибло 23127 мужчин… 21964 женщин… детей… по профессиям… Организовать ферейн… Введена карточная система…»
Еще хуже, по-видимому, обстояли дела в Нью-Йорке, но подробностей не удалось узнать, так как радио носило очень беспорядочный характер: «Бруклин уничтожен… Белый Дом… Президент… Много пароходов… Больше полутораста тысяч (по-видимому, жертв)… пожары… тысячи негров… Суд Линча…»
Подобные же радио получены были из Петербурга, Рима, Мадрида, Стокгольма, Копенгагена, Калькутты, Сиднея, Сан-Франциско и Буэнос-Айреса.
Только из Токио получился странный, вызвавший общее недоумение ответ. Он был составлен в следующих выражениях: «Вашего радио не поняли. Что случилось? О каких зоотаврах говорите вы? У нас все благополучно. Ждем разъяснений».
IV
В третью ночь произошло событие, которое даже в эти ужасные дни, когда, казалось, людей уже ничем не удивишь, вызвало огромное волнение.
В сущности, узнали о нем только на следующее утро, когда люди, после пережитых за ночь ужасов, робко выглянули на свет Божий из ночных убежищ, чтобы посмотреть на разрушения. И вот тут-то, из квартала в квартал, из улицы в улицу, из дома в дом, пополз волнующий слух, точно и он где-либо прятался всю ночь и только теперь решился выползти наружу.
— Мертвый зоотавр! — передавалось из уст в уста придушенным голосом, которому, казалось, с трудом удавалось пройти через сдавленное волнением горло и потом через запекшиеся уста.
— Не может быть! Где?
— На площади Notre Dame. От собора осталась груда развалин!
— Господи! Но как же это случилось?
— Не знаю. Бегу туда. Весь город туда бежит.
Действительно, со всех концов устремлялись к площади
Notre Dame толпы народа, взволнованно обсуждая события.
— Мертвый зоотавр… Мертвый зоотавр!.. — слышалось то и дело.
Казалось, что людям доставляет удовольствие повторять это, слышать сочетание этих двух слов. В этом было что-то утешительное, какая-то надежда. Раз зоотавры смертны, как и всякое живое существо, то с ними возможна и борьба. Значит, это не такие уж сверхъестественные существа, против которых бессильны сами законы природы.
Среди устремлявшихся к месту происшествия толп ходили самые фантастические слухи.
— Он был убит дальнобойным электрическим током, пущенным с Венсеннского форта.
— Ничего подобного! Его убили бомбой, начиненной холерными и чумными бациллами.
— Вздор! Он просто-напросто разбился о собор. Если с разгона о такую махину грохнешься, то уж несдобровать, хоть бы и зоотавру!
По мере приближения к Notre Dame, это последнее объяснение казалось наиболее правдоподобным.
— Зоотавр разбился о собор!
— Не разглядел!
— А его прожектор?
— Потух, должно быть…
— И собор, говорят, тоже вдребезги. Камня на камне не осталось…
— Н-да… Больше тысячелетия стоял, против всех напастей устоял, а тут вдруг…
— А все же, и зоотавр погиб!
Все прилегающие к Notre Dame улицы, точно так же, как и ведущие к площади мосты через Сену, охранялись тройной цепью солдат, пешей и конной полиции. Все прибывающие толпы напирали сзади, и с каждой минутой труднее становилось сдерживать их напор. В некоторых местах цепь была прорвана, и человеческий поток, точно через пробитую плотину, черными волнами залил площадь. Крыши, окна и балконы прилегающих к площади домов тоже чернели сплошной массой человеческих тел.
Те, которые находились за цепью, делали нечеловеческие усилия хоть что-нибудь увидеть: лезли на фонари, на деревья, поднимались на спины своих соседей, неестественно вытягивали шею, пускали в ход самые рискованные гимнастические приемы, но толком им все же ничего не удавалось увидеть. Видели только те счастливцы, которым удалось пробраться за заветную черту, где находились власти, члены парламента и муниципалитета, представители прессы, дипломатического корпуса и т. п.
А видеть здесь можно было вот что:
Правая башня Notre Dame представляла груду развалин. Левая тоже была сильно повреждена. Сам корпус собора не так серьезно пострадал: только крыша была разворочена, да в правой стене, со стороны канала, зияли несколько больших пробоин.
Черные, тысячелетние камни правой башни лежали бесформенной грудой от главного портала, наполовину разрушенного, далеко в глубь площади. А среди камней, местами совершенно покрытый ими, черной чудовищной массой лежал, головой к порталу, мертвый зоотавр.
Ниже мы приводим подробное описание этого чудовища, сделанное, по поручению Академии Наук, специальной комиссией из виднейших французских зоологов; пока же мы ограничимся несколькими, наиболее выдающимися штрихами общей картины, которую представляла в это памятное утро площадь.
Долгое время никто не решался подойти к зоотавру: он внушал всем такой суеверный страх, что людям не верилось в его смерть. Казалось, что вот-вот эта груда оживет, зашевелится, поднимет голову. При одной мысли об этом мороз подирал по коже самых хладнокровных людей.
Вначале публика держалась в отдалении от зоотавра. Некоторые рассматривали его в бинокль. Газетные репортеры щелкали фотографическими аппаратами, с лихорадочной торопливостью набрасывали что-то в своих записных книжках, но все же не решались подойти слишком близко.
Время от времени по рядам проносился тревожный шепот.
— Смотрите, он как будто шевелится!
— Ничего подобного! Это вам со страха показалось.
— Да нет же, уверяю вас: видите, как у него чуть-чуть бок приподымается… там, справа, метрах в двадцати ниже головы?…
Слушатели не верили, но все же инстинктивно пятились назад, норовя спрятаться в толпу.
— Для большей безопасности его следовало бы электро-кутировать! — сказал один видный депутат. — Я-то лично меньше всего боюсь, но надо подумать об ужасах, какие имели бы тут место, если б этот монстр вдруг ожил.
— Да, вы совершенно правы! — согласился стоявший рядом с ним муниципальный советник. — Можно было бы также сделать ему — на расстоянии, конечно, — вспрыскивания каких-нибудь сильных ядов.
— Нет, господа! — запротестовал находившийся поблизости президент Академии Наук. — Этого мы допустить не можем… Не можем в интересах науки… Электрический ток или сильные яды — которых, вдобавок, потребовалась бы чуть не целая тонна — могут произвести серьезные изменения в трупе и затруднить, таким образом, возможность научного исследования. К тому же, уверяю вас, он мертв, совершенно мертв — и уж не оживет…
В эту минуту говорившие были привлечены легким шумом в первых рядах.
— Простите, сударыня, но я бы вас просил не подходить слишком близко! — говорил полицейский офицер какой-то уже немолодой даме, сухой и длинной, как жердь, с фотографическим аппаратом через одно плечо и большим полевым биноклем через другое.
— Вы не можете мне запретить, господин офицер! — ответила она на ломаном французском языке.
— Сударыня, я нахожусь здесь при исполнении обязанностей.
— Я тоже нахожусь здесь при исполнении обязанностей.
— Извините, с кем имею удовольствие говорить?
— Честь имею рекомендоваться: Miss Дэзи Нортон, специальная корреспондентка Северо-Американского газетного треста, обслуживающего 278 газет в Нью-Йорке, 196 в Чикаго, 71 в Вашингтоне и пр. и пр.
— Очень рад… но…
— Я сегодня должна отправить радио в 5000 слов…
— Преклоняюсь, сударыня, перед вашей энергией, но я получил строгую инструкцию никого не подпускать к зоотавру ближе чем на десять метров.
— Почему именно на десять, а не на пять или на двадцать? Я бы хотела знать, чем власти в данном случае руководились… Ведь были же у них какие-либо серьезные соображения?..
— Сударыня…
Этот диалог стал привлекать внимание окружающих, и полицейский офицер с тревогой смотрел на напиравшую сзади публику.
— Вообще, все это странно! — продолжала мисс Дэзи Нортон. — Одно из двух: или зоотавр мертв…
— В том-то и дело, сударыня, что абсолютной уверенности у нас нет.
— Но ведь нет ничего проще, как убедиться в этом! С вашего разрешения, господин офицер!
Не успел этот последний опомниться, как представительница Северо-Американского газетного треста очутилась вплотную около зоотавра и стала бесцеремонно тыкать его зонтиком и носком своего большого неуклюжего башмака.
Зрители ахнули от изумления и в первую минуту слегка попятились назад, точно ожидая, что зоотавр вот-вот поднимется. Но он продолжал лежать неподвижной массой, и толпа понемногу осмелела. Некоторые, прорвав переднюю цепь полицейских, подошли совсем близко к чудовищу и, следуя примеру мисс Нортон, тоже начали было тыкать его зонтиками и палками.
Полицейский офицер совершенно потерял голову, убеждал, умолял, грозил.
— Сударыня, это возмутительно! — кричал он. — Со всем почтением к Северо-Американским Соединенным штатам и вашему тресту, я должен сказать, что ваш образ действий…
Вдруг из задних рядов кто-то крикнул:
— Смотрите, он дышит! Он расправляет крылья!
Началась невообразимая паника. Толпа шарахнулась
назад. Передние ряды напирали на задние; многие в давке попадали; раздались крики, плач, причитанья. Те, которые стояли совсем позади, за тройным кордоном солдат, пешей и конной полиции, не зная, в чем дело, вообразили, что зоотавр бросился на толпу и, подгоняемые страхом, ринулись в ближайшие дома, дворы, под мосты.
В каких-нибудь пять минут площадь Notre Dame почти совершенно опустела. Около зоотавра остались едва лишь несколько десятков человек, из тех, которые стояли впереди и собственными глазами видели, что пущенный слух ложен.
— Стойте! Куда вы бежите? — кричала мисс Дэзи Нортон во всю силу своих легких. — Он мертв, совершенно мертв!
Потом она спокойно вынула огромный блокнот и не торопясь стала составлять для своего газетного треста радио в 5000 слов.
V
Комиссия зоологов обсуждала доклад, который ей поручили составить, с совершенно непривычной для людей положительной науки страстностью.
Больше всех горячился старейший из них, Морис Ле-мерсье, который, как уже известно читателю, был, так сказать, крестным отцом зоотавра: он именно, в экстренно созванном заседании Французской академии наук, придумал это имя, которое возбуждало в людях безумный, мистический ужас.
Этот маститый ученый, имевший отличия и почетные титулы от ученых обществ и академий обоих полушарий, настаивал на том, чтобы зоотавр был классифицирован согласно установленным в зоологии традициям.
— Прежде всего, надо определить род, вид, семейство; надо установить, к какому именно разряду он принадлежит: к млекопитающим, позвоночным, земноводным и т. д.
— Но позвольте! — возражали ему коллеги. — Случай такой чрезвычайный, из ряда выходящий, что общепринятая классификация к нему совершенно неприменима. Не надо забывать, что зоотавр не принадлежит к фауне нашей планеты.
— Тем хуже для него! — с сердцем воскликнул Лемерсье. — Было бы слишком много чести, если б наука приспособлялась к нему.
— Но, maitre…
— Нет, нет, я и слышать этого не хочу! Наука прежде всего. Целые поколения ученых работали над ней, созидали ее камень по камню, — и вдруг какой-то там зоотавр, выскочка, parvenu… Да, да, именно parvenu! Мы даже не знаем, откуда он, какова его генеалогия. Это нарушает все традиции, переворачивает вверх дном все принципы и методы. Это анархия, и я…
Маститый зоолог задыхался от гнева.
— Успокойтесь, maitre! — наперебой говорили ему члены комиссии. — Вы должны беречь себя для науки. Стоит ли так волноваться из-за какого-то там зоотавра!
— Да, вы правы, господа! — с бледной улыбкой отвечал maitre. — Но мне немного не по себе, и я предпочел бы уехать домой… А доклад вы уже без меня составьте…
Его отвезли домой, после чего комиссия продолжала свою работу.
Мы заимствуем из составленного ею доклада, занимавшего 17 листов убористого шрифта, наиболее существенные места.
Прежде всего, комиссия оговаривалась, что доклад ее, составленный на основании тщательного изучения мертвого зоотавра, не носит и не может носить строго научного характера: «объект нашего исследования так сильно разнится от всех доселе известных разновидностей животного царства, что общепринятые в зоологии методы к нему совершенно неприменимы».
Далее следовало детальное описание зоотавра.
«Исследованный нами экземпляр имеет 104,67 метра длины, ширина туловища в центре — 17,4 метра, у головы — 8,45, а у хвоста — 4,95 метра. По приблизительным вычислениям, общий вес чудовища составляет от 80 до 90 тонн.
Средняя часть туловища снабжена двумя крыльями, состоящими из темно-серой, сетчатой, плотной, точно просмоленной массы, в то же время, чрезвычайно эластичной, легко разворачивающейся и складывающейся. Крылья заканчиваются внизу широкими перепонками и устроены так, что в случае надобности могут служить животному плавниками, если оно находится в воде, и лапами, когда оно опускается на землю. Вообще, строение крыльев, — которые в развернутом виде имеют 85,23 метра длины и 27,2 метра ширины, занимая, таким образом, площадь в 2818 с лишним квадратных метров каждое, — чрезвычайно сложно и совершенно неизвестно в фауне нашей планеты. В самом низу каждое из них снабжено семью пальцами-когтями из какого-то неизвестного нам вещества, имеющего некоторое сходство с окаменелой слюдой. Когти эти, которые зоотавр, по-видимому, может по желанию прятать, как это делает кошка, имеют форму изогнутого дамасского клинка и достигают 1 У2 метров длины и 60 сантиметров ширины.
Все туловище покрыто роговидной оболочкой необыкновенной плотности, не поддающейся ни одному из имевшихся в нашем распоряжении острых орудий. По обе стороны его, несколько ниже спины, над крыльями, тянется ряд яйцевидных наростов, полых внутри, по 14 с каждой стороны. По вскрытии одного из них, из него выделился какой-то неизвестный доселе в науке газ. Есть основания предполагать, что эти наросты составляют своего рода резервные камеры для особого воздуха, необходимого зоотаврам при перелете через безвоздушные пространства. Такое предположение тем более правдоподобно, что эти герметически закрытые снаружи камеры особыми каналами связаны с дыхательными органами животного. Каждая из них имеет емкость в 3,7 куб. метра и, следовательно, может содержать довольно солидное количество конденсированного воздуха.
Голова зоотавра имеет форму почти правильного цилиндра в 6,4 метра длины и 9,85 метра в окружности; она утверждена на сравнительно короткой, постепенно переходящей в туловище шее. Никакой растительности на голове нет. Поверхность ее глянцевитая, лоснящаяся, напоминающая кожу моржа. В нижней части ее имеется широкая щель, служащая ртом и снабженная, вместо зубов, двумя чрезвычайно острыми роговидными пластинками-челюстями. Нет ни носа, ни ушей; их, по-видимому, заменяют глаза, которые исполняют не только зрительные, но также слуховые и дыхательные функции. Их два: один спереди, на том месте, которое мы привыкли называть лбом, другой сзади, так сказать, на затылке. Оба они отличаются чрезвычайно сложной структурой, которую очень трудно, почти невозможно изучить на мертвом экземпляре.
Поскольку комиссии удалось выяснить, глаза зоотавра устроены наподобие прожекторов, испускающих столбы света в несколько километров длины. Свет этот настолько ярок, что, например, друммондов свет бледнеет по сравнению с ним. Зоотавры могут, по желанию, удлинять и укорачивать его, точно так же, как и совершенно гасить его. Есть основания предполагать, что этот же свет обладает истребительными свойствами, позволяя зоотаврам, словно электрическим током огромной силы, смертельно поражать на расстоянии. При полете они испускают свет, освещая себе дорогу то передним, то задним глазом. Он, по-видимому, обладает свойством потухать иногда и помимо воли животного. Так, по всей вероятности, и случилось с объектом нашего исследования: с погасшим светом, ничего не видя перед собой, он со всего разгона, при полете чудовищной скорости, налетел на Notre Dame, ударившись о собор, точно гигантской силы ядро в крепостную стену.
Глаза являются, надо думать, наиболее уязвимым, быть может, даже единственно уязвимым органом зоотавров. Они, по-видимому, совершенно не приспособлены к дневному свету нашей планеты, чем и объясняется то, что они свои налеты совершают по ночам.
Своими прожекторами зоотавры, надо полагать, могут пользоваться и в воде, освещая ими морскую глубь на огромное расстояние в целях приискания добычи.
Вокруг переднего глаза правильным кругом расположено 14 выпуклых шариков, напоминающих глаза рыбы и окрашенных в разные цвета. На мертвом зоотавре удалось установить эти цвета только по пигментации, но несомненно, что у живых экземпляров шарики имеют яркую разноцветную окраску. Один из членов комиссии высказал чрезвычайно остроумное предположение, что эти шарики служат зоотаврам органами речи: вместо слов они прибегают к цветовым знакам, т. е. к особого рода сигнализации. Очень возможно, что они достигли в этой области огромного совершенства и что с помощью чередующихся в шариках красок, пользуясь бесконечным разнообразием возможных при этом комбинаций, они могут выражаться гораздо полнее и свободнее, чем люди с помощью слов.
Предположение, что указанные шарики служат зоотаврам органами речи, подкрепляется еще тем обстоятельством, что никаких других органов, служащих для этой цели, у объекта нашего исследования найдено не было: у него нет ни языка, ни голосовых связок, вообще ничего, что служило бы для издавания звуков.
В общем, надо признать, что зоотавры неизмеримо совершеннее всех известных нам представителей фауны нашей планеты, включая и человека. Природа наделила их почти неограниченными возможностями. Они свободно чувствуют себя на земле, в воде и в воздухе. Мало этого: они могут жить даже в безвоздушном пространстве, что совершенно недоступно ни одному живому существу на земле. Доказательство этому в том, что они, прежде чем добраться до нашей планеты, преодолели огромные безвоздушные пространства, отделяющие Марс от нашей земли. Если они могли достичь земли, то, надо полагать, могут добраться и до любой другой планеты нашей солнечной системы. Это, правда, идет вразрез с законом тяготения, но сам факт прилета зоотавров ставит на очередь вопрос о коренном пересмотре многих, казавшихся до сих пор незыблемыми, так называемых законов природы. Уже одно то, что есть живые существа, которые свободно могут перемещаться в межпланетном пространстве, переворачивает вверх дном все наши привычные представления.
Перед комиссией стал также вполне естественный вопрос об интеллектуальном уровне зоотавров. Могут ли они мыслить подобно тому, как мыслит Homo sapiens? Способны ли они творить культурные ценности? Знают ли они, что такое литература, музыка, поэзия, зодчество, живопись? Есть ли у них великие идеалы и великие достижения?
Увы! Комиссия увидела себя вынужденной отказаться даже от самой постановки этих вопросов. Она поняла всю их неуместность. Членам ее показалось диким само применение жалких человеческих мерок и шаблонов к этим неизмеримо высшим, межпланетным существам. Какое мы имеем право думать, что то, что мы называем наукой, искусством, литературой, является если не высшим проявлениям совершенства, то уж во всяком случае ведет к этому совершенству? Пора понять, что такое представление о совершенстве создано нами самими, т. е. существами слабыми, жалкими, бесконечно далекими от совершенства, беспомощными и бессильными, но почему-то вообразившими себя царями природы.
Во всяком случае, мы, прикованные к нашей затерявшейся во вселенной песчинке, которую мы называем Землей, с трудом могущие прыгнуть, с помощью наших жалких воздушных аппаратов, на каких-нибудь несчастных несколько километров вверх, неизмеримо ниже зоотавров, хотя бы по одному тому, что им доступны все стихии, вплоть до межпланетной…
Комиссия пыталась также разрешить чрезвычайно важный вопрос о том, где находятся зоотавры днем, между двумя ночными налетами. К сожалению, более или менее положительного ответа она на это дать не может. Она вынуждена была ограничиться одними гипотезами, так как никаких конкретных и, главное, строго проверенных данных в ее распоряжении не было, да и быть не могло.
Гипотез этих три.
Первая: зоотавры, после налета на землю, скрываются в пучине морской, где и остаются вплоть до следующей ночи. В пользу этой гипотезы говорят многочисленные свидетельства жителей морского побережья, которые клятвенно уверяют, что собственными глазами видели, как крылатые чудовища в первые часы ночи показывались над морской поверхностью, а потом, после налета на тот или иной пункт земного шара, снова погружались в водную пучину.
Это подтверждается и свидетельством почтенного испанского астронома Хозе Бенавенте, который в течение нескольких ночей наблюдал за зоотаврами со своей лаборатории на острове Майорке. Он лично видел погружающихся под утро и потом, после заката солнца, снова выплывающих зоотавров. В одну ночь он насчитал их до десяти. Нырнув под воду незадолго до рассвета, а именно около трех четвертей пятого утра, они снова вынырнули только в девять часов вечера, т. е. приблизительно через шестнадцать часов.
При всем своем глубоком уважении к знаменитому испанскому астроному, комиссия не может разделять высказанной им уверенности, что зоотавры проводят день на дне моря или океана. Имеющиеся факты слишком недостаточны для такого категорического утверждения, тем более что, как мы это сейчас видим, есть свидетельства и другого рода. К тому же, возможно, что зоотавры, которых он видел погружающимися в море, выплыли через какой-нибудь час, или даже через несколько минут, где-нибудь у берегов Северной или Южной Америки; те же, которых он видел, после захода солнца, выплывающими, были, возможно, совсем другие, явившиеся откуда-нибудь из Великого Океана.
Вторая гипотеза: зоотавры проводят время между двумя налетами на вершинах высоких гор, как, например, на Эвересте, Гиндуку, Монблане и т. п. На этот счет комиссии тоже удалось собрать ряд свидетельских показаний, исходящих, главным образом, от горных пастухов. К сожалению, все они носят слишком обывательский характер и часто продиктованы напуганным воображением. Ни один из этих так называемых очевидцев не мог категорически утверждать, что зоотавры проводят на той или иной вершине весь день; они только видели их поднимающимися с этих вершин или опускающимися на них. Один из этих добрых людей, когда его настойчиво стали расспрашивать, уверен ли он, что видел именно зоотавра, вынужден был признать, что категорически он этого утверждать не в состоянии и что очень возможно, что он принял за зоотавра большое темное облако, покрывавшее вершину горы.
Наводит комиссию на сомнения в основательности этой гипотезы также и то обстоятельство, что ни из одной из построенных в горах, на значительной высоте, обсерваторий и метеорологических станций, не поступило на этот счет никаких сведений, которые совпадали бы со свидетельствами пастухов. Возможно, конечно, что зоотавры проводят часть дня на вершинах гор, но считать это их более или менее постоянной резиденцией было бы рискованно.
Наконец, комиссия берет на себя смелость предложить вниманию Академии третью гипотезу: не исключена возможность, что зоотавры проводят время между двумя налетами на землю в межпланетном пространстве. И в самом деле: по нашим, земным, понятиям, всякое живое существо нуждается, для восстановления сил, в отдыхе, в абсолютном покое, т. е. во сне. Но природа зоотавров настолько разнится от природы всех других известных нам видов животного царства, что к ним земные представления совершенно неприменимы. Очень возможно, что они не нуждаются в отдыхе для восстановления сил и могут, таким образом, оставаться беспрерывно в воздухе, не тратя на сон ни одной минуты. Также очень может быть, что они обладают способностью спать или предаваться каким-либо неизвестным нам физиологическим функциям, служащим для восстановления сил, на лету, продолжая парить в воздухе где-либо в верхних слоях атмосферы, на недоступной даже вооруженному человеческому глазу высоте.
Один из членов комиссии выразил даже предположение, что зоотавры, в промежуток между двумя налетами на землю, улетают на луну. Это мнение вовсе не так парадоксально, как это может показаться с первого взгляда: луна отстоит от земли приблизительно на 385 тысяч километров, а это расстояние зоотавр может, надо полагать, пролететь в сравнительно короткое время. Правда, до сих пор не удалось еще установить быстроту его полета, но все заставляет думать, что он развивает чудовищную, поражающую воображение скорость. Не исключена, поэтому, возможность, что он за каких-нибудь восемнадцать часов, т. е. в промежуток времени между двумя налетами, может слетать с земли на луну и обратно.
Разумеется, возникает естественный вопрос: что интересного может представлять для зоотавров луна, на которой, как это твердо установлено наукой, давно уже нет никакой органической жизни и которая, так сказать, перешла уже в небытие?
На этот вопрос комиссия отвечать не берется. Круг человеческих познаний так узок, кругозор наш так обидно ограничен рамками видимого, доступного нам мира, что как только мы сталкиваемся с явлением, выходящим за его пределы, мы проявляем полное бессилье. Во всяком случае, мы должны признать, что то, что мы называем законами природы и перед чем мы привыкли так почтительно преклоняться, является законами только нашей природы, которые совершенно не обязательны и не действительны для выходцев с других планет».
— Таковы те гипотезы, — закончил докладчик, — которые комиссия имеет честь предложить почтенному собра-нию. Нас могут упрекнуть в недостаточно научной, быть может, совсем даже не научной постановке вопроса; но мы надеемся, что Академия примет во внимание стоявшие перед нами трудности и не будет судить нас строго. Слишком уж необычен объект нашего исследования. Во всяком случае, комиссия может сказать: feci quod potui, faciant me-liora potentes…[1]
VI
В один из ближайших дней имел место факт, который несколько расширил чрезвычайно узкий круг сведений о зоотаврах.
4-го апреля, около четверти десятого ночи, во время очередного налета зоотавров, один из них спустился на Зоологический сад в Париже.
Среди зверей и птиц начался неописуемый переполох. Почуяв грозного врага, они стали метаться как безумные, пытались сломать клетки, огласили воздух воем и ревом. Люди не понимали, в чем дело, и в этом диком реве обезумевших зверей усмотрели апокалипсическое предзнаменование близкого конца. Наиболее суеверные спешили примириться с небом и говорили о светопреставлении. Какой-то кюре, с непокрытой головой, с крестом в высоко поднятой руке, бежал по пустынным и темным улицам и кричал:
— Кайтесь, братья во Христе, настал последний час!
И когда на него вдруг пал нестерпимо ослепительный сноп света, исходивший от пролетавшего на большой высоте зоотавра, он как подкошенный грохнулся на колени, поднял вверх лихорадочно сверкавшие глаза и, воскликнув: «Господи, я готов!», испустил дух.
Между тем, чудовище продолжало громить Зоологический сад, расшвыривало одну за другой фундаментальные клетки, выхватывало из них того или иного зверя, потом большей частью отбрасывало его и искало новой, лучшей добычи. Наконец, зоотавр выхватил самого большого слона, знаменитого Тони и, словно удовлетворившись этой добычей, взмыл с нею вверх и несколько секунд спустя исчез в восточном направлении.
Это произошло в 21 ч. 17 минут. Директор Зоологического сада, мужественный Люсьен Бранкар, известный как бесстрашный охотник на львов и тигров, наблюдал все происходившее из окна своего каменного особняка, находившегося тут же, у ворот сада. И когда зоотавр поднял на воздух Тони, его любимца Тони, которого он сам вывез из Центральной Африки и которого он с такой гордостью показывал знакомым, Люсьен Бранкар глубоко вздохнул и инстинктивно взглянул на часы, как бы для того, чтобы точно определить момент гибели своего любимца.
Было, как сказано, семнадцать минут двадцать второго или, по старому исчислению, 17 минут десятого ночи.
А на следующий день получилось, от директора Пулковской обсерватории, радио следующего содержания:
«Сегодня, в 2 часа 20 минут 55 секунд по парижскому времени, пролетавший почти над самой обсерваторией зоотавр сбросил с небольшой сравнительно высоты слона. Слон разбился насмерть. На попоне его, хотя и затронутой когтями чудовища, все же удалось прочесть имя “Тони”. Полагаю, что это тот самый Тони, которым я восхищался в бытность свою в Париже».
Это радио произвело в научных кругах Парижа огромную сенсацию. Президент Академии наук, неутомимый Марсель Дювернуа, созвал своих коллег на экстренное заседание.
Увы! Явились всего 11 человек: остальные 29 «бессмертных» оказались очень даже смертными и либо погибли во время налетов зоотавров, либо лежали больные, парализованные. Маститый зоолог Морис Лемерсье, тот самый, который дал имя зоотавру, по-видимому, лишился рассудка. По крайней мере, домашние его рассказывали, что он часами нервно бегает по своему кабинету, то и дело выкрикивая:
— Выскочка! Parvenu! Неизвестно даже, откуда он взялся…
Открывая заседание Академии наук, президент сообщил о новой тяжкой утрате, понесенной в лице Мориса Лемерсье не только французской, но и мировой наукой. Присутствовавшие почтили несчастного вставанием, как если бы он уже умер. Потом приступлено было к обсуждению полученного от директора Пулковской обсерватории радио.
— Итак, господа, мы стоим перед новым фактом огромной, исключительной важности! — начал президент. — Оказывается, что зоотавр пролетел из Парижа до Пулкова, т. е. расстояние в две с лишним тысячи километров, если я не ошибаюсь…
— По прямой линии 2200 километров, — вставил Густав Пейро, маленький, скромный, худой человечек, пользовавшийся репутацией одного из лучших географов в мире.
— Благодарю! — бросил в его сторону президент. — Итак, зоотавр пролетел расстояние в 2200 километров в 3 минуты 55 секунд. Это составляет скорость…
Президент взял карандаш и стал делать вычисления; известный математик Берже поспешил прийти к нему на помощь.
— Это составит 9,36 километра в секунду, с точностью до одной сотой, — сказал он. — Иными словами, скорость зоотавра приблизительно в 30 раз больше скорости звука.
— Да, да… 9,36 километра в секунду, это составит в минуту…
— В минуту это составит 561,6, а в час — 33.696 километра.
— Вот видите! — воскликнул президент с таким видом, как если бы он всю жизнь утверждал, что зоотавр развивает сумасшедшую скорость. — Больше 33 тысяч километров в час! Такая скорость нам здесь, на земле, и не снилась. Если я не ошибаюсь, самые быстроходные наши аэромоторы делают maximum около 800 километров в час?
— Аэромотор «Урания», недавно построенный Эллисом, Дависоном и Комп., достигает скорости в 864 километра в час, — пояснил секретарь Академии.
— Допустим, но все это так ничтожно по сравнению со скоростью зоотавра! — настаивал президент. — Вы только подумайте: 33 тысячи километров в час!
— При такой быстроте полета, — вставил докладчик комиссии, — приобретает значительную правдоподобность гипотеза — которую нашему уважаемому президенту угодно называть предположением — что зоотавры прилетели с Марса. Насколько известно, эта планета в той фазе, когда она ближе всего отстоит от земли, находится от нее на расстоянии 55 милл. килом. Для нас это, конечно, чудовищное расстояние, таинственная бездна, перед которой беспомощно останавливается наша бедная земная мысль. Но для зоотавров оно вовсе не так уж неодолимо. В самом деле, при скорости в 33 тысячи километров в час на перелет с Марса на землю зоотаврам потребовалось бы…
— Сию минуту! — торопливо бросил математик.
И, быстро набросав на лежавшем перед ним листе бумаги ряд цифр, он провозгласил:
— 1666 часов, с точностью до одной десятой. Это составит 69 суток 10 часов и 24 минуты.
— Т. е. несколько больше двух месяцев, — сказал докладчик. — Это вовсе не так уж много. В доброе старое время, какое-нибудь столетие тому назад, такие путешествия были на нашей планете обычным явлением. Я читал как-то, что китайский посланник употребил на поездку в Париж целых тринадцать недель. К тому же, возможно, что за пределами нашей планеты и само представление о времени сильно разнится от нашего, так что наши месяцы или даже годы мыслятся там краткими и ничтожными, как секунды. При таких условиях, перелет с Марса на Землю является чем-то вроде маленькой увеселительной прогулки…
— В этом вопросе есть еще одна сторона, в высшей степени интересная, поражающая воображение, захватывающая! — поднялся с места самый молодой из «бессмертных», 40-летний Оскар Серадель, известный не только своими чрезвычайно ценными работами по астрономии, но и своим бурно-пламенным, совсем не академическим темпераментом.
Президент насторожился: он никогда не ждал добра от выступлений этого необузданного молодого человека, как он его называл.
— Вы хотели высказать некоторые соображения? — спросил он.
— Да, если позволите. Мне кажется, что перед нами открываются блестящие перспективы…
Все с изумлением подняли глаза на говорившего, а потом переглянулись между собой, как бы спрашивая, в здравом ли он уме.
— Мы вас слушаем, — сказал президент. — Вы, разумеется, имеете в виду прилет зоотавров?
— Да, конечно.
— И находите, что он открывает перед нами блестящие перспективы?
— Вы меня совершенно правильно поняли.
— Это любопытно! Будьте добры изложить свою точку зрения. Это будет тем интереснее, что наши коллеги, если я не ошибаюсь, держатся несколько иного взгляда на открывающиеся перед нами перспективы…
Оскар Серадель выпил залпом стакан сахарной воды (причем президент чуть заметно, но весьма неодобрительно покачал головой: дескать, и пьет-то не по человечески!) откашлялся и, выстукивая пальцами дробь по столу (что тоже сильно не нравилось президенту и остальным академикам), начал:
— Господа! Перед человечеством тысячелетиями стоит непроницаемой тайной звездный мир. Правда, астрономия сделала крупные успехи, и мы сравнительно недурно знаем нашу солнечную систему. Но мы знаем ее только на расстоянии. Проникнуть на какую либо из планет нашей системы нам не дано. Мы прикованы к земле, и все наши усилия подняться над нею до сих пор к более или менее ощутительным результатам не привели. Наша хваленая авиация, которой мы так гордимся, не что иное, как жалкие потуги хоть немного оторваться от земли, создать себе иллюзию свободы от нее, самообман. Мы, как блохи, подпрыгиваем немного вверх — и воображаем себя какими-то титанами мысли и духа…
Президент переглянулся с другими «бессмертными» и, чуть заметно пожав плечами, сказал:
— Простите, дорогой, коллега, но… нам бы очень хотелось поскорее услышать ваши выводы.
— Я к ним иду, господин президент. Итак, до сих пор мы были беспомощны во всем, что касается сношений с другими планетами. Мы строили гипотезы, более или менее смелые, насчет их структуры, флоры и фауны, мы даже вообразили себе, что нам удастся со временем наладить регулярные сношения с Марсом. Но все это были только ріа desideria[2], пленной мысли раздражение. У нас даже не было ни одного конкретного доказательства того, что другие планеты обитаемы живыми существами. И только теперь, наконец, мы получили это доказательство…
Большинство «бессмертных» глубоко вздохнули.
— И что еще важнее, — продолжал Серадель, — мы впервые видим живое существо, обладающее способностью преодолевать межпланетные пространства…
— Но где же ваши блестящие перспективы, дорогой коллега? — с явным нетерпениям перебил его президент.
— Господи! Это, кажется, так ясно! Раз есть живые существа, который могут летать с Земли на Марс, то не исключена возможность и для людей…
Присутствующие с суровым недоумением уставились на говорившего. Он это заметил.
— Вы понимаете, дорогие коллеги, я хочу только сказать, что со временем… Конечно, это будет еще не так скоро, и мы вряд ли доживем до этого. Но почему не допустить, что люди, пользуясь зооотаврами…
Среди «бессмертных» раздались возмущенные возгласы.
— Оседлают их и полетят на Марс, что ли? — с язвительной иронией спросил президент.
— А почему бы и нет? — принял вызов Серадель. — Теоретически эта возможность не исключена. Люди ухитрились приручить тигров, змей… С зоотаврами дело, конечно, будет труднее, но, повторяю, в принципе это вполне возможно… Я не говорю уже о том, что их можно было бы использовать для сообщений на самой земле, что составило бы огромную экономию во времени, сильно способствовало бы сближению народов и, тем самым, дало бы крупный толчок росту культуры. Это мелочь по сравнению с грандиозными перспективами в области межпланетных сообщений…
— Господа, в решительно протестую против подобных речей! — воскликнул окончательно выведенный из терпения президент. — Они, быть может, были бы уместны где-либо в светском салоне, но здесь… здесь, дорогой коллега, мы в Академии наук… понимаете ли, на-ук!
Другие «бессмертные» тоже дали волю своему негодованию. Послышались совсем не академические возгласы:
— Это Бог знает что такое!
— Только работать мешает!
— Придумал удобный способ сообщения с Марсом!
— В желудке зоотавра!
— Этак мы все, пожалуй, будем на Марсе!
В эту минуту лакей почтительно подал президенту телеграмму.
Марсель Дювернуа быстро пробежал ее глазами и заметно побледнел.
— Что с вами, cher maitre?[3] — бросились к нему коллеги.
— Сообщают, что прошлой ночью Марсель, Бордо и целый ряд других прибрежных городов были почти вконец разрушены налетом целой армии зоотавров. Добрая половина населения погибла. Уцелевшие остались без крова и пищи. Этой ночью мы, наверное, будем иметь их у себя.
И, бросив злой взгляд в сторону Оскара Сераделя, он с кривой усмешкой прибавил:
— Вот, дорогой коллега, прекрасный случай приручить их и… прокатиться на Марс…
VII
Зоотавры мало-помалу наводнили всю землю. Не было на земном шаре уголка, который не пострадал бы от их налета. В Париж то и дело приходили скорбные вести о произведенных ими опустошениях.
Япония, которая в первые дни была как бы пощажена ими, очень скоро подверглась такому жестокому набегу со стороны крылатых чудовищ, что большинство городов и деревень, особенно на острове Ниппоне, превращены были в груду развалин, точно после чудовищного землетрясения. Микадо с семьей погибли под развалинами Токийского дворца; вместе с ними погибли тысячи самураев, которые поклялись защищать императора до последней капли крови. В последовавшие затем дни национального траура больше десяти тысяч японцев сделали себе харакири. Это был вопиющий к небу протест против посланного людям тяжкого испытания.
Из Китая сведения доходили очень туго, да и то только из крупных центров. Там опустошения были еще ужаснее. Население, охваченное мистическим ужасом, бежало куда глаза глядят, разнося по стране, и без того измученной бесконечными гражданскими войнами, эпидемии, которые косили обильную жатву. В провинции Си-хун-чан образовалась секта поклонников зоотавра, который был провозглашен богом, сошедшим с неба для того, чтобы утвердить на земле царство Божие. Число последователей этого нового учения росло с каждым днем; оно перебрасывалось в другие провинции, распространялось по всей стране, находило многочисленных адептов в самом Пекине, и многие ученейшие и знатнейшие мандарины становились его жрецами и проповедниками. Статуи Конфуция, Будды и других старых богов разбивались вдребезги. Фанатичные толпы с благоговейным трепетом ждали по вечерам появления зоотавров; завидев падающий сверху сноп ослепительно яркого света, люди в религиозном исступлении бросались на землю, склоняли, точно под топором палача, головы и ждали, как высшего счастья, чтоб чудовище налетело на них и унесло их на небо.
Ученье это очень быстро перебросилось и на Индостан. В народе шли слухи, что какой-то факир, именем Рабапутра, 777 дней просидевший неподвижно на одном месте, давно уже предсказал сошествие новых богов на землю. И в ту ночь, когда в небе появился первый зоотавр, Рабапутра вдруг отделился от земли и поднялся в снопе света, отбрасываемого зоотавром, ему навстречу.
Тысячи людей видели это собственными глазами, и тысячи тысяч людей стали поклоняться новому богу. В посте и молитве, с утра до ночи подвергая себя кровавым истязаниям, они ждали как великой милости, чтобы грозное крылатое божество унесло их в своих, похожих на изогнутые дамасские клинки, когтях. Увы! Скоро они совсем почти перестали удостаиваться этой милости: изнуренное долголетним хроническим голодом население Индостана представляло для зоотавров далеко не лакомую добычу. Большинство похищенных ими в первые дни индусов были сброшены обратно на землю, а в скором времени налеты зоотавров почти совершенно прекратились.
Роковые последствия имел налет зоотавров и в Турции. С первых же дней мастерские, конторы и магазины опустели. Рабочие и служащие тысячами бросали работу. Вся жизнь была парализована, и наступил голод. Люди умирали на улицах, на ступенях и во дворах мечетей. В довершение ужасов, большинство городов подверглось нападению многочисленных стай голодных собак. В Константинополе они скоро стали полными хозяевами города. Ни у кого не было ни сил, ни охоты бороться с ними, и они смелели с каждым днем, врывались в дома, нападали на людей. Сначала они пожирали только валявшиеся на улицах трупы, но скоро взялись и за живых. Спокойно, не торопясь, не боясь сопротивления, они загрызали валявшихся у входа в мечети больных, а потом садились в сторонке и облизывались. По ночам они иногда поднимали протяжный вой, который слышен был на многие километры вокруг.
В Мексике население, доведенное до отчаяния налетами зоотавров, то и дело устраивало революции и вручало диктаторскую власть какому-нибудь новому генералу из бывших цирковых наездников, кабатчиков или контрабандисстов. Согласно освященной долгой практикой традиции, новый диктатор расстреливал своего предшественника и всех его сторонников, но положение от этого не улучшалось; через несколько дней устраивалась новая революция, отыскивался новый диктатор, который тоже первым долгом расстреливал свергнутого противника и его приверженцев. А зоотавры между тем продолжали свое дело, сея смерть и разрушения, нагромождая груды развалин, нагоняя панический ужас на людей и животных.
В Калифорнии, Бразилии, Чили, Перу, Уругвае и Парагвае, налет зоотавров вызвал массовые грабежи и убийства. Банды авантюристов, большей частью из золотоискателей, хорошо организованные и вооруженные, захватывали золотые прииски и целые города, похищали женщин, угоняли табуны лошадей. Везде царила самая безудержная анархия.
Получены были кой-какие, правда, очень скудные сведения, даже из Центральной Африки. В частности, один бежавший в Конго миссионер рассказывал, что туземное население приписывает налет зоотавров колдовству белых и жестоко расправляется с ними. От восточного до западного побережья свирепствует священная война против европейцев. Плантации разгромлены, плантаторы беспощадно вырезаны, большинство миссионеров съедены. Для спасения от зоотавров, толпы туземцев собираются по ночам где-нибудь на возвышенном месте, неистово кричат, бьют в барабаны, в котлы и вообще производят адский шум, который, по их глубокому убеждению, не может не испугать зоотавров.
В некоторых местах туземцы, для умилостивления этих неведомых богов, приносят им в жертву детей и самых красивых девушек, против которых не мог бы устоять ни один бог. Вождь славного племени Саму, знаменитый Орлиный Клюв, даже пожертвовал для этой цели половину из своих 666 жен, известных своей красотой от истоков Великой реки до Слонового берега. И сам великий жрец, мудрый Пао-Тао, собственными руками, в течение семи безлунных ночей, заклал обреченных красавиц на воздвигнутом в честь новых богов алтаре. Увы! Эта жертва не была принята: на восьмую ночь налетели на племя Саму зоотавры, нагромоздили кучу развалин и похитили тысячи мужчин, женщин, детей. — Мудрый Пао-Тао потребовал новых жертвований.
VIII
Потерявшие голову, обезумевшие от страха люди искали спасения в бегстве. Они прекрасно понимали, что от зоотавров нигде не спасешься, так как они наводнили всю землю; но казалось невозможным сидеть на месте; инстинкт самосохранения побуждал что-то предпринимать, двигаться, проявлять активность.
Неведомыми путями распространились слухи, что зоотавры не трогают находящиеся в море суда и пароходы. Рассказывали, что многие американские миллиардеры совершенно переселились, вместе со своими семьями, на яхты и плавают по океану между Европой и Америкой в полной безопасности, никого и ничего не боясь. Какая-то газета пустила слух, что основалось международное общество плавучих домов, на которые предполагается переселить все наличное население с континентов.
В заметке этой, сильно взволновавшей умы, между прочим, говорилось: «Как известно, воды на земном шаре втрое больше, чем суши. При современном состоянии техники представляется полная возможность строить солидные плавучие дома в 10, 20 и даже 50 этажей, со всем комфортом, с лифтами, балконами, террасами, площадками для игры в теннис, разбитыми на крыше садами и пр., к тому же, совершенно безопасные в отношении сырости. Человечество от этого только выиграло бы: на земле становится слишком тесно, между тем как море давно уже манит людей своим безбрежным простором. Пора отрешиться от рутины, от страха перед всем новым! Пора оторваться от этой тесной, грязной земли, к которой мы прилипли, как раковины к морской скале. И пусть отныне лозунгом культурного человечества будет: “В море! Да здравствует новая, свободная жизнь среди бесконечного морского простора!”».
Такие толки еще больше будоражили и без того потерявших голову людей. Их раздували, преувеличивали до фантастических размеров. Кто-то уверял, что все население Нью-Йорка поголовно переселилось уже в плавучие дома, так что в городе не осталось ни живой души.
— Эти янки народ практичный, — с завистью говорили парижане. — Вон какие небоскребы успели уже соорудить на океане! Тут тебе и универсальные магазины, и банки, и телефоны, и телеграф… И никакие зоотавры им не страшны теперь…
Тщетно более рассудительные люди возражали, что все это вздор, что по самым последним сведениям налет зоотавров стоил Нью-Йорку многих тысяч человеческих жертв, что плавучие дома, да к тому же небоскребы, не выстраиваются в несколько дней, что, наконец, согласно полученному недавно радио, гигантский трансатлантический пароход «Два мира», шедший из Гамбурга в Нью-Йорк, подвергся нападению нескольких зоотавров и был пущен ко дну, причем большинство пассажиров либо были унесены чудовищами, либо погибли в море. Им не верили: в смутные эпохи голос разума туго доходит до слуха. Некоторые уверяли даже, что кампания против плавучих домов ведется на деньги Союза домовладельцев, которые боятся разориться, если люди поселятся на воде.
— Еще бы! Ведь тогда их домам грош цена! И теперь уже их доходность сильно упала.
Какая-то газетка, подслуживаясь к улице, настаивала, чтоб во Франции также немедленно было приступлено к постройке плавучих домов. «Хоть на этот раз, ввиду грозной опасности, откажемся от своей инертности и последуем примеру смелых, предприимчивых янки!» — писала она.
Разумеется, плавучих домов никто пока и не думал строить, но пароходы брались с бою. Люди массами устремлялись в Гавр, Руан, Брест, Марсель и другие портовые города. Там, где железнодорожное полотно было разрушено, пробивались пешком или на лошадях. Кто имел возможность, перелетал на аэромоторах.
В портовых городах происходило столпотворение вавилонское. Не только дома, но и амбары, бараки, запасные вагоны железной дороги — все было переполнено. За места на пароходах платили бешеные деньги. Они уходили перегруженными, рискуя пойти ко дну у самой гавани. Случалось, что люди бросались за ними вплавь в надежде, что их подберут и они, таким образом, все же очутятся на борту. Особенно жестокая борьба происходила за места на пароходах, шедших в Америку. Толпа верила, что практичные янки, наверно, уже что-нибудь придумали, не плавучие дома, так что-либо другое.
Потом кто-то пустил слух, что Америка скоро будет закрыта, во избежание чрезмерного скопления народа, для иностранцев, и толпы взбудораженных людей, потерявших последние остатки здравого смысла, стали еще больше наводнять гавани, давили друг друга, силой врывались на пароходы. Случалось, что захватившая пароход толпа выбрасывала капитана и матросов за борт и тут же выбирала команду из добровольцев, которые и выводили пароход в море.
По счастью, повальное бегство к морю скоро прекратилось.
С одной стороны, то и дело приходили вести о нападении зоотавров на пароходы, причем погибали почти все пассажиры. Случалось даже, что чудовища нападали на них снизу, из глубины морской. Нападение обыкновенно происходило с такой молниеносной быстротой, что экипаж парохода даже не имел времени бросить в пространство призыв о помощи или спустить шлюпки, так что о спасении почти не могло быть речи. В течение нескольких дней подряд, именно тогда, когда тысячи крупных и малых судов бороздили океан, направляясь в Америку, зоотавры усиленно охотились за ними.
С другой стороны, слухи об американских плавучих домах с каждым днем все настойчивее опровергались. Само правительство Американских Соединенных Штатов, с целью остановить все растущий поток иммигрантов из Европы, сочло нужным энергично выступить против этих слухов. Его официальное заявление, перепечатанное всеми газетами, произвело настолько сильное впечатление, что в Париже возбужденная толпа разгромила редакцию газеты, которая первая пустила в ход утку о плавучих домах, а редактора ее, совсем уж по-американски, подвергла суду Линча, повесив его на фонаре около его же дома.
Толпы народа отхлынули от портов. Пароходы стояли в гаванях, как парализованные, так как никто больше не решался выходить в море. Акции пароходных компаний, которые за короткое время поднялись до головокружительной высоты, так же головокружительно полетели вниз и скоро потеряли всякую цену. Товарное и пассажирское сообщение между континентами прекратилось. Океан, как во времена седой древности, когда люди еще не додумались до парусов и паровых машин, лежал безбрежной водной пустыней, и ничто уж больше не нарушало его царственного извечного безмолвия: зоотавры очистили его могучую грудь от жалких насекомых, именующих себя царями природы, и вернули ему былой покой.
Потеряв надежду на спасение в море, люди стали искать его в воздухе: они испытывали жгучую, непреодолимую потребность бежать куда-нибудь. Скоро стали циркулировать слухи, что есть страны, где о зоотаврах и представления не имеют, где люди живут, не зная всех этих ужасов. Сегодня выдвигалась, в качестве совершенно безопасной страны, Новая Гвинея, завтра Урал, потом Капская земля, Калифорния, Тунис.
Все эти сведения исходили, по уверениям их авторов, из самых надежных источников: один сам читал в какой-то английской газете о том, что Новая Гвинея находится, так сказать, вне пределов досягаемости зоотавров; другой получил такие же сведения от своих живущих в Калифорнии родственников; третьему удалось узнать, что в правящих сферах разрабатывается проект массового переселения в Тунис, но что его пока не решаются оглашать из боязни повредить правильной постановке дела.
И опять таки ссылались на американцев.
— Слыхали? Американское правительство приобрело в собственность, за 600 миллионов долларов, Новую Гвинею и уже приступило к усиленной колонизации ее. За истекшую неделю туда перелетели больше 2 миллионов янки. Удивительно практичный народ! Не то что наши…
Уличная печать требовала от правительства энергичных мер для организации переселения. «Будем хоть немножко американцами, — писала одна газета. — Переживаемый грозный момент властно требует напряжения всех сил. Или мы будем ждать, чтобы янки захватили и Тунис, который находится у нас под носом?..»
Тысячи людей стали устремляться к воздухоплавательным станциям. Аэромоторы, аэробусы и гигантские, 400-местные аэрокары, недавно построенные на воздушных верфях Эллиса, Дависона и Комп., брались с боя. Полиция совершенно не в состоянии была сдержать этот бурный человеческий поток. Экипажи воздушных судов тщетно убеждали толпу, что если на них набьется слишком много пассажиров, это может повести к страшным катастрофам: с энергией отчаянья, как если б они находились в охваченном пожаром здании, люди пробивались вперед, к той двери, за которой они видели спасение.
На некоторых воздушных судах экипаж с револьверами в руках сдерживал натиск толпы. Для острастки пристреливали тех, которые силой пытались проникнуть на них сверх комплекта. Но обезумевшая толпа продолжала напирать сзади, в своем остервенении часто избивая до полусмерти и даже убивая тех, которые преграждали им путь. После отлета каждого воздушного судна внизу оставались десятки раздавленных, изуродованных людей.
Катастрофы становились все чаще. Перегруженные аэробусы, аэромоторы и аэрокары то и дело терпели крушения.
Но самое ужасное пришло потом. Через несколько дней летательные аппараты стали подвергаться в пути нападению зоотавров. Вначале нападения имели место только после заката солнца, а потом стали происходить и днем. Какой-нибудь зоотавр, спустившись с фантастической быстротой откуда-то с высоты, налетал на воздушное судно, которое мгновенно охватывалось пламенем и горящей массой падало вниз, причем от находившихся на нем людей оставалась лишь груда обуглившихся костей. Люди снизу прекрасно видели все перипетии катастрофы, и мистический ужас сковывал сердца.
Но бывало и другое, гораздо более страшное; случалось, что зоотавр, вместо того, чтобы налететь на воздушное судно, поражал его на расстоянии своим смертоносным световым столбом, сущность которого составляла загадку для ученых. Астрономы, наблюдавшие за катастрофой со своих обсервационных пунктов, видели, как длинный, тонущий в облаках, сноп голубоватого света протягивался вдруг к воздушному судну, как оно в то же мгновение загоралось, превращалось в огромный пылающий факел, который зловещим заревом охватывал небо и, разбрасывая во все стороны клочья огня, стремительно падало вниз.
Казалось, что зоотавры твердо решились раз навсегда положить конец попыткам человека подняться над землей. И они этого достигли. Скоро не находилось уже охотников летать куда бы то ни было. Никакие Тунисы, Уралы и Новые Гвинеи никого уж не соблазняли. Воздухоплавательные станции, парки и верфи мало-помалу пустели; уцелевшие воздушные суда печально покачивались в нескольких жалких метрах от земли, напоминая гигантских птиц с перебитыми крыльями, которые уже не в силах были поднять их ввысь, в безбрежную гладь воздушного океана.
Еще так недавно человеку казалось, что небо вот-вот откроет ему свои великие тайны. Каждый новый успех в области воздухоплавания окрылял его новыми надеждами. В своей гордыне он уже мысленно возносился далеко за грань доступного его взору. Царь земли не на шутку собирался присоединить к своим владениям новые миры и возложить на свою главу новую корону. Но явились зоотавры — и гордые мечты рассеялись как дым. Они прогнали человека с моря и закрыли ему доступ к облакам. Они насмеялись над его гордыней и из царя природы разжаловали в жалкого раба ее, бессильнейшего из бессильных, беспомощнейшего из беспомощных. Они снова загнали его на жалкую, грязную землю и так придавили его тяжелым, как могильная плита, страхом, что он уж не решался поднять голову к солнцу.
IX
По инициативе президента Европейских Соединенных Штатов был созван в Париже международный съезд для обсуждения создавшегося положения.
Президентом в это время был председатель Европейской ассоциации инженеров, Виктор Стефен, родившийся во Франции от отца-англичанина и матери-немки, что, наряду с прочими его достоинствами, сделало его вполне приемлемым кандидатом для Франции, Англии и Германии. То обстоятельство, что в жилах его текли несколько капель итальянской крови и что один из его предков долгое время жил при дворе русского императора Александра I, еще более облегчило его избрание на пост президента Европейских Соединенных Штатов. К тому же, он пользовался огромным престижем в среде инженеров, которые в эту эпоху были всесильны и фактически правили миром.
Согласно конституции, президент Европейских Соединенных Штатов должен был жить поочередно в наиболее крупных столицах Европы, но главной его резиденцией считался Париж.
Первый налет зоотавров застал Виктора Стефена в Лондоне. Взволнованные французы потребовали его немедленного возвращения в Париж. Англичане поворчали немного, но, понимая всю неуместность конфликтов в такой ответственный момент, уступили, и президент на аэромоторе перелетел в свою постоянную резиденцию, — роскошный дворец в Булонском лесу, выстроенный лучшими инженерами Европы.
Несмотря на свою необыкновенную тучность (он весил 115 кило), Виктор Стефен проявил в эти роковые дни совершенно исключительную энергию. Дни и часто ночи напролет совещался он с представителями власти и всевозможными специалистами о мерах спасения от внезапно нагрянувшей беды, председательствовал в многочисленных комиссиях, посещал наиболее пострадавшие места, причем обнаруживал полное пренебрежение к своей личной безопасности. Парижане очень любили его и в последние дни дали ему прозвище «наш зоотавр», вкладывая в это прозвище гораздо больше любви, чем насмешки.
На президента возлагались большие надежды. Он это чувствовал и страдал от сознания своего бессилья. Часто после долгого трудового дня он не мог всю ночь сомкнуть глаз и ломал себе голову, стараясь что-нибудь придумать для борьбы с грозной напастью, нежданно-негаданно обрушившейся на землю. Мировой масштаб этой напасти требовал и борьбы с ней в мировом масштабе. Поэтому Виктор Стефен и решил созвать международный съезд.
Съезд оказался далеко не полным. К этому времени воздушные и морские сообщения были уже почти совершенно парализованы, и многие государства при всем желании не могли быть на нем представлены. Не прислали делегатов не только далекая Австралия, Африка, Канада и южно-американские государства, но даже Азия почти совершенно не была представлена на съезде: делегатам Японии, Китая, Индостана или Персии пришлось бы совершить слишком долгое путешествие, которое, при отсутствии воздушного сообщения и приостановке, во многих местах, движения по железным дорогам, являлось бы чем-то вроде экспедиции на северный полюс.
В общем, съезд вышел скорей европейским, чем всемирным. Только из Нью-Йорка прилетел на аэромоторе, несмотря на опасность такого путешествия в эти дни, представитель правительства Северо-Американских Соединенных Штатов, инженер Кресби Гаррисон, прославившийся прокладкой туннеля через Кордильеры. Впрочем, Гаррисон, хотя и родился в Америке, считал себя скорее французом: он вырос и получил образования во Франции.
— Американская кровь, которая текла в моих жилах, — говорил он, — давно уже переработана в великой лаборатории, которая именуется Парижем.
Оказался на съезде еще и какой-то чилиец, человек чрезвычайно воинственный, при разговоре грозно сверкавший глазами и делавший страшные гримасы; но говорили, что он в сущности никем не уполномочен и является делегатом не столько от Чили, сколько от некоторых увеселительных учреждений Парижа, с которыми он очень близко познакомился за последние годы.
Съезд заседал во дворце президента Стефена. Делегаты, почти без исключения люди умные, толковые, производили впечатление крайней растерянности и беспомощности. Некоторые речи наводили даже на сомнения в состоянии умственных способностей ораторов.
Так, известный авторитет по вопросам права, кенигсбергский профессор, тайный советник Отто Люциус, человек в высшей степени почтенный, импонировавший окружавшим не только своею ученостью, но и сурово сдвинутыми бровями, сухими, никогда не улыбающимися губами и всем своим видом непреклонного судьи, — внес совершенно неожиданное предложение, заключавшееся в следующем: комиссия из видных юристов всего мира должна выработать энергичный протест против варварских налетов зоотавров, затем этот протест должен быть подписан всеми видными учеными, политиками, писателями, и… с помощью световых волн пущен в межпланетное пространство.
— Быть может, мы все погибнем, — мотивировал тайный советник Отто Люциус свое предложение. — Это само по себе не важно…
Среди присутствующих пробежал ропот.
— Мне кажется, что это очень даже важно! — бросил довольно громко президент Французского металлургического общества Жан Летелье, добродушный толстяк, который очень любил хорошо поесть и попить и сам говорил о себе, что он по-мальчишески влюблен в жизнь.
— Я хотел сказать, — поправился оратор, — что с точки зрения космической наша гибель не важна; но над мирами, над всеми солнечными системами, существует — я в это глубоко верю — высшая справедливость, нечто такое, что составляет моральную основу всего мироздания. И вот, к этой высшей справедливости, так сказать, к межпланетному праву, мы и должны апеллировать. Наша гибель, а, главное, гибель всей нашей, созданной тысячелетиями культуры, не может, не должна пройти бесследно, и я поэтому предлагаю обратиться с энергичным протестом к тем планетам, до которых он может дойти…
— Предлагаю один экземпляр этого протеста передать зоотаврам! — послышался насмешливый голос.
Отто Люциус еще больше сжал свои сухие бескровные губы и посмотрел вокруг таким взглядом, который ясно говорил о том, что он, всеми уважаемый профессор права, тайный советник, попал в дурное общество. В скором времени обнаружилось, что Отто Люциус просто-напросто человек душевнобольной: первый же налет зоотавров сильно потряс его рассудок. Несмотря на это, его предложение встретило косвенную поддержку со стороны итальянского делегата, известного журналиста Джузеппе Джиованни.
— Вы вот, господа, смеетесь, а быть может, и в самом деле следовало бы попытаться… ну, столковаться, что ли, с зоотаврами, — сказал он. — Эта мысль вовсе не так абсурдна, как это может показаться с первого взгляда. Ведь зоотавры, несомненно, принадлежат к существам высшего порядка. Есть все основания думать, что они на лестнице мироздания, так сказать, стоят выше нас, а если так, то им не могут быть чужды понятия права, справедливости.
— Они это доказали! — снова раздался насмешливый возглас.
— Это ничего не доказывает! — продолжал итальянец.
— Ведь считаем же мы возможным, несмотря на наш высокий культурный уровень, охотиться за зверями и употреблять в пищу домашних животных, — именно потому, что мы считаем их существами низшего порядка. Но если бы зоотавры убедились, что мы… ну, соль земли, что ли, что мы создали блестящую культуру, сделали великие открытия…
Но оратора перебили десятки иронических возгласов.
— Пойдите убедите их!
— Интересно, каким языком вы с ними будете столковываться?
— Предлагаю уполномочить автора этого предложения для ведения с ними переговоров.
Председателю съезда, Виктору Стефену, стоило немалого труда восстановить порядок.
Только с третьего заседания дебаты приняли более серьезный деловой характер.
Группа делегатов во главе с французским генералом Болье внесла в президиум детально разработанный проект вооруженной защиты против зоотавров.
Авторы этого проекта предлагали немедленно организовать, в международном масштабе, особые боевые отряды из специалистов военного дела, химиков и техников всякого рода. В распоряжение этих отрядов должны были быть предоставлены все наличные боевые средства. Они должны были, с одной стороны, обстреливать зоотавров из дальнобойных орудий, электрическими разрядами, — с другой, — снарядами, начиненными холерными и чумными бациллами, наконец, действовать против них удушливыми газами.
— Есть все основания полагать, — защищал этот проект генерал Болье, — что меры эти окажутся действительными, — конечно, при условии применения их в самом широком масштабе, который только возможен при наших технических средствах. А средства эти чрезвычайно велики: вспомним, что в последнюю Американско-японскую войну 1962 года электрические волны, пущенные из Нью-Йорка, уничтожили почти целиком огромную японскую эскадру, находившуюся на расстоянии более 600 морских миль. Разумеется, очень возможно, что зоотаврам не страшны будут никакие волны и никакие бациллы: мы так еще мало знаем их природу, что все наши планы и гипотезы могут оказаться построенными на песке. Но, господа, нам терять нечего: мы все равно обречены на гибель и гораздо достойнее будет погибнуть, так сказать, с оружием в руках, чем пассивно отдаться на съедение этим монстрам.
Проект вызвал некоторые возражения, но в общем к нему отнеслись сочувственно. Тут же выбрана была техническая комиссия с Болье во главе для проведения его в жизнь.
Самым интересным моментом съезда было выступление знакомого уже нам делегата Северо-Американских Соединенных Штатов Кресби Гаррисона.
— Господа! — сказал он. — Поскольку мы находимся на земле, никакие стены, как бы они крепки ни были, не спасут нас от зоотавров. Мы убедились в этом на печальном опыте. Ни на воде, ни в воздухе мы тоже не можем найти спасения. Остается, поэтому, испробовать одно средство: спрятаться под землей.
Среди присутствующих послышались недоумевающие возгласы.
— Т. е. заживо хоронить себя?
— Рыть траншеи?
— Да, если хотите, рыть траншеи, — спокойно возразил Гаррисон. — Но уже, разумеется, не те жалкие траншеи, к которым люди прибегали в прежние войны и которые не могли устоять даже против ничтожных пушечных снарядов того времени. Благодарение Создателю, мы с тех пор далеко шагнули вперед. Вспомните, что при прорытии туннеля через Кордильеры…
Тут оратора прервали бурные аплодисменты.
Делегаты, как один человек, встали со своих мест и устроили Гаррисону, как главному строителю этого туннеля, горячую овацию.
— Благодарю вас, господа! — взволнованно сказал он. — Я был бы счастлив, если б вносимый мной теперь проект имел хоть сотую долю такого успеха… Так вот, при прорытии туннеля под Кордильерами пущены были в ход электрические буравы огромной силы. Недавно изобретенная моим соотечественником Кребсом землекопная машина дает возможность в какой-нибудь час, почти без приложения человеческой силы, рыть рвы для фундаментов при постройке небоскребов в несколько десятков этажей. Повторяю, мы располагаем теперь чрезвычайно мощными техническими средствами — и было бы дико, если бы мы не прибегали к ним. Рискуя вызвать иронические улыбки на лицах почтенных конгрессистов, я позволю себе сказать, что ход событий, быть может, вынудит человечество начать новую эру, которую я бы назвал подземной.
Никто не улыбнулся: оратор пользовался таким глубоким уважением, что конгрессисты не позволили бы себе такого легкого отношения к его словам. Но большинство с недоумением переглянулись.
— Видите, господа, я отчасти угадал! — продолжал Гаррисон. — Мои слова вызывают если не иронию, то недоумение. Но я все же настаиваю: человечеству придется вступить в новую эру своего существования, начать подземную жизнь. В этом, быть может, его единственное спасение. Если бы эта необходимость представилась в средние века или даже каких-нибудь 50 лет тому назад, она была бы для него равносильна неминуемой гибели; но теперь это не так уже страшно. При наличности современных технических средств люди могут позволить себе роскошь жить под землей. Не берусь пророчествовать, но мне представляется вполне возможным сооружение в близком будущем целых подземных городов, которые ни в чем почти не будут уступать надземным: с высокими домами, пожалуй, даже с небоскребами…
— Вернее, землескребами! — с улыбкой поправил Стефен.
— Да, вы правы, это уж будут землескребы, — с улыбкой же согласился Гаррисон. — Во всяком случае, наши архитекторы смогут обставлять их со всем возможным в наше время комфортом. По улицам и даже между отдельными городами будут проложены рельсовые пути. Быть может, удастся даже устроить искусственные подземные реки и озера… При современном состоянии техники такая возможность не исключена. Придется в самых широких размерах прибегнуть к изобретенным моим соотечественником и коллегой Фордом электрическим вентиляторам. Мы пользовались ими при прокладке туннеля через Кордильеры, и они дали прекрасные результаты. Я не сомневаюсь, что их удастся усовершенствовать. Во всяком случае, я глубоко убежден, что человеческий гений восторжествует над всеми этими трудностями.
Оратора слушали со все возрастающим интересом.
— На какой приблизительно глубине придется строить проектируемые вами города? — спросил один из конгрессистов.
— На триста, четыреста метров, а, быть может, и глубже, — ответил Гаррисон. — В зависимости от местных условий, от плотности подпочвы, от большей или меньшей близости моря.
— Ну, а эемледелие? — спросил Стефен. — Что вы сделаете с хлебопашеством, огородничеством, садоводством, молочным хозяйством? Ведь без всего этого проектируемые вами подземные города будут обречены на голодную смерть.
Все подняли головы в напряженном ожидании ответа. С минуту в зале царила мертвая тишина.
— Да, вы правы, уважаемый коллега! — сказал Гаррисон. — Ваш вопрос чрезвычайно важен, и ответ на него, сознаюсь, не легок. Если б дело шло о том, чтоб укрыться под землей на несколько недель и даже месяцев, вопрос о питании удалось бы более или менее удовлетворительно разрешить: как-никак, на земном шаре имеется немало продовольственных запасов. Но возможно, что человечеству придется окопаться, выражаясь военным языком, надолго, быть может, на годы…
— Или на веки вечные! — раздался скептический возглас. — Раз зоотавры повадились на землю, они, надо думать, уж не оставят ее в покое. А там, чего доброго, явятся еще какие-нибудь чудовища с Меркурия, Сатурна, Нептуна…
— Все возможно! — вздохнул Гаррисон. — И, разумеется, надо будет строиться под землей прочно и надолго. Трудность, указанная нашим уважаемым президентом, огромна; но, господа, тут вопрос стоит о жизни или смерти человечества! Одно из двух: или оно, с помощью своего гения, выйдет победителем из этого испытания, или человеческая плесень, которой, по выражению одного философа, обросла на старости наша планета, будет без остатка сметена налетевшими злыми ветрами. Человеку предстоит выдержать тяжелый экзамен, и он должен доказать, что он недаром носит гордое звание Homo sapiens. Он должен выявить свою волю к жизни, довести до максимального напряжения заложенный в нем инстинкт самосохранения.
— Да, но не может же он располагать на глубине нескольких сот метров миллионами гектаров необходимых полей, лугов, садов, огородов! — воскликнул итальянский делегат.
— Миллионами, нет, но тысячами или десятками тысяч, пожалуй, может. Придется довести до крайнего напряжения интенсивное земельное хозяйство. В этой области достигнуты уже крупные успехи. Наш британский коллега мог бы дать нам в этом отношении очень утешительные сведения: так, в Девонширском округе, где население сильно страдало от малоземелья, один акр дает теперь такой урожай, который не дальше как 20 лет тому назад собирали с 30 акров. В проектируемом мною подземном царстве надо будет в 100, в 500, в 1000 раз увеличить плодородность земли, довести ее до того, чтоб какая-нибудь тысяча гектаров могла кормить целый город. Повторяю, там, где дело идет о жизни человечества, все возможно и, главное, все должно быть возможно! — с силой воскликнул Гаррисон.
— А чем вы замените солнечный свет?
— Мы устроим искусственные солнца. — Над каждым городом у нас будет искусственное солнце, лучи которого мало чем будут отличаться от лучей настоящего солнца. Последние труды нашего знаменитого физика Гарри Беннета открывают перед нами в этом отношении самые широкие возможности.
— И дождь, и туманы, которые необходимы многим злакам, тоже будут искусственные? — не унимался итальянский делегат.
— Разумеется. Это уже деталь. Вообще, я меньше всего претендую представить здесь почтенному собранию обстоятельно, во всех подробностях разработанный проект. Я только позволяю себе наметить идею, указать возможности. Если конгресс благосклонно отнесется к моему проекту, дальнейшая его разработка, а затем и проведение в жизнь, могут быть поручены специальной комиссии.
Кресби Гаррисон выпил глоток воды, вытер пот со лба и сел.
Зал огласился дружными аплодисментами. Президент крепко пожал Гаррисону руку; многие другие конгрессисты последовали его примеру.
Заседание было объявлено закрытым, и конгрессисты, разбившись на группы, стали оживленно обсуждать проект подземного царства.
— Хуже всего придется поэтам! — говорил толстяк Жан Летелье. — Без неба они совсем захиреют.
— А что будуть делать альпинисты? — спрашивал Джузеппе Джиованни. — Придется громоздить для них искусственные Монбланы и Юнгфрау.
— Для влюбленных мы повесим искусственную луну, — шутил еще какой-то вихрастый делегат.
— А заодно уж и звезды, и белоснежные облака с золотистыми краями, и поэтические закаты солнца! — в тон ему отвечал сосед, худой, желчный господин с геморроидальным цветом лица.
— Все это хорошо, — говорил генерал Болье собравшимся вокруг него делегатам. — Но… а вдруг эти зоотавры найдут себе путь и в наше подземное царство? Ведь от этих монстров всего можно ждать. Они, чего доброго, нас на любой глубине достанут. К тому же, нам нельзя будет обойтись без некоторых… ну, отдушин, что ли, и зоотавры смогут использовать эти слабые места в наших подземных твердынях. Не забывайте, господа, что мы имеем дело с врагом, силы которого нам совершенно неизвестны.
— Ваши соображения, генерал, совершенно основательны, — начал было Гаррисон. — Я полагаю…
Но ему не удалось кончить: в эту минуту раздался характерный шум, от которого задрожали стекла огромных венецианских окон президентского салона.
— Новый налет! — послышались тревожные голоса.
Делегаты побледнели и как-то вдруг съежились, точно кто-то хватил их сзади дубиной по голове. Все инстинктивно бросились к двери.
— Господа! — обратился к ним не потерявший присутствия духа хозяин. — Я бы вам советовал не уходить. Под открытым небом еще опаснее…
Некоторые остались, но большинство бросились домой.
X.
Съезд наскоро закончил свои работы и закрылся.
О спокойной работе не могло быть и речи, тем более, что были пострадавшие и среди участников съезда. Так, бесследно исчез итальянский делегат Джузеппе Джиованни, причем самые энергичные розыски, предписанные самим Стефеном, ни к чему не привели. Норвежский делегат Амундсен погиб во время налета одного из зоотавров под развалинами норвежского посольства; делегат от России, инженер Василий Гайдаров, был унесен зоотавром в то время, когда он проходил по площади Республики. Некоторые другие члены конгресса, в том числе кенигсбергский профессор Отто Люциус, были более или менее серьезно ранены осколками рухнувших зданий.
На последнем заседании съезд наскоро, в атмосфере крайней нервности, избрал две комиссии: одну военную, под председательством генерала Болье, другую техническую, под председательством Кресби Гаррисона; этой последней поручено было выработать детальный проект постройки подземных городов, причем ей были предоставлены средства, необходимые для постройки одного из них в ближайшем будущем.
Между обеими комиссиями замечалось некоторое соревнование.
— Не торопитесь очень с сооружением вашего подземного царства, — говорил генерал Болье Кресби Гаррисону. — Я надеюсь, что нам удастся справиться с зоотаврами manu militari[4], и тогда мы сможем спокойно оставаться на земле.
Гаррисон недоверчиво качал головой.
— Я не сомневаюсь, генерал, — возразил он, — в вашем военном гении. Вы легко могли бы справиться с полчищами врагов, даже если б они состояли из дьяволов; но зоотавры хуже всяких дьяволов, и наша человеческая стратегия против них бессильна.
Военная комиссия включала до двадцати специалистов различных национальностей, главным образом из среды военных инженеров. Центральными фигурами в ней, кроме самого генерала Болье, были: комендант Парижа генерал Пардье, бравый вояка с аршинными усами и молодецкой выправкой; английский военный инженер Гленсбури, сухой, суровый, всегда говоривший и даже мысливший цифрами; известный знаток артиллерийского дела профессор Потсдамской военной академии Альбрехт Эдельштейн, про которого говорили, что он даже во сне обстреливает неприятельские крепости; наконец, испанский генерал Гонзалес Диего, инженер по образованию, необычайно любезный, вечно кланявшийся и улыбавшийся, что, однако, не помешало ему, при подавлении последнего революционного восстания в Барселоне, проявить неслыханную жестокость.
Обе комиссии, военная и подземная, как ее называли, работали в Париже, — первая в Венсеннском форте, вторая в новой Архитектурной академии, находившейся в Люксембургском саду.
Особенно много надежд возлагала улица на военную комиссию. Газеты то и дело печатали сенсационные заметки о ходе ее работ, доводя любопытство толпы до крайнего напряжения. Циркулировали самые дикие, фантастические слухи.
— По распоряжению комиссии изготовлено десять тысяч бомб огромной силы, начиненных чумными и холерными бациллами, — авторитетным тоном сообщал у стойки дешевого кабачка какой-нибудь осведомленный человек.
— Ну, знаете, я на эти ваши бомбы не очень надеюсь! — возражал один из собутыльников. — Зоотавры такие толстокожие, что никакими бациллами их не проберешь. А вот электрические разряды — это почище будет! Комиссия решила обстреливать их особыми разрядами в пять миллионов вольт.
— Пять миллионов вольт! — недоверчиво переспрашивали слушатели.
— Да-с, милостивые государи, в пять миллионов вольт! Ни одним больше, ни одним меньше. Я собственными ушами слышал это от секретаря комиссии, у которого я не дальше как вчера натирал полы.
— Странно, что в газетах об этом ничего нет, — продолжали сомневаться слушатели.
Полотер хитро усмехнулся.
— Комиссия и на пушечный выстрел не подпускает к себе газетчиков, потому что они все перевирают и только зря народ будоражат. Больше скажу: будь это напечатано в газетах, я бы первый сказал, что это вздор.
Нетерпение толпы росло с каждым днем. Каждый новый налет зоотавров с страшной силой бил по нервам ее, доводил ее до отчаяния, заставлял цепляться за самые вздорные слухи. Тысячи людей забросили свои занятия и целыми днями толпились у Венсеннского форта в страстном желании услышать что-нибудь, что подавало бы хоть смутную надежду на избавления от грозной напасти.
В своем нетерпении толпа иногда устраивала перед занимаемым комиссией зданием настоящие демонстрации.
— Генерал Болье! Пусть выйдет к нам генерал Болье! Долой комиссию! Она только нас морочит! — слышались неистовые крики.
А когда генерал Болье показывался на балконе, толпа, за минуту перед тем озлобленная, буйная, неукротимая, встречала его приветственными криками и аплодисментами.
— Да здравствует генерал Болье!
Генерал поднимал руку, и толпа затихала.
— Господа! — громким голосом человека, привыкшего командовать, бросал он вниз, в тысячи жадно слушавших его ушей. — Работы комиссии близятся к концу, но вы не должны мешать ей. Поверьте, что мы не нуждаемся в подхлестывании. Это только тормозит дело. Идите по домам и верьте, что мы сделаем все, что в наших силах.
— А скоро это будет? — любопытствовал кто-либо из толпы.
— Тем скорее, чем меньше вы нам будете мешать! — отвечал генерал.
Толпа нехотя расходилась, а на другой день приходили новые, измученные пережитыми ужасами люди, и снова бастионы Венсеннского форта оглашались нетерпеливыми криками:
— Генерала Болье! Пусть выйдет к нам генерал Болье!
Наконец, недели через две после начала работ комиссии, по городу с раннего утра распространились упорные слухи, что все приготовления ее закончены и что в ту же ночь на зоотавров будет произведено решительное нападение.
Скоро слухи эти нашли подтверждение в опубликованном газетами официальном, исходившем от военной комиссии и подписанном генералом Болье, сообщении.
Оно было составлено в форме обращения к населению.
«Парижане! — говорилось в нем. — Военная комиссия, которой поручено было выработать наиболее действительные методы борьбы с зоотаврами, закончила свои труды. Против них будут пущены в ход все имеющиеся в нашем распоряжении военно-технические средства. Комиссия надеется на успех, но ручаться ни за что нельзя, так как природа зоотавров продолжает оставаться для нас тайной.
Опыт будет произведен при первом же налете, т. е., по всей вероятности, сегодня же ночью, одновременно в Париже, Лондоне, Берлине, Риме и Мадриде. В Париже центральными пунктами атаки будут форты Венсенна, Шати-льона, Монружа и Сен-Дени, а также Эйфелева башня и Главная обсерватория.
Помимо обстрела электрическими разрядами, против зоотавров будут пущены особые снаряды, начиненные смертоносными удушливыми газами. Электрические снаряды ни в каком случае не могут повредить населению; но комиссия не может с уверенностью сказать того же относительно удушливых газов: все говорит за то, что они останутся в верхних слоях атмосферы, но благоразумие требует принятия особых мер на случай, если бы эти газы снова достигли земли. Поэтому комиссия озаботилась изготовлением необходимого количества особых защитных масок, которые будут сегодня же выдаваться желающим в Городской ратуше, во всех мэриях и полицейских участках.
О появлении зоотавров будет возвещено тремя пушечными выстрелами с Венсеннского форта. Населению рекомендуется немедленно укрыться в закрытых помещениях и ни в каком случае не толпиться на улицах, так как, если удастся поразить насмерть этих монстров, они при падении своем могут причинить немало несчастий.
Комиссия надеется, что население славного города Парижа даст, в эти дни тяжелых испытаний, новое доказательство своего благоразумия и хладнокровия».
Увы! Население славного города Парижа встретило это сообщение не совсем благоразумно и еще менее хладнокровно. Оно взбудоражило столицу, обратило ее в сплошной ком нервов, взбаламутило до самого дна море человеческое, возбудив тысячи фантастических надежд и опасений. На всех углах, в тавернах, на улицах и площадях шли бесконечные толки и пересуды. Осведомленные люди, которые Бог знает откуда черпали свои сведения, делились ими со своими слушателями с таким видом, точно для них во всей вселенной не существовало тайн.
— Атака на зоотавров будет произведена только в Париже! — говорил кто-нибудь из этих господ авторитетным тоном.
— Как! — возражали ему. — Ведь в официальном сообщении сказано, что одновременно опыт будет сделан в Берлине, Лондоне, Риме, Мадриде.
— Обман! — безапелляционным тоном решал всеведущий господин. — Это нам очки втирают. Ни одно другое государство не согласилось на такой рискованный опыт. Из-за этого в комиссии были большие скандалы. Генерал Болье даже грозил выходом в отставку. Англичане, как всегда, прячутся за нашей спиной: вам, дескать, честь и место, господа французы! Выньте для нас каштаны из огня, а если вкусны будут, мы их скушаем на здоровье! Да-с! А нам, поверьте, это здоровья не прибавит.
— Ну уж, терять-то нам особенно нечего! — замечал кто-либо из слушателей.
— Не говорите, мой друг! — отвечал осведомленный господин. — Ведь зоотавры, как по-вашему, существа разумные или нет?
— Ну, допустим, разумные.
— Не допустим, а много разумнее нас с вами. Ну-с, а если так, они пораскинут мозгами, да и скажут себе: «Никто, кроме французов, не дерзнул полезть с нами в драку. Драчливый народец, надо будет хорошенечко проучить его!» — Да-с, милостивые государи! А англичане, немцы и прочие там народы в сторонке останутся. Удастся опыт — тем лучше, а нет — пускай, мол, французы за разбитые горшки платят.
— А вы заметили, господа? — обращался к собравшейся вокруг него толпе другой осведомленный человек. — В сообщении комиссии ни слова нет о бомбах, начиненных бациллами! Спрашивается, почему? Почему в борьбе с зоотаврами не прибегнуть к такому верному средству?
— Но ведь бациллы могут распространить заразу на землю! — робко замечал один из слушателей.
— Совершенно верно! — отвечал осведомленный человек. — Но знаете ли вы, кому в первую голову грозила бы при этом опасность?
— Кому?
— Англичанам или немцам.
На лицах слушателей изображалось недоумение.
— Да-с, англичанам, немцам, итальянцам и вообще, нашим непосредственным соседям, так как пораженные этими снарядами зоотавры, прежде чем околеть, успели бы долететь в одну из пограничных с нами стран, а, следовательно, и занести туда заразу. Не надо забывать, что путь из Парижа в Лондон, скажем, они могут сделать менее, чем в одну минуту! Ничего, поэтому, удивительного нет, если участвующие в комиссии иностранцы решительно воспротивились применению начиненных бациллами бомб.
Под влияниям таких толков в толпе скоро стало наблюдаться враждебное настроение к иностранцам, в частности, к англичанам. Около 6 часов вечера перед зданием британского посольства была даже устроена небольшая враждебная демонстрация. Слышались крики:
— Долой англичан!
— Пускай убираются в свой Лондон!
Кто-то бросил в окно посольства камень. За ним последовал другой, третий. Положение осложнялось. Из посольства вызвали по телефону полицию, но в эти бурные дни полиция предпочитала держаться в стороне от всяких конфликтов и не очень спешила на зов.
Когда толпа, поощряемая полной безнаказанностью, собиралась уже ворваться в само здание посольства, посольскому швейцару пришла счастливая мысль: сбросив с себя ливрею, он вышел задним ходом на улицу, смешался с демонстрировавшей толпой и вдруг крикнул во всю силу своих легких:
— Зоотавры!
Охваченная паникой толпа бросилась врассыпную. Через минуту площадь перед посольством опустела, точно выметенная гигантской метлой.
Полчаса спустя, когда президент Стефен, которому доложили о бесчинствах толпы перед британским посольством, встревоженным тоном спросил по телефону префекта города Парижа, в каком положении дело, тот ответил:
— Успокойтесь, г. президент: благодаря энергичным мерам полиции, толпа рассеяна и порядок восстановлен.
XI
Было 9 час. 37 минут ночи, когда с Венсеннского форта раздались, один за другим, три пушечных выстрела.
Гулкими раскатами пронеслись они над городом и предместьями, неся с собой смертельную тревогу и страх, от которого сжималось в жалкий комочек сердце, подгибались колени и высыхало во рту.
— Бу-ум! Бу-ум! Бу-ум! — торопливо проревела в три приема старая, видавшая виды пушка; эхо подхватило этот зловещий набат, брошенный в мрак ночи, и в то же мгновение ударило им по миллионам сердец, которые забились, как птицы в клетке, вспугнутые каким-либо хищником.
— Зоотавры! — пополз со всех сторон тревожный шепот.
Огромный человеческий муравейник был взбудоражен, как ни в один из прежних налетов: сегодня предстоял решительный бой между людьми и этими страшными, таинственными пришельцами из неведомых, лежащих за гранью доступного человеку миров. Сегодня, быть может, решалась судьба человечества вообще: если оно выйдет из этой борьбы победителем, оно останется властелином Земли; если же, несмотря на напряжение всех своих материальных и духовных сил, оно окажется беспомощным, царству его наступит конец, и оно будет стерто с лица земли подобно тому, как придорожная пыль или мгновенная зыбь на гребнях волн морских сметаются налетевшей внезапно бурей.
Недавно еще оживленные, наполненные шумом и гамом улицы опустели. Люди бежали домой, к родным очагам или же, если они были слишком далеко от дома, прятались в первые попавшиеся ворота или станции подземной железной дороги. У большинства были в руках маски для защиты от удушливых газов, но их мало кто одевал: осведомленные люди, которые знают решительно все на свете и которые в тревожные дни всегда находят достаточно легковерных слушателей, уверяли, что маски эти — вздор и что они никого и ни от чего защитить не могут.
Едва успели замолкнуть пушечные выстрелы, раздался хорошо уже знакомый парижанам характерный шум парящих в высоте зоотавров.
Миллионы людей, затаив дыхание, ждали: вот-вот должно совершиться нечто огромное, решающее вопрос о жизни и смерти. Многие не вытерпели и стали выглядывать в слегка приоткрытые двери, в окна и с балконов. Острое любопытство, побуждающее солдат высовываться из окопов с риском быть убитыми пулей залегшего поблизости неприятеля, было сильнее страха смерти и, казалось, заглушало даже инстинкт самосохранения. Несколько минут спустя на тротуарах, у ворот домов, у входов в станции подземной железной дороги толпились сотни, тысячи людей. Головы, точно по команде, были высоко подняты, глаза устремлены в темный небосклон. Казалось, тут собрались толпы язычников для совершения какого-нибудь религиозного таинства. Небо было облачное, без луны и без звезд, без красок и бликов, как если бы какой-нибудь таинственный декоратор позаботился о создании мрачного фона для предстоящей драмы.
Париж затих, затаил дыхание и походил на гигантское кочевье, завороженное каким-нибудь волшебником.
Только сверху, с большой высоты, доносился заглушенный расстоянием шум. Он становился все ближе, все явственнее можно было различить гигантские серые громады хищников, которые плавно и медленно реяли над городом, как бы высматривая в нем добычу.
— Чего же они не начинают? — слышался там и сям нетерпеливый шепот.
— Быть может, уже началось! — шепотом же отвечали другие. — Это пальба бесшумная…
Как бы для того, чтобы опровергнуть это утверждение, высоко в воздухе раздалось вдруг резкое шипенье, точно от огромной ракеты или от брошенного в воду раскаленного докрасна железа. В то же мгновение длинная, зигзагообразная молния пронизала серые тучи и тотчас же погасла, как гаснет вырвавшаяся из под груды пепла искра.
— Вот оно! началось! — сдавленным вздохом вырвалось из тысяч грудей. — Это с Венсеннского форта.
Серые громады зоотавров продолжали как ни в чем не бывало парить над городом.
За первой молнией со свистом и шипением прорезала воздух вторая, на этот раз уже с запада, со стороны Ша-тильона, потом третья, четвертая, пятая. Ослепительно яркие, острые как дамасский клинок, веселые, буйные, они беспрерывно следовали одна за другой, скрещивались и налетали друг на друга, зловещим заревом освещая серые тучи. Казалось, что там, на высоте, разыгралась бешеная, еще не виданная людьми гроза.
— Это с форта Монруж! — слышались возбужденные возгласы.
— Нет, с Сан-Дени!
— С Эйфелевой башни!
— Смотрите, смотрите! Попало! Прямо в зоотавра!
— А вот еще!
Действительно, многие из посылаемых с земли молний попадали прямо в зоотавров; но они тотчас же гасли, как гаснет, коснувшись воды, искра. Зоотавры продолжали спокойно парить над городом, словно забавляясь придуманной людьми потехой.
Каждый раз, как какая-нибудь молния попадала в цель, люди испуганно шарахались в сторону.
— Вот-вот упадет! — слышались тревожные крики.
Но зоотавры не падали, и ропот разочарования проносился по разбросанным там и сям клубкам человеческих тел.
— Еще бы! Проберешь его этими токами!
Вдруг по воздуху с треском пронесся длинный, цилиндрической формы снаряд. За ним, точно по команде, с разных концов горизонта появились другие.
— Это цилиндры с удушливыми газами! — догадались толпившиеся внизу люди.
— Неужели и этим их не возьмешь?
— Где уж!
— Маски, маски одевайте!
Многие, у которых были с собою маски, стали торопливо, дрожащими, непривычными руками, одевать их. Некоторые бросились в соседние подъезды, ворота, всюду, куда только можно было укрыться. Были и такие, которые с философским презрением к опасности оставались на месте, с открытыми лицами, словно бросая вызов всем враждебным силам. Какая-то пожилая женщина, по-видимому, из народа, впала вдруг в состояние исступленного восторга; неистово размахивая руками, с развевающимися волосами, она перебегала от одной группы к другой и кричала визгливым, надорванным голосом:
— Вот они! Вот они! Они идут спасать мир.
Кюре, в черной, до пят, сутане, с обнаженной седой головой и большим распятием в руке, тоже бесстрашно переходил от группы к группе и охрипшим голосом звал людей к последнему покаянию.
— Безумцы! — злобно кричал он. — Вы в гордыне своей возомнили, что их можно поразить вашими глупыми человеческими выдумками. Вы, жалкие слепцы, дерзнули поднять руку на аггелов Божиих, пришедших творить волю Его!..
— Спасайтесь! Снаряды падают вниз! — послышались вдруг крики.
Действительно, некоторые наполненные удушливыми газами цилиндры, достигши цели, т. е. ударившись со страшной силой в того или другого зоотавра, отскакивали от него, как пуля от непроницаемой брони и, несколько мгновений спустя, с треском падали на землю, отравляя на большое расстояние вокруг воздух. Сотни толпившихся на улицах любопытных, преимущественно из тех, у кого не было защитных масок, корчились в страшных судорогах на мостовой и на тротуарах; другие, цепляясь за фонарные столбы, деревья и решетки домов, делали отчаянные попытки удержаться на ногах и добраться до какого-нибудь прикрытия. Сумасшедшая женщина, кричавшая, что зоотавры пришли спасать мир, лежала на мостовой мертвая, с размозженной об остроконечную железную тумбу головой. Старый кюре, который призывал к покаянию, корчился в агонии на тротуаре, крепко зажимая в коченеющей руке распятие.
С того момента, как с Венсеннского форта пущен был в зоотавров первый электрический ток, прошло не более двух минут, но в эти две минуты, в продолжение которых люди, казалось, прожили целую вечность, исход борьбы определился с трагической, не оставляющей никаких сомнений ясностью.
Генерал Болье, лично руководивший обстрелом с Вен-сеннского форта, стоял бледный, со стиснутыми в бессильной ярости зубами, сразу как-то вдруг постаревший и поблекший.
— Кончено! — глухо простонал он, когда один из цилиндров с удушливыми газами, пущенный, по-видимому, с одного из западных фортов, с треском упал где-то совсем близко от Венсенна. — Мы бессильны. Они сильнее нас и смеются над хваленым человеческим гением, над всей нашей техникой и стратегией.
Он со стоном опустился на стул, схватился обеими руками за голову и стал медленно, методически раскачивать ее, как человек, страдающий от жестокой зубной боли.
— Они сильнее нас! Они сильнее нас! — без конца повторял он. — И они погубят человечество! Погубят со всем, что создано человеческими руками, с культурой, философией, великими проблемами…
Вдруг он разразился буйным, неудержимым смехом.
— Ха-ха-ха!.. Аристотель, Ньютон, Шекспир, Толстой. Десятки, сотни тысяч лет культурного строительства, гордые мечты, дерзкие искания. Ха-ха-ха!
Окружающие с тревогой бросились к нему.
— Генерал, что с вами? Успокойтесь!
Он резким жестом отстранил подошедших к нему, выпрямился во весь рост и громовым голосом воскликнул:
— Но я не позволю! Я спасу человечество! Я один пойду на этих монстров — и мы еще посмотрим, чья возьмет!… Ха! Они вообразили, что без труда справятся с нами! Ну нет, подавятся! Пустите меня! Я им дам такой урок, что… Да пустите же! Пустите меня к ним! Или вы с ними заодно?..
Он вдруг повернулся к крепко державшим его за руки коллегам, пристально взглянул каждому в лицо и в отчаянии, со слезами в голосе, закричал:
— Так вот оно что! Теперь мне все ясно… Изменники! Предатели! Иуды продажные! За тридцать сребреников вы продали людей, весь род человеческий, с его культурой, с его гением… Боже мой, Боже мой…
И он разразился потоком тихих, скорбных слез, — слез бессилья, отчаяния и стыда за своих близких.
Несчастного генерала Болье с трудом уложили и поручили надзору двух офицеров.
Между тем обстрел, за полной бесполезностью, прекратился со всех фортов.
Минуту спустя там и сям, высоко в воздухе, замелькали блуждающие огоньки. Почти в то же мгновение послышались десятки взрывов.
— Эта наша летучая эскадра! — говорили смотревшие с фортов в бинокли члены военной комиссии.
— Безумцы! Они все погибнут!
— И погибнут зря!
Действительно, это была летучая эскадра Парижа. За несколько дней до этой роковой ночи делегация от состоящих в ней авиаторов явилась в военную комиссию с просьбой разрешить им, на собственный страх и риск, совершить нападение на зоотавров с помощью бросаемых с аэропланов сильных разрывных бомб.
Генерал Болье, от имени комиссии, пытался отговорить смельчаков от этой попытки.
— Вы все рискуете жизнью без всякой пользы для дела, — сказал он им. — Одно из двух: или зоотавры уязвимы, — и тогда мы их доконаем без вашей помощи, электрическими разрядами и удушливыми газами; или же наши боевые средства бессильны против них, — в таком случае и вы ничего не сделаете с вашими бомбами.
— Возможно, что обстрел сверху окажется более действительным, чем обстрел снизу, — возразили делегаты. — Необходимо все испробовать!
— Вам, конечно, известно, что зоотавры обладают способностью разить на расстоянии? — спросил генерал.
— Да, генерал.
— И что они своим дьявольским жалом обращают в горящие факелы сотни воздушных судов?
— Да, генерал.
— И все же вы решаетесь меряться с ними силой в воздухе?
— С вашего разрешения, генерал.
Генерал Болье пожал плечами.
— Как угодно, господа. Комиссия вам препятствовать не будет, — сказал он.
На прощание он крепко пожал делегатам руки, как людям, обреченным на верную смерть.
И в роковую ночь с полсотни смельчаков, большей частью юношей, поднялись на своих аппаратах высоко в воздух. Над Парижем зажглись десятки блуждающих огоньков, которые людям снизу казались такими же высокими, как звезды. Один за другим трещали взрывы, заглушенным эхом доходившие до земли. Многие бомбы разрывались на спине того или иного зоотавра, и тогда в бинокль можно было видеть легкое, вспыхивающее над чудовищем зарево.
Но зоотавры как бы не замечали этого и по-прежнему легко и плавно парили в воздухе. Потом, словно наскучив этой детской забавой, они решили положить ей конец. Своими длинными световыми жалами они стали обшаривать небо, нащупывая жалкие игрушки, с которых люди дерзнули покушаться на них. В ту же минуту ярким пламенем вспыхнул один аэроплан, потом другой, третий, четвертый. Воздух огласился треском взрывавшихся от огня сотен бомб. Гигантские пылающие факелы, далеко отбрасывая от себя зловещее зарево и разбрасывая клочья огня, полетели вниз. Все небо казалось охваченным пожаром. И в зареве его по-прежнему спокойно продолжали реять зоотавры.
Смельчаки из летучей эскадры, все до одного, погибли ужасной смертью.
Все это произошло так быстро, что люди внизу не успели опомниться. И в то время, как они полными ужаса глазами смотрели на горящие факелы, зоотавры вдруг тяжелыми серыми громадами бросились вниз, на побежденный, придавленный отчаянием город.
Этот налет превзошел по своей жестокости все предшествующие. С дикой, злобной радостью крылатые монстры расшвыривали крепкие многоэтажные здания, эти жалкие твердыни, которые казались людям такой надежной защитой, и губили тысячи жизней.
Наутро красавец Париж, над созиданием которого трудились сотни поколений, был обезображен грудами бесформенных развалин, как если б он всю ночь подвергался жестокому обстрелу тысяч тяжелых орудий. Сильно пострадал Лувр, безобразными массами исковерканного железа повисли над землей и над соседними домами останки гордой Эйфелевой башни, в руины обращен был царственный Пантеон, сотнями зияющих ран вопиял к небу великолепный дворец Городской ратуши, стены которой были свидетелями стольких славных дел и великих потрясений.
Париж погибал, истекал кровью, терял последние силы. Но город-великан, всегда такой жизнерадостный, в жилах которого столетиями буйно и весело переливалась кровь народов всего мира, все еще не сдавался, судорожно цеплялся за жизнь. Оставшиеся в живых бродили среди беспорядочно нагроможденных развалин, словно на пепелище, откапывали мертвых, спасали раненых; в головах уже зрели новые планы, на смену разбитым надеждам приходили другие. Так среди руин, сквозь узкие щели меж серыми, обросшими мхом камнями, пробивается молодая травка и неуклонно тянется к солнцу.
XII
На следующее утро во дворце президента Стефена было созвано экстренное собрание.
В высоком салоне в два света, со строгими колоннами и позолотой на стенах, казалось, витал ангел смерти. Он накладывал свою печать на лица, заставлял сурово сдвигать брови, низко клонил головы и вкладывал глубокую тоску в самые обыденные фразы. Люди, собравшиеся за длинным, покрытым синей скатертью столом, казались такими жалкими, беспомощными в этом огромном пустом зале. Стоявшие вдоль стен белые мраморные бюсты великих людей сурово смотрели на своих потомков, как бы насмехаясь над их бессильем и с немым укором спрашивая их, неужели они отдадут на поток и разграбление все великие, такой тяжелой ценой добытые завоевания культуры.
— Господа! — открыл собрание Стефен, бледный и так сильно осунувшийся, что сюртук висел на нем мешком. — Нас осталось немного. Мы здесь недосчитываемся многих из достойнейших наших коллег. Я только что получил сообщение, что умер в больнице, в страшных муках, председатель военной комиссии генерал Болье. Мир праху его!
Все встали и молча простояли с минуту, закрыв рукой глаза, словно они боялись увидеть призрак смерти, который, казалось, смотрел из всех углов огромного зала.
— Погиб под развалинами форта Шатильон и комендант города Парижа, генерал Пардье, вместе со своим адъютантом капитаном Лемонье.
Присутствующее снова встали.
— Есть основания думать, что погибли или искалечены еще некоторые из наших коллег, хотя точных данных у меня пока еще не имеется. Как бы то ни было, мы понесли немало тяжких утрат. Мы остаемся, в некотором роде, последними могиканами. Не сегодня-завтра, быть может, погибнем и мы, но пока в нас еще бьется сердце, мы должны напрячь все силы для спасения человечества от грозной опасности. Опыт вооруженной борьбы с зоотаврами потерпел трагическую неудачу. Он показал нам, что вся наша военная техника, которая, казалось, достигла такого совершенства, разбивается о неведомую природу этих чудовищ и имеет не больше значения, чем картонный меч в борьбе с закованным в броню великаном. И мы раз навсегда должны сказать себе, что меряться с ними силами мы не можем. Нам остается только покинуть поле битвы и уйти. Куда? Об этом нам тут, так красноречиво и убедительно, говорил наш уважаемый коллега и мой дорогой друг Кресби Гаррисон. Слово теперь за ним и за комиссией, которая имеет честь называть его своим председателем. От имени собрания я прошу вас, дорогой Гаррисон, сказать нам, как подвигаются работы вашей комиссии.
Кресби Гаррисон встал, залпом выпил стакан воды и взволнованным голосом начал:
— Да, господа, нам приходится бежать с поля битвы, т. е. покинуть землю, на которой долгими тысячелетиями жило человечество, которую в поте лица своего застраивали и культивировали наши далекие пращуры, наши прадеды, деды и отцы, и которую мы надеялись передать, еще более прекрасной, с умноженными богатствами, нашим потомкам. Покинуть землю… Каждому из смертных приходится раньше или позже покидать землю, но она все же остается достоянием рода человеческого, переходит по наследству от поколения к поколению; теперь же дело идет о поголовном уходе с нее, и в этом великая, небывалая еще в истории трагедия. Нас гонят, точно с какого-то случайно, близ дороги, раскинутого кочевья, а ведь этому кочевью десятки, сотни тысяч лет! Как бездомному страннику, роду человеческому приходится взять в руки посох и искать нового убежища…
Голос Гаррисона пресекся от волнения, и он нервно стал теребить свой галстук, как если б он душил его.
— Простите мне, господа, эти, быть может, неуместные ламентации, — продолжал он. — Все в нас кричит и протестует против совершаемого над нами чудовищного насилия. То кричат и протестуют наши предки, длинный ряд поколений, создавших и завещавших нам богатую, многовековую культуру. Эти прекрасные здания, эти царственно тянущиеся к небу башни, эти переброшенные через реки, проливы и пропасти мосты, эти с такой любовью культивируемые леса, парки, все, в чем воплотился гений человеческий, все это мы должны покинуть, уйти в землю, зарыться подобно кротам…
Голос опять изменил Гаррисону; он залпом выпил еще стакан воды, превозмог себя и через минуту продолжал:
— Но перейдем к делу. Да, мы должны уйти под землю. Другого убежища у нас нет. Перед нами стоит вопрос о лучшем устройстве нового, подземного кочевья для рода человеческого. Комиссия, в которой я имею честь председательствовать, энергично работала все эти дни, и труды ее значительно подвинулись вперед. У нас уже имеется совершенно законченный проект постройки подземных городов. Произведены самые точные вычисления, все взвешено, предусмотрено, но мы не обольщаем себя иллюзиями; мы знаем, что в процессе работ представятся многие непредвиденные трудности: дело ведь такое новое, необычное! В виде опыта мы немедленно приступим к постройке подземного города под Парижем. В нашем распоряжении уже имеются мощные кребсовские машины для выемки земли, усовершенствованные вентиляторы, насосы. Потребуются громадные денежные средства, но, разумеется, там, где вопрос идет о жизни и смерти, перед этим не приходится останавливаться: мы должны отдать последнее наше достояние, напрячь все наличные силы, пожертвовать всем.
— В какую приблизительную сумму это может обойтись? — спросить один из присутствующих.
— На первых порах мы решили ограничиться постройкой небольшого города, в две параллельных улицы, в полтора километра длины каждая, по пятьсот шестиэтажных домов на каждой. По нашим расчетам, в них можно будет поселить около 150 тысяч человек. Разумеется, придется немного потесниться: всякая семья будет иметь право maximum на две комнаты — по крайней мере, на первых порах. Если опыт удастся, можно будет немедленно приступить к прокладке новых улиц и постройке новых домов. И вот, по выработанной нами смете, сооружение такого города с тысячью 6-ти этажных домов, построенных по последнему слову архитектуры, со всем современным комфортом, потребует без малого пяти миллиардов франков. В дальнейшем, при прокладке новых улиц и постройке новых домов, расходы эти будут уж не так велики, но все же очень значительны. Мы высчитали, что для постройки под землей, так сказать, копии Парижа, т. е. для переселения всех шести с половиной миллионов парижского населения под землю, пришлось бы построить около сорока тысяч шестиэтажных, или около двадцати пяти тысяч десятиэтажных домов, что обошлось бы по меньшей мере в 90-100 миллиардов франков. Правда, население Парижа, благодаря налетам зоотавров, сильно поредело и, надо полагать, жертв будет еще немало. По имеющимся, далеко не точным данным, в среднем ежедневно погибает без малого шесть тысяч человек, и если дальше так пойдет…
Голос оратора пресекся от волнения. Среди слушателей послышались вздохи.
— Во всяком случае, — продолжал Гаррисон, — придется строить под землей убежище для миллионов людей, тем более, что население Парижа пополняется беженцами из объятой паникой провинции. Не надо также забывать, что Париж еще не вся Франция. Если опыт подземного города удастся, придется строить такие же города под Лионом, Марселем, Бордо, Лиллем, Нантом и пр. Это потребует колоссального, небывалого напряжения всех материальных сил страны, а так как государство не в состоянии нести такие огромные расходы, надо будет наложить руку на частные капиталы. Если бы среди капиталистов оказались безумцы, которые из жадности отказались бы добровольно отдать на это великое дело все свои наличные средства, к ним придется применить силу: в такой трагический для человечества момент не должно быть богатых и бедных. Зоотавры всех нас уравняли!
— Браво! совершенно верно! — раздались одобрительные возгласы.
— Там, под землей, — продолжал, повысив голос, Гаррисон, — по всей вероятности, снова всплывет социальный вопрос, снова пойдет неравенство, классовая борьба, вечная война между угнетающими и угнетенными, с революциями, с захватами власти, диктатурами и пр. Но сойти под землю, в наше новое убежище, мы должны равными, как первобытные люди, как если б мы только что появились на земле.
— Т. е. под землей! — с улыбкой поправил Стефен.
— Да, под землей, — согласился Гаррисон. — Итак, я говорю, что социальный вопрос, вокруг которого велась и ведется такая ожесточенная борьба, должен быть в настоящий момент, так сказать, автоматически решен. Этого повелительно требует положение. Все частные капиталы, точно так же, как склады строительных материалов и зерна, пищевых продуктов и пр., должны быть немедленно объявлены полной собственностью государства. Население начинает страдать от голода, и было бы дико щадить в такой момент богачей, не знающих, куда девать свои богатства. Все частные предприятия должны быть национализированы и работать под непосредственным контролем государства на общую пользу. Все наличные припасы должны поровну распределяться между всеми. Вы скажете, что это социализм? Пусть. Не будем бояться слов. Станем социалистами, коллективистами, коммунистами, чем угодно: дело идет о спасении рода человеческого от гибели. От нас требуется небывалое напряжение всех сил, возможное только при дружной совместной работе, а для этого необходимо, чтобы люди чувствовали себя равными во всем. Должна быть объявлена всеобщая трудовая повинность: для постройки подземных городов потребуются сотни тысяч, миллионы рабочих рук. Всякий должен содействовать делу по мере сил и способностей. Нашим лозунгом должно быть: все для всех! Все наличные силы на великое дело спасения человечества!
Раздались долго не смолкавшие аплодисменты. К оратору со всех сторон тянулись для пожатия руки.
— У нас все готово для того, чтоб немедленно приступить к работам, — продолжал он после небольшой паузы. — Средства, отпущенные в наше распоряжение, правда, очень ограничены: всего лишь три миллиарда франков. Но для начала этого достаточно. Чтобы работы в дальнейшем не тормозились, я буду покорнейше просить, от имени комиссии, чтобы были приняты энергичные меры к изысканию новых средств. Кстати, поделюсь с вами сообщением, которое я сегодня получил из Нью-Йорка: там тоже решено приступить к постройке подземного города. Работами будет руководить особая комиссия инженеров, во главе которой стоит мой друг Вильям Грант. По национальной подписке собрано было в несколько дней около полутора миллиардов долларов, но так как этой суммы недостаточно, то решено реквизировать, для начала, 75 процентов всех крупных частных капиталов. Большинство фабрик и заводов уже национализированы. Объявлена всеобщая трудовая повинность, уклонение от которой влечет за собой суровые кары.
— Когда вы можете приступить к работам? — спросил Стефен.
— Мы бы их давно уже начали, но нам предложено было подождать результатов опыта военной комиссии. Теперь нам больше ничто не мешает, и я полагаю, что завтра же с утра можно будет взяться за дело.
— На какой приблизительно срок рассчитаны работы?
— При условии объявления всеобщей трудовой повинности, т. е. при наличности достаточного количества рабочих рук, земляные работы в указанном мною масштабе, т. е. для прокладки двух улиц в полтора километра каждая, могут быть закончены в две-три недели, тем более, что работы будут вестись одновременно с разных пунктов города. Что касается постройки домов, то к ней будет приступлено тотчас же после того, как нам удастся вырыть хотя бы небольшой участок, так что строительные и земляные работы будут вестись почти параллельно. Весь вопрос только в достаточном количестве рабочих рук.
— Хорошо! — сказал Стефен. — Вы их будете иметь. Я сегодня же экстренно созываю кабинет министров, и завтра же рано утром по городу будет расклеен декрет о всеобщей трудовой мобилизации.
— Прекрасно! — ответил Гаррисон. — Я, в свою очередь, созову тотчас же комиссию, а также всех намеченных архитекторов, и мы займемся распределением ролей, доставкой на место машин и пр. Работы будет немало, но у нас имеется в распоряжении целая ночь.
XIII
Ночью опять имел место жестокий налет зоотавров, от которого особенно сильно пострадал левый берег Сены и который стоил жизни по меньшей мере шести тысячам человек.
Кабинет министров и подземная комиссия работали, под грохот рушившихся зданий, почти всю ночь напролет. Спешно был напечатан в государственной типографии, и к семи часам утра уже расклеен, декрет о трудовой мобилизации.
В первую очередь обязаны были явиться все безработные, люди без определенных занятий, рабочие предприятий, вырабатывающих предметы роскоши, служащие и приказчики модных магазинов, театров, цирков, синематографов, кабаре, дансингов, кафе-шантанов и других увеселительных заведений, а также рантье, банкиры, артисты, поэты, музыканты, художники. Изъяты были от трудовой повинности только рабочие и служащие предприятий, вырабатывающих предметы первой необходимости. Были мобилизованы для работ даже солдаты и офицеры, причем только десятая часть парижского гарнизона была оставлена для поддержания порядка в столице.
Все подлежащие трудовой повинности обязаны были явиться в тот же день, не позже полудня, в соответствующие мэрии, где им выдавали нужные инструменты и рабочие блузы, если у них не было собственных.
Не явившиеся к сроку карались конфискацией всего имущества и заключением в тюрьму на все время продолжения работ по постройке подземного города.
Почти одновременно был расклеен по городу другой декрет, в силу которого все частные капиталы облагались прогрессивным налогом в размере от 30 до 80 процентов.
Оба эти декрета вызвали в городе огромную сенсацию. Возбужденные толпы народа собирались у стен и столбов, на которых они были наклеены, и горячо обсуждали их содержание.
Блузники ликовали.
— Наконец-то! — говорили они. — Зоотавры ввели всеобщее равенство. Давно пора!
Группа анархистов попыталась было использовать благоприятный момент и обращалась к толпе с зажигательными речами.
— Товарищи рабочие! — кричал один из них, взобравшись на тумбу и отчаянно жестикулируя. — Власть дезорганизована, буржуазия растерялась и готова сдать свои позиции. Такой момент вряд ли когда-либо повторится. Используем же его, товарищи рабочие! Сметем с лица земли последние остатки буржуазного владычества и на развалинах его водрузим наш стяг, стяг действительной свободы, равенства и братства! Нашими мозолистыми руками мы построим баррикады и дадим решительный бой нашим вековым угнетателям…
Увы! Эти речи не находили никакого отклика в сердцах толпы, и мозолистые руки продолжали спокойно оставаться в карманах брюк.
— Какие там баррикады! — благодушно усмехались ра-бочия. — Все равно зоотавры их разметают. А что касается развалин, то их, слава тебе Господи, немало теперь в Париже: иди и водружай себе на здоровье какие хочешь стяги.
Если декреты вызвали ликование в бедняках, то господа в рединготах и лайковых перчатках хмурились и ворчали.
— Это что же такое! Это уж хуже всякого социализма! — говорили они. — Только бунтовщикам да всяким агитаторам на руку!
На собрании, в спешном порядке созванном союзом «Друзей порядка», в который входили почти исключительно фабриканты, банкиры и крупные рантье, возбуждение умов достигло крайнего предела.
— Это возмутительно! — задыхаясь от гнева, кричал знаменитый «стальной король», Адольф Прюно, маленький толстый человечек с апоплексической шеей и выпуклыми рачьими глазами, испещренными сетью красных жилок. — Мы должны протестовать со всей энергией. Пусть там не забывают, что на нас держится вся промышленность, вся экономическая жизнь страны. Сегодня у меня отбирают 80 сантимов с каждого франка, а завтра, чего доброго, и остальное заберут. Вдобавок, многие из членов нашего Союза должны одеть блузу и идти копать землю рядом с какими-нибудь золоторотцами…
После долгих дебатов выбрана была делегация, которой было поручено сегодня же добиться свидания с президентом Стефеном и вручить ему обстоятельно мотивированный протест союза «Друзей порядка».
Стефен принял делегацию довольно сурово и от чтения протеста отказался.
— Мне некогда! — заявил он. — У меня каждая минута на счету. Говорите, в чем дело.
— Но, господин президент…
— Никаких «но»! Вы пришли хлопотать об отмене или смягчении опубликованных сегодня декретов? Да? В таком случае возвращайтесь к тем, которые вас послали, и скажите им от моего имени, что декреты останутся во всей своей силе и будут проводиться самым неуклонным образом. Больше скажу: очень возможно, что не сегодня-завтра мы объявим все капиталы, вплоть до последнего сантима, национальным достоянием. Тем хуже для вас и ваших друзей, если вы даже в этот трагический момент не можете возвыситься над узким, чисто шкурным эгоизмом!
— Но помилуйте, господин президент… Ведь эти декреты…
— Довольно! — резко перебил Стефен. — Я только считаю нужным предупредить вас, что за малейшее неподчинение или сокрытие истинных размеров капитала виновные будут заключены в тюрьму и с ними будут обращаться хуже, чем с ворами и убийцами. Об этом уж я позабочусь. Прощайте!
И он повернулся и вышел.
Уже с раннего утра мэрии были осаждены густыми толпами народа. Тысячи людей спешили ответить на призыв о трудовой мобилизации.
Преобладали рабочие, солдаты, мелкие ремесленники. У большинства вид был подавленный; но немало было и таких, которые смеялись, обменивались остротами.
— Эвона сколько народу валит! Этак мы, чего доброго, и до Америки докопаемся!
— Мы тута, а они там у себя в Нью-Йорке будут копать, — Бог даст, и встретимся!
— То-то на кротов страха нагоним!
— Дружбу с ними заведем: сами в кротов обратимся.
Тут же, в толпе, хмурые и пришибленные, стояли в ожидании очереди мобилизованные рантье, фабриканты, банкиры. Простой люд добродушно трунил над ними.
— Что, господа? И вас в работу запрягают? Ничего, это полезно.
— Вроде гимнастики!
— Для аппетита!
— Жира немного спустите, а то, того и гляди, кондрашка хватит.
— В Америке, вон, говорят, миллионеры черной работой заниматься стали: дрова колют, камни обтесывают, землю копают. Апоплексии боятся!
Какой-то рабочий, худой, изможденный, со впалой грудью и лихорадочно сверкающими на бескровном лице глазами, стал злобно ругать «буржуев».
— Ничего! — говорил он вперемежку с тяжелым удушливым кашлем. — Пускай поживут немного по-нашему! Довольно они из нас кровь пили!
— Оставь! — вмешался другой рабочий. — Чего уж там! Теперь мы все уравнялись. Им, чай, тоже не сладко; еще, пожалуй, хуже, чем нам. Нелегко после пиров да балов за лопату взяться. Чай, и тебе с непривычки трудно пришлось бы, если бы тебя вдруг заставили рябчиков жареных есть да шампанским запивать. Тоже, брат, нелегкая жизнь!
Несмотря на то, что декрет о трудовой повинности касался только мужчин до 55-летнего возраста, притащились и некоторые дряхлые старики.
— Что, дедушка? — обращались к тому или иному из них молодые рабочие. — Тоже на зоотавров войной пошел?
— Да уж как-нибудь… Дело святое, Божие! — отвечали спрашиваемые. — Не все же молодым. Все равно скоро в могилу, — ну, вот, мы сами себе ее и выкопаем, хе-хе-хе…
В толпе обращали на себя внимания некоторые хорошо известные Парижу писатели, художники, артисты. Общее любопытство возбуждал чрезвычайно популярный в массе артист Comedie Frangaise, знаменитый комик Леганьер. Высокий, широкоплечий, с добродушным, бритым, чрезвычайно подвижным лицом, он переходил от группы к группе, как старый знакомый, крепко пожимал рабочим руки, вел с ними веселую беседу, изображал в лицах комические сценки, сыпал цитатами из своих ролей, строил уморительные физиономии.
— Первым делом, — говорил он, — мы там, под землей, театр соорудим. Чтоб веселее работалось. А то посмотрите на этого вон господина, — указывал он на стоявшего поблизости толстяка с постной физиономией. — Он точно на своих собственных похоронах присутствует.
И Леганьер уморительно, вызывая улыбки на самых хмурых лицах, передразнил мрачного господина.
Народный поэт Делянкр, хорошо известный во всех кабачках Монмартра и Бастилии, напялив на себя синюю рабочую блузу и взобравшись на фонарный столб, декламировал свою специально сочиненную на злобу дня поэму, которую он называл «героической» и в которой главными действующими лицами были зоотавры.
О зоотаврах же распевал только что сочиненные им комические куплеты не менее популярный в рабочих кварталах певец Барро, маленький человечек с огромной шевелюрой и с охрипшим от постоянного пьянства голосом. За каждым куплетом следовал припев, на мотив распевавшейся тогда в Париже гривуазной песенки о злоключениях молоденькой швейки Мариэтт.
Барро из сил выбивался, чтобы заставить толпу подхватывать припев.
— Ну же, друзья мои! — кричал он. — Нечего нос вешать! Раз, два, три!
И скоро сотни голосов, дружно, по команде маленького Барро, стали распевать веселый, подмывающий припев:
Подростки, дети улицы, шныряли среди взрослых, веселые, возбужденные, необыкновенно счастливые, как если б на их долю наконец-то выпал давно жданный праздник. С поднятыми вверх носами, они как бы принюхивались к чему-то, торопливо перебегали от одной группы к другой, словно боясь пропустить что-то чрезвычайно важное и интересное. Иногда они вдруг, без всякой видимой причины, начинали кувыркаться, издавали, заложив два пальца в рот, резкий, пронзительный свист и, вообще, шалели от беспричинного, беспредметного восторга. Многие из них, чтобы производить возможно больше шума, предусмотрительно запаслись свистульками, игрушечными трубами, флейтами, гармониками.
Везде, пред всеми мэриями, было людно, шумно, точно на ярмарке. Недоставало только балаганов, каруселей, тиров, лотков с дешевыми сладостями да уличных оркестров. Толпа как бы совершенно забыла о надвинувшейся на нее беде и беззаботно, по команде охрипшего Барро, распева-вала ставший уже достоянием улицы припев:
ХIV.
Землекопные работы шли полным ходом. Огромная армия рабочих, насчитывавшая до трехсот тысяч человек, разбитая на десятки отрядов, с восхода до захода солнца копошилась в разных пунктах Парижа, под землей и на ее поверхности.
Париж был обращен в гигантский трудовой лагерь.
В десятках пунктов, наряду с нагроможденными развалинами зданий, возвышались огромные элеваторы, груды вывороченных человеческими руками камней, и зияли, точно раскрытые зевы, ямы, в которых кипела лихорадочная работа.
Париж с каждым днем делался все более уродливым, безобразным, как если б он стал жертвой чудовищного землетрясения, которое выворотило и выбросило наружу его внутренности. Весь покрытый ранами и безобразными наростами, лежал он больной, умирающий, но все еще не сдающийся, с упорством отчаяния цепляющийся за жизнь. Как раненый, истекающий кровью зверь, он заползал в глубокую нору.
Чудовищные машины для выемки земли работали без устали. Подобно гигантским кротам, они рылись в недрах земли, упорно пробиваясь вперед, расчищая себе путь цепкими стальными когтями. Вырытая земля в тысячах вагонов, приводимых в движение электрической тягой, выбрасывалась на поверхность и по сотням специально проложенных рельсовых путей отвозилась за город, где все выше и выше росли земляные холмы, мало-помалу превращаясь в сплошные валы и целые горы.
С восхода до заката солнца на обезображенной груди Парижа копошились человеческие муравейники. Черные, зияющие ямы то поглощали тысячи работников, то снова выбрасывали их на поверхность. Оглушительно свистали и ревели тысячи машин, локомотивов, элеваторов. Как бранный клич неунывающего, несмотря ни на что, рода человеческого, дерзким вызовом поднималась великая симфония труда к небу, гордая, уверенная в победе, насмехаясь над всеми враждебными силами. Люди часто присоединяли к этому гимну труда свои слабые голоса, которые заглушались мощным ревом стальных чудовищ и поглощались им, как жалкий ручеек поглощается бурными волнами моря. Люди пели о величии труда, о всемогуществе человеческого гения, который столько раз торжествовал и еще не раз будет торжествовать над всеми препятствиями, над всеми стоящими на его пути преградами. Они пели, и глубокая неугасимая вера в будущее ярким пламенем сверкала в их глазах.
Но пели люди только на поверхности земли, на израненной груди своего родного Парижа; внизу же, на глубине сотен метров, они работали в угрюмом молчании, точно придавленные обступавшими их со всех сторон черно-бурыми, таинственными сводами и стенами. За этими безмолвными громадами земли им чудились притаившиеся враждебные призраки, и суеверный страх гасил смех и песни. Никогда еще люди не дерзали проникнуть так глубоко в недра земли, и казалось, что эта дерзкая попытка не останется безнаказанной. Люди работали среди гробовой тишины, хмурые, придавленные, и когда они снова выбирались на поверхность земли, облегченно вздыхали, как если б они вышли из могил на свет Божий.
Кресби Гаррисон командовал этой громадной армией труда с энергией и неутомимостью, которые скоро стяжали ему горячие симпатии всего Парижа.
Он казался вездесущим. На своем аэромоторе-лилипу-те, едва поднимаясь над землей на несколько метров, носился он с одного пункта работ на другой, отдавал приказания, подбадривал рабочих, пробирал недостаточно расторопных помощников своих, объяснял, показывал, набрасывал чертежи. В рабочей блузе и высоких охотничьих сапогах, с посеревшим от земляной пыли лицом, он то и дело спускался под землю, и там, где он появлялся, светлели лица, выпрямлялись спины, движения становились свободнее и смелее смотрели глаза.
Стефен, который за последний месяц потерял около тридцати кило, тоже целые почти дни проводил на работах. Его уже не звали зоотавром, но рабочие всегда встречали его любовно, и лица при виде его светились радостной улыбкой.
— Ну что? Как дела? — обращался он, как к старым знакомым, к тому или иному рабочему, без всякой рисовки и тени покровительственности пожимая серые от пыли, мозолистые руки.
— Ничего, господин президент, подвигаемся помаленьку, — отвечали ему. — Вы только почаще нас навещайте, тогда дело еще лучше пойдет.
— И рад бы, друзья мои, да не могу: дела много. Всякие там заседания, комитеты. Без этого тоже нельзя. Одних рабочих рук да машин недостаточно: надо и денег добывать и продовольствие. Ну, уж как-нибудь: кто под землей, а кто на земле, — авось что-нибудь и выйдет.
Дела у Стефена и его правительства действительно было по горло. Работы поглощали один миллиард за другим, которые точно в прорву падали. Богачи поднимались на всевозможные хитрости, чтобы платить возможно меньше налогов. Многие из них были изобличены и посажены в тюрьму, некоторые были, по пути в тюрьму, до полусмерти избиты толпой; но заметного улучшения это в дело не вносило.
Союз «Друзей порядка» вел исподволь злобную кампанию против правительства и особенно против Стефена. Доставалось и Кресби Гаррисону. Продажная печать, находившаяся в услужении названного союза, изо дня в день обливала их потоками грязной клеветы, приписывала им корыстные побуждения и довольно прозрачно намекала на таинственное исчезновение значительной части сумм, ассигнованных на сооружение подземного города.
Беднота не верила этим клеветническим толкам и смеялась над ними: Стефен и Гаррисон пользовались среди низов слишком большой популярностью. Случилось даже, что толпа, разъяренная слишком уж бесстыдными нападками одной продажной газеты на своих любимцев, разгромила редакцию и избила до потери сознания редактора. Но верхние слои общества глухо волновались, читая газетные инсинуации, со скрежетом зубовным говорили о том, что правительство идет на поводу у социалистов и ожесточенными нападками встречали всякое новое правительственное мероприятие.
Они находили крупную поддержку в правом крыле народного представительства. Реакционеры всех оттенков, среди которых доминирующую роль играли члены все того же всесильного союза «Друзей порядка», образовали тесный блок для борьбы с «красными», как они называли Сте-фена, Гаррисона и их друзей. С парламентской трибуны они произносили громовые, пропитанные ядом речи, будоража общественное мнение и подрывая веру в начатое дело.
Это нервировало, раздражало, мешало работать. В близких правительству кругах стали поговаривать о необходимости единоличной диктатуры, причем все единогласно прочили в диктаторы Стефена.
— В такие моменты необходима железная власть! — говорили ему. — Надо запереть на ключ двери парламента, который становится несносной и совершенно ненужной говорильней, надеть намордник на газеты, сурово подавлять всякие фанфаронады, которые только сеют недовольство и тормозят дело. Все это возможно только при диктатуре.
Но Стефен упорно отказывался.
— Не к чему, — возражал он. — У нас и без того теперь царит диктатура… в лице зоотавров. Пускай себе говорят, большого зла я в этом не вижу. Ведь это их последние опыты красноречия на земле!
И когда ему показывали напечатанные в газетах злостные выпады по его адресу и карикатуры, в которых его изображали с красным знаменем или же прикованным цепями к тачке с надписью «американский капитал», он добродушно смеялся и говорил:
— Недурно написано: чувствуется темперамент, да и стиль есть.
Или же:
— Талантливая карикатура! Не правда ли, похоже?
Между тем, зоотавры продолжали сеять смерть и разрушение. Они как будто догадывались, что люди собираются бежать от них, и спешили использовать время. Еженощно крылатые чудовища появлялись из-за облаков и, освещая себе путь гигантскими прожекторами, громадными темными глыбами падали вниз, на и без того истекающий кровью Париж. Город с потушенными огнями, с закрытыми окнами и спущенными шторами, казалось, переставал дышать и замирал, как кролик, почуявший над собой когти пернатого хищника.
— Господи! Хоть бы скорее уж выстроили этот подземный город! — вздыхали измученные страхом люди.
Несмотря на то, что за почти полным прекращением железнодорожного движения газеты крайне редко попадали в провинцию, слухи о сооружении подземного города быстро распространились по самым глухим углам Франции, и новые потоки беженцев устремились со всех сторон в столицу. С каждым днем положение становилось все более угрожающим. Казалось, что вся Франция, с ее пятьюдесятью миллионами жителей, собиралась переселиться в Париж… Население его росло с каждым часом, и вместо тысяч погибших при налетах зоотавров появлялись десятки тысяч пришельцев. Город разбухал, задыхался, словно организм от слишком обильно приливавшей крови. Десятки, сотни тысяч людей не находили ни крова, ни пропитания, жили где и как придется, точно дикие кочевые орды.
Правительство, встревоженное этой новой опасностью, тщетно пыталось защитить Париж от вторжения этих орд. Тщетно рассылало оно с особыми курьерами строгие приказы местным властям об удержании населения на местах. Ничто не помогало. В Орлеане толпы собравшихся в Париж беженцев, наткнувшись при выезде из города на сильный наряд солдат и полиции, смяли его, причем с обеих сторон было много убитых и раненых. В Лиможе возбужденная толпа, которой власти пытались преградить дорогу в Париж, зверски убила префекта и нескольких полицейских офицеров. В Гавре толпа сожгла мэрию, префектуру и ряд других правительственных зданий.
— Они хитрые, эти парижане! — говорили провинциалы. — Для себя подземные города строят, а нас оставляют в добычу зоотаврам!
Озобленные, с решимостью людей, которым нечего терять, бесконечными вереницами тянулись они со всех сторон в Париж. Точно гигантский магнит, притягивал он в эти роковые дни все и всех. Встревоженный своей собственной притягательной силой, он делал отчаянные усилия отбросить от себя прилипавшие к нему чуждые толпы. У всех входов в город были расставлены пешие и конные воинские части, силой преграждавшие дорогу беженцам. То и дело происходили кровавые столкновения, сотни беженцев падали убитыми, но тысячи все же прорывались и, подобно варварам средневековья, наводняли улицы Парижа. Те, которые оставались в живых, но не могли прорваться через военно-полицейские кордоны, располагались таборами в окрестностях столицы, жили под открытым небом, мокли под дождем, умирали от голода и болезней, добывая себе пропитание грабежом соседних деревень или же питаясь сусликами, кореньями, травами, древесной корой.
Мало-помалу Париж стал походить на остров, захлестываемый со всех сторон бурными волнами взбаламученного беженского моря. Обитатели его невольно устремляли взоры свои туда, за грань каменных громад, откуда как бы доносилось тяжелое дыхание притаившегося многоликого зверя.
Это был опасный зверь, готовый каждую минуту броситься на столицу и задавить ее своей массой. Франция вступала в борьбу с Парижем, и Франция была сильнее Парижа. Париж это чувствовал и полон был острой тревоги.
XV
Наступил май.
Весна была в полном разгаре. В буйном пароксизме творчества природа расцветила деревья на парижских бульварах, пышно одела сады, разостлала по окрестным полям и холмам тысячи разноцветных ковров, дарила людей волшебно-красивыми зорями. Высоко ушло ярко-синее небо, но оно казалось ближе и роднее, чем угрюмое, нахмурившееся серыми тучами зимнее небо.
И еще острее стала жажда жизни, словно весна вливала в жилы новую горячую, буйно, переливающуюся кровь. Безумно, страстно хотелось жить, упиваться сладким, как нектар, весенним воздухом, любоваться неустанно творимыми природой чудесами, впитывать глазами, ушами, каждым дыханием красоту возрождающейся жизни.
Но не жизнь, а смерть сторожила людей на каждом шагу. Она косила обильную жатву. Жестокая, неумолимая, холодная, она реяла над красавцем Парижем, и людям казалось, что они слышат зловещий шорох ее черных крыльев, видят мертвящий взгляд ее глазных впадин, осязают холод ее костлявых рук.
Смерть была повсюду. С высоты обрушивались зоотавры; вокруг города притаились одичавшие орды беженцев, которые все более плотным кольцом сдавливали несчастную столицу; улицы и площади оглашались стонами, проклятиями, скрежетом зубовным обезумевших от страха и тяжких лишений людей.
— Господи! Когда же наконец будет выстроен подземный город! — с тоской говорили они. — Прошло уже целых три недели с тех пор, как они начали его строить.
Три недели! Охваченным отчаянием людям они казались вечностью. Так много перестрадали они в эти три недели, каждый час, каждая минута были наполнены таким ужасом, что они старили больше, чем долгие годы.
— Господи! Скорей бы!
По городу стали циркулировать слухи, что строители, из каких-то корыстных соображений, умышленно медлят с окончанием работ.
— Еще бы! — говорили осведомленные люди. — Они основательно нагрели руки, и им нужно время, чтобы спрятать концы. Ведь как только все будет готово, им придется отдавать отчет!
Тщетно более благоразумные доказывали всю вздорность этих злостных толков, тщетно правительство обращалось к населению с горячими призывами о терпении и спокойствии. Толпа глухо волновалась. Подстрекаемая темными личностями, взвинчиваемая грязными намеками уличных листков, субсидируемых союзом «Друзей порядка», она скоро стала проявлять свое недовольство громким ропотом и враждебными возгласами по адресу правительства. Тысячи несчастных, в стремлении во что бы то ни стало свалить на кого-либо вину за свои страдания, устраивали демонстративные шествия по центру города, собирались перед правительственными зданиями, гневными криками требовали выдачи воображаемых виновников и ускорения работ.
— Вам надо беречься! — говорили Стефену и Кресби Гаррисону друзья. — Нет ничего безрассуднее и ужаснее несчастной толпы. Вас слишком хорошо знают, а популярность в такое время штука не совсем безопасная…
Стефен и Гаррисон не обращали внимания на предостережения друзей. Они решительно отказывались от услуг добровольных телохранителей, вызывавшихся сопровождать их, и по-прежнему продолжали разгуливать на земле и под землей.
В скорости оба они действительно подверглись, среди бела дня, на площади Магдалины, нападению. Они только собрались было спуститься под землю, как толпа в несколько сот человек решительно преградила им дорогу.
— Здравствуйте, господинь президент! — Здравствуйте, господин Гаррисон! — сурово бросил им стоящий впереди толпы рослый детина с мрачным, ничего хорошего не предвещавшим лицом. — Не торопитесь так, нам с вами поговорить желательно.
— Ах, голубчик, как это некстати! — ответил Стефен. — Работы по горло. Говорите скорей, в чем дело.
— А в том, — злобно крикнул детина, — что у вас там на работах мошенник на мошеннике сидит! Воры, казнокрады! Оттого-то они и подвигаются таким черепашьим шагом. Знаем мы эту механику!
Стефен растерялся и стал вытирать вдруг выступивший на лбу его пот.
— Что ты! Что ты! Что ты такое говоришь! Разве можно так!.. — бормотал он.
— А то и говорю, что все дело в руках мошенников. И не я один так говорю!
Потом, после короткой паузы, он медленно и раздельно, точно наслаждаясь каждым словом, в упор глядя на Сте-фена и Гаррисона, прибавил:
— Вы, я думаю, господа, тоже в накладе не остались? Не один миллиончик, небось, на этом деле заработали!…
Стефен широко раскрытыми от изумления глазами посмотрел на говорившего, и рука его с платком, который он хотел поднести ко лбу, так и застыла в воздухе.
В то же мгновение Гаррисон, вдруг побледневший, как полотно, со стиснутыми зубами, подскочил к оскорбителю и схватил его рукой за горло.
— Как ты смеешь, негодяй! Я тебя задушу, как гадину! — крикнул он.
И, с бешеной силой раскачав его несколько раз, он оттолкнул его так, что тот упал.
Стоявшая за ним толпа попятилась назад. Детина, с искаженным от бешенства лицом, быстро вскочил на ноги, и в руке его блеснул длинный нож. Но Гаррисон не дал ему времени поднять его: в то же мгновение он выхватил из кармана револьвер. Раздался выстрел, и детина упал, обливаясь кровью.
Толпа еще больше подалась назад. Многие бросились бежать.
— Так будет со всяким, кто вздумает становиться на нашей дороге! — крикнул Гаррисон оставшимся, спокойно пряча в карман револьвер. — Такие негодяи только мешают нам работать.
— Вернитесь лучше к работе и не слушайте клеветников! — прибавил Стефен. — Вам рассказывают всякий вздор, а вы и уши развесите. Я, президент Стефен, говорю вам, что все это грязная клевета. Работы идут полным ходом, поскольку это позволяют наличные силы. Одна улица под землей уже почти проложена, и на днях будет приступлено к постройке домов. Такое грандиозное дело не делается в три дня; вам бы следовало понять это, а вместо того вы оскорбляете таких людей, как мой друг Гаррисон, который совершенно бескорыстно, не покладая рук, работает для вас же. Нехорошо, друзья мои!
Настроение толпы резко изменилось.
— Да мы, господин президент, ничего… — послышались смущенные голоса. — Мы видим, что вы стараетесь… Да и господин Гаррисон тоже. Конечно, разное болтают, а глупые люди и повторяют…
Когда, несколько минут спустя, Стефен и Гаррисон стали спускаться под землю, толпа провожала их криками:
— Да здравствует Стефен!
— Да здравствует Гаррисон!
Инцидент был исчерпан, но атмосфера продолжала оставаться сгущенной.
Скоро стали распространяться слухи, что в первую очередь будут поселены в подземном городе члены правительства, депутаты, чиновники, а затем те, которые в состоянии будут платить установленную, довольно высокую плату.
И опять улица стала глухо волноваться.
— Ловко придумали! — говорили там и сям среди взволнованно комментировавших эти слухи групп. — Выходит, что мы бились и работали для других! Всякие там чиновники да богачи заживут себе припеваючи под землей, а мы тут в пищу зоотаврам останемся!
Осведомленные люди уверяли, что квартиры в домах подземного города уже заранее распределены. Они, де, собственными глазами видели списки.
— Заберутся себе туда, — прибавляли они, — и крышка! Запрут все входы вниз, и ничего ты с ними не поделаешь!
— Ничего, нас больше, — возражали им. — Мы штурмом на них пойдем!
— Не беспокойтесь, они все предусмотрели! — отвечали осведомленные люди. — Поставят внизу, у всех входов, тяжелую артиллерию да газометы — и будут жарить по нам. Очень просто! Тысячи будут перестреляны, а остальных зоотавры слопают.
Возбуждение улицы росло и грозило серьезными осложнениями.
На экстренном, длившемся всю ночь заседании совета министров снова раздались настойчивые голоса в пользу предоставления президенту Стефену диктаторских полномочий, которые развязали бы ему руки и дали возможность действовать по законам военного времени. Но он и на этот раз решительно отклонил предложение.
Сошлись на компромиссе. Был избран Комитет обороны из трех лиц: самого Стефена, военного министра и министра внутренних дел. С совещательным голосом вошли в него Кресби Гаррисон и еще кое-кто из главных руководителей работ по сооружению подземного города.
На первом же заседании Комитета обороны был декретирован, в качестве временной меры, роспуск парламента. Некоторые наиболее будоражившие улицу газеты, преимущественно из находившихся в услужении союза «Друзей порядка», были закрыты. Решено было также запретить всякие манифестации и уличные сборища.
Стефен энергично протестовал против этих мер.
— Господа! — говорил он горячо. — Да ведь это та же диктатура, только вместо одного диктатора у нас целых три.
— Называйте как хотите, — возражали ему коллеги, — но серьезность положения требует и серьезных мер. Если мы будем миндальничать, в Париже скоро начнет свирепствовать гражданская война со всеми ее ужасами и затормозит начатое нами дело. К тому же, все это не так страшно. Левое крыло парламента само ничего не имеет против его закрытия, центр тоже понимает целесообразность этой меры; одни только господчики из союза «Друзей порядка» на стены полезут, но с ними церемониться не приходится: их, собственно, давно уже следовало бы упрятать в тюрьму, точно так же, как и редакторов субсидируемых ими газет.
Стефен остался в меньшинстве и вынужден был подчиниться.
В тот же день, от имени Комитета обороны, выпущено было энергичное воззвание к населению. В нем категорически опровергались распространяемые по городу слухи относительно якобы предполагаемого кучкой привилегированных захвата подземного города.
«Это наглая клевета, пущенная в ход продажными негодяями! — говорилось в воззвании. — Подземный город воздвигается на средства народа и будет составлять его собственность. Члены правительства и высшие чины администрации спустятся в него последними. Никаких привилегий не будет. В интересах полной справедливости, город будет разбит на участки, причем вопрос о том, в каком порядке население этих участков будет переселяться в подземный город, решится жребием. Жеребьевка будет иметь место в здании министерства внутренних дел, под руководством особой комиссии, выбранной для этой цели самим населением. О дне жеребьевки и способе производства выборов население будет своевременно оповещено.
Граждане! — гласили заключительные строки воззвания. — Не слушайте клеветников. Переживаемый нами трагический момент требует крайнего напряжения всех сил, а это возможно только при полном единодушии в наших рядах. Тяжело работать в атмосфере недоверия и вечных подозрений. Верьте нам, помогайте нам по мере сил — и мы доведем начатое дело до конца. Не забывайте, что от успеха нашего опыта зависит спасение Парижа, Франции и, быть может, всего человечества».
Воззвание произвело благоприятное впечатление. В тот же день, в разных пунктах Парижа, были жестоко избиты некоторые осведомленные люди, которые пытались набросить тень на намерения правительства. Полиции стоило немалого труда вырвать их из рук рассвирепевшей толпы.
Несмотря на запрещение манифестаций, улицы Парижа в течение нескольких часов оглашались криками:
— Да здравствует Стефен!
— Да здравствует Комитет обороны!
— Долой союз «Друзей порядка»!
— Смерть клеветникам!
XVI
Несколько дней спустя, а именно 16 мая, произошли события, которые снова обострили положение и имели трагические последствия.
Солнце недавно только зашло. Невидимая рука стирала с небосклона багрянец и пурпур, которыми разукрасило его перед уходом на покой дневное светило. Потянуло вечерней прохладой. Небо с каждой минутой темнело, словно спешило спрятать к приходу ночи лучезарную улыбку, которой оно проводило солнце: хмурая ночь, такая строгая и серьезная, не любила улыбок, чересчур ярких красок и бликов, и с суровым презрением смахивала их концом своего черного плаща. На восточной стороне небосклона показались неясные контуры молодого месяца. Там и сям замигали, словно высланные вперед лазутчики, первые звездочки. Земля, с бешеной силой мчась по предначертанному ей пути, собиралась войти в длинный темный туннель и зажигала фонари, чтоб хоть немного осветить мрак его.
— Для зоотавров еще рано! — говорили парижане, глядя на небо.
Но крылатые чудовища на этот раз явились раньше обычного.
Еще не все звезды зажглись на небе, еще бледен был месяц, а их черные громады уже нависли, словно зловещие тучи, над городом. Подобно гигантским воздушным кораблям, они плавно реяли на высоте, медленно описывали круги и, казалось, высматривали добычу, прежде чем опуститься на землю.
Число их с каждой минутой становилось все больше. Казалось, что они покрывают все небо. Обыкновенно они появлялись небольшими группами, и только раза два их налетел сразу целый десяток. Но в эту роковую ночь парижане насчитали до сорока зоотавров.
Сорок зоотавров! Сорок чудовищ, каждое из которых могло бы превратить в развалины целый квартал, убить и искалечить тысячи людей, нагнать панику на целый город.
Сердца сжались в мучительном предчувствии. Люди в отчаянии ломали руки и, как безумные, метались из стороны в сторону. Женщины голосили, словно заранее оплакивая покойников, плакали испуганные общей тревогой дети, ревел охваченный темным предчувствием надвигающейся опасности домашний скот.
Вдруг с разных сторон раздались крики:
— В подземный город! Надо спасаться в подземный город!
Крики эти перекатывались из квартала в квартал, из улицы в улицу, росли, крепли, становились все настойчивее.
И со всех сторон тысячами бежали люди к спускам в подземелье. Бежали в одиночку и целыми семьями, старые и молодые, мужчины и женщины, часто с малыми детьми на руках. Задыхались от быстрого бега, спотыкались, падали, поднимались и еще быстрее бежали дальше, точно за каждым из них уже гнались зоотавры.
— Скорей! Скорей! В подземный город!
По мере приближения к спускам толпа росла, разбухала, превращалась в бурный, все сметающий на своем пути поток.
— Скорей! Скорей!
Бежали по телам упавших, безжалостно давя их насмерть ногами. С разгона разбивались в кровь о фонарные столбы, о стены домов, о киоски.
— Скорей! Скорей! Спасайся кто может!
Комитет обороны, узнав о повальном бегстве населения к подземному городу, пришел в ужас.
— Боже мой! Боже мой! — кричал, хватаясь за голову, Стефен. — Они все дело погубят!
— Надо остановить этих безумцев! Надо преградить им дорогу! — взволнованно настаивал Кресби Гаррисон.
Военным властям Парижа по телефону отдан был приказ тотчас же, не медля ни минуты, заградить всеми наличными воинскими силами доступы к подземному городу.
— Если толпа будет упорствовать, пустить в ход оружие!
— приказывал по телефону военный министр. — Будьте жестоки, беспощадны, если нужно! Осыпайте толпу смертоносным огнем, но не допускайте ее к подземному городу!
Комитет обороны бросился на улицу, чтоб лично руководить делом. Стефен и Гаррисон, без шляп, задыхаясь от быстрого бега, мчались вперед, как если б они собственными силами могли остановить бурно несущийся поток человеческий. На первом же перекрестке они столкнулись с огромной толпой, которая бежала, как испуганное ножом мясника стадо баранов.
— Остановитесь, безумцы! — изо всех сил кричали они.
— Вы сами погибнете и все дело погубите!
Но голоса их были заглушены топотом тысяч ног и тяжелым дыханием толпы. Бурный человеческий поток промчался мимо, чуть не смяв их в своем стремительном беге.
Такими же бурными потоками были залиты все другие улицы и площади, по которым пробегали Стефен и Гаррисон.
Между тем, зоотавры, один за другим, тяжелыми черными массами падали на город. Воздух огласился треском разрушаемых домов. Казалось, что их сотни, тысячи, что целая рать этих неведомых чудовищ обрушилась на Париж, чтоб разрушить его до основания, не оставить в нем камня на камне. Не верилось, что их всего три-четыре десятка, — до того ошеломляющим, чудовищным было впечатление от производимого ими разгрома.
Их гигантские прожекторы ослепительным зловещим светом освещали картину великого разрушения. Эти прожекторы то и дело меняли направление, широкими световыми столбами упирались в небо, ложились на улицы и крыши домов, скрещивались.
Часто какой-нибудь из них падал на бегущую толпу, словно заревом грандиозного пожара выхватывая ее из мрака, и тогда люди еще более безумели от ужаса, точно этот столб света нес с собой тысячи ядов и каждым атомом своим мог поразить насмерть. Люди испытывали мучительное, неодолимое желание исчезнуть, провалиться сквозь землю, только бы уйти из этого адского, чудовищного, непонятного, нагоняющего мистический ужас света.
Бежать, бежать, бежать! И они бежали вперед, ничего не видя перед собой, со стонами и проклятьями, разбиваясь о встречаемые на пути препятствия, безжалостно давя упавших. Люди бежали, а нестерпимо яркий, ослепительный столб света бежал за ними, гнался за ними по пятам, не оставлял их ни на одно мгновение и, казалось, разил их тысячами смертоносных жал.
Случалось, что на ту или иную толпу, вслед за столбом света, обрушивался, как коршун на стаю цыплят, один из крылатых монстров. Тяжелой массой врезывался он в самую гущу толпы, расшвыривал ее, насмерть давил сотни, когтями <хватал> десятки других и взмывал со своей добычей вверх, к испуганно мерцавшим звездам. Многие, оставшиеся невредимыми, тут же испускали дух от неведомого еще смертного ужаса, который останавливал биение сердца и леденил кровь в жилах.
Между тем, у входов в подземный город разыгрывались тяжелые, кровавые сцены. Оцепившие их войска бессильны были справиться с мощным напором тысячных толп.
— Стойте, ни шагу дальше, или мы откроем огонь! — до хрипоты кричали офицеры.
Солдаты стояли бледные, хмурые, озлобленные. Они сами бились в цепких когтях страха, который в эту ночь властно царил над Парижем. Они сами испытывали страстное желание бежать, куда глаза глядят, а между тем им приходилось стоять тут, под открытым небом, ежеминутно рискуя жизнью, и силой сдерживать толпу, чувства и мысли которой им были так понятны. Железная дисциплина, привычка повиноваться, были сильнее страха, и они покорно стояли на указанных им местах, готовые выместить все нараставшую в них злобу на беспрерывно напиравших со всех сторон людях.
Особенно силен был напор толпы на площади Республики, где находился один из центральных спусков в подземный город. Огромная площадь залита была народом, который ежеминутно прибывал из десятков улиц этого плотно населенного квартала. Скопление здесь было тем сильнее, что всего лишь четверть часа тому назад три зоотавра произвели страшный разгром на находившейся по соседству площади Бастилии, вызвав паническое бегство окрестного населения.
Новые толпы напирали на прежде пришедших, с силой толкая их к плотной цепи солдат, которые защищали спуск в подземный город. Положение с каждой минутой становилось все более угрожающим и власти теряли голову. Офицеры и солдаты чувствовали себя так, как если бы они стояли лицом к лицу с шедшей на них в атаку неприятельской армией.
— Остановитесь, говорят вам! — надрываясь, кричали офицеры. — Мы получили приказ никого не пропускать, хотя бы для этого пришлось пустить в ход оружие. Вы слышите?
Их слышали только передние ряды; дальше, в гущу толпы, их предостерегающие голоса не доходили. Задние ряды продолжали напирать на передние, так что скоро между толпой и войсками оставалось всего лишь несколько шагов. Солдаты отступили немного.
— Ни шагу дальше! — с отчаянием в голосе кричали офицеры. — Иначе мы будем стрелять!
В эту минуту послышались крики:
— Президент! Дорогу президенту!
Толпа слегка потеснилась и пропустила вперед, к цепи солдат, Стефена.
Он тяжело дышал, лицо его было покрыто грязью, смешанной с потом, на лбу виднелся сгусток крови, седые волосы были растрепаны, сюртук изорван и висел клочьями.
— Что с вами, господин президент? — участливо, с тревогой в голосе спросил, подойдя к нему, командовавший тут генерал.
Стефен сделал пренебрежительный жест: не стоит, дескать, говорить о таких пустяках! Потом он быстро, с ловкостью юноши, взобрался на находившуюся поблизости широкую каменную балюстраду и во всю силу легких закричал, обращаясь к толпе:
— Граждане! Я, президент Стефен, заклинаю вас образумиться. Безумная попытка проникновения в подземный город может стоить многих тысяч жизней. Вырыт только небольшой участок, и если в него станут беспорядочно бросаться со всех сторон, верхние задавят тех, которые спустились до них и сами будут задавлены вновь напирающей сверху массой. Не говоря уже об огромном количестве жертв, это может вызвать страшные обвалы и надолго затормозить, а то и совершенно парализовать сооружение подземного города. Граждане! Во имя спасения Парижа и Франции, во имя вашего собственного спасения, я призываю вас к благоразумию. Приняты решительные меры для удержания толпы. Войска ни перед чем не остановятся и в крайнем случае прибегнут к оружию. Не доводите же до кровопролития! Пожалейте себя, пожалейте солдат и не заставляйте их проливать братскую кровь! Я, старый Стефен…
В это мгновение гигантский сноп света, упав с высоты, стал шарить по толпе. Словно зыбкий световой мост протянулся между небом и землей. Он попеременно выхватывал из мрака то фигуру возвышавшегося над толпой Стефена с развевающимися волосами и с умоляюще протянутыми вперед руками, то хмурых, плотной серой стеной стоящих солдат, то ту или иную часть толпы. Грозный противник, казалось, исследовал позицию.
— Граждане! — кричал и молил Стефен. — Не теряйте хладнокровия!
Но его не слушали. Животный ужас был сильнее горячих призывов к благоразумию, делал людей слепыми и глухими ко всему другому. Толпа стала шарахаться, сначала в стороны, потом, под давлением бешеного напора сзади, вперед. Солдаты дрогнули и отступили еще на несколько шагов.
— Назад — или мы откроем огонь! — осипшими голосами кричали командиры, упираясь руками в грудь передних из толпы.
Минуту спустя заиграл рожок. Вызывающе, буйно и задорно звенящими звуками, он кричал на всю огромную площадь, что вот-вот прольется горячая, алая кровь. Потом, после минутного перерыва, рожок заиграл во второй раз.
— Ради Бога! Назад! Сейчас стрелять будем!
Но обезумевшая толпа продолжала напирать. Несколько человек прорвали цепь и смешались с солдатами. Как вода в прорвавшуюся вдруг плотину, хлынул человеческий поток в образовавшиеся бреши.
Все смешалось в дикой свалке. Где-то в стороне заиграл в третий раз рожок. Мгновение спустя сухо протрещали несколько одиночных выстрелов. Больше и чаще. Точно сухой горох просыпался над всей площадью.
И горячими, алыми струями пролилась давно уже просившаяся наружу кровь.
А на сравнительно небольшой высоте, точно любуясь происходящим внизу зрелищем, плавно реял гигантский зоотавр. Он не торопился. Он как бы умышленно медлил, чтобы дать сердцам окоченеть от ужаса, чтобы люди до конца испили чашу предсмертной тоски. И когда этот момент наступил, когда, казалось, пройдены были уже все ступени мук человеческих, когда ужас уже спирал дыхание и цепкими когтями вонзился в самую глубину сердец, чудовище всей своей громадой ринулось вниз и врезалось в толпу.
Началось что-то невообразимое. Солдаты, побросав ружья, смешались с мятущейся в панике толпой в один гигантский клубок человеческих тел, который извивался, корчился, как раненая насмерть змея, метался из стороны в сторону. Ноги ступали по раздавленным телам, хруст костей смешивался со стонами. Зоотавр все глубже врезывался в гущу толпы, крошил ее, точно огромной силы таран, каждым своим движением, каждым поворотом тела убивая и калеча всех, кто попадался на его пути. Он оставлял за собой широкую борозду, наполненную окровавленными человеческими телами и напоминавшую побитую градом полосу хлебного поля.
Тысячи, десятки тысяч людей успели добежать до спуска в подземный город. Он оставался теперь незащищенным. В одну минуту балюстрады были сломаны, запертая массивная чугунная дверь уступила под всесокрушающим напором человеческой лавины, и люди, тесня и давя друг друга, бросились по каменной лестнице вниз. Ничего не видя перед собой, они, запыхавшись, неслись вперед, все сильнее подталкиваемые сзади. Страх быть раздавленными побуждал их бежать все дальше и дальше, со ступеньки на ступеньку, в зияющую мраком бездну. Те, которым изменяли силы, падали и через минуту тысячи ног обращали их тела в бесформенную кровавую кашу. Многие из находившихся впереди, потеряв сознание, но подталкиваемые сзади, летели вниз, ударяясь головой о каменные ступени и оставляя на каждой из них несколько капель своей крови. И по мере того, как толпа спускалась, ступени становились все более скользкими от налипшей на них крови и ноги все чаще ступали по человеческим телам.
Лестница казалась бесконечной, и все труднее и труднее было подвигаться вперед из-за все нараставшей груды тел. А сзади все напирали и напирали новые толпы: сверху, точно из гигантского вулкана, приливала все новая человеческая лава. Люди делали отчаянные усилия пробиться вперед; задыхаясь от недостатка воздуха, с проклятиями и скрежетом зубовным, пытались они прочистить себе путь через груду тел, отталкивали их руками и ногами, напирали на них всей массой, теряли последние силы, часто сами тут же падали на груду костей и мяса и после нескольких судорожных конвульсий умирали.
Груда росла, становилась все выше и шире, доходила до серых наклонных каменных сводов, заполняла собой малейший клочок свободного пространства. Скоро образовалось нечто вроде сплошной плотной, непроницаемой пробки. Теперь уж не было никакой человеческой возможности пробиться вперед хотя бы на один шаг.
Тогда те, которые были впереди, стали делать отчаянные попытки выбраться из этого ада. Пусть там, вверху, витает смерть, пусть там ждет их неминуемая гибель, — все же это казалось легче, чем умереть в этом ужасном склепе, задохнуться среди груды скрюченных изуродованных тел.
— Назад! Ради Бога! Вперед больше нельзя! — слышались сдавленные крики.
Но те, которые еще находились выше, не знали о происходящих внизу ужасах и упорно пробивались вперед, сами подталкиваемые сзади все новыми напиравшими толпами. При всем желании они не могли повернуть назад и продолжали спускаться, идя навстречу верной смерти.
— Назад! Внизу смерть! — кричали снизу.
— Вперед! Скорей же, черт возьми! — кричали сверху.
Четверть часа спустя весь спуск в подземный город, до глубины в 470 метров, сплошь, сверху донизу, был наполнен мертвыми телами. Успели спастись только самые задние ряды, еще находившиеся у самого выхода.
Толпа, содрогаясь от ужаса, отхлынула и бросилась искать более надежного убежища.
То же, или почти то же, происходило и у всех других спусков в подземный город. Везде обезумевшая толпа, подгоняемая животным страхом, сама шла на почти верную гибель. У здания Оперы, перед Палатой депутатов, на площади Согласия, на Итальянском бульваре, в Латинском квартале, в Бельвилле, на Монмартре десятки тысяч людей погибли от пуль, от зоотавров, но неизмеримо больше жертв полегло на каменных ступенях, ведущих в подземный город, который на этот раз вместо спасения уготовил парижанам гибель.
Всю ночь, вплоть до самого рассвета, зоотавры громили город, нагромождая на его улицах и площадях новые груды развалин. И вплоть до рассвета волшебно-красивая майская ночь оглашалась стонами умирающих и искалеченных.
Бледный свет зари осветил картину чудовищного разрушения. Париж походил на поле битвы, на котором всю ночь бушевал убийственный огонь многочисленных тяжелых орудий.
А с первыми лучами солнца в него со всех сторон беспорядочными ордами стали врываться десятки тысяч беженцев из окрестностей. В эту ужасную ночь солдаты, охранявшие входы, частью погибли, частью разбежались, и двери, ведущие в столицу, были настежь открыты.
Беспрерывными потоками текли в нее беженцы, хмурые, оборванные, потерявшие человеческий облик, напоминаю-щия первобытных людей. Прикрытые мешками и всякой рванью, часто полунагие, с толстыми суковатыми палками в руках, они казались детьми каменного века. Проникнув в город и убедившись, что он весь как бы вымер, они, как голодные звери, прежде всего бросились искать пищу. Толпами набрасывались они на пекарни, трактиры, магазины и склады, взламывали замки и двери и спокойно, в угрюмом молчании, грабили все, что попадалось под руку. Потом, отойдя в сторонку, торопливо насыщались и напивались, напяливали на себя награбленное платье и часто тут же засыпали тяжелым сном сытых и пьяных дикарей.
Привлеченные шумом парижане робко смотрели на эти орды из полуоткрытых окон и дверей. Многие испуганно крестились и шептали молитвы.
— Господи! Еще этого не хватало! — слышались там и сям придушенные возгласы.
И никому в голову не приходило предпринять что-либо против этого нашествия новых варваров, которые с каждой минутой все более заливали Париж, устраивались в нем, как в завоеванном городе, и предавали его потоку и разграблению.
XVII
Около полудня Париж был объявлен на осадном положении.
Образованы были десятки военно-полевых судов, по приговорам которых в тот же день расстреляны были несколько сот грабителей, преимущественно из беженцев.
Покорно и тупо шли они на расстрел, покорно и тупо умирали; казалось, что сам инстинкт самосохранения потерял над людьми власть в эти роковые дни. Не слышно было жалоб, протестов. Никто не защищался, не просил, не умолял о прощении. Спокойно переступали порог, отделяющий жизнь от смерти, точно это было нечто обычное, повседневное, не имеющее значения.
Судьи пристально вглядывались в лица осужденных в надежде уловить на них хоть тень страха, хоть проблеск ужаса перед смертью; но лица были тупы, бесстрастны, как если б это были не лица, а картонные маски, бездушные и безразличные.
— Неужели тебе не страшно умирать? — спросил председатель суда одного из только что приговоренных к расстрелу.
Тот тупо, мутными глазами, посмотрел на спрашивающего и медленно, нехотя переспросил:
— Чего?
— Неужели, говорю, ты не боишься смерти?
— А чего ее бояться?
И, достав из кармана украденный кусок колбасы, за который его приговорили к расстрелу, он спокойно стал прожевывать ее.
Солдаты, которым приходилось расстреливать осужденных, вначале нервничали; но по мере того, как они наблюдали это полное равнодушие к смерти, они и сами становились равнодушны, точно те, кого они убивали, были не люди, а существа какой-то низшей породы.
— Ну, становись, что ли! — вяло приказывал какой-нибудь солдат тому или иному из приговоренных. — Будем тебя расстреливать.
И тот так же вяло, точно ему приказывали сделать что-либо давно уже прискучившее, становился на указанное место.
Уже с раннего утра приступили к уборке трупов. Роль могильщиков возложена была преимущественно на беженцев, которых приставленные к ним солдаты бесцеремонно понукали ружейными прикладами в спину, а иногда, в случае неповиновения, просто-напросто прикалывали штыками. Никого это не возмущало. Тонкие, рафинированные парижане, недавно еще так горячо говорившие о правах человека и гражданина, спокойно смотрели на жестокое обращение с беженцами. Казалось, воскресли времена рабства, когда патриции, при всей своей утонченной культуре, истязали и убивали своих рабов с такой легкостью, с какой они топтали ползущих по земле червей.
Нелегка была работа могильщиков. Точно отряды санитаров, являющиеся на поле сражения после кровопролитной битвы, они должны были убирать тысячи трупов и подбирать раненых, которых часто приходилось с большим трудом извлекать из-под развалин разрушенных домов.
Если бы Париж, по мановению руки какого-нибудь волшебника, затих хотя бы на одну только минуту, если бы вдруг прекратился шум этого истерзанного, истекающего кровью, но все же живого города, воздух огласился бы глухими подавленными стонами тысяч корчившихся от боли и молящих о помощи людей, похороненных под грудами обломков. Но гигантский людской муравейник продолжал жить лихорадочной жизнью, и гул ее заглушал стоны раненых. Многие из них так и не были найдены и умирали в страшных муках. Нередко случалось, что их оставляли умирать под обломками даже тогда, когда их стоны доходили до слуха: и без них слишком много было хлопот. Бывало также, что раненых тут же приканчивали, чтобы избавиться от лишней возни.
Больницы, клиники, санатории были переполнены изувеченными людьми, десятки частных домов и общественных зданий были обращены в лазареты; но несмотря на это, для многих раненых не хватало места, и их укладывали прямо на земле, во дворах, садах, часто просто на улице. Многочисленные мобилизованные, как на войне, отряды врачей, фельдшеров и сестер милосердия выбивались из сил и впадали в отчаяние. Ощущался острый недостаток в медикаментах и перевязочных материалах, тем более что многие аптекарские склады были разрушены во время налетов зоотавров.
Но самое ужасное было не здесь, не на поверхности, а внизу, в спусках в подземный город. Они были битком набиты трупами, и их надо было извлечь во что бы то ни стало и возможно скорей, — в противном случае город задохнулся бы от их смрада. К тому же, подземные работы были парализованы: мертвые преградили в них доступ живым, как бы сознательно отрезая им путь к спасению, чтобы и их увлечь с собой в царство небытия.
Комитет обороны и все наличные члены правительства лично руководили работами по очистке спусков.
Первые сотни трупов, находящиеся на небольшой глубине, были сравнительно легко извлечены; но чем дальше, тем дело становилось хуже. Тяжелый смрад разлагающихся тел делался с каждой минутой невыносимее. Мертвые, казалось, отгоняли живых единственным, находившимся в их распоряжении, оружием. Чем глубже приходилось спускаться, тем труднее было дышать. Люди задыхались от зловония и многие тут же падали без чувств.
Муниципальные, университетские и десятки частных лабораторий лихорадочно работали над изготовлением дезинфицирующих средств. Целые тонны их выливались в спуски; извлекавшим трупы рабочим были розданы специально приготовленные, для защиты от зловония, маски и пропитанные особым веществом тампоны. Они несколько облегчали положение, но смрад все же был невыносим, и люди более получаса подряд не могли оставаться на этой ужасной работе.
Пришлось установить часовые, а потом и получасовые смены. Но и после такой недолгой работы в глубине этих зловонных клоак, люди выходили оттуда полумертвые и часто тут же лишались чувств. Это пугало свежих, ждавших своей очереди рабочих, и приставленным к ним солдатам стоило немалого труда удержать их от повального бегства.
Пробовали извлекать трупы с помощью особых, приспособленых для этой цели машин, снабженных огромными воздушными насосами; но они действовали плохо, да и то только на небольшой глубине. Без рабочих рук обойтись нельзя было, а их нужны были многие тысячи. Чуть ли не ежечасно приходилось мобилизовывать новые слои населения. Были мобилизованы даже чиновники многих правительственных и муниципальных учреждений. Люди прятались от этой ужасной повинности в домах, в погребах, в сараях, но их вытаскивали силой и под конвоем вели к зловонным клоакам.
Трупы, по мере извлечения, частью сжигались, частью увозились за город, где тысячи людей были заняты рытьем длинных, широких и глубоких ям. Сотнями, точно поленья дров, сваливались в эти ямы трупы, поливались толстым слоем извести и закапывались. Случалось, что импровизированные могильщики опознавали среди них родных и близких; но не было ни слез, ни причитаний, и работа продолжалась в угрюмом молчании, как если бы пережитые за последнее время ужасы изменили саму природу людей и убили в них самые элементарные человеческие чувства. Смерть стала слишком уже обыденным явлением.
Между тем, смрад все сильнее распространялся по городу. Зловонными струями поднимался он вверх, стлался по земле, растекался по улицам и площадям, проникал в дома. Мертвые как бы мстили живым за свою смерть и из глубины своих временных могил слали им грозное, зловещее memento mori. Мстительные, злопамятные, они, казалось, решили задушить своим зловонным дыханием недавно еще великолепный Париж, который и без того был теперь почти уже трупом.
Особенно сильно давало себя чувствовать зловоние в домах, находившихся в непосредственной близости от спусков в подземный город. Дышать здесь с каждой минутой становилось труднее, и люди бежали из этих домов, как бегут от очагов смертельной заразы. Но смрад полз за ними; точно живой, хитрый, коварный враг, он преследовал их по пятам, до самых далеких углов города. Люди запирались в домах, плотно закрывали окна и двери, но смрад, невидимый, бестелесный, всегда находил какую-нибудь щель, в которую и пробирался с безмолвным злорадством победителя.
Лихорадочно работали сотни лабораторий, целыми тоннами изготовляя всевозможные средства для борьбы с этой новой, обрушившейся на Париж напастью. Многочисленная армия фармацевтов и химиков дружно ополчилась на невидимого, неуловимого, но потому еще более страшного врага. И с каждой минутой они все сильнее чувствовали свое бессилье. Надо было во что бы то ни стало поскорей очистить спуски от трупов и глубоко закопать их. Только это могло спасти Париж.
Мертвые властно, настойчиво требовали, чтоб их предали земле. Но тяжелая работа подвигалась с ужасающей медленностью. Тщетно власти молили, приказывали, грозили. Тщетно руководители работ, со Стефеном и Гаррисоном во главе, подбодряли людей собственным примером, бесстрашно спускаясь в зловонные клоаки и помогая извлекать из них трупы: люди работали нехотя, из-под палки. Многие из них задохнулись от зловония, другие испытывали такое головокружение, что их приходилось отводить в ближайшие санитарные пункты.
Солнце уже заходило, разбрасывая гигантской невидимой кистью по небу пурпур и багрянец, а самая трудная часть работы оставалась еще впереди. Трупы были извлечены только до глубины около ста метров, а подземный город находился на глубине в четыреста семьдесят метров.
Нельзя было терять ни минуты. По приказу Комитета обороны работы должны были продолжаться и ночью.
Это решение вызвало громкий ропот.
— А зоотавры? — раздавались голоса. — Они нас всех слопают!
— Хоть бы ночью передышку дали! — возмущались другие.
Снова пришлось пускать в ход убеждения, мольбы, угрозы.
— Поймите же! — в сотый раз кричал охрипшим от напряжения голосом Стефен, торопливо переходя от одной группы к другой. — Ведь это для вас же! Зоотавры грозят гибелью сравнительно немногим, между тем как от зловония может задохнуться все население Парижа.
Но его плохо слушали. Измученные люди думали только об одном: поскорей бежать от этих проклятых мест, а там будь что будет.
И тысячи людей, несмотря на все принятые суровые меры, бежали. Многие бежали за город, подальше от этого гигантского очага зловония, и беспорядочным, фантастическим табором располагались под открытым небом. Здесь дышалось легко, полной грудью; сюда не доползал невидимый, коварный враг, который так злобно хватал за горло и душил там, в этом ужасном городе, превратившемся в зловонную клоаку.
А в этой клоаке люди продолжали, задыхаясь от смрада, извлекать трупы.
Уже звезды зажглись в потемневшем небе, уже молодой месяц резво стал заигрывать с легкими и пушистыми, как юные барашки, весенними тучками; земля все дальше и дальше уходила в длинный и темный туннель, именуемый ночью, а в злополучном, истерзанном и задыхающемся Париже все еще шла упорная, неустанная борьба с тысячами мертвецов, которые во что бы то ни стало хотели задушить его в своих смрадных объятиях.
Волшебно-красивая майская ночь набросила на город свой темный звездный плащ, но не покой, не забвение несла она людям, а новые тревоги и новый ужас: высоко в небе, гигантскими темными громадами, один за другим стали появляться зоотавры.
XVIII
На другой день, 18 мая, в городе открылась эпидемия. Люди заболевали какой-то новой, неизвестной еще болезнью, которую не могли определить врачи. Начиналась она тошнотой и таким сильным головокружением, что больные не могли удержаться на ногах; потом шли ужасные рвоты, которые продолжались без малейшего перерыва целыми часами. Глаза наполнялись кровью и вылезали из орбит, лицо и все тело покрывалось бурыми пятнами; больные корчились в нечеловеческих муках, как если бы внутренности их жгли раскаленным железом, извивались, катались по земле и умирали.
Окружающие заражались от них и тоже, после нескольких часов ужасных страданий, умирали. Были поголовно больные семьи. В некоторых домах страшная эпидемия в несколько часов сваливала всех жильцов, так что некому было ходить за заболевшими. Дом в буквальном смысле вымирал, и когда в него заглядывал свежий человек, он находил только скрюченные в предсмертных муках трупы с вылезшими из орбит огромными остеклевшими глазами.
Ни один из заболевших не выздоравливал. Это была мертвая хватка: раз вцепившись в свою жертву, страшная болезнь разжимала свои цепкие когти только тогда, когда несчастный испускал дух.
Особенно сильное опустошение производила эпидемия среди беднейшего населения, в частности, среди беженцев из провинции, которые жили скученно, в бараках, амбарах, а еще чаще среди развалин разрушенных домов. Смерть как бы задалась целью разредить население Парижа, который, несмотря на тысячи ежедневно уносимых жертв, продолжал задыхаться от избытка приливавшей крови.
Новые, импровизированные кладбища росли с каждым днем. Вокруг Парижа тянулись длинные ряды свежих общих могил. По соседству с живым городом вырастал город мертвых, который все плотнее заселялся за счет живого, — огромный, тянущийся на километры некрополь, в котором тысячи и тысячи парижан ежедневно находили успокоение от пережитых ужасов.
Работы по извлечению трупов из спусков в подземный город пришлось приостановить, так как большинство рабочих становились жертвой ужасной эпидемии и в свою очередь разносили заразу по всему городу. Оставшиеся в спусках трупы были залиты известью и всякого рода дезинфицирующими веществами, а сами спуски герметически закрыты в ожидании момента, когда снова можно будет приступить к работам. Мертвецов наглухо заперли в огромных глубоких склепах, чтобы защитить от них живых.
19 мая, рано утром, разразилась буйная весенняя гроза. Тысячи мощных токов сталкивались в воздухе над самым городом. Казалось, что рать огненных воинов в огненных колесницах скачет по небу, забрасывая друг друга ослепительными огневыми стрелами. От их титанической борьбы содрогалась земля и испуганно разверзалось, до самых своих сокровенных глубин, небо. Гулкими раскатами, с буйным задором, проносились над землей удары огневых стрел об огневые доспехи.
Потом начался ливень, — обильный, долгий, упорный. Небо, казалось, плакало неземными слезами над несчастьями земли. И эти слезы принесли земле облегчение: воздух очистился, и люди, в первый раз после ряда долгих мучительных дней, вздохнули свободно, всей грудью. И то, что стало вдруг возможно дышать легко и свободно, казалось им таким огромным счастьем, что они подолгу вбирали в легкие воздух, как если б они никогда еще в жизни не испытывали такого наслаждения.
Дождь шел почти без перерыва часа четыре подряд, как если бы небо задалось целью основательно очистить и промыть землю. Потом, после передышки в несколько часов, снова разразилась буйно-веселая, пьяно-задорная гроза с ливнем.
— Неужели и сегодня прилетят зоотавры? — спрашивали себя люди, с тревогой всматриваясь в темное, грозно нахмурившее брови небо.
Там, за этими низко нависшими тучами, чудились притаившиеся чудовища, выжидавшие момента, чтобы ринуться на землю. Иногда та или иная туча принимала на мгновение смутные очертания зоотавра, и страх сжимал сердца смотревших на небо людей.
— Зоотавры! Зоотавры! — раздавались тревожные крики.
— Ничего подобного! — возражали люди с более спокойным темпераментом, не так легко поддающиеся панике. — Это самая обыкновенная туча.
— Да нет же, это зоотавры, говорят вам! — настаивали более нервные. — Вот он сделал движение хвостом и повернулся на бок.
И они сломя голову бросались бежать, ища спасения от пока еще призрачной опасности.
Скоро зоотавры действительно появились. Их пока еще не было видно из за туч, но они уже пронизывали их своими длинными, таинственными прожекторами. Зыбкие столбы ослепительно-яркого света падали на город, упирались то в землю, то в крыши домов, то в церковные шпили, точно ища точку опоры. Озарявшие небо молнии резво наскакивали на них, но гасли при первом прикосновении к ним. Стало нестерпимо светло, светлее, чем днем; не было уголка, где люди могли бы укрыться от этого зловещего, чреватого тысячью опасностей света.
А еще через минуту, как бы послав людям предостережение, зоотавры, при блеске молнии и раскатах грома, ринулись на Париж.
XIX
Только через неделю удалось, наконец, совершенно очистить спуски от трупов.
Целых два дня после этого их вентилировали. Для того, чтобы усилить приток воздуха в подземный город, были устроены десятки новых отдушин. В разных концах поставлены были гигантские электрические вентиляторы, которые производили такой ветер, что находившиеся поблизости рабочие едва могли устоять на ногах.
По приблизительным данным, число погибших в эти роковые дни от зоотавров, эпидемии, пуль и в спусках, доходило до трехсот тысяч. Из живого тела Парижа с кровью был вырван большой кусок, и казалось, что он никогда не оправится от нанесенной ему раны.
Но жизнь берет свое. Мертвецы были похоронены и мирно спали на выросшем вокруг города гигантском кладбище. Толстый слой земли, отделявший их от живых, мало-помалу покрывался молодой, нежно-зеленой весенней травкой, которая как бы символизировала вечное торжество жизни над смертью. То, что покрыто землей, забывается, точно память человеческая не в силах пробиться через могильные холмы, перейти грань, отделяющую живое от мертвого.
С каждым днем живой Париж оправлялся понемногу от нанесенной ему страшной раны, забывал своих мертвецов и с животным эгоизмом думал только о том, чтобы спастись от нагрянувшей неведомо откуда беды.
Работы по сооружению подземного города возобновились с удвоенной энергией и быстро подвигались вперед. Тысячами копошились люди в недрах земных, темных и таинственных, никогда еще не видавших человека и встречавших его с враждебной неподатливостью. С жутким гулом отдавались удары буравов и машин о первозданные стены: изгоняемый из своего жилища человек стучался в новое жилище, стучался неутомимо, настойчиво, с упорством путника, которому некуда больше идти.
Дружно спорилась работа. Измученные непрекращающимися ужасами, парижане видели теперь единственное спасение в подземном городе и взялись за дело с энергией отчаяния. Работы производились в три смены, днем и ночью, без малейшего перерыва.
Комитет обороны долго не решался ввести ночную работу: боялись, что если спуски останутся на ночь не запертыми, в них, в момент налета зоотавров, ринутся охваченные паникой толпы, и повторятся ужасы памятной роковой ночи.
Стефен не разделял этих опасений.
— Парижане получили слишком тяжелый урок, — говорил он, — и, поверьте, будут теперь благоразумнее.
— Толпа всегда толпа, — возражали ему более скептически настроенные коллеги. — Когда она охвачена паникой, у нее перестают функционировать задерживающие центры.
Но Стефену все же уступили и решили произвести опыт. На всякий случай у всех спусков поставлены были автоматические пожарные насосы, чтоб обдавать из них водой толпу, если б она вздумала напирать.
Комитет обороны выпустил воззвание к населению, в котором, между прочим, говорилось:
«Граждане! Париж заплатил десятками тысяч жертв за свое неблагоразумие. Мы твердо верим, что этот тяжелый урок не пропадет даром. Помните, что нас могут спасти только железная выдержка и спокойствие. Ночные смены значительно ускорят ход работ и тем самым спасут многие тысячи жизней, но если население вздумает спасаться от зоотавров в открытые спуски, разразится новая катастрофа, и сооружение подземного города снова и надолго затормозится.
Граждане! В ваши руки отдаем мы дело спасения Парижа. Пусть каждый из вас, в сознании лежащей на нем великой ответственности, удерживает своих менее благоразумных сограждан. Не верьте клеветникам, которые вздумали бы распространять слухи, что галереи подземного города служат по ночам убежищем для привилегированных. Перед лицом грозной опасности нет привилегированных. Все равны! В интересах справедливости, вся рабочая армия будет разбита на четыре отряда, которые будут работать посменно, то днем, то ночью. Кроме назначенных в ночные смены и заведующих работами, никто в подземный город допускаться не будет, какое бы он высокое положение ни занимал. Правительство и высшие чины администрации будут оставаться, вместе со своими семьями, наверху, разделяя с остальным населениям все опасности».
Стефен оказался прав: на этот раз население не осталось глухо к голосу разума. Оно это доказало в первую же ночь: несмотря на жестокий налет зоотавров, никто не пытался искать спасения в спусках.
На следующее утро многотысячные толпы еще не мобилизованных на работы граждан устремились в мэрии, умоляя, чтоб их занесли в рабочие списки: они надеялись этим путем хоть время от времени попадать на ночные работы и таким образом хоть часть ночей проводить в безопасности.
Приходили свободные от трудовой повинности старики, подростки, женщины. «Союз французских женщин» организовал, несмотря на запрещения уличных сборищ, внушительную манифестацию. Стройными рядами двинулись тысячи женщин к зданию министерства внутренних дел, где в это время заседал Комитет обороны; на красивых, колыхавшихся впереди каждого отряда, вышитых шелком знаменах, красовались надписи: «Мы тоже хотим участвовать в спасении Парижа! Да здравствует трудовая мобилизация женщин!»
Комитет обороны принял делегацию манифестантов с председательницей Союза французских женщин, знаменитой феминисткой Маргаритой Дюкро, во главе. Она произнесла длинную речь, в которой говорила об эгоизме мужчин, всегда оттесняющих на задний план слабую половину рода человеческого, и о священных правах женщин.
— Сударыня, тут речь идет не о правах, а об обязанностях — и обязанностях очень тяжелых! — возразил ей Сте-фен. — Что касается прав, вы, женщины, кажется, не имеете основания жаловаться: вы пользуетесь всеми решительно правами, и вдобавок присвоили себе еще одно, так сказать, сверхштатное право, каким мы, мужчины, не пользуемся.
— Это какое же? — запальчиво, готовая к бою, спросила госпожа Дюкро.
— Право не считаться с законами.
— Что вы этим хотите сказать, г. президент?
— То, что вы нарушили декрет о запрещении каких бы то ни было собраний под открытым небом. Мужчинам это, вероятно, даром не прошло бы: в переживаемые нами ужасные дни необходима железная дисциплина; но вы, женщины, спекулируя некоторым образом на нашем рыцарстве…
— Господин президент! — тоном оскорбленного достоинства перебила его госпожа Дюкро. — Я бы вас просила…
— Хорошо, не будем об этом говорить. Повторяю: речь тут идет не о каких-либо попранных правах, а о тяжелой обязанности, от которой правительство хотело освободить женщин. Работа в подземном городе требует сильных мускулов и большой выносливости. Но если вы настаиваете… Мы обсудим этот вопрос и, быть может, найдем возможность удовлетворить ваше желание.
— Это не только желание, но и требование! — сухо возразила председательница Союза французских женщин, с вызовом глядя на Стефена.
Он с любопытством взглянул на эту маленькую, худенькую женщину, почти уже старушку, в груди которой билось сердце неугомонного борца, и улыбнулся улыбкой взрослого человека, выслушивающего угрозы ребенка.
— Хорошо, пусть требования! — согласился он. — Я позволю себе только заметить, что вам следовало бы формулировать его несколько недель назад, когда работы только начались.
— На что вы намекаете, господин президент?
— Я не намекаю, а прямо говорю: тогда, когда у нас была острая нужда в рабочих руках, вы молчали, а теперь… теперь даже дряхлые старики умоляют, чтобы их занесли в рабочие списки.
Госпожа Дюкро поднялась во весь свой крошечный рост, и глаза ее стали метать молнии. Стефену вдруг стало жаль эту маленькую, фанатично преданную делу женщину, и он поспешил успокоить ее.
— Простите, если я был несколько резок, — сказал он. — Мы все теперь так нервничаем, что надо быть снисходительным. Очень уж тяжелое время… Будьте покойны, я постараюсь, чтобы женщины были допущены к работам.
Он сдержал слово. На следующий же день десятки тысяч женщин были включены в рабочие списки.
XX
Неделю спустя две улицы подземного города, в полтора километра длины каждая, были почти уже совершенно готовы. Параллельно с прокладкой улиц строились и дома. Благодаря изобретенному архитектором Берсеном способу, остовы домов изготовлялись из бетона и железа на бетонных заводах и в почти законченном виде, разобранными, спускались в подземный город. Там их вновь составляли, утверждали на заранее приготовленных фундаментах, прилаживали окна и двери, — и шестиэтажный дом, могущий вместить 200, а в случае нужды и до 300 человек, был готов. Опыт показал, что сотня рабочих может воздвигнуть такой дом в тридцать-сорок часов. Потом за него брались механики, которые прилаживали всякого рода аппараты, трубы, провода, подъемные машины, звонки, телефон. Наконец, он переходил в руки женщин, которые мыли, чистили, скребли и, вообще, приводили его в жилой вид.
Одна за другой вырастали в подземном городе шестиэтажные громады из бетона, железа и стекла, снабженные всем современным комфортом, могущие угодить самым требовательным вкусам. Нижние четыре этажа были разбиты на изолированные квартирки в 2 комнаты; верхние два — заключали в себе комнаты для одиноких людей и бездетных супругов. В нижнем этаже помещались также общие кухни, а на самом верху, под крышей, прачечная. На крышах были разбиты зимние сады. Дома были отделены друг от друга небольшими дворами и окружены палисадниками.
Через каждые десять домов разбиты были большие, в две тысячи квадратных метров, сады, в которые пересажены были фруктовые деревья из Парижа и его окрестностей; сады эти могли в то же время служить и огородами. Высчитано было, что каждый из них, при интенсивной культуре и под руководством опытных садовников, может доставлять фрукты и овощи для обитателей десяти домов, т. е. приблизительно для 2000–2500 человек. Подвальные этажи многих домов были отведены под кооперативные магазины, пекарни и всякого рода мастерские. Для крупных промышленных предприятий, как например фабрик, заводов, электрических станций, складов, — строились особые, специально приспособленные здания.
По улицам были проложены однорельсовые пути для жироскопов, и на них уже стояли несколько новеньких, кокетливых одноколесных вагонов. Такие же пути предполагалось проложить по всей подземной Франции по мере того, как будут подвигаться вперед работы. В центре была устроена аэростанция для воздушного сообщения, и на особой платформе, на высоте около тридцати метров, помещался огромный, имеющий форму сигары аэробус, в котором могли поместиться до ста пассажиров.
Из конца в конец готового уже участка подземного города прорыт был канал в двадцать пять метров ширины и шесть метров глубины, с гранитной набережной, пристанями, небольшими доками и переброшенными через него там и сям легкими, изящными мостами.
5 июня, когда постройка первого участка подземного Парижа была уже совершенно закончена, Кресби Гаррисон пригласил для осмотра его весь наличный состав Комитета обороны, а также наиболее видных членов муниципалитета, парламента и Академии наук. Посетители с глубоким интересом осматривали, при свете электрических фонарей, дома, фабричные здания, общественные магазины, рельсовые пути, канал. Гаррисон и его помощники едва успевали отвечать на сыпавшиеся со всех сторон вопросы.
Особое внимание гостей привлекла воздухоплавательная станция.
— Неужели у нас тут и авиация будет? — воскликнул знакомый уже читателю академик Оскар Серадель.
— Увы! Лишь в самых скромных размерах! — ответил Гаррисои. — Под этими бетонными сводами не очень разлетишься. Воздушную стихию придется предоставить зоотаврам. Это, впрочем, имеет и свою положительную сторону.
— А именно?
— Мы здесь будем избавлены от многих непроизводительных расходов. Во-первых, от затрат на военный воздушный флот. Здесь он невозможен, да, надеюсь, и не нужен будет. Во-вторых, от расходов на морской флот: его у нас тоже не будет, если не считать легких пароходиков, грузовых барок и лодок, которые будут плавать по каналам, перевозя пассажиров и товары. О гигантских плавучих дворцах и крепостях, обо всех этих супер-дредноутах, миноносцах, великолепных трансатлантиках и пр., придется позабыть. Человечество только выиграет от этого.
— А как же с радиотелеграфом? — с тревогой спросил известный физик, член Академии наук Жюль Дюбуа, заведовавший центральной радиотелеграфной станцией.
Многие улыбнулись.
— Увы, cher maitre! — сказал Гаррисон. — Вам придется на время отказаться от вашей столь плодотворной деятельности: под землей радиотелеграф явился бы слишком большой роскошью. К тому же, он тут совершенно неприменим: не забывайте, что у нас вместо неба будет над головой слой земли в четыреста с лишним метров.
— Неужели придется совершенно отказаться от возможности сношений на расстоянии? — испуганно воскликнул Жюль Дюбуа.
— Опасность не так еще велика, — поспешил успокоить его Гаррисон. — Надо будет только прибегнуть к старым, давно уже сданным в архив приемам, шагнуть, так сказать, чуть не на целое столетие назад.
— Уж не имеете ли вы в виду телеграф Морзе?
— Увы, да! Как это ни печально, придется, по всей вероятности, ставить вдоль улиц столбы и натягивать между ними проволоку.
— Это почти возврат к временам варварства! — воскликнул известный историк культуры Этьен Деларош.
— Скажите спасибо и на этом! — возразил Стефен. — Если уж нам суждено обратиться в кротов, мы будем как-никак кротами сравнительно цивилизованными: ведь настоящие кроты даже о телеграфе Морзе не имеют представления.
— Нельзя сказать, чтобы тут было очень светло! — сказал Оскар Серадель. — Надо будет даже днем работать при электрических лампах.
— Успокойтесь, мы обойдемся без них, — ответил Гаррисон. — Одну минуту, господа!
Он шепнул что-то сопровождавшему его механику. Тот быстро ушел куда-то. Несколько минут спустя электрические лампы потухли и настала кромешная тьма, а еще через минуту подземный город озарился ярким светом, который мало чем отличался от солнечного.
Посетители ахнули от восторженного изумления.
— Да ведь это настоящее солнце! — послышались возгласы.
— Уж не с неба ли вы его похитили?
— Нег, небесное солнце слишком хорошо подвешено, — с улыбкой ответил Гаррисон, — и стащить его было бы нелегко. Мы, поэтому, удовольствовались небольшой копией. Вышло, кажется, недурно? Не правда ли?
Все подняли головы вверх.
Под самым сводом, на высоте тридцати приблизительно метров над домами, в центре готового уже участка подземного города был подвешен небольшой шар, от которого лился ровный, мягкий и в то же время яркий свет, почти ничем не отличающийся от солнечного.
— Что это за свет? — заинтересовался Жюль Дюбуа.
— Гамперовский, — ответил Гаррисон. — Он назван так по имени его изобретателя, американца Гампера, который недавно демонстрировал его в Нью-Йорке. Это, собственно, друммондов свет, но пропускаемый через особые, изобретенные Гампером, трансформаторы. Наше солнце будет светить круглые сутки, так что сделает совершенно ненужным электричество, которое будет употребляться только для всякого рода хозяйственных надобностей и в промышленности. Этого фонарика вполне достаточно для освещения всего подземного Парижа, и по мере того, как город будет разрастаться, мы будем передвигать его с тем расчетом, чтобы он всегда висел в центре.
Посетители медленно шли по широкой, вымощенной матовыми брикетами улице, обсаженной с обеих сторон густыми, разросшимися каштановыми деревьями, и с живым любопытством осматривали чудеса подземного города.
— Улица, по которой мы теперь проходим, называется Итальянский бульвар, — сказал Гаррисон, — а параллельная ей — Ришельевский проспект. Вообще, мы решили давать улицам привычные парижанам названия, чтобы они не так остро чувствовали разлуку со своим Парижем. Сейчас мы выйдем на площадь Согласия, — пока еще единственную. Впоследствии, по мере разрастания подземного города, у нас будут площади Республики, Бастилии, Этуаль и т. д.
Скоро вышли на площадь Согласия. Она, разумеется, была гораздо меньше своего надземного прототипа. На ней шла еще усиленная работа. Там и сям зияли вырытые для фундаментов ямы и возвышались остовы незаконченных еще домов.
— Эта площадь будет одним из центральных пунктов подземного Парижа, — пояснил Гаррисон. — Здесь вот будет дворец нашего уважаемого президента…
— Который, надеюсь, ничем не будет отличаться от остальных домов? — перебил его Стефен.
— Только тем, что в нем будет жить один из замечательнейших и благороднейших людей нашего времени, — ответил Гаррисон. И как бы для того, чтобы не дать Стефе-ну времени протестовать, продолжал:
— Внушительный, пока еще очень неприглядный остов, который вы видите рядом, будет служить помещением для министерства внутренних дел, финансов и общественных работ.
— Кстати? — спросил один из посетителей. — Военное министерство останется?
— Нет, оно будет упразднено, точно так же, как и морское министерство, — ответил Стефен. — Под землей войны невозможны, при всей драчливости людей. Конечно, часть армии придется удержать, но она будет исполнять исключительно полицейские функции. Пока что, будет упразднено и министерство иностранных дел: сношения между отдельными государствами нашего будущего подземного мира вряд ли будут возможны, по крайней мере, на первых порах… Однако, будем продолжать осмотр. Мы вас слушаем, дорогой Гаррисон!
— Здесь вот, — сказал Гаррисон, указывая рукой на огромный, полукруглый остов здания, внутри и вокруг которого толпились сотни рабочих, — будет городской театр.
— Один на весь город?
— Да, пока что придется довольствоваться малым. Но недостатка в зрелищах у парижан не будет: во все дома нашего подземного Парижа будут проведены из театра специальные фоноскопы, которые дадут возможность каждому и всякому, сидя у себя дома, слышать и видеть все, что происходит на сцене. Правда, в надземном Париже, несмотря на существование фоноскопов, публика все же предпочитала посещать театры, из желания людей посмотреть и себя показать; но здесь им волей-неволей придется быть скромнее: постройка десятков театров и содержание целого штата актеров и актрис — для нас слишком большая роскошь. По мере сооружения других подземных городов, мы и их соединим фоноскопами с нашим театром, — так что в нем, так сказать, будет монополизировано сценическое искусство. Это даст возможность выбирать лучшие, первоклассные артистические силы. Там вот, в самой глубине площади, налево, будет воздвигнут храм, который мы решили назвать собором Парижской Богоматери. Он тоже будет связан с фоноскопической сетью, так что не только Париж, но и вся Франция будут иметь возможность, так сказать, заочно присутствовать на мессах и слушать проповеди лучших наших проповедников.
— А парламент? — с тревогой в голосе спросил один из депутатов.
— Успокойтесь! — с улыбкой ответил Гаррисон. — Будет и парламент. Он будет выстроен в близком будущем на площади Республики, к сооружению которой приступили только на днях.
— Позвольте уж мне, с своей стороны, полюбопытствовать относительно Академии наук, — сказал президент академий Марсель Дювернуа. — Или вы нас тоже собираетесь упразднить за ненадобностью?
— Господь с вами, cher maitre! — воскликнул Гаррисон. — Наука, можно сказать, главный нерв современной жизни, ее двигательная сила. В частности, славная французская академия — это мозг страны, и упразднить ее значило бы совершить, в некотором роде, самоубийство. Нет, нет, научные центры будут перенесены сюда целиком: Академии, университету, Пастеровскому институту, всем высшим учебным заведениям будут отведены самые почетные места… Ну-с, господа, а теперь мы попросим уважаемого профессора Ленуара, которому следовало бы поднести титул министра земледелия нашего подземного царства, показать нам обработанные под его просвещенным руководством поля.
Профессор Ленуар, директор парижского Ботанического сада, маленький человек с огромными очками на носу и огромным цилиндром на голове, неловко поклонился.
— Если угодно, господа, — сказал он, — я к вашим услугам. Будьте добры следовать за мной.
Оживленно беседуя, группа почетных посетителей прошла до конца Итальянского бульвара и, следуя за Ленуаром, свернула направо.
— Теперь мы уже за городом, если можно так выразиться, — вступил Ленуар в исполнение обязанностей чичероне. — Видите вы, господа, эти поля?
— Не только видим, но и обоняем их! — ответил Стефен. — Совсем деревенский воздух!
Действительно, вплотную за городом, на добрых три километра в длину и около полутора километров в ширину, тянулись, точно разноцветные ковры, поля, засеянные рожью, пшеницей и ячменем. Колосья доходили до пояса. Вперемежку с ними росли васильки, маргаритки и другие полевые цветы.
— Через пару недель будем жать, — сказал профессор, сорвав один колос и рассматривая высыпанные на ладонь зерна.
— Так скоро! Но когда же вы засеяли эти поля? — послышались удивленные вопросы.
— Ровно две недели тому назад. Круатин, которым мы удобряем поля, положительно творит чудеса. Он содержит в себе все, что необходимо для питания злаков, почти полностью заменяя им землю и влагу. Со временем мы, пожалуй, дойдем до того, что можно будет выращивать хлеб на голых камнях, без всякой примеси земли. — Пока что мы без нее обойтись еще не можем, но зато мы будем иметь возможность снимать в течение года двенадцать урожаев.
— То есть как двенадцать?
— Очень просто: ведь тут, под землей, круглый год стоит одинаковая температура, и нам не придется считаться с переменами погоды. Наоборот, мы время от времени сами будем искусственным путем менять температуру с помощью особых калориферов и фригориферов, действие которых, благодаря специально приспособленным воздушным насосам, может распространяться либо на все засеянное пространство, либо, в случае надобности, только на отдельные участки. С другой стороны, применяемая нами ирригационная система, недавно изобретенная профессором Миланского университета Кроччи, дает нам полную возможность орошать поля, в течение какого угодно времени, регулярно падающим, ровным искусственным дождем, который ничем не отличается от настоящего.
Профессор Ленуар подвел свою аудиторию к огромной машине, от которой радиусами расходились широкие каучуковые, туго натянутые рукава.
— Это небулятор, — пояснил он. — Изобретение одного простого парижского механика, специально для наших подземных полей. Приведенный в действие, он в огромном количестве выделяет особый пар, который по своему химическому составу ничем не отличается от тумана и который через эти вот рукава расползается по всей засеянной площади, задерживаясь на ней по несколько часов.
— Много у вас тут народа занято?
— Очень мало, всего около трехсот человек, да и те наполовину заняты уходом за машинами. Мы запрягли в работу этих вот молодцов! — сказал Ленуар, указывая на длинный ряд стоящих в безукоризненном порядке, точно на выставке, машин. — Добрые работники! Этот вот электрический плуг в состоянии выпахать около пяти гектаров в час почти без приложения человеческого труда; он скомбинирован с сеялкой, так что вспаханные участки тут же и засеиваются. В свою очередь, наши жатвенные машины, скомбинированные с электрическими молотилками, также дают огромную экономию во времени. Затем уж зерно попадает в электрические мельницы, а оттуда в общественные пекарни.
— На какие урожаи вы рассчитываете?
— В сорок или пятьдесят раз большие, чем на земле. С одной стороны, мы, вместо одного раза в году, будем снимать хлеб двенадцать раз; с другой, благодаря круатину и другим никогда еще не применявшимся усовершенствованиям, мы получим густо растущие, налитые почти до земли полновесным зерном колосья.
— И вы думаете, что засеянного здесь хлеба хватит на весь подземный город? — с нотками сомнения в голосе спросил физик Жюль Дюбуа.
— О нет! Его может хватить, по нашим расчетам, не больше чем на полмиллиона человек. Этого, конечно, недостаточно, но не надо забывать, что по мере дальнейшего сооружения подземного города будут расти отводимые под поля земельные участки. К тому же, население Парижа сможет получать часть хлеба с полей, прилегающих к другим проектируемым подземным городам, гораздо менее населенным.
— Иначе говоря, оно по-прежнему будет жить на положении паразита, высасывающего соки из провинции, — с веселой усмешкой сказал Стефен.
— Ничего не поделаешь, господин президент! — возразил Ленуар. — Если мы из провинции высасываем соки, она зато питается нашим мозгом. Таков уж закон, управляющий современным обществом!
— Увы, даже в новой, подземной фазе существования человечества управляющие им законы останутся незыблемыми! — вставил Гаррисон.
— А жаль! — вздохнул Стефен. — Так хотелось бы начать там совершенно новую жизнь, возродиться или по меньшей мере переродиться!
— Вы в своих желаниях заходите слишком далеко, дорогой президент! — возразил Гаррисон. — Я менее требователен и буду счастлив, если нам удастся хотя бы избежать опасности вырождения. Это уже само по себе было бы великим торжеством человеческого гения.