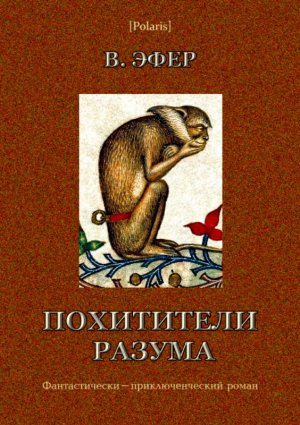
Часть первая
ЧЕЛОВЕК, УКРАВШИЙ ГРЯДУЩЕЕ
1. Мы и наши предки
Ветер порывистыми шквалами гонит толпящиеся, клочковатые, густые, грязные облака. Клубы пыли и дыма поднимаются с земли к едва проясняющемуся небу…
Полная луна, прорвав, наконец, пелену низких облаков, освещает голубоватым светом пустынный и унылый ландшафт… Земля усыпана валунами, ракушками и песком.
Гонимое смертельным страхом, будто вихрь, пронеслось стоголовое стадо обезьян и скрылось вдали, в черной неизвестности.
У темного каменного грота сидит на корточках волосатое двуногое и настойчиво трет палку о палку… Показалась искра, загорелись дрова, — вспыхнувший огонь осветил звероподобное, низколобое, с глубоко запрятанными в орбиты глазами, существо…
Доисторический человек, в накинутой на плечи звериной шкуре, мастерит каменное орудие. К прочному древесному суку, полосами сыромятных ремней, затейливо переплетая их, привязывает едва обработанный кусок кремня. Первобытный мастер увлекся работой. Он не замечает, что за его спиной из темноты показывается огромный чешуйчатый ящер. Он крадется тяжело, но бесшумно. Разверзлась метровая пасть, густо усаженная огромными зубами. Мгновенье, и человек, издав вопль ужаса, очутился в ней.
— Гао! Гао! Гао! — кричит волосатая подруга погибшего самца, и, прижав к себе детеныша, бежит к отдаленным кострам, горящим перед пещерами.
— Гао! Гао! Гао!
Отовсюду бегут двуногие полузвери-полулюди. Страх перед более сильным согнал и объединил их в стадо.
— Агу! Агу! — раздается могучий рев стада людей, отдающийся эхом в скалах и девственном лесу.
Снова показывается ящер, но не отступили, не побежали люди каменного века: окружив ненавистного, смертельного врага, воинственно размахивая примитивным оружием, они первыми напали на него. Один ударил чудовище в глаз, второй всадил в пасть заостренный с двух концов кол, третьи уцепились за хвост… После ожесточенной битвы ящер был повержен.
Победители прыгают вокруг, исполняя первый танец человека, под звуки примитивной музыки, напоминающей барабанную дробь. Музыканты в такт ударяют камнем о камень…
— Хорошо, однако, что мы живем не в те времена, а в двадцатом веке, — произнес элегантно одетый молодой человек в закрытой ложе мюзик-холла.
— М-да. Нелегко было нашим предкам в борьбе за существование. Ее законы существуют и поныне, правда, в несколько измененной форме и мы, дипломаты, зачастую ведем ее в более приятных и безопасных местах за бокалом вина, а иногда и в приятном дамском обществе. Сражающиеся на поле брани великие армии ныне — это та же борьба. Суть неизменно остается та же, — наставительно произнес, обращаясь к своему молодому секретарю, полномочный посол. Он, вооружившись биноклем, внимательно рассматривал на сцене экзерциции первобытных людей, сам оставаясь в тени за драпри дипломатической ложи.
Пятнадцать тысяч зрителей, заполнивших партер, амфитеатр и ярусы, затаив дыхание, смотрели грандиозную панораму — ревю «Мы и наши предки».
— Хм… — продолжал посол, обращаясь уже более к самому себе, нежели к собеседнику. — Любопытно… Крайне любопытно! Неужели?! — Он слегка подкрутил кремальеру бинокля и некоторое время смотрел молча. — Да, несомненно! Это отнюдь не грим! Понимаете — не грим! Это подлинные питекантропусы… В крайнем случае — чудесно выдрессированные обезьяны!.. Но, черт возьми! Заставить обыкновенных мартышек разыгрывать целые трагедии и баталии на сцене! Это задача не по зубам просто дрессировщику… Кстати, — адресуясь уже непосредственно к секретарю, прервал свои «мысли вслух» посол, — займитесь на досуге сбором информации об этом… ну, скажем, — дрессировщике и его артистах… В них что-то есть! — повертел он в воздухе пальцем, как бы закругляя свою мысль. — Как знать, может быть, они нам на что-нибудь пригодятся… Займитесь, займитесь ими.
— Будет исполнено, патрон, — коротко ответил молодой человек.
Тем временем с арены исчезли бутафорские камни и пещеры. Как бы вынырнув из седины веков, появляются марширующие колонны рыцарей древних мифов. Сотни воинов в сверкающих доспехах маршируют по безводной пустыне. Вращающаяся арена вынесла из-за кулис мастерски выполненные стены и башни древней Трои. Хитрые и храбрые воины, ведущие осаду крепости, подвозят к самым воротам огромного деревянного коня.
— Тоже поучительно-с!.. — снова звучит голос посла в дипломатической ложе, — хитрость найдет себе широчайшее, небывалое применение в будущих войнах.
Выхоленный палец посла, украшенный сверкающим изумрудом чудовищной величины, многозначительно и предостерегающе поднимается вверх…
— Так точно, герр Линкерт, — по-военному, коротко отвечает секретарь.
— Однако, все остальное в программе уже пустяки. Кабак… Балаган… — Посол поднимается со своего места, жестом удерживая тоже порывающегося подняться секретаря.
— Вы можете остаться и досмотреть до конца постановку, мой юный друг… Может быть, вы облюбовали какую-нибудь из наших очаровательных прародительниц… Что ж, познакомьтесь и повезите ее поужинать в «Вальдорф-Асториа»… А нашего дрессировщика не упускайте из виду…
Лакей посла открывает перед ним двери ложи и затем быстро бежит по пустым коридорам к выходу вызвать автомобиль.
Вся история человечества, меняющимся калейдоскопом форм и красок, проходит перед изумленными богатством постановки зрителями.
Наступает двадцатый век…
Затянутый в безупречный фрак, молодой мужчина неестественной красоты, ведет в танце совершенных форм и неимоверного обаяния женщину; после каждого па возвышается пьедестал, вынося вверх танцующих, как на огромной хрустальной вазе с высокой, в несколько метров, подставкой.
Высокий, прозрачный пьедестал освещен изнутри неоновыми трубками. Световые снопы прожекторов преломляются в висящих вокруг вазы гирляндах разноцветных подвесок: аквамарины, топазы, аметисты и рубины сверкают павлиньим хвостом радуги, как пенящееся, искристое в брызгах вино.
Пара приковывает всеобщее внимание: тысячи лорнетов, тридцать тысяч глаз направлено на нее.
— ведет популярную мелодию музыка.
Несколько переплетенных радуг появляются над танцующими. Спустившаяся тысячеламповая люстра сверкает миллиардами бриллиантов, но все это не может затмить красоты женщины.
— Как она красива!
— Это мисс Эллен Рито…
— Очаровательна, как ночь любви!..
— Какая фигура!
— Царственная голова!
— Вся она — воплощение прелести и совершенства…
— Это «Мисс Вселенная»… Царица женщин XX века!
Музыка неистовствует и изнывает новым, молниеносно вошедшим в моду танго «Чары прошедших веков», автор которого, все тот же непостижный Боно Рито, — дрессировщик, режиссер, актер, колдун, кумир публики, маленький бесстрастный, с едва заметной косинкой глаз, выходец с далеких островов Желтого моря.
Пятнадцать тысяч голосов подпевают в порыве охватившего всех массового экстаза…
Апофеоз завершается долгим и тягучим, как звуки нового танго, поцелуем ослепительной пары.
Публика неистовствует.
— Бис! Бис! Бис!
На арену летит дождь цветов, которыми публика забрасывает актеров. Вместе с артистами появляется режиссер в безукоризненном смокинге с хризантемой в петлице.
— Боно Рито! Боно Рито! Боно Рито! — неистовствует публика.
Он раскланивается, прикладывая руку к сердцу.
— Бис! Бис! Бис!!!
На сцену выносят корзины роскошных экзотических цветов. Одна из них особенно велика и выделяется среди прочих…
«Это для Эллен»… — мелькает в голове Боно Рито, но вложенная карточка разбивает его догадку — цветы предназначены ему…
«Поражен Вашими достижениями» — написано энергичным почерком на визитной карточке с графской короной — «Полномочный посол». — Ого! — думает Боно Рито, — это признание! Да, это признание!
Искусство и труд дали ему почести, славу и известность. Он стал повелителем массы людей, которые, как загипнотизированные, восхищаются плодами его фантазии, ума и изобретательности.
— Боно Рито! Боно Рито! Боно Рито! Боно, — твердят барабаны. Рито, — поют, выговаривают флейты и кларнеты.
Боно Рито видит свой успех и радуется ему… Но это что?! Побрякушки славы одетого в клоунский наряд лицедея!.. Не для этого он трудился годы, долгие ночи и дни, и не к этому готовил себя… Но это одна из высших ступенек лестницы, с которой он прыгнет в такие выси, что эта жалкая толпа не в состоянии даже представить себе этого… О-о!
Они еще услышат о нем, когда будут париями, а он, Великий Боно Рито, будет главой высшей касты вершителей судеб человечества… Боно Рито чувствует, что движенья его делаются легче, он видит себя уже на вершинах той славы, единственно ради которой стоило терпеть, работать и ждать. Это будет. И будет скоро!
Режиссер уходит. Гром несмолкаемых аплодисментов, как рокот далекого могучего моря, настойчиво преследует его.
— Потушите свет! Объявите, что ревю окончено, — командует он.
Пружинистой и уверенной походкой он идет по ярко освещенному, длинному коридору. На мгновенье останавливается у слегка приоткрытой двери уборной танцора. Сквозь щель виднеется кусок стенного зеркала и… оно неожиданно заслонило весь мир. В зеркале ясно отражена сплетшаяся в объятиях пара…
Его жена Эллен и Эрик Джонс, танцор, ее партнер…
Никто другой не услышал бы их голосов, но слух Боно Рито привык различать едва слышные шорохи и звуки… Он слышит:
— Мы созданы друг для друга…
— Любимый! Я ненавижу его. От него всегда пахнет обезьяной…
Все иллюзии, весь затейливый план, созданный его воображением рухнул, как карточный домик.
— И это она!.. Она, которую я избрал, чтобы только с ней разделить мою славу… — Кровь прилила к вискам Боно Рито, тысячами молоточков выстукивая «там-там», — воинственный танец… Его лицо сохраняет каменную неподвижность, лишь заметнее стала косинка глаз, но рычавшие тигры, увидев его — умолкли, забившись в отдаленный угол клетки.
В роскошной уборной, отделанной золотистой шелковой драпировкой, на мягком диване играет хорошенькая девочка. Кудрявые каштановые волосы спадают на лоб. Человекоподобная обезьяна Зула ревностно следит за девочкой, подымает с пола плюшевые игрушки, разбросанные капризным ребенком, и бережно возвращает своей любимице.
Боно Рито, схватив в объятия Магду, будто впервые увидев, пристально вглядывается в черты своей дочери. Еле заметная косинка глаз ясно доказывает примесь японской крови. Но ребенок, взглянув на свирепое лицо отца, горько разрыдался.
В дверь постучали. Не спеша Боно Рито распахнул ее и, сохраняя бесстрастное выражение лица, пригласил войти незнакомого гостя.
Черный смокинг. Белое пятно тугого пластрона. Породистое, мужественное, волевое, хотя и несколько хищное, гладко выбритое лицо знающего себе цену человека. В петлице блестел неизвестный японцу иностранный орден.
— Прошу, — удивленно протянул режиссер.
— Простите. Я по поручению моего шефа, полномочного посла, пришел поздравить вас с небывалым успехом. Такой грандиозной и великолепной постановки, с таким чудесным замыслом, я не видел еще ни в одной стране мира. Она вызвала восторг и изумление.
Но мимо ушей Боно Рито безразлично текут слова, еще десяток минут тому доставившие бы большую радость.
— Благодарю, — холодно процеживает он.
— Если будете случайно в Европе, или испытаете в чем-либо затруднение, я и мой шеф всегда готовы оказать вам услугу. Желаю успеха!
Визитер вышел, и японец взглянул на оставленную карточку. Тот же модный пергамент… Та же корона и солидная надпись: «Полномочный посол республики»… И карточка сунута в жилетный карман.
Боно Рито, оставив дочь на попечение верной Зулы, вышел в бар.
Актеры, режиссеры, служители, почетные гости — все это, смешавшись в одну пеструю кампанию, кутило, лило вино, било посуду, произносило спичи и целовалось…
Успех, выпавший сегодня на долю обозрения «Мы и наши предки», требовалось отметить. Единственно, кто был сдержан в этой компании — сам творец постановки.
Он часто улыбался и прикладывал руку к сердцу, много пил; но спиртное не действовало на него.
— Выпьем за долгий путь эволюции человечества от обезьяны до современного человека двадцатого века, — раздается голос Эрика Джонса.
— За двадцатый век!!!
— Ура!!!
— «Погоди пить за человека XX века», — фиксируя холодным взглядом танцора, — чеканит мысли Боно Рито, — «я думаю, что тебе скоро придется переменить амплуа, и вместо последнего акта ты будешь восхищать толпу в первом…»
2. Полномочный посол…
Полномочный посол обладал положительной внешностью цветущего, делового человека и был мастером своего дела. Он не говорил «время — деньги», не продавал акций, не занимался биржевыми спекуляциями, но был бизнесмен. Всю эту работу за него проделывали другие. Он делал только политику.
От него излучалось крепкое попурри запахов: аромат дорогих сигар перемешивался с запахом крепкого мужского одеколона «Шипр» и едва уловимого только знатоку коньяка «Берти»… Длинные, холеные пальцы сверкали лакированными ногтями. Указательный палец, которому часто приходилось трудиться, вывязывая в воздухе затейливые, завершающие беседы фигуры, был украшен перстнем с огромным изумрудом.
Посол считал ниже своего достоинства самому работать. Его дело давать указания, направление, мысль или тон. Немногочисленные, но тщательно подобранные служащие понимали его с полуслова. Недаром посол кропотливо подбирал свой штат. Все должно делаться и весь мир должен служить интересам его державы — такова была догма посла.
В самом радужном настроении он начал свой рабочий день. Ровно в десять принял первого секретаря для особых поручений — вылощенного молодого светского человека с аристократическими манерами. Подражая патрону, он также носил на указательном пальце крупный перстень, но не с изумрудом, а рубином. Он исполнительно приготовился слушать.
— Что нового, господин Рипли?
— Ничего особенного, мир кружится по-прежнему, в арсеналах вырабатывают какое-то новое, тайное оружие, в Синг-Синге сегодня в полдень будет казнен на электрическом стуле убийца двадцати трех женщин. Все газеты, захлебываясь от восторга, помещают его фотографии, делая преступника героем дня. Кутила Дорнье проматывает остаток своего состояния — вот, кажется, все новости утренней прессы, — докладывал секретарь.
— Дипломат — это легализированный шпион, являющийся ушами своей страны. Поэтому мы должны все слышать и знать, — повторил свое любимое выражение полномочный посол крупной европейской державы. Он любил новости и слыл в своей стране за самого осведомленного и талантливого дипломата.
Посол помолчал, развалясь в мягком, удобном кресле. В его желудке, запрятанном за солидным брюшком, медленно, но точно, будто то был не желудок, а английский морской хронометр, переваривались любимые венские сосиски. Вот переварилась одна и после коротенькой паузы вступила вторая… Дипломат доволен. Он пустил ровное колечко сигарного дыма, пропустил в него второе и наблюдал за затейливой вязью.
— Узнали что-нибудь о выпуске военных моряков?
— Да, патрон. В этом году они выпустят из всех военно-морских школ сорок семь тысяч мичманов флота, затратив на обучение, в переводе на германские деньги, три с половиной миллиарда. Выпуск этого года означает увеличение личного состава младших офицеров на двадцать семь процентов.
Посол внимательно слушал и, едва улыбнувшись, ответил:
— Прекрасно! Эти сведения включите в последний доклад для отправки на родину. Кстати…
Посол порылся в жилетном кармане, извлек миниатюрную памятную книжечку и, просмотрев ее, произнес:
— Вы познакомитесь с мисс Венцель. Это одна из кандидаток в невесты Н. Племянница дяди, имеющего крупный пакет акций пушечных заводов и контролирующего всю южную сталь…
— Понятно. Туда пойдут двое светских молодых людей, якобы недавно приехавших на континент разыскивать своих родственников. Знакомство с кузинами, ухаживанье и естественно — планы новейших пушек вместо приданого.
— Недурно! Я вижу, что не ошибся, выхлопотав вам назначение на должность первого секретаря особых поручений.
— Благодарю за комплимент, — улыбнулся молодой человек.
— Ну, а как поживает наш уважаемый Боно Рито?
— Цирковая обезьяна мудрит. Его покинула жена и, кажется, он намерен снять со сцены свое нашумевшее обозрение.
— Причины?
— Неясны. Однако там происходит нечто вроде «пронунциаменто».
— Вот как…
— Да. На мои авансы он не идет, и при последнем визите делал вид, что нетерпеливо дожидается его конца.
— Я чувствую, что поторопился сделать вам комплимент… Вы должны принудить его принимать наши авансы. Жду подробностей о его мартышках…
— Трудно, патрон! Известно, что его дрессировка — не просто дрессировка, но что-то поглубже. Поговаривают о его научных экспериментах.
— Научных!?!
— Да. За кулисами театра и в кулуарах — идут самые фантастические слухи.
— Прекрасно. Значит, я не ошибся, чувствуя, что японец может сделать многое.
— Японец, действительно, оказался забавным.
— Проинструктируйте прессу, расположите, если нужно…
— Нападение?
— Немного выждать, а потом несколькими ходами принудить японца уйти со сцены и ретироваться, а там — придем ему на помощь мы. Он должен принимать авансы! Понятно? Обкрутите его так, чтобы он не понял, откуда за ним наблюдают, но не делайте оплошностей, — он ловок и очень хитер.
— Это я знаю.
— Посоветуйтесь с господином Функом. Он непревзойденный художник по плетению искусных сетей для поимки нужных людей.
— Будьте покойны! Японец взят в тесные клещи перекрестного надзора.
— Может быть, нужны дополнительные ассигнования? Получите сколько нужно у Пилли; скажите ему, что для этого дела мною открыт неограниченный кредит.
— Благодарю вас.
— Поспешите с докладом. Материал о Боно Рито идет отдельной шифрованной спешной депешей. Подготовьте мне текст. Учтите, что можете несколько затянуть остальные дела, но японец на первом плане, — произнес дипломат, выпуская одно за другим кольца дыма.
Оставшись, после ухода секретаря, наедине с собой, он задумался.
— Наблюдательность, проницательность, уменье за малым видеть большое и… немного фантазии!.. — сказал он сам себе. — В этом пруде нашлась рыба, которую, кажется, стоит перевести в наш садок!.. Или я очень ошибаюсь, или на этом японце и его человекоподобных обезьянах Вилли Линкерт заработает для родины хороший капитал. Вилли Линкерт не зря избрал карьеру дипломата и отнюдь не даром в Министерстве иностранных дел его считают псом с исключительным нюхом. О! Линкерт — великий дипломат!
3. Зов сердца
За открытым окном модерной квартиры синеет дымка вонючего, отработанного газа. Тысячи автомобилей оглушительными клаксонами и тревожными сиренами безжалостно рвут тишину на мельчайшие клочья.
запела совсем еще молодая, стройная и хрупкая женщина.
— Мамочка! Что ты поешь?
Женщина вздрогнула, оглянулась, взглянула лучистыми, хорошими глазами на проснувшуюся девочку.
— Я пою одну хорошую песенку, — ответила мать, и, поправив непослушный локон, всматривалась в еле заметную азиатскую косинку глаз.
— Что это за хорошая песенка? — допытывалась девочка.
— Это песня о чудном садике на моей далекой родине. Спи, доченька.
Под тихое мелодичное пение вновь уснула девочка. Прислушиваясь к ровному дыханию спящей дочери, Эллен Рито на цыпочках вышла в другую комнату. Здесь она долго стояла, прижавшись лбом к прохладному стеклу.
Не постучав, в комнату вошел Боно Рито и бесшумными шагами дикой кошки нервно разгуливал взад и вперед по устланному ковром полу.
Эллен стояла спиной к нему, но чувствовала каждый раз, с неприятной дрожью, приближение мужа по легкому колебанию воздуха, касающемуся ее полуобнаженной спины в глубоком вырезе платья.
Зловещая тишина и присутствие мужа угнетают Эллен, сдавливая невидимыми тисками все ее существо, сковывая движения. Она чувствует его колючий взгляд на спине — кажется, что его взор излучает какие-то гнетущие, неприятно действующие, гипнотические волны.
Эллен давно чувствует к мужу все растущую неприязнь, с каждым днем переходящую в ненависть.
«Ах, как я устала. Устала душа. Это была роковая и непростительная ошибка. Что я нашла в нем?» — думает Эллен. — «Японец — властный, с чудовищной силой воли, обладатель огромных средств… Благодаря ему — я попала на сцену, но как чужд и далек он мне», — выстукивал телеграфный ключ в аппарате мышления.
«Что делать?» — спрашивало благоразумие.
«Уйди от нелюбимого», — подсказывала любовь.
«Эрик! — все для тебя. Ты моя надежда, любовь, обаяние, красота и совершенство», — решает женщина.
Боно Рито не слышит этого диалога, ибо слышать его нельзя. Но каким-то обостренным до крайности шестым чувством — он понимает каждое его слово и мысль, каждую интонацию… и губы его сжимаются все плотнее, а шаги делаются пружинистее, еще более кошачьими.
«Мы созданы друг для друга… — Диалог сменяется монологом в сознаньи Эллен. — Драгоценные мгновенья счастья на освещенном пьедестале, сверкающие бриллиантами чувства! Это короткий, как любовь пчелы, но яркий день — минутные рассветы и ранние сумерки, когда я вижу Эрика, а остальное?! Остальное — все ночь, напряженная, таинственно-фантастическая, страшная ночь, где каждую минуту ждешь всякой неожиданности. Единственная отрада — Магда… О! Японец способен на все! Его страшные слуги — обезьяны, у которых такие человеческие глаза! Страшный покров тайны надо всей жизнью ее мужа, который он не приподнимает даже для нее… При одном воспоминании чувство глубокого ужаса охватывает Эллен. — Нет, нет! Будь что будет».
— Эллен?! — неожиданно резко произносит Боно. Она вздрогнула и мелкая лихорадочная дрожь долго не покидала ее перепуганное тело.
— Эллен!?!
— Я слышу, — не оборачиваясь, шепотом ответила она.
— Ты мне изменила с Эриком Джонсом?
— Я тебе не изменила, но… готова изменить в любую минуту! Знай это! Да, да, да.
Японец споткнулся у столика — упала цветочная ваза, наполнив комнату дребезжащим звоном бьющегося фарфора.
— Ты говоришь правду? — глухо спросил Рито.
— Это так же ясно, как то, что сейчас вечер. Ничто не сможет помочь тебе. Я никогда не смогу тебя любить, Боно… Оставь меня в покое, найди себе другую жену. Ты молод, богат, талантлив… Кликни и сотни сочтут за счастье пойти с тобой в дальний жизненный путь. Я не могу дальше так жить! И что нас связывает? Гражданский брак… Брак на основе лишь нашего слова, — тяжело дыша и задыхаясь, говорит Эллен. Она резким движением повернулась к Боно Рито… Но комната оказалась пустой…
4. Ключи тибетских тайн
За пятилетнюю семейную жизнь Боно Рито почти отвык от своей любимой привычки, но после происшедшего разговора он почувствовал, и довольно остро, что опий зовет вновь. Он понял, что дальнейшая жизнь с Эллен, в лучшем случае, будет представлять неприглядную картину. Два злополучных существа, связанных узами гражданского брака лишь для того, чтобы доставлять тяжелые переживания и страдания друг другу. Он смог заставить полюбить себя — но удержать эту любовь — невозможно.
Его любовь, как шлифованная хрустальная ваза, где к каждой грани и шлифу столько старания и умения приложил искусный гранильщик и, увы, — ваза разбилась, издав зловещий звук…
Боно Рито долго и бесцельно бродил по улицам оживленного города. Ему захотелось перенестись снова в чарующий мир сновидений и грез. Он направился в свою вторую квартиру. Отпер двери и прислушался. На улице ревело тысячеголовое автомобильное стадо — он шагнул в тишину. Хотя в ушах еще звенело эхо отзвуков, но ни один звук не нарушал тишину квартиры. Рито любил тишину и позаботился о том, чтобы сохранить ее в центре шумного города.
— Яма! Приготовь трубки! Открой новую коробку опия… ту, что получена недавно из Сайгона..
Слуга молча кивнул головой и бесшумно, как белая тень, удалился. Боно сам спустил шторы, включил висячую лампу в огромном абажуре, обтянутом золотисто-красным шелком. Будто само восходящее солнце отблеском утренней зари осветило стены, задрапированные драгоценными панно в вычурно-японском стиле. Здесь цвели вишни и хризантемы… Здесь стройный бамбук отражался в зеркальной воде. Здесь летали драконы и над всем ослепительно сверкала девственными снегами священная Фузияма. Это был декоративный кусочек его далекой родины, здесь отдыхало сердце и взор Боно, а мысли переносились в Японию…
Яма длинным ногтем отщипнул вязкую коричневую горошину опия, вложил внутрь трубки, поставил у подушек крохотную лампочку и положил рядом длинную, тонкую иглу.
Поклонившись до пояса, он протянул трубку своему повелителю, сидевшему неподвижно-глубокомысленно, как изваяние Будды.
— Мой господин, мой повелитель! Вам хочется вспомнить нашу родину?
— Да, Яма. Я не нашел в этой шумной стране своего счастья…
Японец затянулся несколько раз. Вздрогнула Фузияма, полетели драконы, огненный шар закачался и, пустившись в увлекательное путешествие, поплыл над отяжелевшей головой. Клонило ко сну. Боно Рито склонился на мягкий, нежный шелк подушек, безвольно отдавшись во власть грез опиума.
Сон вел его по тропам жизни, раздвигая и руша легкие воздушные, будто обтянутые шелковистой бумагой, хрупкие стены между фактами и фантазией, искусно переплетая пережитое с воображаемым и желаемым. Будто перед ним незримый механик демонстрировал чудесный, звуковой, цветной и стереоскопический фильм:
…На белоснежной и гордой, как лебедь, джонке — плывет молодой Боно Рито, возвращаясь на родной остров, затерявшийся в лабиринте между тысячами других островов и островков Тихого океана.
Низкие, песчаные берега густо поросли стройными пальмами, их перистые листья едва колышатся, как опахала в руках ленивых одалисок, а вершины купаются в лучах южного солнца. Пальмы стоят на вахте спокойствия лагуны. Полыхающая поверхность лагуны покрыта мелкой рябью, сверкая и переливаясь, будто все несчетные, запрятанные на дно океана жемчужины всплыли на поверхность и, играя с солнцем в прятки, рассыпают миллиарды ослепительных бликов. Плывут входящие в лагуну длинные, черные, остроносые лодки. Бросив примитивные камни-якори, флотилия останавливается. Волосатые низколобые полулюди кланяются юноше и кричат гортанными голосами заученную фразу:
— Пусть живет сын Великого Повелителя!
Ловкие, привыкшие с детства к морю пловцы, вдохнув полные легкие воздуха, ныряют на песчаное дно, где пышно цветут роскошные сады Нептуна. Здесь на исполинских кораллах сверкают морские звезды, слабым жемчужным светом мерцают медузы, в своей родной стихии мчатся рыбы и шевелятся морские чудовища…
А на песке дна, запрятанные среди раковин и камней, ожидают охотников драгоценные жемчужницы.
Вот один из ловцов всплывает на поверхность, отдувается, тяжело дышит и бросает добычу на дно лодки.
Боно ножом вскрывает раковину. Меж сверкающих створок голубоватого перламутра пенится раненый, нежный моллюск.
На ослепительно чистой голубой створке, между телом жемчужницы, сверкает крупная жемчужина.
— Такой еще нет на ожерелье Великого Будды, — шепчет Боно Рито и, спрятав в карман жемчужину, отправляется к берегу.
Все дальше и дальше крутится фильм в его опьяненном мозгу.
Вот островерхая пагода в густом пальмовом лесу… Священные обезьяны вопят пронзительными голосами, раскачиваясь на хвостах… К пагоде подходят жрецы в длинных, белых одеяниях… Тут неведомые ни одному учебнику зоологии полулюди, полуобезьяны…
Юноша стоит здесь же и видит вышедшего из пагоды верховного жреца, в чьих руках жизнь, смерть и тайны чудесных превращений… Отец… Старый, но еще сильный японец среднего роста, с волевым, скуластым, южным лицом, типичный островитянин страны Восходящего Солнца.
Отец!.. Он стар, но в его старом, упрямом черепе столько знаний и мудрости, что все ученые всего мира — только скромные ученики перед ним!.. Все другие мудрые жрецы — только жалкие клоуны!..
Недаром старый Кана-И, полвека назад, изгнал из страны молодого послушника при «Храме верховного знания»!.. Уже тогда видел старый хитрец, что послушник слишком опасный конкурент. Отец удалился на пустынный остров, но никогда не простил своего изгнания. Он впитал в себя всю, до последней капли, трансцендентальную мудрость тибетских академий, дополнив ее трезвой и точной европейской наукой.
О, эта европейская наука! Пусть взглянет сам великий Дарвин на этих двуногих обезьян с человеческим лицевым углом и человеческими глазами, и он только раскроет рот от изумления… Жалкая европейская наука, корпящая у микроскопов и пачкающаяся с химическими анализами!..
Дарвин! Он только сумел различить процесс эволюции, но может ли он влиять на него? Или повергнуть его вспять?
Поставить на голову? Перечеркнуть тысячелетние процессы? Освободиться от гнета сотен тысяч веков?
Отец может все! Старый Кипо Рито может все. Он знает то, чего не знает никто. Он знает, как приготовить особую жидкость, взятую из желез обезьяны и человека, чтобы этим волшебным препаратом перечеркнуть тысячелетние процессы.
Кипо Рито хранит, лелеет мысль о мщении коварному народу, изгнавшему его. Он покорит этот народ, он сделает его рабски послушным и преданным, умеющим думать и чувствовать только то, что прикажет Кипо Рито…
Всего только несколько капель чудесной жидкости, секрет которой знает только он, — вспрыснутые куда нужно и… сам Дарвин, со всей европейской наукой, полетит вверх тормашками. Люди будут покорны, как овечки!..
Все люди! Вот как эти, несколько экземпляров, которых уже приготовил Кипо Рито!..
Впрочем, не все! Будет и высшая каста, которую Кипо Рито создаст, заставив процесс эволюции мчаться вперед со скоростью летящей птицы… Они будут повелевать.
Боно Рито знает, что его готовит отец себе в преемники. Перед его внутренним взором проходят Токийский, Кембриджский и Берлинский университеты, где он постигает европейскую науку, пока его отец, в глуши затерянного в океане острова, готовил свои работы и подготовлялся к тому, чтобы передать сыну всю мудрость своей тайной науки — жизни, смерти и превращений…
И вот Боно Рито вновь на родном острове, после окончания университетских курсов…
— Мой дорогой сын, какие вести привез ты с моей родины и из мира?
— Окончил три университета, отец, получил везде дипломы.
— Это хорошо! — одобрительно кивает верховный жрец желтой, как переспелая индийская дыня, безволосой головой.
— Среди студентов организовалось тайное, покровительствуемое самим микадо общество, ставящее своей целью передел и покорение мира в пользу Великого Ниппона. Я вступил в это общество. Одобрит ли Великий Повелитель мой шаг?
— Мой сын поступил весьма благоразумно! Но я хочу, чтобы ты покорил не только другие страны. Ты должен покорить и твоих сегодняшних друзей, стать их руководителем и тогда восторжествовать. Ты должен наказать тех, по чьей вине мне пришлось бежать с моей родины…
Дни идут и Боно Рито постигает тайны отца… Уже вдвоем они создают новое, особое племя, послушное и рабски покорное. Самые дерзкие люди, после того как побывают в их «обезопасывающей лаборатории», делаются смирными и послушными… Они дрессируют их, обучая нехитрым обязанностям, ибо этих людей надо всему учить заново…
Идут годы и однажды в тиши пагоды отец благословляет сына на подвиг…
— Иди в мир! Ты созрел для этого. Изучи людей, отыщи их слабые стороны, найди уязвимые места, наблюдай, думай. Будь осторожным и не предпринимай необдуманных шагов. Привези мне выработанный тобою план завоевания мира!.. Тогда я окончательно благословлю тебя на начало особого подвига! Я жду от тебя добрых для нас вестей. Я победил остров, а ты должен победить вселенную! Возьми с собой часть нашего нового племени. Покажи людям их грядущий прообраз, освети его ярким светом твоей богатейшей фантазии, и сам, оставаясь несколько в тени, посмотри, как это им понравится!..
Фильм крутится дальше и дальше, разворачивая живые картины пережитого.
…Огромный океанский пароход «Симбун Мару» отправляется за границу. Несколько тысяч пассажиров желтой расы заполнили палубу, четвертый и третий классы, несколько их было и в первом. Полчища парикмахеров, прачек, портных, — большинство из них с безукоризненной военной выправкой — стремятся за океан.
На палубе матросы найтовили большие зарешеченные клетки с человекоподобными обезьянами… Животные выражали беспокойство и тихонько скулили.
Белое, свежевыкрашенное судно выходит в море. На палубе молодой японец кормит чаек. Это Боно Рито. Птицы налетают и кружатся стайками, ловят брошенные куски рыбы.
Волосатая мать баюкает своего детеныша.
— Какая очаровательная обезьяна! А малыш — настоящий ребенок! — воскликнула молодая, хорошенькая пассажирка-европейка, оглядываясь на японца и, обращаясь уже к нему, добавила, — в ней есть что-то человечье. Такое поразительное сходство. Не будете ли вы так добры объяснить, какая это порода?
— Это очень редкая порода обезьян, еще не описанная и неизвестная даже самому старику Брему. Я везу их для работы.
— Какой, если не секрет?
— О! Я — режиссер цирка.
— Это очаровательно… Я когда-то мечтала попасть на арену, но потом… — девушка замялась, взглянув на Боно лучистыми глазами.
— Что потом? — «О! Великий Будда, как она хороша», — думает японец.
— Мои родители неожиданно умерли, я осталась одна… и все, все перевернулось…
— Но кто же были они?
— Они изгнанники. Я дочь эмигранта.
— Куда же вы теперь отправляетесь?
— В Америку — искать счастье…
За табльдотом они встречаются вновь, и Боно Рито знает, что это его судьба… Ему уже никуда не уйти от зеленоватых, как морская вода в глубине лагун — глаз ирландки.
«Симбун Мару» пенит океан, оставляя длинный след за кормою, а зеленоватые глаза вспенивают душу Боно…
И однажды, когда рейс приближался к концу и ждать было некогда, он говорит ей:
— Я вам предложил бы место в моем цирке.
— Нет!.. — вздыхает Эллен.
— Почему же?
— Я вас почему-то боюсь…
— Понимаю… Японец, чужая кровь…
— Мне очень трудно объяснить мой страх, но…
В конце путешествия они расстались друзьями, но она решительно отбросила предложение Боно о помощи и развеяла его чаяния о большем. Но образ упрямой девушки неотступно преследовал Боно Рито. Она дерзнула отказать! Это было даже скверным предзнаменованием неудачи для его тайного дела! Внутри Боно клокотало оскорбленное самолюбие желтого…
Спустя год они встречаются снова. Правда, Боно Рито знал об Эллен все. Еженедельно получал подробный доклад о жизни девушки: работа на консервной фабрике, безработица, неудачная любовь и неудачная попытка отравиться, — все это будто взято из скверного романа.
И он пришел в виде доброго ангела-хранителя. В приемной больницы «Сен-Паула» густой запах йодоформа. С букетом белых хризантем Боно бесшумно подходит к кровати. Эллен поблекла, как длинный росток картофеля, проросший в теплом, но темном подвале. Ростку не хватает солнца, девушке крови.
— Как вы себя чувствуете?
— ….
— Я очень беспокоился о вашей судьбе.
— О, это вы? Вы еще помните меня! И вы меня отыскали?
— Не напоминают ли вам эти цветы нашу островную страну?
— О, да. Я часто вспоминаю Японию. Я так люблю ее хризантемы…
Врачи больницы «Сен-Паула» не утешили желтого посетителя мисс Эллен. — Девушке остается прожить считанные дни…
Дела Боно Рито идут не слишком блестяще. Упорным трудом приходится завоевывать место на земле. Тяжелы и извилисты пути человека, задумавшего стать королем-диктатором вселенной!
В эти дни Боно плюет на все… На корону, на цирк, на работу. Свои немногочисленные доллары он вкладывает в два билета… В тот же день он забирает Эллен из «Сен-Паулы» — к радости и облегчению врачей (каждый умерший пациент — плохая реклама…) и пассажирский авион уносит их по направлению той страны, где владеют тайной жизни и смерти…
…Хмурые утесы, за которые цепляются проходящие облака… Солнце на ослепительном снегу. Мертвая тишина суровой природы… Таинственные старцы, лиц которых никто никогда не видит… Тибет… Академия тайных наук. Только две быстро пролетевших, коротких недели и Эллен ожила, налилась кровью и радостью возращенной жизни.
Боно достиг своего: Эллен его жена и ведущая актриса труппы…
Она была хорошая и нежная жена. Через год родилась девочка и оба супруга мирно беседуют, мечтая о будущем.
— Я бы хотела осуществить свою давнишнюю мечту.
— Какую, дорогая?
— Выйти на большую арену, закружиться в бешеном ритме волшебного, опьяняющего танца, стать на минуту царицей женщин, а потом будь что будет…. смириться со своей судьбой замужней женщины и матери…
Задумавшись, слушает Боно мечты супруги.
— Постой, дорогая! Мне пришла в голову блестящая мысль… Мы поставим грандиозное ревю… То, чего еще никогда не было на арене… или… или… Я не люблю середины.
— О, Боно! Вот этого-то я и хочу! — охватив руками шею мужа, шепчет Эллен.
Три долгих года, и они предложили свое ревю — «Мы наши предки». Потом появляется танцор, и… Боно ясно видит стенное зеркало в дверной щели. Любовь, как драгоценная хрустальная ваза, на которую столько труда затратил великий мастер — разбилась вдребезги…
Усилием воли Боно Рито освобождается от липкой паутины опиумных грез… Во рту неприятный привкус, обрюзгшее лицо кривится в хищном оскале, рычит:
— Боно Рито никогда не прощает обид!
5. Таинственный гормон
— Пятьсот тысяч в сезон! — предложил Джефферсон, главный директор объединенных цирков.
— Ровно миллион! Я не намерен сбавить ни цента, — не сдавался Боно Рито.
— Вы хотите разорить цирк!?!
— Нисколько! Вы получите солиднейшую прибыль, — равнодушно произнес японец, намереваясь уйти. О! Он хорошо играл свою роль, к которой готовился столько времени — ему долго приходилось хитрить, улыбаться, быть осторожным. Но сегодня Боно Рито оскалил зубы, показывая желтоватые клыки Джефферсону. Превосходство несомненно было за японцем — сам всесильный директор цирка потерял свою привычную улыбку.
— Послушайте, Боно Рито! Я… Я плачу миллион.
— О-кей! — оскалился японец и подал стакан воды близкому к обмороку Джефферсону.
Постановка «Мы и наши предки» имела небывалый успех. На рекламу ревю-обозрения затрачивались колоссальные средства. Из окна кабинета директора виднелись на стене сорокасемиэтажного здания огромные движущиеся световые ящеры и танцующая пара. Реклама привлекала взоры даже спешивших деловых людей, которые, повинуясь магическим призывам, превращались в зрителей цирка.
Пресса была до отказа заполнена обзорами, корреспонденциями, фотографиями, назначение которых было популяризовать постановку.
Шум был поднят. Казалось, все население огромной страны только и существовало для того, чтобы смотреть постановку…
Дирекции крупнейших цирков присылали Боно Рито заманчивые предложения и приглашения приехать на гастроли. Предугадывая успех постановки и в будущем, Джефферсон поэтому и спешил заключить с выдвинувшимся японцем небывалый еще в истории цирка, миллионный договор.
Известность Боно Рито и его артистов сияла восходящей звездой и достигла зенита славы. Казалось, были все основания быть довольным после так счастливо увенчавшейся четырехлетней работы, однако японец был мрачен. После первой постановки никто не видел его радостным или улыбающимся. Выступая перед публикой, он только оскаливался, как рычащая, желтая бенгальская кошка.
Несколько изменился и образ жизни Боно Рито. Репетиции с артистами, тренаж и дрессировку он переложил на своих помощников и ассистентов: Ма-Ло-У, Яму Сана. Ежедневно он отправлялся в свою вторую квартиру, запирался и производил какие-то таинственные опыты, порою читал пожелтевшие рукописи на древнетибетском языке, чертил тушевым карандашом схемы таинственных шариков, строением похожих на яйца земноводной жабы. Встретив своего желтого слугу, Боно приказал:
— Доставь мне обезьяну Бинду в курильню опия. Только, чтобы никто не видел. Понял?
Через неделю Яма, соблюдая величайшие предосторожности, привел крупную, человекоподобную обезьяну.
Наспех одев халаты, хозяин и слуга быстро связали обезьяну и подвесили на эластичных резиновых амортизаторах. Животное, слегка раскачиваясь и скуля, жалобно смотрело темно-синими с поволокой глазами страдающего человека. Бинду лизнула шершавым языком руку Боно и, предчувствуя мучительную операцию, жалобно заскулила.
Рито, как заправский хирург, резким ударом скальпеля вскрыл железу и вставил серебряную трубочку, соединенную гибким шлангом с колбочкой. Рану аккуратно зажал тугими клеммами.
Человек внимательно следил за умоляющим выражением волосатого прекрасного экземпляра полугиббона, внешне так поразительно напоминающего изображение доисторического человека каменного века.
На дно колбочки медленно стекала полупрозрачная слизь.
Несколько дней страдал подвешенный Бинду, пока не собралась полная колбочка вытяжки из гормонов внутренней секреции. Японец возился с пробирками, колбами, пузырьками, составляя какое-то таинственное снадобье…
Прошел месяц со дня первого представления. Боно Рито, встретившись с Эриком Джонсом был учтив и даже любезен. Он, раскланявшись, приложил руку к сердцу и предложил артисту:
— Сегодня памятная дата! Месяц нашей постановки, так сказать, медовый месяц успеха. Не правда ли?
— Да, месяц пролетел, как счастливое мгновенье. И неудивительно!.. Столько радости и прекрасных переживаний! — восторженно ответил Эрик.
— Я приглашаю вас сегодня после спектакля на банкет… Нужно чем-то ознаменовать, отпраздновать и повеселиться.
— Ол райт! Сегодня после двенадцати ночи…
…Двести артистов шумно праздновали первый маленький юбилей большого успеха. Боно Рито не поскупился. Едва ли за королевскими столами в столицах мира подавались более изысканные вина и блюда…
Никто не заметил, как желтый лакей, наливая вино, подсыпал снотворный порошок в некоторые стаканы. Наибольшая доза досталась Эрику Джонсу.
К утру компания перепилась окончательно — одни дремали в креслах, другие горланили и спорили, но вскоре затихли и они.
Ма-Ло-У с лакеем вынесли спящего Эрика и уложили на диван в соседней комнате.
Боно Рито бесшумными, кошачьими шагами приблизился к Джонсу, прислушался к глубокому дыханию спящего и запер дверь. В руке блеснул небольшой шприц. Оголив красивую руку с выделяющимися на гладкой, белой коже голубоватыми жилками, японец резким движением вспрыснул в вену несколько кубических сантиметров полупрозрачной жидкости и, быстро спрятав шприц, смазал крохотную ранку антисептиком. Эрик поморщился сквозь сон, потянулся, как бы почесать руку, но успокоился, слегка улыбнулся, как будто неприятный сон снова сменился приятным, и нежно прошептал имя Эллен.
— Белый ублюдок! — пробормотал Боно Рито.
С улицы доносились первые звуки пробуждающегося дня. Проскрежетал трамвай, крякнули дружным ревом клаксоны автомобилей, принявшихся за свою обычную дневную многотрудную деятельность.
День этот и все последующие не сулил ничего хорошего сладко улыбающемуся во сне Эрику Джонсу.
Боно Рито налил стакан воды и залпом выпил.
— Номер один… — глухо пробормотал он и быстро вышел, бросив Ма-Ло-У процеженную сквозь зубы реплику:
— Убери эту падаль в общий зал…
6. Три тысячных гонорара
Журналист Гарри Чальмерс, сотрудник еженедельника «Цирк», заслуженно считался лучшим и глубоким знатоком цирка.
Он писал удачные рецензии и обзоры, присутствовал на многих закрытых и генеральных репетициях, состоял членом всевозможных жюри и знал всех сколько-нибудь известных артистов на всем континенте. За кулисами цирка он был своим человеком.
Приток огромной массы зрителей в «Бруклинский цирк» был обеспечен благодаря умелым обзорам Чальмерса, за что он получал немалую мзду от Генеральной дирекции объединенных цирков.
Гарри Чальмерс боготворил Боно Рито, был с ним знаком, но японец почему-то органически не любил журналистов. В особенности сильно эта неприязнь почувствовалась со времени измены Эллен.
В последнее время Боно почему-то избегал встреч с Чальмерсом, который уже заметил перемену в характере режиссера. Японец был чем-то взволнован и всегда насторожен.
Находясь в своей постоянной ложе, Чальмерс направил бинокль на блестящую вазу-пьедестал и… танцующая пара как бы зазвучала резким диссонансом тому, что журналист привык видеть в течении нескольких месяцев. Порою танцор неуклюже качался, и все чаще бросались в глаза мешковатые движения партнера божественной Эллен! Сама она танцевала превосходно и часто выручала своего фальшивящего партнера. Публика тоже, видимо, заметила перемену в танцоре и наградила его редкими хлопками, тонувшими в море равнодушия.
— Что стало с Эриком Джонсом? — пробормотал Чальмерс, помчавшись за кулисы. Он увидел артиста, облокотившегося о стену уборной и неподвижно уставившегося в темный угол, где еле виднелись клетки с обезьянами, к которым почему-то его влекло с загадочной и непреодолимой силой.
Джонс не заметил или сделал вид, что не замечает остановившегося перед ним Чальмерса. Он вплотную подошел к клетке и, прикоснувшись к прутьям, наблюдал оскаленного полугиббона.
— Вы заболели, старина? — хлопнул журналист по плечу Эрика, лицо которого выражало полное равнодушие, даже больше — не выражало ничего человеческого — оно было похоже… на усталую, небрежно бритую обезьяну.
— Что случилось? — спросил журналист, обращаясь к Эллен, но вместо ответа из груди ее вырвалось заглушенное рыдание и на глазах блеснули слезы. Чальмерс ничего не узнал, но утром он снова прошел за кулис цирка и разыскал заплаканную Эллен.
— Он!.. Он укусил меня за плечо во время танца.
— Это же скандал!
— Скандал… Эрик, очевидно, больше не сможет появляться на арене.
— Почему же это произошло?
— Я хочу посоветоваться с вами. Только я боюсь. Очень боюсь. Пусть это останется между нами, — попросила Эллен.
— Можете мне вполне довериться.
— Дорогой Чальмерс! У Эрика на теле неожиданно выросли волосы. Это случилось в какую-нибудь неделю.
— Волосы!?!
— Да… Вся грудь и бедра покрылись густой шерстью, как у нашей Зулы.
— Вот это новость! — хлопнул себя по лбу Чальмерс.
— Чальмерс… Вы верный друг?
— И вы об этом спрашиваете?!.
— Это дело рук Боно Рито…
— Что — дело рук Боно?
— Волосы и укус… И все, вообще.
— Хм….
— От вас не секрет наши отношения… Мои, Боно и Джонса, а Боно! О, Боно может все…
В мозгу Чальмерса завихрились все когда-либо и где-либо слышанные сплетни о Боно Рито, его труппе и о делах…
Он снова хлопнул себя по лбу.
— Вы сообщили мне весьма любопытные вещи. Успокойтесь, мисстрис Эллен! Я должен решить эту задачу… не откажите мне в любезности встретиться завтра еще раз!
— Хорошо, Чальмерс. Только, ради Бога, не предавай-это дело гласности, иначе я погибла.
— Ол райт, миссис…
Выйдя из цирка, Чальмерс направился к своему «Кадильяку», раздумывая о странном происшествии в цирке и перебирая разнообразные варианты. На панели его окликнул незнакомый мужчина.
— Мистер Чальмерс! Простите, могу ли я задержать ваше внимание на одну минуту?
— Пожалуйста. Я слушаю вас.
— Я личный секретарь одного частного филантропа; мой патрон особенно интересуется цирком. Недавно, посетив ревю, он остался в восторге от одного артиста.
— Кого же, если не секрет?
— Имя его — Боно Рито.
— Колдун таинственного Дальнего Востока!
— Не будете ли вы добры дать подробный биографический отчет о жизни и деятельности артиста? Разумеется, это не для печати, а для личного пользования моего шефа.
— Это щекотливое дело… хотя я имею подробные данные о его жизни.
— Тем лучше, тем лучше… Я бы от имени патрона предложил вам тысячу долларов за статью в тысячу слов.
— О-кей!
— О-кей!.. Вот чек. Когда я смогу получить материал?
— Хотя бы завтра…
Только лишь журналист вошел в редакцию, его встретил бой:
— Мистер Чальмерс! Вас несколько раз вызывали из дирекции об'единенных цирков.
— Кто?
— Сам директор, мистер Джефферсон.
— Джефферсон! Что ему нужно?
Журналист поспешно набрал номер.
— Алло, Джефф!
— Чальмерс! Вы умный мальчик и знаете цирк, как вы думаете, что случилось с Эриком Джонсом?
— Не хитрите, старина. Вы знаете все не хуже меня.
— Вы правы, черт возьми! Вчера на арене Джонс укусил мисс Эллен. Это скандал, грозящий большими потерями… Я не могу его больше выпускать на арену. Что мне делать?
— Подберите дублера.
— У меня с Джонсом подписан особый контракт и это пахнет не одним десятком тысяч.
— Я знаю… Стоит только в газете промелькнуть строчке…
— Все дело в том, чтобы такая строчка пока не появлялась.
— Я — умный мальчик, Джефф! Если она не появится сегодня — это будет стоить тысячу, если ее не будет завтра — это вам влетит в пять. Если дело идет о послезавтра — я поручиться не могу.
— Отлично, Чальмерс! Меня интересует сегодня. Чек получите вечером.
Не успел Чальмерс опустить телефонную трубку, как аппарат пронзительно зазвонил вновь. Гарри услышал незнакомый голос.
— Вы знаете, что японец испортил человека?
— Интересно! Продолжайте…
— Он привил ему какую-то таинственную вытяжку, и Эрик Джонс превратился в четвертьобезьяну!
— Это интересное дело!
— Дайте отчет, но не печатайте… Это дело необходимо тщательно проверить.
— Я имею некоторые расходы по этому делу.
— Чек на тысячу долларов…
— О-кей!
— Когда я следующий раз буду вам звонить, скажу пароль. Это будет: «Питекантропус». Согласны ли вы исполнить все мои поручения, касающиеся прессы? Если да — через две недели вы будете обеспечены до глубокой старости и будете иметь собственную виллу и яхту.
— Я согласен.
— Ожидайте «Питекантропуса».
На другом конце провода выхоленная рука с огромным рубином в перстне на указательном пальце опустила трубку.
Разговор был окончен.
7. «Пиль!»
Шаловливый солнечный луч, спрыгнув с бронзовой статуэтки Фридриха Великого, затанцевал на холеной руке; краешком скользнул по массивному с изумрудом перстню и зеленоватым отблеском на мгновенье отразился на бумагах доклада.
Палец с изумрудным перстнем, не спеша, набирал номер на диске телефонного аппарата. Раздался легкий металлический щелчок и автоматическая станция соединила двух соумышленников.
— У вас все готово?
— Совершенно.
— Скажите им — «пиль»!
— Можно начать?
— Только пусть все гончие бросятся сразу.
— Разумеется.
Короткая беседа затерялась в океане деловых телефонных разговоров большого города. Бесстрастные и точные, исполнительные машины не интересуются чужими разговорами и тайнами, не подслушивают их, как любопытные телефонистки, — да никто ничего бы и не понял из отрывочного разговора.
— Утром будет результат.
— Хорошо…
Вторая холеная рука удивительно спокойно набирала номер за номером.
Луч скользнул по бронзовой танцовщице с бедрами Клео де Мерод, потом по указательному пальцу с рубином и яркой кровяной капелькой, запрыгал по бумагам.
— Здесь «Питекантропус». Скажите им — пиль. Материал должен быть помещен в утренней прессе!
Ответственный секретарь в последний раз инструктировал сотрудников для таинственных поручений, в посольстве пренебрежительно называемых гончими. Эту роль исполняли дельцы небольшого масштаба: неудавшиеся авантюристы, когда-то жаждавшие стать президентами, открыватели необитаемых островов, алхимики, мечтавшие превратить медь в золото. Люди, чующие сенсацию и падкие на доллар. Люди, торгующие всем, в том числе и своей совестью, оптовые продавцы новостей.
Секретарь обратился к одному из деляг.
— Эдди Пинкерт! Здесь все материалы для «Трибуны». Свяжитесь с корреспондентами, отдайте им безвозмездно весь материал и раздуйте сенсацию. Пол сотни долларов…
— Есть… Будет исполнено.
Пущенные по следу гончие, кто на такси или сабвее, некоторые в собственных автомобилях, спешили в разные стороны огромного города.
Почти одновременно в редакциях десятка крупных влиятельных газет и бульварных листовок появились первые посетители, спешащие гончие, выкладывающие новости, продавая их пучками, в гранках и страницах, статьях и словах. Все валилось вместе — сырье и готовый материал.
— Любимец публики, знаменитый артист ревю Эрик Джонс помешался, превратился в обезьяну и оброс волосами. Вот фотографии.
— Джонс сошел с ума!?!
— Сатана, в образе японца, украл его разум и превратил человека в обезьяну.
— Это небезынтересно, — произнес заместитель редактора хроники городской жизни. Подбодренный гончий выкладывал материал, изобличающий Боно Рито в тяжелом преступлении…
Визитер с лицом праведника и аскета, обращая взоры к небу и призывая самого Бога в свидетели, рассказывал главному редактору католической газеты:
— Богохульство и кощунство! На арене цирка нехристь-японец проповедует теорию Дарвина, идущую против Священного Писания.
— Свят, свят! Да воскреснет Бог и расточатся врази его, — перекрестился епископ-редактор.
— Он показывает дрессированных полулюдей и превратил в полуобезьяну человека — бывшего пламенного католика, теперь совсем потерявшего рассудок и забывшего Бога.
— Наваждение сатаны! Эти японцы наводнили нашу страну, где только могут вредят религии, разрушая устои морали и государства. Мы заклеймим их позором, будем молиться за изгнание их из страны и уготуем им геенну огненную…
В редакции журнала «Вестник современного спиритизма», гончий докладывал:
— Человек, превращающий себе подобных в обезьян, это желтый колдун двадцатого века!..
В органе правосудия, крупнейшей еженедельной газете юристов, судей и адвокатов всего континента, гончий из пропившихся судейских настойчиво требовал:
— Мы должны привлечь к суду японца за порчу человека! Это преступление должно квалифицироваться, как убийство с заранее обдуманной целью. Ведь он духовно убит и совершенно погиб для общества. Я, как бывший член суда присяжных, могу произнести вердикт: «Да! Виновен!» Виновен в злодейском умерщвлении разума человека и достоин смерти!..
— Пиль! Пиль! Куси, возьми его!..
Указательный палец с изумрудным перстнем нажал незримые пружины сложного и затейливого механизма, передав его под управление дирижерской палочки маэстро Гарри Чальмерса. И сверхмощный механизм, формирующий общественное мнение, пришел в действие.
Грузчики спускали тонны бумаги в трюмы типографских складов, смазчики заливали масло в подшипники огромных ротационных машин. Трещали пишущие машинки репортеров и журналистов. Редактора отделов диктовали стенографисткам громовые статьи. Не умолкая, звенели телефонные аппараты. Усиленно заработала пневматическая почта.
— Материал в набор! Первая полоса!
Цинкографы травили клише, метранпажи верстали полосы, стереотиперы отливали печатные валы… Тысячи людей, кормящиеся у Ее Величества Прессы, были заняты лихорадочным трудом.
После полуночи до утра, двадцать крупнейших типографий готовили очередную сенсацию для мирно спящего города и всей страны. Поезда и грузовики развозили в экспедиции тюки пахнувших скипидаром и свежей краской газет.
Утром на улицах появились первые глашатаи, продающие новости в розницу.
— Человек, превращенный в обезьяну!
— Живой труп!
— Страшный суд сатаны из страны Восходящего Солнца!
— Японец-вампир!
— Страшная месть изменившей жене!
— Утренний выпуск «Трибуны»! Злодейское преступление! Похищение человеческого разума! Японец превратил Эрика Джонса в обезьяну!
— Ты, балбес, очевидно, перепутал название газеты! — обругал газетчика редактор. — Ведь это монопольная статья из «Нового Века». — Но он вынужден был купить экземпляр конкурирующей газеты с пестревшим на первой полосе материалом о пресловутом японце…
Элегантный молодой человек в сером костюме сошел с подножки новенького, кофейного цвета «Кадильяка». Оставив машину в переулке, он, не спеша, направился к дому Боно Рито. Встретив прогуливающуюся по тротуару фигуру с поднятым воротником, приехавший, подняв указательный палец с сверкнувшим рубином, спросил:
— Он еще не выходил из дому?
— Никак нет!
— Хорошо! Наблюдайте дальше.
Оживленная ватага газетчиков, как стая воробьев, бросившихся на добычу, окружили прохожего, продали пару газет и бросились дальше, выкрикивая звонкими и пронзительными голосами последние новости…
Боно Рито проснулся рано; он принял ванну и в пестром шелковом кимоно стоял у окна, прислушиваясь к выкрикам на улице. Зула была спешно послана за газетами, ибо хозяин был взволнован.
Раздался неожиданный звонок. Боно Рито сам открыл дверь элегантному гостю.
— Здравствуйте, господин Боно Рито!
— Чем я обязан удовольствием столь раннего визита?
— Тысячу извинений. Мой визит касается вашей безопасности. Вы уже читали утренние газеты?
Вошла Зула в старушечьей ротонде и чепце и, поклонившись гостю, положила перед хозяином толстую пачку газет. Взгляд японца скользнул по первой странице, насыщенной крупными заголовками, шапками и клише. Его лицо досадливо исказилось. Рито быстро перебирал все газеты, пожирая глазами заголовки, набранные жирным шрифтом. Японец был озадачен. Он почувствовал чью-то сильную руку, стальными клещами хватающую его за горло. Кто бы это мог быть? Правосудие? Нет! Оно слишком медлительно и почти всегда дает возможность преступникам скрыться и слишком часто наказывает невинных. Ведь, хе, хе! Правосудие одна из наиболее отсталых институций современного человечества… Но здесь действовал хитрый дьявол, может быть, даже хитрее самого японца…
Однако, это катастрофа!.. Как они узнали все это? Кто? Кем затеян этот явно организованный скандал?..
Мозг талантливого Боно Рито, напрягаясь до крайности, казалось распух и не вмещался в черепной коробке. Собственная голова напоминала японцу надутый детский шарик-игрушку, назойливо, до боли пищащий: Уйди! Уйди! Уйди!
Что нужно этому посетителю, возможно, подосланному его врагами?
— Я просмотрел газеты, — уклончиво ответил Боно.
— Это я вижу… Но в дальнейшем?.. Я пришел к вам, как друг, чтобы выручить из тяжелого положения. Вы, вероятно, забыли меня… А между тем, мы с вами знакомы.
Посетитель протянул Боно свою карточку. Японец вспомнил: корона… полномочный посол… Неужели посол выступал в роли ангела-хранителя?
Улыбающийся секретарь для особых поручений ежеминутно посматривал на часы.
— Что вы думаете теперь делать?
Боно повернул спокойно лицо к дипломату и, якобы не скрывая своего недоумения, но раздраженно произнес, кивнув на газеты:
— Это пахнет плохим. Может быть, даже Синг-Сингом.
— Это пахнет электрическим стулом, — уточнил собеседник, — вам угрожает немедленный арест. Бросьте все и бегите. Вот пакет с необходимыми бумагами, визами и деньгами. В моем автомобиле вы доедете до аэродрома, через пятнадцать минут отправляется самолет в Португалию. Оттуда, допустим, вы поедете в Испанию. Там сумеете затеряться — там всегда неспокойно.
— Благодарю! Я многим обязан вам!
— О, не стоит благодарности. Мой патрон только великий меценат и покровитель талантливых артистов!
— Благодарю вас.
— Спешите! Дорога каждая минута. Если они придут…
Боно Рито поспешно одел дочь, схватил какие-то бумаги и свитки пергамента и вместе с Зулой выехал на Западный аэродром.
Спустя несколько минут агенты тайной полиции, прибыв на квартиру Рито, тщетно пытались арестовать человека, превращающего людей в обезьян.
Циркач таинственно исчез, вызвав многочисленные и оживленные толки возбужденной публики.
Часть вторая
МЕРТВЫЕ ПОВЕЛЕВАЮТ…
1. Подаренная звезда
Величественный, старинный, фамильный замок, в глубине парка, в этот вечер особенно оживлен.
Из подъезжающих к подъезду автомобилей со значками дивизий и полков ловко выпрыгивают офицеры всех рангов, степенно выходят и старые магнаты с суровыми, породистыми профилями, выпархивают дамы. Среди офицеров преобладают летчики — славные птенцы «Белого орла».
Посыльные вносят огромные корзины и букеты цветов.
Героиня вечера, восемнадцатилетняя сияющая Люцина, встречает гостей. Как вокруг белого цветка, кружится рой мотыльков — молодых, блестящих офицеров, затянутых в новенькую щеголеватую форму, блестящие лаковые сапоги, с квадратными конфедератками в руках.
Молодого поручика авиации, Мечислава Сливинского, принимает особенно приветливо молодая хозяйка дома.
— Поручик! Я особенно рада видеть вас среди наших гостей… И, нагнувшись ближе, шепнула: — Любимый…
Обожгла дыханьем. Сладкое слово — «любимый»…
Сливинский почтительно приложился к руке, хотя сердце уже пляшет бешеный танец.
— Примите мои скромные поздравления, панна Люцина! Пусть девятнадцатый год вашей жизни будет еще счастливее, беззаботнее и радостнее восемнадцатого.
— Благодарю вас… — И снова добавила тихонько: — Я уверена в этом, ведь ты будешь всегда со мной, любимый.
Очаровательная музыка этих слов коснулась уха летчика, подняла на крыльях радости, стремительно взвиваясь, достигая самой вершины мечты.
— Сегодня веселый бал!
— Мне восемнадцать лет, Мечик!
— Чудное время… Лучшее в жизни. Знаю, что сегодня будет масса охотников танцевать, приглашаю заранее. Обещаете?
— Конечно, дорогой.
Висячие люстры с хрустальными украшениями рассыпаются тысячами сверкающих алмазов по залу, черным сюртукам и фракам, сверкающим шитьем и орденами мундирам, нарядным платьям, белизне прекрасных рук и плечей…
За белыми колоннами, в углах зала, собиралось высшее офицерство небольшими группками, делясь впечатлениями вечера.
— Какая красавица Люцина!
— Кто будет ее избранником?
— Признаться, красивейшая девушка.
— На конкурсе красоты она, наверно, займет первое место среди красивейших панн Познанского воеводства… А может быть, и всей Польши.
— Полковник Симон очень скромен и нигде не показывает свою дочь…
Торжественный ужин начался тостом седовласого командира округа:
— Мы гордимся, что Польша имеет таких прекрасных девушек, как наша дорогая именинница. Мы гордимся тем, что польские женщины — прелестнейшие в мире женщины! Они так прелестны, что даже меня, старого седого солдата, вводят в грех!.. Дай тебя поцеловать, Люцина!
Под веселый смех и шутки любимый командир целует девушку.
— За именинницу!
— За наших женщин! Милых женщин!!!
— За Польшу!!!
Звучат тосты, льется широкой рекой вино. Гремит музыка. Собравшиеся умеют и любят веселиться. Люди рассыпаются веером из-за стола. Вот уже первые пары кружатся в вихре штраусовских сказок, колышутся в волнах плавного менуэта; расплавленным хрусталем льется шопеновский полонез…
После опьяняющих танцев поручик с Люциной выходят на освещенную веранду и оттуда, тихонько спускаясь мраморными ступенями, направляются в парк.
Старые безмолвные липы, застыв в удивительном спокойствии, посеребренные лунным светом, прислушиваются к людскому веселью и музыке, несущейся из зала. Начавшаяся осень слегка наложила мазки своей богатой золотом и желтизной палитры на наряд обитателей парка. Теперь все здесь покрыто лунно-осенней желтизной. Вдоль длинной аллеи деревья выстроились, будто на параде. Слегка опьяненной вином и переполненной счастьем Люцине мерещится, что деревья шепчутся тоже о любви… Любовь заполняет все существо и поэтому девушке кажется, что весь мир должен интересоваться только любовью. Вот-вот кинутся в объятья деревья и затанцует весь парк в вальсе штраусовской «сказки венского леса».
— Как прекрасен мир, Мечик! Посмотри на эти каштаны и липы. Мне немного жаль их, потому что безумно люблю жизнь, движенье, музыку, а они теперь увядают… Но, может быть, деревья по-своему счастливее нас? Кто знает? Мы уйдем и побываем во многих местах, а липы будут стоять до самой их смерти. К чему я это все говорю, Мечик?
— Все это очень красиво, дорогая! Но не жалей об увядающем парке. Он зазеленеет вновь весною…
— Да, будет весна. Но где будем мы, когда он снова оденется молодой листвой?.. Скажи, Мечик, ведь мы… будем жить здесь?
— Едва ли. Кажется, я получу назначение за границу.
— Бедные липы… Но что мне липы, когда ты со мной…
Полная луна скромно прикрылась облачком…
— Теперь никакая сила не сможет нас разлучить!
— Ничто! Ничто! Никогда!!!
Но двое опьяненных счастьем людей не подозревали, что неумолимая рука событий уже заносит над ними страшное оружие, готовое опуститься и уничтожить жизнь, любовь и счастье людей…
— Какой же сувенир тебе подарить на память о сегодняшнем вечере, пока мы окончательно не соединимся в одну семью?
— Подари мне что-то памятное, необыкновенное, — мечтательно произнесла Люцина.
— Мне бы хотелось подарить такой необыкновенный сувенир, который никогда не потеряется и вечно будет с тобой.
— Я хочу именно такой вечный подарок, — оживленно говорит восторженная Люцина.
— Вот видишь ту звездочку, справа над липой. Самую крупную?
— Вижу, Мечик! Ту, которая ярче других.
— Пока будет светить та звездочка и излучать дальний, мерцающий свет — до тех пор буду любить тебя. Если случайно окажемся в разлуке, взгляни на звезду и узнаешь: жив ли я и что думаю о тебе; она передаст тебе мои мысли. А если случится — погаснет звезда, знай, что нет меня больше в живых.
Офицер чувствует, как к губам его прижалась рука Люцины.
— Замолчи, Мечик! Я не хочу жить, если звездочка потухнет…
И снова луна прикрылась облаком.
2. Сон наяву
Всему бывает конец.
Окончился и именинный бал, и Люцине жаль прошедших мгновений… Но что жалеть о прошедшем прекрасном дне, когда завтрашний будет еще прекраснее!..
Утомленная, но возбужденная и радостная, прошла она в свою спальню. Все казалось новым, как бы омытым, освеженным великой радостью, будто впервые увидела она знакомые предметы, рассматривала и трогала каждую вещь. Вот засохший бессмертник…
— Какой чудный, будто талисман, — произнесла девушка, погладив сухие, шуршащие цветки, сохраняемые со дня первой встречи с Мечиславом. Вот переплетенный в темносиний бархат дневник, которому она доверяла свои тайны. Милые, дорогие вещи! Каждая из них — свидетельница ее счастья! Куда бы судьба не забросила ее — они всегда будут с ней. С драгоценными сувенирами ни за что не расстанется Люцина…
Приготовленная постель манит белоснежными простынями. Глаза Люцины сами собой постепенно закрываются… минута, и сон берет свое. На белой подушке уже рассыпались светлые, золотистые локоны в слабом свете мерцающей лампады.
Путаются один за другим сны. Вот какая-то огромная, тысячерукая, многоликая гадина приближается к девушке, готовясь схватить ее. Ужас сковывает члены… Но вот появляется Мечик. Он в страшном бою, достойном борьбы Геракла с Горгоной-Медузой, повергает гадину… Из отрубленных голов чудовища хлещет кровь…
Кровь, кровь, кровь…
— О, Мечик, спаси меня! Я боюсь этой крови…
Но вдруг меняется пышущее благородством и отвагой лицо Мечислава, становится раздраженным и злым. Страшно Люцине. Никогда она не видела возлюбленного таким страшным, неприятным. Рот его кривится в нехорошей улыбке. Он вынимает пистолет. Офицер пристально глядит в глаза Люцине и медленно, ужасно медленно поднимает свой огромный пистолет… Люцина явственно видит черное, зловещее колечко дула, бугорок мушки и прищуренный глаз над ним… — Она в ужасе. Неужели любимый Мечик хочет убить ее…
— Езус коханый!..
Холодный пот мельчайшими капельками проступает на горячем лбу, становится душно. Не хватает воздуха. И вдруг слышится ясный, отчетливый голос отца.
— Оставьте шутки, поручик! Оружие может быть заряжено! Когда-то у нас в роте произошел несчастный случай!..
Мечик, не отвечая, продолжает целиться. Сердце Люцины готово разорваться… Скорее бы стрелял!..
И Мечик стреляет…
Дикий, ни с чем несравнимый грохот рвет барабанные перепонки.
— Ббб-а-а-а-х!!!
Она убита! Но труп Люцины еще некоторое время чувствует боль, нервы умирают не сразу. Будто иглой укололо в самое сердце. Это пуля, — явственно, с полным сознанием думает девушка, прислушиваясь, как вытекает кровь из сердца, ставшего пустым, обескровленным мешком…
Следом гремит еще выстрел. Снова боль в ушах от страшного сотрясения воздуха. Она куда-то летит, и… просыпается на полу спальни, а на нее сыпятся осколки стекла, штукатурка и потолочные лепные украшения, весь замок дрожит и слегка качается.
— Езус, Мария! Что за страшный сон, или наяву все это?!
Но Люцина слышит страшные крики людей. Еще и еще гремят взрывы, но уже не во сне, а наяву.
Старый замок дрожит и качается. Люцина вскакивает. Опять громыхает гул отдаленных взрывов. В воздухе монотонно-вибрирующий гул самолетов.
— Война!
— Немцы напали на Польшу!
Снова летят волны самолетов.
Люцина прислушивается к пугающим, необычным словам, набрасывает одежду. Что делать? Спрятаться? Бежать? Бежать некуда.
— Где же Мечик? Что делает в эту минуту он? Что делают рыцари белого орла? О, Мечик! Мечик!..
3. Начало конца
Серый рассвет.
Мечислав Сливинский дремал на диване. Он даже не сбросил с себя парадный мундир и сапоги: до того ли? Так и повалился, возвратившись домой из замка.
В ушах еще явственно звучит вальс, и губы еще чувствуют нежность других губ. Я счастлив… Боже, как я счастлив!.. Люцина! Ведь все сойдут с ума от зависти!
— Счастливый ты, Мечислав! — позавидует сам капитан, — мечтал летчик, представляя изумленные лица своих однокашников и друзей в момент, когда он торжественно объявит:
— Между прочим, господа! Я женюсь на Люцине Симон!
— Ты на Люцине!?! — недоверчиво произнесет Каэтан.
— На дочери своего шефа! — изумится Петринский.
— Ты сам черт, а не поручик! — похвалит капитан Квятковский.
— Я с тобой буду биться! — вызовет на дуэль вспыльчивый Войнаровский.
— Не может быть, — усомнится вечный скептик Тадеуш Витовский.
— Люцина — моя невеста! Ей-Богу, сойду с ума! Итак, завтра к старику… Он не откажет… Нет, он не откажет… Хорошо быть молодым, и дважды хорошо быть еще любимым!
Резко и настойчиво зазвенел телефон. Не спеша взяв трубку, Сливинский услышал возбужденный голос дежурного по полку:
— Господин поручик! Немедленно прибудьте на аэродром!
— Что за спешка, пан Сокульский?
— Война! Неужели пан поручик еще не знает, что немцы напали на Польшу?
— Война!?! — И в воображении Сливинского все существующее в природе и рожденное его воображением, потеряв свое постоянное место, весомость, формы, завертелось в бешеной чудовищной свистопляске.
— Война!!! А как же Люцина???
Наспех застегнув мундир и едва поправив портупею, поручик выбежал из дома, задумываясь:
— Может быть, это только обыкновенный пограничный инцидент?.. Неужели действительно война? Как это ужасно, и именно теперь… Не хотелось верить, хотя в кругу штабных офицеров в последнее время циркулировали упорные слухи, что война неизбежна. После ряда наглых домоганий и требований немцев чувствовалась нависшая угроза. Но кто мог думать, что так скоро?
Раннее сентябрьское утро. Ленивый туман повис над сонной землей и медленной Вартой. Еле вырисовывались силуэты домов. Затерявшись в тумане, громко, встревоженно кричат невидимые гуси. По пути встречались полусонные, сосредоточенные, спешащие мастеровые. Город еще спал и видел последние спокойные сны…
На западе гудели содрогающие землю отдаленные взрывы, когда Сливинский добрался до аэродрома. У поста, неловко улыбаясь, будто он повинен в свалившемся несчастьи, переминался с ноги на ногу молоденький часовой.
Чувствовалась тревога, смятение и спешка: из ангаров выкатывали боевые самолеты. Все начальство было уже на местах и отдавало распоряжения, готовясь к выступлению.
Родные и близкие Мечиславу шутники и балагуры — молодые бортмеханики, — теперь сосредоточенно и внимательно готовили его блестящий серебристый аппарат. По их напряженным лицам летчик понял, что наступила жестокая правда — война!
Сливинский столкнулся с седым полковником Симоном, и странно — забыл в ту минуту, что его командир является в то же время и отцом Люцины.
— Нужно обследовать шоссе Познань — Бреславль, произвести тщательную воздушную разведку границ.
— Есть, господин полковник!..
— Готово! — доложили бортмеханики.
— Не узнаю тебя, Антек, где делась твоя веселость?
— Э! Не говорите, пане поручик. Проклятые немцы! Прямо не верится, что война, может… простой инцидент?
— Вот слетаю сейчас и узнаем, что там происходит.
— Пане Мечислав! Берегитесь там, — напутствуют механики.
Серебристый орел взмывает в воздух… Над самой границей снижается и бреющим полетом мчится над полчищами солдат, колоннами темно-серых автомобилей, орудий. Чудовищная военная машина проткнула грудь его страны и направляла острие на сердце, на столицу.
— Значит, самая настоящая война — решает Мечислав, нажимая кнопку автоматической аэросъемочной фотокамеры. Внизу, под ним, развертывались войска и начинался жаркий бой; польская кавалерия храбро атакует механизированную пехоту. Разведчик не удерживается от соблазна, снижается и на несколько минут включается в бой, выпустив ряд пулеметных очередей. Немцы обстреливают его из зенитного пулемета; несколько визгливых пуль рвет плоскости, шлепает в металл. Первое боевое крещение даже приятно летчику.
Над артиллерийскими позициями немцев Сливинский успел заснять вторую катушку пленки. Сбоку появляется вражеский самолет.
«Разведчик. Длинноногий аист на высоком шасси», — думает польский летчик, бросая аппарат на «аиста». Едва не протаранив неприятеля, Сливинский пустил длинную пулеметную очередь. Короткий воздушный поединок завершается гибелью врага, его машина ложится на правое крыло, переворачивается и штопором устремляется вниз.
Сливинский, пролетев трижды над линией фронта, нащупал мотомеханизированные части и артиллерийские позиции противника, нанося их на точную карту. Снизившись на родном аэродроме, докладывает о результатах разведки.
— Спасибо! — благодарит полковник. Его лицо посерело и осунулось.
— Разрешите мне еще слетать на разведку.
— С Богом! За Речь Посполиту Польску!
Старик еле сдерживает дрожь в своем голосе… Он отворачивается. Но… каждый из них исполняет святой долг солдата. Провожая глазами быстро удаляющийся аппарат Сливинского, он думает:
— Хороший офицер был… — И ловит себя на том, что глагол «был», — поставил в прошедшем времени…
Поручик Сливинский снова в воздухе, над границей. Внизу зададакали зенитные пушки. Белые облака разрывов виднеются недолетом с правого борта.
— Это не беда! — Сливинский быстро уходит из поля обстрела.
Под ним рассыпаны маршевые колонны — это подходящие к фронту резервы польских частей. Неожиданно слева появились три еле заметных точки, быстро вырастая в знакомые очертания самолетов. Сливинский по контурам фюзеляжа и оперения узнал последнего выпуска быстроходные «Хенкели». Будет нелегкая схватка!.. И пальцы летчика ложатся на гашетку пулеметной установки.
Вихрем налетают «Хенкели». Ловко маневрируя менее быстроходной машиной, Славинский уклоняется от неравного боя. Третий «Хенкель», разгадав маневр Сливинского, бросается на него сверху, заплевал огненными вспышками. Обожгло плечо…
Руль стал невыносимо тяжелый, будто налит внутри болтающейся ртутью, аппарат упорно тянет к земле. От пулеметной очереди поручика заметался и запетлял один из неприятелей, но и своя машина безнадежно проваливалась вниз.
— Подбит! А как же Люцина!?! — мелькает в сознании.
Из плеча хлюпает кровь. Руль начавшей входить в штопор машины не слушается ослабевающих рук. — Виток, два, три, — считает летчик и, напрягая последние силы, выбрасывается из обезумевшей машины. Навстречу мчится желтеющий лес.
Толчок. Посыпалась кружащаяся метель лимонно-багряных листьев, тронутых первыми осенними утренниками: белый строп парашюта зацепился за ветку и, как на пружинящей рессоре, Мечислав повис в воздухе. От потери крови сознание заволакивалось дымкой и сквозь эту дымку он заметил двух мотоциклистов, которые приближались к месту спуска. За рулями сидели люди в зеленых резиновых плащах и характерной формы стальных шлемах.
Огромные очки-консервы делали их похожими на жителей другой планеты. Сливинский даже подумал, что так должны выглядеть марсиане…
4. Опустившийся молот
Итак — война!
Гудят улицы города, растревоженным ульем. В подъездах домов оживленные группы делятся первыми впечатлениями. У разрушенных первыми бомбами домов — толпы глазеющих, болтающих, любопытных. Нет недостатка ни в знатоках, ни в стратегах. Все высказывают свои планы ведения военных операций. Как жаль, что генеральные штабы по своей неповоротливости не имеют обыкновения прислушиваться к голосам уличных стратегов. Кажется, стоит принять их диспозиции — и завтра война окончится полной и безусловной капитуляцией врага. Но не слушают уличных толков, в штабах сидят, склонившись над картами, отмечая пестрыми цветными флажками поступающие известия, уже в первые часы ставшие угрожающими.
По улицам бесконечно идут мобилизованные, мчатся нагруженные непонятным военным скарбом автомобили. Проскакал, ощерясь пиками, уланский полк.
— Проклятые фашисты!
— Война не объявлена, господа!
— Это нарушение международных законов!
— Какие теперь законы и договора! Ведь никто их не выполняет!
— Побьем немцев!
— Всыпят нам немцы!
Газеты рвут из рук, зачитывают до дыр, и газет почему-то сразу стало так мало. От радиоприемника не отходят часами. Насущный хлеб людей — новости.
— Новости? Что нового? Скажите последние новости?
— Где? Кто? Когда? Зачем? Что будет?
В страшной, все нарастающей тревоге, с замирающим сердцем и холодеющими пальцами, но крепясь, сжав губы, Люцина, не дождавшись отца, поехала к нему. Полковник встретил ее неласково и сурово.
— Для чего ты приехала? Тебе лучше сидеть дома!
— Прости, отец! Я не могла быть дома. Ты не обедал сегодня…
— Тоже, мать моя, подумаешь, обед. Ну, кыш домой! Собери кое-что в дорогу. Только гляди — самое необходимое.
— Неужели, отец, дела так плохи, что нужно думать о бегстве?
— Не о бегстве, глупыша! Война состоит из комбинаций отступлений и наступлений. Мы, возможно, будем отступать, поняла? Ну, марш домой! Я Бог даст, буду к вечеру.
— Отец, неужели всему конец? — не выдержала Люцина и припала к отцовскому плечу.
— Успокойся, милая, все будет хорошо. Немцы продвигаются, но это не так страшно. Мы имеем могущественных союзников. Они никогда не допустят порабощения Польши!
От ласкового, обнадеживающего слова отца тяжелая горечь несколько отлегла от сердца. Люцина уехала домой. С языка так и не слетел вертевшийся на самом кончике вопрос: где же теперь Мечислав Сливинский? Что с ним?
Дома было тревожно и бестолково. Озабоченно, но без всякой пользы, носилась из комнаты в комнату, из угла в угол прислуга, хватаясь за одно, не окончив и берясь за другое. Зачем-то с места на место переставляли вещи, двигали стулья. Мать сидела у окна, недвижимым взором уставившись на верхушки позолоченных осенью лип.
Люцина обошла дом. Такой знакомый и родной дом. Пересмотрела еще раз дорогие вещи, письма. Зашла в кабинет отца. Невыразимая тяжесть сдавила грудь… Зачем отец приказал собираться? И, стараясь быть рассудительной и спокойной, принялась укладывать чемоданы с помощью старой горничной. Она понимала, что мать не способна сейчас ни на что…
Уже поздно вечером, уставший от беготни ординарцев, телефонных звонков, докладов, распоряжений и сводок — заехал домой старый полковник Симон. Иссиня-черное сентябрьское небо прокалывали навылет острые клинки сверкающих прожекторов. На горизонте, уже на польской земле, полыхало небо огромными сполохами ужасного сияния лика войны…
Быстрой и твердой походкой вошел полковник в дом.
— Ну, что, готово у вас? — спросил он вместо приветствия.
— Да, отец. Почти готово. Какие же известия?
— Известия!?! Известия, мать моя, скверные… Немцы стремительно напирают. Мы отступаем. Сегодня снова бомбардировали Варшаву. Да и нашему воеводству досталось. Мы бросили в воздух почти все наши силы. Но «они» — оказались сильнее.
Несколько секунд молчания, которые тянутся часами. Симон сел, прикрыв глаза ладонью.
— Да, они сильнее… Нам приказано свернуть аэродром! И это тогда, когда мы только хотели его развернуть, несмотря на потери первого дня… Все соколы, как сами черти, рвутся в бой!
— Ты сказал… потери?!.. Потери! — взволнованно спросила Люцина.
— Потери!.. Ты что же думаешь, это игра в куклы?
— Но ради Бога, отец! Какие потери?
— Тяжелые потери. Капитан Квятковский, поручики: Витовский, Францишек, Жадринский, Хльонт — сбиты в первом воздушном бою над Збоншином… Семнадцать нижних чинов и офицеров убиты при бомбардировке базы. Поручики: Рутковский и Сливинский не вернулись на свой аэродром… Вот какие поте… — и не договорил, взглянув в глаза Люцины.
Ничего не сказала девушка. Подстреленной птицей упала к ногам старого Симона и, судорожно обняв пыльный сапог, затряслась в беззвучных рыданиях.
— Что с тобой, дочка? Ну будет же, будет, — подымая дочь, бормочет растерявшийся отец.
— О, отец!.. Поручик Сливинский!.. Мечислав… Ме-е-чик!..
— Что Мечик? — начиная постигать смысл происходящего, спрашивает полковник.
— Я люблю его, отец, — сквозь рыдания тихо говорит Люцина, — сегодня он должен был просить у тебя моей руки…
— М-да… Экая… право, неприятность, — смущенно и растерянно бормочет отец. С Люциной начинается истерика; она бьется у ног и всхлипывает. Но старый, закаленный солдат понял, как успокоить дочь. Он отрывистым голосом говорит:
— Прекрати рюмсать, вытри слезы, Люцина! Мечислав Сливинский был прекрасный офицер и достойный человек. Я гордился бы таким зятем. Но он бы упрекнул меня за слишком мягкое воспитание, увидев тебя такою сейчас. Родина наша в опасности. Одна великая женщина сказала: «Лучше быть вдовою героя, чем женою труса!»
— Отец! — как бы прося пощады, шепчет Люцина.
— Крепись, дочка! Ты не первая и не последняя полька, которой есть о ком плакать… Подумай о них. Думай о тяжелой доле всей нашей отчизны, которой выпало перенести тягчайшие испытания. Молись… Может быть, и не погиб свой нареченный… Мне не верится, что он погиб, — бросал отец маленькое, незаметное семя надежды в израненное сердце Люцины.
Полковник, даже не обедав, громко стуча каблуками, в глубоком раздумьи обошел весь дом и снова уехал в штаб.
Дочь и невеста солдата нашла в себе силы овладеть разыгравшимися чувствами. Но как тяжело, как невероятно тяжело!
Хотелось зарыдать так громко, чтобы там где-то, под облаками, с самолета услышал ее Мечислав.
— А, может быть, он уже лежит поверженный на землю со своим аппаратом? Нет, не может быть! Вот только несколько десятков часов тому, Мечик был с ней, такой радостный и… подарил ей звездочку. Люцина помчалась на веранду, но сентябрьская ночь взволнованно дремала под толстым покровом тумана…
Люцина позвонила отцу в штаб. Долго молчит противная, зловещая и холодная черная трубка — неужели испортилась? Наконец, она слышит далекий, такой замогильный голос отца и решается спросить:
— Не слышно ничего о Мечиславе?
— Пока ничего… Я послал запрос о нем на соседние аэродромы, может быть, вынужденная посадка… Мужайся, дочка! Ночевать не приду домой. Не забудьте затемнить окна!..
Пусто и таинственно в старом доме. Наглухо спущены зеленые шторы, Люцина сама проверила, чтобы свет был хорошо замаскирован. Где-то в черноте ночи угрожающе урчат и мурлычат самолеты. — Должно быть, вражеские, — решает молодая хозяйка большого, такого пустынно-тихого дома. Она ходит по пустой анфиладе прохладных комнат. Старые и строгие предки, затянутые в кунтуши, в конфедератках, в ажурных, волнистых, белых жабо, с ликами святых, глядят с потускневших от времени полотен в тяжелых, бронзовых рамах. Многие предки с оружием в руках — видно, не раз им приходилось оберегать от врага границы своей страны! Люцина всматривается в лики своих предков. Она знает их всех, знает, что они ушли в вечность, в мир иной, многие преждевременно живот свой положили за свободу Польши. И сколько еще уйдет их потомков… И Люцина уйдет к ним тоже, позже… Предки хмурятся… Они спросят: что ты сделала для свободы Польши? Боролась ли с врагом, когда он наступил на грудь родины? Да, я буду бороться… Люцина взволнована. Предки повелевают… Она быстро бежит в кабинет отца, выдвинув ящик стола, находит небольшой, вороненой стали пистолет…
Траурную тишину прервал резкий звонок телефона: может быть, новость о Мечике?
— Я слушаю… — До уха Люцины доносится голос отца:
— Слушай, дочка! Выясняется, что город окружают. Вывезти всех невозможно. Я остаюсь на своем посту. Храни вас Бог!..
На этом разговор прервался.
Стремительно опускался безжалостный молот войны, дробя хрупкое людское счастье…
5. Невольничий рынок
Тысячи людей барахтались в цепкой паутине колючей проволоки. Гигантский невидимый паук опутал страны и народы колючей проволокой бесчисленных лагерей, в которых оказались миллионы мух-людей.
…Осыпаются искалеченные, выпитые, сухие мушиные трупы… Люцина Симон, в кошмарной дремоте, присматривается и видит, как чудовище приблизилось, пучеглазыми, рачьими глазами уставилось на нее. Но стирается грань между кошмарным сном и действительностью. Она слышит явственно крик паука, вскакивает с вонючего матраца в переполненном человеческом хлеву, поправляя на себе смятый салопчик…
— Лос! Лос! Лос! — залаял краснорожий бульдог, для страшного маскарада ряженый в форму полицейского.
— Лос! Лос! Лос!
И плечо Люцины ожег резкий удар; от неожиданности девушка присела. Палочный град лютой грозой пронесся по спинам девушек.
— Что он хочет?
— Лос! Лос! Лос!
— Святый Иисусе! Заступись и помилуй!
— Лос! Лос! Лос! — Бульдог палкой выгоняет девушек из отвратительного барака, пытается построить их по-военному, но он не понимает ни слова по-польски, а девушки по-немецки. Они сбились в кучу, будто стадо овец в проливной дождь, в ужасе закрывая лицо руками.
Кое-как, при помощи увесистой палки, вахмейстер выстроил «непослушных животных» в длинную шеренгу.
Спустя час на плацу появилось несколько человек в желтых, зеленых и черных униформах, среди них обшитый золотом, важный, как фазан, краснощекий немец и низкий японец в черном сюртуке. Японец щупал каждую девушку проницательным, сверлящим взглядом, преломляющимся в чечевицах огромных очков и, как бы не доверяя порочным глазам, еще прикасался пальцем, затянутым в тонкую, лайковую перчатку.
— Хорошо!.. Да, очень хорошо! Прекрасный материал! Да… запишите вот эту и ту, — приказывает японец своему секретарю, показывая на выбранных. Его взгляд колючий и пристальный, как у очковой змеи, холодит сердце Люцины.
— Она похожа на… породистого кролика, — тихо произнес Боно Рито, наклоняясь к «золотому фазану», — должен сказать — я доволен; живой человеческий материал для серьезных опытов приятнее кроликов и морских свинок.
— О, еще бы, вам, как ученому, это виднее…
«О Боже! Ее тоже записал этот очкастый… она теперь его рабыня», — подумала Люцина. Страх, ужасный, животный страх неожиданно подкрался и схватил девушку за горло. Ей захотелось закричать так громко, чтобы даже Мечик, если он жив, услышал…
Первая партия наивысших хозяев прошла дальше, за ней последовала вторая и третья: подрядчики, помещики, бесцеремонно тормоша и жадно хватая, набирали даровых рабынь.
— Рабство! Невольничий рынок! — вскрикнула Люцина так громко, что услышал весь лагерь — несколько тысяч дочерей израненной, измученной Польши. Тугой, свистящий удар палки — и перед девушкой завертелся весь мир; рухнувший горизонт уткнулся в колючую проволоку, а нависшие серые облака расплакались мелким осенним дождем, и все поплыло, смешалось в одно невыносимо тяжелое понятие — НЕВОЛЯ!!!
Над лежащей Люциной, в фантастическом ракурсе, склонились головы подруг; сознанье постепенно возвращалось к ней…
Длинная вереница исхудавших рабынь, подгоняемая полицейскими, плетется по улицам сонного города. Среди них опустившая голову Люцина Симон.
— Сорок скотов в товарный вагон! — слышится команда. Люцина попадает в зарешеченную колючей проволокой, грязную, угольную коробку. Около нее стоя сгрудились землячки.
— И кажется мне, девушки, что нас везут на какое-то страшное несчастье.
— Может быть, в публичный дом!?!
— Отобрали нас только молодых и красивых.
— Что делать?
— Куда нас повезут, что будет с нами?..
На платформе, среди нескольких важных немцев, стоит все тот же невысокий японец в больших очках в черепаховой оправе. Он сосредоточенно и внимательно глядит на проходящие мимо вагоны и, щелкая сухими пальцами, говорит:
— Теперь, я думаю, дело пойдет успешнее…
Вагоны катятся на Запад.
Часть третья
АНТИХРИСТОВО ВОИНСТВО
1. Виноград Эстремадуры
Несмотря на палящее солнце, желтый пассажир высоко поднял воротник сюртука, взяв под руку замотанное в невообразимые одежды существо и за руку девочку и, под колкими, иронически-насмешливыми взглядами остальных пассажиров, самоотверженно отказавшись от услуг потрепанного, коричневого омнибуса, вышел пешком из аэропорта.
— Его теща очень похожа на обезьяну!
— Большой оригинал!
— Вы устанете!
— До города три мили! — неслись вдогонку невозмутимому пассажиру мелкие колкости…
Спустя час, к чрезвычайному удовольствию мальчишек всего квартала, три посетителя появились в трущобах окраины Лиссабона.
Смуглые юные обитатели «Пьяцца Сиерра», с оливкового цвета лицам и черными маслинами глаз, довольно шумно выражали свою заинтересованность редкими гостями. Еще царило то неопределенное положение, когда одна сторона, ничего не зная о другой, знакомилась по внешним признакам. Вначале была разоблачена Зула, превратившись в мишень для практикующихся в остроумии мальчишек. Острые реплики, вперемежку с апельсинными корками, полетели вдогонку. Здесь все трое проявили изумительную стойкость и выдержанность, выражая ко всему происходящему рыцарское презрение.
Компания вошла в вестибюль небольшого, неряшливого отеля, где обычно останавливались приезжие на рынок крестьяне, бродячие комедианты, несостоятельные и неопределенные люди.
Посетитель достал свой паспорт и попросил комнату, образно изъясняясь при помощи пальцев, жестикуляции и суррогата международного языка из смеси нескольких английских, французских и немецких слов, пересыпанных, скорее для собственного ободрения, японскими ругательствами; — словом, это был тот язык, на котором изъясняются иностранцы…
Португалец, находящийся под блаженным действием «опорто», внимательно прочел фамилию и недружелюбно взглянул на Зулу, призадумался — «какой же национальности могла быть эта безобразная старуха»?
— Это ваша теща? — спросил он.
— Это моя теща!
— То-то же! У меня в точности такая… — И Педро Кобреро, уже довольно дружелюбно, будучи связан родственными узами взаимного несчастья, повел гостей на опаленную солнцем мансарду.
— Вот, к сожалению, все, что я могу предложить вам…
Зула заботливо вытирала пыль со стола, Магда дремала в плетенном лонгшезе, а сам великий Боно Рито, он же теперь Дон Педрилио Камарадосса, присев на кончик убогого, продавленного дивана, углубившись в раздумье, взвешивал создавшуюся обстановку.
Благодаря операции над Эриком Джонсом он остался почти нищим и вдобавок — едва не угодил в тюрьму.
— Какую сенсацию раздули из этого плевого дела!.. Подумаешь… одного человека превратил в обезьяну… да я… если захочу, весь мир превращу в давно забытых предков! Ха-ха-ха! Это будет, но пока, великий Дон Боно-Педрилио-Рито-Камарадосса! Пока — ты нищий! В твоих карманах осталось лишь несколько долларов и крупная голубая жемчужина…
Не переводя дыхания, он выпил одну за другой две бутылки отличного «опорто». Когда лучи смуглого вечернего солнца собирались покинуть мансарду, хозяин протянул в дверь узкий и длинный как доллар запечатанный конверт.
— Вам телеграмма!
— Это не мне.
— У меня другой Дон Камарадосса не живет.
— Телеграмма! — изумился жилец, — кто бы это мне мог послать телеграмму? Это так же невозможно, как в Сахаре увидеть ледяную гору… Впрочем! — И он величественным жестом принял телеграфное послание. Оно гласило:
«Дону Педрилио Камарадосса. Пейте побольше португальского вина за здоровье Джонса.
Привет теще. Линкерт».
— Больше португальского вина! — изумился Боно Рито, — здоровье Джонса? Причем тут Джонс? Но упоминание о фамилии Джонса подчеркивало, что телеграмма адресована ему. Что за теща?
Разболелась голова от решения таинственной шарады.
— Кто такой Линкерт? Черт знает, что такое. Они знали, что я уехал в Португалию, но откуда они узнали мой здешний адрес?
Быстро наступила южная ночь. Пользуясь ее соучастием, Боно ушел из отеля. Накалившееся за день от солнца глиняные стены домов излучали тепло, как аккумуляторы.
Боно Рито провел первую тревожную ночь на европейском континенте. Его беспокоила странная ситуация, в которой он очутился, и японец мысленно сравнивал себя с человеком, потерпевшим кораблекрушение.
На рассвете портье второго отеля, улыбаясь приятной возможности доставить своей услужливостью удовольствие новому постояльцу, постучал в дверь.
— Милорд! Сир! Вам телеграмма.
— Что!?! — заревел японец.
— Телеграмма доставлена сегодня на рассвете нарочным.
Адресат вскрыл конверт и быстро прочел:
«…Слишком частая перемена отелей рискована для здоровья. Эрик Джонс чувствует себя бесподобно в лоне предков. Сшейте теще более светлое платье. Линкерт».
Струи холодного пота душем обдали японца.
— Сшейте теще белое платье? Будьте вы прокляты! Кто — Линкерт? Почему он преследует меня?.. Выслеживающий, очевидно, прилетел в Европу на том же самолете?.. — Японец мысленно перебирал в памяти всех пассажиров, но не заподозрил никого из своих бывших спутников по путешествию.
— Что они хотят?..
Гость провел весь день в нарастающем беспокойстве, все ожидая новой телеграммы. Ночью он скорым поездом выехал в Мадрид…
В испанской столице он долго петлял по улицам, проделывая сложнейшие и неожиданные приемы заметания следов, порядком утомив Магду и даже выносливую Зулу. Наконец, трио расположилось на отдых в третьеразрядном пансионе на улице Виктории.
Утром под дверью лежал конверт с телеграфным вензелем испанского королевства… Телеграмма гласила:
«Теща Джонса ожидает прибавления семейства. Родственники Эрика здоровы и уезжают в Гамбург. Старый знакомый».
— Родственники Эрика уезжают в Гамбург! При чем тут Гамбург? Будь ты проклят со своим прибавлением семейства!..
Боно Рито не выдержал и бежал в горы. Испанский крестьянин за небольшую плату увез его на скрипучей телеге, запряженной парой волов, в сады Эстремадуры. На террасах лениво лежащих гор, зрел виноград. Наступала благословенная пора в Испании — спадала летняя жара и отдаленное море дышало прохладой… Боно превратился в сборщика винограда и, нарядившись в туземную одежду, стал более похож на Дона Педрилио Камарадоссу, чем на сына великого жреца, одного из островов Желтого моря…
Время летело и, казалось, было создано для того, чтобы трудолюбивое семейство пришлых-чечако тратило его на сбор тяжелых гроздей, поддернутых синеватой изморозью… Прекрасен виноград в садах Эстремадуры — сами солнечные брызги, налитые в клеточки, просвечивают сквозь благородную кожицу всех цветов и расцветок, присущих винограду… О, Дон Педрилио влюблен в испанский виноград и постигает в садах глубокую мудрость бытия.
Боно Рито учился у многих народов, в том числе и у соотечественников Педрилио Камарадоссы, звучное имя которого скрыло его от мира.
Девочка-подросток стоит на скалистой террасе. Она подставила загорелое лицо под ветер, налетевший с отдаленного Средиземного моря. Он, казалось, был еще дальше и запел в выветрившихся скалах песчаника несложную левантинскую песенку. К ней прислушивалась Магда, пытаясь подражать ветру… Она любила сбор винограда и теперешнюю спокойную жизнь! Это лучшая пора детства, после песни матери о дыме цветущих яблонь… Но сколько ни пыталась девочка узнать у отца, куда девалась ее мать — японец неизменно молчал.
…Три года провело семейство пришельцев в удивительной тишине и спокойствии, но начавшаяся гражданская война согнала их с насиженного места и бросила вечных путников в водоворот событий. Снова пришлось приняться за старое ремесло и трио повело беспокойную жизнь, участвуя в представлениях бродячего цирка на базарных площадях Кастильи.
Несколько раз подозрительных испанцев арестовывали попеременно — то республиканцы, то сторонники Франко…
В солнечный день, по шоссе, покрытому толстым слоем белой лессовой пыли, шагали двое взрослых и тринадцатилетняя девушка, которая, однако, казалась старше своих лет. Старая женщина плотно укуталась платком, как бы сохраняя кожу от солнечных ожогов (что часто выручало Зулу от всяких неприятностей и давало возможность пользоваться привилегией уважения к пожилым представительницам прекрасного пола). Педрилио маршировал в белом холщевом одеянии, громыхающих деревянных сандалетах и клоунской шапке, — словом, это было довольно живописное трио.
— Фьюить!!! — просвистела пуля, чмокнувшись о шоссе. Где-то раздался выстрел, еще и еще прокатилось эхо в скалистых ущельях. Спустя пару минут с обеих сторон дороги открылась усиленная перестрелка и даже затявкали пулеметы. Перед озадаченными путешественниками на шоссе разорвалась мина, подымая облако пыли. Сзади показались силуэты перебегающих солдат…
— Кто ты? — спросил рослый кабальеро со старинным мушкетоном.
— Артист странствующего цирка.
— Шпион? — недоверчиво покосился воин, беря клоуна на мушку.
Тогда Зула пустилась в пляс, а Магда, потряхивая дребезжащим бубном, запела популярную песенку. Живописно одетый, похожий на любовника оперетты воин рассмеялся и опустил свой старинный мушкетон эпохи Евгения Савойского… Спектакль продолжался.
Вскоре противники: повстанцы и республиканцы, обступив тесным кольцом плясавших, дружно захлопали в ладоши и по спине друг друга. Зрелище их приковывало и интересовало больше, чем война. Дон-клоун показывал занятные фокусы с превращением магических черных и белых шариков.
На долю Магды досталось немало комплиментов самого разнообразного свойства, но девушка стоически их переносила и улыбалась направо и налево. Протанцевав несколько раз, она, сняв соломенную шляпу, прошлась по толпе кабальеро. Сыпалась медь и бумажки..
Перестрелка закончилась народным праздником и братанием противников. Испанские обычаи непонятны японцу…
Наступила темнота. Фиолетовые сумерки сгущались над землей, а умиротворенные испанцы пели свои звучные песни…
Какая-то погоня преследовала Боно Рито в каждом городе. Едва устроившись в новом месте, он чувствовал, что за ним неотступно кто-то следит… И японец бросался очертя голову дальше. Порою, в ночном мраке, ему мерещился электрический стул и синг-сингский палач, туго затягивающий на нем ремни пресловутого стула. О, нет! Сын страны Восходящего Солнца может погибнуть от харакири, всего, что угодно, но не на электрическом стуле… Как он явится к своим предкам, приняв такую позорную казнь!..
В дождь и непогоду, когда даже самый скверный хозяин посовестился бы выгнать собаку на улицу, Боно Рито бежал из Тулузы в Гамбург.
Устроив в трущобах Альтоны девушку с Зулой, он отправился в зоопарк к старику Гагенбеку. Бродя в обезьяннике, рассматривая животных, Боно заметил знакомый экземпляр; присмотревшись, он узнал свою Бинду.
Осторожно, чтобы не вызвать подозрения, он навел справки, и оказалось, что обезьяну купил в Америке коммерческий агент Гагенбека по поручению одного таинственного мецената. Животное временно находилось в парке и ждало переотправки дальше. Но как ни старался Боно узнать подробнее о заинтересовавшей его обезьяне и сколько не платил служащему, тот наотрез отказался дать какую-либо дополнительную информацию.
Боно Рито, соблюдая особые предосторожности, выехал в Швейцарию через Инсбрук…
2. Человек с обезьяной
Рабочий день шефа крупного детективного бюро начался с ряда телефонных звонков: Паркер едва успевал отвечать на вопросы, сыпавшиеся из многочисленных трубок. Агенту сообщали из Франции:
— Алло… Человек с обезьяной вчера был в Марселе и отправился в Тулон. Что делать?
— Установите слежку в Тулоне…
— Человек с обезьяной третьего дня проследовал по пути в Фиуме.
— Фиуме! Да вы бредите?..
— Неизвестный пассажир с обезьяной и девушкой пересек испано-французскую границу.
— Да, я Паркер… что?.. Я слушаю вас?..
— Человек с обезьяной исчез: не удалось обнаружить никаких следов.
— Человек с обезьяной?
— Обезьяна!!!
…Паркер уперся ногами о стол, отодвинулся всем корпусом на наклонившемся стуле и с ненавистью смотрел на зазвеневшие сразу все его шесть аппаратов. Он орал в пустоту своего кабинета, как в огромную телефонную мембрану, через которую его вопль должен услышать весь мир.
— Будь ты проклят! Чтобы подохли все обезьяны мира! Я бы совсем не пожалел о них!
Залп звонков постепенно утихал, как бы испугавшись страшной угрозы. Настойчиво звенел лишь первый аппарат правительственного провода, к которому Паркер относился с особым уважением.
— Здравствуйте, господин доктор! Как поживаете? Что прикажете вашему покорному слуге?
Но по мере разговора, лицо шефа детективов передернулось от ужаса. Он взволнованно отвечал своему крупнейшему клиенту:
— Замаялся совершенно! Поставил на ноги всех детективов, слежка налажена одновременно во всех городах южной Европы, это стоит колоссальных средств, но обезьяна ускользает… то она появляется сама, то человек расстается с обезьяной и они имеют еще вдобавок несколько ложных двойников. Эта японская лисица тщательно заметает обезьяним хвостом все следы, — докладывал Паркер. Но, очевидно, это сообщение не совсем удовлетворило таинственного охотника за обезьянами на континенте Европы.
— Хорошо! Я сам лично займусь этим делом, — пообещал Паркер.
Секретарь положил на стол перед шефом расшифрованную телеграмму:
«Немедленно сообщите, когда окончательно будет дан доклад о точном местонахождении человека с обезьяной».
Шеф схватился за голову и изжевал до огня длинную сигару. Облекшись, он разразился страшными проклятиями.
— Тьфу! Будь ты проклят со своей таинственной обезьяной, вместе с японцем, морочащим голову стольким европейцам.
Делать было нечего. Сам король сыщиков, швырнув в чемодан две пары наручников, полотенце, щетку и маску и сделав секретарю последние распоряжения, вместе с помощником отправился в невеселое путешествие.
Серый «Паккард» доставил Паркера на вокзал ровно за двадцать секунд до отправления поезда. Детективам даже не оставалось времени на покупку билетов. На первой узловой станции Паркера ждала телеграмма до востребования.
«Человек с обезьяной появился в Италии, следующие сообщения посылаю на Рим. Секретарь».
Паркер пересаживался с поезда на поезд. В спешке вместо своего прихватил чужой чемодан…
На границе разочарованный сыщик получил новое послание, сводящее на нет ценность первого.
«Человек с обезьяной оказался французским циркачом, однако Беренс сообщал, что наша обезьяна появилась в Албании».
Неутомимый Паркер метался, делая сложные ходы на шахматной доске крупных узловых станций Европы, проигрывая точно рассчитанные атаки и гамбиты. Но все расчеты сводились на нет неожиданными ходами японца.
— Я боюсь, что наше путешествие может оказаться бесполезным, — произнес спутник Паркера, огромный, рыжеватого цвета детина весом в двести десять фунтов.
— Вы предугадываете, что мы сыграем вничью?
— Потеряно три дня и никаких результатов, — уныло произнес детина.
— Или я не буду Рудольфом Паркером, или выиграю эту сложную партию!
— Говорят «труп врага, а в особенности японца, хорошо пахнет», может быть, мы устроим автокатастрофу? — предложил помощник.
— К сожалению, он мне необходим живым, или я пропащий человек. Что скажут обо мне в нашем министерстве иностранных дел?
Паркер не мог выбраться за пределы южной Европы. За сорок часов ему пришлось проделать семнадцать пересадок, дважды лететь на самолете, перенести одну легкую автомобильную катастрофу, но японец неизменно ускользал от него.
— Это или особенно опытный мошенник, или опытнейший детектив, которого не может перехитрить даже сам Рудольф Паркер — король европейских сыщиков!..
Негодяй с обезьяной начинал доводить Паркера до горячечного состояния.
— Не пойму одного — почему он бегает от нас? Ведь на европейском континенте он не совершил никакого преступления?..
При помощи особого чутья, присущего только людям его профессии, Паркер выбрал наиболее успешный вариант, чтобы установить контакт с хозяином обезьяны.
Он послал преследуемому через газетное объявление предложение джентльменской встречи. Полученный ответ раздосадовал сыщика, он гласил:
«Не беспокойтесь обо мне. Пожалейте свое здоровье, оно пригодится при восхождении на Альпы».
— Негодяй! Он прекрасно знает о нашей работе! Он беспокоится о моем здоровье и предлагает взбираться на Альпы!?! Будь ты проклят!!!
Детектив злился на себя за то, что открыл японцу свои карты.
Паркер собрал несколько помощников и заручился содействием полиции ряда стран, — ведь на карту был поставлен престиж самого шефа!..
Наконец, Паркер настиг преследуемого в швейцарской курортной деревушке у входа в отель. Отвратительная старушка, в низко опущенном чепце и капоте, вела под руку невысокого господина.
Два господина, встретившись, остановились и недружелюбно, в упор, уставились друг на друга, обнюхивая воздух, как это делают собаки при первом знакомстве. Оба направились в переулок, кончающийся глухим тупиком и упирающийся в высокую каменную стену. В этот момент у единственного входа в переулок появился дородный детина, одетый в серое пальто и зеленую шляпу. При виде японца его лицо расплылось довольной улыбкой.
— Я ваш друг, — доброжелательно произнес Паркер, обращаясь к Боно.
— А я предпочитаю дружить с кем-нибудь другим, — недовольно ответил японец.
— Прекрасная мысль! Я вас отрекомендую и подружитесь с другим.
— Кто же вы и что вам от меня нужно?
— Союз и дружбу…
Боно Рито вежливо улыбнулся, но стал косить глазами в поисках способа отвязаться от надоедливого друга, однако, взглянув на дородную фигуру, появившуюся в конце переулка, понял все и молниеносно решил заключить союз с более слабым противником, каким был Паркер, для борьбы с более сильным. Они дружелюбно внешне, как старые закадычные друзья, поздоровались и к недоумению третьего — заключили в объятия друг друга.
Человек в пальто осмотрелся вокруг и опустил руку в оттопырившийся карман, по-видимому, собираясь поднять тревогу. Однако, это ему не удалось. Он был неожиданно атакован Паркером и Рито. Один был недурным боксером, другой мастерски владел Джиу-Джитцу. Комбинация из этих двух отраслей человеческой культуры, видимо, пришлась не по вкусу верзиле и он не замедлил растянуться на земле, успев только крякнуть перед нокаутом. Новые союзники довольно бесцеремонно вывернули его карманы. Боно схватил пистолет, а Паркеру в виде трофея достался ордер полиции на зреет Боно Рито…
— Спрашивается, почему вы бежали от друзей? — спросил Паркер.
— Кто же вы, черт возьми?
— Я личный друг его превосходительства, посла Линкерта, который в свое время помог вам скрыться за океан.
— Уф! — еле отдышался японец, — вы не имеете ничего общего с американской полицией?
— Решительно ничего!
И Паркер передал все еще сомневавшемуся Боно Рито ордер, который японец немедленно разорвал на мельчайшие клочья, разлетевшиеся на ветру белыми хлопьями… С горы, нависшей над деревушкой, с шумом скатилась огромная снежная лавина. Боно Рито облегченно вздохнул.
— Но почему же вы не уведомили меня о том, кто вы, а вместо этого молчаливо преследовали, устраивая дурацкие маскарады и похищения?
— Какие маскарады, друг мой?
— Вы прихватили у меня в Сан-Себастьяне желтый чемодан с красными ремнями?
— Господь с вами! Ничего подобного!
— Не отпирайтесь, мой новый друг, это бесполезно! Только благодаря счастливой случайности, я накануне переложил из него в другой мои самые драгоценные вещи, книги и записки. Вы остались с носом!
— Да уверяю же вас, что не видел никакого чемодана; это не моих рук дело.
— Но чьих же?
— Знаю не больше вашего. Может быть, американская полиция…
— За каким же чертом американцам мои записки? Они попросту арестовали бы меня… Конечно, я вам не верю.
— И совершенно напрасно. У меня было задание, только не упускать вас из виду. Пока вы мирно жили в Испании, это было довольно несложно, но потом вы начали носиться, как метеор, и одному вам я обязан тем, что потерял дюжину килограмм собственного веса.
— Но ведь вы же и принуждали меня носиться.
— Да нет же, уважаемый профессор.
— Тогда странно. Совершенно странно…
3. Коробка любимых сигар
Линкерт, протянув обе руки, радостно приветствовал Боно Рито, будто перед ним был старый и любимый ДРУГ.
— Ба, дружище! Вот так встреча! Я уже три года жажду ее, но увы! Вы, однако, бегаете быстрее лани…
— Собственно говоря, я не знаю, о чем идет речь… Что вам желательно от меня?
— Собственно говоря, мне — ничего. Вами интересуется мой хороший друг, профессор… Едемте к нему. Он хочет предложить вам прекрасную работу… Спокойную, прекрасно оплачиваемую должность.
— Что именно, если не секрет?
— Об этом мы поговорим в другом месте. Здесь неудобно, кто-нибудь может подслушать наш разговор. Едемте. Через час отходит скорый поезд во Франкфурт-на-Майне, а дальнейшую поездку мы совершим в автомобиле.
Вскоре пассажиры разместились в отдельном купе спального вагона «Митропа». Зула дремала на мягком диване, а Магда с любопытством наблюдала меняющиеся за окном живописные виды Германии, иногда переводя взоры с окна на лицо посла, который часто поправлял галстух и исподтишка наблюдал за девушкой, которая действительно была очаровательна. Однако, это не мешало ему внимательно изучать лицо ее отца, бывшее невозмутимо спокойным, будто выточенным из желтоватой слоновой кости, и напоминавшее статуэтку безразличного Будды. Рито держался корректно-вежливо и совершенно не реагировал на новости, сообщаемые послом.
— «Хитрая бестия, ох уж эти японцы», — думал посол.
— «Немцы — хитрые бестии», — хладнокровно мыслил Боно Рито.
Две бестии прощупывали друг друга…
— Однако, почему вы так сдержанны и нелюбезны, мой дорогой профессор? — спросил Линкерт, — мне кажется, той услугой, которую я оказал вам в свое время, я доказал вам свое расположение и доброжелательность.
— Я никогда не забываю услуг и умею расплачиваться за них, — сухо ответил японец.
— Вот и прекрасно! Через десять минут мы будем во Франкфурте, нам подадут автомобиль и мы отправимся дальше, — произнес посол, будучи в самом прекрасном расположении духа…
…В живописных отрогах северных Альп на каждой вершине, как часовые средневековья, высились феодальные замки. Рядом с шоссе вилась в живописной долине река, начинавшаяся где-то в доломитовых Альпах; ее мутноватые воды напоминали сыворотку из-под простокваши. Светло-голубой Мерседес-Бенц, свернув с главного шоссе, пронзительно гудя, мчался свежепроложенным асфальтовым шоссе. Склоны гор поросли красивым, чистеньким буковым леском; порою шоссе ныряет в зеленый тоннель деревьев, иногда совсем вплотную приближается к сплошному, высокому и таинственному железобетонному забору. Вскоре путники остановились у огромных железных ворот.
Внимательно проверив документы посла, двое полицейских по телефону доложили о прибывших. Не спеша раскрылись литые ворота; проехав несколько сот метров по лесопарку, автомобиль остановился у небольшой виллы, густо повитой зеленым плющем.
Затейливые орнаменты газонов и цветники украшали небольшой, тщательно подстриженный сад.
Молчаливые служители тотчас же провели Магду с Зулой в предупредительно приготовленные для ожидаемых гостей, богатые и со вкусом обставленные комнаты в отдельном особняке, где они сразу же почувствовали себя как дома. Боно Рито в сопровождении Линкерта поднялся по ступенькам в приемную, где их встретил моложавый, но седой, с сильно развитыми челюстями и породистым подбородком, энергичный мужчина. Он чопорно поклонился, едва прикоснувшись правой рукой к сердцу.
— Знакомьтесь, профессор! Это долгожданный кудесник с Востока, наш Боно Рито! — отрекомендовал Линкерт.
— Очень рад долгожданной встрече! Я слышал и знаю о вас много. Мы уже давно ожидали вашего приезда и позаботились даже о вашем имуществе и жилище, — произнес встретивший. Серыми, стальными глазами он осмотрел гостя, одновременно оценивая, какое впечатление производят его слова на прибывшего.
— Взаимно рад этой встрече, — скромно ответил японец.
— Хотите отдохнуть, или взглянете на ваши владения и любимцев?..
— Благодарю, я не устал…
Трое мужчин спустились и по хрустящей гравием дорожке направились вглубь густого букового леса. За высокой металлической оградой они очутились в настоящем животном царстве.
— Не то зверинец, не то охотничий заповедник, — подумал Боно Рито, осматривая вольеры животных. Вот подпрыгивая промчалось стадо испуганных антилоп, дальше пасся благородный пятнистый олень, но больше всего в заповеднике было обезьян разнообразнейших пород. Они возились, метались, играли и кричали на всех обезьяньих наречиях. Уцепившись хвостами за сучья, раскачивались ленивцы и цепкохвостые мадагаскарские лемуры, исполняя сложные акробатические упражнения. На искусственных скалах возилось стадо краснозадых павианов.
Макаки, бабакоты, синдапупы, шимпанзе, гориллы сбежались к ограде и с особым любопытством осматривали посетителей. Особенно обрадовалось примчавшееся стадо орангутанов; они издавали радостные крики и протягивали волосатые руки к Боно Рито.
— Маки! Маки! Неужели это ты? — удивился японец, неожиданно встретив своих бывших актеров, являющихся первыми плодами отцовских экспериментов. Сейчас они, правда, более походили на обезьян, чем раньше, во время частого дресса.
Захлебывающимися, нечленораздельными криками огромная обезьяна выражала искреннюю радость, встретив своего хозяина.
— Как они попали сюда? — спросил озадаченный Боно.
— Они предназначены для вашей будущей работы.
Боно Рито был приятно поражен, но вместе с тем ему не нравился такой властный и уверенный тон, каким с ним говорил новый знакомый.
В вольерах оказалось немало подэкспериментальных животных, но многие за семилетний перерыв уже забыли своего первого деспота.
— Орангутанги обладают наилучшей памятью, — произнес, отвечая на свои мысли, Боно, — неужели они здесь все?
— Кроме ваших животных, которые продавались с публичных торгов, мы прикупили за океаном еще тысячу голов, — объяснил профессор…
— Пойдемте дальше. Может быть, уважаемый коллега посмотрит наши научные лаборатории? — спросил Линкерт.
— О, с удовольствием, — согласился гость, входя в красивое, двухэтажное здание прекрасно оборудованной лаборатории. Сверкающие новенькие аппараты Лейтца для тончайших срезов препаратов ткани и мозга, микрофотографические аппараты Цейса, рентгеновские кабинеты, превосходные французские киносъемочные камеры для съемок рапид, фирмы Дебри, мультипликационные аппараты Аскания.
Боно Рито иронически покосился на драгоценную аппаратуру. Он принадлежал к числу людей, не очень уважающих кропотливые научные изыскания с помощью механизмов. Он ценил наилучший дар природы, данный человеку — его ум! Он решал сложнейшие вопросы гораздо проще, на основе физиологических наблюдений и опыта, полученного от таинственной науки Дальнего Востока, неизвестной западным ученым.
— Ну, как, вы довольны лабораторией? — спросил профессор.
— Неплохая, — уклончиво ответил гость.
Осмотрев зверинец и храм науки, они направились к мелькнувшему в зелени двухэтажному коттеджу, построенному в несколько утрированном японском стиле. Немецкая черепица прекрасно ужилась на изогнуто-вычурной кровле, напоминающей крыши пагод. Вокруг — затейливые, как броши, цветники, на них — родные японцу цветы. Заметив клумбу хризантем, японец останавливается и суживает в улыбке косые глаза. Это не ускользает от наблюдательного Линкерта.
Полированная медь дверных ручек, шлифованный хрусталь в массивном дубе. В вестибюле миниатюрный зимний сад; огромное дерево — японская хурма, усыпанное полузрелыми, глянцевитыми, оранжевыми плодами.
Комната, драпированная шелками с летающими драконами, привлекает и особенно удивляет японца. Он взглянул на буфет, раздумывая: «В точности такой остался у меня в Новом свете, даже в нем недопитая бутылка Берти». Ну, это уж слишком!..
На столе сигарный ящик, отделанный инкрустацией из перламутра. Гость открывает крышку и возглас изумления веселит его новых хозяев:
— О, моя любимая марка гаваны! Откуда все это? — спрашивает Боно.
— …!!!
— …!!!
Оба утвердительно кивнули головой. Они поняли друг друга без слов, как давно знакомые соумышленники, и рассмеялись.
— Однако, это длительная и кропотливая режиссерская работа, — пошутил японец, оскаливаясь… Перед его глазами быстро промчались воспоминания прошлого: ревю, Эллен (где же она?), Джонс-обезьяна, потом травля и паспорт, его спасение и эстремадурские виноградники, трехлетняя непрерывная погоня за полуголодным циркачом, опасающимся электрического стула. Все это было еще понятно Боно Рито, но он чувствовал, что отныне какая-то новая, дьявольская сила связывала его с новыми знакомыми крепкими узами, отнюдь не дружбы, не взаимной симпатии или платонической любви — но чего-то более страшного, более сильнодейственного.
— Очень мило! Вы очень предупредительны, но…
— Мы хотели вам создать приятные и необходимые условия для работы.
— Итак! В чем же заключается эта таинственная работа?
Усевшись в мягкие кожаные кресла, они закурили ароматные сигары.
— Учтите, господин Боно Рито, что наш разговор и дело — являются государственной тайной…
— Понимаю и чувствую, что не простое меценатство побудило вас позвать меня сюда.
Посол утвердительно кивнул головой. Японец приготовился слушать.
— Нам знакомы ваши работы в области цирка. Вы смогли очаровать публику Нового Света модерной, художественной постановкой на тему «Эволюция человека». Вы непревзойденный режиссер цирка, но…
И Боно Рито уловил в голосе профессора еле заметную нотку тонкой иронии, не ускользнувшую от наблюдательного японца.
— Прошу вас, продолжайте милую беседу, — проговорил с оттенком сарказма гость.
— Но нас интересует другое! — тут лицо собеседника оживилось, стало решительным и даже вдохновенным. — Отбросим фразеологию — мы ведь деловые люди. Нам известно кое-что из вашей прежней деятельности в иной области… Кстати, можем вас порадовать новостью, что артист Эрик Джонс превратился в полуобезьяну! Он помещен в специальную клинику.
Лицо Боно Рито затряслось в припадке беззвучного смеха. Он не скрывал своей радости перед присутствующими.
Японец наслаждался; это были минуты наивысшего блаженства, награда за потерю любимой женщины, состояния…
Он ясно видит перед собой это жалкое, превращенное им в обезьянье, лицо артиста…
— Ваша жена находится на нашем попечении, но она безнадежно психически больна. Возможно, вы хотите ее видеть здесь?
— Нет, нет! — замахал руками Боно. Он не хочет больше знать изменившую ему женщину. Безжалостный пришелец с Дальнего Востока не знает сострадания, ему чуждо чувство жалости. О! Если его глубоко оскорбили, он умеет ненавидеть, как ни один европеец.
— Благодарю вас за новости; они приятны для меня. Но продолжим наш деловой разговор — чем я могу быть полезен?
— Лучшие ученые нашей страны работают над улучшением человеческой расы, — это как раз аналогичная тема вашей постановки. Мы, арийцы, — люди высшей расы! Высшие существа! Нам дано Провидением право повелевать и держать в своих руках управление низшими расами и всей вселенной! Мы должны культивировать свою кровь… Мы создаем из своей расы — господ, из всех остальных — челядь! Низшие должны и будут трудиться, делать всю неприятную, черную работу. И вот здесь мы должны применить обратный процесс эволюции Дарвина. Всех неарийцев мы должны заставить деградировать, сделать шаг обратно, понизить их умственные способности, повлиять на культуру, психику, уничтожить, вырвать мышление, однако, не затронув самого главного — их работоспособности. Но это нелегкая работа. Наша задача — искусственно создать новый тип «унтерменша — человека-робота»! — произнес длинную тираду профессор.
— Это интересная тема. Я, признаться, давно задумывался над ней… Я заставлю самого Дарвина стать обезьяной! — рассмеялся колдун.
— На этом принципе будет перестроена Европа, а за ней и весь мир. Кто не с нами, тот против нас и будет уничтожен!
Боно Рито доволен этим откровенным разговором. Идея нацизма его не увлекала, но в ней он увидел возможный трамплин для достижения своей тайной мечты — жажды деспотичной власти, которая привлекала его. Он всегда стремился к неограниченной власти в самом широчайшем масштабе… И вот он выходит на один из путей… Ему все дают в руки. Он знал, что такая минута придет. Он ждал ее долго. Но он воспользуется всем, а дальше… О, дальше! Дальше будет видно…
— Итак — по рукам. Я в принципе согласен. С сегодняшнего дня я целиком в вашем распоряжении, — отвечает Рито.
— Вас интересует плата… За исследования и изыскание препарата для прививки «Унтерменш» мы решили вам предложить миллион марок, кроме обычного жалованья в сто тысяч в год. Вы согласны?
— Да, да. Прекрасное вознаграждение. Но поверьте, я буду работать не из-за денег, а из-за самой научной идеи. Она мне пришлась по духу.
— Очень рад! О вашей жизни и удобствах не беспокойтесь. Здесь мы подумали обо всем, нетерпеливо ожидая вашего прибытия. Предусмотрено все, вплоть до учителей и наставников для вашей прелестной дочери… Здесь она может пройти полный гимназический курс. Я думаю, что во время ваших бездомных скитаний, она не успела…
— Около моей дочери был ее отец, — криво улыбнулся японец.
— Простите, дорогой профессор!
— Пожалуйста, пожалуйста! Я думаю через некоторое время отправить ее в один из ваших прекрасных университетов.
— Итак, значит, все в порядке!
Они пожали друг другу руки. Сделка двух дьяволов в образе человека состоялась.
— Теперь выпьем за успех дела! Прозит!
— Прост!
Прост! — чокнулись они рюмками с коньяком. Тонкий хрусталь звенел бубенцами.
4. Похитители разума
Две недели Боно Рито отдыхал, наслаждаясь лесным безмолвием, иногда забавляясь кувырканьем обезьян. В свободное время он читал книги и особые материалы, любезно предложенные профессором. Никто не мешал ему, но во время новой встречи Линкерт протянул ему портфель с бумагами.
— Вот грамота, официально уполномочивающая вас принять шефство над нашим институтом, именуемым отныне — «Бюро Боно Рито».
— Благодарю вас, господин посол. Чему я обязан такой высокой честью? — произнес японец, принимая бумаги. По старой привычке он часто величал Линкерта послом, хотя последний давно уже не был им, занимая теперь высокий, но несколько таинственный пост на родине.
— Мы избрали такое название научно-исследовательскому институту в знак высокого уважения к вам, а также в целях конспирации.
— О! Вы очень предупредительны.
— Иностранные разведчики, конечно, очень заинтересовались бы нашими исследованиями, но мы навсегда закрыли сюда доступ всяким праздношатающимся корреспондентам. Может быть, это вам не понравится? — спросил Линкерт.
— Наоборот! Я недолюбливаю репортеров и журналистов после одного случая… — оскалился Рито.
— Да, да, это понятно, — разные интриги, — понимающе кивнул Линкерт.
— О! Я перенес их немало.
— Продолжаем нашу деловую беседу. Вашим помощником будет доктор Кребс.
— Доктор Кребс! Это тот, с кем мы так приятно беседовали вчера? Я слышал о его работах. Это известный ученый-расист.
— Нет, нет… это не он. Но доктор Кребс действительно имеет значительные труды по расовой теории. Он познакомит вас со всем и введет в курс дела.
Линкерт позвонил, и через несколько секунд в кабинет вкатился невысокий, округленный, лысоватый человечек в серой тройке и золотым партийным значком в петличке.
— Здравствуйте, господин профессор! — вежливо поздоровался он с Рито.
— Господин Кребс, надеюсь, не откажется быть также и связывающим звеном между нами и вашими изысканиями и открытиями. Он поможет вам во всех организационных вопросах; кстати, доктор хорошо информирован об установках и политических указаниях по интересующему вопросу и поможет направить в идейное русло нашу работу, — знакомя их, произнес Линкерт.
— Очень приятно… Это как раз то, в чем я чувствую себя еще несколько слабым, — ответил Боно Рито.
— Вам должно остаться больше времени для чисто научной работы, — сказал доктор Кребс.
— Вот и прекрасно, друзья; надеюсь, вы сработаетесь и будете действовать в интересах великого дела по переустройству мира, — заявил довольный Линкерт.
Кругловатый, со скользкой плешью доктор не совсем пришелся по духу японцу, любившему власть и самостоятельность, но что поделаешь — он в чужой стране…
— Я бы хотел познакомиться с ближайшими помощниками и научными силами, узнать весь актив исследовательского института и посвятить их в тайны своей науки, — предложил Рито.
— Они всегда к вашим услугам.
— Конечно, это все проверенные люди? — спросил новый шеф.
— О, конечно! Мы позаботились, чтобы здесь оказались лишь преданные нам люди и отсутствовали болтуны и тупицы. Нам довольно долго пришлось потрудиться над подбором персонала.
— Сколько, если не секрет?
— О, коллега! Какие могут быть между нами секреты? Свыше года мы ожидали вашего приезда со дня на день.
Это заявление, по мнению Кребса, должно было бы польстить самолюбию Боно Рито, но лишь раздосадовало японца, повысив его личную антипатию к доктору. — Чертов нацист!.. подготовлялся к его приезду, очевидно, эта вакцина им действительно чрезвычайно необходима, — мелькнуло в сознании желтого арийца…
В светлом зале, напоминавшем типичную современную университетскую, хорошо оборудованную аудиторию с кафедрой, картами, книжными шкафами, собралось свыше тридцати подлинных ученных, а также служителей культа расовой теории. Прошлое этих последних довольно темно и малоизвестно в ученом мире; многие из них начинали карьеру в должности брадобреев, дрессировщиков, прозекторов или низших университетских служителей и сумели сделать головокружительную карьеру лишь с колоссальным спросом на сомнительного свойства науку, после прихода к власти коричневого божества.
Перед аудиторией с коротким вступлением выступил доктор Кребс:
— Уважаемые коллеги! Мне выпала честь представить вам великого ученого таинственного Дальнего Востока и… нашего будущего шефа. Мы все собрались вместе с ним выполнить особые задания и реализовать наши политические и научные доктрины…
Аудитория зааплодировала. Боно Рито, оскалив желтые зубы, поднялся и поклонился. Когда стихли последние хлопки, Кребс произнес установочную речь, начавшуюся с отдельных, наводящих пунктов.
— Никто так не знает интимной жизни человека, как он сам знает себя, со всеми личными — чистыми и тайными, порою и грязными сторонами своей жизни. У каждого представителя высшей расы есть и что то свое, особенное, разнящееся от других, передаваемое от родителей по наследству и являющееся следствием воспитания или образования, полученного в школе. Окружение накладывает характерные черты на поведение, психику, характер. Люди высшей расы разны и не похожи друг на друга своим характером, умственными способностями так же, как не подобны отпечатки их пальцев. Кровь же представителей высшей расы, а также деяния и энергичная потенциальность и стремления нации — одно. Мы ставим своей целью культивировать прекрасные качества, являющиеся колоссальным духовным достоянием представителей высшей расы… Однако, мы не можем себе позволить такой роскоши по отношению к ним — унтерменшам, представителям низших рас, — указал он презрительно, пророческим жестом на восток.
— Правильно! Правильно! — послышались одобрительные реплики.
— Унтерменш, то есть представитель низшей расы в нашем широком понимании, после проведения в жизнь огромнейшей программы — это домашний прирученный раб, как и в период расцвета Римской Империи, или домашнее животное, вскармливаемое своим хозяином для насущных нужд и потребностей в рабочей силе.
Вспомним историю. Еще в средние века в германских княжествах и герцогствах, пойманные или захваченные в бою неприятельские воины и мирное население исполняло у нас роль домашних рабов.
Они жили в хлевах рядом с животными и выполняли вместе с ними всю тяжелую работу, — так писал один германский историк. Однако, вернемся к нашей теме: приручить завоеванных и покоренных рабов — такова воля наших государственных мужей.
Мы должны создать прообраз идеального раба XX века! Здорового физически, способного неутомимо и плодотворно трудиться, неприхотливого в быту, привыкшего к лишениям. Раб-унтерменш должен жить в казарменных условиях, одеваться в простую, но удобную для труда одежду, питаться грубыми кормами из дробленых жмыхов, зерна, овощей с весьма мизерным добавлением низкокачественного жира. Раб не курит, не пьет, не имеет никаких потребностей — поэтому дешев в эксплуатации. Желательно, чтобы он не буянил, не отлынивал от труда и не был склонен к протесту. У него должно быть выхолощено, атрофировано понятие о воле, индивидуальности, государственности в понятии нашем, т. е. оберменшей.
Унтерменши — раса продуцентов, производящих в изобилии сырье и товары, которые распределяются среди потребителей высшей арийской расы — граждан новой Европы!
Вот схема. Долги и извилисты пути исканий, но в принципе мы стоим на верном пути и никогда не откажемся от своих идей. Успех нашей необычной работы зависит от многого, и в первую очередь от полной преданности и самопожертвования каждого из нас. Каждый сотрудник нашего института должен терпеливо выполнять то или иное задание, полученное из единого руководящего центра. Я кончил. Может быть, выступит господин шеф? — спросил Кребс у Боно Рито. Японец поднялся и, поклонившись, ответил:
— Я сделаю завершающий доклад, а пока просил бы каждого из уважаемых коллег высказать свои предложения и теории по вопросу, довольно ясно высказанному доктором Кребсом и являющегося стержневым заданием работы нашего исследовательского института.
Предложение, высказанное японцем на чистейшем немецком, культурном языке, вызвало заметную заинтересованность его персоной.
— Прошу коллег высказываться, — произнес Кребс.
Первым выступил необыкновенно неряшливый и несимпатичный субъект с безусым лицом оскопленного евнуха, похожим на недопеченное, красное яблоко. Из кармана пиджака неопределенного цвета торчал грязный платок. Правый локоть засаленного рукава сильно испачкан мелом; его вид заметно выделял его из среды хорошо одетых, чистеньких коллег. Ученый недоразвито-тонким, срывающимся голоском подростка, начал злобную речь. Начало ее попахивало очень скверной политикой, но постепенно он подошел к своей научной концепции.
— Наблюдали ли вы, господа, стадо быков? Да, да, да — настоящих бугаев? Видели ли вы, как они работают?
После короткой паузы, с видом победителя, он ответил на свой же вопрос.
— Часто согнанные в стадо строптивые животные, испуганные куском красной тряпки, или увидевшие корову, мечутся, ревут. Их глаза наливаются кровью и полыхают огнем необузданной, дикой страсти. Они неспособны тогда работать. Горе работнику, пытающемуся одеть ярмо на возбужденных животных или запрячь их в плуг и повозку. Они бодают, лягают, они похожи на бешеных. Так зачастую бывает и с людьми у полудиких племен, населяющих необъятные просторы восточной Европы и Азии.
Но видели ли вы, как мирно, терпеливо и добросовестно работают обыкновенные волы? Да, да, да — волы?
Евнух победоносно поднял палец.
Боно Рито снял свои массивные очки и, протерев платком, внимательно рассматривал злобного, не понравившегося ему скопца. Японец тушевым карандашом чертил в крохотной памятной книжечке затейливую вязь таинственного письма.
— Мое предложение стерилизовать будущих рабов XX века. Да! Да! Да! Стерилизовать!
Несколько жидких хлопков покрыли речь евнуха. Коллеги неохотно поддержали заядлого стерилизатора.
Началась оживленная дискуссия. Первым возразил Кребс.
— Стерилизацию мы широко применим к второстепенным политическим врагам. Это вполне ясно, но мы не должны забывать, что нашему потомству тоже потребуется и потомство рабов. Мы живем не только сегодняшним днем, а глядим далеко вперед, — не переключаться же нашим детям и внукам на грязный, тяжелый и неблагородный труд. Как ни блестяще мы организуем промышленность и технику в будущем, но сельское хозяйство довольно консервативно. Там не везде поставишь конвейер и не внедришь полную механизацию. И именно в сельском хозяйстве нашей страны и, самое главное, в завоеванных колониях, труд раба найдет самое широчайшее применение. Поэтому я решительно высказываюсь против стерилизации рабов.
На кафедре появился известный бородатый расист.
— Наказание раба так же полезно, как и битье строптивого животного… В вечном страхе перед наказанием, его душа огрубеет, а тело покроется ранами, зарубцуется и будет целиком отдано на службу нам.
Последним выступил Боно Рито.
— Уважаемые коллеги! Я выслушал много предложений, и все они требуют внимательного и критического изучения.
Перед нами задача — создать новый, эталонный образец работоспособного, свободного от мысли о бунте и протесте и каких бы то ни было идей, современного раба — «живого робота». Я склонен уважать долголетние искания и труды моих германских коллег, но должен сказать, что пути исканий чрезвычайно неясны и туманны. Каждый из них обладает каким-либо существенным недостатком. Стерилизация имеет свои положительные, но и свои отрицательные стороны. Учтите, какое возмущение может возникнуть во всем мире, так как факт стерилизации невозможно сохранить в тайне. Стерилизация, к тому же, почти прекращает институт живых роботов.
Я имею в виду произвести нечто более глубокое, более существенное. Мой метод условно можем назвать стерилизацией разума! Стерилизацией человеческого мышления. Оскопить, стерилизовать то, что является самым существенным различием между обыкновенным животным и разумным существом — человеком… Итак, необходимо вырвать мышление и высший разум.
Механическое и бездушное битье рабов, ставящее целью выбить дух непокорности, в особенности у такой упорной расы, как славянская — недостойно серьезного рассмотрения. Тело битого раба зарубцуется, а дух сопротивления и естественная мысль о мщении будет расти и культивироваться у порабощенных пропорционально применяющимся к ним мерам порабощения, вплоть до наступления сильной реакции — взрыва.
Господа! Разрешите обратить ваше внимание на два пути разрешения вопроса: один из них новый и неизвестный европейским ученым, это введение в мозг особой вытяжки желез внутренней секреции специально выведенных гибридов человекоподобных обезьян. Этот препарат вызывает заметное понижение естественных умственных способностей человека. Второй путь, более кропотливый — это скрещивание обезьян с человеком. Правда, этот путь дает рабов менее привлекательных по внешности, но это не влияет на качество товаров, вырабатываемых ими.
Насколько я уже успел познакомиться с состоянием современной науки в Европе и с трудами моих уважаемых коллег, присутствующих здесь — основная работа до сего времени проводится именно в этом направлении, и в общем небезуспешно. Это дает мне мысль не становиться на путь предпочтения одного метода другому, а продолжать параллельные искания. Какой приведет к скорейшему решению проблемы — тот и окажется, таким образом, ведущим и будет принят в основу.
Я лично стою за первый вариант, более доступный в широчайших масштабах, и обладаю некоторыми специальными познаниями, которые и доставили мне честь присутствовать на нынешнем, колоссальной важности заседании и говорить перед столь уважаемым и почтенным собранием мировых авторитетов. Однако, здесь нужно еще произвести массовые эксперименты и опыты.
Вкратце дело выглядит так, — Боно Рито сделал короткую паузу, раздумывая, насколько можно приподнять завесу и раскрыть карты. — Приготовление препарата, умерщвляющего известные мозговые центры — мне известно. Но способа регулирования и локализации его действия еще не выработано. Препарат действует слишком интенсивно, превращая объект эксперимента, в короткое время, в совершенно примитивное животное, таким образом обесценивая его. Объект после этого необходимо еще долгое время обучать самым простейшим трудовым навыкам — процесс долгий, утомительный и являющийся, по сути дела, ничем иным, как обыкновенной дрессировкой животного, ибо препарат своим могучим воздействием превращает объект в животное, притом животное глупое. Моя задача — отыскать способы регулирования его действия с тем, чтобы процесс можно было доводить до желаемых пределов. Итак, будем трудиться совместно, но идти разными путями, используя каждый свои знания и методы. Время от времени мы будем собираться, делиться опытом и координировать наши усилия.
Все методы хороши для достижения конечной цели. Нам придется долго и упорно работать. Экспериментируйте, не огорчайтесь даже во время явных неудач, не останавливайтесь даже перед самым, казалось бы, дикими и неожиданными результатами ваших исканий.
Надеюсь, что сплоченная работа всего коллектива нашего института принесет пользу. Итак, господа! За конечную цель наших исканий — универсального «живого робота»!
Аудитория увлечена. Седовласые ученые в детском восторге.
— Ура! Браво! Браво!
Акции нового желтолицего шефа стремительно пошли в гору.
Особенно ликовал Линкерт, который все время молчаливо созерцал своего гениального протеже. Встретив Боно, он сильно пожал желтую руку с удивительно сухой, горячей кожей, и произнес:
— Блестяще, чудесно! Вы величайший ученый-фантаст XX века!..
В кулуарах института начались неофициальные дебаты и разгорелся горячий обмен мнениями.
— Этот таинственный японец, видимо, большой мастер своего дела!
— Или самый большой негодяй, которого я встречал в жизни, — произнес шепотом молодой, светло-русый ученый, поддержанный евнухом.
Наблюдательный зритель заметил бы в этих репликах первый кристаллик зарождавшейся оппозиции…
Слишком большие успехи и рост авторитетов в людском стаде всегда вызывают реакцию.
Сам Боно Рито был удовлетворен своим первым успехом лишь наполовину.
5. Торжество пятнистого оленя
Боно Рито проснулся в самом превосходном расположении духа.
Он поднял шторы и распахнул окно. В комнату властно ворвались смолистые запахи начинающейся весны.
За окном, голубовато-сизые ветви можжевельника будто покрыты легкой изморозью. В горах разрывались пелены облаков, обнажая едва зеленеющий лес и голубое небо.
— Весна! — воскликнул японец. — Но все же, здешняя весна не заменит мне прелестной весны на моей далекой родине. Чего стоит один праздник цветения вишни…
Ему вспомнилась деревушка, домики с легкими рамами, обтянутыми бумагой и белый вишневый листопад… Зула уже приготовила завтрак — чашку крепкого, черного кофе. К завтраку пришла и Магда.
— Как она быстро выросла, — прошептал Боно, вглядываясь в ее черты, напоминавшие японцу характерные наброски портрета Эллен.
— Итак — ты отправишься учиться в Гейдельбергский университет. Дочь ученого должна иметь хорошее образование.
— Хорошо, отец, — оживленно ответила Магда, — мне здесь порядком надоело.
…После завтрака, одетый в клетчатые бриджи, со стеком в руке, сухощавый и маленький, как жокей, ловкий, как пантера, Боно Рито отправился в служебный обход своих обширных владений.
За последний год директорства, почувствовав свою власть, он все же оставался верен старым традициям и привычкам. Любовь к цирку он поставил теперь на службу расовой теории, собрав разношерстную плеяду старых дрессировщиков. Часть из них покинула арену по старости, остальные из-за страшных увечий, полученных во время неудачных дрессировок; многие были страшно уродливы. Они нашли тихое пристанище и работу в заповеднике, где они все занимали, однако, особую территорию и отнюдь не впускались в святая святых — лаборатории и специальные питомники, охраняемые с особой строгостью.
Предводителем и некоронованным королем дрессировщиков заслуженно считался месье Жако — француз, в прошлом — укротитель тигров. С ним произошла нашумевшая в свое время история: входя в клетку бенгальского тигра на глазах у тысячной толпы, артист почувствовал, что хищник разозлен и нервно хлопает по полу кольцеватым хвостом. Едва Жако протянул руку, приготовившись начать номер, огромная кошка когтистой лапой содрала с его лица, будто перчатку, кожу…
— Здравствуйте, месье Жако! Как поживаете? — поздоровался Боно Рито.
— Прекрасно! — ответил живой, зубоскалящий череп, для страшного представления одевший на глаза розовую, кожаную маску-очки.
Дрессировка прервалась. По треку бродили, опустив морды, унылые, полуголодные обезьяны.
Жако был незаменимый и непревзойденный дрессировщик; он подготовлял обезьян и собак для специальных и военных целей. Он был неумолим и беспощаден, не входил с животными ни в какие компромиссы. Когда он появлялся с бичом и начинал дресс, даже хитрящие обезьяны, чувствуя его превосходство, в точности выполняли все задания.
Одни — длинной вереницей носили дрова, складывали кирпичи, другие ездили на велосипеде.
— Выше! Выше голову! — кричал Жако зазевавшемуся велосипедисту-мартышке и кончиком длинного бича коснулся спины животного…
— Маки, Маки? — позвал Жако и подбежавшей обезьянке привязал тарелочную мину.
— Пиль!!!
Резвая Макки помчалась к макету деревянного танка. За обезьяной помчались овчарки, выполняя ту же работу, но гораздо чище, осмысленнее.
— Как вы думаете, для подрыва неприятельского танка, лучше использовать обезьяну или собаку? — спросил японец.
— Мое мнение вы знаете. Я всегда повторял, что для подобной операции собака более приемлема.
— Но для войны в тропиках обезьяна может сослужить гораздо лучшую службу, — возразил Боно Рито.
— Чем?
— Своей экзотичностью… Она возбудит интерес к себе со стороны экипажа и вернее доберется к цели, тогда как история с собакой уже известна и впервые применена японцами в этом году во время стычки на советской границе, — сообщил Боно.
— Благодарю вас за интересные сведения. Это мне не было известно.
— Я теперь слежу за всеми нововведениями в военной технике… Кстати, как идет дресс? — спросил директор.
— Нормально… Ваше задание проходит по учебному плану, без особых отклонений.
— Хорошо! Не буду мешать вам, месье Жако. До свидания!
— До. свидания, господин Рито!..
Боно Рито учил не только животных, но и дрессировщиков, действующих по одному, грандиозно задуманному и тщательно разработанному плану. Он остановился у второго трека.
Голодная, заморенная обезьяна протянула своему дрессировщику худенькую, волосатую руку за крошкой хлеба. Резким движением человек спрятал хлеб. Строптивое животное не сдавалось, отвернувшись, хитро делало вид, что его не интересует еда. Но голод мучил… Дрессировщик не звал и, казалось, тоже не замечал обезьянки…
Наконец, голод победил! Обезьянка подошла вплотную к человеку, первая ища сближения, заглядывая в глаза своему жестокому мучителю.
— Гип! Гип!
На этот раз, обезьяна сделала тройное сальто, уверенно протянула руку за хлебом и получила его.
— Гип! Гип!
— Как дресс? — спросил директор.
— Туговато. Эта обезьянка очень упряма, — ответил старик-дрессировщик.
— Больше терпения, господин Шпильман, более настойчиво обращайтесь с животными. Откиньте компромиссы и поблажки. Обезьяны чувствуют ваше доброе сердце. Жестче, пока они не сели вам на голову.
— Хорошо, господин профессор, — дрогнувшим голосом произнес старик. Когда японец скрылся в дальней аллее, он обнял обезьяньего заморыша, отдал весь хлеб и они оба заплакали.
— У, изверг всего рода человеческого! — произнес добрый старик, показывая сжатый кулак в направлении, где скрылся японец…
Боно Рито дрессировал своих дрессировщиков, выполняющих все его требования и работающих по одному плану. Раздумывая о том, как лучше загрузить работой своих подчиненных, он медленно разгуливал по густому лесопарку.
Солнце уже высоко поднялось и просвечивало остро отточенными лезвиями сверкающих клинков. Лучи прощупывали землю, влажную от прошедшего ночью дождя, пряную и пахнувшую весенней живительной силой.
Толстые серебристые стволы буков будто поддерживают зеленый шатер замечательного цирка…
Вот пробежал и остановился, высоко подняв прекрасную, гордую голову, великолепный пятнистый олень. Самец в нетерпении. Надоела скука и одиночество. Пробудились с весною новые силы. Он нетерпеливо взрывал стройными ногами землю, порыжевшие, опавшие листья. Олень прислушался и увидел за сеткой самку. Тогда в его глазах зажегся красноватый отблеск огня, пылающего в оленьем сердце.
— Огонь любви… Весенний порыв! — констатировал желтый ученый.
Примчался и второй самец.
Японец подозвал служителя в охотничьем баварском костюме, расшитом зелеными листьями, и шепотом приказал:
— Загоните обоих самцов в ограду самки…
Оба оленя ринулись к своей возлюбленной. Они били копытами; исчезла настороженность, а с нею робость и страх. Соперники, увидев друг друга, бросились в смертельную битву, сцепившись рогами…
Стоявшая вблизи самка, горделиво подняв голову, спокойно ожидала гибели одного из возлюбленных и равнодушно наблюдала за поединком.
Боно Рито щелкал своим превосходным цейссовским «Контаксом», фотографируя кадр за кадром.
Полчаса продолжался бой. Трещали рога, брызгались пеной окровавленные оленьи морды, наливались кровью и тухли глаза. Но вот один споткнулся, упал на колени. Победитель, не зная пощады, пробадывает живот поверженного. Над распоротыми кишками подымается легкий пар…
Издав мощный рев — рев победителя, самец бросился к своей рабски повинующейся самке…
— Вот он! Могучий двигатель природы! Его нельзя убить, наоборот, следует интенсифицировать, а затем запрячь в работу, и тогда — я победитель мира. Может быть, здесь следует искать катализатор действия препарата?
Японец мысленно перебирал, вспоминая, проявления физической любви у разных животных и записывал мудреной вязью конспект наблюдений в свой крохотный блокнот…
— Поместите отдельно от самок несколько пар молодых самцов. Наблюдайте, как будет действовать на них разлука с самками… Ставится новый опыт… О поведении животных — докладывайте лично мне, — приказал директор нескольким дрессировщикам.
— Есть!..
6. Недочитанный роман
Через открытое, широкое окно пансиона «Вельвета», властно врывалась весна, принося новые, неведомые еще восемнадцатилетней девушке запахи. Весна пьянила и звала куда-то в сказочную и заманчивую даль.
Магда Рито несколько раз отрывалась от бювара и, наконец, бросила недописанное письмо, по установившейся традиции писавшееся каждые две недели. Последний месяц она не посылала писем, все откладывая это скучнейшее занятие: писать далекому и нелюбимому отцу.
«Она благодарит его за деньги и внимание…»
— К черту письмо!..
Игривый луч солнца запутался в каштановых волосах девушки, смотревшей в окно…
Оправленный в белую раму окна, будто повис в комнате великолепный ландшафт. По обе стороны реки — зеленые, живописные горы.
Небольшой, игрушечно-изящный городок пляжился на берегу реки Некар, между средневековыми мостами и полуразрушенным замком. По грузным черепичным крышам разгуливали веселые коты… Магда прислушивалась к их крику.
— Как я одинока, — прошептала она… — и, может быть, — непостоянна. Я хотела свободы… Но, наслаждайся ею, Магда. Чего тебе не хватает? Хотела учиться — учись! Но я не хочу стать синим чулком, увядшей старой ученой дамой… Это скучно! Мой идеал — знать все… Но нельзя объять необъятного, да и лень, да и не для чего тебе обнимать все… обними одного… К чему ты стремишься, Магда? — задала девушка себе вопрос, как бы приводя в стройность свои разбросанные мысли, так неожиданно впорхнувшие в раскрытое окно.
Последнее время Магда была неспокойна. Две крови — японская и ирландская, смешавшись, образовали бурный водоворот, в пучине которого тщетно барахталась девушка.
Вдруг страстное, дикое желание…
Вдруг тупая лень и индифферентность. Порывы жажды знаний смешиваются со смешным, молодым, — но все же трагическим скепсисом.
Чего ты хочешь, Магда? Любви?
Да, вероятно… Может быть…
Как я одинока, одинока…
Сплин частично прошел. Спустя час, Магда позвала горничную и, указав на кучи книг, сложенные в углу комнаты, приказала:
— Их можно вынести. Выбросьте их, Анни.
— Да это же учебники? — спросила удивленная Анни.
— Римское право, — брезгливо поморщилась Магда, — я ведь перехожу на медицинский факультет.
— О, майн Готт! Учебники стоят больших денег!.. В прошлом году вы выбросили филологию, зимой — химию, а теперь бросаете «юру»!
— Анни! Вы знаете — я упряма, и как сказала, так и будет… Позовите ко мне через полчаса парикмахершу.
— Хорошо, фройляйн.
Молоденькая, белокурая горничная унесла груду учебников, раздумывая вслух:
— И умная и красивая, но властная и капризная ее хозяйка… Впрочем, какое дело бедной немецкой девушке до богатой иностранки… О! Если бы Анни была так богата, она сумела бы устроить свое маленькое счастье… Вечером она снесет букинисту, — здесь книг на сто марок! Это подспорье к приданому… Перемена факультетов Магдой увеличила сбережения Анни на четыреста марок!
Молоденькая блондинка с порочными губами — парикмахерша, едва увидев Магду — влюбилась в нее.
— Девушка с изюминкой! — подумала она; ей, как женщине, хотелось найти, отгадать, в чем заключается эта изюминка.
— Что вы закажете, мадемуазель?
— Массаж, маникюр, и причешите меня.
Пальцы блондинки погрузились в мягкие, курчавые и непослушные волосы.
— Вы давно делали завивку?
— О, нет! Меня природа наградила вечной завивкой, за что я не совсем ей благодарна. Мои волосы очень похожи на искусственную «дауэр-вэлле»…
— Что вы! Они чудесны!.. Вы иностранка?
— Да. Я родилась в Америке.
— О! Америка! — мечтательно вздохнула блондинка. — Я давно мечтала попасть туда…
Магда задумалась. Простой вопрос этой девушки заставил ее подумать: кто же она? Какой национальности? Кто ее мать?
Никто не даст ответа… Отец никогда не отвечал ей на эти вопросы. Неудовлетворенное любопытство сильно… да, как же… она не может сказать, кто она. В университете все считают Магду Рито американкой. Но так ли это?
Воскресло первое запомнившееся яркое событие детства, ставшее началом, истоком ее памяти. По ту сторону события — Магда не помнит ничего… Молодая, красивая женщина — ее мать — пела песню… Та песня отдаленным, еле слышным эхом звенела в ушах девушки, но она никак не могла припомнить полностью мотива той чудесной песни.
Магда вспомнила, что когда она заводила с отцом разговор о матери, — он оскаливался, показывая кривые, желтые зубы, менял тему разговора, молчал или уходил прочь…
Одев серый, изящный костюм, Магда вышла из фешенебельного пансиона.
Каменная лестница каскадом террасок спускалась вниз. Крохотный, почти игрушечный вагончик канатной дороги возвращался с вершин «Королевского стула».
Девушка невольно залюбовалась живописными, крохотными садиками на каменистых террасах; они будто затейливой ювелирной работы изумрудные броши с вкрапленными разноцветными камнями-клумбами. Магда любила эти тихие садики, но не их хозяев, преклоняющихся перед солдатской пуговицей и пивом, обожающих до безумия собак и жестоко бьющих по лицу собственных детей.
Пять лет провела Магда в Германии, но не привыкла, не сжилась здесь. Она часто вспоминала и жалела о веселых и тревожных днях их скитаний на лазурных берегах Средиземного моря.
— О, какие то были прекрасные дни! — прошептала она, коснувшись воспоминаний, солнечных и терпких, как гранатовый сок…
У вестибюля университета толпились группы студентов, некоторые откровенно разглядывали Магду…
…Мимо, Магда, мимо! Они надоели ей рассматриваниями, заигрываниями, приторными любезностями. Это все не то!
Магда прошла в большой полукруглый зал. Через несколько минут начиналась лекция, большинство мест уже было занято.
Седые профессора, пожилые дамы и очень мало молодых девушек. Да и те, которые были, отличались особенной непривлекательностью. Недалеко от Магды, к ее неудовольствию, уселась огненно-рыжего цвета толстая немка с некрасивым длинным, лошадиным лицом; в другом конце зала, соперничая с ней, уселась такая же рыжая, но худая датчанка.
Началась лекция. Знакомый Магде знаменитый профессор философии поднялся на кафедру. Глубокими, умными, слегка утомленными глазами он обвел аудиторию и начал речь, полившуюся стройным, журчащим потоком необыкновенной красоты водопада.
— Что нужно человеку? В чем счастье? — задавал лектор вопросы и сразу же отвечал, — самое идеальное счастье и богатство человечества двадцатого века — это разум. Овладев высотами разума, человек возносится и, подчиняя себе природу, покоряет ее; заставив служить себе, он расширяет до пределов фантазию разума. Ведь физически невозможно охватить все мироздание, добраться в небесную высь, хотя уже и пронизанную полетами в стратосферу, хотя необъятные просторы космоса еще недосягаемы, как и сверхглубины морей, но все это покоряется законам человеческого разума.
Идеал культурного человека нашего века — высший разум… Почему мы учимся и почему вы пришли сюда, в эти стены? Разве не для того, чтобы перенять, получить от старших науку, отшлифовать до пределов ваш собственный разум, превратить его здесь, при помощи опытных гранильщиков, из покрытого непривлекательной корой невежества, сырого алмаза в отшлифованный, сверкающий, ослепительный бриллиант. И те, кто добьется этого, неужели могут сказать, что они несчастливы?
Современное человечество на разумных началах создаст новое светлое общество, сумеющее организовать образцовый мир и окончательно покорить природу.
Человечество построит множество электрических станций, всевозможных машин, упростит тяжелый и неблагородный труд, оставив себе на долю лишь средства и способы дальнейшего духовного и физического совершенствования.
Пройдут годы и создастся новое человеческое общество, чуждое самому понятию — принуждение, тирания, власть. Это будет эпоха великого разума.
Бурный полет фантазии ученого — увлек девушку.
— Какой светлый ум! Этот человек, наверно, знает цель своей жизни, он, очевидно, прожил свою жизнь не так, как это получается у нее, — думала Магда.
После окончания лекции она долго гуляла по тихой, задумчивой аллее цветущих каштанов. Под ними легла фиолетовая дымка светлой ночи.
— А мой отец!.. — думалось Магде. — Он умен — его ум колоссален, но кажется, он применяет его к тому, чтобы поработить разум других! Магду пугает это страшное открытие. Поэтому у нее портится настроение. Девушке, в поисках своей путеводной звезды — скучно, одиноко, невыносимо.
Ночь проскользнула до половины совершенно незаметно для Магды, бродящей по парку и втайне завидующей шепчущимся по темным закоулкам парам.
Плохо проспав остаток ночи, Магда поздно встала. Захватив с собой толстую книгу, перевод на немецкий язык романа Толстого «Анна Каренина», — Магда отправилась в парк вместо университетской лекции и уселась на солнечной скамейке. Девушка погрузилась в чтение… Анна только что выдала себя, вскрикнув, когда Вронский разбился на скачках… В этот момент на страницу книги упала черная тень…
Магда вскинула голову и встретилась глазами с коренастым молодым человеком, заинтересованно заглядывающим в ее книгу… У него были светлые волосы, широкое краснощекое лицо, мясистый нос и развязная улыбка…
— Любопытная книжечка? — произнес незнакомец.
— Да, — холодно ответила Магда. Ей не понравилась его манера заводить знакомства, и она молча смотрела в эти глаза, холодно ожидая разворота событий.
— Это написал русский писатель Толстой, правда? — не смущаясь приемом, продолжал он.
— У вас обширные познания в литературе… Но, что же дальше?
— Что вы такая колючая? Я вам мешаю?
Магде хотелось сказать «да» — и это было бы правдой, но она почему-то сказала:
— Нет, отчего же….
— Я, между прочим, видел вас на вчерашней лекции…
Магда припомнила как-то сразу, что действительно уже где-то видела этого человека… Он тоже был студентом какого-то факультета. Одно короткое время, еще в прошлом году они, кажется, были на одном… И она вспомнила, что часто замечала на себе его внимательные, заинтересованные взгляды. Он всегда держался в стороне, а сейчас, видимо, решил, что наступила благоприятная ситуация.
Он присел рядом на скамейку. Большими, некрасивыми руками достал коробку папирос и закурил, не спросив разрешения…
— Странно, не правда ли, слышать такие утопические речи о светлом будущем человека из уст представителя народа, который только о том и думает, чтобы завоевать и покорить все это человечество…
— Нисколько не нахожу это странным. Кто-то в народе может думать о завоеваниях, а кто-то и о светлом будущем человечества.
— Э, вы, я вижу, еще совсем несмысленыш, — громко расхохотался человек, показывая ровный ряд зубов, — идеализм, воспитанный папенькой и маменькой на молочной каше и сладком киселике… Интеллигентское слюнтяйство.
— Мне кажется, вы могли бы, разговаривая со мной, избегать выражений, принятых в скверных трактирах.
Незнакомец как-то осекся и, тушуясь, быстро заговорил.
— Нет, что вы… Я, право… Я, знаете, не хотел совсем… А только, смешно все это, знаете… — И незнакомец, как бы для подтверждения своих слов плюнул на песок дорожки.
Магда вспылила.
— Я вижу, что прежде чем ходить на лекции, подобные вчерашней, вам следовало бы кое-что почитать на тему о хорошем тоне и умении прилично вести себя в обществе девушки. До свиданья…
Незнакомец удивленно смотрел вслед уходящей Магде.
Вот уже который день на окне лежит книга, открытая на той же странице, которую читала Магда при встрече в парке…
Ей не читается, не думается, лекций она не посещает…
Все ее думы и мысли почему-то вертятся на этой встрече, на этом незнакомце… И странное дело! Даже его большие, некрасивые руки она вспоминает с… нежностью. Конечно, он груб, неотесан, дурно воспитан, но Магде теперь почему-то жалко, что она так отчитала его… Ведь он все же как-то по особому интересен…
Если бы Магда была старше и опытнее, она без сомнения сразу бы поняла, что интересность незнакомца заключается в особом излучении здоровой мужской силы, всегда неотразимо волнующей женщин… Более опытная женщина сказала бы даже, употребляя распространенное образное выражение, что от нового знакомого Магды — «пахнет козлом»…
И ветер, врывающийся сквозь открытое окно, иногда переворачивает страницы недочитанного романа, забытого на подоконнике в пансионе «Вельвета».
7. Сатана в черной мантии
Уже несколько лет Боно Рито работал с сатанинским упорством, увлекаясь опытами. Лишение человека самого главного, что отличало это двуногое от простого животного и превращало в высшее создание Земли, а именно лишение разума, — было главной задачей его существования.
Японец окунулся в свою исследовательскую работу по выведению нового существа, пока лишь рожденного его воображением, разросшимся на благодатной почве бредовых планов его нынешних работодателей.
Нацизм был тем живительным и питательным бульоном, в котором будто бацилла могла пышно расцвести идея Боно Рито о создании целого огромного, нового класса живых роботов, — идеальных рабов XX века.
Каждый новый, хотя бы сомнительный или наполовину удавшийся эксперимент, наполнял душу упорного японца сатанинской радостью.
Наступила слякотная осень. Обезьяны скучали в своем городке, ведя полусонную жизнь, тяжело перенося европейский климат.
Боно Рито вставал очень рано и до полночи засиживался в главной лаборатории, украшенной золотыми драконами, переплетенными с фашистскими свастиками. В черной мантии и синей бархатной шапочке с шариком в виде сушеной сливы наверху, он походил скорее на средневекового алхимика, чем на современного ученого.
Третий час подряд Боно внимательно рассматривал сотни пробирок с свежими вытяжками гормонов внутренней секреции, перечитывал надписи, имена обезьян и даты на этикетках. В мутно-сизой жидкости он ясно представлял животное, давшее эти соки.
Бережно и аккуратно, священнодействуя, он делал смешения и дозировал. Косые глаза, как особенно точный оптический инструмент, отмечали все. Ни одно явление в институте не ускользало от его взгляда. Он отдалил от себя всех ученых на расстояние далекой, холодной почтительности.
Лишь единственный ассистент — тибетец с голым, как колено, черепом, которому японец доверял все свои тайны, присутствовал в лаборатории. Он протянул какую-то таинственную пробирку.
— Рахия! Как ты думаешь, токсины обезьяны, обработанные сулемой, могут замедлить ход мышления… Если замедлить ход инъекции препаратом Н. 15? Вспрыскивание препарата в мозг делает человека идиотом… А что если… А что если, когда он станет только полуидиотом — ввести этот новый препарат токсинов?
Череп одобрительно кивнул сморщенной, казалось, копченой головой.
— Я думаю, что мой собрат на верном пути.
— О, Рахия! Ты, молчаливый кудесник Тибета, молчал целый месяц…
— Я трудился, — мрачно ответил череп.
— И довольно успешно!
— Но еще необходимо суметь удержать действие яда на продолжительное время… Нужен процесс, подобный закреплению проявленной фотографической пластинки…
— Сформулировано верно! Но пути, пути!?!
— Это — нелегкая задача, — вздохнул Рахия, — но мы еще поищем в книгах европейцев. Может быть, они…
— Европейцы! Они остаются далеко позади… Мы придем в назначенный час, овладеем и воцаримся над миром… Мы, желтая раса, великая Азия!.. Эх, Рахия, ты же знаешь, что наш дух поведет народы востока… наша нация спала… а теперь, ты посмотри: мы имеем передовой флот, современную военную технику. Восток пойдет на Запад. Если обескровятся великие страны, мы — желтые — возьмем свое… А тогда наши с тобой работы принесут свои плоды, тогда… о, тогда! — потрясая кулаками, угрожающе произнес шеф института.
— А теперь мне срочно необходимы токсины. Токсины обезьян. Сейчас я им скажу. — Шеф потянулся к телефону.
— Месье Жако! Нам необходимо срочно поставить в широких масштабах новый эксперимент…
— Я вас слушаю.
— Вам поручается важная работа — смертельно утомить обезьян. Заставьте их трудиться, кувыркаться, беспощадно гоните животных, подхлестывайте ленивых. Заставьте их трудиться до пределов… Утомите их…
На рассвете, ежась от предутренней прохлады, Боно Рито вместе с Жако пошли к обезьяннику.
Животные визжали и прятались, но надсмотрщики беспощадно вытаскивали их за хвосты, подстегивали бичами, выгоняя из шалашей.
Вскоре все обезьянье царство великого японца завертелось в бешеном ритме сумасшедшей карусели бессмысленного труда. На скрытом от постороннего взора предутренней мглой манеже, невыспавшиеся люди сгоняли свою злость на перепуганных и жалких животных.
Боно Рито с сатанинской радостью и удовольствием наблюдал это омерзительное зрелище.
Увлекшись работой, японец мог забывать о сне, и тем более о еде. Сейчас, вместо того, чтобы завтракать, он снова очутился в лаборатории. Усевшись за свой рабочий стол, Боно заметил пролитую капельку бесцветной жидкости. Исследуя ее ученый удивился: он ведь сегодня не трогал эту сыворотку? Как она очутилась на столе? Лаборатория была заперта и ключ от сейфа только у него. Странно!
Это было третье подобное происшествие, дававшее понять о чьем-то назойливом, вечном внимании здесь. Слежка не дала никаких результатов, но теперь уже Боно не сомневался в чьем-то нежелательном присутствии в его святая святых, так ревниво оберегаемом от всяких посягательств. После первых подозрений была заменена вся наружная и внутренняя охрана заповедника, переделаны все замки, обысканы укромные уголки, и вот…
Боно Рито помчался к Кребсу.
— Дорогой доктор! Он был снова!
— Кто?
— Дух! Я не сомневаюсь. Это дух… дух хорошего дьявола, который, украв наш препарат и работы, хочет этим искупить свою вину перед Вишну!
— Полноте вам. Дух! Какой может быть дух? Может быть, это ловкий шпион да и только!
— Дорогой доктор! Вы не переубеждайте меня, в чем я уверен… Я предугадываю события… Вы ничего мне не сообщили о заговоре против меня целой плеяды ваших бородатых мальчиков, возомнивших себя учеными. Они пытались меня съесть… Но увы! Я съел их сам, с их учеными потрохами и физиономиями аскетов и евнухов. Так же я предугадываю, что здесь дело неладно.
Кребс поморщился.
— Мой дорогой ученый! Вы очень болезненно воспринимаете…
— Нет! Но я знаю… знаю больше чем вы; я имею перед ним страх, боязнь. Это какой-то очень ловкий и хитрый враг…
Японец опустился в мягкое кресло… Задумался.
Невидимый, неуловимый враг объявил войну колдуну, запрятался сомненьем в его странную и непонятную душу. Больше всего его тревожило исчезновение, несколько месяцев тому, ампулы с новым препаратом. Кого подозревать, Боно Рито решительно не знал, но подтачивала сознание мысль, что немецкие коллеги, работающие каждый над своим методом, не имея достаточных успехов, пытаются воспользоваться его работами. Если это так, то это еще полбеды. Но что если это дух? Всесильный дух!?!
8. Человек с длинным бичом
В институте Боно Рито торжественно встречали бывавших здесь очень редко высоких гостей. Все трудоспособное обезьянье население заповедника было поставлено на работу. Обезьяны размахивали опахалами из пальмовых листьев, как одалиски сказочного падишаха, у подъезда главного здания. За начищенные дверные ручки, перед гостями протягивались волосатые руки наряженных в красные ливреи хвостатых швейцаров.
— Покажите нам ваши знаменитые трудовые процессы, — снисходительно предложил почетный гость с маршальскими регалиями.
— Мы очень многое слышали о вашем забавном обезьяньем государстве, — произнес видный деятель наци…
Перед взором гостей на опушке букового леса растянулся обезьяний город. Кварталы шалашей из тонкого хвороста, обмазанные глиной, под камышовыми кровлями, перемешивались с более импозантными домами, имевшими более культурный и зажиточный вид и почти ничем не отличавшимися от жилья человека. Здесь виднелось даже несколько огромных, казарменного вида кирпичных зданий под черепичными крышами.
По дороге встречались партии обезьян, шествующих строем, под командой человека с длинным бичом.
— Однако, здесь чувствуется дисциплина, — довольно заметил маршал.
— Мы же живем в организованном сверху государстве, — ответил Боно Рито, сопровождающий гостей. — Разрешите показать вам одно из предприятий?
— О, если вы так любезны…
Острый обезьяний смрад стоял всюду. Блестящая свита брезгливо морщилась, когда гости зашли в среднего размера завод. Там было шумно. Гудели многочисленные трансмиссии и станки. Гулкие удары механических молотов и шипение прессов перемешивались с обезьяним визгом. Перед глазами самого маршала, молодая и озорная мартышка потянула за видневшийся из прорехи синих трусов хвост самого мастера, из строгих гиббонов. Обезьяний визг и ссору прекратил ударом бича стоящий невдалеке надсмотрщик.
— Трудовая дисциплина налаживается, — оправдываясь за обезьянью оплошность, шепнул Боно улыбающемуся министру труда.
Не считая этого мелкого в обезьяньей жизни инцидента, на столь необычном предприятии царил образцовый порядок. Рабочие стояли у своих машин, волосатыми руками ловко подставляли под штампы заготовки патронов, другие из листов стальной жести штамповали военные каски.
— Вот видите, это патронный завод. Мы производим свыше миллиона патронов в неделю. Все рабочие — дрессированные обезьяны, только высший персонал и надсмотрщики — люди.
— Это поразительно!
— Прекрасно!
— Смотрите, доктор! Здесь вы видите чудесную организацию. Здесь вы видите ярко выраженный город в колонии при победе национал-социализма!
— Вот это первые ростки реализации нашего великого плана. Ловко, чертовски ловко! Ха! ха! ха! Дьявольски ловко! — грохотал маршал.
Наступил обеденный перерыв, торжественно возвещаемый в обезьяньем раю завыванием сирены.
Оглушительно визжа, толкая друг друга и прыгая через головы, все обезьянье стадо сбежалось в длинный, мрачный сарай и расселось на некрашеные скамьи, протянув вперед свои миски и карточки, и с плутоватым умилением смотрело на приближающегося повара. За ним неотступно следовала тень человека с длинным бичом.
Обезьянам отмечали карточки и наливали в миски жидкий и вонючий брюквенный суп.
После обеда гости проехали в поле. На аккуратных зеленых квадратах трудилось стадо гибридов, одетых в равняющую синюю униформу. Сбоку работающих важно расхаживал вожак-самец. Под его неусыпным наблюдением и командой сорок обезьян взрывали мотыгами красноватую, каменистую землю. Старый самец-бригадир подгонял отстающих и в свою очередь часто с опасением поглядывал на прогуливающегося по дорожке человека с огромным бичом.
При виде Боно Рито вожак издал гортанный крик. Обезьяны заработали быстрее, а когда гости приблизились к ним, обезьянье стадо пало ниц.
— Ловко!
— Молодцы! — хвалили гости этот акт ярко выраженного верноподданничества.
— Рады стараться, — ответил подошедший дрессировщик.
Боно Рито улыбался, рассматривая смеющегося маршала.
— Разрешите доложить, что это только прелюдия. Это первая фаза животного социализма. Мы не теряем надежды достигнуть и более высоких стадий. Здесь мы обогащаемся опытом в деле управления покоренными рабами. На первом месте — человек с длинным бичом.
— О! Это целая, ярко выраженная доктрина! Хо, хо, хо!
Гости двинулись дальше…
На ровном плацу, аккуратно посыпанном желтым песком, строился военный парад.
Отборные и бравые с виду, одетые в красные трусики, синие мундиры и высокие резиновые сапоги, в стальных касках особи составляли гвардию.
— Чудовищный и страшный новый род войск… Очень хорош для психической атаки. Любые храбрецы побегут при виде этих волосатых морд, — произнес маршал, рыдая от смеха.
Важно восседая на пони, ехали драгуны и кирасиры. Музыканты неистово били в литавры и барабаны, подняв оглушительный шум.
Построенные повзводно, дефилировали пехотинцы и вспомогательные войска. Особенно прекрасна была пожарная команда.
Над шалашом, затейливо плетеным из хвороста, неожиданно взвились языки пламени. Пожарные, очертя голову, без малейшего признака страха бросились тушить. В блестящих начищенных касках, оглушительно визжа, они суетились вокруг пожарного насоса, бросались с крючьями и топорами в самое пламя. Тушение пожара доставляло им неописуемое веселье и удовольствие; они так разошлись, что даже окатили водой своего шефа. Он, чертыхаясь и проклиная создателей обезьяньего царства, остановил неугомонных пожарных..
Огонь был потушен. На земле осталась куча мокрого пепла.
Примчалась батарея артиллеристов. Установив пушки, по команде «пли» все батареи дружным залпом выпалили из бронзовых орудий.
— О, это великолепно! Чудесно! Вы порадовали сердце старого солдата, — благодарил растроганный маршал.
Завершающим номером маневров — была авиация. Бортмеханики выкатили небольшой самолет. Волосатый пилот, важно усевшись в кабину и дав полный газ — взвился в воздух. Описав три круга над площадью, сбросил на парашютах пестрые вымпелы.
Щурясь от солнечных лучей, маршал взглянул в небо и под золотистыми куполами парашютов, к своему огромному удовольствию, прочел распространенное приветствие.
Летчик был представлен к награде растроганному и умиленному маршалу, искренне пожавшему волосатую лапу пилота.
— Благодарю вас! — произнес маршал, обращаясь не то к обезьяне, не то к Боно Рито, и протянул японцу высшую награду — орден. Месье Жако незаметно сунул своему питомцу-пилоту кусочек сахара и небольшой пузырек ликера.
— В том, что вы мне показали, я нашел прекрасный образец нового мира. Да, господа! Война, которую мы сейчас ведем, близка к завершению. Наши доблестные войска скоро повергнут весь мир к нашим ногам! И тогда начнется ваша миссия — переделать этот мир по продемонстрированному сейчас образцу. Работайте, подготовляйтесь к тому, чтобы выполнить вашу высокую миссию!..
9. Квадрат жизни
Молчаливый и мрачный, флегматичный надзиратель разводил девушек по длинному коридору серого, похожего на разгороженный сарай, здания. Он бесцеремонно втолкнул Люцину Симон в небольшую каморку и сразу наглухо захлопнул дверь.
Девушка заметалась по каморке, как пойманная птица; бросилась к небольшому, зарешеченному окну, потом быстро осмотрела убогую обстановку: небольшой деревянный стол, табурет, кровать с соломенным матрацем, покрытым серым, бумажным одеялом.
— Тюрьма! — воскликнула она и опустилась на колени.
— О, моя окровавленная отчизна! О Боже! Помоги моим братьям… Помоги Мечику. Помоги полякам победить врага…
Но прошло уже много дней и ночей, много воды утекло в сонной реке Варте, прошло много событий… В своей неволе не знает Люцина, что уже давно растоптана и порабощена Польша, что война громыхает уже далеко за ней на востоке…
Долго молилась Люцина. Необычны слова ее молитвы, искренне исходящей из самой глубины молодой души, смертельно раненой тягчайшим несчастьем.
Девушка встала и прошла по комнате: три шага в длину, два в ширину… Снова ее привлекло окно, зарешеченное железными полосами.
— Крепко! — произнесла она, потрогав толстое железо, — не расшатаешь его.
За окном небольшой и пустынный, посыпанный гравием дворик, дальше мрачная серая стена, литая из шлака и бетона, густо утыканная острыми осколками бутылочного стекла. Они отточенными кинжалами ощетинились, готовясь пронзить каждого, пытающегося перелезть через эту преграду.
Тяжелые переживания и страдания девушки рождали мучительные, взвинчивающие до пределов страхи. Затаив дыхание, она прислушалась: в коридоре еле слышны тихие, крадущиеся шаги.
— О Боже! — вскрикнула она. — Уж недаром привезли ее сюда… Они хотят похитить мою честь… — сделала она страшное открытие…
— Нет, нет, нет! — уже истерически вскрикнула Люцина, испугавшись собственного голоса, отдавшегося страшным эхом, будто внутри огромного барабана.
Но никто не пришел к ней в тот вечер. В камере сгущались сумерки. Едва касалась нервно-напряженная дремота, как начинались мучительные сновидения и в них появлялись созданные воображением узницы страшные, подслеповатые, кровожадные вампиры, только и ждущие окончательной темноты, чтобы выскочить из всех темных углов и накинуться на нее. Жутко оставаться одной в дремучих таинственных джунглях, созданных человеком для человека.
О, здесь гораздо страшнее, чем в девственном лесу, кишащем четвероногими хищниками… Там можно бежать, спасаться, лезть на дерево, звать и рассчитывать на случайную помощь, сломав древесный сук, вступить в единоборство с врагом… А здесь: три шага в длину, два в ширину, а окно в мир упирается, в прочный железный переплет и крепкую дверь, с притаившимся, всегда подкарауливающим, как око гада — волчком.
Много времени провела она в неволе, но там был свет, был воздух, подруги, с которыми можно поделиться мыслями, опасениями, страхами. И вот теперь ее привезли и грубо втолкнули сюда. Зачем!?!
Люцина расстегнула блузу. Ей тяжело дышать густым, пыльным, насыщенным запахом карболки и гнилой капусты, ядовито-удушающим воздухом. Снова за дверью раздался шум, щелкнуло железо, заунывно заскрипела железная дверь. Надзиратель протянул миску вонючего брюквенного супа и тончайший ломтик скверного хлеба. Девушка осмелела и спросила:
— Зачем нас привезли сюда? Что с нами будут делать?
Люцина отшатнулась. На нее уставились страшные, немигающие, бесстрастные глаза чудовищной мертвой рыбы. Надзиратель включил свет и, не удостоив ответом, вышел, громко захлопнув дверь. Узница снова осталась одна со своими тяжелыми мыслями.
Мучил голод. Она понюхала остывший вонючий суп и с отвращением отодвинула миску, расплескав мутно-грязную жижу по столу. Это было хуже того, что она до сих пор видала в других лагерях.
Ломтик черного хлеба, величиною в двухунцевую шоколадную плитку, посыпан древесными опилками.
— Как может быть вкусен даже суррогатный хлеб. Я очень голодна, — прошептала узница, вспоминая, — когда же я ела в последний раз? Кажется — позавчера…
Люцина собрала последние крошки хлеба, выпила немного устоявшейся жидкости. Скуден ужин для тела, а для души и того нет, — подумала девушка.
Узница постучала в стену. Глухо отдавалось эхо, она прислушалась, но не услышала ничего похожего на ответ. Она знала, что за стеной есть кто-то из ее подруг, приехавших вместе. — Кричи, не кричи, никто не придет здесь на помощь в случае несчастья. Но все равно, я живой не отдамся им в руки, — решает Люцина.
Девушка внимательно изучила и осмотрела свою камеру; хотя бы какое-нибудь оружие, хотя бы стекло?
Она бросилась к окну. Под пальцами прогнулся целлулоид, лампочка зарешечена прочной железной сеткой. Деревянный стол и стул сработаны без единого гвоздя, миска — из папье-маше. Кто то, предугадывая мысли узников, предусмотрительно обставил это мрачное жилище, лишив малейшей возможности воспользоваться мало-мальски смертоносным оружием…
Девушка уселась на жесткий матрац, склонив налитую тяжелыми мыслями голову, и закрыла глаза.
Вспомнилось беззаботное детство, веселые институтские подруги и шалости. Что с ними? Марыся здесь, под одной крышей, но так далеко-далеко практически, будто ее отгородил океан. Первая любовь… Вот бесшумно приходит на крыльях дремоты ее любимый, стоит рядом, замерло сердце и открылись глаза. Милый растаял, призрак расплылся в пятне зарешеченного окна…
Люцина вскочила, приблизилась к окну и уткнулась лицом в холодную ржавую решетку, вглядываясь в небо.
— Где моя звездочка? Вот бы увидеть, жив он, или…
Но на мрачном, затянутом молочно-сизою мглой небе не было видно ничего. Ветер обдал ее затхлой, холодной сыростью, навеваемой из тесных и мрачных альпийских предгорий.
— Неужели погасла моя звезда? Тогда и мне жить незачем! — плача, спрашивала девушка, повиснув руками на переплете решетки. Люцине казалось, что долгие годы, может быть, до самой смерти, будет тянуться бесконечная ненастная ночь, а ей так страстно хотелось, чтобы прояснилось небо и заблистала долгожданная звездочка.
Утром служитель протянул кружку жидкого суррогатного кофе, ломтик хлеба и крошечный кусочек маргарина.
— Моя подруга Марыся тоже здесь?
— …
Захлопнулась дверь. В исступлении Людина колотила кулаком в железо, набила багрово-синие ссадины. Вспухла рука. Гробовое молчание.
Похоронена в живой могиле. Как тяжело в годину неизвестности быть одинокой. Хотя бы какой-нибудь человек! Что же они думают делать? — сверлила мозг неотступная, навязчивая и неразрешимая мысль? Что?
Обливаясь слезами, Люцина судорожно сжимала соломенную подушку… В полдень молчаливый, чудовищный истукан протягивал миску обычного супа.
Снова пасмурная, жуткая, беззвездная ночь в ожидании свершения страшного, занесшего уже свой меч над головой беззащитной польской девушки… Медленно, будто пожелтевшие листья выброшенного календаря, осыпались дни. Люцина забыла, сколько дней она провела в одиночке, сколько дней, месяцев или лет тянется этот кошмар с того дня, как первая злополучная бомба войны выбросила ее из постели и чудовищно нарушила жизнь. Все равно, — досадовала она на себя, — видно, дни моей жизни не имеют никакого значения.
Иногда в коридоре происходила какая-то возня… Шум, выкрики, ругательства… Неслись истерические возгласы, причитания, нечеловеческие вопли разрывали настороженную тишину. Люцина услышала возню вблизи своей двери, жадно прислушиваясь к обрывку женского голоса…
— О, лучше бы это был просто публичный дом… Ведь они же — не люди даже, это звери, обезьяны… Я не могу! Не могу! Убейте меня…
С этого времени Люцина окончательно утратила покой и приготовилась к худшему.
Каждый раз, когда раздавались шаги в коридоре — по мере их приближения, учащалось сердцебиение узницы. Однажды кто-то остановился у двери.
Люцина вскочила и стоя приготовилась к встрече врага.
Щелкнул замок и в камеру не спеша вошел японец. Он молча, испытующе уставился взором в Люцину, сложившую руки на груди и постепенно отступающую в угол.
Она не сводила ни на секунду взора с обладателя колючих, неприятно дерзких, меняющихся, но не мигающих косых глаз, защищенных массивными черепаховыми очками с толстыми, выпуклыми стеклами, напоминающими автомобильные фары.
О Боже! Ведь это же японец! Тот, который отбирал их там, еще в Польше, — подумала Люцина и испуганным шепотом спросила.
— Кто вы?
Японец не ответил. Еще несколько секунд пытливо осматривал Люцину, затем повернулся и так же незаметно исчез, будто растаял.
— Это сатана или его дух? — прошептала Люцина обескровленными губами.
Часть четвертая
«S.U.-147»
1. Запах козла
С вершины «Королевского стула» открывалась развернутая панорама глубокой долины Неккара. Магда Рито, облокотившись о балюстраду на краю стремительного обрыва, залюбовалась красивым ландшафтом. В голубовато-сизую даль убегали подернутые дымкой белые квадратики цветущих садов, догоняемые игрушечным поездом. Серыми стрелками разбежались несколько шоссе, утыканных по обочинам пуховками цветущих фруктовых деревьев.
Сзади шуршащие, размеренные, приближающиеся шаги и девушка, почувствовав на себе сверляще-упорный взгляд, оглянулась. Он!..
— А! Вот вы где? Почему вы тогда так неожиданно и стремительно убежали? — спросил подошедший. И его простое, подкупающее, добродушное лицо показалось Магде более симпатичным, чем в их первую встречу.
— Здравствуйте! — коротко ответила Магда, протянув руку.
— Неужели вы тогда рассердились на меня? Право, не пойму, отчего.
— Нет, не сержусь. Да и за что? Ведь вы не сделали мне ничего худого. Просто я была тогда дурно настроена и, обвиняя вас в невоспитанности, сама поступила невежливо. Не сердитесь и вы!..
— Нет… Ну, вот и хорошо, — засиял он, протягивая Магде крохотный букетик диких фиалок. — Видите, какая сентиментальность, я даже занялся собиранием цветов.
— Это похвально. Благодарю вас…
Он облокотился тоже о перила рядом с Магдой, стараясь быть поближе к ней.
— Правда, красиво? — спросила она, показав рукою вдаль, где дымились испарения Рейна.
— Неплохой ландшафт, — ответил собеседник, в упор взглянув в лицо Магды. Он не успел внимательно рассмотреть ее в первую встречу, и теперь показалось, что девушка еще более расцвела. Выразительные, исчерна-синие глаза с еле заметным зеленоватым отливом старой бронзы, подернутые таинственной поволокой, как у индийской богини. Луч истые стрелы ресниц застыли под вопросительным взлетом бровей.
Такие лица встречаются нечасто и мимо них пройти не заметив — нельзя… Не то — Майя, не то — Изида, ожившая в XX веке. Она была слегка похожа на индианку, сохраняя изящество и обаяние японки и одновременно с избытком обладала стройностью и подвижностью европеянки.
Перед его взором стоял тот живой, редчайший гибрид, в котором географическая разность Дальнего Востока и Европы разрешилась прекрасным компромиссом, создав тип Магды Рито.
Молодой студент невольно заинтересовался ею. Совершеннейшая девушка, такой он еще не видел…
И вот судьба бросила ему эту девушку в виде моста, через который он должен пройти в тот ненавистный ему мир, который намеревался взорвать.
Иначе не может быть. Девушка должна стать ключом к тем тайнам и загадкам, которые он должен разгадать…
— Кто вы по национальности?
— Отец японец, а мать я плохо помню. Отец говорил, что она плохая женщина, она оставила нас. Но я почему-то очень люблю ее, — задумчиво ответила Магда.
— Если она оставила вас, может быть, действительно…
— Может быть, но тем не менее, я никогда не думаю плохо о матери. Я думаю, мой отец хуже ее, и какие-то особые, неизвестные мне причины побудили мать оставить меня, которую она очень любила.
— Вот как! Но кто же ваш отец? Может быть, его профессия прольет свет на поступок вашей матери? — вкрадчиво сказал студент, будто осторожно приоткрывая мягкую, бархатную завесу в чужую интимную жизнь.
Сегодня собеседник Магды нравился ей гораздо больше, чем в первый раз. Видимо, следя за собой, он старался делать меньше оплошностей.
— Он ученый! Он работает… — Тут Магда умолкла, пытливо взглянув в лицо молодого человека, как бы взвешивая — может ли она довериться новому знакомому? Но открытое, широкое и добродушное лицо, казалось, не оставляло ни малейшего места недоверию. Такой простак!.. Милый и трогательный простак!.. — Он работает над созданием чего-то там, связанного с выведением низшей расы людей. Тех, кто вечно должен трудиться, — докончила она.
— Ого! Это интересно!
— Не знаю…
— Расскажите мне об этом… Я впервые слышу о таких опытах. Я ведь, знаете, физиолог…
— Об этом нельзя говорить. Да кроме этого — я ничего и не знаю.
По лицу собеседника прошла еле уловимая тень, которую Магда не заметила. Он поспешил переменить тему разговора…
Собеседником он был неплохим и веселым, хотя иногда коробил Магду своим поведением и чересчур резкими жестами.
Через час беседы он уже развязно, хотя и не совсем решительно, обнимал Магду за плечи и… странное дело, Магда не противилась.
Понимая в душе, что ведет себя не так, как подобает приличной девушке, и испытывая какое-то грешное раскаяние — она должна была признаться себе, что все эти интимности со стороны почти незнакомого человека, этого веселого и простого парня приятно волнуют ее кровь.
Молодость — есть молодость.
— А как вы намереваетесь провести весенние каникулы? — наконец спросил он.
— Еще не решила, но, возможно, уеду к отцу в горы.
— Любите горы?
— Мне надоели альпийские предгорья, где живет мой отец…
«Альпийские предгорья», — вот где обитает ее отец, нужно запомнить, — подумал «милый и трогательный простак».
— Я бы предложил вам, если хотите, проехаться в Висбаден. Мы бы чудесно провели каникулы.
— О, Висбаден! Чудный курортный городок. Я бывала там… — сердце Магды екнуло, упало и куда-то быстро, быстро покатилось… Она поняла, что поедет с этим человеком в Висбаден, как ни дико было даже подумать об этом.
— Итак… Если хотите… — добивался он.
— Нет… Мы еще так мало знакомы.
— Да, но люди же не рождаются знакомыми…
Железная логика этого возражения как бы снимала с Магды всякую ответственность…
Сумерки спустились, накрыв их фиолетовой дымкой, создав интимную обстановку…
Пролог романа завершился поцелуем у повитой плющом зеленой калитки…
В солнечное и радостное майское утро двое молодых, упоенных счастьем людей гуляли по улицам просыпающегося Висбадена. Отцветающие каштаны посыпали их белыми лепестками конфетти.
— Какой чудный город!.. Тихий и милый, весь в зелени, — воскликнула Магда, показывая рукой вокруг.
Лесистые горы прятали город от остального мира и придавали ему удивительное спокойствие, тишину и домашний уют.
— А виллы, виллы!.. Вот такую — я бы хотела иметь. Нужно попросить отца, чтобы купил, — мечтательно произнесла Магда, остановившись у хорошенького особняка с аркадами, густо повитыми синенькими, цветущими фуксиями.
— Виллу?! — удивился спутник Магды. И, чтобы хоть что-нибудь сказать, неопределенно произнес:
— Да, неплохая вилла…
— Мне кажется, что это не настоящий город для жилья, а магазин домов, и я просматриваю прекрасно выполненный архитектурный альбом, — мечтательно произнесла Магда. Она на каждом шагу восторгалась красотой каждой клумбы, каждого цветка и красивого дома. В эти дни весь мир был неотразимо прекрасен, — весь хотелось обнять и прижать к своему расцветшему сердцу.
— Взгляни! Пурпур маков и черные тюльпаны! Какая прелесть…
Улица Таунус. Светлый, роскошный, уютный пансион «Националь». Немолодая хозяйка сердечно приветствовала новых гостей.
— Какая славная пара! — шепнула она горничной.
Они поднялись к себе в золотисто-желтую комнату.
Он задернул воздушные крепдешиновые гардины и золотистый, густой и пьянящий, как «малага», полумрак разлился по комнате.
Тогда сильными и большими руками он обнял и поднял девушку. Магда по-детски заболтала ногами.
— Мне кажется, что весь мир завертелся и катится куда-то в бездну, но мне не страшно с тобой.
Она охватила его красную, здоровую шею и подставила губы для поцелуя…
2. Узница паноптикума Квазимодо
Боно Рито был предупрежден, что в час дня с ним будут говорить по прямому проводу из Берлина. Японец был неприятно озадачен. С некоторым беспокойством он взял трубку, прислушиваясь к отдаленному, знакомому голосу.
— Уважаемый профессор! Я только что получил нехорошую новость, касающуюся вашей дочери.
— Дочери?
— Да… Она в Висбадене познакомилась с подозрительным субъектом. К тому же — напряженное положение с Америкой. Возможно, Штаты вступят в войну против нас.
— Черт!..
— В любую минуту вашу дочь могут либо арестовать, либо интернировать, как американскую подданную. Если она попадает в Гестапо — я не ручаюсь…
— Что же мне делать?
— Заберите ее немедленно и спрячьте у себя в заповеднике.
— Благодарю вас, господин Линкерт. Вы очень любезны и предусмотрительны, я, действительно, многим обязан вам.
Боно Рито в своем автомобиле выехал в Висбаден. — Четыреста километров, не менее шести часов пути, — прикинул он, злобно прошептав:
— Познакомилась! Черт его знает, что такое!.. Почему Магда очутилась в Висбадене? — сетовал он, что уделял мало внимания воспитанию дочери.
Вообще, нельзя было оставлять девчонку без надзора… Еще приведет какого-нибудь чертенка и ты, великий Боно Рито, станешь дедушкой!
Дедушка! Чего же ты добился?.. Трона короля царства обезьян в окружении дегенератов!.. Японец кисло рассмеялся.
— Оперетка! Оперетка! Опереточный король! А в воздухе уже попахивает большой пятиактной трагедией и играют уже третий акт, — вслух подумал Боно, проезжая мимо разрушенных воздушными бомбардировками городов, мостов и дорог. Встречались автомобили, груженые военными материалами.
— Красивый город и он обречен, — подумал Боно, подъезжая к Висбадену и разглядывая курортную жемчужину Германии.
Стрела ровной улицы Таунус, обрамленная архитектурным ансамблем фешенебельных отелей и превосходных вилл. Невдалеке от кургауза он разыскал пансион и вбежал без стука в комнату Магды.
— Отец! Откуда ты узнал, что я здесь? — воскликнула изумленная Магда, застыв с пуховкой в руке. Она была одета и пудрилась, очевидно, собираясь куда-то уходить.
— Благодари моего патрона и тайную полицию, — недовольно произнес Боно.
— Не понимаю?
— Понимать особенно нечего. Через четверть часа мы уезжаем в заповедник, иначе тебе грозит арест и тюрьма.
— Тюрьма?! Ты не пьян, отец?
— Поспеши, Магда, и оставь глупые вопросы.
— Я должна увидеться с одним человеком. Попрощаться хотя бы!
— Никуда!
— Отец!..
— Немедленно идем в машину, — крикнул японец, схватив за руки Магду, — или… я оставлю тебя на попечение германской тайной полиции…
Магда с чемоданом и картонкой вышла впереди отца. Всю дорогу они не проронили ни слова.
Лишь когда за их автомобилем захлопнулись железные ворота, глубокий вздох вырвался из груди Магды.
— Вот мы и дома, — мрачно произнес японец, выходя из машины. Он повел дочь к небольшому, повитому плющом коттеджу. Поднявшись на второй этаж, он отпер комнату.
— Вот твои апартаменты.
— Благодарю! Что же, ты хочешь заточить меня в монастырь? — иронически спросила Магда.
— Не собираюсь.
— Чему же я обязана?
— Плохое поведение… Ты должна была быть арестована за связь с каким-то типом.
— Это тот студент… Что с ним?
— Не знаю ни о каком студенте. Я думал, что моя дочь гораздо благоразумнее.
Магда пожала плечами и обвела скучающим взором обстановку комнаты.
— Что меня здесь ждет?
— Работа… Простая и бесхитростная… Ты ведь медичка?
— Нет, я филолог.
— Ты же писала, что занималась медициной?
— После я перешла на юридический факультет.
— Ты довольно непостоянна.
— Очевидно, пошла в отца, — колко возразила Магда.
— На что намекает моя дочь? — осклабился Боно.
— На твою перемену профессии. Из хорошего циркового режиссера ты стал, очевидно, плохим профессором.
— О! Ты стала дерзка. Но лучше поговорим о деле.
— Я слушаю.
— Здесь, в моем научном бюро, ты в безопасности и будешь работать, используя свои медицинские познания… Учиться… Совершенствоваться. Потом помогать мне.
— Но если я не захочу?
— Этого хочу я, а этого достаточно.
Магда пожала плечами, возразив:
— Насилие над свободной волей собственной беззащитной дочери?
— Я вижу, что университет принес тебе некоторую пользу: ты заговорила словами скверных брошюрок…
— Ты продался сатане.
— Ты, очевидно, устала с дороги и поэтому такая нервная. Поговорим в другой раз.
Боно Рито бесшумно удалился. Магда долго ходила по комнате, рассматривая безделушки и книги на этажерке. Кроме нескольких бульварных романов и передовой беллетристики, было несколько медицинских книг. На видном месте лежал настольный справочник по микробиотике. Магда в припадке злости швырнула книгу. Она толкнула дверь, оказавшуюся запертою. Девушка нажала кнопку звонка и в комнату явилась незнакомая пожилая горничная.
— Принесите чего-нибудь поесть.
Подкрепившись кофе, Магда успокоилась и, усевшись в любимой позе, с ногами на диван, перелистывала книгу. Кто-то завозился за дверью, сморкнулся, по-старушечьи чихнул и нерешительно постучал.
— Войдите! — крикнула Магда. В комнате раздались тихие, робкие шаги и девушка, подняв голову, обрадовано вскрикнула:
— Зула! Зула! Как ты постарела?
Магда взглянула на сморщенное и неприятное лицо старой обезьяны. Она почти забыла девушку, удивленно рассматривала ее помутневшим взором человечьих глаз и тихо, но жалобно заскулила. Обезьяний плач выражал беспредельную грусть и плохо влиял на настроение Магды, и так бывшее довольно минорным.
Зула, усевшись на диван, прижалась к Магде и нервно теребила волосатыми пальцами кончик своего кружевного чепчика.
Девушке вскоре надоело общество ее старой няньки; она искала в буфете чего-нибудь съестного для подачки обезьяне, но ничего не было. Магда возмущалась отцом:
— Помешался он, что ли, оставив меня в обществе выжившей из ума обезьяны…
Три дня пыталась она выйти из своего пленения, но все напрасно. Массивная наружная дверь коттеджа была наглухо заперта, а в окна предусмотрительно вставлены железные решетки.
Наконец явился, нетерпеливо ожидаемый Магдой, ее отец.
— Здравствуй, Магда! Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо!! — еле сдерживая себя от бешенства и покусывая сочные губы, ответила девушка.
— Вот и прекрасно! Ты успокоилась, отдохнула, теперь мы сможем побеседовать и попытаемся договориться. Надеюсь, ты будешь более благоразумна.
Боно Рито опустился в кресло и закурил дорогую, ароматную сигару.
Магда одобрительно кивнула головой.
— Я предлагаю в твоих же интересах. Согласна ли ты мне помочь и работать вместе со мной?
— В чем же заключается твоя работа?
— Я работаю над созданием новой, низшей расы людей… У меня свои тайные планы…
— Ах, вот как! — заинтересовавшись, произнесла Магда. Ей нравился в ее отце широкий, деловой размах. Японец продолжал:
— Но мне мешают. Здесь против меня ополчились псевдоученые, бывшие парикмахеры, ставшие профессорами, но они — ничто! Я не хочу дешево продать свои открытия. Они неотступно ходят за мною и хотят похитить секрет нового препарата… Они…
— Я вижу, ты тоже попал в крепкие сети?
— Я должен их перехитрить.
— А потом?
— Господство над вселенной.
— Это интересно. И ты думаешь покорить мир?
— Покорю! — уверенно сказал Боно Рито.
— Ты можешь считать меня неблагодарной, но я не могу выносить здешней жизни. Мне тяжело. Как будто бы я участвую в каком-то чудовищном преступлении.
— Ты будешь работать, или… Для укрощения строптивости у меня есть сильнодействующее лекарство. Выйди за ворота и тебя поймают, поведут на аркане в Гестапо…
— Хорошо! Я буду работать… Но не будь таким жестоким к своей единственной дочери, — в сощуренных, слегка косых глазах Магды блеснул зеленый огонек при воспоминании отца о Гестапо. Она видела колючую проволоку и за ней серые тени живых трупов. Нет, нет. Она хочет жить. И зачем отец привез ее в эту страшную, противную, черствую страну, где живут страшные агенты Гестапо…
— Ну и…
— Мне надоело одиночное заключение. Выпустишь ли ты меня отсюда?
— Через несколько лет тебя ждет такая жизнь, о которой не смеет мечтать ни одна женщина подлунного мира… Итак, ты согласна?
Магда молча кивнула головой.
Японец довольно потирал свои маленькие руки.
— Теперь идем, Магда, я покажу тебе все свое учреждение.
Девушка, накинув чудесный, пестрый, пуховый жакет, взяла отца под руку, и они отправились на экскурсию по заповеднику. Магда удивленно рассматривала обезьяний поселок.
— Здесь интереснее, чем в зоологическом парке.
— Если ты вникнешь в суть…
— Если бы знал он, ее висбаденский компаньон!.. — подумала Магда, — он ведь интересовался когда-то подобными экспериментами.
Седые ученые, встретившись с Боно, поклонились ему. Шеф рекомендовал им.
— Моя дочь! Ассистент кафедры экспериментальной медицины.
— Очень приятно! — кланялись седовласые старцы, знакомясь. После прикосновения к их то сухоньким, то влажноскользким рукам, Магда отдергивала побыстрее свою руку — у нее оставалось чувство глубокой брезгливости. — Ни одного молодого лица, так же скучно, как в паноптикуме, — рассуждала она.
На дрессировочной площадке к ним приближался Жако.
— О Боже! Что за Квазимодо? Я никогда не могла представить подобного, очевидно, смерть оставила его, испугавшись сама, и сделала своим живым пугалом, — подумала она, рассматривая розовую маску, натянутую на живой, оскалившийся в вечном смехе череп. — Неужели ему приятна жизнь? Мне бы казалось, что будучи так обезображенным — лучше покончить с собой.
Жако понял, что испугал девушку и вместо приветствия произнес свое обычное извинение.
— Простите, фройляйн! Меня слегка царапнула дикая кошка…
Она промолчала. После неловкой паузы двинулись дальше. Магда шепотом спросила отца:
— Какое ужасное лицо! Для чего ты собрал такой паноптикум?
— Для работы… Здесь внешность не ценится…
Магда смолчала, но на душе было нехорошо, будто она являлась соучастницей в каком-то огромном, кошмарном преступлении. Первые дни пребывания ее в заповеднике казались каким-то нереальным, жутким сном.
Магда считала время, проведенное здесь, навсегда потерянным.
Вернувшись домой, она отодвинула еду, принесенную Зулой и, даже не взглянув на свою старую няньку, задумалась о своем тяжелом положении.
Смутные и неоформленные желания приходили чередой, толпились у слегка приоткрывшихся перед ней дверей любовной радости. Восторги еще неиспробованные и неизведанные до конца и потому такие заманчивые! Она жаждала встреч, поцелуев, любви, хотя бы общества молодежи, она примирилась бы даже с однокурсниками университета, нескладными и глуповатыми, как щенки.
В этой непонятной пустыне странной и чуждой ей науки, в обществе стариков, обезьян и уродов ей становилось невыносимо тяжело.
Однако, анализируя свое знакомство и свою любовь, Магда приходила к все более усиливающемуся убеждению, что герой ее романа после разговора в парке проявлял особое, странное любопытство, заинтересовавшись ее биографией.
— Что же я рассказывала ему тогда? Кажется, ничего, кроме опытов отца над обезьянами…
— Обезьяны! Что общего могла иметь любовь с обезьянами? Как и почему они повлияли на ход знакомства? — спросила себя Магда.
«Не понимаю, но это так, они имеют что-то общее», — упорно копошилась какая-то маленькая, подозрительная мысль.
Чем дальше думала на эту тему Магда, тем более убеждалась, что все это носит странный характер…
Магда Рито чувствовала, что попала в цепкие сети, вырваться из которых пока невозможно и, опустив руки, решила ждать, что будет дальше.
Сама таинственность еще не совсем понятного учреждения, где главным действующим лицом был ее отец, начинала заинтересовывать ее.
Но сколько не пыталась Магда узнать у отца о таинственной фабрике, японец отмалчивался, оставаясь невозмутимо спокойным.
3. Неудавшийся заговор
Несколько ученых ожидали приема у доктора Кребса и когда он вышел в приемную, сразу атаковали партийного шефа.
— Доктор Кребс! Да поймите же, что это шарлатан, превративший научно-исследовательский институт в кабак, цирк с вышедшими в тираж артистами, — доказывал приверженец теории стерилизации рабов.
— Какие веские доводы вы имеете против Боно Рито?
— Он уже отправил в могилу не менее шести тысяч экспериментируемых. И еще не дал ничего для решения проблемы.
— Профессор! Первые сорок роботов вполне удовлетворительны. Что касается потерь, то… Ведь люди во время войны дешевле морских свинок, — возразил Кребс.
— Сорок! Нам нужны миллионы и мы их имеем чисто механическим способом. Посмотрите на эти лагеря иностранцев, огороженные колючей проволокой. Палка и брюквенный суп подчинили их разум только одному: стремлению работать для того, чтобы не подохнуть с голоду.
— Это не совсем так, — кисло процедил Кребс, — по материалам тайной полиции мне известно, что несколько предприятий они уже пустили в воздух, испортили тысячи станков и бесчисленное количество материалов. Кое-где даже ставится вопрос о их рентабельности.
— Вы думаете, что эта косая обезьяна поможет тяжелому положению Германии?
— Осторожнее, господин Бурбах. Вы оскорбляете желтого арийца, представителя союзной страны, связанной с нами традиционной осью: Берлин — Рим — Токио!
— Извините, доктор Кребс, — стушевался профессор.
— Вы видите, что война принимает несколько нежелательный оборот. Наличие огромного количества иностранных рабочих внутри страны требует содержания крупных воинских и полицейских частей.
— Отнеситесь все же с сомнением к деятельности японца, — произнес молодой ученый-расист.
— Простите, господа! Искренне благодарю за ваш совет, но, к сожалению, я имею инструкции свыше, от самого Линкерта и министерства, — торжественно произнес Кребс. — Мы должны идти разными путями к разрешению этого сложнейшего вопроса и, избрав самый радикальный, предложить на утверждение. Я лично думаю, что идеи господина Рито, а именно — прививки специальной вытяжки гормонов внутренней секреции и разрушение мозжечка препаратами токсинов, есть решение проблемы. Я думаю, что будущее за ними, а не за другими идеями.
— Господин доктор! Знаете ли вы хорошо этого Рито? Может быть, это иностранный шпион и замаскированный враг национал-социализма?!
— Наши агенты несколько лет изучали его биографию. Отец Рито ученый жрец и знает многое, неизвестное европейским ученым. Они умеют хранить свои тайны, может быть, даже лучше, чем это делаем мы.
Хитро сплетенная интрига, переросшая в заговор германских ученых против своего японского коллеги — не удалась.
Страшная машина продолжала вращаться полным ходом.
4. Волосатый посетитель
Двери всегда волновали Люцину. Она испытывала все возрастающий ужас перед металлическим квадратом с застекленным глазком, назойливо подглядывающим за ее жизнью.
И, наконец, этот ужас пришел…
Бесшумно, осторожно открылась дверь. Страх пробежал резким сквозняком по спине, сковал суставы и парализовал движения.
В камеру неуклюже, бочком вошел этот рожденный ее воображением — ужас.
Огромное волосатое чудовище, коснувшись плечами дверного косяка, осматривало свирепыми, получеловечьими глазами узницу. Слегка качнув головой, оскалилось и шагнуло вперед. Раскрыв широкую пасть, утыканную желтыми клыками, чудовище, что-то урча, направилось к девушке.
— Спасите! — крикнула Люцина, от неожиданности потеряв присутствие духа. Но это тянулось лишь мгновение. Она поняла, что люди хотят отдать ее чудовищному орангутангу и, нагнувшись, проскользнула, едва коснувшись цепких рук, в угол комнаты. Еще мгновенье и девушка вспрыгнула на кровать.
Животное мешковатыми движениями тянулось к ней и, протянув руку, цепко схватило за старенький плюшевый салопчик, рвануло вниз. Девушка почувствовала зловонное дыхание обезьяны.
— Что нужно этому чудовищу и как оно попало сюда? — На эти вопросы Люцина не могла бы себе ответить… Да и не было времени ни задавать вопросы, ни отвечать на них. Огромная обезьяна решительно протянула свою волосатую руку.
Люцина глядит в его красные глаза и внезапно понимает все… Перед ней не опасность быть разорванной клыками чудища или задушенной его руками. Нет, в этих красных, выразительных глазах запрятана другая опасность… Неизмеримо большая и ужаснейшая… Перед нею самец, который почуял самку… Его глаза излучают гнусную, обезьянью похоть, от мысли о которой девушке делается дурно. Но она понимает, что это было бы ее гибелью. Секунды идут… И в этих секундах столько муки, столько сконцентрированного, безысходного отчаяния, что оно могло бы заполнить годы…
Она чувствует на себе прикосновение этих рук; дрожь отвращения и ужаса электрическим током пробегает по телу. Она не может оторвать своих глаз от красноватых глаз обезьяны… И обезьяна тоже почему-то не отрывает взора от человеческих зрачков, которые, кажется, выбрасывают снопы зеленых, могущественных искр, неудержимо привлекающих зверя. Они мерцают и горят… Обезьяна не может ни на мгновенье отвести взора; движения ее делаются неловкими, спазматическими, дрожащими и бессмысленными; внимание занято этими человеческими глазами.
А снопы зеленых искр все летят и летят, излучая неведомые волны, сковывающие движения, парализующие волю…
Красные глаза обезьяны тускнеют и подергиваются сизоватой дымкой. В них уже нет и следа былого выражения похотливости самца…
Теперь чудовище начинает уже чего-то бояться… Неясная тревога, все растущая, надвигающаяся… Обезьяна опускает свои волосатые руки, мешком опускается на грязный пол и, все еще не отрывая своих глаз, начинает жалобно скулить…
Безмолвный и страшный поединок человека и зверя заканчивается победой человека.
Но и для Люцины пережитого слишком много… Слишком много израсходовано нервной энергии, неожиданно подчинившей волю зверя и спасшей ее.
Обессиленная, разбитая, она опускается на кровать и сознанье покидает ее…
Обезьяна дремлет, скорчившись в неестественной позе у самой кровати.
Заглянувший в волчок человек приходит на помощь обезьяне.
— Бедный Бонза! Здорово ты устал! — вскрикнул он, плотоядно рассматривая обнажившуюся грудь девушки и с трудом выводя безвольную, упирающуюся обезьяну.
На помощь узнице не пришел никто и она долго лежала без движенья…
— О, какое чудовище! — простонала Люцина, постепенно приходя в чувство и припоминая, что произошло. — Но слава Богу! Звери все же лучше людей. Сегодня обошлось, а что будет завтра?..
Наступила ночь. Люцина не притронулась к еде… Сон улетел куда-то. Девушка, дрожа от нервного озноба и накрывшись одеялом, прильнула к окну. Сбоку светлых потоков «Млечного пути» она разыскала ярко светящуюся ласковым светом звезду Мечислава.
— Ты жив, Мечик! О, если бы ты знал, что здесь со мною… Ты разыскал бы меня и помог…
5. Колонна
Шахматные ходы политиков, переставляющих фигуры на карте Европы, повлияли на жизнь гейдельбергского студента… Все время после переезда границы, он зависел от этих ходов.
Неожиданно, заключаемые и расторгаемые договоры, перемены политических ситуаций и конъюнктур заставили его воздерживаться от излишнего любопытства и на его деятельность налагали отпечаток особой лояльности.
Молодой студент, кроме обычных дисциплин, преподаваемых в университете, занимался другой исследовательской наукой, которую, конечно, не читали с открытых кафедр…
Соблюдая сугубую осторожность, он вел свое дело, начав его издалека и, когда оно готово было уже принести первые плоды, которые он надеялся собрать с нивы, где были посеяны им амурные дела с девушкой индийского типа, неожиданные обстоятельства заставили его сделать рискованный ход, уклоняясь от угрозы со стороны ферзя, представляющего тайную полицию, и он черным конем ринулся в стремительный бег по белому снежному горному полю…
После этого рискованного шахматного хода — «студент» перестал существовать… его место на планете, в точнейшем объеме вытесненного воздуха, занял некий Фриц Бауэр — коммерсант, освобожденный из-за порока сердца от воинской службы.
Пыль…
Поднимающаяся клубами и неподвижно висящая в воздухе непроницаемой завесой. И где иногда прорывается она — виднеется длинная зелено-серая ползущая змея — колонна изнуренных пленных.
Запыленные, грязные и усталые, шагают побежденные под охраной злых и тоже утомленных конвоиров. Времена сказались на них, теперь это пожилые и даже старые отцы семейств, помнящие еще первую войну и вооруженные устаревшими винтовками времен франко-прусской кампании.
В густых придорожных зарослях кустов притаился человек… Невысокого роста, коренастый, одетый в отрепья, в которых едва можно узнать, и то лишь с трудом, бывшую военную униформу.
На шоссе, на траверзе логова человека, появилась колонна. Он торопливыми движениями заканчивает грим; обсыпает физиономию пылью, которую пригоршнями собирает с пересохшей земли.
Пропустив колонну до половины, он выглядывает из кустов и, держась за спадающие брюки, бежит к марширующим. По пути, получив увесистую затрещину от конвоира, он теряется в рядах таких же оборванных и запыленных людей.
Никто не обратил на него внимания, но внимательный наблюдатель заметил бы едва уловимую, довольную усмешку, быстро промелькнувшую на его физиономии.
Колонна шагает дальше под прикрытием густой завесы из пыли…
6. Педагог и классная дама
Вилли Бредель, в прошлом бравый эсэсовец, после тяжелого ранения в ногу получил тыловое назначение на должность лагерьфюрера. Его инструктировал доктор Кребс в присутствии Боно Рито.
— Вы не только лагерьфюрер и администратор, вы должны быть также и немного педагогом.
— Яволь! — кивнул Бредель бульдогообразной головой.
— Смысл подготовительных работ заключается в том, чтобы физически надломать и истощить тело, подавить остаток мысли, лишить присутствия духа, сломать то, что мы привыкли называть личным «я». Человек должен быть обезличен.
— Сломать хребет! — подсказал Бредель.
— Вот, вот… Вы нашли блестящее сравнение. Смело применяйте голод, побои, создавайте причины страха, ни га минуту не допускайте мысли в своих поднадзорных, что вы выпустили из рук вожжи. Этих людей доведите до состояния животных, которые должны бросаться на каждый швыряемый им кусок пищи.
— Яволь! — по военному вытягивался Вилли и щелкал каблуками солдатских сапог с широким раструбом голенищ.
— Потом мы произведем отбор более здоровых и выносливых. Больные нам не нужны. Для них приготовите кладбище; это тоже входит в ваши обязанности, — брезгливо поморщившись, продолжал Кребс.
— Яволь!
Своим помощником Вилли Бредель назначил свирепого одноглазого Бамберга, бывшего «капо» из Аушвица. Новый заместитель лагерьфюрера купил свою должность ценою тысяч чужих жизней.
Сорок пар глаз, застыв, наблюдали затянутого в черную форму, подходившего к ним помощника. Люди перестали есть жидкий суп.
— Держись, ребята! Это — бывший «капо» и, если он появился здесь, хорошего не жди, — переговаривались лагерники, уже знающие Бамберга.
Бывший «капо», будучи когда-то сам заключенным уголовником, прошел хорошую школу.
Попав на лучшую должность, он старался выслуживаться перед начальством. Он прекрасно знал, за что его выдвинули и для чего он здесь. Бамберг вставал очень рано, сам осматривал проволоку ограды, будил людей, на каждом шагу награждая их зуботычинами. Он редко применял палку, чаще и безошибочно действуя кулаком. Если в этом аду Вилли Бредель был «педагогом», то одноглазый изверг — был жестокой «классной дамой».
В поле зрения Бамберга попал умывающийся Мечислав Сливинский. С таким трудом добытая жестянка воды расплескалась на полу.
— Сойдешь и неумытым! Ишь ты, любитель чистоты!
За этим словесным выпадом Бамберг сделал выпад ногой в выдающуюся часть тела нагнувшегося польского пленного.
Вскипела гоноровитая кровь, взорвав переполненную чашу терпения. Сокрушительный удар в переносицу принудил Бамберга растянуться на исплеванном полу.
— Вот это здорово!
— Чудесно!
— Блестяще! — восхищались лагерники и на цыпочках подходили взглянуть на поверженного смертельного врага.
Но нокаут Бамберга дорого обошелся им. Помощник лагерьфюрера стал более осторожным и мстительным, применяя утонченные приемы наказания: ежедневно все жиже становился смрадный суп. С утра до ночи, без передышки, он заставлял перекладывать камни с места на место.
Изредка посещал лагерь сам Боно Рито. Он внимательно рассматривал людей, задавал вопросы, держа в руке кусок хлеба, наблюдая жадные взгляды, как будто стараясь как можно выгоднее продать этот хлеб.
В глазах и душе погасла жизнь, но в теле еще едва теплилась кровь, поэтому тела делали непроизвольные движения.
— Дорогой Бредель! Вы чудесно подготовили мне сырье. Завтра с утра приведите первую партию в сорок человек в экспериментальную лабораторию.
— Яволь! В точности будет исполнено!..
Мечислав Сливинский бредил на нарах и тихо шептал:
— Я когда-то был соколом… И если бы снова добрался до крыльев, тогда… Тяжко карал бы и мстил врагам! Они искалечили мое тело, но закалили мой дух. О Боже! Прости и помилуй… За что такие испытания моей родине?
7. Вопреки Дарвину
Таинственный, покрытый мраком догадок лагерь в предгорьях Альп, обнесенный двойной стеной и колючей проволокой, пользовался дурной репутацией. Теперь его соединяли одной громадной оградой с территорией заповедника.
Несколько тысяч изнуренных и измученных иностранных рабочих было привезено в извилистую живописную долину.
На вершинах доломитовых гор, как часовые средневековья, стояли неприступные замки, сохранившиеся с феодальных времен. Они хранили немало тайн и были свидетелями многочисленных битв народа, превозносившего войну в степень наивысшего культа.
Ниже, под террасами, зеленые маскировочные сетки огромными зелеными гардинами, подобранными в тон окружающему ландшафту, закрывали таинственные входы в доломитовых скалах. Днем я ночью, выбиваясь из сил, современные рабы сверлили гору, выдалбливали гигантские штольни и пещеры для подземных заводов нового оружия — летающих бомб.
Лагерь не имел никакого сношения с внешним миром. Ряды скверных деревянных бараков выстроены в отвратительной, заболоченной местности.
Рацион еды рассчитан на медленное вымирание. Ежедневно от истощения и переутомления умирали десятки.
Худые и немощные, скорее похожие на кляч с живодерни, чем на людей, в грязной от крови и пота смятой одежде, с безразличными лицами, покрытыми серым, несмываемым налетом, люди, как тени, слонялись с котелками, ища на помойках шелуху картофеля, брюквы, и зачастую дрались друг с другом из-за отбросов. Несчастные потеряли веру в себя, в жизнь и в элементарные понятия о справедливости.
Каждый новичок, познакомившись с обстановкой, резко сокращал надежды на благополучный исход его пребывания здесь.
Изнуренный и истощенный четырехлетним пребыванием в плену, Мечислав Сливинский, познакомившись со старожилами лагеря, узнал много нового.
— Самое страшное — прививки… Тысячи людей они отправили на тот свет, тысячи сошли с ума! Вон, погляди, идут.
Сливинский присмотрелся к возвращающейся колонне.
Флегматичные, доведенные до безумия, казалось, обугленные страшным пламенем, люди, в чудовищной обуви — колодках, выдолбленных из цельного куска дерева, выбивали меланхолическую барабанную дробь похоронного марша.
Здесь совершенно не интересовались ни внешностью людей, ни их происхождением, образованием или умственными способностями. Красавцы ли это или уроды, поэты или художники, образованные или простолюдины — все равно. Это были пойманные — «гефанген» — сырье для экспериментальной лаборатории живых роботов.
«Люди заменяют морских свинок, кроликов и собак, потому что они дешевле животных», — подумал Сливинский, всматриваясь в лица пришедших. У многих они вспухли, вздулись, превратившись в сплошную багрово-красную кровоточащую ссадину.
— Какие ужасные полутрупы! — воскликнул Мечислав.
У некоторых уже наступила реакция на действие препарата. Одни галлюцинировали, другие буйствовали, зрачки расширялись до крайних пределов.
Многие умирали в страшных мучениях, разрывая раны на лицах, похожие на черную оспу. Остальные погружались в черную, ничем не поправимую бездну безумия.
— Коричневая чума, — произнес коренастый человек с открытым, широким лицом и тоном компетентного старожила, знающего все тайны, обратился к Сливинскому наставительно, — ты новичок?.. Держи ухо востро. Высасывай ранку сразу после прививки, вместе с кровью… Иногда помогает. Но если не сегодня — то завтра могут скрутить и тогда…
— Спасибо за совет.
— Не стоит… Откуда сам?
— Из Польши. Бывший летчик… А ты?
— Я… — собеседник замялся, — я бывший студент.
— Ты уже был на прививках?
— Пока выкручивался, прятался. Не знаю надолго ли?..
Сливинский решил, будь что будет — крепиться и не падать духом, перенести это тяжелое испытание, выпить до дна горькую чашу.
— Они пленили тело, хотят отобрать и разум, — лежа на вонючих жестких нарах, застеленных бумагой, думал Мечислав. В углу, над головой крупный паук-крестовик плел затейливую паутину. Это заметил и сосед Мечислава по нарам и в раздумьи произнес:
— Вся Европа опутана теперь колючей паутиной. Но участь немцев уже решена. Народная поговорка гласит: «что посеешь — то и пожнешь». Немцы посеяли войну, а теперь пожинают ее плоды…
— Долго ли еще ждать?
— Разгром не за горами…
Утром начинался наряд. Конвоиры уводили партии «полосатиков». Более сильные шли червоточить гору, долбить ее каменные внутренности, слабосильные ушли на уборку обезьяньего города.
В прохладное октябрьское утро Сливинского вместе с бывшим студентом Бредель назначил в наряд на обслуживание обезьянника. Они впервые попали в поселок двуногих животных и с удивлением рассматривали небольшие домики обезьян.
— Афеншталь райниген! — скомандовал конвоир-немец.
Люди выносили прелую подстилку, выгребали кучи вялых брюквенных корок. Они с жадностью накидывались и грызли обезьяньи объедки. Из корней маиса люди выдалбливали сердцевину и тут же пожирали ее. Обезьяны удивленно-снисходительно глядели на родственных. Макака фамильярно похлопала одного из пленных по плечу и показала язык.
— До чего дожили, даже обезьяна дразнится, — злобно произнес бывший студент. — Интересно, что сказал бы Дарвин, увидев этот обратный процесс! Сомнительные ученые национал-социализма пытаются, вопреки теории Дарвина, превратить человека обратно в обезьяну! Это величайший парадокс двадцатого века!!!
Мечислав Сливинский сжал губы, чтобы не разразиться потоком ругани. Царственной походкой, в светлом осеннем костюме, появилась девушка с индийским лицом. Она на мгновенье остановилась, взглянув на работающих.
«О Боже! Как она не похожа на нашу жизнь и будто слетела на крыльях волшебной музыки…»
А стадо обезьян, высунув языки, передразнивало стадо людей и швыряло в них объедками.
8. Искра под пеплом
Час испытаний наступил и для Мечислава Сливинского. Бредель остановился перед летчиком и приказал следовать за ним. В компании сорока до крайности изнуренных людей, подгоняемых палками, его пригнали на небольшую, огороженную колючей проволокой площадку, прилегающую к задней стороне коттеджа, повитого зеленым плющом.
Бредель по несколько человек приводил в приемную комнату.
Попав в нее, Мечислав Сливинский внимательно наблюдал за ходом процедуры прививок. Обладая исключительно здоровым и выносливым организмом, он никогда не болел, не считая перенесенного уже в плену тифа. Он не терпел врачей и недолюбливал все, что было связано с медициной. Даже суровая лагерная жизнь лишь слегка тронула красивое тело молодого человека. Он исхудал, но от тяжелой работы мускулы были достаточно крепки.
Мечислав неожиданно увидел девушку, так поразившую его в обезьяньем городе.
Магда Рито скользнула взглядом по его руке, потом взглянула на лицо и глаза польского летчика. Через секунду она еще раз пытливо и в упор посмотрела на его красивые глаза, ровный, тонкий нос и презрительно стиснутые губы.
«Он так не похож на этих грязных и исхудалых унтерменшей», — подумала Магда, смачивая дезинфицирующей ваткой место на руке для укола. Она уже протянула руку за шприцем, когда человек мягким, приятным голосом обратился к ней.
— Уважаемая фройляйн! Скажите, пожалуйста, что это за прививки?
— Разве вам не говорили, что это… это противотифозная прививка, — не глядя прямо в глаза, ответила, несколько смутившись, Магда.
— Мне уже трижды прививали тиф в других лагерях, кроме того, я уже переболел однажды тифом. Теперь я категорически отказываюсь от прививки.
— Вас не спрашивают о согласии. Это общее правило.
— Даже не будучи спрошенным — я категорически отказываюсь.
— Тогда вам привьют насильно!
— Я сначала перебью всю вашу кухню, затем постараюсь увеличить количество вдов и сирот в этом мире, насколько смогу, а затем покончу с собой.
— Вы очень храбры, — произнесла Магда полунасмешливо, однако и с оттенком серьезного утвержденья…
— Мне уже приходилось слышать об этом и думаю, что это не ошибка.
— Вы, я вижу, интеллигентный человек; чем объяснить, что вы попали в этот сброд? Случайность?
— Я побежденный…
— Ага… Поляк?
— Да, я поляк, но почему вы так решили?
— Мне уже случалось видеть поляков и вы — довольно ярко выраженный тип.
— Если вы позволите мне высказать мое мнение — то вы тоже довольно ярко выраженный, не немецкий тип…
— Очевидно, вы имеете в виду несколько восточный разрез моих глаз?
— Да, отчасти, но больше — ваше поведение.
— То есть?
— Никакая уважающая себя чистокровная арийка и убежденная национал-социалистка не стала бы разговаривать с эдакой грязной скотиной, какую представляем собою здесь мы.
Магда слегка улыбнулась и снова взялась за шприц, как бы вспомнив о своих обязанностях.
— Итак, вашу руку…
Сливинский пожал плечами:
— Если нет более интересной темы, то не будем терять времени на эту. Зовите подручных… Да постарайтесь выбрать помускулистее. Со мною будет немало хлопот…
Магда, держа в руке приготовленный шприц с просвечивающей сквозь стеклянный корпус мутноватой жидкостью, не без интереса слушала реплики этого необычного унтерменша, произносимые с красивой модуляцией голоса. Он не сказал ничего особенного, он употреблял простые и даже грубые слова — но они звучат без оттенка так трудно переносимого Магдой хамства, такого обычного в устах ее первой и пока последней любви. «Вот здесь чувствуется порода и воспитание» — мелькнуло в уме. Да, в сущности жалко, что этот спокойный, выдержанный, хорошо воспитанный, светский и, видимо, неглупый человек, кроме всего, сложенный, как Антиной, несмотря на худобу, и красивый, как Нарцисс, находится здесь, в таком незавидном положении. Очень, очень жаль… Все эти Квазимодо, в том числе и ее отец, помешались на каких-то унтерменшах и одно присутствие такого человека начинает быть приятно Магде.
Не желая ничего подобного, она сделала сравнение. И образ гайдельбергского студента, еще к тому же высказывавшего какой-то весьма подозрительный интерес к отцу и его работам — медленно, но неуклонно стал блекнуть…
Подгоняемый Бределем, вошел следующий человек в полосатом. Магда положила шприц. Сливинский по-военному отдал честь.
Улыбнувшись за спиной Бределя и тряхнув волосами, Магда кивнула ему головой…
Закончив работу, Магда убрала стол, но перед ее глазами, как бы из темноты, мерцали оживленные и властные серые глаза.
Шли дни и Магда с некоторым нетерпением ожидала повторения прививки. Она быстро отпускала бессловесных, серых людей, привычным движением впрыскивая препарат и говорила Бределю, стоявшему за дверью: — следующий. — Сливинский оказался последним.
Когда он вошел и, слегка улыбнувшись, поздоровался, Магда опустила глаза и слегка покраснела… Она вдруг почувствовала себя школьницей: смущенной, робкой и не могущей связать нескольких слов. Чудесное, ей до сегодняшнего дня незнакомое, но почему-то приятно волнующее чувство.
Сливинский подошел ближе и улыбнулся.
— Присядьте, пожалуйста… — совсем не к месту проявила предупредительность Магда и следом подумала: «какая дура».
— Спасибо, — последовал тихий ответ, — к сожалению, к очень большому сожалению, мой визит не обязывает вас к такой любезности… Позвольте мне не воспользоваться ею.
Магда еще гуще покраснела, но, тряхнув кудрями, сказала почти вызывающе.
— Почему же «к сожалению»?
— Потому что вы могли бы быть очаровательной хозяйкой. Я дорого бы дал, чтобы увидеть вас в этой роли, которая несомненно вам больше к лицу, чем роль помощника в совершаемых преступлениях.
— Не говорите об этом, — очень тихо сказала Магда. — Вы не можете называть преступлением то — истинной сути чего вы не знаете.
— Какова бы ни была суть — но если пути к ней ведут через страдания людей — я не могу уважать такой сути. Я не спрашиваю вас, в чем она заключается, спрошу только, что заставляет вас делать эту… ну скажем, не совсем приятную работу… Ведь я не ошибусь, если выскажу предположение, что она не может доставлять удовольствие порядочной девушке?
— Вы правы. Удовольствия здесь очень мало, — вздохнула Магда. — Но… и вам ведь не доставляет удовольствия ваше положение, не правда ли?
— Если я верно понял — то вы делаете свою работу по принуждению?
Магда гордо вскинула голову.
— Вы, конечно, поняли неверно… Идите однако… Нет, постойте, возьмите эту простую булавку и сами уколите себе руку…
Сливинский долгим взглядом поглядел на девушку, сделал себе укол и молча пошел к двери. На пороге он обернулся.
— Я думаю, что вы очень хорошая девушка. Да благословит вас Бог, — не дожидаясь ответа, вышел, встретившись с бравым Вилли Бределем, спешившим в кабинет Магды.
— Приведите следующего, господин Бредель, — она, взмахнув рукой, задержала его на мгновенье и, взглянув на багровый нос, произнесла, — может быть, вы хотите немного спирта?
— О, с удовольствием! Только бы не узнал ваш отец.
— О, нет, нет, не беспокойтесь… Возьмите эту бутылку с собой… Да, и вообще, можете иногда наведываться ко мне за этим лекарством…
Отныне преданность Бределя была куплена и нераздельно принадлежала Магде…
С некоторых пор, скучная и неприятная работа стала для Магды единственным смыслом ее томительно-однообразного бытия.
С каждым коротким свиданьем во время инъекции, которое не могло длиться свыше нескольких минут, в ее сердце начинали звучать все новые и новые струны… Звучать так властно и с таким многообразием чудесных музыкальных оттенков, что о существовании подобной музыки Магда никогда и не подозревала, даже во время ее первого романа в Висбадене со студентом из Гейдельберга. Там была грубая и примитивная, как балалайка, хотя и громкая музыка — здесь же симфония небывалой красоты и силы, изумительно оркестрованная, во всей красоте, полной гармонии и соответствии отдельных музыкальных частей.
Сливинский при этих свиданиях был изысканно любезен, остроумен, но сдержан. Он умел говорить ей тонкие и изящные комплименты и иногда холодно уколоть, но всегда на нем лежала печать какой-то глубоко скрытой и непонятной ей грусти и отчужденности. Женской интуицией Магда угадывала, что хотя он и не оставался равнодушным к ней, но в его сердце симфония не звучала… А если звучала — то не она была дирижером.
Однажды вечером Мечислав очутился в домике, повитом плющом.
— Я послала за вами… Сегодня имею свободный вечер и мы можем продлить наш разговор отрывками… Кстати, примите ванну. Там лежит костюм, может быть, вам будет удобнее…
— Благодарю вас. Вы хотите мне доставить удовольствие и позволить хоть на минуту забыть, что я пленник…
— Я буду рада, если этим доставлю вам хоть маленькое удовольствие…
Сливинский с наслаждением брился, стоя по колени в горячей воде. Принял душ, одел легкий серый костюм, белый воротничок, галстух. Взглянув в зеркало, он едва улыбнулся…
Было приятно видеть себя снова человеком. Ему предстояло целый вечер чувствовать себя наполовину свободным. Как Магда устроила это, он не знал. Было достаточно факта.
Когда он закончил туалет и взялся за ручку двери, где-то в самом сердце отчетливо и больно, щемяще-жалостно прозвенело серебряным колокольчиком:
— «Лю… ци… на…».
9. Препарат «S.U.-147»
— Уважаемый господин Линкерт! Препарат готов!
— О! Неужели?! — радостно воскликнул бывший посол, протягивая обе руки к сияющему холодной лунной улыбкой Боно Рито.
— Я назвал его: «S. U.-147».
— Почему вы избрали именно это название?
— Селекция унтерменш — дает две начальные буквы, 147 — количество предыдущих опытов. Конечно, — продолжал Боно Рито, — это еще не победа, но в общем ходе работ известный шаг вперед.
— Что же еще нужно?
— Закрепить, закрепить результат, господин Линкерт… Эта сыворотка уже подчиняется нам и мы можем регулировать ее действие, но закрепить желаемый «status quo» — увы, все еще бессильны… В зависимости от индивидуума продолжительность идеального состояния может варьировать. Таким образом, довлеет элемент случайности, от нас не зависящий.
Опыты на человеческом материале дали известные результаты. Могу сегодня продемонстрировать кое-что.
— О, мой любимый профессор! Это я посмотрю охотнее, чем спектакль столичного театра, к слову — спектакли теперь стали совершенно невозможны.
Высокий гость и Боно Рито направились пешком к опутанному стальной колючей паутиной лагерю. На поляне среди густого, непроходимого, молодого ельника, одетые в полосатую, серую с синим, равняющую униформу, молчаливые, как механизмы, люди переносили кирпич и складывали в аккуратные штабели. Мрачные и бесстрастные рабочие, будто живые истуканы со скуластыми славянскими, иудейскими, кавказскими и монгольскими лицами.
— Здесь представители нескольких народностей и рас. Почему вы решили экспериментировать с таким интернационалом? — спросил Линкерт.
— Я заведомо собрал представителей разных рас и народов, проверить, существует ли национальный иммунитет против наших прививок?
— Это интересно, — оживился гость, — вы проницательный и чрезвычайно интенсивный ученый и предугадываете всевозможные варианты.
— Мы должны предусмотреть все и избежать неожиданностей в экспериментальных работах.
— О, да! Конечно, конечно, — согласился гость.
Кирпич перенесен. Люди тщательно подмели опустевшую площадку и убрали мусор.
Потом Бредель организовал переноску кирпича обратно. Сам показал одному из рабочих процесс, потом все остальные поплелись за ним.
Боно Рита, подозвав Бределя, спросил:
— Как они работают?
— Прекрасно. Я еще никогда не видел таких исполнительных и нетребовательных рабочих; они как волы. Брюквенный суп и иногда легкий удар плетью делают их проворными и послушными. За перевыполнение работы, согласно вашему приказу, они иногда получают в виде премии ломоть хлеба.
— Интересуются ли они чем-либо, кроме еды? Не высказывают ли какие-либо вредные мысли или идеи? — спросил Линкерт, подняв палец с изумрудным перстнем.
— О, нет! По-моему, они совершенно ни о чем не могут думать.
— Вы уверенны?
— Яволь! — щелкнул каблуками, отдавая честь, Бредель и удалился.
— На них не производит никакого впечатления любая новость, но они способны, как звери, подраться из-за остатков брюквенного супа. Высший идеал этих животных — чем угодно набить свой желудок. Голод является могучим двигателем. Хотя, повторяю, все же это еще не совсем то, что нам нужно — это пока полуфабрикаты настоящих живых роботов.
— Не замечали ли вы за ними попыток к сопротивлению или к побегу?
— Нет. Все спокойно, господин Линкерт.
Боно Рито подозвал одного из рабочих. Крупная цифра виднелась на его обычной, полосатой форме.
— Как тебя зовут?
— 372.
— Откуда ты родом?
— Я родился на фирме Рито.
— Есть хочешь?
При воспоминании о еде отдаленный, еле заметный луч потухающей памяти на мгновенье оживил это страшное лицо человека с похищенным разумом…
Гость и ученый остановились на опушке елового бора.
— Прекрасно! Я не ожидал увидеть такие поразительные результаты. Их мышление полностью как бы оскоплено или стерилизовано.
— Вы, господин посол, очень проницательны. Я действительно попытался стерилизовать их ум. Результаты получены. Скоро я надеюсь передать вам идеальный, эталонный тип модерного раба XX века — живого робота.
— О! Наконец мои труды тоже увенчаются успехом! — радостно воскликнул Линкерт. — Продолжайте ваш доклад.
— Производство их будет стоить гораздо дешевле, чем производство утопических механических роботов. Стоимость прививки — всего несколько марок. А сырья — побежденных иностранцев — для нас хватит.
— Ха-ха-ха! — загрохотал бас Линкерта. — Это изумительно! Ха-ха-ха!
Раб, согнувшись в три погибели, нес на спине горку кирпича. Он услышал обрывок разговора о нем, о всех них. Ни один мускул не дрогнул на его лице, хотя внутри его сознания разыгралась целая буря. Кирпичи упали, рассыпались, но повернувшийся спиною японец ничего не заметил.
— Рожденного на просторе и летающего в облаках — ползать ты не заставишь, — подумал Мечислав Сливинский.
Они удалились, и вскоре высокий гость, в обществе Боно Рито и доктора Кребса, сидел в уютной столовой японца. Лакей наливал душистый коньяк из ограбленных французских подвалов.
Бывший посол любил поесть. Еда была идеалом его рыхлого обрюзгшего и обвисшего тела. Боно Рито знал эту слабость своего прямого, могущественного шефа и позаботился о роскошном обеде.
Гость подслеповатыми, маслянистыми глазами осматривал стол.
— Даже икра! И, кажется, русская! О, это прекрасно… русская икра великолепна! — воскликнул Линкерт. — О, прекрасно!
— Пожалуйста. Отведайте замечательный сыр из Голландии! — протянул фарфоровую доску Кребс.
— Может быть, превосходные норвежские сардины, — предложил Рито.
— Поляки — мастера делать прекрасную колбасу. Эта хранится свыше двух лет, — не унимался Кребс.
— Прекрасно! Прекрасно!
Они подняли бокалы с отсвечивающей золотом влагой.
— За ваше здоровье, гениальный Боно! За успех и торжество нашей идеи, за покорение мира!
— За покорение мира!!!
— Чудный коньяк! Ба, да ведь это же настоящий, отборный «берти», моя любимая марка… Э, да я еще вижу здесь и божественную влагу вдовы Клико!
— Это — военные трофеи! — улыбаясь, ответил Кребс.
— Ваша научная концепция пришлась как раз по духу и оказалась в полном соответствии с нашими политическим доктринами, — расточал похвалы Линкер.
— Благодарю вас.
— Вы один из немногочисленных, выдающихся и замечательных людей нашей эпохи, подымающих на небывалую высоту мощь высшей арийской расы. Пусть живет непобедимая, как наша идея, дружественная ось Токио — Берлин.
Посол дрожащей и неуверенной рукой поднял бокал.
— Вы забыли вспомнить о третьем конце оси, — вкрадчиво добавил подхалимствующий Кребс.
— О, эти макаронщики не достойны своих великих предков. Мы, германцы — новые могущественные римляне двадцатого века. С такими роботами, созданными здесь, использовав их труд, мы сможем покорить мир. Я рад, что живу в такую замечательную эпоху.
— Благодарю вас за такую высокую оценку моих открытий! — оскалившись, ответил японец, укладывая на софу засыпающего от выпитого Линкерта…
10. Приготовьте порцию «камикадзе»
Чрезвычайный уполномоченный министр, запершись в своей главной квартире, никого не принимал. Он задумался.
Последние оперативные военные сводки с фронтов приносили большие огорчения и разочарования, перераставшие в основательное беспокойство. Фронт, катившийся лавиной с двух сторон, сметая с лица земли последние лучшие дивизии, все туже сжимался кольцом и приближался к столице.
Гвардия фашизма домалывалась в грандиозной мельнице войны.
Министру невольно вспомнилась печальная судьба Наполеона.
— Если они победят, тогда нас ждет участь похуже, чем узника острова «Святой Елены»! — прохрипел он. — Наши враги бросили такой колоссальный перевес сил и материалов, и мы… мы задыхаемся… Над страной хозяйничают американцы и англичане, с воздуха разбивающие наши города, выводя из строя транспорт… Мы задыхаемся! Я — мозг страны и обязан думать…
Мозг, запрятанный в небольшую черепную коробку, напряженно, до боли, мыслил всеми своими извилинами.
Министр нервным подергивающимся галопом метался из угла в угол большого кабинета. Человек с тяжелым министерским портфелем был узником давившего тяжестью грубой архитектуры здания, напоминавшего огромный окованный солдатский сапог.
— Мы должны провести сверхмобилизацию. Собрав и применив все средства, перейти от нападения к обороне. Иначе…
Он ясно представлял, что произойдет, если будет «иначе»…
Фантазия, работающая в направлении изобретения чего-то сверхъестественного, магического, таинственного и такого могущественного, что могло бы повлиять на исход войны — увлекла министра. Он перебирал в памяти все и слегка упрекнул себя, что мало интересовался тибетскими тайнами. Правда, он знал, что министерство вооружения готовит страшную новую бомбу… Но ведь техника… Министр уже сомневался и в технике. Он хотел чего-то особенного.
— Черт! Даже самой блестящей техникой мы не в состоянии победить. Нужен полный переворот, который направил бы войну в принципиально новое русло… Они изобрели «Радар», при помощи его проникают в толщу глубин и находят там наши подводные лодки. Враг, как искусный врач, слушает «Радаром» порок германского сердца… Черт!?!.. Да ведь есть же такой черт!
И министру ясно вспомнилось желтоватое бесстрастное лицо, подвижные раскосые глаза и хитрая коварная улыбка ученого с таинственного острова. — Идея! Мне стыдно самого себя!.. К черту ложный стыд! Когда дело идет о спасении нации, тогда министр имеет право протянуть руку самому дьяволу…
Секретарь удивленно взглянул на подергивающееся в судороге лицо министра и молча поставил перед ним стакан холодной воды.
— А, это вы? Вызовите шофера, пусть приготовит машину к дальней поездке, — приказал министр.
— Есть! — по-военному щелкнул каблуками секретарь…
Блестящий «Мерседес-Бенц» появился в альпийских предгорьях. Удивленный столь неожиданным визитом, доктор Кребс почтительно, но с некоторой опаской принял министра.
— Где ваш японец? Как его успехи?
— Японец работает и небезуспешно.
— Я его хочу немедленно видеть.
Доктор вышел. Министр ходил по просторному кабинету Кребса. Под ногами скрипел рассохшийся дубовый паркет. «Чрезмерно топят, не экономят угля, а каждые три килограмма угля — это легкая граната, центнер — солидная авиационная бомба», — подумал министр. Взглянув на свои сапоги в сизой пыли и, заметив трещину, прошептал:
— Истрепались. Все некогда… Чинить или новые? Как экономному немцу, в виде примера для народа, очевидно, придется отдать в починку… Где же этот японец?.. Он, министр и ариец, должен ждать какого-то жалкого желторожего.
Медленно тянулись минуты ожидания для нетерпеливого посетителя обезьяньего заповедника. Наконец, появился Боно Рито.
— Господин министр! Чем объяснить такую высокую честь, как личный визит? — спросил японец.
Министр — врожденный оратор. Он без особо долгих приготовлений, экспромтом произнес речь.
— Мы мобилизуем все внутренние ресурсы для преодоления врага. Мы должны использовать все возможности, все, что осталось у нашего народа — мы бросим для разгрома наших врагов. Мы применим новые виды оружия, на руководящие посты выдвинем новых людей. Моряк, потопивший флот противника, достоин звания адмирала. Адмирал же, потерявший флот, теряет звание простого матроса!
— Гениально! — произнес Боно и подумал: «Собственно, куда он клонит?» — Подобострастно внешне, с ехидной злобой внутри, слушал речь.
— Мы мобилизуем лучших спортсменов и пловцов. Они в туман и непогоду, нагруженные минами, доберутся к вражеским кораблям и неожиданно взорвут их. На каждого немца обрушиваются неприятельские эскадры и эскадрильи. Численность наших врагов — около миллиарда, а нас меньше полутораста миллионов, вместе со всеми союзниками. (При воспоминании о союзниках министр, не скрывая досады, брезгливо поморщился, и это не прошло мимо наблюдательного взгляда Боно Рито). Но мы должны применить военную хитрость. Применив ее, каждый рядовой должен уничтожить десяток врагов, а герой сотню!
Вражеские самолеты и танки должны загораться в воздухе и в предпольи, не доходя до наших позиций. Изобретатели работают над применением ультракоротких волн, небывалыми замораживающими бомбами и новейшим сложным оружием. Спортсмены, парашютисты и лыжники тренируются для особых заданий. «Путешественники» — пробираются в тылы врага и там взрывают военные заводы, сеют панику, порождая тревожные, беспокоящие неприятеля слухи…
Война переходит в новую, завершающую фазу. Мы должны или победить или погибнуть!
Я — чрезвычайный уполномоченный по ведению тотальной войны — ставлю перед вами прямой вопрос: что вы можете дать конкретного к весне 1945 года? Нам нужны бесстрашные пилоты. Ваши соотечественники имеют камикадзе, жертвующих своей жизнью. Но для нас, европейцев — это выше понимания. Не можете ли вы что-нибудь придумать? Я помню вашего бравого пилота… Если бы нам удалось воспитать тысячу таких пилотов…
Министр пристально смотрел на японца. Тревога его в ту минуту совершенно не волновала Боно Рито. Но ученый смотрел глубже на вещи — поражение здесь — ему может стоить жизни, а умирать, не испробовав всей силы дьявольской власти, не хотелось. Неужели многолетний и кропотливый труд не увенчается успехом?
— Этот вопрос не только теоретически, но и практически разрешим. Но нужно время.
— До весны выдрессируете? — нетерпеливо спросил министр.
Боно Рито молчал, но тут в разговор вмешался Кребс и, обращаясь к коллеге, с жаром произнес.
— Господин Боно Рито! Мы должны поставить все на ноги, а если нужно, и на голову, для выполнения этого приказа! Может быть, сократить опыты с препаратом, требующие много времени… Если разрешит господин министр?..
— Что за опыты? Это, эти… Роботы? — спросил отрывисто министр.
— Так точно.
— Но ведь это же одно и тоже?
— Не совсем, господин министр, — и Боно Рито вкратце об'яснил положение.
Глаза министра зажглись.
— Что!?! Что!?! Я с вас сдеру шкуру живьем, доктор Кребс, если вы посмеете сокращать опыты. Бросьте сюда все! Не жалейте ни затрат, ни людей!
— Слушаюсь… Виноват… — лепетал Кребс.
— Однако, — перевел дух министр, — камикадзе нужны тоже. Скоро мы будем иметь новое оружие и там они незаменимы. Пока это тайна, даже от вас. Но скоро к вам прибудет комиссия по координации ваших работ с исследованиями и производством этого нового оружия.
Мы еще удивим мир!..
Часть пятая
ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА
1. Цена приятного вечера
Магда Рито была приятно изумлена, увидев Мечислава Сливинского. Серый костюм, хотя и с чужого плеча, но довольно плотно облегал его стройную фигуру.
— Вы сегодня не похожи на вчерашнего гостя и выглядите совсем европейцем.
— Я склонен думать, что вы почему-то считаете поляков не европейцами. Вы, очевидно, идейная нацистка? Мне бы хотелось услышать от вас веские доводы превосходства вашей расы? — иронически спросил Мечислав.
— Вы ошибаетесь, считая меня последовательницей расового учения, — ответила Магда, уклоняясь от темы и не принимая вызова.
Они прошли в будуар, напоминающий массой разложенных и расставленных безделушек витрину богатого ювелирного магазина. В убранстве комнаты соревновались два стиля: современная, удобообтекаемая мебель и мягкие, восточные ткани, подушки и драпировки мирно ужились вместе, создавая особый уют.
Мягкий и низкий диван с шелковыми подушечками, письменный стол, легкие бамбуковые этажерки с книгами, отнюдь не претендовавшими на ученость. Легкие романы в пестрых суперобложках, довольно нестройно, местами даже небрежно, стояли на полках. На столике резного ореха с полированным зеленым малахитовым кругом дремал, погрузившись в безмолвие, бронзовый Будда. Рядом, на резной шкатулке, стояли семь белых слонов, приносящих счастье.
На синем, как южная ночь, драпри над индийскими пагодами летали шитые серебром птицы. На письменном столе смеющийся, обнаженный негр из черного оникса держал в вытянутой руке светильник.
Убранство комнаты, терпкий запах лаванды и еще каких-то неведомых духов создали у Сливинского впечатление, что он попал в притвор таинственного храма.
Усевшись в удобное, мягкое кресло, гость украдкой наблюдал за хозяйкой, сервировавшей на маленьком китайском столике какую-то трапезу.
Шуршал шелк вечернего платья, плотно облегающий фигуру Магды. Она, закончив приготовления, села рядом, включив радиоаппарат, из которого сразу же донесся обрывок речи:
«Немецкие войска оставили Варшаву»…
«Так уже освобождена столица Польши» — подумал он.
Магда молча посмотрела на гостя.
— Это должно вас порадовать, — улыбнувшись, проговорила она.
— Да, вообще говоря, это меня радует. — Они помолчали. Сливинский, немного спустя, добавил:
— Но мне кажется, что горькая чаша, уготованная польскому народу, выпита еще не до дна… — Он поднялся со своего места, тяжело дыша остановился перед Магдой и медленно, с трудом и болью выговорил:
— Вы представительница того народа и тех людей, которые жестоко изранили мою страну. Вы — мой враг. Я пленник. Забитое и искалеченное существо, с которым можно делать все, что заблагорассудится: можно подвергнуть его каким-то подозрительным медицинским экспериментам и можно, как собаку, привязать к себе, позволив несколько часов почувствовать себя человеком. Я не знаю, что руководит вами, но знайте одно: в судьбе пленника могут быть какие угодно испытания, но заставить его забыть, что он пленник — нельзя. Нельзя излечить израненное сердце, одев на него «европейский», как вы выражаетесь, костюм.
Моя мысль свободно проникает сквозь стены этой комнаты и колючую проволоку к моему народу — и я не знаю, хорошо ли вы делаете, задумав немного развлечь меня сегодняшней затеей с переодеванием. Я могу еще больше возненавидеть тех, кто стоит за вами, и, может быть, решиться на что-нибудь отчаянное.
— Вы горячий патриот… — не то сказала, не то спросила Магда.
— Да, я горячо люблю свою родину.
Магда опустила потухший взор; ей стало мучительно больно. Он — патриот, у него есть то, из-за чего и для чего стоит жить, что-то делать, терпеть плен и, может быть, умереть. А она? Кто она? Патриотка какой страны? Для чего и для кого живет она? Пусто… Пусто… Пусто…
Мрак…
— Счастливы ли вы, Магда Рито? Удовлетворены ли вы в своих желаниях? — слышит она вопрос.
Душа ее томится от скуки, от каких-то непонятных порывов, одиночества, неудовлетворенности… Но Магда слишком горда… Закинув голову, она говорит изменившимся тоном:
— О, мой дорогой гость! Оставим эти темы и проведем вечер беззаботно и весело. — Придвинув к креслу Сливинского низенький столик, она села за него сама. Кексы, раскупоренная коробка сардин, вино…
— К чему такое беспокойство? Однако я бы солгал, сказавши, что все это оставляет меня равнодушным. В дополнение к вашему обществу — еще и это! Это действительно — приятный вечер.
— Вот и отлично.
— Благодарю вас…
— Выпейте. Это живительный напиток, — улыбаясь блестящими глазами и кокетливо склонивши голову, произнесла Магда, подняв бокал.
«Отрава» — мелькнуло в уме… «Нет, не может быть!.. Впрочем, не все ли равно!» — Мечислав тоже поднял бокал.
— За ваше здоровье!
— Прост! — коротко ответила по-немецки Магда и пригубила золотистую жидкость. Легкая полоска кармина осталась на краешке стакана.
Он выпил до дна. Крепкий напиток растекался тончайшими струйками по телу, едва коснувшись мозга.
Беседа затянулась долго. Сливинский был обаятелен. Он смеялся, шутил, был очаровательно любезен, сыпал остротами и комплиментами. Магде казалось, что сквозь настежь открытую дверь ее сердца вошел долгожданный, желанный гость… Что это — любовь?
Теперь, Магда могла бы сказать уверенно: — «Да».
Она поставила пластинку и из аппарата полились, наполняя комнату, мягкие, зовущие звуки танго. Потом они танцевали. Сердце Магды бурно колотилось, вздымалась грудь.
Где-то внутри, далеко-далеко и глубоко в сознании Мечислава Сливинского звенели серебряные колокольчики:
«Лю… ци… на…»
Сливинский остановился и, взяв обеими руками голову Магды, поцеловал ее. Она затрепетала.
— Вы редкая и славная девушка, Магда… Я мог бы полюбить вас, и полюбил бы, если бы в далекой Польше не осталась девушка, которую я люблю больше жизни.
Магда резко отстранилась… Чары развеялись. Так вот в чем дело! Дикая, необузданная натура девушки прорвалась с неожиданной силой. Сознавая, что теряет контроль над своими чувствами, она отпрыгнула, как дикая, разъяренная кошка..
— Девушка!.. Нет больше девушек! Нет!!! Они не стоят любви, которая больше жизни. Девушки здесь — они жены орангутангов и горилл… Павианов и гиббонов… Они матери нового племени — полулюдей-унтерменшей… Вот, вот, вот! — истерически выкрикивала она в каком-то опьянении злостью и желанием сделать как можно больнее стоявшему перед ней с широко раскрытыми глазами человеку…
Человек побледнел и, покачнувшись, будто от сильного удара, должен был схватиться за край стола, чтобы не упасть… — значит это правда?
Он не раз слышал толки об этом чудовищном предприятии, которое проводится в этом проклятом Богом месте… Но слухи как-то не доходили до сознания… Он думал, что это плоды досужей фантазии.
Мечислав бросился в ванную, где лежала его полосатая униформа, срывая с себя на ходу ставшие омерзительными серый костюм, галстук, воротничок…
Как он выберется отсюда без помощи Магды, которая знала, как устраивать это, как доберется в свой барак, куда и как он вообще доберется? — он не думал…
Бежать! Бежать!! Бежать!!!..
А пришедшая уже в себя Магда в порыве горького и такого же импульсивного, как и бешеная вспышка, раскаяния лежала на кушетке, дрожа от неудержимых рыданий, заливая ее слезами отчаяния, потоками лившихся из ее глаз…
2. Подземные пираты
Слегка сутулый, в черном костюме и продавленной шляпе, доктор Кребс стоял в подземной лаборатории. Пятисотватная лампа ярко освещала подземелье. Силуэт доктора ложился на белую стену и напоминал известную тень, украсившую в одну ночь все заборы Германии.
Два молоденьких офицера подтрунивали над этой тенью и, улыбаясь, показывали на спину Кребса, шепотом добавляя недостающее:
— Пст!
— Алло… Кто это? 17-11-44 В. С. К..? Когда же вы мне… Это Кребс… Когда вы мне отправите в «Бюро Боно Рито» детали: двести семь и двести девять?
По мере того, как он слушал, беспокойство нарастало и черная тень набегала на лицо хозяина тени.
— Сто чертей? Что, что? — переспросил он… — разбомбили завод… Когда же вы отремонтируете? Что… В двадцати километрах фронт? Да как же это, а?.. Вы отвечаете или нет?..
— Фу ты! — добавил он, уже обращаясь к самому себе, — они перестали отвечать. — Кребс швырнул трубку, повисшую на запутавшемся шнуре. Доктор упер взгляд в зеленую вязь гибкого шнура, попробовав его мягкость рукой.
Гудящий вентилятор, нагнетающий свежий воздух с вершины горы, выдыхал огромными металлическими жабрами освежающие струи в подземелье. Под ним остановился доктор, раскрыв рот, как выброшенная на берег рыба. Надышавшись, он прошел в главный зал лаборатории. Крашеные белые стены слезились мельчайшими капельками влаги.
У расщепленной на секторы огромной аэродинамической трубы стояла группа молодых офицеров авиации, выслушивая инструкцию по метанию и действию новейшей бомбы: У-А-1.
— Заряд «А» действует как детонатор, начиная процесс, мгновенно развивающий колоссальную, неведомую еще человечеству, разрушительную силу… В завтрашнем полете эти бомбы обрушатся на врага и весь мир удивится изобретениям германских ученых.
Доктор Кребс рассматривает лежащие на стеллажах небольшие, не более десятикилограммных, бомбы, окрашенные в нежно-серебристый цвет.
Лектор любовно и нежно погладил их рукой.
— Если бы мы имели их втрое больше, мы могли бы одним ударом уничтожить весь британский остров, но имеющейся у нас порции — уже достаточно для Нью-Йорка… Многомиллионный город, со всеми небоскребами, превратится в пыль в указанную минуту. Мы подавим Соединенные Штаты морально. Это будет Пирл-Гарбор, увеличенный в миллион раз!
— О! О-о-о! — несется по подземелью пиратов.
— Я предвкушаю, когда плодом нашей работы будет господство во всем мире… Мы разрушим страны, сметем с лица земли города и целые народы, мы заморозим чудовищным холодом в 270° весь английский остров, уничтожив там все живущее! Разрыв нескольких бомб волной небывалого холода зальет остров и даст нам победу! Представьте себе премьер-министра, превратившегося в сосульку…
Кребс слушал. Он знал, что если бы эта бомба у них была несколько раньше… Если бы раньше… А теперь!.. Теперь эти бомбы безвредны, как обычное железо… Части 207 и 209 — никогда не придут…
Он нервничал… В него заползла змея сомнения и подтачивала его порочное нацистское сердце. Доктора позвали к телефону.
— Да, да. Это я… Кребс… Приехать… телеграмму… я сейчас запишу.
Доктор выводил в блокноте текст:
«Доктору Кребсу. Альгау…
Если любишь меня — мы должны отпраздновать нашу свадьбу немедленно.
Мне надоело ждать. Твоя маленькая Эльза».
— А, а, а! Она сошла с ума! — воскликнул Кребс. Он подошел к клети и стремительный подъемник выбросил его из запрятанной под землею, модернизированной условиями войны лаборатории на поверхность.
Вокруг горы, покрытые сумерками, стерегли безмолвие…
3. Выигранный гамбит
Один за другим проходили живые роботы перед глазами Магды Рито. Привычными движениями она смачивала антисептиком кожу и вспрыскивала несколько кубических сантиметров препарата «S.U.-147».
Бессловесные и одинаковые люди проходили перед ней безразличной вереницей. Фактически, это были уже не люди, и только номера нашитые на полосатую, так плохо защищавшую от холода одежду отличали их.
Один из роботов, пристально вглядываясь в лицо Магды, вдруг неожиданно, полушепотом спросил:
— Вы Магда Рито?
Девушка резко подняла голову и пристально посмотрела на говорившего: «Где она видела это, такое знакомое лицо?» Какое-то отдаленное, еле уловимое сходство, было в глубоко запрятавшихся в орбиты серых глазах. Постепенно в лохматой берлоге бровей оживали глаза.
— Вы не брат?.. — начала она.
— Я единственный сын моих родителей… — перебил робот.
Магда продолжает пытливо всматриваться и с недоверием спрашивает:
— Неужели это ты?
Невозможно было в этом исхудавшем, постаревшем, с заросшим лицом человеке узнать прежнего гейдельбергского студента. Магда, все еще сомневаясь, пристально вглядывалась в серое лицо. Погасла улыбка, провалились щеки… Под глазами — глубокие, синевато-багровые болезненные впадины.
— Да, Магда… Я тот, который помнит прекрасные вис-баденские дни.
— Но, Боже! Что сделали с тобой?
— Я здесь. Думаю, что это достаточное разъяснение для тебя.
— Ты, очевидно, голоден?
— Очевидно, Магде Рито — лучше известен рацион живых роботов…
— Откуда ты знаешь это название? — спросила Магда.
— Знаю, Магда. И видишь, несмотря на все старания, не на всех действует препарат, оскопляющий разум. Это потому, что моя цель — выйти победителем из этой борьбы.
Девушка говорит, как во сне…
Перед ней стоит тот, кому она отдала себя и вот, теперь — теперь он ей совершенно чужой. Может быть, это потому, что он перед ней сейчас в таком непривлекательном виде? О, нет, нет! Тот, другой — был не в лучшем виде, когда впервые она увидела его… Нет, нет! Да разве возможны сравненья?
Тот, другой — помнит девушку из Польши — но это ничего… Только бы видеть его, слышать его голос! Она нищей пойдет за ним куда угодно, она готова быть для него всем, даже рабыней сегодняшнего раба, подстилкой, о которую он будет вытирать ноги…
Магда протягивает банку.
— Вот витаминные шарики, они тебе необходимы… Прошу, возьми вот это, — протянула еще сверток с бутербродами.
— Благодарю, Магда!
— Ты должен поправиться… Я тебе приготовлю еще еды, концентратов.
— Счастлива ли ты, Магда? Удовлетворила ли ты все свои честолюбивые желания, свои фантастические планы? Добилась ли ты счастья?
— Оставим это. Когда ты придешь в следующий раз, я приготовлю пакет с едой.
— Стой… Я спрашиваю, нашла ли ты свое счастье?
— Может быть, да, может быть, нет… — загадочно улыбнувшись, ответила девушка, — но, повторяю, оставим это.
Он плюнул в угол, как бы чем-то раздосадованный, и этот плевок заставил Магду поежиться.
— Так я тебе скажу — ты не нашла и не найдешь здесь счастья.
— Возможно.
— Куда ты уехала так неожиданно?.. Тогда из Висбадена?
— Меня забрал отец.
— Слушай, Магда, конец войны близок. Поражение на носу… Эту войну они проиграли благодаря своему гнусному варварству в отношении к побежденным.
— Зачем ты мне все это говоришь?
Бывший студент чувствовал, что почва из-под ног ускользает. Прежде, в висбаденские дни, эта девушка так не вела себя. После минутного раздумья он решил играть «ва-банк»…
Раздумывать было нечего. Оставалась единственная ставка.
— Ты больше не любишь меня, Магда? Ты забыла дни нашего счастья?
Магда вздрогнула и подняла глаза.
— Я помню эти дни и… прости меня! Ничего, кроме раскаяния, не чувствую… Вероятно, я вовсе не любила тебя никогда, а была просто глупой девчонкой…
План явно рухнул, но он еще не сдавался:
— Если даже и так, то ведь я люблю тебя… Во имя тех дней, помоги мне, Магда!
— Если смогу — охотно, поверь мне…
Он еще яснее и отчетливее понял, что играть роль больше нечего и надо идти напролом.
— Во-первых, помоги мне передать отсюда письмо… Совсем коротенькую, маленькую и никому не понятную записку.
— Зачем это?
— Это?.. Это нужно, Магда… Для моего спасения. Неужели ты так жестока, неужели память о тех днях…
— Ты сказал «спасения»? Послушай! Все, что я имела тебе сказать — я уже сказала и мне добавлять нечего. Не заводи больше разговоров о любви… Но в память тех дней, хотя они и доказали мою ветреность и глупость, я действительно помогу тебе…
— Вот это здорово! Молодец ты, Магда. Завтра я принесу тебе эту записочку, ты только…
— Не нужно никаких записочек. Я спасу тебя. Клянусь памятью своей матери, я спасу тебя. Отец не откажет мне, и ты уйдешь отсюда, как свободный человек, — решительно сказала Магда.
— Что?! — воскликнул он. — Это невозможно!
— Это будет нелегко, но возможно.
— Нет, нет! Оставь эту мысль. Может быть, потом… Несколько позже…
Взгляд Магды стал твердым. Несколько секунд она смотрит, как бы стараясь проникнуть в самую душу стоящего перед ней. Потом, медленно и подчеркнуто спокойно, говорит:
— Теперь мне ясно все. Теперь я знаю, кто вы…
Глаза ее собеседника растерянно забегали по амбулатории!
Не отводя своих глаз, Магда продолжает резким, металлическим голосом:
— Я не люблю вас вообще, но человек, пользующийся такими методами —: мне омерзителен. Я благодарю Бога за то, что вовремя разглядела вас. За то, что никогда не любила вас, даже отдавшись вам по своей девической глупости. Я делаю глупость, выпуская вас. Идите… Если сейчас я выдам вас, мне всегда будет казаться, что я сделала это из чувства мести. — Уничтоженный, перебирая хаотичные мысли, толпящиеся в голове, он не находил выхода. Такое многообещающее начало и… такое фиаско… Он оскалил зубы.
— Не думай, что от меня так легко отделаться! Ты передашь эту записку или…
Магда нажала кнопку звонка и в комнате появился Бредель. В это время раздался неожиданный шум, звон бьющегося стекла и глухой звук падения чего-то большого и грузного. Бывший студент, хватаясь за мебель, безжизненно рухнул на пол.
— Обморок! Подумайте, какие нежности! — проворчал Бредель.
Через минуту двое служащих уже выносили обмякшее тело из кабинета.
В плотно зажатом кулаке была затиснута маленькая ампула с бесцветной, мутноватой жидкостью, ловко и незаметно схваченная со стола во время падения.
Отдавая себя в жертву страшному плену, бывший гейдельбергский студент, он же Фриц Бауэр — знал, что начинает игру сложным и рискованным гамбитом…
Сегодня он торжествовал победу…
4. Тайны мозговых извилин
В предрассветном тумане чья-то еле заметная тень отделилась от стены, задрапированной желтеющими листьями плюща, тронутыми первым ноябрьским морозцем. Серая мгла бережно окутала таинственной пеленой и скрывала крадущегося человека. Местами ползком, порою вперебежку, он пробирался через колючую проволоку.
С бесчисленными ухищрениями, припадая к земле, залегая, он пытался уйти… Он нащупал у самой земли проволоку, поднял ее и до половины просунулся в рискованную лазейку. Но это пустяки. Больше всего его беспокоил электрический ток в следующей ограде. Как-то он там пройдет?..
— Хальт! — Резкий выкрик сковал мысль о следующей преграде. Еще мгновенье и три восьмимиллиметрового калибра пистолета в упор нацелились на человека.
— Хенде гох!
Медленно поднялись полосатые рукава.
В кармане оказалась пробирка с бесцветной жидкостью и какие-то непонятные записки…
Через несколько минут, жестоко избитый резиновыми шлангами, человек превратился в узника небольшой, тщательно зарешеченной тюремной камеры…
Услышав о пробирке в кармане задержанного, Боно Рито захлебнулся и прохрипел в телефонную трубку.
— Приведите мне этого любителя ночных прогулок.
— Яволь! — гаркнул ответ.
Спустя несколько минут в лаборатории появился избитый и оборванный человек.
— Здравствуйте, дорогой! — иронически процедил Боно Рито.
Тот молчал, раздумывая: «Японец… Вероятно, отец Магды?».
— Садитесь. Я хотел бы серьезно поговорить с вами, — произнес Боно.
— Ну что ж, потолкуем, — ответил человек. Его тело болело и ныло от побоев и еще несколько секунд тому назад он был уверен, что погиб и никакая случайность не спасет его. Но теперь, слова японца наполнили его вдруг неожиданно и ярко вспыхнувшей надеждой: ага, война идет плохо, и японец, очевидно, не прочь договориться, предвидя близкий разгром. Может быть, даже он сделает предложение… Сердце запрыгало: он понял, что может не только спастись, но и сделать свое дело. Он сел, развалясь, хотя сделал это больше для куража, так как избитая спина заныла при прикосновении к спине кресла.
Боно Рито пристально следил за игрой выражений, меняющихся на его лице. Некоторое время царило молчание. Злой осенний ветер как-то особенно откровенно и нагло шарил в сухих листьях близ растущих деревьев. Японец барабанил пальцами по столу.
— Скажите, любезный, почему вам пришлось не по вкусу наше гостеприимство и вы решили покинуть нас, даже не попрощавшись?
— Мне кажется, что и вы не прочь были бы прекратить пользоваться гостеприимством страны, которая не сегодня-завтра будет положена на обе лопатки.
Теперь он ликовал — он ведет разговоры, как признанный государственный муж. Судьбы народов и стран у него в руках.
— Допустим, что вы правы. Но зачем вы все же решили оставить нас?
— Здесь плохо кормят…
— А почему в вашем кармане оказалась вот эта ампула? Это, надо думать, сувенир в память вашего пребывания здесь?
— Хе-хе… Вот именно. На память.
— А вот эти записки, которые однажды исчезли у меня? Они не годятся в качестве сувенира. Как они к вам попали?
— Слушайте, уважаемый ученый! Бросим играть в прятки и перейдем к сути… Какой смысл продолжать работу для страны, которая одной ногой уже стоит в могиле? Ведь я вижу вас насквозь…
— Очень, очень хорошо! Вы проницательны. Так скажите же мне, пользуясь вашей проницательностью: что произойдет… скажем, через полчаса?
— Я подумал бы, что меня могут расстрелять, но я вижу, что вы умный человек и поэтому меня не расстреляют.
— Очень, очень хорошо! Превосходно!! Чудесно!!! Ваша проницательность вас не обманула. Вас действительно не расстреляют. Однако, вы сказали, чего не будет и уклонились от ответа на вопрос — что будет?
Что-то в тоне собеседника не понравилось «студенту» и он, нервно передернув плечами, сказал:
— Ну, переходите к делу. Я слушаю…
— Сейчас, любезнейший. Итак, вы в затруднении?.. Но я вам помогу, — японец взял лежавшую на столе злополучную ампулу и показал ее собеседнику, — вы интересуетесь этой жидкостью, не правда ли?
— Именно! — в восторге воскликнул тот. — Очень интересуемся.
— Так вот, драгоценный, я намереваюсь удовлетворить ваше любопытство.
Японец позвонил и в лаборатории появилось несколько дюжих служителей в черном под командой Вилли Бределя.
— Спеленайте его, — приказал японец.
«Студент» боролся с яростью отчаяния, но не прошло и минуты, как он лежал крепко связанный, а вскоре, объятый животным страхом, висел уже подвязанным к современному орудию, очень похожему на средневековую дыбу.
В лабораторию вошел Рахия.
— Рахия! Токсино-сулемовый препарат… Посмотрим, какое он окажет действие на мозг этого проницательного юноши.
— Вот, господин Рито! — ответил тибетец, протягивая ампулу.
Японец разбил стеклянный сосочек о бронзовую статуэтку скованного раба, вобрал в шприц препарат и приблизился к связанному.
Еле качнулась дыба и сорок кубиков новооткрытой жидкости попали в кровь, моментально створаживая красные кровяные шарики и растекаясь по разветвлениям кровеносных сосудов страшным, разрушающим потоком. Второй укол в затылок, в область мозжечка..
Боно внимательно следил за действием препарата, делая заметки в своем крохотном блокноте.
Глаза человека постепенно покрывались синевато-красным налетом, а зрачки расширялись до предела. Лицо приняло землисто-синеватый оттенок, начались позывы к рвоте…
Человек, казалось, был выхвачен из пламени пожарища и невнятно бормотал нечленораздельные звуки. Голова склонилась на грудь, погружаясь в черную пучину беспамятства.
— Действие двойной дозы… Но как он ухитрился избежать нормальных прививок? Тоже странно… Восемь-десять кубиков токсинового препарата оказывают безусловно разрушительное действие на мозг и окончательно убивают мышление, — диктовал Боно. Тибетец тщательно записывал наблюдения над экспериментируемым. Оба ученых попеременно дежурили, не отходя от дыбы.
К концу второго дня, после вспрыскивания камфары и морфия, он едва пришел в чувство. Тибетец, смочив губкой его губы, протянул стакан воды.
Безжизненно склонившаяся голова не высказывала признаков жизни. Широко раскрытые глаза потухающим взором видели несколько раз приближаемый стакан воды, но иссохшиеся, потрескавшиеся губы не чувствовали ее вблизи, не тянулись к стакану.
— У него атрофирована вся нервная система, нет взаимодействия органов и совершенно парализован мозг. Мозг уже оскоплен! — радовался японец. — Но это чрезвычайно большая доза… Этот новый препарат, кажется, действует еще интенсивнее. Необходимо понижать дозировку… Завтра поставим новые опыты, снижая в каждом дозу на грамм.
— Придется проделать несколько десятков опытов? — спросил Рахия.
— Да, и не меньше полусотни, — бесстрастно ответил Боно…
В конце недели экспериментируемый потерял все сходство с человеком. Это был обгоревший на пожарище труп.
Боно Рито торопил тибетца с препарированием.
— Не дай ему остынуть…
…И Рахия, спустя несколько минут, принес на стекле еще дымящийся мозг. Боно Рито дрожащими руками схватил еще теплую серую массу и копался стеклянной палочкой в сложном строении мозга, пронизанного веточками кровеносных сосудов.
Исследование мозга показало японцу то, чего он не хотел бы видеть. Блестящим лейтцевским аппаратом он изготовил тончайшие срезы, наложил на стеклянные пластинки и рассматривал в мощный микроскоп…
— Полная атрофия клеток серого вещества… Мы в заколдованном кругу… Катализатора сегодня нет, так же, как не было пять лет назад. Процесс протекает слишком бурно, но у меня есть еще одна мысль!..
— Да!.. Ух! Гууу-аах! — где-то в долине посыпался град разрывающихся бомб. Разрывы становились все ближе. Жалобно звенели колбы и все лабораторное стекло вторило дрожащим эхом.
Японец поставил на стол мозг и испуганно произнес:
— Очевидно, придется пойти в бомбоубежище. Они не слазят с неба!..
5. Летающая обезьяна
В приемной Боно Рито, за круглым большим столом, отражающим на гладко полированной поверхности матовые блики роскошной люстры, заседали двенадцать высших штабных офицеров, особоуполномоченный правительства и заместитель министра вооружения.
Они пили кисленькое рейнское вино и, приложив руку к сердцу, часто повторяли:
— Прост!
— Прозит!
Офицеры беседовали о войне и военном счастье; вспоминали удачные боевые кампании, кичились овладением линией Мажино, но молчали о высадке в Нормандии.
Из обитой кожей двери кабинета вышел японец. Ответив на приветствие легким поклоном, без долгих проволочек произнес:
— Начнем, господа, деловое заседание! Наш научно-исследовательский институт осенью прошлого года получил особо важное задание правительства. Об этом все присутствующие хорошо осведомлены, но должен сказать от себя, что эта было очень трудное задание. Чрезвычайно нелегки были пути для разрешения поставленного вопроса. Но мы одержали блестящую победу, привлекая на нашу сторону живительные, движущие силы природы.
— Это очень интересно! — послышались реплики. Боно Рито, смочив глотку микроскопической рюмкой коньяка, продолжал:
— Страдания и наслаждения есть и всегда будут единственными движущими первопричинами человеческих поступков и прогресса.
Из всех удовольствий, бесспорно, сильнее всего действует на нас, сообщая нашей душе больше всего энергии, удовольствие, доставляемое женщиной.
Это заявление вызвало плотоядные улыбки на лицах менее пожилых офицеров и реплики:
— Бесспорно!
В хитрых, косых глазах японца, после каждой реплики одобрения, загорались искорки. Он продолжал:
— Природа, связав с пользованием благосклонностью женщин величайшее опьянение, создала один из самых могучих стимулов нашей деятельности, — перед мысленным взором Боно Рито на мгновенье возник торжествующий пятнистый олень… — «Да, — подумал он в паузе, — не будь этого красавца — едва ли я смог бы похвастать успехом». — Довольно улыбнувшись, он продолжал:
— Никакая другая страсть не производит больших изменений в человеке; ее власть простирается также и на животных. Робкое и трусливое животное, дрожащее при приближении даже самого слабого врага, становится отчаянно смелым. Под влиянием любви, забывая страх, оно часто нападает и вступает в драку с превосходящим в силе соперником. Нет преград и трудностей, перед которыми остановилась бы любовь.
Итак, эти скрытые движущие силы мы обуздали и запрягли в нашу работу для покорения мира. Мы — кучера скрытых еще неведомых нашим врагам сил.
— Браво! Браво!!!
— Это все прелюдия, господа. Так сказать, увертюра перед постановкой. Перехожу к конкретному изложению сути наших работ. Обезьяна — одно из самых похотливых животных и, пожалуй, может соперничать с человеком. Да, да, господа! Вот здесь то и квинтэссенция наших работ, — произнес с пафосом Рито и после небольшой паузы, посмотрев поочередно на всех офицеров, продолжал:
— На этом принципе нам удалось построить подготовку тысячи летчиков-камикадзе из выведенных гибридов человека-обезьяны. Они прекрасно управляют самолетом.
Группа камикадзе, под командой одного летчика-человека, на самолетах с сокрушительным грузом бомб, кинется на намеченный нами город..
— Браво!
— Весь вопрос в том, какой разрушительной силы взрывчатый материал будет употреблен для бомб.
— Мы постараемся, — ответил заместитель министра вооружения.
— Я кончил, господа. Теперь предложу вашему вниманию демонстрацию опытных полетов.
Гости в роскошных автомобилях выехали к аэродрому…
На старте стоял небольшой одноместный самолет «Хенкель». Несколько человек команды подготовляли машину. Унтер-офицер отправился к маленькому коттеджику и выпустил коренастую, несколько ниже человеческого роста обезьяну, одетую в обычный летный костюм.
Волосатый пилот в несколько прыжков достиг самолета и, не обращая внимания на блестящую свиту Боно Рито, уселся в кабину.
Пилот искусно поднял машину в воздух. Спираль конденсированного газа витками повисла над аэродромом.
Гости, развив бешеную скорость, мчались к посадочной площадке. Из-за зеленых ветвей буков и можжевельников в долине виднелся город небоскребов с высившимся «Импайр-Бильдингом».
Особоуполномоченный взглянул на едва улыбающееся лицо Боно Рито, предвкушавшего изумление гостей.
Автомобили мчались к огромному, самому высокому в мире городу. Над ним показался самолет. Описав несколько кругов, он совершил блестящую посадку. Из кабины выскочил с плутоватой, хитрой миной не знающий страха перед смертью, летчик. Его с удивлением рассматривали офицеры и военные специалисты.
Получив бутылку ликера, несколько кусков сахара и коробку лакомств, пилот, козырнув, помчался к небольшому коттеджу вблизи аэродрома. Выбежавшая на крылечко самочка радостно обняла своего друга и оба счастливца испустили крик радости.
Гости заглянули в окно — волосатый пилот, нежно обняв свою даму, угощал ее ликером и сластями.
— Ожидание этого часа, проводимого с подругой — делает гораздо больше палок и долголетней дрессировки… Конечно, и это не так уж просто, но, как видите — достижимо, — комментировал Боно Рито.
На аэродроме, искусно разрисованном небоскребами, офицеры удивлялись:
— Весною мы выпустим в воздух тысячи камикадзе, — сказал Боно Рито.
— Они повезут новое, страшное смертоносное оружие, — произнес генштабист.
— Бомбы будут готовы в марте, они спешно изготовляются на целом ряде объединенных в огромный комбинат заводов, — уверил представитель министерства вооружения.
— Часть самолетов уже получена, — доложил генерал авиации.
— И тогда крик триумфа застрянет в горле наших врагов! — закончил министр пропаганды.
6. Кобра становится на хвост
Магда раскаялась в тот же вечер.
Она полчаса извинялась и молила о прощении успевшего уже одеться в полосатую форму Сливинского.
И он простил. Эту девушку нельзя было не простить.
С тех пор она очень изменилась. Ее своенравная гордость исчезла совершенно; вызывающий тон, которым она разговаривала раньше, теперь не повторялся. Она была тиха, задумчива и грустна.
Встречи и вечерние тайные визиты продолжались. Сливинский не знал, как устраивала их Магда, — за ним приходил конвоир, забирал его из-за проволоки и доставлял в лабораторию, откуда Магда проводила его к себе.
Большим он не интересовался. С того памятного вечера не было сказано ни слова ни о девушках-матерях нового племени полулюдей, ни о любви. Интимности прекратились так же, но долгие задушевные разговоры доставляли удовольствие обоим.
В глазах Магды светилось кроткое и покорное обожание, «любовь души», как она называла его сама. Чувство, пришедшее после физической любви, в которой она так глубоко разочаровалась.
…Сливинский мирно беседовал с Магдой, когда около полуночи неожиданно в двери будуара раздался стук.
«Кто бы это мог быть?» — встревожено подумала Магда.
В дверях появился Боно Рито.
— Кто это? — резко спросил он побледневшую Магду.
— Это… мой подэкспериментный… Кстати, я тебе хотела сказать… я ставлю опыты по нейтрализации своих прививок…
— Кто же тебе дал на это право!?! — заревел взбешенный японец. Ему отчетливо вспомнилась картина встреч ее матери с Эриком Джонсом. — Ты такая же гнусная, как и твоя мать! Ты… Ты не существуешь больше для меня! Будь ты проклята!
— Отец!
— Так вот кто шпионил за мной!.. Моя дочь с этим ублюдком!..
В припадке чудовищной злобы, не владея собой, Боно Рито выхватил пистолет и направил его на Сливинского. Магда бросается между ними, гремит выстрел, и она, подкошенная, падает на пол…
На тигровую шкуру, у самой пасти пучеглазого зверя, течет кровавая струйка.
«Э, когда-то я интересовался боксом… может быть, он пригодится» — решает Сливинский. Ловкий и неожиданный выпад правой руки поверг рычащего Боно Рито на пол. Японец нокаутирован. Сливинский мысленно даже просчитал до десяти, но враг не подымался.
С сожалением и болью, опасаясь, чтобы выстрел не поднял тревоги, Сливинский быстро наложил тампон и перевязал руку потерявшей сознание девушки.
Вокруг все было спокойно. Он вынул из кармана японца и подбросил на ладони крохотный пистолет «Кобра» калибра 6,35. В боковом кармане он нашел связку небольших ключей из нержавеющей стали.
— Все! Здесь тебе нечего делать, Мечислав Сливинский. Быстрее узнай, что открывают эти ключи!
Обезопасив японца дополнительным ударом статуэтки, Мечислав выбежал на веранду. Он еще не опомнился от неожиданной молниеносности происшествия. Выживет ли Магда после тяжелой раны?
Неужели правда то, что она говорила? Он не верил или, во всяком случае, не хотел верить!
Но освободившийся узник знал, что тут есть особый барак, соединенный длинным коридором с городом обезьян. О нем-то и шли плохие слухи!..
Он направился туда. Ночью — никакого движения, никаких звуков. Мечислав беспрепятственно добирается к серому корпусу… Попробовал запертую дверь… Один из ключей входит в скважину…
В коридоре проснулся дремавший служитель. Он только мычит от неожиданности ночного визита и обалдело глядит на Мечислава тупыми и перепуганными рыбьими глазами.
Ловкий выпад hоок’ом в челюсть, upper-coat’oм в солнечное сплетение, и служитель хрипит под скамьей.
Сливинский бросается в коридор, напоминающий тюремный, заглядывает через небольшие, застекленные, как в тюремных одиночках, волчки, в небольшие камеры. В них темно…
В одной из камер не спали. На простом деревянном топчане сидела, поджав под себя ноги, женщина в изношенном салопчике и баюкала детеныша — серо-пепельную полуобезьянку.
— Так Магда не солгала! — вырвался возглас. — Она сказала правду! О, будьте вы прокляты!
Мечислав уже хочет оторвать взор от испугавшего его видения, но сидящая на мгновенье подымает голову и… в глазах Сливинского темнеет… Он протирает глаза… Это сон? Бред? Галлюцинация?.. Что это?
Сливинский затискивает зубами крик, готовый вырваться из его пересохшего горла. Так вот почему, так вот о ком звенели серебряные колокольчики:
«Лю… ци… на»…
«Лю… ци… на»…
Челюсти сжимаются с такой силой, что боль постепенно отрезвляет Мечислава.
Он был бы безумно счастлив и ничего больше не требовал бы от своей судьбы, если бы кто-нибудь уверил его: «Это не она. Она давно убита, умерла, похоронена»… Он тогда был бы безумно счастлив… Но сомнения быть не могло — Сливинский узнал свою невесту, ту, которая была его путеводной звездой, второй, после родины, целью его жизни…
Он хочет найти в своем воспаленном мозгу формулу… Они разрушили его страну, они уничтожили миллионы людей, они измучили и исковеркали его, но и этого мало — они захаркали его душу, растоптали в ней все самое святое, самое дорогое, так бережно хранимое долгие годы, они покрыли позором седины старого Симона!
О, будьте вы прокляты!
И она живет? Она смеет жить?.. Ходить по земле, дышать воздухом, глядеть на небо?.. Быть может, на ту звезду, на которую так часто смотрел он?.. Где же ее гордая кровь? Где же она? Где? Как может перенести она такое унижение и так спокойно баюкать это маленькое чудище?!..
— Нет, я помогу тебе вспомнить о том, что существует честь…
Пистолет «Кобра» давно уже жжет руку… В висках стучит. «Кобра» поднимается, становится на хвост, заглядывая хищным глазом дула через окошечко…
Сейчас она ужалит…
Нет…
— Бог тебе судья… — шепчет человек с израненной душой.
— Бог тебе судья.
И, прижав руки к пылающим вискам, он бежит, сам не понимая куда…
Сливинский метался по парку в поисках выхода, но везде натыкался на сплошную высокую стену, опутанную проводами. Он бросил мокрую хворостину; когда она коснулась проводов, брызнули зеленовато-синие искры короткого замыкания.
Стена под током. Отсюда так легко не уйдешь!..
А что еще за этой стеной! Он слышал и догадывался, что охрана организована идеально. Там дальше еще стены, еще ток, проволока, десятки рыскающих агентов, прожектора, пулеметы, розыскные собаки и даже минные поля. Нет, отсюда так легко не уйдешь. Подобные тайны надо хранить крепко. И они пока хранятся.
Безрезультатно испробовав все способы выбраться из заколдованного парка, он безнадежно опустился на землю. Брезжил мутный рассвет, в серой мгле предутреннего тумана вырисовывались здания лагеря, откуда-то снизу, все приближаясь к нему и становясь более настойчивым, раздавался собачий лай вперемежку с солдатской командой.
В лагере началась тревога. Пленнику пришлось вернуться в свой барак. — Так подсказывало благоразумие. Кроме того, его физические и моральные силы были исчерпаны до дна.
Он покорно принял несколько ударов палкой от сторожа. Ему было все равно. В тот момент его могли бы убить и он не поднял бы руки для защиты.
Несколько дней продолжались беспрерывные проверки и учеты, пока однажды всех их не выстроили на открытой площадке, еще раз подсчитали и под усиленным конвоем перевели в нижний лагерь у подножья горы…
7. Крысы бегут с корабля
— Алло! Алло! Доктор Кребс… Господин Кребс, — взволнованно взывал Боно Рито в трубку.
— Что вы еще хотите? — послышался раздраженный голос.
— Снова шпионы! Они наводнили весь заповедник. Ночью на меня было покушение… А, вы знаете… да, да я уже раз звонил… Но как же быть?
— Вы помешались на шпионах, профессор… Они вам чудятся везде…
— Они не чудятся… У меня крадут препарат, роются в секретных бумагах, а сегодня еще и избили в моей же лаборатории… Вы бездействуете… Я вынужден буду звонить самому Линкерту, — жаловался Рито.
— К черту! К черту! Звоните Линкерту и даже самому дьяволу… Вы бредите, сейчас не до вас и вашей идиотской вакцины! Все трещит, как разваливающееся в открытом море судно… Я не могу получить больше дистанционных трубок для новых бомб! Это поважнее! Они разбомбили завод, где вырабатывались эти трубки… Они взорвали поезд с готовыми детонаторами… Они…
— Что — они?
— Оставьте меня в покое! — завизжал Кребс…
Боно Рито в скверном расположении духа ушел в лабораторию. Через окно он видел, как в автомобиль Кребса несли ящики с шампанским и сардинами.
«Неужели его заместитель снова уезжает на пикник? „Пир во время чумы“», — недовольно подумал японец, нервно просматривая газету.
— Райх трещит! Крысы зашевелились, — произнес он, обращаясь к самому себе. Обстановка указывала на конец новой аферы, во много раз более важной, чем дело режиссера Бруклинского цирка…
— Рахия! Их не интересует больше препарат!
Тибетец молча взглянул на пожелтевшее и обрюзгшее от опия и неудач лицо японца, выражавшее недоумение и злость.
Но, как ни странно, в Боно Рито пробудилось слабое, едва сберегшееся чувство отцовства.
«Магда в больнице. Как она себя чувствует? Ох, уж эти институтки… Я виноват сам, что не поставил солдата в юбке — воспитателем дочери… И при смерти не сказала бы, кто был у нее в ту роковую ночь… и он исчез… но я имел смутные подозрения даже против своей дочери… Нет, тяжело быть диктатором, — жажда власти умеряется животным ужасом и страхом перед собственным окружением… если собственная дочь предает интересы отца, то что же дальше? Но все-таки, может быть, она теперь скажет? Нужно поехать к Магде. Она, наверное, обрадовалась бы, увидев… нет, не его… а маленького обезьяненка.
Этот полуобезьяненок — ее слабость…
Почему она так к нему привязалась? Носится с ним, будто это ее собственный детеныш… Наследственность. Ее мать тоже интересовалась детенышем обезьяны.
Надо навестить ее и привезти этого чертенка… Это ее, несомненно, немного развеселит.
Ну что же, он его потянет, как кормилица, или… да, впрочем, он вспомнил — Магда в порыве увлечения этой новой игрушкой приставила к ней особую няньку… Вот и отлично, она и повезет чертушку…»
Боно Рито быстро собрался и через час автомобиль мчал их в отдаленный курортный городишко.
В зеркале машины он видел подпрыгивающее лицо обезьянки и строгое, скорбное лицо ее няньки.
Японец старался не думать ни о чем, но мысли назойливо кружили черными воронами, чувствующими запах падали…
Боно Рито в частной клинике. Его дочь — богатая и привилегированная пациентка. Японец торопливо спросил врача:
— Опасность миновала?
— Да, профессор… Вашей дочери гораздо лучше.
— Проводите меня к ней.
Увидев отца, Магда отвернулась.
— Как ты себя чувствуешь?
В дверях стояла закутанная в черный платок девушка, смиренная, как послушница, держащая на руках обезьянку. Малыш издал писк. Магда протянула руку, позвала ее и знаков предложила сесть у кровати. Приподнявшись, она нежно погладила светло-серый, стального цвета, нежный пушок.
— Совсем как ребеночек, — улыбнулась она, но при взгляде на отца улыбка сразу потухла.
— Уйди! Уезжай вообще, оставь меня в покое. Я хочу, чтобы этот малыш до выздоровления остался при мне. Устрой няньке и ему квартиру и стол, — капризно сказала она отцу.
«Злой дракон! Вот что происходит от смешения крови…. Она так непочтительна с отцом», — подумал Боно Рито, чувствующий страшное неудовлетворение своей судьбой.
Его планы не сбылись и рушатся… Дочь?.. Он разочаровался в ней…
Боно Рито остался в небольшом курортном городке, совершенно не тронутом бомбардировками. Звенящее безмолвие лишь иногда прерывалось сиреной воздушной тревоги.
Он зашел в меблированную комнату, которую он здесь держал за собой.
— К черту работу… Я должен отдохнуть… Иначе — сойду с ума. Нужно взвесить обстановку, подумать, решить… Если у них там все трещит по всем швам, то может трещать и без меня.
Молодая, чистенькая офицерская вдовушка-хозяйка приветливо поздоровалась с ним.
Боно Рито разделся и с наслаждением вытянулся на кушетке. Черт возьми! Он давно уже не лежал так безмятежно и спокойно. Заповедник, лаборатории, частые визиты высокопоставленных лиц, постоянные требования и приказы — все это походило, особенно в последнее время, на сумасшедший дом…
Да и вся страна, вся ее жизнь казалась каким-то огромным сумасшедшим домом.
Веки сами собой закрылись…
Часть шестая
НА ГРАНИ НЕВЕДОМОГО…
1. Путешествие за черту жизни
Горы столпились в художественном беспорядке, седыми вершинами цепляясь за клубящиеся облака. Альпы словно зажглись и дымятся, напоминая огромные кучи тлеющего угля.
В седые времена циклопическая сила всесокрушающей лавиной прокатилась в долину, сглаживая серые скалы и, наворотив груду камней, остановилась… Огромные валуны остались немыми свидетелями давно растаявшего ледника.
Родившаяся в доломитовых горах река катила мутные воды, пенилась и шумела о камни.
На склонах гор начинались альпийские луга, поросшие сочной травой, с полянами тюльпанов. Их много, кажется, все горы укрыты ими…
Ажурное кружево металлических мачт с гирляндами высоковольтных изоляторов вонзилось в небо и, смело взбежав на вершину, протянуло звенящие и поющие на ветру струны искрящихся проводов.
Еле заметной тропою, гуськом, движется цепочка полосатых людей, подгоняемых вооруженным конвоем. Они один за другим исчезают в туннелях, тщательно замаскированных зелеными сетками. Внешне довольно мирный ландшафт — никто бы не подумал, что гора начинена огромным, шумящим военным заводом. В глубоких штольнях — масса движущихся машин. Сложнейшие копировальные автоматические станки, полуавтоматы, прессы, обрабатывающие, строгающие, сверлящие, вытачивающие станки — все это вырабатывало детали нового, страшного оружия. Все это прекрасно организованное предприятие готовило инструменты для уничтожения человека!
Мечислав Сливинский вместе с несколькими другими получил задание выгружать из вагонов длинные и тяжелые ящики с веревочными ручками.
— Очень тяжелая штука! Очевидно — взрывчатка. Уронить такой ящик, и тогда пусть что будет, — прошептал он.
Старший надсмотрщик, окрещенный идиллической кличкой «Голубой дьявол» за удивительной чистоты голубые глаза, каким-то чудом очутившиеся на свирепой морде золотисто-рыжего волкодава, видно, разгадал тайный замысел поляка и ни на минуту не отходил от него. «Голубой дьявол» был уверен, что роботы могут продуктивно трудиться, лишь под колючим, замораживающим, пристальным его взором.
В полдень утомленный Мечислав присел на огромный ящик, но перед ним вынырнули немигающие глаза цвета морской воды, а на голову, плечи и спину посыпался разорвавшейся шрапнелью град палочных ударов.
— Шнель! Шнель арбайт! — лаял волкодав…
С каждым днем между надсмотрщиком и охраняемым все более обострялись отношения. Они ненавидели друг друга лютой, звериной ненавистью, совершенно не скрывая этого, что, конечно, было менее выгодно для Мечислава Сливинского.
Ежедневно прибывали все новые вагоны с машинами, оборудованием и сырьем, ящики с взрывчатым веществом…
Однажды, в конце семнадцатого продольного штрека, стояли два инженера, оживленно беседуя:
— Интересно, каков будет эффект?
— Поразительная мощность… Разрушительная сила одной бомбы — равна десяти тысячам тонн динамита!..
— Ведь всего два десятка таких бомб, и весь их остров — фьюить!..
— Посмотрим. Но даст ли это немедленный перелом в войне?
— О, да! Конечно… Пст, пст… — утихающим крещендо прошипел один из собеседников, приложив палец к губам, и брезгливо покосился на медленно движущуюся тень проходящего вблизи человека.
— Ничего, — успокоил второй, — это же только бессмысленный робот-унтерменш. Ловко их обработал японец…
— Ну, хорошо! Итак, завтра ночью будет первая проба.
— Ровно в два пополуночи на врага обрушатся первые бомбы… Все приготовления уже почти закончены…
…Мечислав Сливинский сжал кулаки. Он знал из обрывков газет, что летом прошлого года немцы применили для бомбардировки Лондона новые летающие бомбы. Это еще тогда произвело гнетущее впечатление на польского летчика. Однако англичане мужественно выдержали этот штурм… И вот теперь на них обрушится еще что то более ужасное… Такое ужасное, что «весь остров — фьюить…»
…И у него рождается увлекающая все более и более идея.
«Сколько жизней поставлено под удар? А что, если?.. Может быть, смерть одного человека спасет жизнь тысячам, сотням тысяч! Миллионам!!! Может быть, приблизит победу союзников его страны. Тогда бы Мечислав Сливинский, не раздумывая отдал свою жизнь… Что стоит существование пленного раба в теперешних условиях? Ровно ничего.
Жизнь человека дешевле одной сигареты, дешевле клуба дыма…
У меня нет семьи, близких, родных, друзей и знакомых. Кроме единственной старушки-матери, никто не будет меня оплакивать. И даже невеста… Нет, он не хочет даже вспоминать о ней».
Сливинский твердо решает и прячет мысль даже сам от себя.
— Так нужно! И это случится. Только бы спрятаться, оставшись после работы в подземелье…
Но устроено и это. После кратких переговоров вместо Сливинского роботы вынесли чучело — набитый стружками его костюм.
В темноте, при проверке у выхода, рабочих считали — счет сошелся.
Лязгнул засов стальной двери и он остался один в подземелье. От напряжения невидимые молоты грохотали по вискам. Воскресла и как на экране прошла вся жизнь — вспомнились забытые детали, — благословляющая старушка-мать, весельчаки-летчики, загорелся ярким светом образ Люцины — погасший теперь навсегда. Жгучей болью пронизало все его существо при воспоминании о последнем свидании с нею в тюрьме…
Нет! Он прав, выносив свою идею… Ему решительно не для чего и не для кого больше жить.
— Хо! Сегодня он отправится в Нирвану!
Если есть загробная жизнь — он будет там. Его тело в тысячную долю секунды, в страшной температуре взрыва, превратится в пар, а душа переселится в мир иной. Он ясно и красочно представлял, что произойдет с ним в последний момент: его тело расщепится на молекулы, атомы, черт его знает, на что еще, но никто не отыщет его труп и никто не будет хоронить.
Это даже увлекательно! Фантастично! Можно себе представить, какой силы будет этот взрыв этой новой ужасной гадости, если ею намереваются уничтожить весь английский остров… Ну, а что если весь континент Европы полетит к черту! В преисподнюю!
Впрочем ему, Мечиславу Сливинскому, уже нет дела до Европы, создавшей в последнее время ад на земле…
Он действительно горячо увлекся, развивая свою фантазию: «кружиться в бешеном ритме жизни, а потом упасть и вдребезги разбиться», — вспомнились слова Люцины, сказанные в каштановой аллее.
— Вот это — «вдребезги разбиться» — вполне заведомо и сознательно.
Он достал из кармана заблаговременно припасенный детонатор, соединил с бикфордовым шнуром и, вскрыв ящик, вставил капсюль в желтый толуолит.
Где-то далеко прогудели алярмы; завыла сирена и под горой.
Закончена последняя работа… Мечислав Сливинский — садись в вагон, сейчас поезд отправится с земли в замечательное путешествие в вечность — туда, где нет войны, «Голубых дьяволов», нет ничего…
Сливинский нервно смеется и смех отдается стоголосным эхом в подземелье. Кажется, сами дьяволы хохочут над ним и его затеей.
Часами тянутся минуты. Он зажигает спичку, едва осветившую подземелье, наполненное штабелями желтых ящиков с веревочными ручками. Звенит в ушах, как первый звонок.
— С Богом! Я мщу за Польшу и за себя! Аминь!
Пламя коснулось шнура, вспыхнул, шипя и потрескивая, рассыпая искры шнур. Жадно побежал огонек к желтым ящикам… В висках отдается барабанная дробь… Невидимая скрипка выводит, рыдая, мелодию, — будто песню его жизни.
— Тронулся поезд, и сейчас обрушится последний мост, связывающий с этим, таким неустроенным миром, где столько несправедливостей и неоправданной жестокости. Через несколько минут он узнает, что там — на том свете, и постигнет тайну бытия.
Его «Я» растворится в космосе или душа человека приобретет новую форму «Я».
На этот вопрос еще никто не дал ответа на земле. Ни один ученый, кудесник, мудрец, пророк или властелин! Никто не может рассказать, что есть там, по ту загадочную сторону черты жизни… Куда же исчезает то, что-то невидимое и невесомое, но живительное, как электрический ток, условно названное — душой. Ее присутствие приводит в движение тело человека и означает жизнь.
Куда девается эта невидимая, движущая сила после смерти?.. Или она попадает в чудесный сад Господа Бога, или блуждает в беспредельных космических просторах, или переселяется в другое существо?!..
Это самая большая загадка мироздания, самая неизученная и загадочная область науки. И я сейчас решу ее, — мыслит Мечислав Сливинский. — Я эгоист! И не для человечества решу, а для самого себя, и со своей тайной не расстанусь никогда.
Трещит шнур. Болит голова.
— Скорее, скорее гори — догорай, жизнь! Скорее! Не то я сойду с ума… — В жажде охватить необъятное — мозг напрягается, как чрезмерно надутый, готовый лопнуть пузырь. Всему есть пределы…
Трещит шнур… Слышны нервные шаги человека, считающего лишь секунды до разрешения величайшего вопроса бытия.
2. Расщепленные атомы
Сквозь дыры, проеденные молью в темно-синем и старом, как мир, бархатном занавесе ночи, просвечивает свет далеких миров и созвездий.
Светлые, как кометы, полосы бороздят синеву ночи. Тревожные гудки сирен смешались с мощным, все заглушающим шумом моторов. Все живое подавлено и утихло, в страхе прислушиваясь к могучему и величественному гулу массированного ночного перелета сотен аппаратов.
В темноте показалась спешащая тень, она спотыкается, падает… Сбив до крови колено, плачущая женщина шепчет:
— О, мейн Готт! Мейн либер Готт!
— Берта, Берта! Это ты? Хорошо, что ты пришла!
— Снова алярм… Когда это кончится? Мне страшно.
Мужчина вглядывается в небо, где кружится конвой истребителей, рассыпающий яркие магниевые ракеты. Они повисли на парашютах, как огромные свечи чудовищного канделябра.
— Бежим, Берта! Будет бомбежка.
— Бежим, Вилли. Я сегодня боюсь… Это неспроста они зажгли столько ракет.
Он открыл стальные двери и увлек перепуганную Берту вглубь подземелья.
— Теперь мы в безопасности. Над нами восемьдесят метров камня, недосягаемые никакой бомбе. Успокойся!
Скупо освещенные фонариком тени слились в объятиях. Она прижимается больше от страха, чем от любви, но ведь он же мужчина, сейчас весна… Переживет ли ее немецкая девушка с толстыми ногами, крупной, развитой грудью, сработанная для грубой работы?
Наступила пауза. Она, дрожа, прислушивается к взрыву бомб. Солдату не страшна война, он в ней видит потребность, утеху, но девушке страшно.
— Мы победим! Провидение поможет фюреру.
— Ох, фюрер! — произносит со вздохом Берта.
— Нас спасет техника. Мы имеем лучшие в мире летающие бомбы и еще кое-что, новое. Особенное! И скоро мы победим! Мы разрушим весь мир, если он не захочет покориться нам! Мы уничтожим народы.
— О, если бы, — безразлично отвечает Берта — она не хочет ничего больше… Она хочет немного покоя, покоя и покоя, — она хочет спать в своей кровати, каждую ночь, вместо дрожания в погребе… Какое небольшое и скромное желание…
— Мы добудем территории, где чудная земля. Такая мягкая и плодородная, как твои груди… и тогда ты, я, мы — немцы, сверхчеловеки придем туда, как завоеватели и хозяева. Мы — высшая раса, должны плодиться, как ни одна нация на земле… Мы запретим плодиться и размножаться «им», — покоренным!.. Мы наплодим детей — таких маленьких Альфредов, Адольфов, Фрицев, Эрн… Нас должно быть пятьсот миллионов… У нас будет сын. Он будет солдат — сын великой нации солдатов, — возвышенно, по-новому объяснялся в любви солдат Вилли Бредель. Он гладил упругое Бертино тело, горящее в сладкой истоме, и мечтал вслух, тихо мурлыкая, как кошка.
— И будет у нас домик под черепицей, вокруг цветники, кисейные занавески? — спросила мечтательно Берта.
— Будет, Берта… На той земле, где мне повредили ногу… Но это ничего — на нас ведь будут трудиться рабы!
— Не один, а много?
— Много, дорогая… Ты будешь сегодня моею?..
— Рано еще… Впрочем, хорошо, — в дрожи, то ли действительно от любви, то ли от страха остаться одной в тревожную ночь, ответила девушка, раздумывая: «Все равно нет жизни… не сегодня, так завтра этот смертельный груз может обрушиться на землю и, обезобразив тело девушки, не познавшей любви, похоронить под грудой руин».
— Мы должны сегодня зачать сына… вместе с победой у нас появится потомство, — страстно говорил Вилли, прижимая к себе девушку.
Их тела слились воедино, но…
…Разверзлась земля и огненным смерчем развеялись мечты. Их тела превратились в космическую пыль, мгновенно поднявшуюся в клубах дыма в стратосферу…
3. Вулкан в Альпах
Голубая ночь, будто бирюзовыми изразцами отделан купол чудного храма Вселенной.
Вдоль Млечного пути летели тысячи четырехмоторных аэропланов. Торжественно-могущественный гул накрывал землю, а все дышащее опутывал невидимыми сетями животного страха.
Магниевые ракеты, повисшие в небе яркими световыми зонтами, освещали притаившуюся землю, рельефно выделяя каждый бугорок, строение и одиноко бегущего человека.
— Беги! — подхлестнул внутренний, властный голос. — Это не трусость. Нет. Но никому не хочется умирать!
Наступила сильная реакция и человеку захотелось жить. Он страстно шептал:
— Пусть погибнет «Голубой дьявол», обезьяны, все!
На миг вспомнилось оскаленное, чудовищное лицо японца, сверкающее светящимися фарами очков.
— Пусть погибнет варвар!.. Чтобы только не потух шнур! Беги!
Но куда? Зачем? — Чтобы наткнуться на стены или проволоку с током, пулеметы? Бежать, казалось, было некуда, но внутренний голос повелительно требует — беги!
А там, в покинутом подземелье — шнур трещит и маленький огонек все продвигается вперед…
Ох, зачем он взял такой длинный шнур… Лучше бы скорее! Невыносимо это мучительное ожидание.
— Беги! — настаивает неведомый голос.
— Бежать некуда, — отвечает рассудок.
— Все равно — беги, беги, беги!
Сливинский кубарем покатился под гору. Колючки боярышника больно ранили тело и рвали платье…
Теперь только скорость! И Сливинский мчится как лань, почуявшая смертельную опасность.
Вдали вспыхивают разрывы бомб. Еще и еще. Гулко катится по земле эхо. Взметываются фантастические огненные деревья.
Вспышки бомб яркими моментальными снимками освещают небольшую посадочную площадку. Небольшой ангар взлетает в воздух. Мечислава обдала теплая струя подогретого разрывом воздуха.
Теперь беглец уже знает, куда и зачем бежать! Только скорость! Ведь дорога каждая минута… Секунда… Куда уже дошел огонек по шнуру?
На краю площадки у самой сосновой рощицы — самолет-истребитель..
— Бууууу! Ахххх! Раздался страшный взрыв связки бомб, угодивших у аэродрома.
Ослепленный взрывом Сливинский спотыкается, падает, с проклятиями поднимается и бежит снова к заветной цели — к самолету. На аэродроме — никого.
Он добегает к истребителю. Еще горячий мотор — окрыляет надежду.
Сливинский с разгона прыгает на крыло и моментально в кабину… Не задергивая над собою щитка, нажимает кнопку стартера, прислушивается к подвыванию…
— Газ!.. И грохотом взорвался мотор — переходя в ровный гул! — Музыка! Чудная музыка!!! Какая божественная симфония!!!
Еще мгновенье и летчик от экстаза, широко расставив руки, прижимает к себе руль и…
Его, ставшее невесомым, тело подымается на могучих крыльях в воздух.
— Неужели началось путешествие в Нирвану живым? Быстрее в заоблачный простор и оттуда взглянуть, что произойдет на земле. И теперь овладевшему крыльями человеку вдруг страстно, выше всего захотелось снова жить.
А над ним в вышине вьется стайка истребителей.
— Уходи, Мечик!.. Могут сбить, ведь у тебя черные кресты на крыльях…
Одинокий самолет мчится к белеющим снегами Альпам, сразу ослепительно осветившимся, как от тонной вспышки магния.
Невероятной силы воздушная струя качнула, бросила, подхватила и швырнула аппарат, сразу же потерявший управление. Если бы внезапно в зените появилось солнце, оно бы померкло по сравнению со светом, появившимся на земле.
До самой стратосферы взлетел чудовищный столб огня и дыма, будто неожиданно разверзся огромный вулкан с кратером в десятки квадратных километров.
С замершим сердцем слышит летчик страшный гул, потрясающий горы, с которых обрушиваются и катятся вниз снежные лавины…
Наконец, летчику удается выровнять аппарат.
В поездке в Нирвану состоялась пересадка на ходу… Мечислав решает загадку: — кто мог открыть во время бомбежки стальную дверь в подземелье? Если бы не это, — «пересадка» не состоялась бы…
Самолет летит на юг. Пара часов в воздухе и под ним сереющие в предрассветной мгле тусклые очертания французских деревень…
При посадке лопнула правая стяжка шасси и «Мессершмидт», зарывшись носом, скапотировал на зеленеющем пшеничном поле.
Утром Мечислав Сливинский давал показания в авиационной части американской армии.
— Я польский летчик, бежал из плена и хотел бы еще потрепать врага…
— О-кей!..
Вскоре, выкупавшись, одетый в удобную униформу, Мечислав знакомился с новыми товарищами по оружию.
4. Последний смеющийся
Сквозь разрывы беспокойно спешащих облаков просвечивало голубое весеннее небо. Усталые и испуганные перелетные птицы печально кричали, мечась в небе и часто меняли курс. Им стало тесно в воздушных просторах Европы в весну разгрома.
Фантастические, гудящие ключи сверхптиц, соединенные в величественные эскадрильи, бороздили небо. За серебристыми машинами — хвостами комет тянулись белые полосы отработанного, конденсированного газа. Они — будто колеи воздушных дорог, оставленные на изъезженном, истоптанном небе. Тогда в испуге замирала земля.
В марте начались солнечные, летние дни и взволнованные дикторы радиостанций лихорадочно будоражили эфир, испещренный тикающими точками-тире Морзе.
— Эрна, Эрна, Эрна! Я Нотпуль, Нотпуль! На нас с юга идут соединения самолетов… Квадрат пятнадцать! Объявите воздушную опасность…
Спустя минуту он добавлял:
— Можете дать предварительную тревогу!
— С юга идут самолеты… Много… Тысячи…
— Квадрат пятнадцать! Дайте тревогу!
Заунывно воет сирена, сковывая напряженную жизнь страны, ведущей тяжелую, затянувшуюся войну.
— Ау-ау-ау!
Люди с посеревшими, осунувшимися и усталыми от шестилетней войны лицами спешили в подвалы. Большинство уже не хотело ничего, искренне желая покоя.
— Когда же конец? — спрашивал каждый в душе, но внешне все еще лицемеря. Но уже было поздно даже лицемерить.
С раннего утра до захода солнца не утихал гул самолетов, патрулирующих над дорогами, мостами, скрещениями. Они нащупывали передвигающиеся войска, бомбардировали и обстреливали их. Всю ночь налетали британцы…
И когда-то поверженный в бою смертельным врагом орел — снова возвратился к жизни, расправил подбитые крылья и носился на них над неприятельской страной со скоростью шестисот километров в час.
Звено «ковбоев воздуха» — наводит ужас, сеет панику на земле. Услышав предостерегающий крик:
— Ябос! — все бросаются стремглав искать прикрытие.
С самолета виден развороченный железнодорожный узел.
— Станция Фульда, — глянув на планшетку, решает Мечислав Сливинский. Четверка его самолетов промчалась над разрушенными конструкциями завода.
— Кассель! Это тот знаменитый завод, где построен аппарат, поразивший меня?! — пронизывает мысль, и летчик пару раз нажимает кнопку бомбометателя.
Под ним Франкфурт-на-Майне. Груды развалин. На берегу Рейна, между Людвигсгафен и Мангеймом, искалеченный колоссальный завод-комбинат «И. Г. Фарбениндустрии». Город Мангейм снесен, но где-то под руинами на берегу Неккара «Мерседес-Бенц», запрятал под землю свой последний завод. Небольшой локомотив-«кукушка» тянет несколько вагонов. Сливинский переходит в «пике» и с страшным свистом, пожирая пространство, устремляется вниз, нажимая кнопку бомбометателя.
Поезд обдан расширяющимися клубами густого дыма.
Между Дармштадтом и Гайдельбергом медленно движется длинный состав. Мечислав ясно различает длинные, сплошные вагоны, покрытые брезентом.
— Так маскируются поезда с летающими бомбами, и если поезд движется на запад, очевидно, груженый, — решает наблюдательный летчик. О, он не только исполняет свой долг! Нет. Он мстит за разоренную отчизну. Он видит больше, чего не видят иногда его товарищи по оружию… О, белый орел — они общипали твои крылья, но они отрасли заново… Нельзя покорить упорного, всегда живущего духа поляков! О нет, кто пытался это делать — знает это!
Радиоприказ:
— Атака!
Самолеты пикируют один за другим, падая на цель. Одновременно заговорили пушки, пулеметы и бомбы.
Поезд разметен. В смертельной конвульсии разлетелись перепутанные в клубок проволоки, рельсы, паровозы мячиками выпрыгнули на поле.
Дальше мчатся серебристые птицы.
Чувство удовлетворенной мести наполнило всю душу, обуяло все существо человека-птицы, обретшей свои крылья…
Четыре четверки, держа курс на юг, на высоте трех тысяч метров, возвращались на свой аэродром. Однако пристальный взор Сливинского заметил воровато летящих низко над землей двух «немцев».
— Замечено два истребителя типа Хенкель… Ниже, правее нас, — сообщает Мечислав.
— Атака!
Рывок руля глубины и машина снова в пике.
— Дзззззззздззззззз! И Сливинский упивается стремительным пике, будто озорной мальчишка, катящийся с горы на салазках.
«Теперь я снова стал орлом!» — подумал, сжав губы, летчик и нажал гашетку.
— Да-да-да-да-да-да! — огненным речитативом проговорил крупнокалиберный пулемет.
После неожиданной атаки сверху задний «немец» слегка закачал крыльями. Он не прочь сдаться… Передний пытается уйти.
Сливинский догоняет его. Все ближе и ближе расстояние между ними. Неприятельская машина танцует в визире прицельной рамки пулемета, дрожит над скрещениями центра.
— Да-да-да-да-да! Вторая очередь поражает его. Горящий самолет валится вниз. Стремительно короток воздушный бой. Он тянется лишь секунды…
Сдавшемуся, окружив его со всех сторон, сигнализируют, предлагая подняться выше и равняться на залетевшего вперед командира звена.
Эскадрилья вскоре идет на посадку. На аэродроме удивленные друзья устраивают пышный прием.
— Поднялось четыре звена, а вернулось семнадцать машин? — спрашивают они.
— Прибыль! — шутят летчики.
Немецкий пилот несколько смущен и виновато говорит:
— Ваши машины намного быстроходнее…
О, он опытный пилот… Товарищи по оружию честно взяли его в плен… Ему надоела бесперспективная война. В общем, немец доволен. Он «приземлился». Война для него уже окончена.
Мечислав пристально всматривается в румяное лицо сероглазого немца. На шее рыцарский крест.
— Скажите, вы не участвовали в операциях на польском фронте?
— Да. В первые дни войны я там получил железный крест за…
— Ну вот, — там меня подбили в первый день, — теперь мы квиты, — рассмеявшись, произнес поляк. — Говорят, что хорошо смеется тот, кто смеется последний… Не правда ли?
— Пожалуй, — согласился немец…
5. На опаленной земле
Время легкой изморозью пережитого коснулось висков Мечислава Сливинского. В униформе американского летчика он вернулся в родной город.
Память о недавно закончившейся войне подернута легкой пеленой забвения, и даже кирпичи руин покрылись бархатом мха. Меж камнями властно проступила зелень, дворы густо заросли бурьяном, травою.
Мечислав бесцельно бродил, наблюдая бесчисленные руины. И скорбный искалеченный отчий дом, зияющий пустотой выгоревших окон, будто выплаканными глазами, глубоко взволновал его… Да он, собственно, не ожидал здесь увидеть большего, чем этот скелет дома. И некого даже спросить, куда девалась старушка мать? Никого здесь нет, лишь испуганная, совершенно одичавшая кошка, блеснув зеленоватыми глазами, шмыгнула мимо, промчавшись в переулок.
Сливинский видит рядом с руинами могилы и даже целые кладбища. В суровое время войны хоронили покойников — там, где настигала их смерть. Жуткие покосы войны…
Мечислав направился за город. Разорен фамильный замок. В забытом зале следы навоза, — очевидно, тут была устроена конюшня. Вырублен тенистый парк, исчезли лебеди, озеро заросло, омелело и превратилось в гнилое болото. Давно никто не посыпал дорожки песком. Вот и аллея — одни потемневшие пни и воспоминание о кудрявых каштанах и липах убранных золотом осени.
Развеялось все — сама любовь, и даже исчезли немые свидетели их встречи.
Опустошен парк. Опустошена страна. Опустошена душа…
Впереди маячила чья-то фигура. Одетая в мешковатое пальто женщина иногда останавливалась у пней, казалось, что-то припоминала. Мечислав, поравнявшись с нею, хотел пройти мимо, но женщина порывисто бросилась к нему…
Она ничего не сказала, только припала к его груди, судорожно вздрагивая, и когда подняла прекрасные глаза — в них было столько счастья, столько чистого, ни с чем несравнимого счастья, что, казалось, они испускали сияние.
— Мечик, Мечик! Неужели это правда? Скажи мне, что это ты!.. Я не сплю, это не галлюцинация, Мечик!
Сливинский молчит. Только теперь он чувствует, что происходит, но он упорно молчит. Люцина с все нарастающей тревогой, переходящей в испуг, наблюдает за ним.
— Боже! Неужели он безумен? — тихо, отступая, говорит она.
— Я не безумен, но есть от чего обезуметь, — наконец глухо выдавливает из себя Сливинский.
— О, как ты испугал меня, любимый… Что произошло с тобой?
— Да. Здесь есть отчего обезуметь! — раздумчиво повторяет Сливинский, отстраняя девушку. — И ты смотришь мне в глаза, ты смеешься, ты еще живешь?
— Да! — отвечает Люцина, не улавливая интонации, с какой произнесены слова.
Сливинский молчит. Его взгляд спокоен. Горечь злой иронии на складках сжатых губ.
— Где твой обезьяненок?
Люцина бледнеет и отшатывается.
— Обезьяненок… Где он?.. Я не знаю, — она растерянно улыбается. — Но как ты знаешь? Откуда?..
— Я был там. Там, где была и ты, и я видел, вот этими глазами, как ты баюкала того урода…
— О, Мечик! Как можешь ты говорить так? Если бы ты знал, какое славное и забавное это существо.
Диким, исстрадавшимся голосом Мечик кричит:
— Прочь! Прочь, несчастная!!! Ты опозорила седины отца, ты предала мою любовь, ты потеряла честь и право называться порядочной девушкой! Ты… Ты… — и еще более страшное слово готово сорваться с губ Мечислава…
Люцина, смертельно побледнев, гордо выпрямляется.
— Ты оскорбляешь меня!
— Тебя следовало бы убить. И я жалею, что не сделал этого. Мало того, что ты утратила честь, но ты, видно, лишилась и совести… Если не понимаешь своего позора…
— Я молю Бога, — дрожащим голосом говорит Люцина, и Сливинский видит, как с ее глаз стекают крупные слезы. — Я молю Бога, чтобы он простил тебе твой гнев и твою несправедливость. Но слушать тебя я больше не могу… Прощай, — тихо говорит она, — прощай, Мечик…
Она поворачивается и медленно идет вдоль ряда печальных пней, опустив руки, и Мечик замечает, что ее качает каждым порывом ветра, раздувающего ее старое, потрепанное пальто.
И вдруг мозг его, раскаленным прутом, пронзает одна, ранее не приходившая мысль: что он делает? Кто дал ему право судить эту девушку? Кто поставил его судьей ее жизни, ее горестей и бед? Судить ее — кого он так любит, которая ему так дорога, что за каждую ее слезинку он готов, капля за каплей, отдать всю свою кровь.
Да разве это ее вина? Разве ее вина, что она попала в эту страшную, чудовищную машину?
Ему делается страшно — сам нечистый внушал ему те мысли и слова.
Он срывается и бежит. Ветер с все возрастающей силой завывает в редких оставшихся деревьях, общипанных и похожих на старый истертый веник. Падающие на землю сумерки сгущают черную неприветливость спешащих туч.
— Люцина, — сдавленным голосом говорит он, настигая девушку.
Она оборачивается, и Мечислав падает на колени, прижимая ее холодные руки к своим губам.
— Люцина, прости меня! О, как мне стыдно и тяжело, Люцина!
— Мне больно, Мечик, но я не сержусь.
— Прости, прости меня. Я был негодяем! Я должен бы отогреть лаской твое исстрадавшееся сердце, убаюкать твое горе, помочь тебе забыть это страшное несчастье, обрушившееся на тебя… На нас, любимая…
— Погоди, Мечик! Я чувствую, что у тебя на сердце что-то, чего я не понимаю. У меня нет никакого горя. Оно было, и большое горе, пока я не увидала тебя, но теперь…
Сливинский вскакивает и растерянно глядит по сторонам…
— Но… Но тот уродец, которого ты баюкала, сидя в келье…
— Боже мой, — и Мечик видит, как лицо Люцины расцветает… — Но ведь ты же ничего не знаешь! Мечик, мой бедный Мечик! Теперь я все понимаю. Этот славный уродец, как ты назвал, сын одной бедной девушки, скончавшейся в ту минуту, когда он появился на свет. Это ужасно, Мечик! Это дикий, ни с чем не сравнимый ужас! Это кошмарный бред, но я… Я только нянька…
— Так значит?.. — растерянно лепечет Мечик.
— Это значит, мой любимый, что тебе не нужно краснеть за свою невесту… Если только ты хочешь называть меня так…
— О, Люцина, Люцина, — шепчет счастливый Мечик, не веря себе, не веря еще в свое огромное счастье.
— Я тоже была в страшной опасности… Но Господь мне помог. Я избежала ужаса… Но многие другие… Да, Мечик, это было жутко… Но можно ли их в чем-нибудь обвинить, подумай, дорогой…
— Нет, нет, тысячу раз нет… Я был негодяем, свиньей. Прости, дорогая! Но сердце мое было слишком переполнено болью. Так это твой воспитанник? Где он, этот славный уродец?
— Я не знаю, где он, но я искренне привязалась к нему, он был действительно славный. Ты знаешь, дочь этого страшного желтокожего — шефа и вдохновителя всего этого ужаса — тоже привязалась к нему и, благодаря ей, меня приставили нянькой…
— Магда?! — спрашивает Мечик, хмуря брови.
— Да, ты знаешь? Эта Магда оригинальная и своенравная девушка, но поверь, сердце у нее золотое. Ей я обязана многим.
— Что с ней?
— Она умерла в госпитале…
Сливинский на минуту задумался.
— Что с японцем?
— Я не знаю.
— Но, Люцина! — вдруг вскрикивает Мечик, осененный воспоминаньем об устроенном им вулкане. — Как? Как ты уцелела в ту страшную минуту, когда все это чертово гнездо взлетело к небесам?
— О, взрыв был ужасен. Японец в эти дни привез меня к раненой Магде. Госпиталь, где она лежала, в двухстах километрах от заповедника, но у нас стены качались, как во время страшного землетрясения.
— Господи! И подумать только, — Мечик проводит рукой по лбу, покрывшемуся холодным потом, — подумать, что я чуть-чуть не убил тебя, моя радость, и дважды…
— Ты, — меня? И дважды? Я снова ничего не понимаю.
— Да, один раз там, в келье… Я уже поднял пистолет, но Господь удержал мою руку, и второй раз — этим взрывом.
— Как, — взрывом? Что ты говоришь?
— Этот взрыв дело моих рук. Мне самому только чудом удалось спастись. Я до сих пор не могу понять, кто открыл стальную дверь в то страшное подземелье, начиненное взрывчаткой и ужасной силы бомбами. Видно, само Провидение хранит нас, дорогая.
— На все воля Божья, — прошептала Люцина.
Мечислав обнажил голову.
Ветер начинал неистовствовать, переходя в ураган.
Они долго молчали, глядя отсутствующим взором через исковерканную ограду парка туда, где в густых сумерках вилось корявое шоссе, все в выбоинах, выбегавшее на гору и упиравшееся в серый, неясный, покрытый густыми облаками горизонт.
Они долго стояли в безмолвии; слова разбежались и говорить, казалось, было не о чем…
Спустилась бурная ночь и покрыла их своим мокрым, неуютным, черным покрывалом.
На корявом дереве, злорадствуя человеческому несчастью и предвещая недоброе, противно и уныло кричал сыч.
ЭПИЛОГ
Невысокий, щуплый человек в наглухо застегнутом черном пальто неподвижно стоит, запрятав лицо вглубь поднятого воротника и низко опустив на глаза широкие поля черной шляпы.
Видны только выпуклые, сильные очки в массивной черепаховой оправе… Ветер треплет полы его пальто и несет клубы мелкой, едкой пыли, которые кружатся смерчами.
Человек смотрит в ничто… И ничего не видит, кроме…
Перед ним пустота. Черная пустота. Ничто.
Наполеон на острове святой Елены?
Демон у порога своего царства?
Человек смотрит в ничто… И ничего не видит, кроме пустоты. Черной пустоты. Пустоты, уходящей прямо из-под его ног к самому центру земли. Противоположный край пустоты — обрисовывается еле различимой в голубом тумане грядой гор… До противоположного края пустоты несколько десятков километров — может быть, сто, может быть, больше…
Глубины нет. Черная, мрачная пустота, из которой змеистыми струйками подымаются зеленовато-желтые, пахнущие серой пары…
Человек на краю пустоты стоит неподвижно и молча. Пустота, уходящая к центру земли, — это все, что осталось от места, где было положено столько трудов, где пролилось столько слез, где было столько страданий и горя, что кажется, сама земля не выдержала и, разверзшись, поглотила эту юдоль скорби вместе со столькими надеждами.
Вокруг — тоже пустота. Ни признака жизни, ни зверя, ни птицы… Только ветер, треплющий полы черного пальто человека в черепаховых очках.
О чем он думает? Какие страсти бушуют в его груди, какие мысли роятся в его голове, какие планы строит он?
Оплакивает прошедшее? Отпевает похороненное?
Мечтает о грядущем? Затевает ли страшную месть или просто стоит без надежды, без воспоминаний, без мыслей и упований, потрясенный зрелищем страшной пустоты?
Книга публикуется по первоизданию (Б. м.: «М. Б.», [194-?]. - Approved by UNNRA Team 568) с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации.