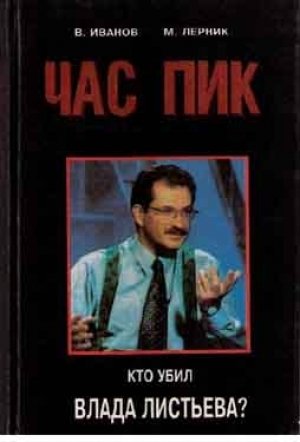
Час Пик
Первое марта 1995 года была среда.
— солнце взошло в 6 часов 49 минут по местному времени;
— курс доллара вырос на 21 пункт и составил 4473 рубля;
— средняя стоимость важнейших продуктов питания составила 146 тысяч рублей в расчете на месяц;
— на станции метро «Таганская» был найден кожаный бумажник с 25500 рублями;
— цены на основные продукты питания выросли за минувшую неделю на 2,4%, непродовольственные — на 2,1%, платные услуги населению — на 3,8%. Общий индекс инфляции за последнюю неделю составил 102,4%, с начала года — на 125,2 %;
— в Чечне продолжались военные действия, правительственные источники сообщали об очередных успехах Федеральных и внутренних войск и уничтожении групп «боевиков из незаконных вооруженных формирований генерала Джохара Дудаева». Количество погибших военнослужащих российской армии не уточнялось;
— в Москве, в магазине на улице Черняховского продавался лосьон «для нормальной кожи», 250 мл; по 2,50$;
— «Комсомольская правда» сообщала, что в Нижнем Тагиле с испытательного полигона производственного объединения «Уралвагонзавод» для разборки с заезжими коммерсантами местными бандитами был угнан новейший танк «Т–90»;
— средства массовой информации, подконтрольные правительству и Президенту, продолжали информировать население об исключительной криминагенности контингента чеченских боевиков;
— «новый русский» Самвел Саркисян, нигде не работающий, «без определенного места жительства» (БОМЖ), временно проживающий в городе Москва, приобрел автомобиль «мерседес‑600» класса SEL, черного цвета, стоимостью более 100 000 DM;
— сотруднику частной радиостанции «Свободная Находка» 24–летнему Игорю Каверину оставалось жить два дня. Утром третьего марта он будет застрелен в Находке;
— строительные работы по восстановлению храма Христа Спасителя шли полным ходом;
— фирма «Деловые люди» предлагала: «бизнес– круиз на борту т/х, финал конкурса «Российский бизнесмен», съемки телепередач, семинары и дипломы американского колледжа, детский и другие клубы, звезды эстрады, брызги шампанского и фейерверк сюрпризов». Стоимость путевки — от 1000$ до 2500$;
— no сообщениям немецких спецслужб, в 1994 году на территории Федеративной Республики Германия было конфисковано 700 сто долларовых банкнот, изготовленных на территории Российской Федерации. Это на 400 банкнот больше, чем в 1993 году;
— состоялась премьера документального телефильма «Свобода печали» режиссера Александра Марьямова — о трагической гибели журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова;
— совет директоров нового «Останкино» сделал первое программное заявление, и оно оказалось сенсационным: идя навстречу пожеланиям трудящихся, компания решила отказаться от демонстрации рекламных роликов;
— в 9–25 телезрительницы вновь наслаждались очередной серией «Дикой Розы», в конце которой, перед титрами, шли рекламные ролики;
— «Московские новости» сообщали, что в столице ежедневно фиксируется более двадцати звонков с террористическими угрозами. По утверждению ФСК, каждый выезд спецгруппы по такому звонку обходится в среднем от 7 до 10 млн. рублей;
— во французском городе Лувьенн, в двадцати километрах от Парижа, прямо под Версалем, в богатом доме, который снимала русская семья, в ночь с понедельника на вторник было обнаружено шесть трупов. Все шестеро были убиты из огнестрельного оружия. Вину за произошедшее взял на себя сын хозяина, Алексей Полевой, которому 1 апреля исполнится 17 лет;
— поступила в продажу книга министра иностранных дел России Андрея Владимировича Козырева «Преображение». Из нее явствовало, что положение России «прочное и более достойное, чем у бывшего СССР», и что Россию «уважают больше, чем боятся»;
— в среде российских журналистов, пишущих о политических проблемах, живо обсуждалось заявление лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова:
«…Президент должен избираться собранием выборщиков, которые могут отозвать его, если он не справляется со своими обязанностями или пьет…»;
— были арестованы лица, подозреваемые в убийстве Андрея Айздердзиса, депутата Думы;
— стало известно, что некий слесарь–самоучка из Кривого Рога наладил подпольное изготовление пистолетов–пулеметов и другого оружия, превосходящего по. техническим характеристикам лучшие зарубежные образцы. По сравнению с популярным автоматом Калашникова, например, темп стрельбы изделий подпольного оружейника вдвое выше, они отличаются надежностью и современным дизайном;
— продолжалось противостояние независимых профсоюзов шахтеров и правительства;
— рейтинг популярности акций среди профессиональных посредников был таковым:
1. «Ростелеком»
2. РАО «ЕЭС России»
3. «Мосэнерго»
4. «Норильский никель»
5. «Юганскнефтегаз»
6. «Ноябрьскнефтегаз»
7. «Пурнефтегаз»
8. «Г азпром»
9. Красноярский алюм. з–д.
10. «Нижневартовскнефтегаз»
— у нигде не работавшей инвалида с детства В. А–ч, проживавшей в Санкт — Петербурге по ул. Дибуновской, оставалось до пенсии 12 650 рублей;
— согласно последнему мониторингу НИСПИ рейтинг информационных программ в России был следующим:
«Вести» — 40, 3%
(от опрошенных)
«Время» — 39,1%
«Новости» — 14, б %
«Вести» — 14, 1%
«Сегодня» — 10,7%
«Сегодня» — 10,6%
«Времечко» — 4,0%
«Нотабене» — 3,4%
«Новости» — 0,4%;
— одиннадцатичасовой выпуск «Вестей» был прерван сообщением об убийстве известного телеведущего Владислава Листьева…
«Вращайте барабан, ваш ход… Есть такая буква!..» 150 очков
Большое пятиэтажное здание послевоенного сталинского ампира на одной из тихих улиц неподалеку от станции метро почти в центре Москвы.
Здание довольно старое, ветхое, грязноватое, постепенно разрушающееся — как и многие подобные дома в центре российской столицы.
Тяжеловесные портики, осыпающаяся лепнина, нелепые эркеры, подпирающие крышу массивные колонны–бревна, постоянно рушащиеся фризы.
На окнах первого этажа–тяжелые кованые решетки, окна последующих задернуты белыми занавесками или закрыты жалюзи, и они почти никогда не отодвигаются и не поднимаются.
Парадный вход с двумя половинками светло–желтых дубовых дверей наглухо заперт — никто никогда не видел, чтобы он когда–нибудь открывался, никто никогда не видел, чтобы оттуда кто–нибудь выходил или чтобы через эту дверь кто–нибудь входил.
Однако не вызывает сомнения, что в этом доме постоянно кто–то есть — как правило, с раннего утра и до позднего вечера в окнах горит свет.
Внимание наблюдательного прохожего могут привлечь и антенны, установленные на крыше, множество самых разнообразных антенн с идущими от них проводками.
Что за антенны, зачем, для каких целей?
Наблюдательный прохожий может заметить также то. что вход в здание все–таки есть, и расположен он во внутреннем дворе, а попасть в этот дом можно только тогда, если удастся миновать высоченные металлические ворота, отодвигаемые бесшумным электромотором, или через калитку в этих же воротах.
Но калитка в воротах обычно наглухо закрыта, а по всему фасаду здания укреплены многочисленные камеры наружного наблюдения — точно такие же, как у американского посольства.
Ни обычной таблички, ни сопроводительной надписи; неизвестно, кому, какому именно ведомству этот дом принадлежит, какая организация тут расположена и чем она занимается…
Кафкианец может найти сходство с литературным Замком, любитель политических тайн наверняка решит, что это — надземные этажи засекреченного спецбункера правительства, построенного на случай III Мировой войны, постоянный читатель гангстерских детективов — что тут расположено тайное денежное хранилище Центробанка или место сохранения Золотого фонда России.
Но все это не так…
Половину кабинета занимал стол красного дерева — аэродром, затянутый темно–зеленым сукном. Факс, несколько телефонов, правительственная «вертушка» с гербом уже несуществующего СССР на наборном диске, компьютер и принтер.
За столом–хозяин кабинета, и не только кабинета; хозяин этого загадочного здания, хозяин множества человеческих судеб, хозяин самой разнообразной информации, стекавшейся сюда по множеству каналов…
Человек, известный в очень узком кругу, близкому непосредственно к Президенту, как Аналитик.
Высокий, спортивно–стройный, он казался значительно моложе своих лет — а Аналитику было уже за пятьдесят. Старомодные, как у покойного Андропова очки в тонкой золотой оправе, тонкие, все время поджатые губы, вытянутое лицо; безукоризненный костюм консервативного покроя и белоснежная тонкая сорочка, были, однако, украшены цветастым галстуком легкомысленной расцветки.
Ничего не поделаешь.
Веяние времени.
Дань моде.
Во всяком случае, ничем не хуже, чем публика в Думе: один депутат, лишенный сана поп, постоянно является на заседания в черном маскхалате–рясе, другой рвется к микрофону в щегловатом малиновом пиджачке от Версачи, обсыпанном перхотью, третий во время выступлений надевает маскарадный костюм врача «скорой помощи».
Ладно, в Думе — вообще люди, мягко говоря… м–м–м.. Каждый второй, наверное, втихую мечтает поскорей сдать депутатский значок и стать хотя бы третьим замом какого–нибудь министра.
За окном незаметно рассвело — когда долго сидишь на одном месте и занимаешься чем–нибудь значительным, не замечаешь смены времени суток.
С глухим безотчетным вздохом, который он по обыкновению не умел сдерживать, когда знакомился с отчетами отделов, Аналитик придвинул к себе пачку бумаг и погрузился в чтение…
Аналитическая служба Президента, была и остается, наверное, одной из самых таинственных, загадочных и засекреченных среди всех российских спецслужб — в отличие от аналогичных и более открытых информационно–аналитических отделов ФСК. Создана она была сразу после войны, по прямому указанию Сталина, и, как правило, ни одно из серьезных политических решений не принималось последующими главами советского правительства без предварительного ознакомления с анализом ситуации и возможным прогнозом событий с рекомендациями, кропотливо сделанными в стенах этого здания.
Средний российский обыватель, мало сведущий во внутриполитических хитросплетениях, наверняка и теперь считает, что главная функция спецслужб — карательная, функция устрашения. Возможно, так оно и было ранее, в 30–50 годы, пока тогдашнее руководство страны и МГБ (именно так назывался в то время институт власти, позже преобразованный в КГБ, а затем — в СБ и ФСК) не поняли, что главная ценность деятельности спецслужб — информация, которой они в силу своей специфики овладевают.
Возникновению Аналитической службы способствовало множество факторов, прежде всего — разветвление и стремительное развитие средств массовой коммуникации; в Штатах в то время начался телевизионный бум, совпавший с бесчинствами сенатора–мракобеса МакКарти, самозабвенно охотившегося за красными и розовыми «ведьмами».
То ли он сам, то ли кто–то из его ближнего окружения ввел очень точный и образный термин — «промывание мозгов».
Промывание мозгов не может идти стихийно, а в плановом государстве, каким и являлся СССР, этот процесс тщательно скрупулезно рассчитывался также, как и все остальное: от выплавки чугуна до рождаемости.
Обработка общественного мнения, установление массовых ориентиров и стереотипов, дозированная утечка информации… Правда, с уничтожением государственной монополии на средства массовой информации и падением «железного занавеса» работать стало сложней, но — интересней.
Впрочем, это был далеко не единственный аспект деятельности подразделения в сталинском ампирном доме с рушащимися фризами…
Любая информация сама по себе ничего не стоит; информация становится ценной только тогда, когда она систематизирована и классифицирована. Именно это дает возможность прогноза событий, и чем больше информации, чем больше скрупулезного анализа, тем больше шансов попадания, как любил говорить Аналитик, «в десятку»…
Отделов в этой ответственной службе два — внутренней и внешней политики, а так как эти две вещи становятся все более и более взаимосвязанными (особенно после того, как бывшие союзные республики объявили суверенитет), то у обоих отделов только один руководитель — Аналитик.
К услугам сверхзасекреченного ведомства прибегали и Хрущев (просчитывая возможный общественный резонанс знаменитого доклада на XX партийном съезде; анализируя ситуацию, способствовавшую возникновению Карибского кризиса), и Брежнев, особенно — Андропов, чьим выдвиженцем на эту должность в свое время и стал Аналитик. Юрий Владимирович сразу же после прихода к руководству страной вывел эту структуру из подчинения Комитета Государственной Безопасности (на всякий случай) и переподчинил непосредственно себе — это было очень кстати накануне глобального «закручивания гаек».
Главный «прораб Перестройки», как ни странно, прибегал к услугам этой мощной аналитической организации довольно редко; видимо, этим во многом и можно было бы объяснить многочисленные ошибки в руководстве страной (Сумгаит, Тбилиси, Карабах, Вильнюс, Баку, Рига). Он вообще никого не слушал, казалось что советники, вроде Аналитика вообще не были ему нужны…
Аналитик узнал о падении Михаила Сергеевича с тихой радостью, а знал он об августовских событиях куда больше, чем даже можно было, находясь на такой должности, и театрально–таинственное высказывание Горби «главного я вам все равно не скажу» вызвало у него лишь скептическую усмешку.
Глава этого ведомства в силу свей профессиональной деятельности давно уже просчитал и распад Союза, и то, что альтернативы теперешнему Президенту на тот момент быть не могло.
Он поставил на него, как ставят на цвет или номер в рулетку — и не промахнулся. Он вообще редко ошибался в своих расчетах.
Они были довольны друг другом — Аналитику теперешнее положение давало не только многочисленные жизненные блага (что, впрочем, теперь было также немаловажно), не только устойчивый комфорт, не только уверенность в завтрашнем дне, но и ощущение полной, непосредственной сопричастности к кухне высшей власти, возможности влиять на нее; состояние, действующее на скрытого честолюбца (в чем Аналитика небезосновательно подозревали окружающие), как наркотик; Президент же, который в последнее время и вовсе не мог принимать самостоятельных решений, находящийся, по меткому выражению одного из оппозиционеров, в «состоянии перманентного визита в Ирландию», как никто другой нуждался в услугах людей вроде главы этого ведомства…
Именно ему, Аналитику, российская внешняя политика была обязана гениальному по своей простоте и доходчивости шантажному ходу относительно как Штатов, так и всего Запада в целом: если вы, мол, не будете нам помогать, то народ, понимающий только грубое насилие, привыкший за свою историю разве что к плетке и дыбе Малюты Скуратова, военным поселениям, ГУЛАГу да к казарменному коммунизму, окончательно разуверится в священных для вашей цивилизации принципах демократии, и тогда на смену относительно либеральному Президенту придет какой–нибудь реликтовый коммунистический тиранозавр юрского периода, вроде Макашова или Анпилова, или непредсказуемый политический авантюрист, профессиональный клоун, сын юриста и друг Хуссейна… Кстати, теперь друг не только Хуссейна, но и Президента. А тогда двинутся на ваши чудные тихие палисаднички с майскими розами новейшие Т–90, и потопчут их безразмерные сапоги русских чудо–богатырей, наследников боевых традиций, и будете вы кусать локти, кляня свою буржуазную меркантильность… Так что давайте кредиты, а по тем, по которым мы вам уже должны, быстренько отсрочьте платежи. Простая арифметика: просчитайте, сколько вам надо будет тратить на разные там дорогостоящие программы СОИ и «звездные войны», если следующий политический лидер резко возьмет вправо.
Как по «ящику» — «в мутных водах российской политики плавает огромная рыба–меч, и она протыкает все, что попадается у нее на пути… плавает огромная рыба–пила, и перепиливает все, что попадается у нее на пути…» А он, теперешний Президент, хотя и не подарок, но — «живой такой, веселый… Умница».
Кто из вас хочет быть проткнутым или перепиленным — ну–ка?
И Запад давал все новые и новые миллионы долларов, марок, фунтов, франков, отсчитывал, нервно слюнявя пальцы, зеленея от страха, слушая о национальной обуви, о кирзовых сапогах русского солдата, которые будут вымыты в теплых водах Индийского океана…
Кстати говоря, и сам сын юриста, и его суперскандальный имидж, равно, как и сама партия также были своевременно задуманы в недрах Аналитической службы…
Были, правда, два случая, когда Президент категорически не согласился с выводами и просчетами Аналитика — во время октябрьских событий 1993 года и совсем недавно, в начале чеченского кризиса…
За что, впрочем, и поплатился.
Аналитик поправил очки, то и дело сползавшие с переносицы, и погрузился в чтение…
Президент, по словам его пресс–секретаря, заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок. Это решение делает его «свободным в маневрах и дает ему возможность не заботиться о своем рейтинге».
Сенсационное заявление Президента сделано не сегодня, а 4 июля 1992 года. Распространенное агентством ИТАР–ТАСС, оно цитировалось почти всеми средствами массовой информации. С тех пор многое изменилось.
БАНКРОТСТВОПрезидент на протяжении последних двух лет действительно был весьма «свободен в маневрах» и действительно совсем те заботился о своем рейтинге». Имея в 1991 году прекрасный стартовый капитал общественной поддержки, он промотал его, как легкомысленный повеса в азартных играх нечаянное наследство.
В начале 1992 года положительное отношение к нему выразили 48% избирателей. Но вот в декабре этого же года Президент «едал» популярного Экономиста — «рейтинг доверия» сократился до 32 процентов. Через год он танками разогнал российский парламент (уже 25 процентов), «проспал» встречу с ирландским премьер–министром (9 про– щитов) и, наконец, превратил в руины столицу Чечни, походя оклеветав российскую прессу (8 процентов). Так что по всем демократичным меркам Президент сегодня политический банкрот, которому кредиторы готовятся предъявить неоплаченные векселя: 72 процента российских избирателей, по свидетельству социологов, не доверяют Президенту.
Подобного рода презрение Президента к общественному мнению, которое мало что значит в текущей политике, но в момент президентской избирательной кампании становится решающим фактором, можно объяснить только тремя причинами:
1. Президент поставил крест на своем политическом будущем и действительно не намерен баллотироваться на второй срок;
2. Президент поставил крест на своей репутации демократа и намерен стать кремлевским долгожителем без каких–либо выборов;
3. Президент абсолютно уверен в хитроумии своих царедворцев, способных так организовать и провести президентские выборы, что победа ему будет гарантирована.
Чтобы ответить на вопрос, какая из этих причин истинна и соответственно какому сюжету будут развиваться события до июня 1996 года, необходимо отметить одну немаловажную особенность демократии, то есть той политической системы, в приверженности которой клянется Президент.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬВ своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент совсем не случайно отметил необходимость преемственности властей.
Действительно, в эпоху нестабильности и формирующейся государственности только преемственность власти на высших её этажах может гарантировать последовательность российской политики. Но вся беда в том, что демократическая процедура выборов как раз и не гарантирует этой самой преемственности. В этом можно углядеть слабость демократии: на смену либералам, как подсказывает история, могут прийти фашисты. Но в этом же и её сила: периодическая ротация властей, как свидетельствует та же история, заьцищает государство и общество от гниения.
Что же имел в виду Президент, говоря о преемственности власти? Можно допустить, что предполагалась верность будущих правителей России тому политическому курсу, который сформировался в 1991–1995 годах. Однако многие аналитики уже неоднократно отмечали, что никакого четко сформулированного политического и экономического курса, по которому ведет страну Президент, нет. К тому же только политический самоубийца мог бы выйти на демократические выборы с обещанием «верно следовать курсу Президента» и сохранять существующий порядок вещей.
Поэтому за словами Президента о преемственности власти скорее всего скрывается не забота о «верности курса», а тревога о безопасности правящей элиты и незыблемости её интересов. Для подобного вывода есть основания…
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ[1]
Этот подзаголовок, набранный жирным шрифтом, почему–то сразу бросился в глаза Аналитику.
Он отодвинул газету и задумался…
В принципе все, изложенное в материале популярной в интеллигентской среде газеты, соответствовало действительности. Он знал это и без чтения.
Аналитик даже поверхностно не стал просчитывать прогноз, по которому Президент действительно бы добровольно отказывался.
Ха — нашли дурака!
Тут ведь не цивилизованный Запад — покажите мне человека, который бы, всю жизнь рвавшись и наконец дорвавшись до вершины, до слепящих снегов Килиманджаро, отдал бы победу людям, которых он ненавидит!
Более того, Аналитик был совершенно уверен, что вариант «кремлевского долгожителя» не пройдет — слишком велик риск откровенно объявить себя пожизненным диктатором, эдаким Ким Ир Сеном, Запад не поймет и кредитов не даст… А когда продадим им всю нефть и весь газ, в городах и весях по всей Руси великой начнется массовый каннибализм.
Вариант «царедворцы», которые мол, хитроумно оставят его на второй срок?..
Но кто?
Паша–мерседес, посмешище всей армии? Или Телохранитель?
Первый откровенно глуп, а второму — только «гусей» гонять.
Премьер, хозяин «Газпрома» и ВПК?
Он и сам не против занять президентское кресло — только и ждет своего часа.
Мэр — эдакий работяга в пролетарской кепочке?
Ну–ну…
А остальные — или мозгов не хватит, того самого хитроумия, или же, скорей всего, если хватит, постараются их продать подороже — и не теперешнему Президенту.
Есть кому.
Стало быть, под «царедворцем» подразумевают его, Аналитика.
Действительно, любая кардинальная смена руководства ему крайне невыгодна: дадут пинка под жопу, как пить дать. Лишат персональной госдачи, персональной машины, этого персонального кабинета, возможности содержать хорошую домработницу, платя ей в US$, лишат льгот, привелегий, а главное — ощущения сопричастности к высшей власти, ощущения того, что ты — один из её скрытых рычагов.
За что?
Совершенно естественно, что практически любой преемник Президента поспешит в той или иной форме объявить предыдущий режим «антинародным», равно, как и всех, кто ему служил. Это выгодно — видите, какие Авгиевы конюшни мне достались, за пять лет не разгребу все это говно, еще надо бы… Кроме того, надо будет обязательно найти козла отпущения, надо будет кого–нибудь бросить на вилы голодной толпе. Как у классика — «сбросили с колокольни вниз головой третьего Иваньку…»
Хорошо еще, если первым человеком страны станетсерьезныйполитик, умный и рассудительный, вроде теперешнего Премьера, а если…
Вон, вчера из отдела пришла информация, спрогнозировали — в июне 1996 года в среднем восемьдесят процентов кандидатов будут бесноватыми…
Что тогда?
И будешь ты уже не Аналитиком, а старым пердуном–пенсионером. будешь выращивать на своей подмосковной даче георгины с хризантемами да пописывать мемуары в стол.
Хорошо еще, если так.
Пусть, пусть в Кремле тебя считают немного ненормальным. живущем в собственной иллюзорной реальности, смоделированной, спроектированной тобой же самим, но кто сказал, что модель всегда хуже своего воплощения?
Лучше, потому что, как правило, он рассчитывает в идеале, а исполнение бывает более чем посредственным.
Аналитик пружинисто поднялся со своего места, прошелся по кабинету. Подошел к окну, долго смотрел, как по стеклу беспорядочными траекториями сбегают дождевые капли, сливаются, с противным жестяным звуком скатываются на наружный цинковый подоконник…
По улицам, пригибая головы от порывистого ветра, шли первые прохожие. Им бы его заботы…
А в голове Аналитика почему–то все время вертелся подзаголовок газетной статьи: «Жертвоприношение… Жертвоприношение…»
В половине одиннадцатого утра порядком уставший Аналитик затребовал служебный «мерседес» и распорядился отвезти себя домой.
Жил он недалеко — в огромной пятикомнатной квартире в самом центре, обставленной дорогой старинной мебелью, многочисленными горками красного дерева с антикварными фарфором и хрусталем (с домработницы три пота стекало, пока она все это перетирала, пыль смахивала), не один, с женой — четвертой по счету.
Вообще–то раньше в ведомстве, в которое прежде входила его служба, разводы крайне не приветствовались — разведенцев не выпускали за границу.
Все правильно — система заложников, а вдруг там останешься?
Теперь — проще, либеральней, спокойней, хоть двадцать раз разводись, теперь все можно…
Жена (они жили вместе всего несколько месяцев) — бывшая балерина кордебалета Мариинки, была моложе мужа почти на двадцать один год — на прошлой неделе ей исполнилось двадцать три.
Последняя женитьба поставила перед Аналитиком проблему, которую ни один анализ, ни одно логическое умозаключение не могло бы разрешить.
Более того–никогда, ни при каких обстоятельствах глава сверхсекретной спецслужбы не выдал бы свой самый страшный секрет; на это были причины, более чем веские…
Аналитик всегда считал себя Мужчиной, Настоящим Мужчиной, с Большой Буквы.
Никогда прежде у него не возникало таких проблем, ни–ког–да.
А тут.
Вот уже четвертый день подряд он боялся наступления вечера. Он, который никогда и ничего не боялся!
Вечер значит семейная идиллия, ритуальный просмотр телевизора (ресторанов, казино и клубов Аналитик терпеть не мог, его с духу воротило от сытых масляных рож «новых русских», кроме того, сказывалась старая профессиональная привычка «не светиться»), а потом — расстеленная кровать, соблазняюще отогнутый край одеяла…
Спать, спать, спать…
Так вот, три дня назад у него впервые в жизни не получилось.
Не всгал–с.
Вот как.
Пришлось нарочито–устало повернуться на другой бок, отвернуться и захрапеть — утомился, родная, не взыщи. Как–нибудь потом.
Обиделась, наверное… А–а–а, все пустое.
Не то, чтобы она не была, как теперь принято выражаться, «сексопильной», не то, чтобы не имела опыта жизни с мужчинами (сама рассказывала в пароксизме искренности!), не то, чтобы не возбуждала его.
Сексопильна.
Опытна. Еще бы — балерина…
М–м–м… Хорошо это или плохо, что опытна? Наверное, хорошо.
Хотя бы потому, что умело возбуждает.
Но не встает, не хочет, мерзавец, подниматься — что поделаешь?
Явившись домой, Аналитик прошел на огромнуюкухню, размерами своими напоминавшую средний конференц–зал, наскоро разогрел в микроволновке что–то холодное, бифштекс, кажется, уселся спиной к двери и принялся вяло пережевывать неприятные мясные волокна, так навязчиво застревавшие между зубов.
Квартира была так огромна, двери — так массивны и звуконепроницаемы, что при всем желании никак нельзя было определить — есть кто–нибудь в доме еще или нет.
Где–то в глубине скрипнула дверь — Аналитик поднял голову.
— Привет…
Этого еще не хватало… И почему она все время дома сидит, что денег мало получает от мужа, чтобы по магазинам шляться?
Странно…
— Давно пришел?
— Только что, — отодвинув тарелку с недоеденным бифштексом, Аналитик принялся ковыряться в зубах заостренной спичкой.
— А почему опять дома не ночевал?
— Работы много, — с явным неудовольствием ответил он.
Жена посмотрела на него с видимым сочувствием — слишком старается, переигрывает, все, как говорится, шито белыми нитками.
По убеждению Аналитика, она не была умна — в каждом её слове, в каждом жесте сквозило то, что можно было бы назвать «спасительной глупостью»; наверное, прежде всего за это качество, равно, как за красоту и бессловесность, он и взял её в жены.
— Работы?
Что — так о его здоровье печется? Мол, много работает, .сжигает себя, ночами не спит?
— Угу…
Она осторожно опустилась рядом.
— Все работаешь, работаешь?
— А что делать остается?
— По ночам?
Неожиданно Аналитик поймал себя на том, что его прошиб пот — холодная капелька медленно скатывалась между лопаток, неприятно щекотала спину.
Странно — никогда прежде с ним ничего подобного не случалось. Может быть — действительно беспокоится, может быть, ничего такого в виду не имеет?
— Да, и по ночам, — он сознательно сделал ударение на последнем слове, стараясь держаться не просто спокойно — предельно безразлично.
— А сегодня вечером –— как, у тебя тоже много работы?
Это уже был очевидный вопрос–капкан — мол, ждать тебя сегодня ночью или нет? Придешь?
Она вопросительно исподлобья смотрела на мужа, ожидая ответа.
А чего это он так разволновался?
Он ведь выполняет сверхсекретную работу государственной важности. Он — Аналитик, а она — дура, любительница телевизионных шоу и мыльных опер. Она, конечно же, о многом, не знает, о многом не догадывается — так лучше. Подругам заговорщицким шепотом сообщает, что муж работает «в КГБ генералом», и те, безмозглые курицы, конечно же цепенеют от этой страшной аббревиатуры…
Ничего, он человек казенный, пусть знает, что он может понадобиться Государству, ради его личных интересов, в любое время дня и ночи, и это для него важней, чем глупый коитус.
— Да, и сегодня.
Капелька пота, наконец докатившись до конца спины, перестала щекотать кожу; наверное, растворилась в резинке трусов.
Аналитик, почувствовав облегчение, поднялся из–за стола и, с трудом подавив все нараставшее раздражение, произнес нарочито–небрежно:
— Ну, я спать… Очень устал. Разбуди ближе к вечеру…
Только бы она к нему не подкладывалась… Бр–р–р–р…
Он проснулся сам — от боя старинных антикварных часов, стоявших в комнате.
Шесть вечера, за окном, за тяжелыми коричневыми портьерами почти стемнело.
Сбросил с себя плед в шотландскую клеточку, нехотя поднялся, прошел в холодную кафельную ванную, похожую на операционную, плеснул в лицо ледяной воды, с удовольствием растерся шершавым полотенцем.
— Ужинать будешь? — послышалось с кухни.
— Кофе свари…
— Кофе, как говорят, повышает потенцию мужчин, — донеслось из полуприкрытых дверей кухни после непродолжительной паузы.
Тьфу–что, специально, что ли, издевается?
Ничего не скажешь — стерва. Все они такие, все бабы…
Тяжело вздохнув, Аналитик уселся перед огромным на всю стенку японским телевизором. Взял в руки пульт, повертел, лениво, от нечего делать включил услужливое чудо азиатской техники.
— Тебе кофе сюда принести?
— Давай, — сипло произнес он.
На экране появилось изображение популярного телеведущего нехитрая беседа о СПИДе и его последствиях. Собеседник — то ли сексопатолог, то ли СПИДолог, то ли хрен его знает кто еще, с преувеличенно любезной улыбкой щурился в телекамеру.
Аналитик почему–то поймал себя на мысли, что телевизионный диалог неожиданно увлек его. Листьев с непонятным энтузиазмом говорил о вагинальном акте: «у вас были такие акты, у меня были такие акты, у всех телезрителей были такие акты…»
— Твой кофе…
— Спасибо.
Она опустилась рядом, растерянно посмотрела на телеэкран.
— А он потолстел, — произнес Аналитик только потому, что надо было что–нибудь сказать — не сидеть же просто так!
— Кто?
— Ну, этот, Листьев…
Хмыкнула — будто бы он, Аналитик, чего–то не понимал, и ему надо было бы теперь втолковывать самые что ни на есть очевидные вещи.
— Ничуть. Не знаю, мне кажется, такие мужчины всегда нравятся женщинам… Во всяком случае, немало моих подруг запросто бы отдались ему…
Аналитик хотел было сказать, что при желании, будь под рукой компьютерная сеть, он наверняка мог бы и назвать имена её подруг, которые запросто отдавались Листьеву — и не гипотетически, а совершенно реально, но промолчал; ссориться из–за такой ерунды, как ведущий «Часа пик» не имело смысла.
— Честно говоря раньше, когда он вел «Поле чудес», он мне почему–то меньше импонировал. Не понимаю только, почему именно… И не только мне…
Внутри Аналитика стал постепенно расти холодный пузырек гнева — непонятно почему, вроде бы, никаких оснований для этого не было.
— Ну, это все женщины так думают… Отлично подобранный имидж — видишь, сейчас в семейных домах уют и покой, окна во всех этих жутких Медведковых и Чертановых горят, застиранные шторки светятся, народ с работы пришел, мужики шляются по неубранной квартире в грязных майках и рваных шлепанцах на босую ногу, думают, как бы с пользой для себя вечер убить, женщины детей своих сопливых из садиков позабирали, обстирали, обштопали и накормили, теперь отдыхают. И он — такой же, домашний, родной, без пиджака, с широкими подтяжками всем на обозрение, почти что член семьи… «Поле чудес» — блеск, шик и элегант, строгий костюм, бабочка, и так далее… Вроде бы красиво а — далеко от народа. Подтяжки и простая рубашка ближе. Как говорил классик — «будь проще, и к тебе потянутся массы». А женщины из народа — как животные: они такое неосознанно чувствуют… И ценят.
«Женщины из народа» были реактивным, почти бессознательным ударом честолюбца и ревнивца за «импонирование Листьева» — родители новой жены, простые потомственные пролетарии, полжизни отдали родному Кировскому заводу в славном городе на Неве.
Она поняла, обидчиво поджала губы, но, не найдя, как возразить, спросила только:
— Не понимаю — он тебе что — не нравится?
— Листьев?
— Я о нем говорю…
Он лишь неопределенно передернул плечами — мол, я весьма далек от всего этого.
После этого в полумраке зала повисла тяжелая, томительная пауза — были слышны только энергичные реплики ведущего «Часа пик» о коитусе, от которых внутренний пузырек раздражения внутри лишь увеличивался.
Коитус — тьфу, слово какое–то собачье… Чем–то койота напоминает.
Поняв, что пауза чрезмерно затянулась, Аналитик не нашел ничего лучшего, как поинтересоваться:
— А тебе?
— Мне — нравится…
— Чем? — спросил он, отодвигая от себя чашечку с кофейной гущей.
— Ну, не знаю…
— Насчет подтяжек мы уже разобрались, — жестко улыбнулся Аналитик, — а что еще? Усы?
— А чем плохо? Если идут, то… — начала было она, однако не закончила фразы — в последнее время её часто перебивал муж:
— Ну, один нью–йоркский таксист как–то пел — «бабы любят чубчик кучерявый… ты не вейся на ветру…» а еще, оказывается, и усы. Пшеничные, жесткие — как проволока. Чтоб щекотали в разных местах. Да?
Она выразительно посмотрела на мужа, взяла чашку с уже застывшей кофейной гущей, пошла на кухню мыть (приходящая домработница уже была отпущена), походя едва заметно передернув плечами — мол, если ты такой циник и скептик, то о чем только с тобой можно говорить?
Аналитик с силой нажал на пульт дистанционного управления — изображение, собравшись на мгновение в одну точкув центре экрана, пропало.
Лениво, словно нехотя поднялся, взял трубку радиотелефона.
— Алло? Машину к дому…
— Уезжаешь?
Он поставил трубку на место, прошел на кухню, остановился в дверях.
— Да.
— Когда тебя ждать?
— Не знаю, — ответил Аналитик, стараясь не встречаться с женой взглядом, — всего хорошего…
Огромная представительская машина, подобно авианосцу «Киев», плавно плыла по одной из центральных улиц, в угарных бензиновых волнах. Аналитик, сосредоточенно глядя в какую–то только ему известную пространственную точку впереди себя, размышлял…
Нет, все–таки женщины, конечно, сучки и змейки, но с ними надо помягче. Тем более, что сам прекрасно понимал, на что шел, взяв в очередные жены молодую, на двадцать один год младше.
Ее можно понять, ей ведь хочется чисто биологической близости (в любовь Аналитик не верил), а ты уже и трахнуть не можешь. Интересно, а у Президента такие проблемы когда–нибудь возникали? Говорят, что у пьющих людей тоже не стоит. Спросить бы, да неудобно как–то…
Как бы то ни было, но надо идти на компромисс. Надо собраться с силами, отрешиться от службы, поесть несколько дней грецких орехов с медом, свежей зелени с Центрального рынка, посмотреть порнушку какую– нибудь повеселей. Ведь не такой же он и старый — должно получиться!
Встанет, стервец — куда он денется!
Машина плавно остановилась у светофора. Еще несколко перекрестков, потом — поворот на тихую улицу, потом еще перекресток — и все, высокие ворота, отодвигаемый электромотором железный занавес ворот.
Да, теперь в жизни главное — компромисс. Максимум доверия, хотя бы показного, максимум готовности на этот компромисс пойти…
Чеченские события, наверное, явились катализатором все растущего недоверия к Президенту: ведь говорил же он ему тогда, говорил, что нельзя идти на такие вещи, а он не послушался… Надо было пойти на компромисс.
Ну, хочешь неприятностей — слушай и Премьера, и Пашу–мерседеса, и всю свою камарилью. Не понимаешь — они ведь тебя специально на очередные ошибки толкают, чтобы твой рейтинг понизить, кроме того, и одному, и другому это выгодно: первый зарится на нефть на шельфе Каспия, вопрос, как пойдет нитка нефтепровода. и Чечня — ключевой момент; второй — после скандала с убийством репортера из одной столичной газеты, к которому он, как совершенно точно знал Аналитик, был косвенно причастен, видимо, решил, что геройски захватив мирный город силами одного парашютно–десантного полка, станет победителем, а победителей, как известно, не судят…
Дурак.
Как бы то ни было, но теперь, после многих тысяч трупов в Чечне рейтинг Президента снизился до рекордно низкой отмелей. Извечное российское нытье, извечная тяга к достоевщине, заложенная, наверное, на генетическом уровне, приобретают новую окраску — мы, де, нация уродов, палачей, вандалов, мы — нация мародеров и насильников.
А кто виноват?
Тот, кто отдал приказ.
А кто отдал приказ?
Понятно кто — Президент…
Нечто подобное уже было в США — после Вьетнама, Сонгми, Сайгона и т. д. Кого сделали козлом отпущения? Лейтенанта Колли? Пилотов В–52 и F–4? Создателей и распылителей «эйджент оранжа»? Ни хрена — Ричарда Никсона сделали козлом. И на тебе — отель «Уотергейт», якобы кража якобы документов конкурирующей партии. И турманами полетели со своих мест их аналитики, советники, все, кто был со причастен. Так что сопричастность–вещь–то, конечно, хорошая, но — палка о двух концах. А палкой, как известно, можно ведь и по шее…
Неожиданно проблема предстала перед Аналитиком очень ясно и предельно очерченно — по зарез нужен Национальный Герой.
Кто?
Загадка…
Надо убедить широкие народные массы, что Россия — по–прежнему великая страна, коль в ней есть замечательные и благородные люди, как…
Как кто?
Во всяком случае, очевидно одно — на сегодняшний день ни Президент, ни один из его окружения на такового не тянет.
Паша–мерседес?
Да матери погибших солдат в телевизор плюют, как только его видят. К тому же армия настроена к мерседесу крайне отрицательно — 92% процента офицеров. «Своими действиями он отдает армию в наши руки», — сказал один бесноватый оппозиционер, и знал, наверное, что говорил.
Так что Паша–мерседес пойдет в качестве Национального Героя разве что в анекдоте — наряду с Петькой и Василием Ивановичем да штандартенфюрером фон Штирлицем.
Ну, хорошо, допустим, все–таки — сам Президент?
Грубо, топорный официоз, и результат будет прямо противоположный — теперь не 1991 год, когда он перед Белым Домом с танка выступал.
Не–а.
Ну, хорошо, не Президент, предположим — известный Правозащитник, представитель по правам человека, активно выступающий против войны в Чечне, которого в свое время, кстати, активно гонял КГБ. Внешне — все сходится: безукоризненное диссидентское прошлое, никогда не был стукачом, в меру интеллигентен, всегда чисто выбрит, скромен, хорошо говорит, внушает безотчетную симпатию. Недавно выдвинут на Нобелевскую премию мира. С месяц назад одна влиятельная газета поместила заголовок: «Спасет ли он честь России?» Однако, если разобраться, то все–таки не годится: прежде всего потому, что плотно завязан на одну политическую партию, которую Президент, мягко говоря, не очень любит. Попадание явно не в «десятку» — где–то шесть, семь баллов, почти что «молоко»; Правозащитник вполне может потянуть на «шестерку» или «семерку», однако — не то. Двадцать пять процентов русских полностью поддерживают войну в Чечне, это — точно. Промывание мозгов по «ящику» — великое дело; свято верят и в «единую и неделимую», и в «криминальный заповедник». Значит, для каждого четвертого известный Правозащитник — враг нации, которого надо бы не в герои прочить, а торжественно повесить на задранном в чеченское небо танковом дуле перед телекамерами ВоенТВ под долгие, продолжительные апплодисменты российского генералитета.
Но — пока рано; Правозащитника лучше использовать, как занавеску, пусть и прозрачную, как подтверждение верности священным принципам демократии: мол, езжай–ка ты на Запад, расскажи о мародерах, бездарных солдафонах и кровожадных летчиках– убийцах, как они там за «боевиками» с детскими колясками в Грозном охотились, а факт твоей поездки сыграет только на руку теперешней власти — видите, дорогие буржуины, мол, как мы либеральны и плюралистичны, коль разрешаем острую критику нас же самих за наши же деньги, кстати говоря!
А за занавеской делай все, что хочешь — стыдно, когда видно.
Да, когда у нации нет своего Героя, его надо выдумать…
Аналитик поднялся со своего места и прошелся по кабинету. Мысли работали ясно и четко, нужные формулировки возникали сразу же, сами по себе — как на автопилоте. Его охватило такое чувство, которое, наверное, должен испытывать летчик в ту самую секунду, когда тяжелый боевой СУ‑35 отрывается от бетонной полосы, когда он чувствует всем естеством — лечу, все нормально! Сейчас вот только развернусь в сторону Грозного, и…
Он опустил жалюзи, налил себе из термоса кофе, поставил перед собой чашечку и, растерянно размешав серебряной ложечкой сахар, откинулся на спинку стула.
М–да, Правозащитник не пойдет.
Никак.
Нужен человек относительно нейтральный, никоим образом не связанный с политическими симпатиями и антипатиями народонаселения.
Кроме того — и Аналитик теперь не то чтобы понимал — чувствовал это всем своим нутром — Национального Героя можно сделать только из трупа.
Причины?
Уйма.
Ну, во–первых, смерть (насильственная) всегда накладывает покров тайны — кто, зачем, почему? Незначительных людей, как правило, не убивают, только собутыльников по бытовухе.
Во–вторых, убийцы (если действительно планировать убийство, криминальный русский «Уотергейт») послужат подсознательным воплощением «образа врага» — ужасный и коварный генерал Дудаев с его мифическими террактами широким народным массам давно приелся. В терракты, наверное, уже сами чеченцы не верят. Убийца известного, любимого всеми человека — персонофицированное зло; лучше, если им станет уголовник, профессиональный киллер (модное слово и на слуху), Чикатило, бандит с большой дороги. Поэтому несчастный случай отпадает — не тот резонанс.
В–третьих, насильственная смерть сразу же вызывает к жизни фразы–вздохи и фразы–стоны — «ах, сколько бы он еще мог сделать, если бы его не убили, как бы еще облагодетельствовал человечество!..»
В–четвертых, по законам жанра, апокриф получается только из трупа. Театр маркиза де Сада, музей восковых фигур мадам Тюссо, «список Шиндлера»: «черный человек», якобы отравивший Моцарта, застреленные Столыпин и Колчак, казненный в Екатеринбурге последний монарх, объявленный впоследствии святым, убитый снайпером Джон Фицжеральд Кеннеди, снаркоманившийся Элвис Пресли, загадочно умершая Мерелин Монро, маньяк, стрелявший в Джона Леннона…
Умерли бы они по классику: «на простынях голландских да на кровати медной», перетирая старческими беззубыми деснами манную кашу — не тот, не то, не то…
Как — понятно: преднамеренное убийство. Не зря ведь тогда бросился Аналитику подзаголовок в газете — «Жертвоприношение». Интуиция — сокращенный прыжок сознании, все правильно.
Кого?
Надо думать…
Аналитик думал весь вечер, всю ночь и весь последующий день. Однако ничего путного в голову не приходило: ход его мыслей почему–то шел только в направлении теперешних политических деятелей.
Сидя перед телевизором, он пил заботливо приготовленный крепкий кофе, неприязненно смотрел строго дозированную чушь о Чечне, искоса поглядывал на жену: как ты?
Продолжаешь дуться?
Ну–ну, продолжай…
Казалось, она за то короткое время, что жила тут, еще не освоилась с себялюбивым и эгоистическим комфортом роскошного жилища Аналитика — реакция вполне объяснимая, если учесть, что раньше всегда жила в коммуналке.
— Прости, — произнесла она мягко, — я никак понять не могу — а чем ты там у себя на службе занимаешься?
— Решаю проблемы государственной важности, — то ли серьезно, то ли шутя ответил Аналитик.
— И что за проблемы?
— Разные…
Она взяла пульт, переключила на «Останкино».
— «Как нам обустроить Россию», да?
— Об этом другие люди пусть думают, — недовольно ответил он и тут же поймал себя на мысли, что примеряет парадный гроб Национального Героя и для автора проекта обустройства — кстати, автор этот, как мгновенно оценил Аналитик, не подходил по той же причине, что и Правозащитник.
— А о чем?
— Да вот, вычисляю, кто самый популярный мужчина в нашей стране, — ответил хозяин дома совершенно искренне, понимая, что она все равно воспримет этот ответ как шутку.
— И кто?
— А ты сама как думаешь?
Она пожала плечами.
— Может быть — Президент?
— Я серьезно…
— Я тоже. А как думаешь ты?
Ответ жены заставил его сперва улыбнуться, однако потом всерьез задуматься:
— Мейсон.
— А кто это?
Посмотрев на мужа, как на круглого идиота, она воскликнула:
— Ты что — Мейсона не знаешь?
— Нет…
— Ну, из «Санта — Барбары», очень положительный герой…
— «Санта—Барбары»?
— Ты и этого не знаешь?
— Нет.
— Не понимаю, в какое время ты живешь! Ну, короче мужик — во какой!
Может быть, в Лондоне, в Королевском балете миловидная девушка, выставляющая вперед большой палец, как докер на рекламе пива, и шокировала бы кого–нибудь, но после двадцати одного года коммуналки и пять лет Мариинки не спасут…
— А что — его так любят?
— Еще бы! У нас в труппе все от него были без ума… — последовало очень серьезное. — Ну, а еще — Рикардо Линарес…
Аналитик удивленно вскинул брови.
— А это еще кто?
— Из «Дикой Розы»… Мексиканский телесериал. Сейчас, после «Часа пик» начнется… Да, а «Час пик» будем смотреть?..
На следующий день Аналитик с нехорошей улыбкой, кривившей нижнюю часть его лица, спросил у своей молоденькой секретарши:
— Простите, Мейсон из «Санта—Барбары…
— Что?
Она ошарашенно посмотрела на своего начальника — чего–чего, а такого вопроса от более чем серьезного и респектабельного главы сверхсекретного ведомства ожидать было нельзя.
— Что?
— Это положительный герой?
— Да, — совершенно механически ответила секретарша, соображая, для чего же шефу понадобилось спрашивать у нее о герое «Санта—Барбары» и нет ли тут какого–нибудь хитрого подвоха.
— Известный?
Она улыбнулась.
— Еще бы!
— Каков он? С усами?
— Молодой, красивый, удачливый… М–м–м… Богатый. Честен, открыт, скромен и порядочен. Теперь — без усов.
Характеристика была исчерпывающей, и Аналитик улыбнулся.
— Спасибо.
И пошел в свой кабинет, провожаемый недоуменным взглядом…
Итак, две вещи были очевидны:
Для создания апокрифа нужен труп, насильственная смерть позагадочней.
Герой должен быть молод, красив, сексопилен (основной контингент потребителей Героев, — женщины, для Аналитика это было более чем очевидно), удачлив, пользоваться репутацией исключительно порядочного человека. Должен быть богатым — ну, не очень, чтобы не раздражать этих нищих, но в меру.
Главное — он должен нравиться абсолютно всем, вне зависимости, какой политической ориентации придерживается потребитель:
Конечно, если бы этот самый… как его — тьфу, Мейсон, был бы не плодом незамысловатой кинематографической фантазии, можно было бы сделать Национальным Героем его. Аналитик уже прекрасно понял, что это за герой, хотя не смотрел ни единой серии. Наверное, если в какой–нибудь последующей серии этой самой «Санта—Барбары» его замочат, бабы три дня потом будут писать кипятком, обссыкая коленки. Траур будет похлеще, чем в 1982 году — «…колонный зал Дома Союзов в траурном убранстве… В траурном почетном карауле у гроба — члены партии и правительства…» И балет, балет… «Лебединое озеро».
Ну, хорошо, хорошо — кого бы?
Ладно, начнем с другого конца: кандидат в Национальные Герои не должен быть завязан на политику.
Религиозный деятель?
Допустим, неизвестные негодяи (известные Аналитику, потому что из Ясенево) застрелят Главного Попа — цинично, гнусно: где–нибудь в храме. Вой и стенания, отпевание тела по первому разряду, может быть, провозгласят великомучеником и страстотерпцем. Однако общество неминуемо разделится как минимум на три части: одни будут жаждать крови, и отмщения, другие — покаяния и очищения, а молчаливому большинству все будет фиолетово: русские, вопреки утверждениям попов, нерелигиозны, все эти показные крещения, венчания и отпевания — мода, и не более того. Как сказал классик «русский человек одной рукой крестится, а другой — почесывает …» Да, конечно же — капитализм есть власть $ плюс религиизация всей страны, однако вид Президента, стоявшего на минувшую Пасху в храме со свечкой в руке, вызывал у большинства верующих и неверующих приступы истерического хохота. Потом убийство Меня, крещеного еврея, прошло как новость второго плана. Более того, Главный Поп — стар, некрасив, хотя и весьма благообразен.
Не Мейсон, короче говоря…
Вариант — Эстрадная Звезда. Красив, обаятелен, породист, как бык–производигель на опытной животноводческой ферме, глуповат — по глазам видно, большие, навыкате. Им — все божья роса. Болгарин. Для среднерусской возвышенности экзотика. Жена, недавно повенчались, — Эстрадная Суперзвезда, на сто лет старше. Возможный вариант — она застает своего болгарина в постели с другой Звездой и убивает, как борова — кухонным ножом.
Резонанс?
Несомненно, еще какой!
Но — не идет, слишком бульварная мелодрама получается, и не тянет болгарин на Национального Героя. Тальков, убитый несколько лет назад, был ничем не хуже, по крайней мере — умней и интеллигентней, ну, застрелили — и что с того? Резонанс средненький, не в общенациональном масштабе… Ну, Цой погиб; тинейджеры обрисовали все стенки тремя буквами его фамилии, сидели по подъездам, пили дешевый вермут и заедали демидролом, чтобы сильней шибануло, бренчали на гитарах его песни. Герой–то получился, но только для определенной возрастной группы.
Был, правда, Владимир Высоцкий, резонанс смерти — предельный, никакие СМИП не раздували, все — полулегально, полуподпольно…
А если бы еще и СМИП…
Что — откопать, воскресить и… убить?
Ладно, с этим все понятно — подходящих кандидатов нет.
Популярный Экономист, которого не так давно сдал Президент? Вновь политика — побоку…
Спортсмен?
В семидесятые годы в авиакатастрофе разбился почти весь «Пахтакор», кроме тренеров — в Душанбе был траур, улицы в микрорайонах назвали именами погибших — Ан, Федоров, кажется…
Может быть, в восьмидесятых можно было бы что– то думать, а теперь — неактуально.
Так кого же, бля, грохнуть?!..
Решение созрело внезапно и упало к ногам, как перезревшая груша–бере; перед глазами неожиданно возникла идиллическая картинка: позавчерашний вечер, обжигающая горечь арабики, телевизор на всю стену…
«…у меня были такие акты, у вас были такие акты, у телезрителей были такие акты…»
«…не знаю, мне кажется, такие мужчины всегда нравятся женщинам… Во всяком случае, немало моих подруг запросто бы отдались ему…»
«…такой домашний, такой родной, без пиджака и в подтяжках, почти что член семьи…»
Аналитик возбужденно вскочил, опрокинув кофе на бумаги и забегал из угла в угол.
Да, да, стопроцентное попадание — чистая «десятка»! Красив, нравится бабам, наверняка богат, умен, интеллигентен, а главное — с усами! Короче — почти Мейсон.
И — никакой политики.
Значит — он…
Теперь надо убедить руководство и Президента в необходимости искупительной жертвы. Ну, телеведущий — не клоун, сын юриста, и убедить Президента будет, видимо, не очень сложно…
Расчистив стол от бумаг и газет, Аналитик принялся сочинять меморандум на высочайшее имя.
Набрасывая черновик, Аналитик прошептывал каждое слово, каждое выражение (что поделаешь — профессиональная привычка!), и слова эти липкими брызгами падали на финскую мелованную бумагу: «…предкризисная, взрывоопасная ситуация…» «…гнетущая общественная атмосфера…» «…нездоровое критиканство, захлестнувшее все слои общества…»
«…чеченские события явились катализатором недовольства…»
«…может быть использовано деструктивными силами и деструктивными элементами…»
«…необходима искупительная жертва, могущая не только отвлечь от происходящего, но и консолидировать российское общество…»
«…необходим положительный образ, необходимо мгновенно создать Национального Героя, способного сфокусировать в себе…»
«…таковым может стать только популярный телеведущий Владислав Листьев, не связанный ни с какими политическими партиями…»
«…его образ — один из немногих, который воспринимается россиянами однозначно положительно…» Закончив, Аналитик еще раз перечитал черновик,
внес необходимые правки и. зловеще блеснув очками в золотой оправе, откинулся на спинку стула.
Меморандум был составлен казенно–бюрократическим жаргоном, который, как точно знал Аналитик, воспринимался Президентом с трудом. Как для русского украинский язык — вроде бы, магистральное направление понятно, а вот тонкости и нюансы…
Ничего, там. в Кремле, тоже есть советники, дешифраторы. переводчики — объяснят, что к чему.
Плюсы были несомненны — Аналитик всячески подчеркивал их.
Минусы…
При всех плюсах у этого варианта «искупительной жертвы» был один серьезный недостаток: самого Президента запросто могли обвинить в бездействии, в том. что он ничего не противопоставляет организованной преступности (по плану Аналитика, вину за убийство предполагалось свалить на мифическую «мафию»).
Ничего, ничего — естественное озлобление оскорбленной общественности всегда можно будет направить в нужное русло.
Найдем козла…
А не найдем — еще лучше: озлобление можно отрегулировать и временно направить против Президента и его команды — пусть знает, кто настоящий хозяин…
Перечитав черновик меморандума несколько раз (ему очень понравилось собственное выражение «искупительная жертва»), Аналитик вызвал своего Заместителя.
Тот явился сразу же — будто бы все это время ждал за дверью.
Прямой приглаженный пробор, дрессированная улыбка, осторожный взгляд, отработанная мягкость в движениях, аккуратный английский костюмчик — точно комсомольский деятель районного масштаба начала–середины восьмидесятых. Весь такой примерненький, приторный, зализанный… Сволочь, короче говоря. Аналитик был совершенно уверен — придет время, и Заместитель сдаст его, как в упаковке, чтобы занять начальственное кресло.
Не дождешься, козлик — на тебя тоже кой–чего имеется…
— Вот что, — произнес Аналитик тусклым от усталости голосом, подвигая черновик, — доведи до ума, отредактируй как следует и отправь адресату…
Заместитель взял черновик — двумя пальчиками, как чашку с кофе.
— В какой срок?
— За два часа, больше не могу… И отправь не факсом, а нарочным…
В случаях, подобном этому, Аналитик не доверял технике.
— Хорошо, — произнес Заместитель и испарился в прокуренном воздухе кабинета.
Ответ пришел к вечеру, и сводился к одному: «вы что — совсем охренели?..»
Да, Президенту теперь было явно не до изощренных внутриполитических игр, задуманных Аналитиком — Дума, Чечня, армия, солдатские матери, минимальные пенсии и зарплаты, проигрыш в большой теннис, результаты последнего минского вояжа, где благодарные бульбаши подарили персональный «маз», Премьер, отправленный на Запад, серьезные внешние долги и, наверное — сильнейший абсинентный синдром на этой почве.
Прочитав ответ, Аналитик заметно помрачнел.
М–да…
Заместитель стоял у другого конца безразмерного стола, пожирая дорогого начальника глазами.
— Что будем делать?
— Придется самому ехать, — произнес Аналитик, прищурившись, — они там, судя по всему, совсем с ума посходили, ничего не понимают… Машину — срочно.
Он вернулся через два часа — повеселевший, хотя и усталый; подобные разговоры с начальством всегда давались ему с трудом, с душевной мукой (правда, сам Аналитик не верил ни в душу, ни в её бессмертие).
Зайдя по дороге в кабинет к Заместителю, он опустился в кресло и, закурив махнул рукой порывавшемуся было подняться хозяину:
— Да сиди ты…
Заместитель осторожно опустился на вертящийся стул и преданно посмотрел на начальство — ну, словно близкий родственник тяжелобольного на врача после сложной многочасовой операции:
— Ну, как?
— Убедил, — ответил Аналитик мрачно, — но какого труда стоило…
Значит…
— Теперь остановка за исполнением. Если опять все обосрут, то а ни за что не отвечаю…
— А кто?
— Съезди в Ясенево, поговори…
— Когда?
Заместитель с готовностью вскочил из–за стола — мал. хоть сию секунду.
— Потом, завтра утром… Это не самое срочное дело, — скривился Аналитик.
— А что самое срочное?
Неожиданно хозяин ампирного здания загадочно улыбнулся.
— Вот что… Скажи, у тебя дома порнушка какая– нибудь веселая есть?
— …?
— Порнуха. Порнофильмы. Только не говори, будто бы не знаешь, что это такое…
— Ну, есть… — в полной растерянности пробормотал Заместитель.
— Будь добр, принеси завтра…
— Какую? — со скрытым страхом в голосе спросил тот.
— Ну, на свой вкус… А у тебя что–выбор?
— Найдем что–нибудь…
— Вот и хорошо. — Аналитик поднялся со своего места. — А теперь — вызови–ка мне еще раз машину. Я хочу немного проветриться, съездить на Центральный рынок, походить, посмотреть… И покупки сделать.
«Традиционная игра со зрителями»
Нет в мире ничего хуже, чем телефон: надо, не надо — звонит и звонит. Идиотская выдумка. Орудие пыток. Древнеримская крестовина для беглых гладиаторов и рабов, эстрагулы, «испанский сапог» инквизиции, дыба Малюты Скуратова, кандалы, «одиночки» Шлиссельбурга, лесоповалы ГУЛАГа, газовые камеры Освенцима и Майданека, все это — детский лепет на лужайке в сравнении с маленьким, настырным, изуверским электроприборчиком, который своим «дзи–и–и–инь!..» бесцеремонно вторгается вовнутрь человеческого сознания и как нарочно — в самое неподходящее время.
Американца Белла, изобретателя этой мерзости, будь он жив, надо было бы судить международным судом за преступления против человечности и приговорить к удушению телефонным шнуром.
Линии телефонной связи — точно проводка электрошока к душам абонентов; аппарат со своим омерзительным «дзи–и–и–инь!..» — оголенный конец медной проволоки, no–садистски воткнутый заостренными контактами в твой нежный мозжечок.
Телефоношок какой–то.
Но еще хуже телефона — компьютер, особенно, когда надо работать, а не хочется; голубой квадратик экрана с программой Lexicon, прыгающий лимонно–желтый прямоугольник курсора, ежеминутно рожающий бессмысленные слова, пальцы, выбивающие на клавиатуре чечетку–тук, тук, турук–тук, тук, тук–тук.
Мало времени, мало, и чечетка переходит в рэп — тук–тук–тук–тук–тук–тук–туктуктуктуктук. Ага, вот и фраза, две фразы, предложение, абзац.
Много слов, много фраз, много предложений, много абзацев. Обозрение, репортаж с места событий, интервью, очерк, заметка, прогноз. Быстренько отредактировать, записать, перегнать на дискету, отвезти в редакцию, переписать в редакционную машину.
Все, уф–ф–ф…
Хорошо, — что при нынешних либеральных порядках в редакции можно, если свой аппарат дома стоит, и на работу не ходить; да к тому же еще, если ты авторитетный Обозреватель довольно популярного столичного издания. К тебе прислушиваются, тебе верят, твое имя на слуху. Так что — за прогулы по КЗОТу?
Но есть штука, еще хуже телефона и компьютера: телевизор. Особенно, когда последние известия: много ли там уже положили? С другом из редакции на ящик «Абсолюта–цитрон» поспорили, что до конца весны официальное количество трупов перевалит за пять тысяч, и друг, видимо, проспорит… Знаешь, что времени нет, а оторваться не можешь — предчувствуешь лимонный привкус шведской водочки на языке.
А потом — судоржно хватаешься за работу, выпиваешь литр крепчайшего кофе и, как безумный, смотришь на часы — ага, за ночь двадцать пять страниц текста про отличных парней из штата Мичиган, голубоглазых стейтовских бизнесменов, производителей замечательного корма для аквариумных рыбок, об их трогательной заботе о российских потребителях…
А дружба–то и забота нынче почем? Двадцать баксов за страницу — а потому давай, Обозреватель, выбивай рэп на клавиатуре:
Тук–тук, я ваш друг.
Два. — Дцать. — Бак. — Сов. — Стра. — Ни. — Ца.
Так–так–туктуктуктук.
Но, что ни говори, ото всех этих изощрений научно–технического прогресса только головная боль, и, как в любимом народом мультфильме — все по нарастающей, в арефметической прогрессии: от телефона голова болит больше, чем от пишущей машинки, но не как от компьютера. От телевизора — еще больше… Еще бы, количество трупов растет в геометрической прогрессии, такая скорость… И это радует: двадцать бутылок по одиннадцать баксов… Постойте, сколько же это будет?
Но — когда и телефон, и компьютер, и телевизор, когда это все вместе наваливается, одновременно, то — хоть в петлю. Или, что менее безопасно и куда более приятно — в запой.
Но сейчас — нельзя, потому что неожиданно подвалила халтурка: двадцать пять страниц какого–то каталога какого–то стейтовского концерна, даже не концерна, а какого–то там сто тридцать третьего эксклюзивного дистрибьютера какого–то шестнадцатого филиала девятой дочерней фирмы по двадцать баксов за страницу. Деньги, конечно, не ахти какие, но для Обозревателя авторитетного столичного издания с зарплатой согласно тарифной сетке…
А потому надо сосредоточиться, и чечетку на клавиатуре перевести в темп нью–йоркско–московскго рэпа: тук–тук, тук, тук–тук, тук–тук–тук–тук–тук…
— Дзи–и–и–инь!..
Зараза, ну звони, звони, хоть до окончания чеченской войны, все равно не подойду…
— Дзи–и–и–инь!..
И кто же это в половине одиннадцатого вечера может так названивать?
— Дзи–и–и–инь!..
Ну, ладно.
Поднялся, отодвинул стул, посмотрел на табло определителя (подачка научно–технической революции стойкому телефонофобу) — домашний номер Главного редактора.
М–м–м… К чему бы это?
Конечно, приятные новости по телефону тоже могут случаться: Обозревателя повысят до должности Председателя Роскомпечати, у Президента обнаружится цирроз печени, в редакцию пришлют новые тарифные сетки, с оплатой исключительно в баксах, в Чечне положат больше пяти тысяч наших и друг решит досрочно проставить «Абсолют–цитрон», но ни с одной этой новостью не будет звонить Главный, он может привнести в душу только раздраженность, смятение, суету, мгновенный испуг, синусоидно возникающее в мозгу напряжение, как это настырное, с пугающей периодичностью повторяемое:
— Дзи–и–и–инь!..
А пошел ты… Не подойду я к тебе, хоть тресни! Я занят, заболел, умер.
— Дзи–и–и–инь!.. Дзи–и–и–инь!!.. Дзи–и–и–инь!!!..
Взял трубку — куда денешься, постарался придать своему голосу как можно больше человеколюбия, раздражение замаскировать.
— Алло?
— Добрый вечер.
— Здравствуйте…
Голос официальный, суровый: ясно, не выпить же приглашает; ecтьГлавному с кем пить…
— Чем занимаешься?
Лучше не врать, что обещанное обозрение пишешь и так в редакции все знают, чем он занимается.
— Занят, халтурку строгаю. Корм для аквариумных рыбок, стейтовская реклама, на трех языках…
Хорошо еще, что в совершенстве владеет английским и немецким (кроме русского, разумеется); волка ноги кормят, а его — язык. Языки, точней, ну, и компьютер.
— Так, никаких халтурок: бросай все и сейчас же — ко мне.
Обозреватель скривился — видел бы это кривляние Главный — сразу бы в корректоры разжаловал.
— Что?
— Ко мне, говорю, едь…
— А что случилось?
— Не по телефону. Потом расскажу…
И бросил трубку, подлец.
Ну ладно: к тебе так к тебе.
Завел свою «бээмвуху» (не старую еще, в прошлом году из Германии, куда на какой–то симпозиум ездил, пригнал), выехал со двора и — в сторону Центра.
И чего это он позвонил?
Случилось что?
Может — издание прикрывают?
Да нет, вряд ли: кто на это пойдет? Не военное же положение. Хотя — теперь всего можно ожидать.
За время работы в издании вечерних звонков от Главного было всего три: в 1991, во время опереточного «путча», в позапрошлом, когда герои–танкисты, получив по мешку денег и по ящику водки, из орудий, как на Курской дуге под Прохоровкой по Белому Дому палили и в прошлом — когда точно стало известно о Чечне
Все три события — из рук, как говорится, вон. В первом случае надо было ехать в центр, готовить репортаж о БТРе, геройски таранившем мирный троллейбус и о патриотическом подъеме москвичей (половина в стельку); во втором — тоже репортаж, удалось пробраться в лагерь инстругентов, в Белый Дом, то есть (три четверти — в стельку), интервью с единственным трезвым генералом, правда, загнал в Германию и Штаты (деньги на «бээмвуху»–то откуда?); а в третий раз тоже надо было репортаж сделать, но, к счастью — тормознули военные: аккредитации не дали, хотя просьба в Генштаб была за очень высокой подписью. Не разобрались, наверное, ведь там всегда все в стельку.
Ну, а теперь что?
Наверное, труп…
«После тяжелой и продолжительной болезни…»
Her, не то, иначе оппозиционеры, те самые, которые в Белом Доме из автоматов по танкам стреляли, а теперь ежедневно интервью раздают, возмутятся: что же вы. мол, над больным таким человеком издевались, Президентом его держали? В ЛТП надо было, в хорошую клинику…
«Российский народ, все прогрессивное человечество понесло тяжелую утрату… Скоропостижно… Снискал авторитет и уважение… Светлая память… Навсегда сохранится в наших сердцах…»
Тоже не то: все прогрессивное человечество испугается, что следующим станет еще более авторитетный и уважаемый, а чем больше авторитета и уважения снискал предыдущий, тем дольше сохранится светлая память в сердцах после следующего… Такой вот закон физики.
Значит, надо обругать: в России всегда так — труп еще не остыл, еще в землю не закопали, даже еще зелененькими пятнами не покрылся, а его уже поругивают… Юродивые, правда, сразу на труп молиться начинают, голосят истошно — ах, ах, как мы его (когда живым был) не ценили!
За перекрестком мент стоит поганый с полосатой палочкой и всех подряд проверяет — вон какая очередь машин выстроилась!
С чего бы?
«Дорогие соотечественники!.. Братья и сестры!.. Кровавая диктатура демфашизма пала!.. Антинародный режим… Строили наши отцы и деды… Остановить обнищание россиян… Защитили и отстояли… Единое, могучее государство… Вернуть россиянам гордость… Социальная справедливость… Вера в будущее… Сов… то есть русский народ заслужил… В едином порыве… Нарушенные исторические узы… Единое и могучее государство… Гордость… Выполняя волю народов Советского Союза… Денонсация Беловежских соглашений… Ура, товарищи!..»
Явно не это: тогда бы наверняка и из танков стреляли, и автобусы–гармошки с зарешеченными окнами по городу вместо воронков гоняли, и на фонарях бы вешали. Уже бы болтались на ветру, точно.
Обозреватель осторожно притормозил, зачем–то огляделся по сторонам: никого на фонарях еще нет, пока чисто… Только мокрый снег так некстати повалил, надо вот дворники включить.
Мент подходит, рука рыбкой взмывает под козырек. Есть такой закон: чем шикарней у тебя тачка, тем быстрей взмывает рука.
— Ваши документы…
Отдал — на, смотри, сука, подавись… Что, опять придерешься к чему–нибудь, чтобы деньги вымогать? Мало настриг за сегодня, парикмахер?
Нет, не к чему придраться — отдает назад. Обижен, наверное…
— Спасибо. По дороге никого не подвозили?
Обзреватель пожал плечами.
— Нет.
— Езжайте…
— Простите, товарищ лейтетант, случилось что?
— Ничего не случилось, езжайте…
Странно.
А если ничего не случилось, но машины тормозят — что же тогда?
Нет, точно труп.
Но чей?..
Главный встретил Обозревателя в прихожей. Халат, домашние тапочки, бифокальные очки с толстенными линзами. Никогда бы не сказал, что это — Главный. Похож, скорей, на комика, на эдакого хронического неудачника из старой комедии. Эдакий мистер Питкин или синьор Фантоцци.
Ну, против кого ты теперь, Фантоцци?
Опять против всех?
И опять — один, как всегда?
Или…
— Проходи на кухню…
Обозреватель зашел, уселся, растер руки — замерзли за рулем.
А настроение у Главного мрачно–решительное — не глядя на гостя, полез в огромный холодильник, достал початую бутыль водочки, от которой не бывает похмелья, две стопки на стол, без закуски…
Такое впечатление, что он чего–то боится. Чего, интересно? В свое время ни Чебрикова, ни Лигачева не боялся, по слухам Горбатого посылал (после августа 1991–го, разумеется), а теперь…
Нет, что–то тут не то.
Что он — пить сюда по телефону вызвонил?
— Выпьешь?
— За рулем я…
— Пятьдесят граммов.
— Машины на Садовом проверяют, — слабо отмахнулся Обозреватель и скосил глаза на бутыль.
— Значит, больше не проверят. — Поймал удивленный взгляд, пояснил: — Бомбы дважды в одну воронку не падают…
Что бомбу в кого–то бросили? Как на Грозный? Летчики–штурмовики, «в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ», Гринивецкие, Халтурины и Каракозовы? Ну–ка…
Налил себе и Обозревателю, опрокинул в глотку — не чокаясь, не закусывая, стараясь не встречаться взглядами. Словно на поминках по близкому человеку. Нет, точно труп…
Теперь, наверное, самое главное–для чего все это…
Ну?
Обозреватель прищурился, склонил голову набок и — Главному:
— Кого?
По тому, как задергалась у Главного щека, понял: направление мысли правильное.
— Уже знаешь?
— Догадываюсь…
— М–да. — Поставил стопочку на стол, сел напротив. — Ты Листьева знаешь?
— Из «ВиДа», директор ОРТ?
Да, знает Обозреватель Листьева, примерно в одно время в универе учились, только на разных курсах. Ну, здоровались иногда, пару раз выпивали вместе–кажется, года три или четыре назад, когда еще «Взгляд» был… Высоко залетел, Икар — смотри, чем ближе к солнцу, тем больше шансов вниз… Что, он — кого–нибудь? Или…
— Убили его…
— Листьева?!
— Да.
Ну, наверное шутит — если бы Иосифа Давьщовича или Аллу Борисовну… Хотя у Иосифа Давыдовича шансов больше; спирт, как известно, не только согревает, но и горит синим пламенем. «Папа», короче говоря.
— Да не может быть!
— Мне полчаса назад когда позвонили, я то же самое сказал: «Быть того не может!..» Ан — может, оказывается..
— Это не шутка?
— Какая шутка! Знаешь, что теперь начнется?
Да, кто–кто, а Обозреватель это прекрасно знает. Сам недавно писал о противостоянии «Банкир плюс Градоначальник» против «Политик плюс ВПК плюс автомобильное любби плюс Дума плюс правительство плюс…» Как выразился в «МН» Телохранитель Президента — «я люблю поохотиться на гусей…»
Однако в услышанное верится как–то с трудом — с какой стати его убивать?
— Убили, убили, — успокоил Главный, — в подъезде собственного дома, два выстрела. Видимо, наемный киллер, не иначе…
— А кто?
Глупей вопроса, наверное, и придумать нельзя, хотя, если разобраться, вопрос–то совершенно естественный.
— Киллер. Киллер убил. Наемный убийца так теперь называется.
Слово какое–то глупое, как и все эти «брокеры», «дистрибьютеры», «проперти», «презентации»…
— Понимаю, что не восторженная поклонница…
— Завтра на Останкино, вроде бы, забастовка намечается.
Обозреватель недоуменно посмотрел на Главного.
— Вот как?
— Точно, мне сказали. Уже решено.
Спорить бессмысленно — если уже «мне сказали» то, наверняка, точно. Решено. Главный вообще редко когда ошибается.
— Что — санкционированная?
— Пока неизвестно. Думаю, что почти все — и техники, и эти, — он сделал неопределенный жест рукой, — ну, творческие работники, и администраторы выходить в эфир откажутся. Но там, — Главный поднял вверх большой палец, подразумевая под соседями наверху весьма высшие сферы, — там уже все знают…
— И кому же это надо было — Листьева убивать? Зачем?
— Ну, кому нужен скандал, кому нужны остановка приватизации Останкино, кому надо вновь столкнуть Премьера и Градоначальника, Кремль и Москву, кому нужна забастовка — это я примерно представляю… Равно, как и все остальное. Версий много. Больше, чем может показаться на первый взгляд. — Главный тяжело вздохнул, закурил. — Есть так называемые коммерческие структуры, хорошо делающие бизнес на телевидении.
— Реклама?
— Нет, не только… Они настолько глубоко проникли в Останкино, настолько повязали всех деньгами и посадили крупных людей в такую глубокую долговую яму, что теперь им оттуда не выбраться.
Обозреватель с изучающим интересом посмотрел на Главного — что же он так разнервничался, бедный Фантоцци: щеки отекли, кровью налились глаза, задышал тяжело, как марафонец после дистанции…
Что это с ним?
Может быть, и за себя боится?
Дослушав, Обозреватель решил на всякий случай прикинуться шлангом и невинным голосом уточнил:
— Долговая яма? А как это? Что — деньги им в долг давали?
— Да, но не деньги, не только деньги. Объяснять долго, если кухни не знаешь. Но они там расплачиваются не деньгами, а эфирным временем… Долго, говорю, объяснять, и утомительно. Останкино, если быть честным, давно перестало распоряжаться собой. Оно не принадлежит себе. Есть люди, которые закупили все вперед, на много месяцев вперед, чтобы не сказать иначе.
Видимо, знал он куда больше, чем говорил сейчас; знал, но рассказывать не хотел, а то, что сказал — от растерянности…
И все — захлопнулся, как сундук. В те мгновения, когда Главный боролся со своим испугом, раскрылась невзначай крышка, и мелькнуло в дневном свете то, чего никому, в том числе и Обозревателю, знать не надобно…
Хотя он и так много знает.
— Не должно это нас волновать.
— А что должно?
— Значит, так: просто надо на событие откликнуться. Не откликнуться нельзя, сам понимаешь. Первая полоса, сверху — портрет, рядом — заметка. А ведь ты у нас мастер борзописи…
— Приму как комплимент, — ответил Обозреватель и почему–то улыбнулся.
— И вообще — редкостный циник, — тоном профессионала, беседующего с профессионалом, продолжил Главный, — помню, когда Белый Дом горел, ты под фотоснимком замечательную подпись придумал, из «ящика»: «Русская недвижимость всегда в цене!» Потом мне звонили и возмущались…
— Профессиональное, — ответил Обозреватель, втайне гордый собой, — я вообще заметил, что профессиональный цинизм ярче всего выражен у хирургов и журналистов. Так что еще раз спасибо за комплимент.
— Ну, вот и договорились. Только так: мне надо две статьи…
Что — сам решил одну на Запад, налево, то есть толкнуть? Кому там этот Листьев нужен… Своих журналистов едва ли не каждый месяц убивают.
— Одна — просто заметка, — пояснил Главный, — небольшая, вроде бы как отклик коллег, траурная, проникновенно–прочувственная, а другая — обзорная статья. Подробности: кому было выгодно его убивать, что и как…
— «Что и как» — это что и как?
— Ну, возможно надо будет к приватизации Останкино приплести и «высокую политику»… Ну, скользко, конечно же, я проконсультируюсь, как это сделать. Это что касается «что». А «как» — надо обождать.
— Повертев в руках пустую стопочку, Обозреватель осведомился:
— Обзор — когда?
— Неделя — хватит?
Значит, халтурку про корм для аквариумных рыбок доделать успеет. За обзор–то копейки заплатят, да и связываться, если честно, не хочется…
— Ну, об обзоре завтра в редакции поговорим. Я с утра созвонюсь кое с кем. Значит–завтра утром принесешь дискету. Две–три страницы, не больше, по тысяче восемьсот полиграфических знаков. Ну, договорились. Еще пятьдесят грамм — выпьешь?..
Первая задача была довольно простой: две страницы, три тысячи шестьсот знаков.
Тональность траурной заметки также сомнений не вызывала: сердечно так («последнее «прости», хрустальный звон бокала…»), с плохо сдерживаемым возмущением («как прекрасна обнаженная Гласность, и как беззащитна! Можно купить её, раскрутить на барабане это слово из девяти букв, намалевать три «М», бабочек, Леню Голубкова, Инкомбанк, Премьер—ЭсВэ, Холдинг, Супремекс…»), невольно переходящим в хорошо контролируемое негодование, по нарастающей («мы не можем больше терпеть этого позора и этой муки, когда по всей России идет массовый, планомерный отстрел таких замечательных людей!..»).
Короче, примите соболезнования.
Ты ушел, Влад, но начатое тобой дело живет.
«Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда не увидишь…»
Мы помним тебя.
Точно как на типовом памятнике из гранитной крошки: «Помним, любим, скорбим». И рядом, в позеленевшей майонезной баночке — увядшая гвоздичка, стаканчик двухсотграммовый с водочкой, и бутербродиком с килькой в томате сверху прикрыт.
«Смиренное кладбище».
Так, вперед, к станку, за компьютер, то есть.
Обозреватель, помешивая ложечкой кофе, с тяжелым вздохом уселся за компьютер и задумался.
Название.
Точно — как же это назвать?
Хорошо бы обыграть название какой–нибудь передачи, которая ассоциируется с именем покойного. «Взгляд», «Поле Чудес», «Тема», «Час Пик».
Первую мысль Обозреватель забраковал сразу же, хотя искус назвать заметку вроде «Его взгляд был честен», «Прощальный взгляд» или «Взгляд через оптический прицел» конечно же, подмывал.
Фантазия у журналистов вообще очень скудна, слаборазвита фантазия (особенно у искалеченных журфаком), и такая идея наверняка пришла в голову не только ему — сколько теперь по всей Москве сидит таких борзописцев, как он, и за ночь строгают?! Десятка три, не меньше, а то и больше… А сколько на радио, на телевидении?
Впрочем, на телевидении, если верить Главному, завтра забастовка.
Тоже самое и со вторым: «Убийство в Поле Чудес», «Киллер — это страшное слово из шести букв»… «Кровь на барабане»… Почему–то некстати вспомнилось: был в семидесятые такой шлягер, какой–то проходимец мелодию из гитарного «Романса» Гомеса списал: «Барабан был плох, барабанщик — бог…»
Пошловато звучит — в смысле названия про барабан, который из «Поля…» Да и не все знают, что такое киллер, особенно в провинции; туда, на её счастье еще не дошли лучшие достижения современной цивилизации.
«Капитал–шоу «Смерть Влада». Одиннадцать букв, угадайте слово.»
Ну, это уже слишком, народ как прочтет — в столицу с дрекольями ринется, редакцию спалит.
Теперь — «Тема», «Час Пик». Еще хуже. Половина борзописцев обязательно напишет, что «Час Пик» стал его звездным часом, а другая половина — что «Тема» его жизни была… Благородной, справедливой, гуманной, что он… Ну, и etc.
Надо что–нибудь такое — просто и со вкусом. Проникновенно–проникновенное.
Допил кофе, выкурил сигарету, вздохнул.
Нет, лучше без названия: таких случаях материал лучше всего пускать без шапки — просто как текстовочка под фотоснимком.
Уселся поудобней за компьютером и понеслось: тук–тук, тук–тук, тук–тук–тук–туктуктуктук…
Главный, прочитав принтерную распечатку, молча сунул её в папку «на ближайший номер» — значит, никаких возражений. Оно–то и понятно–профессионал, три тысячи шестьсот знаков соболезнования не проблема…
— Ну, теперь поговорим о главном.
— Обозрение?
— Да, обозрение. Точней — большая статья, на вторую страницу… Это не обязательно обозрение…
Обозреватель насторожился — точно хищная рыба, выглядывающая из норы, высматривающая проплывающих наверху глупых светлобрюхих плотвичек и ярких, броских красноперок — ну, кого? Пошевелил спинным плавником, отряхнул с хвоста ядовито–зеленую болотную ряску, оскалил мелкие треугольные зубы…
Кого?
Кому там спинной хребет перекусить, чьей кровью водичку окрасить?
Ведь ясно — в этой смерти надо будет кого–нибудь обвинить, а вот кого?
Сейчас узнаем кого…
Хищно взмыл к люстре, сделал крутой вираж, хвостом пошевелил, невзначай задел потолок — вон, какой склиский след на побелке, поднырнул под стол и — на прежнее место. И только пузырьки маленькие рядом, в иле булькают, наверх всплывают…
Ну?..
— Значит, так, — Главный, поднявшись со своего места, подошел к двери, проверил, плотно ли она заперта, уселся вновь, — я тут кое с кем поговорил…
Посмотрев на часы, Обозреватель механически отметил: половина десятого.
И когда это он успел?
— Официальных версий две: из–за рекламы — раз, из–за политики — два.
— А неофициальные? Например — какие–нибудь случайности?
— Не знаю, — Главный поджал рот, похожий на куриную попку — Хотя, если вдуматься, возможны миллион вариантов, миллион версий, и притом — самых неожиданных.
— Насколько мне известно, Листьев со времен «Взгляда» и «Темы» политикой напрямую не занимался. «Час Пик» — не в счет, там ведь без «Подробностей», — очень осторожно предположил Обозреватель, которому теперь, после случившегося, очень не хотелось писать о политической подоплеке убийства, тем более, что свою собственную версию он давно уже выстроил.
— Любой, кто появляется на экране каждый день, так или иначе занимается политикой, — Главный прищурился, закурил и, откинувшись на спинку кресла, продолжил: — Вольно или невольно. Хрюша и Степаша из «Доброй ночи» — тоже… Такой вот парадокс.
Что он такое несет? Может, с директором ФСК перепутал?
— Я тебе вот что скажу: не надо слишком сильно углубляться…
— Это насчет чего?
— Насчет будущего обозрения… Можно сделать анализ ситуации на Останкино и, как говорится, попасть «пальцем в глаз».
— То есть?
— Угадать букву, — ответил Главный достаточно уклончиво, однако Обозреватель прекрасно понял, что он имеет в виду. — А потому дам тебе дружеский совет, как профессионал профессионалу: сделай лучше хороший, светлый, лирический такой материал о личности покойного… Ну, на тему: «Знаете, каким он парнем был? Как на лед он с клюшкой выходил?..» Это — безопасней всего. Знаешь, сколько стоит гроб Листьева?
— Знаю, — поморщился Обозреватель.
— То–то, у тебя столько денег нет, хоть ты год свои халтурки будешь гнать… Встреться с его друзьями, поговори, повздыхай… Ну, и так далее… А насчет версий убийства — не надо, не советую. Да и другие найдутся, без нас. Больше общих фраз, меньше конкретных имен, это создает ощущение загадочности и недоговоренности — мол, вот, зажимают Гласность, не дают свободы слова. Чем больше прочувственных свидетельств друзей и соратников, тем лучше… И эффектней. Читатель это любит. Сейчас, скорей всего, начнется тихое помешательство, народ на кухнях сидит, на портрет по телевизору смотрит, и каждый свою версию выстраивает. И все — вздыхают: ах, как жалко… Знаешь, почему наше издание популярное? Почему мы до сих пор на плаву?
— Почему?
— Да потому, что читатель, или зритель — как тебе угодно, находит в нем то, что хочет найти… Надо уметь нравиться людям. Такая вот нехитрая игра. Как в «Поле чудес» — традиционная игра со зрителями. Секрет успеха, так сказать. Впрочем, если хочешь наступить на грабли, можешь писать, все что вздумается. Изучай документы, встречайся с людьми, стриги компромат, играй в Шерлока Холмса и так далее…
— Но в любом случае надо высказать свою версию убийства, — возразил Обозреватель, прекрасно понимая, что без этого материал не пойдет. — Так сказать, «черно–белое кино»: вот он каким замечательным парнем был, вот он какой хороший, добрый, чудесный, умница, а его взяли и…
Щелкнул зубами, вновь в нору спрятался, и только жабры равномерно раздуваются, усики шевелятся хищно в проточной воде…
Ведь не зря Главный сегодня с кем–то там созванивался, не зря с самого утра консультировался, что можно писать, а что — нельзя… Что ему — слюни и сопли посоветовали разводить, что ли?
И зачем он тогда к двери подходил, прислушивался — не стоит ли там кто–нибудь?
Как–то странно себя он ведет, непонятно.
Для чего звонил — проконсультироваться, что «можно» или чего «нельзя»?
Скорее всего, последнее…
Главный с видимым неудовольствием посмотрел на собеседника — ну, что, мол, говорить, когда нечего говорить?
— Ну, я тебе вчера кое о чем уже сказал, — про юнее он после непродолжительной, но очень напряженной паузы, — а вывод можешь сделать сам… Писать или не писать. Что писать и чего — не писать. Насчет проблематики это ты правильно решил: любую проблему можно растянуть на полюса — «плюс» и «минус», «черное» и «белое», «горячее» и «холодное», и так далее... С «плюсом» «белым» и «горячим» решено, на поверхности: светлая личность убитого. А вот с остальным... — Главный развязал шнурки папки, достал распечатку соболезнования, просмотрел: — вот ты тут хорошо написал — «как прекрасна обнаженная Гласность, и как беззащитна! Можно купить её, раскрутить на барабане это слово из девяти букв, намалевать три «М», бабочек, Инкомбанк, премьер–эсвэ, холдинг, супремекс.,,» — процитировал он. — Значит, так: народ не любит рекламы. Листьев — положительный герой, боролся с засилием всех этих холдингов и супремексов, педдигрипалов и вискасов. Выступал, понимаете ли, защитником интересов рядовых россиян. Рекламные агентства, которым все это очень не нравилось, сильно обиделись на него и скинулись на профессионального киллера.
— Версия для идиотов, — вяло шевельнул плавником Обозреватель, — меня же коллеги засмеют…
— А ты псевдонимом подпишись, — посоветовал Главный, — пусть псевдоним и засмеют. Почему для идиотов?
— Ну, допустим, Листьев решил отказаться ото всей рекламы… Хотя — при чем тут Листьев? Гам ведь один Функционер куда большим, чем он, заправляет… По идее, если так, то его и надо было убивать. Ну, хорошо, отказались от рекламы: не навсегда ведь, а только на короткое время. Ни одно телевидение без рекламы существовать не может, факт. И не потому отказались, что заботились о зрителях, а потому, что это хитрый тактический ход. Да и не Листьев, если разобраться, а один очень известный Промышленник, который над ним — тот самый, чей «мерседес» в прошлом году пытались взорвать, кстати, если не ошибаюсь, рядом с домом погибшего, недалеко от того самого тридцатого по Новокузнецкой. Промышленник, кстати говоря, сразу после этого испугался и в Вену свалил, наверное, думает, что там его никто не достанет, — Обозреватель сглотнул набежавшую слюну и продолжил: — пока рекламы не будет, некоторые банки выплачивают компенсацию, целиком и полностью возмещая финансовые потери, а потом резко играют на повышение. Рынок мгновенно монополизируется, и в результате реклама вновь идет по новосозданному ОРТ, а все конкуренты летят под откос, как фашистские эталоны с танками. Рельсовая война, короче говоря. Герои–партизаны тол заложили — и… Это даже мне понятно, хотя я в подобных вещах не слишком компетентен. Элементарно просто. Кто становится монополистом? Промышленник, а также те, кто стоит за его спиной… Кремль становится, и в результате ОРТ целиком и полностью выполняет госзаказы тех, кто стоит за Промышленником. А через год — президентские выборы. А телевидение — четвертая власть. Единственная, наверное, действенная власть в России: первой, второй и третьей, если вдуматься — нет. Отсутствует.
— Значит, сам все прекрасано понимаешь, — покачал головой Главный, — и, надеюсь, у тебя хватит ума не писать об этом…
Обозреватель отмахнулся.
— Это ведь и ребенку понятно. А насчет рекламных агенств, которые якобы «обиделись», «решили скинуться на киллера» — это для идиотов… Рекламщики ведь — не самоубийцы… Их, все эти рекламно–посреднические конторы после всего на порог никто не пустит…
— Так ведь для идиотов и работаем! — возразил Главный. — Кто читает массовые издания вроде нашего? Кто смотрит все эти идиотские телешоу? Ясно кто… Среднестатистические идиоты, имею в виду — обычные россияне, страшно не любят рекламы, не выносят её на дух, особенно — когда она так навязчиво прерывает любимый сериал или футбольный матч. А сколько идиотов разорилось благодаря рекламе, которая навязывали им все эти три «м», все эти селенги, тибеты и техинвесты? Они ведь теперь её люто ненавидят! Надо ведь на кого–то свалить вину, не скажет ведь идиот: «я — идиот», ясно кто виноват — тот, кто заставил его покупать все эти билеты, все эти «мавродики», все эти акции!.. К тому же, идиоты очень не любят, когда им предлагают купить вещи, на которые у них все равно никогда не будет денег. — Главный снял свои бифокальные очки, протер большим клетчатым платком, водрузил на место — бедный Фантоцци, поставил бы себе контактные линзы! — Понравится версия, понравится и примут, для них — очень убедительно. Да, тебе сегодня вечером видеокассетки привезут, с Останкино. Ну, старые записи всех этих «Тем», «Часов Пик» и так далее… Посмотришь, может быть — пригодится. — Он закурил и, впервые улыбнувшись на протяжении всего этого разговора, добавил: — Так что лучше раскрутить версию о злых и кровожадных рекламщиках. Все гениальное просто. Не просто, а очень просто…
Выйдя из кабинета Главного, Обозреватель прошел к себе, отключил телефон и задумался.
Итак, в одном Главный прав: «козлами отпущения» надо сделать рекламные агентства. Просто, как 2x2=4: хотел выбросить рекламу — получи, фашист, гранату, распишись за пулемет.
Да, то что надо.
Убедительно.
Поверят.
Листьева сейчас на Ваганьковском хоронят, а эти обезьяны, носороги, слоны, шавки и шакалы рекламные, отстояв положенные минуты у гроба погибшего героя, танцуют у горы Килимонджаро в ночь большого полнолунья… «Почему танцуют?» — удивляются идиоты; «Почему удивляются? — удивляются шакалы — сейчас все танцуют… Ночь большого полнолунья, и вообще: завалим вас щас сэлдомами и инкомбанками…»
Убедительно?
Еще бы!
Все гениальное просто…
Поверят и примут — кому нравится предложение купитькорм для собак, если самим жрать нечего?
Но — отвеченные рассуждения побоку. потому что — теперь непременно надо встретиться с людьми, «близко знавшими покойного»…
Чем значительней человек умирает, тем больше потом находится людей, которые «ходили с ним в одну школу» «одалживали у него деньги», «учились на одном курсе», «вместе выпивали»…
Особенно — последнее.
Сколько теперь по Москве и окрестностям разговоров: «а вот мои подруга, когда на журфак не поступила, вместе, в одном потоке с ним на подготовительный шла…»; «а вот мой друг один раз в «Поле чудес» участвовал, ничего, правда, не выиграл, но ему, Листьеву, то есть, кроссворд очень понравился. Он, Листьев то есть, еще тогда пошутил, что… — Да ты что!.. — Нет, нет, честное слово, у друга даже кассета есть…»; «а вот моя соседка снизу — парикмахерша, так его вторая жена у нее несколько раз стриглась и завивку делала… — ой, а какая она из себя?..»
А было, не было — кто теперь проверит?
Ведь в таких разговорах главное — не покойник, главное — сопричастность к нему, потому что о нем теперь все говорят…
Да и кто будет проверять?
У мертвых есть одно классное качество — умеют молчать. Как рыбы. Мертвые.
Сейчас Обозреватель как раз и ехал к одному из таких, известному в Москве и ближнем зарубежье Актеру. Правда, в отличие от «близко знавших покойного» этот действительно знал Листьева.
О визите было оговорено загодя, по телефону, но Актер, увидев в дверях Обозревателя, весьма показательно удивился:
— А разве мы…
— Да, я ведь вчера звонил вам…
Виноватая улыбка:
— Извините — я от вчерашних похорон никак отойти не могу. Знаете ли, так тягостно, когда видел его живым, а потом — в гробу… И глаза закрыты. И комья земли на крышку с таким стуком… Проходите…
Конечно, отказать неудобно: Обозреватель — достаточно известная в Москве фигура, откажешь — обидеться, испортишь отношения с изданием. Журналистов боятся. Кроме того — и повод такой, что не откажешь: заказное обозрение «на смерть героя»…
— Я понимаю…
Прошел, как и водится в Москве, не в комнату, а на кухню, уселся.
— Кофе?
— Да, не откажусь, — произнес Обозреватель, — я, видите ли, тоже… Всю ночь не спал, переживал, теперь вот надо бы допинг принять… Я ведь с ним в универе учился вместе… Помню его.
Актер понимающе покачал головой.
— Да, да… — сел рядом, пригорюнился: — ну, что вам сказать? Вы ведь хотите от меня услышать что– нибудь о Владе?
— К сожалению, я знал его не столь хорошо, как вы, — польстил хозяину Обозреватель. — Виделся с ним мельком, едва–едва здоровались. Знаете ли, у нас ведь массовое издание, людям интересно — что это был за человек, каким он был… Посмотрите, чтобы кофе не убежало.
— Ах, ах, да, да, спасибо… — Актер поднялся, разлил из закопченного жезвея кофе и, кивнув на выщербленную чашечку, поставленну перед гостем, понизил голос: — он любил пить из этой чашечки, когда бывал у меня в гостях… Когда еще пил…
— Что?
— Кофе… — сделав микроскопический глоток, Актер произнес: — ну, что я могу сказать… Так некстати всплыло в памяти: как–то раз приехал он ко мне на дачу, на машине — тогда у него еще «вольво» была, смотрю — и глазам своим не верю, вытаскивает из багажника целую коробку «марса», и пока мы с ним сидели, он всю коробку и съел… Полтора–то килограмма!
Обозреватель пожал плечами — к чему тут какой–то «Марс»?
— Как, спрашиваю, Влад — нравится тебе «Марс»? а он мне — райское наслаждение.
— Это «Баунти», — сдержанно–печально поправил Обозреватель.
— Так вот я к чему: он во всем был такой: если любил что–нибудь, то делал это до конца, во всем объеме… Вот таким он и запомнился мне… — Актер допил кофе, отодвинул чашечку и добавил: — Боже, до сих пор не верится, кажется, вот–вот, вот совсем недавно это случилось… Наверное, это какой–то знак свыше, предупреждение всем нам…
Да, с театральных деятелей много не возьмешь: им только частности запоминаются.
Лицедеи.
Есть, правда, один театральный деятель, бывший режиссер, ставший Банкиром, теперь — в Лондоне сидит, крутой человек на него наехал, Банкир, между прочим, тоже может быть причастен к убийству, но…
Лучше об этом и не думать: как говорил Главный — «попадешь пальцем в глаз».
Частности.
Нужны частности, много частностей. С одной стороны, конечно же, куда лучше делать материал одним большим блоком, не утопая в подробностях, а с другой…
И из частностей можно сложить мозаику, расположить камешки в нужной тебе последовательности.
Так сказать: Влад Листьев в целом и в частности. Да, прав–таки Главный: чтобы не попасть «пальцем в глаз», лучше всего заниматься частностями — любимые кулинарные, кондитерские и вино–водочные изделия, кофе, сигареты, милые всем подробности…
Камешки сортируются, тщательно выбраковываются раскладываются, моются с мылом и содой, шлифуются, чтобы ни заиграли на солнышке, вновь раскладываются…
То ли игра в бисер, то ли мозаика.
Но в любом случае — для зрителей. Читателей, то есть, «среднестатистических идиотов», как выражается Главный…
Следующим на очереди был Соратник покойного, весьма скандальный журналист, с которым они вместе на телевидении начинали. Когда–то был популярен не менее Листьева, чтобы не сказать — более: фирменная клетчатая кепочка на страх врагам, сенсационные разоблачения, «на острие ножа», «золото партии», «коррупция», «политбюро» и так далее. Репортер–одиночка, полуночный ковбой голубого эфира.
Теперь, правда, появляется редко: затравили его, бедного, еще когда Кравченко у руля стоял, еще в те романтические времена противостояния «козлов» и «демократов», и теперь вот долговременная депрессия.
Сидит у телевизора, смотрит видеозапись выступления Президента, скупо матерится…
— Ну, что я могу сказать? Рекламная версия отпадает целиком и полностью. Хотя убили, конечно же, из–за денег, Сейчас что делает погоду? Власть, которая делает деньги, и деньги, которые делают власть. Все взаимосвязано, — произнес Соратник и грязно, замысловато выругался.
— А что–нибудь такое… Ну, каким он был, покойный–то, при жизни? — спросил Обозреватель, помня о своем желании заниматься только частностями.
Идиотская фраза — «кем был покойный при жизни»… Что — и при жизни… ну, покойным?
Соратник поднялся с своего места, достал из шкафа бутыль водки.
— Выпьешь?
— Не–а, — Оборзреватель отрицательно покачал головой. — Работать над.
— Как хош… А я вот выпью. — С бульканьем налил себе в стакан, залпом опрокинул, поморщился. — Ну, каким человеком… Знаешь, я только об одном жалею: когда Влад закодировался, он стал для приятельских застолий совершенно потерянным человеком. Помню, как–то собрались хорошей компанией у меня дома — с женами, с семьями, как водится. Накатили мы бутылочку–другую, на душе сразу же потеплело, все расслабились. Все, кроме Влада. Он спиртного ни грамма в рот не брал — ни шампанского, ни пива. Представляешь, каково компании сидеть за одним столом с абсолютно трезвым человеком? Уже и разговор не очень стройный, все не столько других слушают, сколько сами сказать стараются. А рядом кто–то сидит и трезвым взглядом за тобой наблюдает, — Соратник поежился. Неприятно…
Так, дальше: Коллега покойного — нестарая еще тетка, неудачно молодящаяся, с толстым слоем косметической штукатурки на лице, в отличие от Актера, приняла гостя не на кухне, а как у порядочных — в зале.
Тетка эта раньше, как и Влад Листьев, сперва работала на интервещании (в то время — чисто кагэбистская контора, кстати говоря), и, по идее, должна была знать покойного много лучше других.
Обозреватель смотрел на нее с плохо скрываемой неприязнью — терпеть не мог таких теток: грубый макияж (красься, не красься — все равно все знаю?, сколько тебе лет), интонации, как у грузчика Вани из бакалейного магазина, всезнайство во всех областях и категоричнсть в суждениях, которую она всячески навязывает всем, кого видит.
Однако на этот раз она, казалось, действительно была раздавлена произошедшим…
— Можно, я коньяка немного выпью? — спросила Коллега виновато — будто бы это не Обозреватель был у нее в гостях, а она у него.
Тот слабо, насколько было прилично при такой ситуации, улыбнулся.
— Конечно…
— А вы?
— Спасибо, я за рулем…
Коллега налила себе полсгакана коньяка, хлобыстнула — будто бы в бездну, утерла губы и, потянув носом, произнесла, оправдываясь:
— Вообще–то я почти не пью…
— Я понимаю.
— Но тут такое горе…
— Я понимаю.
— До сих пор не могу в себя прийти. Глаза закрою, а перед глазами — он, живой…
— Понимаю, понимаю, — покачал головой Обозреватель, которого эти ничего не значащие подробности начинали раздражать — большего надо, большего, проникновенней, чтобы душу защемило…
— Влад–то вообще в последнее время не пил, — вздохнула Коллега и, как показалось Обозревателю — с искренним сожалением. — Закодировался.
— А раньше что — пил сильно?
— Случалось… Но — не больше, чем все остальные в Останкино.
Обернув к Коллеге костистое лицо свежемороженной щуки, Обозреватель осторожно произнес:
— Я вот материалы о покойном собираю… Как журналист журналисту, как коллега коллеге… Да что объяснять?!.. Вы ведь все–таки хорошо знали его, много лучше, чем те, кто теперь причисляет себя к его друзьям. Может быть, поможете чем…
Коллега вздохнула.
— Для меня это был идеалом журналиста, идеалом человека, идеалом администратора. Он был на редкость компромисным, умел гасить любые конфликты, он был неистощим на выдумки… Если честно, — она подняла на гостя полные слез глаза, не замечая даже того, что слезы могут смыть косметику, — если честно, я только сейчас начинаю понимать, что впервые в своей жизни столкнулась с гениальным человеком… Да, я не боюсь этого слово: Влад для меня действительно был таковым… Да, добрым, добрым гением Останкина, остроумным, интеллигентным и обаятельным человеком — таким, наверное, его запомнили все… — слезы брызнули из глаз коллеги, безжалостно смывая тушь с ресниц. — Нам так будет его не хватать. Простите, — она поднесла платочек к глазам — он сразу же окрасился в густой черный цвет, — я не могу больше говорить…
Следующий по графику — Функционер. Тот самый, о котором в недавней беседе с Главным Обозреватель упомянул вскользь.
Большой человек.
И, наверное, богатый…
Серое землистое лицо — такое лицо бывает у человека, страдающего хроническими запорами, отметил про себя Обозреватель, ввалившиеся щеки — не спал, видимо, очень вялое рукопожатие — словно дохлую рыбу в руки берешь, а не ладонь.
Ну, ну, давай — что ты скажешь?
Каким добрым и хорошим он был? «Как на лед он с клюшкой выходил?.. Он сказал — поехали, и махнул рукой…»?
Откашлявшись, Функционер произнес:
— Положение Останкино в последние несколько лет стало катастрофическим — имею в виду телеканал. Не по вине людей — не говорю обо всех, — тут же поправился он, — не по вине рядовых работников Останкино превратилось в подобие коммерческого ларька. Практика такова, что за все надо платить…
— Извините, — недовольно поморщился Обозреватель, — мы не «КримПресс», мне хотелось бы больше узнать о том, каким человеком он был…
Функционер вздохнул.
— Замечательным человеком… Принципиальным, но в то же время — готовым на компромисс. Умным, обаятельным, добрым… Боже, как только глаза закрой — его лицо. Влад, Влад — как нам будет тебя не хватать…
В принципе, из добытого материала (Актер. Соратник, Коллега, и Функционер в общей сложности наговорили полкассеты на диктофоне) правда, треть от всего общие фразы: «бескомпромиссным», «готовым на компромисс», «гением эфира», «обаятельным», «мужественным», «умным», «честным», «порядочным», etc. Из всех этих кирпичей, блоков можно было бы состряпать страниц десять, скрепив раствором собственных рассуждений, а этих десяти–более чем достаточно для проникновенной–проникновенной статьи, но на очереди был еще и Музыкант — очень–очень известный, во времена студенческой молодости и сам Обозреватель ходил на его сейшны и, будучи в нестандартном состоянии печени и крови, подтягивал с энтузиазмом: «Вот опять я опоздал…»
Музыкант — в отличие от других музыкантов был умен, хитер, изворотлив и расчетлив, тщательно подбирал каждое слово; наверное, именно эта хитрость и расчетливость позволила ему столько держаться на плаву. Равно и талант, мысленно добавлял Обозреватель, сделав такую незамысловатую уступку самому себе.
Но — умен, силен, стратег, ничего не скажешь: сразу же понял, что именно от него требуется…
— Знаешь, — задумчиво произнес Музыкант, перейдя сразу не «ты» (во–первых — почти одногодки, во–вторых — ситуация), — я недавно с удивлением обнаружил, что у меня в квартире большую часть занимают подарки Влада. У него был замечательный талант, когда привозил мне что–нибудь, то всегда говорил: вот это у тебя будет стоять на рояле, вот это — на кухне, вот это для машины… Я не могу понять, откуда у него было такое зверское чутье на все? Откуда он знал, что мне надо? И ведь не ошибался никогда…
Музыкант говорил долго и проникновенно, Обозреватель периодически поддакивал, кивал, делал сочувственное выражение лица, а глаза все время косил на диктофон — успеет ли Музыкант договорить, пока кассета кончится, или придется еще одну вставлять?..
Нет ничего приятней, чем подойти к утреннему газетному киоску, сунуть купюру продавщице и небрежно так, свысока:
— Такая–то газета есть?
И услышать в ответ:
— Продали уже почти все… Вот, возьмите, последняя…
«Такая–то» — это там где он, Обозреватель работает, в которую пишет.
Старая привычка — еще с подготовительно–университетских времен, когда он ходил по редакциям с торбочкой незамысловатых статей на коммунально–бытовые темы и таскал свои первые эксерзисы в «Московскую правду». Его теперешнее издание, конечно же, куда солидней, но привычка — она и у киоска привычка.
Скупив и просмотрев все газеты (а все газеты, разумеется, только и писали, что о трагедии), Обозреватель с удовольствием отметил правильность хода собственных мыслей относительно траурной заметки: две газеты, не сговариваясь, назвали печатные соболезнования «У него был честный взгляд», еще две — «Последний взгляд», три обыграли «час пик, который стал его звездным часом».
Вот так создаются журналистские штампы. Господа преподаватели спецкурса на журфаках, используйте, пожалуйста в своей многотрудной работе!..
Главный не обманул: через несколько дней Обозревателю действительно привезли видеокассеты — архивные записи с Останкино.
Бесчисленные «Взгляды», «Темы», «Поля чудес», «Часы Пик»…
Смотреть, не смотреть…
Во всяком случае, для сентиментальных воспоминаний материала — и так более чем: с лихвой хватило бы и на сентиментально–криминальный роман, даже с продолжением: «Влад Листьев убит‑2».
Сел за компьютер, просмотрел — много ли там еще про аквариумных рыбок писать?
Немного, вроде бы. Во всяком случае, успеет и то и другое.
Итак — начали: lех892, так, вошли в программу, текст, загрузить, директория, название:
УБИЛИ ЕЩЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
Да, теперь, после выступления Президента, после милицейских кордонов, пасмурного мартовского неба над Ваганьковским, после проникновенных слов, произнесенных над гробом, мы наконец поверили тому, во что верить отказывались: Влад Листьев убит. Убит жестоко, безжалостно…
Фу–у–у, как тяжело дается первый абзац!
Он всегда тяжело дается. Главное в таких материалах — дойти до половины, до «экватора», а потом — само собой покатит. Это как дизельная машина, как его «бээмвуха»: главное разогнать, а дальше несется, как танк Т–90 на Гудермес…
Ну, теперь о том, каким он парнем был, самое главное: читатель–идиот заглатывает эту наживку, как таблетку цитромона:
…он был остроумен, обаятелен и на удивление скромен: именно таким запомнили его и миллионы телезрителей, и коллеги. И теперь, когда мы поверили в его смерть…
Ну–ка, ну–ка, что там Коллега говорила?
Гений?
Ну, это уже чересчур. Героизация может стать утрированной, и тогда не статья получится, а пасквиль. Но слово подходящее. Ага: «добрый гений Останкино». Сгодится.
…никто никогда не знал и не узнает, как много он работал, как много делал. Для нас с вами. Ведь мы, россияне, зацикленные, закомплексованные, злые, ненавидящие друг друга и самих себя, становились добрей, свободней, раскованней… Его «Поле Чудес»…
Что–то друг не звонит — наверное, все–таки умудохали в этой Чечне больше пяти тысяч. Надо бы официальные цифры проверить — да некогда вот…
…кто, кто, у кого могла подняться рука на этого незаурядного человека, на такого человека? — этот вопорс задают сегодня не только…
Так всегда: когда проклинаешь этот маленький агрессивный аппарат, он дребезжит, как безумный, когда ждешь звонка — ничего нет.
Нет, наверное, боится, что проспорит: кажется, последняя официальная цифра была две тысячи…
Или нет?
…это позор, позор всего нашего общества. Агрессивность, которая…
Все–таки, если разобраться — телефон не так страшен. Ведь по телефону могут случиться и хорошие новости. Нечасто, правда… И все–таки: сколько в Чечне уже положили?..
…там, в подъезде на Новокузнецкой убили не Влада. Там убили всех нас: тебя, меня, всех, кто…
Может быть — самому позвонить? А–а–а, потом, когда для стейтсов халтура будет готова. Корм для гуппи — и кто его тут будет покупать по пятнадцать баксов за банку?..
…убийство произошло через неделю после того, как было официально заявлено о сокращении коммерческой рекламы, вплоть до её полного исчезновения с экранов и создания «общественного телевидения»… Как–то раз в беседе с коллегами Влад оборонил: безнравственно рекламировать корм для собак в стране, где многодетная мать получает пособие, на которое не проживешь и трех дней. Агрессивная телереклама, которая «промывает мозги» российскому телезрителю, способна…
Так, «козла» сделали. Прилагательные–то какие: агрессивная, безнравственная…
Что–то быстро идет материальчик. Не зря, значит, пол–Москвы исколесил, фактуры поднабрал, зарядился… Может быть, за сегодняшний вечер и рекламный текст про аквариумный корм успеется…
…прости нас, Влад. Ты ушел, но…
— Дзи–и–и–инь!..
Сейчас, сейчас — последний абзац.
Все, точка, записал на винчестер и — гуляй, Вася, жри опилки. То есть — «Абсолют–цитрон».
— Дзи–и–и–инь!..
Подошел к аппарату, скосил глаза на табло определителя: точно, приятель из редакции.
— Алло, — Обозреватель попытался придать своим интонациям как можно больше деланного безразличия, — это ты?
— Да.
— Сколько?
— Чего «сколько»?
— Ну, положили наши славные генералы, слуги царю, отцы солдатам, наследники Суворова и Кутузова?
— Тыщи три будет. Я вот что хотел предложить: давай я к тебе подъеду сейчас, у меня литр «Абсолюта».
— Аванс?
— Считай, что да. Ты свободен?
— Как раз минуту назад материальчик добил, приезжай. Ты откуда?
— С Тверской. Через десять минут буду. Я на такси…
— Ну, жду…
Положил трубку, прошел в зал, включил телевизор и от нечего делать вставил в прямоугольник рта видака кассету — из тех, из принесенных.
«Тема».
Хорошая идея: телевизионное шоу плюс школьный урок; с поднятием руки, с ответами с места…
Впрочем, идея не нова…
Обозреватель со вздохом посмотрел на экран.
Листьев — в своем клетчатом костюмчике, с микрофоном, улыбается в камеру:
— Наша «Тема» посвящена наемным убийцам, или «убийцам по заказу». Я хочу, чтобы никто из нас никогда не испытывал страха, что его убьют…
Обозреватель нажал на перемотку — нет, не то. Можно, конечно, использовать в качестве эпиграфа к материальчику — тем более, что «в тему» но, к сожалению, газетный обзор — не роман; эпиграф будет выглядеть слишком претенциозно и бесвкусно.
Перемотал кассету.
Дальше — «Час Пик». Собеседник, вроде бы, какой–то следователь или крупный чин то ли из ФСК, то ли из Прокуратуры. Беседуют об убийстве Холодова, похоже на то.
— Дзи–и–и–инь!..
Ну, на этот раз не привычное орудие пыток, не изверг электрический, не телефон — дверной звонок. Похоже, кстати, звучит; надо бы на мелодичный поменять, да никак руки не доходят. Вот, халтурка про рыбок продастся — тогда…
— Дзи–и–и–инь!..
Друг, наверное, с «Абсолютом–цитрон». Ну, шас загудим… А завтра можно будет курьера из редакции вызвонить, через него передать и — еще по «Абсолюту»…
— Дзи–и–и–инь!..
Иду–у–у!..
Обозреватель уже шагнул по направлению к прихожей, но в последний момент замешкался и невольно посмотрел на телеэкран.
Листьев, серьезно, с прищуром глядя на собеседника, спрашивал:
— Версия, которая выдвигается это политическое, заказное убийство. Кто, по–вашему, мог его заказать?..
«Сектор «Банкрот», все ваши очки сгорают»
…огромный «chrisler» цвета яичного желтка, довольно урча пятилитровым двигателем, катит по правой полосе бесконечной и унылой нью–йоркской street; он, сидя за рулем — высматривает, не поднимет ли кто hand, не проголосует ли?..
Тяжел и черств bread таксиста в городе New York, особенно — когда ты из дикой коммунистической Russia, «империи зла», страны самоваров, матрешек, wodka, белых медведей, автоматов системы Калашникова, Афганистана и бесконечно умирающих Генеральных секретарей, особенно — когда нет еще своей машины, особенно — когда…
Сколько раз, сидя на родной московской коммунальной кухне, кричал под водку с огурчиками: «Да мне бы туда!.. Да я бы там!.. Да они бы у меня!… Да вот, такие, как я могут по–настоящему показать себя только там!»
Ну, на–покажи, покажи…
Ан не они теперь у тебя, а ты — у них: мерзкое американске sky, заклеенное искусственными электрическими светилами, табуны вонючих саг, злые, всегда куда–то несущиеся people.
Да, вот и на своей шкуре испытал «их нравы»: «Нью—Йорк — город контрастов», капиталистические джунгли, человек человеку волк…
Наконец–то: на тротуаре стоит подвыпивший man в кепочке, и руку поднимает — совсем как в родной Москве, где–нибудь в Замоскворечье или Сокольниках. Вроде, не бандит, не наркоман — это грязные black наркоманы всегда беззащитных русских таксистов грабят…
Нога — в тормоз до пола,
— Manhattan, — недовольно произносит пассажир с сильным славянским акцентом, усаживаясь сзади, за стеклянную перегородку.
— Yes… — он оборачивается и…
— Мать моя женщина! Агимула фаирид! [2]
— Лева! Ты???
— Я! Я! — с небывалым воодушевлением кричит пассажир Лева на весь New York, орет, сукин сын, с гадким одесским выговором и сразу же лезет целоваться красным слюнявым ртом: — Слушай, что ты здесь делаешь?.. — а сам он, таксист то есть, почему–то отвечает уторбным голосом виденной уже много лет позже в Москве рекламы:
— Рекламирую кофе «классик»…
Тьфу, зараза — и приснится же такое!..
… дзи–и–и–и–и–и–и–и–и–инь!..
Телефон гремел настырно и въедливо, начисто разрушая приятное воспоминание, сновидение из той, прошлой жизни.
Ох, поспать бы еще сейчас — ничего больше не надо…
.., дзи–и–и–и–и–и–и–и–и–инь!..
Писатель, стряхнув с себя остатки недавнего сна, взял трубку и — маскируя недовольство:
— Алло…
Никогда нельзя открыто высказывать своего недовольства — этому он научился в Америке. Все — на улыбочке, легко и свободно. Раздражаются только неудачники, а нет ничего страшней, позорней, ужасней, безобразней, бездарней, кошмарней, чем быть неудачником. Это, наверное, еще хуже, чем быть импотентом…
А чего ему раздражаться; он — известный Писатель, его книги расходятся минимум стотысячными тиражами (еще бы; русские по–прежнему самая читающая нация!), переведен на европейские, азиатские, африканские и американские языки, чуть ли не на эсперанто, он преуспел в жизни, наверняка не меньше, чем тот, кто перебивает ностальгические сны своим идиотским звонком.
А потому — вежливо, вежливо так:
— Алло…
С той стороны провода — ровное и бесстрастное, будто бы голос автоответчика:
— Не надо тебе этим заниматься. Вот так, точней: — «не. надо. тебе. этим. заниматься.»
Писатель опустил с кровати ноги, сунув их в шлепанцы, уселся, переложил трубку в другую руку.
— Что?
— Не занимайся тем, чем занимаешься.
Bliaddz–dz–dz(ь), как говорят в славном городе New York впервые приехавшие туда русские, наверное не туда попали…
— Вы кому звоните?
— Тебе звоним, — послышалось из трубки все такое же бесстрастное, — мы знаем, кому мы звоним… Не делай этого. Не пиши об этом.
— Почему?
— Потому что мы этого не хотим… Ты понял?
Из трубки радиотелефона послышались короткие гудки, извещавшие об окончании разговора.
Писатель, недоуменно повертев трубку в руке, положил ее на место и, нырнув под одеяло, попытался заснуть.
Но сна не было.
Как же — заснешь тут!
Наверное, просто идиотские выходки телефонных хулиганов, как во времена его голубого детства: «Алло, это с телефонной станции… Какой длины у вас шнур? Ах, вы не знаете? Измерьте. Полтора метра? А надо ровно метр. Что значит «что делать?» Лишнее отрезать…»
Bliaddz–dz–dz(ь)…
Но откуда же звонивший знает, что теперь он собрался писать именно об этом?
Непонятное что–то.
Кто?
Откуда?
Ведь не пишет еще, а только… только подумывает написать…
Метнув ненавидящий взгляд в телефон, Писатель улегся и перевернулся на другой бок.
Он попытался воскресить в памяти какие–нибудь приятные воспоминания, однако ничего, кроме той встречи с которым по счету знакомым Рабиновичем (сколько их теперь в Нью—Йорке — одному Богу известно), не вспоминалось.
Говорят, что Родину можно продать только один раз: неправда это. Родину можно продать какое угодно количество раз; смотря сколько у тебя Родин…
Кто–кто, а Писатель знал это лучше, чем кто–нибудь другой…
Писатель родился в прекрасной горной республике, славной спелыми гранатами, мусульманским гостеприимством и восточными сладостями, и до абитуриентского возраста считал эту республику своей Родиной, пока не решил поступать в столичный универ, и Родиной резко стала Москва. Поступление в университет, правда, было сопряжено не только с продажей первой по счету Родины, но и национальности, пятая графа, сами понимаете ли, а также продажей первородной фамилии, что естественным образом вытекало из предыдущих продаж: Писатель (тогда еще не писатель, а абитуриент), продав предыдущую, не очень–то благозвучную и не способствующую поступлению на журфак МГУ, тут же приобрел более красивую, эффектно звучавшую. А потом диплом столичного вуза, как вы понимаете, не чечевичная похлебка. Впрочем, эта продажа произошла еще до того, как он поступил в универ; иначе — как знать! — может быть, и пришлось бы возвращаться домой, к спелым сочным гранатам и милым барашкам на зеленых склонах, в свой прекрасный белоснежный город, когда– то построенный жадными до нефти англичанами…
Этапы большого пути в комсомольских и партийно–профсоюзных газетах — не в счет, тем более, что они никак не были связаны с продажей ни того, ни другого, ни третьего; но — хотелось большего, хотелось, понимаете ли, большего.
Тем более, что разрушительные идеи юдофобии все более и более овладевали массами широких слоев населения. Возвращаться в гранатовую республику Писателю (тогда еще не Писателю, а обыкновенному комсомольскому журналисту) не хотелось; во–первых, та Родина была уже не его, а во–вторых, как говорится, перспективы культурного роста даже малых народов велики — бедному аиду всегда можно ожидать неприятностей и погромов.
В то время по «ящику» еще не крутили рекламных роликов, крутили только «Новости дня», но как–то в частной беседе один коллега недвумысленно намекнул Писателю (тогда еще не писателю, а просто советскому гражданину нерусской национальности), намекнул словами телерекламы, ставшей популярной через двадцать лет: «Хорошо там, где вас нет», на что тог словами телерекламы же и ответил: «Нет, хорошо там, где мы есть»…
И потому Писателю (тогда еще не писателю, а репатрианту — «олим») ничего другого не оставалось, как свалить в Палестину, туда, где «мы есть», и «есть» очень много, продав при этом очередную Родину, Правда, к тому времени новая моноэтническая Родина» «страна оголтелого милитаризма и воинствующего шовинизма». как регулярно писалось в его бывшей газете, активно воевала с Ясиром Арафатом и фанатиками–шиитами, да и вообще к выходцам из коммунистической России относились весьма прохладно (хотя, как утверждал популярный в те времена бард, «там есть» «на четверть бывший наш народ»). Короче говоря, Писатель (тогда еще не писатель, а иммигрант) посчитал за лучшее прервать алию и свалить с земли обетованной за океан, в Штаты, где, по примеру многих обитателей русско–еврейского гетто Брайтон—Бич, устроился таксистом.
Что делает брайтон–бичский таксист в Нью—Йорке? Он суетится, бегает, прыгает, ругается, смеется — и т. д, Нью—Йоркского таксиста, эдакого глупого пингвина, тоже можно скушать.
Кому угодно.
От злого полицейского на углу до тупого чиновника иммиграционной службы.
А потом: что он, непризнанный на предыдущих Родинах гений — таксистом сюда приехал работать? Таксистом он мог бы быть и в Москве. А потому надо взять в прокатной конторе у бича на Брайтоне печатную машинку с кириллицей, накупить бумаги и — писать, писать… Амбиции, понимаете ли…
Первые прозаические опыты в Новом Свете обескуражили совершенно — точней, не сами опыты, а их первые результаты; литературные агентства что–то заказывали, иногда даже прикупали рукописи, но как–то вяло и неохотно, а платили — просто смех сколько платили. Да и отношение к изящной словесности совсем как по русскому классику Даниилу Хармсу: «Писатель: Я писатель.» Ваня Рублев: «А по–моему, ты не писатель, а говно»».
Писатель (тогда еще не писатель, а таксист) никогда бы не подумал, что американцы — так тупы, невежественны и безобразно забиты, что кроме телевизора, бейсбола, баскетбола, бокса, регулярных постельных телескандалов с участием голливудских звезд, предвыборных компаний и своих идиотических шоу их ничего не интересует — даже его замечательная детективная проза, обличающая ужасы и агрессивность советской тоталитарной системы; об ужасе и агрессивности которых сам Писатель (тогда еще не писатель, а рядовой обитатель Брайтон — Бич, пробивающийся литературной халтуркой), впрочем, имел весьма туманное представление, разве что по «New York Times»…
Однако Писатель (через некоторое время уже действительно, так сказать, писатель, writer) начал усиленно совершенствовать написанное, поставив на это все, что можно — и не ошибся…
И вот теперь, в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году он — один из самых многотиражных писателей России (одну из предыдущих Родин, как выяснилось, можно, однажды продав, купить вновь, а когда у тебя много money, как бы и дешевле выходит), его многочисленные детективы–мелодрамы–триллеры расходятся «на ура»; он известен, Издатели вкладывают в него деньги, и не боятся прогадать.
Пусть его прозу издевательски называют «таксистской», пусть поносят его в «серьезных» литературных изданиях — ну и что?
Тут, в России поэт — не больше чем поэт (не покупают поэзию, малотиражна и потому убыточна), но Писатель, он то есть –— больше, чем писатель;
его романы идут на за милую душу.
Что такое писатель в Штатах? Ничтожество, полное ничтожество, известное разве что студентам литературных факультетов. Кто знает о еще здравствующих Воннегуте или Сэлленджере? Никто, горстка поганых нищих интеллектуалов. Не читают американцы книжек, такая у них особенносгь национальной психики.
А тут, на вновь приобретенной Родине, назови только его фамилию, и все сразу: а–а–а, да, да, читали, как же, знаем… Наверное, потому, что количество видеомагнитофонов, телевизоров и прелюбодействующих голливудских звезд на душу населения несоизмеримо меньшее.
Писатель, короче говоря.
Чтобы издать многотиражную книжку, претендующую на бестселлер, Издателю в России на все про все надо минимум сто тысяч долларов; деньги, может быть и большие для Нью—Йорка, но ничтожные для пресыщенной и ко всему привыкшей Москвы. И то нет гарантии, что тебя не «обуют» конкуренты, выпустив книжку первыми и продав по демпинговой цене, что ты не зависнешь, что книжка не ляжет на складе мертвым грузом, и оборот денег резко упадет, что на Издателя не наедут очередные бандиты (в последнее время мода пошла: плати книжками). Средняя оптовая цена книжки–«стекляшки» на «Олимпийском» — от доллара до двух, средний тираж — пятьдесят тысяч, хотя, случаются и четырехмиллионные тиражи.
Сколько, Писатель, твоих книжек напечатано в жадной до криминальных знаний России?
Десять, пятнадцать, двадцать?
А сколько переиздано?
А сколько продано авторских прав?
А–а–а, не все ли равно?
Ясно одно: книжка — такой же потребительский товар, как крем для бритья, жевательная резинка или обувь: чем быстрей кончается крем, чем быстрей сжевывается резинка, чем быстрей стаптывается обувь, тем скорей надо купить другие — правильно? Правильно. А значит, тем лучше производителю — тому, кто в эту книжку вкладывает деньги. А потому писать надо так, чтобы «быстрей читалось, быстрей кончилось» и захотелось еще, а это значит: никакого эстетства, никакого занудства, никаких интеллектуальных изысков. Меньше прилагательных и деепричастий, больше существительных и глаголов, меньше диалогов, больше «action» — действия.
Драки, убийства, стрельба из всех видов оружия, взрывающиеся автомобили, похищения, освобождения, террористы, бандиты, следователи…
Ну, для разрядки — мелодраматическая линия, Ромео и Джульетта: он — бандит, она — прокурор, он — еврей, она — нееврейка, он — вRussia, она — вNew York, он — правый, она — левая.
Но — не пересолить, иначе у читателя начнется кариес коры головного мозга, как началось после массированной атаки книжками–сериалами из жизни латиносов.
«Every time…» — и наплывом русский текст: «Каждый раз во время чтения книжек по мыльным операм вы подвергаете кору головного мозга…»
И вывод:
«Книжки «action» — единственные книжки, имеющие качество «action». Книжки «action» помогают предотвратить кариес…»
Еще в Штатах Писатель отлично понял одно: если ты действительно хочешь написать бестселлер, над брать тему, которая у всех на слуху.
Что там — «Буря в пустыни»?
Вот и отлично: напишем–ка мы книгу о Саддаме Хуссейне и любви в нему американской летчицы.
Восточная секта, отравившая зарином токийское метро?
Хорошо, получите вот такое: ужасные восточные сектанты сеют смуту и разрушение… А заодно, чтобы пострашней выглядело — зверски и по–сектантски насилуют все, что попадается у них на пути: мужчин, женщин, детей и домашних животных, собак, котов и голубей, злнамеренно отравляют леса, пастбища и водоемы, убивают Президента, овладевают атомной бомбой и секретом производства «пепси–колы», братаются с Хуссейном и его большим другом, Сыном Юриста, и в конечном итоге захватывают власть над миром. Но отважный сверхсекретный агент ФБР, майор Пронин… простите, Бой Джонс, презрев опасность, вступает с ними в смертельную схватку, в неравный бой, и…
В Штатах, конечно же, тираж — не больше десяти тысяч. Там вообще очень маленькие тиражи, даже десять тысяч — ого–го какой! Ну, Голливуд, может быть, купит в качестве литературного сценария.
Но тут, в России…
В России–то что делается — к книжному лотку в подземном переходе — не пробиться!
Нет, этих русских, bltaddz–dz–dz(ь), положительно невозможно понять!
Писатель поднялся с кровати поздно — за полдень, Выпил кофе, полчаса лениво слонялся по квартире, поглядывая в окно: sky такое же серое, такое же противное, как теперь над New York, наверное… Только электрических тысячеваттных светил по ночам поменьше. Ничего, наверстают упущенное…
Теперь — о главном: о книге, писать которую надо сесть немедленно, чем раньше, тем лучше. Пока тема еще hot, горячая то есть, тема, пока она на слуху, пока убийц не поймали (в том, что убийц — истинных или подставных поймают. Писатель нимало не сомневался)
Да, если ты действительно хочешь написать бестселлер, бери тему, которая на слуху.
Что создает «слух»?
Правильно, «ящик», телевизор создает сир И слухи. И все остальное.
Это — первое и непременное условие успеха
Второе — загадка.
Тайна убийства Кеннеди до сих пор не раскрыта, в 1963 году вся, даже самая халтурная и бездарная литература о событиях в Далласе стала бестселлерной
Почему?
Потому, что была тайна.
А лучшая в мире тайна — тайна неразгаданного убийства: будоражит, как ничто другое.
А кого, кого там убили?.. Ну–ка, ну–ка, что там у нас по телевизору?..
Писателю было понятно, и — с самого начала понятно: это будет не просто бестселлером, а — супербестселлером. Хит, платиновый диск, короче говоря.
Убийство известнейшего человека, «журналиста, призванного Перестройкой», «которого любили миллионы»…
Ну, и так далее.
Бесплатная реклама, к тому же: портрет будущего героя бестселлера восемь часов висел в экране и намертво, ржавым кривым гвоздем вбился в сознание этих самых миллионов. Да и информационные программы едва ли не в каждом выпуске подогревают интерес к событию: «…в убийстве подозреваются…», «…черная вязаная шапка горшком…» «…у следствия есть несколько версий…»
Живая реклама!
И, кстати говоря, бесплатная…
Ясно, что минимальный тираж — тысяч триста, а то и больше.
Короче — то, что надо.
Писатель, прикинув возможные варианты (просто криминальный детектив про убийство журналиста — раз, политический триллер с «интригами» — два и псевдодокументальная проза — три) остановился на последнем, но, как человек опытный (не только как писатель, но и как коммерсант — новый русский, короче говоря), решил проконсультироваться и с Издателем — тем самым, который «вложил в него много денег» (по словам самого Издателя, впрочем)…
Сел за руль, по старой таксисткой привычке выехал в крайне правый ряд и медленно, посматривая на прохожих, покатил в офис.
Глядя, на разбитую, заляпанную глиной дорогу, заглатываемую капотом, Писатель лениво крутил бланку. Что ни говори, a Moskow — не New York, чтобы ездить по этим асфальтовым проселкам, надо даже не профессиональным таксистам быть, а ветераном ралли «Париж—Дакар»…
Тоже, кстати, темка ничего — если бы подвязатъ под чье–нибудь убийство, изнасилование или похищение, то в Штатах бы потянула. Но не тут: тут, в России, надо что–нибудь конкретное.
Как это.
Ну, ничего — сейчас договоримся. Издатель в литературе — полный лопух, но такие очевидные вещи нельзя не понять даже лопуху.
М–да, теперь почти по Пушкину, разговор книгопродавца с поэтом, с Писателем, то есть:
Впрочем, и вдохновение тоже можно продать, также, как и Родину — кому–кому, а ему, Писателю, это очень хорошо известно…
Выслушав идею Писателя, Издатель повеселел (видимо, быстро просчитал в уме: минимум триста тысяч, да если максимум по полтора бакса, да минус расходы на типографию, взятки, бумагу, целлофан, смолу, картон, аренду, гонорар и прочее — сколько это будет?).
Боже, как хорошо…
Улыбнулся крокодильей улыбкой:
— Не понимаю только — как ты об этом писать будешь?
— О чем?
— Об убийстве. Точнее — о личности убитого.
— А я уже начал писать, уже десять страниц сегодня утром накатал, — соврал Писатель; писать–то он еще не начал, только прикинул, как и что…
Откуда же тогда те, что утром звонили, об этом знают?
— И как?
— Ну, скорей всего — документальная проза. Псевдо, так сказать, документальная.
— Шерлок Холмс?
— Скорей майор Пронин, — сдержанно улыбнулся Писатель. — Ближе…
— А как это? — поинтересовался Издатель, с трудом соображая, что же такое «псевдодокументальная проза» — слово–то какое–то новое.
— Надо будет поднять документы, просмотреть, как и что было на самом деле, что за кадром осталось, — ответил Писатель, прекрасно понимая, что фраза «как было на самом деле» звучит одновременно и очень убедительно (во щас я вам тако–о–ое расскажу), и более чем расплывчато (мал ли что может остаться «за кадром»?).
— И что?
— И облечь в красивую литературную форму, — профессионально подытожил Писатель.
— А документы–то где возьмешь?
— Ну, не только документы. Как говорят в CIA — есть такой способ «обработки открытых источников информации».
— ?
— Периодика, видеозапись передач с его участием, показания друзей, свидетелей и очевидцев… Можно настричь. А потом — потом меня пригласили на пленарное заседание совета по борьбе с организованной преступностью, — откровенно, чтобы набить себе цену, соврал Писатель.
Ну–ну–будут тебя, таксиста из New York на закрытые заседания приглашать!
Своих таксистов, что ли нету?
Издатель замялся: конечно же, в литературе — полный лопух, но понимает щекотливость и деликатность момента…
— А как ты о нем писать будешь? Что — «дон Влад Листьев, мягко улыбнувшись, произнес: как ты могла обо мне такое подумать! Да я, да она…»
Эта была фраза из последней книжки, какой–то там мелодрамы, рукопись которой Издатель читал на ночь (и по работе, и — для собственного удовольствия, так сказать, надо же приобщаться к знаниям, надо же иметь основания считать себя культурным человеком, не только же бухгалтерские отчеты читать!..)
Видя колебания Издателя, Писатель тут же перешел в наступление:
— А Шекспир, когда писал «Юлий Цезарь» или «Клеопатру» — он что, выискивал в древних манускриптах их точные и дословные фразы? А Золя, когда писал «Саламбо» — что, тоже? А Джованьоли, а Дюма, а вся эта лениниана — что, каждое слово Владимира Ильича, все эти бытовые выражения, вроде «подойдя к окну» тоже подслушали и записали? Хрен там, — поморщился Писатель. — Они это домыслили. И им поверили, потому что домыслы их были очень убедительны. И у Шекспира, и у Золя, и у Дюма…
— Новая реальность? — Издатель иронично посмотрел на собеседника.
— Приблизительно так. Мир будет таким, каким мы его создаем… Поверят, каждому слову поверят. В любом человеке заложена святая и незыблемая вера печатному слову — еще со времен Гутгенберга…
— Смотри, мне тут передали, что один Обозреватель тоже, вроде бы, создает новую реальность…
— Писатель нахмурился.
— Что за он?
— А–а–а, из одной паскудной газетки. Я с его Главным недавно переговорил по телефону — ну, там без тайн, без интриг, без кровавых подробностей, что–то вроде «Знаете, каким он парнем был?..»
— Ну и пусть создает, — равнодушно ответствовал Писатель, — будет два параллельных мира, две, так сказать реальности.
— И обе — новые?
— А почему бы и нет?.. Только моя реальность будет лучше, — со скрытым самодовольством профессионала улыбнулся Писатель.
Еще бы — он знает себе цену. Как по русскому классику Даниилу Хармсу: «Он — Писатель, а ты — Обозреватель…» Говно ты, короче говоря — так, кажется?..
Чтобы литературные критики в один голос заявили о многогранности твоего таланта, надо, чтобы и книга выглядела «многогранной». Профессионализм, интрига, структура, построение, сюжетец покруче, стилистика, язык, книжная графика, etc — «все грани одного кристалла», как в телерекламе «Русского дома Селенга». А из множества граней одного кристалла самые заметные два: карьера главного героя (деньги, приобретения, падения и взлеты, то есть — успех) и личная жизнь (семья, женщины, любовницы; если есть, конечно)… Ну, а между ними еще одна грань, второстепенная, перемычка: отношение ко всему этому окружающих.
Ну, а интрига, структура, построение, стилистика, язык, книжная графика и даже сюжетец покруче — как ни странно, в подобной литературе второстепенное. Главное — сам герой, его личность…
Это Писатель понял сразу: принцип псевдодокументалисгики.
Итак — «обработка открытых источников информации». Вот и прекрасно, с этого и начнем…
В тот же вечер Писатель отправился в библиотеку, и отксерил все, что только удалось обнаружить о Листьеве. На следующий вечер — в Останкино, где за несколько зеленых бумажек с портретами Президента Франклина получил чемодан видиокассет.
Такие вот «открытые источники». Есть, правда, еще и закрытые (то, чего не писалось), есть и слухи, то есть — полуоткрытые, полузакрытые (то, что могло быть написано, а могло и не быть).
Три источника, три составные части, как когда–то, в золотые студенческие времена учил Писатель на журфаке МГУ (когда еще не был писателем).
Но граней — главных–то граней в кристалле всего две.
Первое — карьера. Карьера и все, что с этим связано.
«Добрый гений Останкино, — вспомнились Писателю строки из чьей–то похоронной статьи, — человек, который…»
И, развернув газету (ту самую, о которой ему сегодня Издатель говорил — ну, с Обозревателем), принялся за «обработку»:
…он был остроумен, обаятелен и на удивление скромен: именно таким запомнили его и миллионы телезрителей, и коллеги.
Так, общие фразы, Ничего путного, хотя, и за это, при желании, можно зацепиться.
…никто никогда не знал и не узнает, как много он работал, как много делал. Для нас с вами. Ведь мы, россияне, зацикленные, закомплексованные, злые, ненавидящие друг друга и самих себя, становились добрей, свободней, раскованней… Его «Поле Чудес»…
Короче — понятно: Листьев ассоциируется прежде всего с «Полем чудес». Такая вот новая реальность, — бесплатные призы и подарки, сникерсы и тампаксы…
Писатель не зря жил в Штатах и конечно же знал, что шоу, подобное «Полю чудес», существует и там, только называется иначе — без идиотического намека на сказку про Золотой Ключик. В USA такие передачи называются «квизами». Содрана шоу–программа, целиком и полностью содрана. Поляки вот тоже сделали — «Kola fortuny» называется, «Колесо удачи», то есть, но — честно признались: да, не наш товар, вторичный, лицензионный… Есть в Штатах и своя «Тема» — шоу Ларри Кинга, всеми любимое, всем известное. Так сказать — свободный школьный урок на заданную тему, зрители–ученики свободно сидят, свободно высказываются, руку свободно поднимают…
Хорошая идея, но — вновь не Листьева. Плагиат, мягко говоря.
Опять телефон звонит — нет, что же это такое? Никак не дадут сосредоточиться…
Вliad dz–dz–dz(ь)…
Поднялся, и шаркающей походкой подошел к тумбочке, взял радиотрубку.
— Алло…
— Не надо тебе этим заниматься, — послышался из трубки знакомы голос автоответчика, — не надо…
Тут уже не до сдержанности, не до маскировки неудовольствия — нет, вы только посмотрите, что делают, только посмотрите!
— Не надо тебе этим заниматься, — повторила радиотрубка с мерзкими электронными интонациями.
— Fack you, — выругался Писатель любимым выражением московских пэтэушников, обогащенных опытом просмотра американских комедий с Эдди Мэрфи, — а пошел бы ты на…
Никакой реакции — набери автоматический прогноз погоды по Москве и пошли подальше «ветер порывами до умеренного», результат будет тот же.
— Смотри, мы тебя предупреждали… Вот как точней: «смотри. мы. тебя. предупреждали».
Нет, наверняка хулиганы — не иначе. Ведь никто, кроме Издателя не знает, чем он занимается, какую книгу надумал написать, да ведь и Издатель наверняка не самоубийца — другие издатели узнают, наймут бригаду нищих писателей — в восемь рук за месяц настрогают, выбросят на рынок по демпинговой цене — и все…
Или попали не туда?!
Ладно, теперь надо думать не об этом — о демпинговой войне и прочих вещах, пусть у Издателя голова болит. Он — Писатель, и поэтому должен писать.
А прежде чем что–то написать, надо прочитать — то есть, «обработать» те самые «открытые источники информации», стало быть…
Так, а вот и родная когда–то газета.
Заголовок:
ЭТОТ БРЕД У НАС СМЕРТЬЮ ЗОВЕТСЯ
«…то идут киллера бичевой», — мысленно продолжил перефразированного в названии Некрасова Писатель.
Ну, ну, и что дальше?
…личный секретарь Влада Листьева видела своего шефа не последней. Но общалась с ним в день убийства больше всех: слышала все его разговоры, разгребала на столе его документы, вежливо «отсеивала» ненужных Владу людей.
Все было, как обычно. Хотя нет…
Так, беллетристика — ничего путного, не за что зацепиться; во всяком случае, о Листьеве как о профессионале ни слова.
Все работают, все разговаривают по телефону, всехдостают ненужные люди — как, например, эти, что только что звонили…
Дальше:
В последнее время просил перевести ему книгу про Ларри Кинга. Многие считают Влада его двойником; Ларри тоже шоу вел и подтяжки носил. «Хоть знать буду, кого я копирую». Закончила она переводить на том месте, где Ларри говорит о том, как интересно вести дискуссию о стоимости человеческой жизни… [3]
Так, Ларри Кинг, конечно же ему, Писателю то есть, хорошо известен — не зря ведь в Штатах столько лет проторчал!
Наверняка был известен и Листьеву — не темный же человек!
Не мог не знать.
А где Писатель еще видел это имя — ну, среди своих отксеренных в библиотеке газеток?
Ага, вот:
— Вы знали вашего российского «двойника» Влада Листьева?
— Да, я несколько раз говорил с ним по телефону…
— Он говорил вам о том, что тоже стал носить очки и подтяжки?
— Да, он вообще был большим почитателем моего творчества. [4]
Так–так–так, что это?
Ага, интервью с Ларри Кингом.
Значит, врет кто–то один — или Влад Листьев, или Ларри Кинг…
Кто?
Ясно, что капитал Ларри Кинга (не «Капитал–шоу», а просто капитал, главная ценность) — его честнейшее имя, безукоризненная репутация. Не станет он врать, да еще русской газете.
Да и кто первым подтяжки надел перед камерой?
Ларри Кинг, который на экране вот уже лет двадцать, или Листьев? Значит, Листьев просто соврал (не секретарша ведь!). Примитивно и грубо, справедливо рассчитывая на полную некомпетентность российских сограждан относительно американсих телешоу и их ведущих в широких семейных подтяжках.
Не знал «на кого похож» — как же, как же!.. А перевести для чего просил? Из–за голого, так сказать, любопытства? Ну–ну — ясно для чего.
«Один–ноль, — подытожил Писатель, — значит те, кто обвиняли Листьева в грубом плагиате, не ошибались. Слизать чужую идею, выдать за свою… Публика тут, в России, все эти любители и особенно любительницы «Полей чудес» и «Тем» — на редкость дебильная, между прочим, публика. Сидит стадо баранов в телестудии, и смотрит на проповедника — ну, ну, а какой теперь он вопрос задаст, как проблемку–то.,
А вот еще:
Ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Яковлевич Ворошилов как–то раз сказал, что все программы «ВиДа» — это плагиат, что все украдено на Западе… [5]
Да, с этим разобрались: секрет бешенной популярности кроется в простом и незамысловатом воровстве чужих идей. Можно назвать замаскированно — «плагиат», но суть–то не меняется!
Воровство — оно и в New York, и в Москве воровство…
Да. полезное это занятие — просматривать старые газеты.
«Открытые источники информации», так сказать…
Да, с карьерой более–менее ясно: карьера построена на воровстве чужих идей.
«Все грани одного кристалла»… «Русский дом Селенга».
Ну и страна, bliaddz–dz–dz(ь)…
За несколько вечеров Писатель уподобился штатному референту ЦРУ — совсем, как в популярном когда–то фильме «Полет Кондора».
«Открытые источники информации», то есть ксероксы газет и видеозаписи программ дали многое — плагиатор, мелочный, жалкий, корыстолюбивый, обуянный многочисленными пороками, отягощенный бесчисленными предательствами друзей…
Он, Писатель, ловил Листьева на мелких обманах, на недосказанностях и противоречиях, на откровенном вранье, на воровстве и особенно — предательствах; а ведь это были только «открытые» источники.
Что тогда ожидать от других — «полуоткрытых» и вовсе «закрытых»?
Но когда его убили, тут же обложили лавровыми веночками, подрисовали крылышки, затерли бархатной наждачкой шероховатости, мастера из телевизионного бюро ритуальных услуг…
Мертвый Листьев был куда нужнее живого. Труп был нужен…
Труп отвратителен, так же, как отвратительна смерть, как отвратительна вонь разлагающийся плоти, как мерзка жирная кладбищенская глина, чавкающая под ногами.
Но еще отвратительней было для Писателя были останкинские подробности…
Сделать из государственного, «планово–убыточного» «президентского» канала подобие корыта?
За чей счет?
Не за счет тампаксов и мулинэксов, а за счет рядовых налогоплательщиков — тех, кого этими самыми тампаксами ежедневно кормят…
…Как уже говорилось, в убыточном «Останкино» в последние годы делались милионные (в долларах, конечно), состояния. За последний год здесь окончательно утвердился такой порядок: «Останкино» само почти не производит передач. Многочисленные «независимые телекомпании» (среди которых крупнейшие — РенТВ, ИнтерВИД, АТВ) производят — как правило, на технике «Останкино» и руками инженеров, операторов, техников того же «Останкино» — передачи, а затем… продают их тому же многогранному «Останкино».
Причем продаются передачи по баснословным ценам. Например, на первый квартал 1995 года было запланировано 43 передачи «Час пик», за каждую «Останкино» платило фирме ВИД по 17, 5 тысячи долларов. Итого за квартал — 720 тысяч долларов. Кстати, замечу, что «Час пик» — это 21 минута разговора в прямом эфире, и, как утверждают специалисты, такая передача не требует существенных расходов на технику, аренду помещений. Львинная доля является прибылью, которая идет на гонорары… [6]
Но Листьеву видимо, и этого оказалось мало: как же тогда объяснить периодическое появление в «Часе пик» крупных бизнесменов вроде гендиректора известному каждому ребенку ат–тличной компании?
А объяснить очень просто — по утверждению другой популярной газеты, за тем бизнесменом из «Часом пик»
…торчат уши. Зеленые.[7]
Ведь от бизнесмена ат–тличной кампании Листьев наверняка получил больше, чем «17, 5 тысяч долларов»!
Да, судя по всему, в Останкино телевидении каждый делает деньги на чем угодно: аппаратура вроде бы государственная, а платить надо техническим службам. Монтаж рекламного ролика — минимум 500 баксов…
Оператор за 30–50 долларов даст крупный план «болельщика» с футбола или хоккея, а хозяин популярной ежедневной программы, всеми любимый Влад — за …. тысяч долларов — крупный план ат–тличного бизнесмена…
Что — денег у него не хватало?!
Если бы в United States of America стало известно нечто подобное о том же Ларри Кинге, его бы, наверное, тут же судили судом Линча — шею обмотать микрофонным шнуром и — на подвесной софит…
Да, до таких низин не опускался даже сам Писатель (на самом дне подсознания, как и всякий многотиражный автор, он считал себя если и не «продажным», то, во всяком случае, «способным на большее», на «настоящую» литературу; комплекс такой у всех многотиражных писателей).
Кстати, а что там ожидало Листьева в ОРТ?
Ведь Промышленник и люди, стоящие за ним, те, что скупили Останкино почти на корню, наверняка учли и интересы телезвезды, точно ведь учли…
Ага:
Согласно некоторым данным, свою роль в убийстве В. Листьева могла сыграть сумма его будущей зарплаты….она должна была составить от 1,2 до 1,5 миллиона долларов в год и будто бы была уже положена на депозит на его имя. Понятно, что такая сумма, помноженная на популярность, делала известного тележурналиста фигурой, практически независящей ни от кого. Кроме убийцы[8]
Интересно, а на ОРТ покойный тоже приглашал бы ат–тличных владельцев ат–тличных кампаний?!
А ведь это только верхушка, верхняя часть айсберга; он–то, Писатель, человек в Москве относительно новый, в Останкино как к себе домой не вхож, кухни и подробностей не знает…
Bliaddz–dz–dz(ь)…
Сидя за рабочим столом, Писатель мрачно смотрел в какую–то одному ему известную пространственную точку впереди себя.
Из всего этого дерьма надо было бы сделать воздушное пирожное, картинку, рекламный проспект, но ни один кондитер, ни один живописец, ни один фотограф–ретушер не взялся бы за такое — ни один, кроме ретушеров из родного Останкино…
Наверное, Останкино от слова «останки» — как говорят тут, в России, «Бог шельму метит».
Да, «открытые источники информации», конечно же, хороши, тем более, если еще и умеешь читать между строк, но когда контуры общей картины вырисовываются с такой пугающей откровенностью…
С «карьерой главного героя» разобрались.
Плагиатор.
Вор.
Как говорил когда–то царь всея Великия, Малыя и Белыя, тогдашний президент Николай I — «в России только один человек не ворует — я».
Впрочем, и это еще не все: у «многогранного кристалла» из рекламы «Русского дома Селенга» есть еще одна грань — «личная жизнь».
И вновь не обходится без библиотечных ксероксов, теперь — интервью с погибшем героем:
— … — ваша третья жена. Как складываются отношения с двумя предыдущими?
— С первой — никаких отношений. Я ушел при весьма тяжелых обстоятельствах. Было это в восьмидесятом году. С тех пор мы никогда не встречались, и я больше не видел свою дочь.
— Знает ли она, кто её отец?
— Знает, судя по бурной деятельности её мамы, которая обкладывает меня алиментами на всех должностях… [9]
Замечательное, между прочим выражение, особенно во всеуслышание, через прессу: «ее мама».
Скромно и со вкусом.
То–то пришлось бы платить на брошенную дочь с новой зарплаты на ОРТ.
Откуда–то из глубин памяти всплыло давно уже забытое словосочетание, когда–то очень любимое в народных судах — «злостный алиментщик». Кажется, даже статья какая–то в кодексе была на этот счет — то ли штраф в сто рублей, то ли общественное порицание, то ли…
М–да…
Писатель, грызя авторучку, читал дальше — теперь изучение вытащенного наружу грязного белья увлекало, захватывало, но не интригой, не неожиданными поворотами сюжета (за свою многотрудную жизнь Писатель встречался с людьми куда более омерзительными, чем покойный Листьев); наверное, такое чувство испытывает лаборантка в туберкулезном диспансере, исследуя под микроскопом зеленые плевки больных, выискивая в них симптомы гниения легочной ткани:
Татьяна Л–на:
Знате, больше всего мне не хотелось бы, чтобы меня воспринимали как вторую жену Влада Листьева…
Ага — ну–ка?
…хотя, конечно, память — вещь коварная. Наверное, я сегодня все же несколько идеализирую прошлое. Были в нашей жизни и пасмурные дни, иначе бы мы не разошлись. Помню, как Влад впервые загулял, как я сине–зеленая от волнений и переживаний, несколько дней обзванивала всех родных, знакомых и даже бюро несчастных случаев.
Последние звонки были самые страшные: подождите, сейчас посмотрим, нет ли у нас вашего. Помню, как Влад уходил в загул и не мог остановиться…
Так он вообще, оказывается, вообще был мерзавцем, этот самый Листьев!
Муж где–то блядует, а жена — «сине–зеленая от волнений», морги и бюро несчастных случаев обзванивает…
М–да, ничего не скажешь — подарочек.
Сука, короче говоря.
«Впервые загулял».
Значит, после «впервые» было и «во–вторые», «в третьи», «в четвертые» и т. д.?
Листаем дальше:
Лидия И–ва: Я ОСТАЛАСЬ ОДНА
… Он никогда не скрывал своей другой жизни — когда он был любимцем женщин, публики, душой компании, когда он гулял и пил… [10]
Писатель заерзал на стуле.
Ха! — не скрывал… Нормальные–то люди всегда должны такое скрывать, чтобы никто, не дай Бог… Женатый человек пьет и «гуляет» (или трахается на стороне, если непонятно, что означает этот камуфляж), и при этом еще — и «не скрывает».
«Душа компании, любимец женщин».
Вывод: или законченный идиот (что маловероятно), или законченный подонок (что, впрочем, очевидно).
«Не скрывать другой жизни…»
Значит — выставлять свою жену, эту самую Татьяну Л–ну (Татьяну Ларину, что ли?) посмешищем на все Останкино — да?
Тогда — почему он прожил с ней, как утверждал сам, «почти десять лет»?
Через несколько дней Писатель, отложив отксеренные газеты в сторону, слег с головной болью.
Да, «открытые источники информации», конечно же, хороши, особенно, если умеешь читать между строк, но чтобы так много и такого…
Нет, этих русских положительно невозможно понять… Как говорят недавно приехавшие в славный город New York… Ну, впрочем, сами знаете, что они там говорят.
Никогда нельзя бросать начатое на полдороге — этому он научился в Америке. Все — до конца, до логического завершения — как бы тяжело тебе не было, но на твоем лице должна быть улыбка. Даже если ты взял на себя неблагодарную роль лаборантки из туберкулезного санатория и исследуешь зеленые гнойные плевки больных. Бросают начатое только неудачники, а нет ничего страшней, позорней, ужасней, безобразней… ну, и так далее, чем быть неудачником. Это, наверное, еще хуже, чем быть импотентом — импотенция, говорят, хоть вылечивается…
А потому — прими, Писатель, чего–нибудь болеутоляющего и — за руль, исследовать грани волшебного кристалла, два оставшиеся источника, две составные части…
Тем более, что и Издатель удружил: созвонился с известным Функционером, а также — с Актером, Соратником и Коллегой; последняя — особенно ценна, так как когда–то работала вместе с покойным на Интервещании (кстати–то говоря, в то время — чисто кагэбистская контора)…
…разумеется, кагэбистская, размышлял Писатель, выкатив на Тверскую — одно из немногих мест в Москве с неразбитой мостовой, — радиовещание для заграницы. В подобных конторах могли держать только надежных (по лубянкским понятиям), проверенных, идеологически выдержанных и морально устойчивых людей…
Кто туда попадал, на это Интервещание сразу после университета, как попал туда Листьев?
И как?
Наверняка, не обошлось без курсового куратора из КГБ (а по своей университетской молодости Писатель знал, что факультет журналистики, да еще «международное отделение», которое закончил покойный, пользовались особой любовью ребят из Ясенево).
Скорей всего, Листьев попал туда именно по рекомендации кагэбэшного куратора…
Постойте — а как такую рекомендацию можно получить?
Чем заслужить?
Кем надо быть, чтобы…
Стукачем надо быть.
Стучать на сокурсников: тук–тук, я твой друг…
Вырулив на Садовое, Писатель туг же укорил себя за чрезмерное злопыхательство: ну зачем людей–то поносить, тем более тех, которых при жизни и не знал толком, тем более — мертвых…
Как говорится — «о мертвых или хорошо, или никак».
Может быть, переутомился, может быть, давно не был на исторической Родине, может быть, просто не видишь ничего хорошего тут — после New York оно–то понятно и простительно…
Не может же такого быть, чтобы человек, «которого любили миллионы», казался законченным подонком!..
Гладя на Коллегу погибшего, Писатель не мог сдержать улыбки.
Ну и косметика!
Так красят себя только больные сифилисом — чтобы скрыть следы разложения плоти…
Коллега была пьяна и весела — тем злобным весельем, которое Писатель терпеть не мог в мужчинах и панически боялся в женщинах; от людей в таком настроении можно ожидать чего угодно…
— А, ты про Влада–то спрашиваешь? — бесцеремонно посмотрев на гостя, поинтересовалась Коллега.
И почему это она ему «ты» говорит — что, близкий товарищ и друг?
Соратник по борьбе за голубой эфир?
Или тут, в Москве такая милая манера говорить со заокеанскими знаменитостями?
Писатель наклонил голову и, стараясь не встречаться взглядом с хозяйкой, произнес:
— Да.
— Тут до тебя ко мне Обозреватель один приходил, — Коллега назвала фамилию, — я уж не помню, чего ему наплела… А тебя что интересует?
— Ну, есть мнение, — мягко произнес Писатель, — есть мнение, что Листьев все свои программы… — он замялся, — ну, что это, так сказать, не совсем оригинально… да, я понимаю, и великий Мольер когда–то сказал — «Я беру свое там, где вижу», но все–таки, понимаете…
Коллега бесцеремонно заложила ногу за ногу — при этом пола халата задралась и обнажила не слишком свежее нижнее белье.
— А, ты это про «Взгляд», «Поле чудес» и «Тему» — да?
— Да.
— Так у нас на Останкино все знают, что Листьев эти идеи украл, — со скрытым вызовом произнесла коллега, — очевидный факт. — Сфиздил.
— У Ларри Кинга?
— Ну, не знаю я никакого Ларри Кинга, вот кинга, — сделав ударение на последнем слоге, добавила она, — знаю, карточная игра такая есть… Влад вообще был неистощим на выдумки, на игры разные, но «Поле чудес» он списал с «бутылочки» — есть такая русская народная игра…
— …?
— Ну, становится шесть баб раком, а мужик вертит бутылочку, на кого горлышко показывает, с той… Чем не барабан? Ну что — не мужик ты, что ли, поподробней объяснить надо? — возвысила голос Коллега.
Писатель заметно стушевался:
— Но…
— И вообще: давай–ка мы с тобой лучше выпьем… Тогда и расскажу подробней, — последние слова она сказала так, будто бы хотела не только рассказать, но и показать. — Мы вот с Владом, когда он еще не кодировался, так славно ужирались… Он потом — по бабам, а я… — она недговорила, вынула откуда–то бутыль коньяка. — Ты, как тебя там — пить будешь?..
Пить Писатель отказался наотрез, и вообще — квартиру Коллеги он покинул с синим, перекошенным от ужаса лицом.
Да, от этих русских всего можно было бы ожидать, но такого… Как говорят в подобных случаях брайтон–бичи — ну, не будем повторяться. Все USA теперь знают, как они в таких случаях говорят…
А на очереди — Соратник покойного.
Запущенная квартира, сантиметровый слой пыли, бардак и разрушение… В прихожей — батарея пустых бутылок, жена, наверное, уехала, а у этого — «Безутешное горе». Российская, так сказать, классика, свинцовые мерзости русской жизни…
Переживает утрату друга.
Соратник был пьян и угрюм — о погибшем товарище и слушать не захотел.
— Давай лучше выпьем…
— Я вообще–то не пью, — промямлил Писатель, и мысленно оговорился: «но для дела… Обработка полуоткрытых источников информации…»
— Давай, давай… Часик, не больше. Мне самому на студию надо…
Через три часа Писатель проклял все — и Соратника, и Издателя, благодаря которому сюда попал, и Останкино со всеми его аферами, и российскую страсть к лютым загулам, и даже свое писательское ремесло.
В голове почему–то вертелось: уж лучше бы я всю жизнь в Нью—Йорке таксистом был, чем такое…
Он пытался сосредоточиться, собрать в кулак остаток сил и уйти, но Соратник волевым движением руки останавливал его:
— Сиди…
Когда в грязном московском sky зажглись первые электрические stars, Писатель был пьян мертвецки — он пытался было прислушаться к словам Соратника, однако страшный шум в голове перекрывал слова, и до слуха писателя едва долетали обрывки, ошметки фраз: «…по бабам…», «…говорил жене, что у меня ночует…» «…неделями гудели…», «…не просыхая…»
Писатель не помнил, как заснул, но когда проснулся, с удивлением обнаружил, что находится у себя, и что на столе чья–то заботливая рука поставила реанимационную дозу — две баночки пива…
И тут же — звонок.
— Ну что еще… — с трудом выдавил из себя Писатель.
— Слушай, да ты, оказывается, такой классный мужик! Приезжай ко мне, продолжим, я тебе еще кой–чего расскажу… Вот, вспомнил…
Особые надежды Писатель возлагал на Актера: как же, культурный, интеллигентный человек, даром, что такой же аид, как и сам Писатель.
Как говорят на Брайтон—Бич… нет, не то, что вы подумали, там говорят: «аид аиду — друг, товарищ и брат». Неужели не поможет… по–братски?!
Актер принял Писателя на кухне.
— Кофе?..
— Ах, да, пожалуйста, — произнес Писатель потеплевшим голосом; вот что значит культура! Не водку предлагает, а интеллигентный напиток–кофе…
Актер пододвинул гостю выщербленную чашечку.
— Вот, это любимая чашечка Влада… Он всегда пил из нее кофе, когда бывал у меня дома…
Писатель оживился.
— Да? Расскажите…
— Но что вам рассказать, — вздохнул Актер. — ну, это такая утрата, такая утрата для всех нас…
— А каким он был? — Писатель острожно пододвинул к себе памятную чашечку.
— Замечательным человеком, — вновь вздохнул Актер. — И — что удивительно! — он никогда не маскировал ни своих достоинств, ни недостатков. Кстати, он и выпить любил…
— Что?
— Кофе… — сделав микроскопический глоток. Актер произнес: — ну, что я могу сказать… Так некстати всплыло в памяти: как–то раз приехал он ко мне на дачу, на машине–тогда у него еще «вольво» была, смотрю — и глазам своим не верю: двух девочек привез. Попочки,писечки — м–м–м! Восторг, а не девочки. Наверняка клиентки из «Поля чудес»… И пока мы с ним там отдыхали… Ну, сами понимаете, что делают мужчины, когда отдыхают на даче без жен… Я вам не как писателю, а как мужчина мужчине рассказываю, — добавил Актёр в свое оправдание.
Писатель недумённо повертел головой — моя, а к чему это Актер?
А тот:
— Какая, спрашиваю его наутро, Влад, понравилась тебе больше, та, темненькая, или светленькая, длинноногая? А он мне — обе, говорит, райское наслаждение. — Вздохнув еще тяжелей, еще безутешней. Актер сделал резюме сказанному: — так вот я к чему: он во всем был такой: если любил что–нибудь, то делал это до конца, во всем объеме…
— …?
— Ну, сразу двоих, — пояснил Актер. — Вот таким он и запомнился мне… — допил кофе, он отодвинул чашечку и добавил: — Боже, до сих пор не верится, кажется, вот–вот, вот совсем недавно это был: дача, девочки… Наверное, это какой–то знак свыше, перст судьбы, предупреждение всем нам…
Оставался Функционер; во всяком случае, решил Писатель, этот не будет пить заставлять, не будет рассказывать о девочках и откровенничать о том, что знали о покойном «все в Останкино».
Главное — без этого страшного разврата, без леденящей душу «бутылочки», русской народной игры, без пугающей откровенности…
Функционер страдал запорами — это было очевидно по его землистому цвета лицу.
— Что касается смерти известного тележурналиста Листьева, — заученным голосом начал он, — то…
Писатель сделал мягкий жест рукой.
— Извините, но я… Столько версий, столько вариантов… Вы понимаете, я не журналист, я писатель, и факты как таковые…
Функционер бросил на него ненавидящий взгляд, в котором Писатель явственно прочел: «Говно ты, а не писатель…»
— Я могу сказать одно: такого человека могли ненавидеть многие, очень многие… А чем больше тебя ненавидят, тем больше у тебя вероятности быть убитым. Наверное, покойный это и сам знал — а то с чего бы он везде таскал с собой пистолет? — немного помолчав, Функционер добавил: — ненавидели его тут, на Останкино — ясно? Вы посмотрите, еще могилка его не просела, еще труп, наверное, не успел разложиться — а коллеги дорогие уже грызуться… Послушайте, что теперь в коридорах говорят в том же Останкино, посмотрите, как эту так называемую приватизацию похерили… Как того же Листьева втихомолку ругают — «гений разрушения»… Всех давил — и информационные программы, святая святых… Ненавидели его тут — понятно? И, — понизив голос, с откровенными интонациями, он добавил, как бы от себя: — и правильно, между прочим, делали… Удивляюсь — как это его еще раньше никто не убил?!
Издатель, выслушав рассказ Писателя об обработке «открытых и полуоткрыто–полузакрытых источников информации», погрустнел.
— И это ты собираешься написать?
— Да.
— Да ты понимаешь, чем это грозит? Мне, тебе, издательству?!
Да, Писатель как никто другой понимал, чем именно это может грозить: праведным гневом и возмущением широких слоев трудящихся, потерявших любимого героя
— Вот чем!
И уже с точностью до миллиметра вставала перед мысленным взором примерно–разгромная статья в популярном массовом издании:
Влад Листьев был убит дважды Один раз — в своем подъезде на Новокузнецкой 30, другой раз — в издательстве (название).
Ну, находка журналиста — «дважды убит». Редкая и ценная находка. Фантазия у журналистов вообще… м–м–м, слабо развита, фантазия–то.
…беспринципность, жажда мгновенной наживы — даже если эта нажива сопряжена с оскорблением святая святых, с оскорблением светлой памяти человека…
Факты, дорогие читатели — только факты. Не верите — не поленитесь в библиотеку сходить, газетки старые полистать…
Так сказать — «обработайте открытые источники информации»… А потом и говорите о «пасквиле»…
…профессионалу, человеку знающему и думающему, противостоял невежда и агрессивный завистник, спрятавшийся под псевдонимом…
Ха! — нашли чему завидовать! Да если бы я был таким подонком, как этот самый Листьев, я бы давно руки на себя наложил!
Да и к чему под псевдонимом–то прятаться — а?
Издатель, посмотрев на Писателя строгим взглядом, спросил:
— Ну, что делать–то будем?
А это значило: я в тебя, хрен иудейский, деньги вложил? Вложил. Идею мне подкинул? Подкинул. А деньги–то, как сам понимаешь, на деревьях не растут, особенно — американские деньги…
— Что делать?
— Да. Что делать.
— А то, что и делаю…
— Писать?
— Yes, — почему–то перешел на английский Писатель; наверное, чтобы придать себе уверенности.
— Но ведь в суд… Иск, моральный ущерб, и так далее.
— А кто подаст?
— Да кто угодно: Коллега подаст, — принялся загибать толстые татуированные пальцы Издатель, — Соратник, Актер, Функционер… Родственники, все три жены, пол–Останкино — эти просто из солидарности, да и боязно: грохнут еще кого–нибудь известного — что, их грязное белье наружу? Всем напоказ — да?
— Ну и пусть подают. — решительно ответил Писатель. — чем больше мою книгу будут склонять во всех этих «Взглядах», «Часах пик», «Темах» и так далее, тем лучше…
— …?
— Бесплатная реклама, а это значит — еще минимум двести тысяч дополнительного тиража, — с удовольствием произнес Писатель и по потеплевшему взгляду Издателя понял, что попал в цель. Видимо, собеседник принялся считать в уме: минимум триста тысяч, да дополнительного двести тысяч, итого — полмиллиона.
Боже — сказка, а не книга!
Дождавшись, пока Издатель закончит подсчеты, Писатель произнес:
— Да, самое главное — впереди.
— Что? — наконец–то оторвался от своих подсчетов Издатель.
— Надо выяснить, наконец, за что же именно его убили…
— Ну, и как это ты собираешься выяснять?
Писатель скромно улыбнулся.
— Для этого в CIA, в ЦРУ, то есть, существует термин: «обработка закрытых источников информации»… Вот и обработаю. Во всяком случае, верную версию убийства мы (это и о себе, и об Издателе) будем иметь куда раньше,, чем все эти МВД и ФСК…
Да, тяжел хлеб writer'а в России, но — благодарен.
Особенно, если ты известный Писатель, если твои книжки идут «на ура», если такие вот Издатели вкладывают в тебя деньги, и ты никого не боишься…
А чему, собственно говоря, ему тут, на вновь купленной Родине бояться?
Писатель в России больше, чем писатель…
Выйдя из издательского офиса. Писатель неторопливо пошел в сторону людного перекрестка — попить кофе, подумать, как и что он будет говорить там, куда направляется..
А после кофе и размышлений ему, Писателю, то есть, надо было направиться в одно малоприметное здание, где мог рассчитывать не только на получение «закрытых источников информации», но и набольшее…
Там уже обо всем оговорено во всяком случае, ему обещали…
«Вращайте барабан, ваш ход… Есть такая буква!..» 300 очков
Ну, хорошо: можно и повращать. Хорошее занятие!
Достал из бокового кармана револьвер, выдвинул барабан, посмотрел, сколько патронов.
Шесть, полный боевой комплект, как и положено. Крутанул барабан, обратно вставил, сунул в карман, мягко улыбнулся…
Американский кольт, по сути — модель прошлого века, немного усовершенствованная, но зато какая!
Скорость — оптимальная: что входное отверстие, что выходное, одинаково.
Многие коллеги, правда, предпочитают пользоваться ТТ. Советские машинки — еще ничего, а китайские — дерьмо страшное; ствол разнашивается, разбалтывается, даже для обыкновенных тренировок не пригоден. Машинка должна быть оригинальной, родной: если ТТ придумали русские, значит, надо пользоваться русским. Если «кольт» и «магнум» придумали американцы, то надо пользоваться американским, а не испанским и не мексиканским. Кажется, похожи, один в один, а — не то. Русские ППШ и «Калашниковы» в отличие от китайских и афганских — день и ночь. В Афгане эти самые «Калашниковы», кажется, чуть ли не в кишлаках самопально собирали. Двадцать рожков отстрелял из такого — и выбрасывай…
А лучше всего, конечно — маузер. Немецкая модель едва ли не начала века, любимое оружие чекистов и комиссаров кстати говоря; по скорости, дальности и точности равныхмаузеру нет. Любую «контру» достанет. Правда, громоздка слишком, в карман не спрячешь..
Сколько все–таки машинок придумал человек — для умерщвления другого человека на расстоянии! И каждой, гордец, дал орудию убийства собственное имя: Браунинг, Макаров, Тульский и Токарев, Шпагин, Дегтярев, Кольт, Максим, тот же Маузер…
Да, в чем–чем. а в стрелковом оружии он дока. Не «Дока–хлеб»; в смысле — знаток, С завязанными глазами любое разберет, соберет, почистит, смажет; любой рукой, правой, левой, за спиной, в темноте…
Оружие — его хлеб. Он — киллер, убийца, он профессионально делает kill и получает за это money. Kill — его хлеб, в kill он дока. Такой вот «Дока–хлеб».
Нормальный бизнес, нормальный предприниматель. Кто нефтью торгует, кто автомобилями, кто фруктами, кто акциями, кто эфирным временем, а он со своим kill — и торговец, и производитель в одном лице. Народ любит бензин, тачки, авокадо и липовые акции? Пусть любит. Кому что. A kill все любят, еще больше, наверное, чем fuck. Народ тут такой.
Нехитрая задачка из учебника, арифметика для четвертого класса: Предприниматель X. купил на Останкино три редакции, двадцать редакторов и пять телеведущих. Предпрениматель Y. купил киллера Z. Кто победит в этой честной конкурентной борьбе?
Ясно кто, можно и не спрашивать…
Хотя киллер Z., может быть, стоит куда дороже, чем двадцать редакторов, пять телеведущих и три редакции вместе взятые. Но расходы на киллера окупаются; так сказать — долговременное вложение.
Правда, ему это слово совсем не нравится. Зачем английские слова, зачем засорять великий и могучий иностранными выражениями?
Что — «ликвидатор» чем–нибудь хуже? Обязательно маскироваться, или — не поймут?..
А вообще ему, киллеру больше всего нравится определение Мастер. Не литературный герой, а Мастер Своего Дела… Дока, короче говоря…
Криминальная ситуация в России не плавно течет, а летит, несется со скоростью пули, выпущенной из спецназовского автомата «Кедр»: раньше главари преступного мира, «воры в законе» существовали исключительно по строгим канонам: родиться непременно в «малине», не быть ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем, не служить в армии, не иметь трудовой книжки, семьи, машины, квартиры, идти на «зону» по статье только за грабеж или разбой (но никак не убийство).
Массонская ложа, секреты розенкрейцеров, тайная доктрина, короче говоря…
Татуировки–спецсимволы, понятные лишь посвященному, блатная феня, пьяные загулы с «подругами» (но — по кодексу чести), в ресторане — обязательная «Мурка», дежурное такое вот блюдо, и так — до следующей отсидки.
Явно не эстеты.
Это была первая волна, «черные», как называл их про себя Мастер. Они–то, «черные», еще сильны, пока сильны, но — время их отходит.
Вторые — «белые», по контрасту, появились с началом кооперативного движения, хотя правильней было бы назвать их «синими в красную полосочку»; спортивные «адидасы» с малиновыми генеральскими лампасами — любимая униформа: бывшие спортсмены–единоборцы — каратисты, тайквэндисты, самбисты, боксеры, кунг–фуисты, кикбоксеры… Ну, и так далее. Вплоть до самых экзотических видов единоборств, не во всякой спортивной энциклопедии сыщешь. Впрочем, уровень запросов тот же, что и у «черных», только без «мурки» (зато с Шифутинским и Звездинским; культура, бля!..), без ресторанных надрывов и строгого воровского кодекса: водка, «трава», потная баба на ночь, «весело погулять» (набить в центральном кабаке кому–нибудь морду), поездить на шикарной тачке (лучше всего — на черной «BMW»).
От интеллектуалов далеки, конечно же; как и «черные». Любой негр–наркоман в Нью — Йорке, нагло стреляющий в метро двадцатки, куда больше приобщен к ценностям цивилизации, чем эти…
«Бывшие спортсмены, а ныне рекетсмены» долго и нудно мудохались со «стариками», делили с «черными» сферы влияния, места под солнцем и, вроде бы, разошлись полюбовно. «Старики», «черные» то есть, победили, или, во всяком случае, посчитали себя победителями… Теперь все мирно сосуществуют, и лишь иногда стреляют друг в друга — ну, это когда какой–нибудь слишком крутой появляется, вроде Глобуса…
Киллер, Мастер то есть, относил себя к третьей, последней волне, которую справедливо считал качественно, принципиально новой.
У него нет рельефных бицепсов Ван Дамма, хотя драться умеет не хуже любого рекетсмена, «ракеты», как их еще называют; он не ходит по ресторанам, не подтягивает сиплым голосом сифилитика «Ты меня люб–била, а потом заб–была, и п–п–перо за это п–п–получай!..»; не раскатывает с девочками по Тверской на черной бандитской тачке…
Кандидат юридических наук, два высших образования (МГИМО и «вышка», Высшая школа КГБ), четыре иностранных языка, мастер спорта по стрельбе из пистолета, утонченный ценитель Кафки, Пруста и особенно Джойса… С прошлого гонорара исполнил заветную мечту — специально в Дублин съездил, по джойсовским местам…
Что — ларьки такой пойдет грабить?
Ну–ну…
Мастер достал из кармана книжечку, буклетик — авиабилет до столицы одной островной банановой республики, славящийся прекрасным иммиграционным законодательством, фантастически дешевыми товарами, зажигательной румбой, пальмами и прекрасно–развратными туземками.
Посмотрел на часы — до отправления из «Шереметьево‑2» осталось девять часов.
И все — выпадает он изо всей этой пирамиды, как песчинка, унесенная знойным латиноамериканским ветром. Денег, полученных только за последний заказ (переведены в островно–банановое отделение солидного американского банка еще неделю назад), с лихвой хватит не только на то, чтобы скупить все пальмы и всех креолок, но и приучить местное население к «Столичной», «Мурке» и нехитрым забавам русских рекетеров (мальчику–туземцу в кабаке: «Как водку наливаешь, пидарас!..»); то–то янки, падкие на экзотику, будут восхищаться редким для тех широт атракционом!..
А ведь в банк он перевел деньги не только за последний заказ…
Но главное — никто из всей криминальной российской пирамиды никогда не найдет его там, на островах, да и «сменить кожу», стать стейтовским подданым, Брайном Р. (в кармане Мастера лежал паспорт именно на это имя) — не проблема. Английский — второй родной, также, как и испанский…
Желание свалить в прекрасную нищую республику с замечательным эмиграционным законодательством было более чем естественным; Мастер знал, что преступные структуры в России — самые стойкие к любым изменениям. Пирамида Хеопса — это тебе не пирамида Мавроди. Время стирает города и цивилизации, но оно не властно над истинными ценностями. «Все боится времени, время боится пирамид».
К началу девяностых годов, однако, волны массовых отстрелов частично смыли верхушку этой пирамиды (но сама–то пирамида осталась!), криминальное братство, подобно змее, жалящей себя в хвост, планомерно и безжалостно истребляло самое себя, и высвободившиеся экологические ниши бросились занимать бывшие партийные чины, бывшие работники КГБ и МВД. Именно в это время впервые заговорили о киллерах, загадочно и таинственно…
Ха! — загадка, теория относительности…
А если вдуматься, то все совершенно закономерно: ясно, что мускулы эти самые киллеры наращивали не в люберецких подвалах, стрелять учились не в лесах Ближнего Подмосковья, а во всех этих «альфах», «бетах», «гаммах», в элитном черноморском морпехе, в спецчастях тогда еще КГБ… Профессионального убийцу могло подготовить только государство.
На свою голову подготовить, как выяснилось, но когда выяснилось, было уже поздно.
Конечно же, на «верхушку» Мастер, то есть киллер не тянул, да и не стремился.
Зачем?
Ведь всех этих «пап» в одной только Москве несколько десятков, а таких как он — единицы. Штучный товар, ручная работа. Как «Mercedes–600» ручной сборки, класса SEL. И все эти «папы» рано или поздно обращаются к нему — а к кому еще?
К тому же, он — герой: «Красная звезда» за Гиндкуш, Афган‑86, Ангола, Никарагуа, Вильнюс, Баку, Приднестровье…
Все было бы хорошо, но платят во всех этих спецназах, даже самым страшным особистам, чертовски мало. До обидного мало платят. Он — профессионал, дока, а оценка профессионализма должна выражаться абсолютной арифметической суммой.
Что, вы с этим утверждением не согласны, товарищ генерал?
Ну, как хотите: другие согласятся. Еще как согласятся…
Ах, рапорт?
Прямо сейчас?
С удовольствием…
Чем заниматься буду?
В предприниматели подамся!
Да!
А чем я других хуже? Как, «что вы умеете делать?!..» То, чему меня государство всю жизнь учило. Сами прекрасно знаете, товарищ генерал, что я умею делать. То, что все мы делаем. Предприму что–нибудь. Предпринимателем стану. Походите по базару, товарищ генерал, поищите получше… Может быть, и найдете. Честь имею кланяться, желаю успехов в службе и личной жизни. Каблуками — щелк! — и…
— Алло, — послышалось из соседней комнаты, — иди, про тебя передают…
Мастер лениво снял ноги с табуретки, нехотя поднялся, вздохнул…
— Что?
В соседней комнате — младший коллега по его, Мастера, работе, ведь без подстраховки никак нельзя; это только в дебильных американских боевиках Грязный Гарри палят во вся и всех! Он — Мастер, а этот, что телевизор любит, стало быть — Подмастерье.
— Как — опять?
— Да, опять…
Ну, фу–фу–фу, не интеллигент он, однако. Хуже начинающего солнцевского рекетсмена образца 1989 года: майка грязная, щетина на щеках…
Мастер, нехотя пройдя в соседнюю комнату, укоризненно посмотрел на Подмастерье.
— Ты бы себя в порядок привел, — произнес он, — смотреть противно.
— А че я?
— Не «че», а «что»… Учись правильно выражать свои мысли.
— Ну, что?
— Да вот, побриться надо, переодеться… Денег, что ли, нет? Ты кто — бандит с большой дороги? Яшка—Красная–Рубашка? Ты ведь интеллигентом хочешь быть, и веди себя интеллигентно. И вообще — ты что сейчас читаешь?
— «Смерть приходила по вторникам», — тут же ответил Подмастерье. — Кинороман…
— В твоем возрасте надо бы что–нибудь посерьезней читать, — поморщился Мастер.
— А ты?
— Поэзию Лорки, в оригинале, конечно же, — потеплевшим голосом произнес киллер, — очарование… — уселся рядом — брезгливо, на краешек стула. — Ну, что там по телевизору?
— Про тебя.
Мастер ухмыльнулся.
— Ну–ну — и прибавил звук.
По телевизору передавали:
— «В убийстве популярного тележурналиста Владислава Листьева подозреваются…»
И тут же появился фоторобот — какие–то хлопчики, молоденькие, наверное, еще в армии не служили…
— …приметы: «черная шапка горшком», телосложения худощавого, лицо треугольное…
Подмастерье улыбнулся.
— Ты — который из них?
— Ну, а тебе какой нравится? Выбирай, — ответствовал Мастер. — И откуда этих козлов нашли? Интересно, кто теперь всем этим занимается…
— Расследованием?
— Ага…
— Ну, думаю, что ФСК…
— Фанерно—Спичечный Комбинат, — скривился Мастер, — ну, ну… Мастера своего дела, наследники славных традиций, ничего не скажешь… Дорогой героев, дорогой отцов… Ну–ну…
— Я тут тебе еще и газетку принес, — со скрытым подобострастием произнес Подмастерье.
— Что, опять про меня?
— Ага.
Любопытно. Не потому, что тихая гордость за профессиональную работу, а — просто: и когда это он успел так помолодеть, как сумел трансформироваться сразу в двух киллеров?
Прибавил еще громкость — ну–ка…
— «У следствия есть предположение, что киллеров было двое: один следил за подъездом Влада из дома напротив. Он и подал сигнал для действия своему сообщнику. Осмотр места происшествия подтверждает это предположение: у подоконника в подъезде, откуда вел наблюдение бандит, обнаружены скорлупки от орехов. Наемник забавлялся, стоя на стреме… Пока следствию не удалось напасть на след убийц, приметы их весьма приблизительны, — взволнованным голосом вещал диктор и — уже от себя: — да и вряд ли их удастся найти: скорей всего, их следует искать или на дне люберецких карьеров, или в морге, среди неопознанных трупов…»
Значит он, Мастер, — не один труп, а целых два.
«И это все о нем».
Такие вот метаморфозы…
— А что за газетка?
Подмастерье протянул сложенный вчетверо номер.
— Держи.
— Мог бы и не комкать, — поморщился Мастер, — ты ведь хочешь стать культурным человеком… Ну, посмотри, во что ты газету превратил? Ты её купил, чтобы мне дать почитать, а в каком она виде? Следи за собой… И потом: когда ты научишься, наконец, пользоваться носовым платком? Нельзя сопли, извини за выражение, носом тянуть!. А еще хочешь считать себя интеллигентным человеком. Стыдно!
Подмастерье обиделся:
— Сколько можно учить…
— Сколько нужно. Уеду вот — кто тебе еще о таких элементарных вещах будет говорить? О том, что к мясу положено красное вино, а к рыбе — белое… Запомни это раз и навсегда!
В газете писалось:
Второго марта в редакции ярославской газеты появился посетитель, котрый заявил, что имеет информацию по «громкому и скандальному делу», и назначил свидание в кафе неподалеку.
Корреспонденту гость назвался Андреем и сообщил, что является врачом одной московской криминальной группировки. Эскулап утверждает, что 1 марта вечером к нему ввалился раненный в ногу знакомый — сослуживец по группировке — и объявил, что участвовал в убийстве Владислава Листьева. Его версия такова. Будто бы раненный с еще одним боевиком получил заказ на ликвидацию человека. Имени жертвы им не назвали, фто не показали, на место не вывезли. Узнать, кого убивать, киллер мог, получив сигнал от внешнего наблюдателя. После этого должен был расстрелять вошедшего в подъезд человека и скрыться на поджидавшей машине (раненный боевик исполнил в этой операции роль шофера, такса — 150 000 долларов). И исполнитель, и водитель пришли в полушоковое состояние, когда узнали, кого именно «грохнули», однако уехали на доклад к руководству. Как только подъехали к установленному месту, попали под огонь. Киллер упал, а водитель, получив в бедро сквозь дверь «BMW» девятимиллиметровый гостинец, скрылся и добрался до «врача», который и извлек пулю.
«Врач» рассказал журналисту и о хозяине — заказчике убийства. Это владелец ресторана на Арбате… [11]
Устало улыбнувшись, Мастер вздохнул, пролистал газету дальше:
Из собственной квартиры в Грозном выволокли и вывезли в Моздок известного бизнесмена… Держали в неотапливаемом вагоне, в наручниках, без пищи. Избивали дубинками, кулаками, затягивали наручники на свежих ранах, требовали признать себя дудаевцем…
— Нет, ты только посмотри, что творят, — засокрушался Мастер, протянув номер младшему коллеге, — вот сволочи… Нет, что творят — изверги, честное слово, иначе ведь и не скажешь… Мы в Афгане так с басмачами воевали, так ведь это как бы враги были… А этот бизнесмен, как я понял — стопроцентный российский гражданин… Как можно со своим–то, а?
Подмастерье, мельком взглянув в газетный номер,
— Ага…
Мастер продолжил чтение:
Шестандцатилетний Магомед, ранее депортирован из Владикавказа, был задержан российскими военными в одном из бомбоубежищ Грозного. «Нас было всемь человек, женщин отпустили, а нас — забрали. Перевезли на БТРе в район консервного завода. Спецназовцы в масках били постоянно, допрашивали: «Каким видом оружия и сколько солдат каждый из нас убил, сколько денег получал я от дудаевцев?» Особенно старался бывший вместе с ними чеченец по имени Муса, лет тридцати–пяти — сорока, он прикладывал меня лицом к выхлопной трубе и заставлял признаться в том, чего я не делал». После допроса Магомеда вертолетом с оставили в Моздок. Здесь уже допрашивали с видиокамерой и тоже били. «Они сами писали, а меня заставляли подписываться. Я не подписывал, за это били. Терял сознание, приходил в себя, и все повторялось снова. Новая смена вела себя как и прежняя, менялись ОМОНовцы каждые полтора–два часа. Затем перевезли в Пятигорск, в Пятигорске били, применяли нервно–паралитический газ. На допросе двое держат, один бьет. Через три дня нас перевезли в Ставрополь. В местном изоляторе сначала допрашивали с помощью дубинок. Если отвечал, что не воевал, били дубинкой с проходящим по ней током по зубам. Приходил врач, и спрашивал, есть ли больные. Если кто–то говорил, к примеру, что болят почки, его увозили и били по почкам. На прогулке спускали на нас собак».
Журналист Омар: «ОМОНовцам в этот день было не до нас. Намечалась грандиозная пьянка. В ней принимал участие и начальник, майор. Перепившиеся охранники в эту ночь неистовствовали беспредельно, избитые заключенные задыхались в спертом вонючем воздухе переполненного вагона. Воды не давали, и заключенные стали пить собственную мочу, собирая её в пластмассовые бутылки… [12]
— Бр–р–р–р, — поежился Мастер. — Готический роман, микабирический жанр, фильм ужасов. Идиоты… Не понимают, что провоцируют на ответное…
Подмастерье тут же отметил про себя, что материал о чеченской войне старший коллега читал с куда большим интересом, чем предыдущий, о себе.
— Никогда в этой стране не будет порядка, некогда тут не будет настоящей свободы и демократии… — киллер отложил газету. — Полицейское государство… — он поджал губы. — Не понимаю. Теперь все эти Фанерно—Спичечные Комбинаты, все эти милиционеры и РОУПы меня ищут. Ну, убил одного человека — подумаешь… А сколько генералы–герои положили? И они — всем известны. Почему тогда никто не врывается в маске в дом по Рублевском шоссе, не бьет прикладом по голове? Почему не показывают по телевизору портреты этих погибших, почему не комментируют под портретом: «Петр Васильев убит» или «Сергей Сидоров убит», а?
Дождавшись, пока Мастер завершит высказывать негодование, Подмастерье напомнил:
— А насчет тебя — что? Ну, эта версия–журналист, интервью, «врач»?
— Идиоты, — вновь поморщился Мастер, — много кинематографических подробностей, много шелухи, слишком сложно… Каким надо быть кретином, чтобы ехать в медсанчасть своего же боевого подразделения! Наверное, журналист пересмотрел на ночь американских боевиков, ну, и решил поиграть в смелого шерифа… — вздохнув, Мастер добавил: — и вообще, выключи этот телевизор. Надоело галиматью слушать…
Подмастерье послушно щелкнул пультом дистанционного управления.
— А теперь что? Самолет у тебя когда?
Мастер посмотрел на часы.
— Через восемь с половиной часов…. Как по видику — точно.
— И… все?
— Да, я никогда сюда больше не вернусь, — твердо произнес Мастер.
— Почему?
— Не могу больше жить в этой стране. Тут, в России, никогда не будет настоящей демократии, — уверенным тоном повторил он уже высказанное; по голосу киллера было понятно, что это — наболевшее, выстраданное, и что он говорит честно, от всего сердца. — У этой страны нет будущего…
Подмастерье вздохнул, посмотрел на часы–сделал это с видимым сожалением: как же, старший товарищ уезжает, стольким ему обязан, в люди ведь вывел…
— Но ведь ты в свое время хотел в Думу баллотироваться, — напомнил Подмастерье, — депутатом бы стал… Ты вот считал, что и денег у тебя для этого должно было бы хватит…
— А толку что? На хрена мне эта Дума? Ну, придет к власти Сын Юриста и Друг Хуссейна, обязательно ведь придет — и что? Разгонит всех к чертовой матери… Если государство не может дать своим гражданам гарантий безопасности, — назидательно произнес киллер, — то грош цена такому государству… Ну, стану я депутатом, а потом меня объявят врагом народа и упрячут в «Матросскую тишину»…
— Так ведь выйдешь оттуда, — улыбнулся Подмастерье, — оттуда все выходят…
— А до того, как выйду, буду баланду хлебать — да? — Мастер строго взглянул на своего ученика, — драгоценные часы и минуты, отпущенные мне Богом для нормальной жизни, для наслаждений, я должен буду тратить на счет дней до амнистии… Ни хрена. Я лучше умру от объедения бананами или полового истощения, чем от…
Он недоговорил, поднялся и, достав из кармана авиабилет, любовно посмотрел на него.
— Ну, а дальше что?
Мастер улыбнулся.
— Что значит — «дальше что»? Жизни буду радоваться, вот что… Заслужил.
— А не боишься… — начал было Подмастерье, но, столкнувшись с твердым взглядом старшего коллеги, тут же замолчал…
Нет, этого Мастер не боялся. Он с улыбкой слушал слова телепроповедника о том, что его, киллера, «следует искать или на дне люберецких карьеров, или в морге, среди неопознанных трупов».
Он что — совсем идиот?
За кого его эти дилетанты принимают?
Да, был Заказчик (его, Мастер, разумеется, не мог знать, хотя и догадывался, кто это), и был Посредник.
Была названа сумма, кстати, куда большая, чем 150000 долларов.
Был назван «объект», дано время на его устранение — месяц.
Месяц для «ликвидации» — слишком много по обычным меркам, но ведь и объект был необычным.
Надо было изучить обыденый график, маршруты, машину, работу, вкусы, семью, пристрастия, привязанности, симпатии и антипатии, послушать телефоны, купить «одноразовый» «Scorpion»…
Не за день же такое делается!
Узнав, кого именно надо убить, киллер недовольно поморщился — в свое время он очень любил «Взгляд» за прогрессивность и приверженность демократическим идеалам, однако профессионализм взял свое — согласился. Да и деньги, между прочим, немалые.
Дальше — по привычной схеме: «Сколько»? — «Столько–то» — «Сроки?» — «До первого марта включительно, но не позже», — «Способ»? — «Застрелить».
И все.
Конечно, когда человека надо убрать тихо, нет ничего лучше, чем автомобильная катастрофа или несчастный случай, а еще лучше — самоубийство.
Для такого доки, как он не проблема: взять и застрелиться, нельзя не соблазниться!..
Но Посредник а, стало быть, и Заказчик, хотели именно скандальное убийство: преднамеренное, без экивоков и разночтений. Чтобы другим неповадно было, так сказать, понял Мастер.
Чего хотели, того и получили…
А бояться…
Отправляясь на первую встречу с Посредником, Мастер захватил с собой миниатюрный диктофон — беседа, что более чем естественно, была записана на кассету. И продублирована на всякий случай на видеокамеру; а Подмастерье на что? Так что компромети– рущие свидетельства — в звуке и в цвете.
Получив аванс, Мастер с любезной улыбкой сообщил, что он, конечно же, человек на редкость порядочный, и нимало не сомневается в редкостной порядочности как Заказчика, так и Посредника, однако его друг, Подмастерье, человек, который любит его как брата, проявил неоправданную подозрительность (извините уж такое проявление дружеских чувств), и на всякий случай сделал аудио и видеозапись предыдущей беседы.
Ах, не верите? Ну вот, копия аудиокассеты, копия видио. Смотрите, слушайте и наслаждайтесь. А оригиналы, как вы сами понимаете, спрятаны у Подмастерья, очень далеко, и извлечь их оттуда нет никакой возможности. Вот, копии–то с трудом удалось выклянчить.
То есть схема задействована не просто, а очень просто: если со мной, Мастером на все руки и ноги, что–нибудь случится, то цепь замкнется, брызнут синие искры короткого замыкания — и все, сгорит вся ваше цепочка Заказчик—Посредник–Исполнитель—Жертва. Он, Исполнитель, киллер, Мастер то есть — как бы предохранитель. Не хотите пожара в собственном доме — следите, чтобы предохранитель не сгорел.
Ну, поподробней?
Можно и поподробней:
С РОУП не хотите ли сознаться?
А с господином Пономаревым?
С господином Ериным?
С господином Степашиным?
Господин Степашин, говорят, бывший пожарник, так что пожар от неисправной электропроводки для него — не проблема.
Ну, не хотите, как хотите… Я тоже, понимаете ли, не хочу этого. Стало быть, наши «хочу» и «не хочу» целиком и полностью совпадают. Да, тогда берегите меня, чтобы пылинка с неба не упала! Да, и вот еще что: деньги мне ваши наличные не надо… Да, да, угадали: очень хорошая республика. Там есть отделение этого банка, я точно знаю. Переведите их на имя Брайна Р., будьте так любезны. А заодно, в качестве прощального презента — купите авиабилет… нет, не на это имя, на мое настоящее. С визой я сам разберусь.
— …нет, не боюсь… Для этого ты у меня есть, — улыбнулся Мастер. — Кассеты у тебя?
Подмастерье кивнул.
— Ага.
С собой возьми.
— …?
— Ну, так надежней… А теперь давай немного посидим, а потом — в ресторан, отметим прощание с Родиной–мамой, и — в «Шереметьево‑2»…
Посидели.
Повспоминали былое — Афганистан, Баку, Вильнюс. Хорошее было время…
— Ну, а теперь в ресторан?
— Ага.
— В самый роскошный… Расходы, конечно же, беру на себя… Как говорят ребята из Солнечногорска — «проставляю дружбану». Так, кажется?..
Сидя в ресторане, Подмастерье леденел под пристальным взглядом Мастера — что, опять не ту вилку взял? Не в той руке нож держу?
Пошли бы лучше в забегаловку, вмазали бы по водочке, пивом зашлифовали–класс!
— Вилку, вилку–то в правой руке кто держит! — злобно шипел Мастер, — как не стыдно… Боже, что за страна!
Расплатившись и небрежно бросив официанту сто долларов на чай, киллер поднялся со своего места и, улыбнувшись, спросил:
— Кассеты — у тебя?
Подмастерье помахал дипломатом.
— Тут они…
— Смотри, не потеряй…
— Ну, как можно…
Когда проскочили кольцевую дорогу, Мастер вновь поинтересовался:
— Не забыл дипломат–то?
Подмастерье пожал плечами — что–то на Мастера это не похоже…
Не доверяет, что ли?
Скривился обиженно:
— Да что ты… До старческого склероза мне еще далеко…
— Дай сюда.
— Дипломат на заднем сидении.
Взял дипломат, щелкнул позолоченными замочками, достал кассеты, осмотрел и обратно сунул.
— С собой хочешь взять?
Мастер сделал вид, что не расслышал вопроса.
А впереди уже замаячила стеклянная коробка аэровокзала. Все, прощай Родина — Мать…
Подмастерье припарковал машину, провел коллегу в вестибюль.
— Ну что — будем прощаться, — печально улыбнулся Мастер.
Младший коллега горестно вздохнул.
— Да… Спасибо тебе, ты мне как брат… Ты был для меня больше, чем брат…
Они обнялись, и Мастер, коснувшись щетинистой щеки друга, заметил, что она мокра — от слез, неужели?..
Улыбнувшись, Мастер произнес:
— Да, у меня ведь с собой ствол…
— Боишься через таможню нести?
— Да нет, я ведь через дипломатическую, как всегда… Просто тебе на память хочу отдать. Подарок. Он чистый, нестрелянный… Ни в одной картотеке не стоит, я его когда–то в Лoc—Анжелосе купил…
— Спасибо, братан, — прочувственно ответил Подмастерье, — за все тебе спасибо… Я тебя никогда не забуду — ни тебя, ни того, что ты сделал для меня…
Мастер огляделся по сторонам.
— Зараза, людей слишком много… А вон и милиционер стоит.
— Боишься?
— Да. Не хочется перед самым отъездом на такой ерунде попадаться. Представляешь, как глупо бы выглядело? — он улыбнулся. — Давай на минутку в туалет пройдем, там и отдам незаметно.
— Ну, хорошо…
— Ты ведь мне тоже, как брат, — сдержанно–растроганно произнес Мастер, — если бы ты меня не подстраховал с теми кассетами, может быть, и не пришлось бы сейчас улетать…
— Кстати, а кассеты? — спросил Подмастерье, — что — не оставишь мне?..
Но старший коллега, быстро развернувшись, уже направлялся в туалет, и младшему ничего не оставалось, как последовать за ним…
Подмастерье вошел в кафельный предбанник туалета первым, Мастер — за ним, и потому младший коллега никак не мог видеть, как отбывающий в Латинскую Америку навинчивает на ствол глушитель…
Через несколько минут Мастер, поправляя сбившийся воротник плаща, прошел в фойе.
— Говорил ведь тебе, — негромко прошептал он, — говорил ведь, что вижу надо держать в левой руке, а нож — в правой… Так до самой смерти и не научился… А еще культурным хотел стать…
Таможенные и паспортные формальности для человека, следующего через дипломатическую стойку — не проблема. А дальше — серебристая громада «Боинга», уютное место в бизнес–классе, у иллюминатора, улыбчивая, приветливая стюардесса, разносящая разноцветные алкогольные напитки…
Салон был почти пуст — туристический сезон еще не наступил, челноки, мотающиеся в островно–банановую республику за нехитрым товаром, куда–то исчезли: слава Богу, ни одного соотечественника. Да и не всем по карману бизнес–класс — экономический немного попроще, но — дешево.
Соседей рядом не было, и Мастер, осмотревшись на дремавших пассажиров, осторожно достал из дипломата с позолоченными застежками револьвер (он лежал рядом с кассетами), извлек отстрелянную гильзу, повертел её в руках, сунул в карман.
«Вращайте барабан»…
Хорошее занятие, можно и повращать. Впрочем, при выстреле он сам крутится. Кольт — вообще хорошая машинка, если оригинальная, американская….
Свинтил глушитель, положил отдельно и, вернув барабан в исходное положение, несколько раз задумчиво крутанул его по часовой стрелке…
«Вращайте барабан, ваш ход… Есть такая буква!..» 50 очков
Так: сейчас главное закрыть входную дверь, на все замки закрыть и никому не открывать — ни в коем случае и не под каким предлогом. Звонок? Можно отключить, нет, лучше всего — перерезать, взять ножик и перерезать, да, вообще к чертовой матери перерезать, чтобы не раздражал и не провоцировал в душе страх…
Сел.
Закурил.
Отдышался.
Успокоился.
Нож? Где нож, зараза, ведь только что видел его, сука куда он делся ведь без ножа нельзя перерезать проводки два цветных таких проводка «плюс» и «минус» а ничего они изолентой замотаны можно просто оторвать вот только встать на табуретку черт где же ага вот она теперь главное осторожно чтобы ножками не шаркать по полу потому что соседи внизу сразу же поймут что он решил звонок отсоединить и обо всем догадаются и тогда обязательно позвонят в милицию и приедут сюда к нему арестовывать и расстреливать ведь уже ищут наверняка уже ищут человек был известный убийцу такого не могут не искать…
Оторвал проводки трясущимися руками, снял корпус звонка, повертел, выбросил в мусорное ведро.
Докурил сигарету — вон, фильтр уже тлеет.
Прислушался: вроде, все тихо; лифт не гудит, к двери не подходят, звонить не пытаются.
Хотя — что им звонок? Поймут, хреновы гуманисты в мышиной униформе, что звонок просто не работает, постучатся в двери — громко, размеренно, официально…
Отчетливое дуновение страха преследовало неотступно; как ночной кладбищенский ветерок, гуляющий средь заброшенных крестов и памятников, страх тихо шевелило волосы, зловонным пузырем надувало рубашку: это был самый ужасный из всех разновидностей страхов…
Страхов, как и змей бывает в природе великое множество:
Гадюка, которая беспощадно жалит перед тем, как ты одиноко ложишься в кровать; и пусть дверь заперта, но все равно в голове мысль — а вдруг… узнают, вдруг зайдет кто–нибудь, вдруг из–за стены подслушают, приложив к бетонной перегородке стаканчик, вдруг в окошко из соседнего дома любопытные до зрелищ соседи подсмотрят?
Узорчатый полоз, показывающее раздвоенный, как голова державного русского орла–мутанта, язычок; подползает в самой обыденной ситуации, например — когда перед тобой неожиданно появляется мент поганый, тупой лимитчик, омоновец с цветными шевронами, с толстой дубинкой, и требует документы — не чеченец ли ты?
Очковая змея, декан факультета; этот страх обнажает ядовитые зубы внезапно, исподтишка — когда видишь на стенде свою фамилию: зачем? что надо?
Эфы, кобры, медянки, гюрзы — так и кишат.
Но этот страх, самый кошмарный — королевский питон, боа констриктор: он не прячется, не шипит, даже не жалит, он просто наваливается и душит своим масляным, чешуйчатым телом, всей мощью мускулов, а потом заглатывает тебя целиком, как глупого кролика; и нет уже силы кричать, сопротивляться, страшный канат сплющил кадык, мерно, как метроном, раскачивается хвост, он давит тебя все уверенней и сильней, не пошевелиться, будто бы попал в застывший гипс, и чувствуешь постепенно, что тело твое постепенно превращается в мешок толченых ракушек…
Короче — сплошь аспиды коварные, твари земноводные.
Не человек, а какой–то ходячий террариум.
Альфред Хичкок, Вий, Фредди Крюгер, Босх, чеченцы. ОМОН, вызов в деканат, насмешки однокурсников, кровожадные пролетарии с микрарайонов, копошащийся клубок склизких злобных анаконд, и все, все, самое страшное, что только можно себе представить — одновременно.
Такой вот коктейль.
Тьфу!..
Точно: обостренная мания преследования. Клинический случай.
Пусть его называют ненормальным, помешанным, пусть дорогие однокурснички считают, что он живет в какой–то выдуманной реальности, пусть за глаза называют Маньяком.
Он ведь не глухой, слышит и знает…
А вот с этим…
Ведь так все хорошо было задумано, и исполнено хорошо, ведь не задержали его ни на улице, хотя выстрелы наверняка были слышны во дворе, ни в машине, хотя гнал, как сумасшедший, ведь сумел он незаметно выбросить пистолет в Москву–реку, никто и машину не остановил, добрался благополучно до дома — живой и невредимый! И никому в голову не придет что такое мог совершить маньяк…
Маньяк?
Ну, прекрасно — Маньяк так Маньяк. И ничего предрассудительного в этом нет.
Маньяк — человек, обуянный манией, человек, одержимый какой–то одной глобальной идеей.
Что в этом плохого?
Зато не такой, как они…
Ну, хорошо, пусть считают его маньяком — он воспримет это только как комплимент.
Хорошо: Маньяк так Маньяк.
И звучит–то загадочно и по–своему благородно, с оттенком невольного устрашения окружающих (американские видики, небось, все смотрят): просто «дурак» — стертое бытовой ругательство; «псих» — слишком уж по–медицински, с оттенком бессмысленного буйства; ну — «кретин», «дебил», «имбицил», «даун», «идиот»…
Да, великий и могучий — национальная гордость великороссов: сколько экстенционального, но в то же время — и интенционального!
Маньяком его считали если не все, то очень многие: часто люди, непонятные окружающим, вызывают ответное раздражение и потому — вполне справедливое озлобление, особенно у молодых, особенно у студентов.
Если тебе двадцать один, если ты постоянно во всем подчеркиваешь свое непонятно в чем превосходство; если регулярно не ходишь в студенческую общагу и не трахаешь сисястых висложопых первокурсниц, провинциальных девочек в народном стиле, наконец–то дорвавшихся после восемнадцати летней опеки папы–мамы до свободы; если не рассказываешь потом, как волшебно были пьяны с Ирой из 810–й, как замечательно Вероника из 717–й умеет брать в рот; если во время заурядной бытовой пьянки после сдачи очередного семестра способен моментально нажраться до поросячьего визга и, схватив бутылку, по–хулигански разбить её о стол, потрясая осколочным горлышком: «Всех щас, бля, покоцаю, я — психопат!..», то понятие, взятое из «Большой Медицинской Энциклопедии» — как нельзя кстати.
Маньяк.
Он и сам свыкся с мыслью, что — немного того, или не того, и уже особо не обижался, если замечал боковым зрением, что у него за спиной выразительно крутят пальцем у виска — мол, он ведь ненормальный; если слышал рядом зловеще–испуганный шепоток: «Тихо, тихо, потом, потом, а то он щас… покоцает… тс–с–с… Маньяк.»
А чего, собственно, обижаться на вас, господа сокурснички?
Ненормальный — не соответствующий норме, не такой, как все остальные. Норма — быть «как все». А хотеть быть таким, «как все» может желать только существо с воображением ящерицы, серой мыши — то есть вас.
Вы — обыкновенные серые мыши, и на Маньяка никогда не потянете.
И вообще: не курс, а цирк на Цветном бульваре: бабы, все, как одна — патологические бляди, с необычайно развитыми вторичными половыми признаками (по общему мнению, регулярно подтверждаемом в перерывах между лекциями гиперсексуальными однокурсниками — и первичными тоже); мужики — или живая иллюстрация к массовому мелкобуржуазному каталогу «Otto», так, дешевенькая попса, или — крутые мальчики, обедающие в «Континентале» и ужинающие в «Арлекино», куда приезжают с роскошным телками на роскошных папиных 730–х BMW и 9000–х Saab’ax последних моделей.
Есть, впрочем, несколько жадных до знаний провинциалов, мудаков–Ломоносовых, собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов, пришедших в Москву с катомками за плечами, но это — вообще не люди. Так — мусор.
Да, правда еще присутствует небольшая горстка «интеллектуалов» точней — обыкновенных снобов, мнящих себя таковыми.
Ну, типажи и архетипы настолько узнаваемы и банальны, что даже поддаются классификации:
1) философы–эстеты: Флоренский, Бердяев, церковь Воскресения Славущего, Шмелев, Набоков, Антониони, Бергман, «Битлз», Бах Иоганн Себастьян, «Прима», чай без сахара, но зато с «мусором», (отсутствие возможностей диктует потребности), крепкий портвейн, живут сдачей стеклотары.
2) художники–прозаики–поэты: агни–йога, Рерих, «Кинг Кримсон», Брайн Ино, Штогхаузен, Меламед, Дом Кино, «авангард», «Беломор», кофе в забегаловках, «травка», заветная мечта свалить за бугор (непонятно, что они там делать будут); живут перепродажей анаши однокурсникам и мелкооптовой торговлей на вещевом рынке.
3) «отмороженные»: оргии, «братки», скандалы, хэппенинги, драки, «Нирвана», групповухи со всем, что шевелится, пьет все, что горит, курит все, что дымится, а чем живут — неизвестно.
Первую категорию Маньяк откровенно презирал; вторую — ненавидел, а к третьей относился так, как, наверное, относился Миклуха — Маклай к туземцам, попав на их остров, Terra inkognita — с брезгливым сочувствием.
Но все равно: их — и обляденевших народных девочек, и крутых мальчиков из дипломатических семей на папиных лимузинах, и эстетствующих полудурков много, они похожи, как неотличимо похожи друг на друга волоски на лобке, а он — эксклюзив, штучный экземпляр, тонкая ручная работа по единственному проекту, пусть и маньяк, но в мире другого такого нет: как собор Василия Блаженного, создателей которого царь Всея Руси Иван Васильевич приказал ослепить, чтобы ничего подобного больше нигде не создавали; или, еще лучше — как пронзительно–алый миллионерский Ferrari, собранный по спецзаказу князя Гримальди (чертежи выкуплены и уничтожены)…
А на трассе все эти BMW и Saab’ыостанавливаются и с тихой завистью балдеют — ну, ну, ну и ни хера ж себе, и только шепоток по горячему гудрону стелется, — каков, каков однако!..
Он — маньяк, а вы, по большому счету, со своими шмотками от Диора и роскошными тачками — серые мышки, и поступили–то сюда или по связям, или за большие баксы, или же потому, что экзамены у вас принимали такие же серые мышки, как и вы сами, чувствовавшие подсознательную симпатию к собратьям по интеллектуальному увечью.
Все вы, все без исключения работаете на публику, все хотите понравится сперва другим, и через это самое «другим» — самим себе; ведь если разобраться, и шмотки, и показное эстетство, и оргии, и самый банальный половой акт — это прежде всего лицдейсгво; на публику то есть, все это замыкается на другого (–ую) или других и сводится к одной незамысловатой фразе: «вот как я могу, вот я, значит, какой, посмотрите, какой я…»
Это ваша норма, серые мыши, и потому вы считаете себя «нормальными». Безнадежно нормальны, неизлечимо здоровы.
Вам все время надо напрягаться, доказывать, а зачем ему что–то кому–то доказывать? Он что — цену себе не знает?
И вы ради этого самого доказательства потеете, бедные, работая «наружу», он — на себя. На удовлетворение собственного эго, и нет ему нужды ни до ваших показных коитусов (а они всегда показные), ни до внешнего лоска, ни до глупых бесед в курительной — «а вчера Валька–то…» или: «слышал про Охлобыстина?..» или: «правильно Николай Бердяев писал…»
Занятие этим приносит чувственное удовлетворение только ему — зачем ему удовлетворять еще кого–то, зачем делиться?
Высшее проявление эго — быть безразличным ко всему на свете.
Так что — желать стать «нормой», то есть стать похожими на вас?
Ни хера.
Маньяка не любили, но — боялись: мало ли что, ненормальный…
А вдруг — Дудаев, Чикатило, а вдруг — действительно… ну, покоцает, бля, маньяк?
Чужая душа — потемки.
Хотя, конечно, на Чикатило не тянет: ростовский маньяк хоть телок трахал, пусть и не достигших студенческой половозрелости, а этот…
А вот об этом, дорогие мои, вы никогда и не узнаете.
…все началось во время зимней сессии: лежа на диване, Маньяк лениво почитывал растрепанную «Историю древнего мира».
Римский секс — тоска: императоры спят со своими служанками, мамами, дочерьми и сестрами, сплошной инцест, куда не глянь.
Интересно, а этим… ну, этим они когда–нибудь занимались?
Да куда там — кровавая эпоха войн с варварами и завоевательных походов в Парфию никак не способствовала сладострастному самопогружению в глубины собственного «я».
Русский секс, как утверждают просвещенные однокурснички — куда круче.
«Вертолет», «шоколадный глаз», «Дюймовочка», «Анка–атаманша»… Однокурсники в один голос авторитетно заявляют, что последнее особенно пикантно: двойной минет, взять в рот сразу два мужских достоинства и, когда оба синхронно напрягутся, выплюнув в нёбо миллионы обжигающих сперматозоидов — сглотнуть и свистнуть, как Соловей — Разбойник или Стенька Разин — в два пальца.
Какие там Клеопатры с Антониями!
Детский лепет на лужайке…
Хотя, если разобраться, все это — говно на палочке: водка, перегар, трудовой пот, конвульсии, сбитые на пол простыни и казенная кровать — скрипучая и полуразломанная… Ты — сразу кончаешь, а она шипит, раненная кобра: «а я еще нет…» И рожа — недовольная–недовольная, будто бы жениться обещал, и — не женился.
Без них как–то лучше: чувствуешь себя хозяином положения и властелином вселенной. Правда, в пролетарской среде, где–нибудь на ЗиЛе или АЗЛК, бабы, которые мужиков за таким занятием засекают, по слухам— бьют безжалостно и нещадно, чтобы не расходовали впустую столь ценный для женских органов и пищевода продукт; но кто узнает тут, в этой квартире?
А потом — вновь–таки: сколько экзестенциального! — ни одна партнерша, ни один припопсованный прыщавый отрок не поймут!..
То–то, что не поймут…
Да, проблема взаимоотношений полов — извечная российская трагедия.
Но — уймитесь сомнения и страсти, потому что — Древний Мир: Рим, Тарквиний, Сулла, Каталина, Цезарь, Цицерон, Август, Веспасиан, император Нерон, который очень любил петь (по–русски), Троян, Диоклетиан, Ромул Августин и прочие мудаки.
Профессорша — старая благообразная баба с жестяной прической и землисто–серым лицом, по просвещенному мнению понимающих в подобных делах тож однокурсниц, никогда в жизни не кончала и, видимо, по этой причине решила основательно протрахать девственные мозги курса.
Выучить на память пятьдесят латинских выражений — к чему?
Что, студенты со студентками в убогой возвышенности общаги — по–латински … будут, что ли? Похищение сабинянок, «Египетские ночи», оргии Нерона, хоровые трахалки по Калигуле? Так у нас — похлеще! Зайдите как–нибудь в наш кампус, Екатерина Николаевна, милости просим, оч–чень поучительно. Заодно и поймете, что жизнь прожита вами зря. В человеке, как справедливо говорится, все должно быть прекрасно, и т. д.
Тем более, что студент имеет полное право на половую жизнь: gaudeamus igitur, juven.es dum sumus. [13]
Ax, выражения иностранные? Ну, щас, Екатерина Николаевна, щас выразимся, щас мы вам тут так выразимся, что на всю жизнь запомните…
Нормальный студент, обогащенный просмотром импортной порнухи по видику (и отечественной — в блоках общежития Alma Mater), если он только не готовит себя в великие бизнесмены или в американские послы, вполне может обойтись несколькими иностранными словосочетаниями, и не мертвого латинского, а живого и доступного англо–американского, так что шла бы ты лучше домой ту фак с мужем ту ду, если у него еще стоит, дорогая профессорша, и, просим сердечно — кисс нас в эсс…
Но — учить все–таки надо, потому что профессорша на редкость принципиальная дура, взяток не берет, даже большими, очень большими (для нее) баксами. Пробовали как–то через старосту всучить — истерику учинила, «за кого вы меня принимаете?!..»
Сказали бы, за кого, да не хочется отношения перед экзаменами портить.
Учи, студиозус.
Учение — свет, неучение — тьма. Классика, как говорится.
Смирись с суровыми реалиями предсессионных будней.
Смирение, как говорил, кажется, Августин Блаженный — первейшая христианская заповедь. Особенно, когда ничего нельзя изменить.
Ну, дура она и есть дура — очевидного не понимает.
«Ведь я не прошу, чтобы вы досконально овладели языком…» — на что хор однокурсниц даже не краснея: «а мы и так им владеем досконально, вон, Андрюша подтвердить может!..» — хор однокурсников во главе с Андрюшей подголосочно комментирует: — «Катерина Николавна говорит об иностранных…» — професорша проникновенным речитативом: «латынь, божественный язык великих Цицерона и Вергилия, к сожалению относится к мертвым языкам…» — хор однокурсниц жизнеутверждающей постлюдией: «может быть, у великих Цицерона и Вергилия, а у нас языки, да и все остальное — тоже…»
М–да, божественная латынь, божественная «Энеида», божественный лаконизм выражений…
Озорные интеллектуалы и особенно — интеллектуалки курса выдали сразу же, живо: «Fortuna non penis, un manus no resepi» [14], и это заставило почтенную латинистку густо покраснеть. Остались, видимо, и у нее счастливые воспоминания о беспечных студенческих годах, сладкоголосая птица юности нашептывает, наверное, по ночам — а то откуда бы она знала перевод?
Неужели только из одного профессионального интереса?
Ну, бляди есть бляди — ничего не скажешь. Это уже, наверное, физиология.
Penis — единственный интеллектуальный багаж, который они вынесли за несколько лет учебы в престижном вузе. Большой такой, пребольшой, как у Андрюши.
Так что надо учить, иначе неприятностей не оберешься — во всяком случае, общаться с очковой змеей в деканате что–то не хочется.
А учить — еще больше не хочется.
Уф–ф–ф…
«Ceterum censeo Carthaginem esse delandam» [15]
«Homo homini lupus est» [16]
«Labor omnia vicit improbus» [17]
«Tu quoque, Brute!» [18]
Маньяк отложил учебник в сторону, закурил и задумался…
Брут.
Кем же он там был, в своем Древнем Риме?
Каким–то там проконсулом, кажется, претором или эдилом? Что–то в этом роде. Короче — обыкновенный администратор, вроде теперешнего заместителя председателя горисплкома, мелкая сошка, какими вся эта древнеримская история кишмя кишит. Сколько было за всю историю Рима таких администраторов?
Несколько сотен?
Несколько тысяч?
А в историю вошел только один–единственный — Марк Юний Брут.
Сколько было в Риме императоров, сколько было людей, обладавших несоизмеримо большей властью, несравнимо богаче, чем этот самый Брут — всех этих Октавианов Августов, Тибериев, Домицианов, Септи– мий Северов, Гелиогабаллов, Аврелианов?
Кто известней — они все, вместе взятые, или же — Брут?
Ясно, кто…
Почему?
А потому, что Брут убил знаменитого человека, Гая Юлия Цезаря.
Из глубины подсознания услужливым ужом выползло слово: «паблисити».
Да, реклама, паблисити.
Марк Юний Брут сделал себе отличное паблисити этим убийством — на всю историю человечества.
Включил телевизор, зевнул, прикрыв рот ладонью — на экране появились две кошечки, и голос — приторный– приторный, аж с души воротит: «Тиша и Маруся, чего бы вам хотелось?..»
Ясно, чего, сказали бы однокурсники и однокурсницы, все совершенно очевидно: Марусе — Тишу, а Тише — Марусю.
Кто знал Тишу и Марусю раньше, кроме их заботливых мамочек, кормящих возлюбленных длинношерстных чад купленной на Центральном рынке куриной печенкой?
Никто.
Кто ими восторгался, кто умильно смотрел на экран, кто орал на всю квартиру: «Мань, а Мань, иди, глянь, какие котики!»?
Никто.
А теперь «Вискас» сделал им паблисити: самые знаменитые котята России. Точно также можно было бы сделать паблисити любому помойному коту. Правда, паблисити какое–то… м–м–м, вшивенькое, поймут, наконец, что у большинства народа на склизскую целлю– лозно–бумажную «докторскую» денег нет, не то, что на «Вискас», и прикроют. И забудут о Тише и Марусе месяца через два, как забыли уже о Марине Сергеевне, Игоре и Юле да братьях Голубковых.
Мысль, воздушным пузырем появившаясь во время чтения «Истории…», неожиданно разрослась до размеров рекламного щита «Макдональдса» на Тверской, заслонила все, неожиданно обросла параллелями, запестрила, заиграла аналогиями: кем был Ли Харви Освальд, убивший Джона Фицжеральда Кеннеди? никем не был, отставным морским пехотинцем, обыкновенным хорошим американским парнем, каких сотни тысяч, кем был тот, ну как его… ну, который застрелил Джона Леннона? Тоже бездельником, неудачником, каким–то там безработным, каких по всем этим Штатам шляется — считать–непересчитать. кем был Бут, застреливший Авраама Линкольна? средней руки провинциальным актеришкой — так, на вторых ролях, кем был Гриневицкий, взорвавший Александра II — ну, того самого, из «Всемирной истории», «кормить надо, они и не улетят»? каким–то отставным шляхтичем, кем был Сальери, отравивший Моцарта? посредственным композитором, если верить художественной литературе, мелким завистником. кем был…
Короче — все ясно: есть кондовый и незамысловатый способ навсегда войти в историю, просто, как пачка маргарина: убийство всем известного человека.
Убийца Улофа Пальме навеки вошел в историю Швеции, Каплан, даже не застрелившая Ульянова—Ленина — в историю России, фон Шварценберг, пытавшийся взорвать Гитлера — в историю Германии.
Чем бы они были без этого? Ничтожествами, полнейшими ничтожествами, букашками, серыми мышками, не более того. Да.
А все эти моральные потуги — ох! ах! как можно! да живые ведь люди! душа! — очень напоминают унитазные кряхтения больных геммороем.
Цель оправдывает средства, как говаривали отцы–иезуиты.
Все правильно.
Как же это по–латыни?
С отчетливостью голографического снимка вспомнилось: тогда он растянулся на диване, непонятно чему улыбаясь. Неожиданно взгляд его остановился на загнутой странице учебника:
«Aut Caesar, aut nihili» [19]
Питон страха сжимал голову своими железными кольцами нещадно — ведь ищут, ищут! его ведь ищут! наверняка ищут!
Маньяк крадучись прошел в прихожую, внимательно осмотрел все запоры. Дверь вроде крепкая, замки вроде надежные…. А толку что? Если догадаются, что это он, никакие замки не спасут.
Но все равно…
Он осмотрелся по сторонам — ага, шкаф. Тяжелый, зараза, но если вот так, вот так, плечем, плечем, придвинуть его к двери только опять чтобы ножками не шаркать по полу какой однако звук страшный на весь дом точно соседи сейчас догадаются если уже не догадались ведь не будешь же ты мебель в одиннадцать часов переставлять а ничего ведь он Маньяк а маньяку все можно все позволено в том числе и переставлять мебель интересно а по телевизору уже сообщили или нет наверное завтра.
Уф–ф–ф!..
Эп!..
Нога мгновенно стала деревянной — в икру змея ужалила, судорога сразу же… Откуда она тут взялась? Наверное, под шкафом пряталася, отдыхала, не надо было её тревожить.
Отпускает помаленьку…
Прихрамывая, пошел на кухню, судорожно дернул на себя дверку холодильника, достал початую бутылку коньяка, выпил.
Вновь закурил («Лаки Страйк» — «настоящая Америка!») — пепел падал на пол, на новенькие брюки, на тщательно вычищенные ботинки, но разве теперь до этого?!
Перед тем, как лечь спать, еще раз вспомнилось, ярко так вспомнилось: тогда, зимой, после чтения учебника также, как и теперь, запер двери на все замки, зашел в холодную ванну и — ужаснулся.
Змеи — повсюду змеи.
Вон, из вентиляционной решетки мерзкая приплюснутая голова высунулась, раскачивается в так капающим из крана каплям — кап–кап, туда–сюда, кап–кап, туда–сюда, мерно так, страшно, точно гипнтизирует; желтобрюхий уж, гадкий такой, склизкий, линяет, наверное, смеситель обвил, непонятно только, кто из них смеситель, а кто уж; а на полу–королевская кобра, надувает свою капюшон, ш–ш–ш–шипит… ш–ш–ш–ш… Укуш–ш–ш– шу..
Открыл кран–на полную катушку, чтобы соседи не подслушали и не догадались, неторопливо расстегнул замок–молнию джинсов…
Исчезли мерзкие пресмыкающиеся — будто бы и не было. Вот так надо с своими страхами бороться!
Чувственное наслаждение — как только страх заявит о себе, нанесите ему ответный удар!
И тогда — он хорошо запомнил этот момент! — неожиданно мысль об убийстве, о грубом насилии переплелась с этим, наложилась и растворилась в оргазмических конвульсиях…
Наутро следующего дня проснулся резко–будто бы от сильного толчка. Сбившийся рубец простыни неприятно резал живот, натирал кожу; нестриженные ногти ног цеплялись за шершавый пододеяльник; сами ноги почему–то сильно вспотели — с чего бы это?
Почему–то подумал, что вчера забыл их помыть: между пальцами набилось столько грязи…
А–а–а… Теперь не до этого.
Лежа в кровати, медленно, с удовольствием опустил руку туда. Теребя, попытался как можно более подробно вспомнить вчерашний день: холодный ветер на неуютной Новокузнецкой, слякоть, серое небо, тяжелый браунинг с мокрой, мыльной от пота рукояткой — целый час в подъезде караулил, сжимая оружие в кармане, потом вышел на улицу, потом — опять в подъезд.
Пистолет попал к нему случайно: во время «октябрьских событий 1993 года» он оказался в районе ставшего уже черным Белого Дома. Глядь — в пожухлой траве, рядом с блестящими отстрелянными гильзами что–то темнеет. Нагнулся, посмотрел — пистолет, точно… Наверное, кто–то потерял, не иначе. Или же выбросил. Как говорится: «Сей груз карман не тяготит и пить и есть не просит… Монах монашку не…, зато в кармане носит».
Почему бы не взять домой — на всякий случай? Пригодится когда–нибудь…
И пригодился.
Потом, правда — через полтора года.
А тогда по курсу впервые прошел шепоток, и Маньяк, еще не проникнувшись идеей собственной исключительностью и, не познав себя, принципиального отличия своего эго от нивелирванного сознания серых мышей, не поняв, наконец, что маньячество не унижает его, а наоборот, уже всерьез подумывал использовать находку сразу же на ближайшем семенаре по спецкурсу.
Однако пересчет количества патронов в обойме с последующим делением его на общее количество однокурсников и однокурсниц давал такую ничтожно малую дробь, что он оставил эту мысль…
А, кроме того, как он понял позже, среди одно–курсников и однокурсниц не было ни одного, достойного быть убитым его рукой.
Ящерицы.
Мыши серые.
Короче — не Юлии Цезари. Так, плебс. Завсегдатаи бескровных гладиаторских боев в грязных блоках общаги на несвежих простынях с разляпистыми казенными печатями.
«Не пугайтесь этого слова, жестокости–не больше, чем в футболе, насилия — меньше, чем в хоккее…»
И почему с утра такая сильная эрекция? Кровь так и пульсирует, чувствуется, как приливает туда, вниз, все сильней и сильней…
Физиология?
Или потому… потому, что вспомнил, как это все вчера происходило?
Но, по любому — очень приятно. Плохо только, что от одной мысли об этом можешь кончить раньше, чем хочется…
Да, вчера он (Маньяк) долго стоял, дожидаясь своего Гая Юлия.
Почему именно этого, почему его, а ни какого– нибудь другого?
Сам не знал. Просто тогда, зимой, во время тоскливой предсессионной зубрежки латинских выражений, вернувшись из ванны с расстегнутым еще замком– молнией, включил телевизор — ага, «Час пик», знакомый образ.
Видимо, просто наложилось друг на друга: мысли о Марке Юнии и Гае Юлии на посещение ванны, а передача — на то и на другое, наложилось, значит, и все это само собой выкристаллизовало решение: он. Подходит. То есть то, что надо. Конечно, не Цезарь, но масс–медиа, как говорят — тоже какая–то там власть, третья или четвертая, а, если вдуматься — первая…
«Час пик»… «Пика» по блатной фене–нож. «Время ножей», что ли?
Идея долго зрела подспудно, в вонючей теплоте подсознания — как, наверное, медленно вызревает змеиное яйцо; покуда не вылупилась наружу, высидив положенный инкубационный срок, покуда не отлежалась полооженное природой, свернувшись холодным склизким клубком, а потом вылезла на поверхность, заслонив собой все…
Маньяк.
Вы — «нормальные», то есть — как все, ваша мания — работать «на публику», а у него другая мания — собственное эго.
Что — хотите сказать, хуже?
Ничуть.
Долго выслеживал, где же он живет, специально ездил на старенькой «тройке» к Останкино, прикидывал, сколько времени занимает у него дорога от телецентра до дома, высчитывал шансы, просчитывая возможные варианты, предполагаемые пути к бегству.
Сперва воспринимал эти поездки как игру, что–то вроде детской военно–патриотической «Зарницы», пока в тот самый день, вчера вечером то есть, не увидел его, подъезжающего на машине к дому, и давешняя змея уже сладко шептала на ухо: давай, давай, вот он, вот твой Цезарь, тебе надо только снять с предохранителя, и…
И это у него получилось — с пугающей легкостью получилось!..
«Aut Caesar, aut nihili»
«Случилось стра–ашное… кровь проли–ил…»
Страшное?
Ничуть: наоборот — приятное!
Все, все, все, хватит об этом.
Посмотрел на часы, от нечего делать включил телевизор.
Черный фон, портрет, комментарий к фону и портрету — убит, мол.
Ясно, кому–кому, а ему это известно, наверное, лучше, чем другим.
М–да.
Течение мысли вялое, какие–то незначительные воспоминания–детали проплывают на поверхности, неприятные такие, тонкие, ломкие, переливчатые, как радужная бензиновая пленка по Москве–реке: вот, вспомнилось, что рукоятка пистолета была мокрой от пота, в туфли через верх набрался снег, носки промокли насквозь…
Интересно, а в Москве–реке могут водиться какие– нибудь аспиды доисторические, ихтиозавры, змеи морские, чудища лох–несские?..
Радужные пленки воспоминаний и ассоциаций поплыли дальше, по течению, растворились в мозгу.
Стоп!
А для чего он все это задумал?
Задумал и — сделал?
Для чего?
Взял сигарету, закурил, пожевал фильтр, сплюнул на пол.
А действительно — для чего же?
Затушил окурок, выключил телевизор — на сегодня это все новости, больше, как он понял, уже не будет.
Для кого?
Ясно — для себя: где–то в самом сокровенном закутке мозга есть комната, шикарная такая комната, запретная для всех, и сидит там, свернувшись клубком, это самое эго, и, чтобы поддерживать его, он должен периодически носить в комнату что–нибудь такое… Кормежку, как носят питонам живых кроликов.
Для кого — ясно.
А для чего?
Стоп, стоп…
Что сделал?
Убил.
Правильно, а кого?
Если без персоналиев — то просто всем известного человека.
Своего Цезаря.
Ага, все правильно… А для чего?
Потому что это принесло ему удовлетворение. Это… и это тоже.
Большинство убийств, наверное, происходит только потому, что они приносят самому убийце удовлетворение, каким бы оно ни было.
«Сатисфакашен», удовлетворение — хорошее слово. Название композиции «Роллинг Стоунз». И «фак» есть, и… Хорошее было слово, пока в телерекламе под эту песню не стали «Сникерс» крутить.
Интересно — а Марку Юнию Бруту убийство Цезаря тоже принесло… Ну такое же удовлетворение, как и тебе? Наверное, когда они с заговорщиками забаррикадировались на Капитолии, чтобы вновь провозгласить Республику, он тихонько отошел куда–нибудь за дорическую колонну, распахнул тогу, и…
Такой вот банк «Империал».
Да, дорогой, ты — маньяк, Маньяк, оставайся им ивпредь. Но об убийстве Брутом Цезаря Рим узнал сразз же, а об убийстве этого…
Хорошо бы убивать известных людей где–нибудь в Колизее, при большом стечении народа, как убили какого–то там, кажется, Домициана. Впрочем, современные масс–медиа дает аудиторию куда большую, чем все древнеримские амфитеатры, вместе взятые.
А значит…
Не надо закрываться на все замки, не надо придвигать тяжелый шкаф к двери, главное — не надо бояться! Нет никаких змей, не водятся кобры и эфы в Москве, тут только черви на кладбищах да глисты в канализации…
И вообще: всех этих жутких пресмыкающихся выдумали биологи да хичкоки.
Тогда — к чему бояться?
Зачем тогда выслеживал, зачем стрелял? Брутом захотел стать, ну, «паблисити» себе сделать? Все правильно, это принесло тебе удовлетворение, удовлетворение твоему эго.
Скормил кролика.
А теперь остановка за немногим — чтобы об этом узнали все.
Ай–ай–ай!
Как непоследовательно!
Вновь — «на публику», как те, которые… ну, сфые мыши?
Удручающая схожесть волосков на одном месте?
«Норма»?
«Как все»?
Курительная?
Разговоры?
Бляди?
Акты?
Плевать на дефиниции. Главное то, что в конечном итоге тебе это принесет удовлетворение. Тебе, твоему священному эго.
А отсюда — совершенно логический шаг: пойти и сдаться.
Иначе никто не узнает, что это ты. В прокуратуру, в милицию, в ФСК, к черту, к дьяволу — иначе какой смысл было делать это?
Он медлил: легко сказать самому себе — «идти и сдаться». Легко представить себе это, но ведь представление всегда умозрительно!
Ну, придет, заявит, запишут его показания, побеседуют, обрадуются, наверное, что сам пришел, что меньше теперь у них головной боли, чаем угостят, печенье поставят, а потом…
Может быть, будут бить, может быть, распилят тупой пилой на части, может быть, скормят змеям в зоопарке, может быть…
Страх перед физической болью, и опять, хоть тысячу раз себя переубеждай — точно целый клубок гадких, холодных пресмыкающихся: кажется, Клеопатра покончила жизнь самоубийством, дав укусить себя змее фу какая гадость она же скользкая холодная ползет по твоему нежному животу все ниже и ниже щекочет судорога еще одна кожа покрывается мелкими пупырышками а она все ниже опускается ползет жало обнажает…
Укус!
Стоп.
Стоп.
Стоп.
Надо сделать усилие.
Надо превозмочь себя.
Иначе — все было бессмысленно. Иначе не надо было совершать этого. Тут какая–то западня, хитрая ловушка природы: чем больше наслаждение ты хочешь получить, тем больше боли тебе придется испытать, больше неприятного пережить. Все равно — или ли «до», или после. «Тоска после акта», воспетая поэтами «серебряного века», наступает «после». Тебе же по–настоящему повезло — сперва страшная мука, а затем — райское наслаждение… И толстый–толстый слой шоколада.
Поставил машину на стоянку, заглушил мотор.
Отделение милиции: сделанная из старого кинескопа светящаяся вывеска с полустертыми красными буквами, скрипящая на сыром мартовском ветру, заплеванный, пропахший мочой и гуталином темный подъезд, серый, ноздреватый утоптанный снег.
Сюда.
Главное — не волноваться, главное — вести себя с достоинством.
Ты — Марк Юний, а они — плебс. Они должны тебя принять с почтением, подобострастно, чтобы потом внукам об этом визите рассказывать…
И вообще: Caveant consules [20].
Храни достоинство, гражданин Брут.
Осторожно открыл дверь, сдерживая дыхание, вошел в подъезд.
«…простите, а где тут.„»
«,..по какому делу?..»
«…хочу сделать заявление…»
«…третья дверь направо…»
Ободранный канцелярский стол, мент поганый за столом — волосы жирные, точно сливочным маслом смазанные, наверное, как в Москву на лимитное место приехал, так и не мылся с тех пор.
«…простите, я хочу…»
«…обождите…»
«…я хочу сделать заявление…»
«…не видишь, я занят…»
Хлопнул папкой с маленькими синими змейками вместо тесемок, завязал на хвостики, отложил в сторону и — устало:
— Чего?
— Пришел сделать заявление…
— Слушаю.
«…тот, что по телевизору… сегодня… передали… портрет на черном фоне... ну, Влад Листьев — убит… Короче — я его и убил…»
Милиционер недоверчиво посмотрел, почесал обгрызенным карандашом за ухом.
— Эй, Вась, а Вась, иди–ка сюда…
Из–за неплотно заткрытой двери:
— Чё те, Витек?
— Да вот, еще один…
— Что?
— Ну, сознаваться…
— Который за сегодня?
— Четвертый…
— Гони в шею.
Захлопал ресницами, оглянулся — из двери соседнего кабинета уже выходил Вась…
Маленькие, цвета заполярного неба глазки, серая кожа, крупинки перхоти на лацканах, прокуренные желтоватые усики.
У большинства московских ментов абсолютно одинаковая внешность: наверное, когда они сюда на лимитные места устраиваются, то вместе с засаленной предыдущей партией лимиты униформой получают в каптерке и эти обесцвеченные водкой глазки, и поджатый рот, и светлые усики, и обкусанные ногти на сосисочных пальцах, а вместе со всем этим — чувство безграничной власти надо всем, кто этими вещами не обладает.
Подсел, улыбнулся, дохнул табачищем — точно старому другу.
— Убил, гришь?
— Да…
— Ну, расскажи…
— Что?..
— Как убил?
— Застрелил.
— Из чего?
— Из пистолета.
— Пистолет где?
— Выбросил.
Недоверчивая усмешка, полупрозрачное лицо иди– ота–службисга, голубые, пропитые глаза.
— Куда выбросил?
— В речку...
— Где выбросил?
— С моста, на Кутузовском…
— Когда выбросил?
— Сразу, как убил.
— Почему выбросил?
— Испугался…
— Чего испугался?
— Что найдут…
— Что найдут?
— Пистолет…
— Кто найдет?
— Вы…
— Откуда он у тебя оказался?
— В траве нашел.
— Когда нашел?
— Года полтора назад…
— Где нашел?
— Под зданием Парламента…
— Пришел сюда зачем?
— Признание сделать…
— О чем?
— Об убийстве…
— Документы есть?
Да, паспорт взял с собой, ведь знал, куда шел, зачем шел, тем более, что там ведь сразу, на первой же странице красивым каллиграфическим почерком раба–писца выведено:
Имя: Марк
Отчество: Юний
Фамилия: Брут.
«Aut Caesar, aut nihili»
Полистал паспорт, глянул зачем–то прописку, протянул обратно.
— А убил зачем?
Не скажешь же этому Вась, зачем убил! Может быть, банк «Империал» он еще и знает, но — не дальше.
А тот смотрит недоверчиво своими пропитыми глазками, маленькой змеиной головкой качает:
— Ну–ну…
Отвернулся — будто бы пустое место перед ним, а не сверхчеловек со своим священным эго.
— Витек, помнишь, нас подполковник предупреждал, когда Александра Меня, ну, попа этого, выкреста, грохнули, человек семьдесят созналось?
Витек — не глядя:
— Угу… Семьдесят семь.
— И все, как один — психи.
— Точно.
— Всех на обследование в дурдом отправили?
— Ага…
— Сегодня ко мне уже двое приходили, посмотрел — тьфу, пидарасы, малолетние. Один, идиот хренов, еще и вязаную шапку горшком специально натянул — ну, как у того, что на фотороботе. — Обернулся, наконец: — ты вообще кто такой?
— Студент.
— Что учишь?
— Историк.
— Истории сочиняешь?
— Изучаю.
— Чё там за истории?
— Ну… Древний Рим, Цезарь, Брут, там. всякое, короче…
— Значит — ты его грохнул?
— Ну да…
— Ну–ну… Листьева этого …ва киллеры профессиональные грохнули, мафия там какая–то с «Останкино», с рекламы — рекламу смотришь? Не нашли, значит, языка с этим клиентом, газеты читать надо. Киллеры, а не студент. — Протянул портреты фоторобота: — Ну, на кого из них ты похож? Ни на кого. И их двое было, а не один. В следующий раз, когда еще кого–нибудь грохнут, если сознаться захочешь, то сперва хоть «Вести» смотри или газеты читай. Овладевай знаниями, понял? Ленин чё сказал? а то сказал: «учиться учиться и учиться…»
— Товарищ старший лейтенант…
— Чё?
— Но я…
— Чё еще?
— Признание…
— Ну, хорошо. Писать умеешь?
— Умею…
С мерзким грохотом выдвинул ящик стола, бросил на стол несколько смятых листков сероватой писчей бумаги, прикрыл пятерней с тупыми обгрызенными пальцами.
— Витек, дай ручку…
— Самому нужна.
— Ну, на минутку…
— Да иди ты нах!
— Витек, пусть он напишет и отстанет. Житья от этих … нет, тут с организованной преступностью надо бороться, а они, маньяк на маньяке …вы, только и знают, что под ногами шастают…
Маньяк?
Он так сказал?
Откуда он знает?!
— Витек, только на минутку. Надо, чтобы все по закону было. Ты ж понимаешь…
— На, подавись…
Грохнул пятерней по листу бумаги.
— Пиши.
Писать?
Ну, хорошо. Вот — что только?
Не верите?
Ну, хорошо: сейчас напишем…
Написал. Все подробно, все так, как чувствовал, как понимал, все — и про эго тоже.
Ведь главное — это!
Подвинул листок старшему лейтенанту, с шумом выдохнул воздух — точно гора с плеч.
Уф–ф–ф…
— Все?
— Все.
Взял заявление; прочитал — беззвучно, как все малограмотные читает, шевеля губами.
— Не понял…
— Что, товарищ старший лейтенант?
— …«Марк Юний Брут…», «…он станет моим Цезарем…», «…питоны и гадюки…», «…экзестенциализм…», «…удовлетворение…», «…мое эго…» Эго — что? Эт–то что такое?
Казенные глазки моргают — непонятливо так, усики топорщатся…
— Ты чё это сюда пришел?
— Товарищ старший лейтенант…
Отвернулся.
— Витёк, ручку на!
— Ага… Ну, чё он там написал?
Товарищ старший лейтенант с кривой усмешкой протянул листок Витьку.
— На.
— Чё?
— Почитай.
— Ага…
Читает, подперев голову рукой.
— Ты чё это — издеваться над нами пришел — да?
— Товарищ дейтенант…
— Нет, Вась, он точно маньяк… Еще ручку у меня для такой …ни просил…
Скомкал признание, бросил в мусорку. Поднялся пружинисто, подошел вплотную.
— Так: сейчас сюда приедит один мой друг, хороший такой дяденька в белом халате. Пульс тебе измерит, и все такое остальное…
— Товарищ лейтенант!..
— А потом увезут тебя в место, где нет ни змей, ни экстен… экстен… экзенстенсоциализма. Там только имбицилы тихие по койкам сидят и дрочат, дрочат, дрочат. Удроты …вы. Щас позвоню…
Маньяк уже был в заведении, которое сулил ему товарищ лейтенант: первый раз он не поступил в родную Alma Mater, и пришлось ему, чтобы в армию не пойти, закосить. Почти по классику: «Ярбух унд психоаналитик». Бухгалтер Берлага косит осенний призыв.
А косил он на заветную «статью», освобождающую от знакомства с АК, БМП и БТР по толстому–толстому учебнику для медицинских вузов (во всяком случае, убеждал в этом других). Когда забирали по «скорой», брыкался, царапался, кусался, визжал, рыдал, стонал, ругался, как пьяный пролетарий…
Буйный — да?
Это, коллеги, уважаемый ученый консилиум, обыкновенный шизофренический бред, подробно описан в соответствующей научной литературе, сейчас, дорогой, сперва в укрутку, парашютным стропом, а потом закатаем тебе полну жопу сульфазинчка, и будешь ходить потом по палате, изо рта тухлыми яйцами нести будет на сто километров, и ничего не будет хотеться.
Ага, уже ничего не хочется?
Как — совсем–совсем ничего?
Вкус к жизни потерян?
Вот как?
Безвозвратно?
Этот случай тоже описан, уважаемые коллеги. Это называется типичным маньякально–депрессивным психозом. МДП сокращенно. Тяжело, но излечимо. Сейчас мы тебе, дорогой пациент, инсулинчику полну жопу закатаем, чтобы радость к жизни восстановить, шок тебе такой небольшой сделаем…
Бр–р–р…
И вспоминать не хочется.
Хуже, чем все змеи мира…
Рука с сосисочными пальцами легла на телефонную трубку, но в последний момент товарищ лейтенант почему–то передумал — пожалел, наверное.
Ничто человеческое и им, стало быть, не чуждо, в том числе и жалость к павшим…
Ухмыльнулся желтозубо:
— Вот что: вали–ка ты отсюда. И помни мою доброту. Понял?
— Почти беззвучно, одними губами:
— Понял…
— И больше чтобы мне на глаза не попадался, под ногами не путался. Понял?
— Понял, товарищ лейтенант…
— А если еще раз придешь такие заявления делать, то… Понял?..
Сел за руль, завел двигатель, закурил.
Идиоты, ничего не скажешь.
М–да.
Идиоты.
Менты поганые.
Поехал по городу, неспеша так. Машин, кстати, как кажется, даже меньше стало. Наверное, сидят теперь люди перед телевизорами, смотрят самое главное известие в их жизни, тоскуют о павшем герое голубого экрана…
И никто не знает, что это сделал он.
Остановился у киоска, купил свежий номер газетки, развернул…
«Гроб с телом… для прощания… «Останкино»… доступ…»
Два фотоснимка: «фотороботы подозреваемых в убийстве Владислава Листьева. Каждый опознавший их может позвонить по телефону…»
Ага.
Не верите, что это я убил?
Ну–ну…
Очередь желавших «попрощаться с телом» растянулась где–то на два километра — почти до гостиницы «Космос». Точно за бесплатной колбасой: тошнотворная сомкнутость, безразмерная, все время растущая злобная змея, каждая клеточка которой остро ненавидит каждую предыдущую: «гражданин, вас тут не стояло», «а я за тем, в черном кожаном пальто занимал, а он отошел куда–то», когда придет, тогда и встанете куда он пошел а вон за киоск поссать наверное иди и ищи и ссы вместе с ним но я пока тут постою смотрите граждане еще один нахал к нам пристраивается не пускайте потому что так до вечера не попадем…
Тьфу!..
Точно — серые мыши.
Знали бы они, чьих рук это тело, чье эго теперь радуется, в ладоши плещет…
Остановил машину, вышел, закурил, и в этот момент явственно понял, ощутил: что надо сделать, какого кролика отнести на съедение туда, своему удаву, питону, в потайную комнату.
Сунул ключи в карман, глазами нашел телефонный автомат.
Тетка какая–то с лицом глупой морской свинки деловито бубнит в трубку:
— Я тут к Листьеву в «Останкино» очередь заняла, не волнуйся, быстро движется, не волнуйся, скоро посмотрю, я ведь его и живого ни разу не видела, не волнуйся, что задерживаюсь, потом еще по магазинам пробегусь и — домой… А ты к Сашке зайди, он мне тридцать тысяч должен, у жены его возьмешь, если у самого не будет, а еще посмотри, какую они люстру шикарную в Турции купили… А еще — представляешь? я сегодня где–то в метро кошелек потеряла, кажется, на «Таганской», там двадцать пять с половиной тысяч, денег нет, так что ты зайди обязательно…
О, существа подопытные!
Все, свалила наконец.
Темнеет — скорей, скорей…
Взял трубку, набрал номер, известный каждому с раннего детства:
«Алло? Отделение милиции? Тут вот очередь к телу усопшего, на первом этаже телецентра неизвестные злоумышленники заложили страшной силы взрывное устройство… Поторапливайтесь, потому что неровен час — взорвется…»
Ну–ну…
Ой, что теперь бу–удет!
Сидя в машине, Маньяк с тихим удовольствием наблюдал, как в очереди набухает сперва тихое недоумение, медленно переходящее в раздражение, в злобу, а затем шепоток такой зловещий проходит, до ушей доносится, слух ласкает необычайно:
— …мафия!..
— …организованная преступность!..
— …чеченцы!..
— …боевики Дудаева!..
— …уже тут?..
— …еще нет, это мафия, точно вам говорю!..
— … откуда знаете?
— …так ведь и по телевизору передавали, по «Осган– . кино»!..
— …так ведь теперь только портрет передают…
— …еще раньше!..
— …когда?
— …все время!
— …что?
— …взрыв!..
— …где?..
— …да тут!..
— …что вы говорите?..
— …страшной силы!..
— …вся Москва на воздух, в преисподнюю, не то что «Останкино»!
— …как вы сказали?..
— …взрыв!..
— …не может быть!..
— …кошмар какойй–то!..
— …чеченская провокация!..
— …во всем коммунисты виноваты! Семьдесят лет страну…
— …нет, это мафия, мстит, значит, всем честным людям!..
— …да нет же, правда!..
— …ну, не дают людям удовольствие получить!.. Так хотел на это «Поле чудес» попасть!..
— …я специально из Нижневартовска прилетела посмотреть…
— …у меня дома дети малые…
— …не может быть…
— …а как там у вас, в Нижневартовске?..
— …на воздух!..
— …точно, вон и милиционер ходит и всех разгоняет…
Шла очередь, двигалась себе быстро, скользила змея по грязным лужам и — остановилась, будто бы там впереди, у самого входа в «Останкино» — противотанковый ров, бетонные надолбы, дзоты и доты, линия Маннергейма, минное поле.
И все.
Очередь размыло, точно в очень ускоренной видеозаписи мертвая змея разлагается, сперва — слазит кожа, обнажая мягкие ткани, внутренности гниют быстро, они и так уже по лур аз ложились… И — ничего нет, даже скелет — и тот в пыль, в труху, в прах рассыпался. Только где–то дальше стоят, кучкуются несмело, опасливо так на «Останкино» посматривают…
Ну, понятно?
Понятно теперь, что его эго — не ваши мозги подопытных животных?
Бойтесь, бойтесь, подопытные серые мыши, прячьтесь по магазинам…
Он долго смотрел на разлагающуюся змею очереди, довольно улыбался.
В уголках губ медленно, белой бритвенной пеной закипала слюна.
Неожиданно ощутил, что внизу живота что–то намокло, впиталось в трусы.
О–о–о…
Судорожным жестом расстегнул замок–молнию, приспустил штаны, достал, сжал кулаком…
Тетка — та самая морская свинка, что только что звонила домой, оторопело озирнулась в его сторону, побледнела, вскрикнула:
— Ой!…
Рывком рванул дверку машины, тяжело плюхнулся на сидение.
Руль, зараза, мешает, но ничего страшного можно ведь и на соседнее пересесть только быстро быстро там ведь руля нет ничего не помешает скорей скорей наслаждение эго которое живет где–то в дальней заветной комнате комната точно Запретный Город в Пекине никому туда нельзя только ему одному императору и Бруту одновременно оно прожорливое и ненасытное как питон ему надо скармливать кроликов и чем больше чем жирней кролики тем лучше потому что…
Ш–ш–ш…
Успел–таки кончить.
Вытер горячую мокрую ладонь о сидение, поднял голову — нет уже морской свинки.
Ушла.
Убежала.
Куда бежишь, дура? Думаешь, я тебя стесняюсь? Или … никогда не видела?
Испугалась, наверное, умчалась свои двадцать пять с половиной тысяч искать на станцию «Таганскую» или же люстру пошла смотреть, пока саперы взрывное устройство не найдут и не обезопасят, чтобы соболезнующие и просто любопытные могли узреть тело невинно убиенного Цезаря…
Знала бы ты, кому обязана…
Ш–ш–ш…
Что такое?
А–а–а, змея подколодная сзади выползла. Наверное, под сидением пряталась. И когда же она успела в салон забраться? Скорей всего тогда, когда он в милиции тупым лимитчикам показания давал, заявление писал, с дураком–старлеем объяснялся…
Ш–ш–ш…
Заползла на сидение, быстро–быстро высовывая раздвоенный язычок, сдавливает горло, извивается, гадина, лицо лижег…
Ласкает, или… ужалить хочет?
— Ш–ш–ш…
Конечно, ужалить.
Или задушить.
Эго должно было произойти, рано или поздно должно было случиться. Как и то, что он совершил.
— Кыш, кыш, подколодня, уползай!..
Не слышит.
Говорят, что многие змеи вообще глухи — не восприимчивы к голосу.
К–к–кыш…
А воздуха все меньше, все меньше, и кадык под подбородком уже угрожающе хрустит, язык вываливается, лицо багровеет…
Все, конец тебе, Марк Юний Брут.
Все было бессмысленно.
Не надо было совершать этого. Так никто ничего и не узнал. Правильно — есть у матушки–природы такая вот западня, хитрая ловушка для маньяков: чем больше наслаждение ты хочешь получить от жизни, тем больше боли тебе придется испытать, тем больше пережить неприятного. Или «до», или «после». Закон компенсации, так сказать. Тоска после акта все равно наступает, хочешь ты того или нет. Физиология, чистой воды физиология. Тебе же вот не повезло вдвойне: и «до», и «после». Ты думал, рассчитывал, что сперва будет страшная мука, и ты пережил её, но зато потом — понятно, наступит райское наслаждение…
А потом, на самом деле это вот скользкое пресмыкающееся выползло из заветной комнаты — и…
— Ш–ш–ш…
«Сектор «Приз»!..»
Чем старше становится человек, тем консервативней его взгляды; тем он ограниченней. Конечно же, приобретенный опыт — хорошо, очень хорошо, но, приобретая одно, всегда теряешь другое, а именно — нетрадиционность подхода к жизни и широту взглядов.
Банкир понимал это лучше многих других — наверное, еще с тех пор, когда был не банкиром, а обыкновенным режиссером, театральным деятелем. Жизненный опыт неизбежен, также, как и вытекающий из него консерватизм, и появление его закономерно. Но консерватизм заземляет, опускает вниз и, по законам физики и оптики, заслоняет новые горизонты — что, впрочем, тоже неизбежно.
Но нет правил без исключений, нет яда без противоядия, и Банкир, как ему самому, во всяком случае, показалось, нашел способ борьбы с собственным консерватизмом: переносить частные и, особенно — общие закономерности из одной сферы, порой самой неожиданной, в другую. И, надо сказать, не без успеха…
Например — карты. Обыкновенная пикетная, или малая колода для классического преферанса, четыре масти, тридцать две карты.
Картинки, циферки, символы, но, если вдуматься — очень показательная микромодель мира. Строгая иерархия в цветах, в мастях, в их старшинстве: трефи старше пик, но младше бубей и червей. Четыре масти — как четыре стороны света. Строгая арифметическая последовательность (хоть в большой колоде, хоть в обычной, на тридцать шесть карт, хоть в пикетной): семь, восемь, девять, но после десяти карты имеют уже не скучную нумерацию, а собственные имена: валет, король, дама, туз…
Есть еще, правда, и непредсказуемый джокер, но не во всех играх.
Каждая карта рубашкой вверх — загадка, как и человек: пока не раскрыл, неясно, что из себя представляет. Может блефовать, прикидываясь козырным тузом, а на самом–то деле — рядовая семерка или восьмерка. Переверни — сразу видишь и его суть, и цену, и то, как можно использовать с пользой для себя и с ущербом для партнера.
Наверное, именно потому и не любят карты почти все церкви, все религии мира, называя колоду «библией дьявола»; слишком очевидные аналогии — вместе все карты или все люди, когда собраны в колоду, или в общество, могут служить исходным материалом для какой угодно игры: от пролетарского «дурачка» до аристократического преферанса, от зэковских «очка» или «храпа» до старомодного пасьянса или классического цыганского гадания.
Банкир любит игры, построенной не столько на глупом везении, сколько на умении просчитывать несколько ходов вперед — прежде всего за партнера. Правда, и колоду можно подтасовать, сделать крапленой, но он, Банкир, никогда не играет в подобные игры. Преферанс — игра для джентльменов, и тут, в Великобритании, в Лондоне, чувствуешь это как нигде…
Если взять на вооружение принцип того же классического преферанса, принцип ценностности карт в их строгой иерархии, закономерности числовых, парных и непарных сочетаний и предугадывания последовательности ходов партнера — как раз и получится то самое противоядие против собственного, неизбежного к сожалению, консерватизма…
Банкир очень, подчеркнуто улыбчив, со всеми — с партнерами, с журналистами, с конкурентами; всегда, даже когда у него не все в порядке. Высокий еврейский лоб, элегантные очки–капельки, рельефные морщины, идущие к уголкам рта, постоянно в напряжении — улыбка!
Точно английский джентльмен с рекламы подтяжек или лезвий для бритья.
А вот улыбаться–то особо и нечему — вести с Родины одна другой печальней…
Играли, как правило, втроем: он, Банкир то есть, его секретарь (в котором Банкир небезосновательно подозревал агента тех самых структур, из–за которых он и вынужден был перебраться в Англию — временно, как он сам рассчитывал; мосты–то не сожжены, и слава Богу!) и еще один — из торгпредства — лицо вроде бы нейтральное.
Классический преферанс — «сочинка», столь любимый в московских театральных кругах шестидесятых–семидесятых: вист полуответственный, мизер перебивается девятью пик, шесть пик — обычная игра, не «Сталинград», пуля большая — до пятидесяти…
Пуля была отложена почти с начала года — не было времени собраться втроем, — то он, Банкир по горло занят, то у Торгпреда какие–то свои дела, то секретарь непонятно куда отлучается.
Пуля была отложена при приблизительном равенстве набранных очков.
Торгпред тасовал карты, а Банкир, просматривая записи, вздыхал: времени для желанного выигрыша оставалось не так уже и много — по крайней мере, куда меньше, чем он рассчитывал в прошлом году…
…все началось именно в прошлом году.
В начале зимы на офис фирмы совершен налет: охрана, которую он, Банкир, в свое время за немалые деньги купил и которой так гордился, бывшие кагэбисты, были буквально сметены нападавшими.
Конечно, ничего не взяли, конечно, перестрелок и обычного в русских разборках моря крови не было — нападали–то не для того, чтобы разграбить, а чтобы просто — попугать…
Был шум, был эффект, был огромный резонанс, и в столице, да и не только в столице, впервые заговорили о нешуточном противостоянии «Банкир плюс Градоначальник» против…
Разумеется, можно было бы возбудить уголовное дело, можно было бы примерно, образцово–показательно покарать, чтобы впредь неповадно было, тем более, что верхушка московских МВД, ФСК и Прокуратуры — свои люди (тогда еще были своими), если бы не одно обстоятельство: предводитель, главарь нападавших имел звание и должность не люберецкого или калининградского рэкетира, ни Аль Капонэ или Диллинджера, был одним из начальников службы охраны самого главного человека страны, имел должность и звание Главного Телохранителя и, судя по всему, этот налет был если и не санкционирован то, во всяком случае, осуществлен с молчаливого согласия Президента.
Конечно, тут, в Англии, за такое бы могли привлечь к закону кого угодно, от рядовой семерки до козырного туза, от благоухающего сизой свежевыбритостью улыбающегося джентльмена из рекламы «Gillete–slalom» и до принцессы Дианы.
И возник бы, как из табакерки, старый неподкупный судья Джон — почти сказочный, декоративный, скорей литературный, чем реальный персонаж; в седом, обсыпанном пудрой парике, в черной, прогрызенной канцелярскими мышами мантии, суровый, как лорд крови, лишающий беспутного сына наследства, и неприступный, как Тауэр, и вкатили бы налетчикам по первое число: будь это хоть все шотландцы из охраны Ее Величества.
Но — Россия.
Другое дело.
Два лезвия, два вида рэкета, частный и государственный.
Первый бреет чисто, второй — еще чище.
Именно после тех событий Банкир и переселился в Лондон (может быть, в следующий раз сам Президент на танке с нагайкой приедет — все возможно!), переселился и безбедно существовал тут, изредка по делам наезжая в столицу России, печально вздыхая при размышлениях о превратностях судьбы и непредсказуемости каждой сдачи карточной колоды…
Все неприятности, казавшиеся даже в Москве для многих неожиданными, однако, объяснялись не просто, а очень просто: Банкир был в большой дружбе с Градоначальником — популярным в столичных кругах.
Морж, способный запросто окунуться студеной зимой в ледяную прорубь, хороший крепкий парень, эдакий работяга с рабочих окраин, вроде лондонского кокни, в пролетарской кепочке, он вполне мог рассчитывать на победу на ближайших президентских выборах — при растущей популярности.
Любят его в столице…
Начинал вместе с теперешним Президентом (когда тот был еще не президентом, а первым секретарем горкома КПСС города Москвы), в скромном звании зампреда. Тогда будущий моржовый Градоначальник помог ему, критикуемому со всех сторон — своевременно, оперативно обеспечил столицу продовольствием, и с тех пор, в самых сложных ситуациях был рядом с ним.
Однако, к неудовольствию бывшего первого секретаря МГК и, что немаловажно — его ближайшего окружения (Главного Телохранителя, например), уже в минувшем году рейтинг Градоначальника был почти в два раза выше рейтинга самого Президента, хозяина страны, и это весьма насторожило, кстати говоря, не только окружение, но и правительство, и Премьера, и даже Думу: печатный орган российского парламента принялся регулярно, из номера в номер поливать Градоначальника заказной грязью.
Сперва Градоначальник никак не реагировал на подобные выходки, отмахивался — мало ли у него дел, вон, церковь Христа Спасителя надо заново отстраивать, отличный, кстати говоря, козырь в возможной будущей предвыборной гонке, но потом, когда поливать грязью его начали куда чаще, грязней и регулярней, чем даже можно было бы ожидать от заказных журналистов, разнервничался необычайно и обратился непосредственно к самому Премьеру (его недавний помощник и руководит регулярно обливающим думским органом на правах генерального директора).
Конечно, Премьер имел свои резоны не любить Градоначальника.
Год назад между ними была развязана настоящая бюрократическая война: правительство желало увеличить таможенные пошлины на продовольствие, а Градоначальник этому упорно противился (по его доводам, это бы поставило крупные города, не только столицу, на грань голода и карточной системы).
Прочитав послание оскорбленного в лучших чувствах Градоначальника, Премьер, как водится, никак не отреагировал, не ответил ему, положил жалобу под сукно, отмахнулся, как от назойливой мухи, и тогда обиженному ничего иного не осталось, как лично выйти на Президента — на правах старого, еще со времен МГК друга.
Тот, выслушав бывшего зампреда, по слухам, сказал, что мол, надо бы порвать кое–какие связи, которые его, мол, Градоначальника то есть, порочат, и тогда все будет хорошо.
О каких именно связях говорил Президент (по подсказке Главного Телохранителя, разумеется), можно было и не гадать: его, Банкира он имел в виду, именно его.
Кстати, и причин для такой ненависти со стороны и исполнительной, и законодательной власти было множество.
Градоначальник оказался между двух огней: с одной стороны, он испытывал непонятный сантимент к бывшему первому секретарю горкома, ставшему первым секретарем страны, с которым перепито и перепето за столькие совместные годы было немало, а с другой — никак не хотелось терять отношений с Банкиром («меня толкают на предательство», — заявил он журналистам).
На это желание сохранить стабильно хорошие отношения с Банкиром и его финансовой группой, в свою очередь, были более чем веские причины: на предстоящих выборах у Градоначальника действительно были бы неплохие шансы, и к выдвижению кандидатуры его подталкивал именно Банкир.
Для последнего было бы очень хорошо иметь в качестве руководителя страны целиком и полностью своего человека. Градоначальник, видимо, тоже был бы не против стать руководителем (тем более, что был уверен: у бывшего первого секретаря московского горкома шансов после расстрела Белого Дома и Чечни — никаких), но для предвыборной гонки у него явно не хватало денег, а деньги он мог рассчитывать получить только от Банкира.
Короче, получился такой вот замкнутый круг. И теперь — тот злополучный налет погромщиков во главе с Главным Телохранителем; Банкиру тем самым налетом недвусмысленно дали понять, что главные неприятности у него еще впереди…
Первая сдача карт обескуражила: восемь, девять, десять, валет пик, то же самое — в трефях, и две девятки: червовая и бубновая.
— Пас, — произнес Банкир.
Секретарь тут же заказал игру в семи червей.
Подумав, Торгпред решил вистовать, и карты Банкира перешли к нему…
— Наверное, карты недостаточно хорошо перетасованы, — виновато сказал Торгпред, который и сдавал карты в последний раз.
— Карты кажутся плохо перемешанными до тех пор, пока к человеку, который так утверждает, не приходит хорошая карта, — тут же с печальной улыбкой парировал Банкир. — Сдавайте…
Когда Промышленник проиграл Банкиру первое, и во многом решающее сражение — за счета аэрокомпании, он, наверное, затаил злобу.
А напрасно.
В июне прошлого года на Промышленника было совершено, как сообщалось в криминальных сводках, «дерзкое покушение», его «мерседес» пытались взорвать.
Можно было ожидать чего угодно, последствия могли быть непредсказуемы, и Банкир, чтобы окончательно не портить отношений, великодушно протянул руку помощи: его охранники в ночь после покушения эвакуировали Промышленника вместе с семьей из Москвы, перебросив, как Штирлиц Плейшнера, в нейтральную Швейцарию (концерн–то его — российско–швейцарский, и вообще, там, среди альпийских барашков, часовщиков и мастеров–сыроделов как–то спокойней).
Примирившийся враг — враг вдвойне, как говорят тут, в Англии, и вскоре в кругах, близких к Промышленнику, начали усиленно муссироваться слухи о причастности к тому неудавшемуся покушению людей Банкира. Сам Промышленник, кстати говоря, не подтверждал и не опровергал эти слухи, и это очень удивило и оскорбило Банкира — оскорбило и покоробило в лучших чувствах.
Вообще, отношения между ними в последнее время чем–то напоминали отношения двух политических столпов викторианской Британии — Гладстона и Дизраэли: всегда говорить друг другу любезности (в глаза), а за спиной делать мелкие и крупные гадости.
Но ведь гадости первым начал делать Промышленник; так, во всяком случае, считал Банкир…
Набрав заказанные семь в червях, Секретарь удовлетворенно произнес:
— Есть анекдот такой: судят человека, заядлого преферансиста, за предумышленное убийство.
Торгпред оживился:
— Ну–ка…
— Судья спрашивает — мол, расскажите, как было дело, а подсудимый ему: «Играли мы в преф, свидетель заказал семерную игру в червях. Я несу трефовую — и покойник трефовую, я пиковую — и покойник пиковую…», а судья на это: «Так по морде его, за такое безобразие надо было, канделябром по морде!» «Так я и поступил», — говорит подсудимый… Ну, — он обернулся к Банкиру, — теперь ваша очередь сдавать…
Градоначальник «наступил на грабли» и во второй раз — после той войны вокруг продовольственных пошлин. Правительство, лоббируемое мощным автомобильным концерном Промышленника, вдруг, как показалось непосвященным, «ни с того ни с сего» решило защитить законные интересы «российских производителей», резко подняв таможенные пошлины на всю импортную автотехнику до пяти экю за один кубик двигателя. Это означало бы, что Промышленник получал бы полную и безраздельную монополию на свою продукцию и, как следствие, мог бы свободно и безнаказанно манипулировать ценами.
Здравый смысл и технический опыт населения России подсказывали, что семилетний «мерседес» или пятилетнее «вольво» во всяком случае лучше абсолютно нового «фиата», произведенного на берегах Волги и Камы; смысл и опыт населения имел неожиданные, не слишком радостные для Промышленника последствия.
После падения «железного занавеса» в Россию хлынуло море разливанное подержанной и не очень подержанной немецкой, американской, японской, корейской, шведской и французской автотехники, и это — еще раз! — никак не могло радовать Промышленника; потребители–автолюбители почему–то начисто забыв и о национальной гордости великороссов, и традиционном российском патриотизме, предпочитали–то новому русскому «фиату» (многие модели которого являли собой чуть модернезированный прообраз, лучший автомобиль европейскго салона 1969 года), предпочитали как раз семилетние «мерседесы» и пятилетние «вольво» (не говоря уже о десятилетних «опелях» и пятнадцатилетних «фольксвагенах»).
В крупных, средних и малых городах образовались настоящие цеха «перегонщиков»; тоже народных умельцев вроде жостовских или палехских но, в отличие от последних, промышлявших не примитивным кустарным промыслом вроде росписи шкатулок или тазов, а доставкой под заказ автолюбителей любых машин — хоть непосредственно от ворот заводов в Штутгарте, Турине или Йокогаммы, хоть непосредственно от ворот любой автомобильной свалки, в любой точке Европы.
В результате концерн нес убытки, притом настолько значительные, что это грозило остановкой конвейеров завода–гиганта. А ведь в свое время концерн этот давал от 16 до 25% валового национального продукта государства…
Были прекрасные задумки, была замечательная идея создать перспективную «десятую» модель (морально соответствующую средним западным стандартам приблизительно конца восьмидесятых годов), были созданы новые коммерческие структуры, была идея построить совершенно новый завод, под который и были выпущены варранты, своеобразные складские расписки, гарантийные обязательства на автомобили, была — и это, пожалуй, самое главное! — проведена мощная рекламная кампания на Останкино, и тогда еще никто, кроме некоторых журналистов, не говорил о монополии.
Но как раз в это самое время вновь так некстати для Промышленника выступил Градоначальник («мордой на грабли»), и в своей излюбленной безапелляционной манере заявил, что повышение пошлин на растаможивание западной, северной, южной и восточной автотехники — несуразная глупость, потому что эти меры, мол, будут содействовать только повышению цен на автомобили и никак не способствовать совершенствованию отечественного машиностроения; Промышленник становился полным монополистом, а монополизм, как известно, толкает на многое…
В том числе и на безудержное повышение цен — как это, впрочем, и произошло вскорости.
Выступив против мощного автомобильного лобби, Градоначальник в очередной раз нажил себе очередного врага. Если бы он добился своего, как в свое время и с продовольствием, Промышленник проиграл бы вновь: во–первых, оказался в проигрышном положении, как единственный диллер собственной продукции, а во–вторых — как продавец импортной роскошной техники по персонально полученным таможенным льготам.
Таким образом Градоначальник, на которого расчетливо поставил Банкир, нажил себе недруга и в лице Промышленника…
— Ну, можно и не играть, все взятки мои, — улыбнулся Торгпред и выложил карты.
Он заказывал десятерную игру в пиках и, безусловно, оказался прав: все взятки были его.
— Длинная пика, от восьмерки до туза и три остальных туза… Ну, прикупил.
— Да, монополия, — вяло улыбнулся Банкир, — вся масть ваша, можете назначать козыря… И все взятки, стало быть, тоже ваши.
— Монополист всегда назначает власть, — застенчиво улыбнулся Торгпред. — В нашем контексте — козырь…
Да, монополист всегда назначает власть, и не только в преферансе.
Но, чтобы назначить власть, нужный козырь, надо иметь средство внушения этой власти, как когда–то образно выразился Никита Сергеевич Хрущев — приводные ремни общества.
А таковым может стать только телевидение; определяющий момент в управлении страной.
В 1993 году оппозиционеры, творчески переосмыслив наследие великого вождя о том, что при вооруженном захвате власти надо первым делом захватить почтамт и телеграф, пошли на штурм именно Останкино; знали, что это — единственно реальная власть в России.
Банкир же с самого начала понял это — когда обратил свое внимание на подсчеты шансов Градоначальника стать первым человеком Государства.
В 1994 году с его подачи заработал первый в России частный канал (его же), и это означало многое: частный капитал в лице его, то есть — Банкира, впервые в России взялся массово обрабатывать общественное мнение и манипулировать — пусть пока еще и в скромных пределах — массовым сознанием.
И хотя сам Банкир не раз заявлял, что «политическая ангажированность канала определяется разве что личными взглядами его ведущих и репортеров», он, конечно же, кривил душой.
«Власть — это деньги», эта аксиома известна всем, равно как и её зеркальное отражение, перевертыш, выворотка — «деньги — это власть». Деньги вкладываются не только с надеждой быстро обернуть и удвоить, утроить их (подобным образом поступают разве что торгаши, но никак не стратеги), деньги вкладываются и с долговременными стратегическими целями: например — установление в стране (в данном контексте, конечно же, не Англии, а России) политического режима, благоприятного для того, кто эти деньги вложил.
Водружение на верхушку пирамиды власти того, на кого поставил — и так далее.
Да, Банкир понял, что будущее — не в отношении к телевидению в частности, и к средствам массовой информации вообще как к инструменту сиюминутному но, как к испытанному стратегическому средству, постоянному и долговременному.
А в контексте президентских выборов следующего года подобная стратегия отношения к телевидению приобретала особую остроту.
Тот, кто манипулировал сознанием масс, и мог заказывать игру…
На этот раз игру вновь заказывал Торгпред, видимо, карта шла в этот вечер только к нему.
— Девять в бубях, — произнес он, пряча довольную улыбку.
— На девятке вистуют только дураки, влюбленные и студенты, — скромно ответил Банкир, складывая карты, — Я пас…
Как ни странно, но Секретарь решил вистовать, и карты Банкира вновь перешли к нему.
Секретарь был азартен — а это первый враг в коммерческих играх вроде преферанса, где надо прежде всего рассчитывать, а не лететь вперед, сломя голову, давая бессмысленные обещания и делая неправильные, нерасчетливые ходы.
Ему бы перебить масть, положив сперва простую семерку чирвей, и тогда бы король партнера оказался бы без прикрытия но — почему–то просмотрел.
Банкир укоризненно покачал головой; он–то сыграл бы совсем иначе!
В коммерческих играх — не только, кстати, в преферансе, нельзя «зашкаливать», нельзя, торгуясь за прикуп, давать игру большую, чем ты можешь реально сделать с тем, что имеешь на руках, нельзя надеяться, что в прикупе окажутся два туза — всего можно ожидать.
Прикуп — не главное: при торговле можно пообещать хоть десятку, хоть мизер, а получить на прикупе две рядовых семерки.
А ведь с такой картой надо играть…
Да, в России всего можно ожидать, но часто ожидания предсказуемы: Банкир совершенно сознательно поставил на Градоначальника и — не промахнулся, вся Москва была в его власти везде, на всех ключевых постах были его люди. Да и пролетариям (основной контингент избирателей — пролетарии и их жены) он нравится, видимо, образом и подобием. И кепочкой знаменитой — не зря ведь её носит, знает вкусы лимиты с АЗЛК да ЗиЛа, пристрастия публики новых микрорайонов, любят там такие скромные кепочки, пошитые на ш/о им. Володарского…
Градоначальнику, правда, индпошивом шили, и не в столице, но об этом не всякий знает…
Москва, конечно же–это далеко еще не вся Россия, но что–то очень и очень близкое; если не вся, то во всяком случае — половина. Лучшая, но не большая. К тому же Градоначальник, по мнению Банкира — человек очень порядочный, с его ведомством у финансовой группы Банкира давние и очевидные для всех связи.
Конечно, если бы такой стал президентом (а в том, что в случае подходящей раскрутки через то же телевидение он бы действительно им стал, сомнений не вызывало), то Банкиру было бы хорошо, ну просто очень хорошо: задавил бы в момент всех своих близких и дальних недругов, став в финансовой сфере таким же монополистом, как Промышленник стал в автомобильной.
А для раскрутки нужны карманные, собственные то есть средства массовой информации — то же самое телевидение, и одного сравнительно незначительного канала, которое прибрал к руками Банкир — явно недостаточно. Может быть, и потянет на Москву и Ближнее Подмосковье (так ведь там и без того все за любимого начальника города проголосуют) но — не более того.
Москва, может быть, и не вся Россия, но многие москвичи всерьез уверены, что город их приобрел хоть какое–то подобие европейского только благодаря замечательному Градоначальнику и его тщаниям.
А это значит, что…
Вот если бы эта самая раскрутка!.. Повезло же тогда с частным каналом, хорошо, что вовремя за идею ухватился!
И людей нужных нашел, хотя работать с ними, конечно же, как и с любым человеком творческим (или мнящим себя таковым) непросто, амбиции у них чрезмерные, и с техникой проблема решена…
Не всегда так везет!
На этот раз Банкиру повезло: Секретарь сдал ему кварт–мажор в чирвях (туз–король–дама–валет), а это — верные четыре взятки, если, конечно, закажет их козырями. Да еще туз пиковый на руках — считай пять. Остальное, правда, мелочь, ни на что не годная: какие–то семерки, восьмерки, девятки.
Надежда на прикуп.
Рискнуть?
— Шесть пик, — начал торговлю Банкир, но Торгпред неожиданно произнес:
— Шесть треф.
Секретарь:
— Пас.
— Шесть бубей.
Торгпред прищурился:
— Шесть червей.
Все. теперь надо или говорить «пас», или торговаться дальше. Ну, если надеяться на туза в прикупе, то можно попробовать и дальше… Можно попробовать и рискнуть.
— Шесть бескозырная.
— Семь пик, — последовал ответ.
Неужели у него действительно такая хорошая карта?
Или блефует, хочет увлечь его, сыграть на азарте и — «пас»?..
Когда впервые поднялся вопрос о возможном акционировании первого канала, Банкир был одним из первых.
Все менялось и, прежде всего — формы собственности. К началу девяностых деньги еще не заявили о себе, не было в в России людей, аккумулировавших огромные денежные суммы; тогда для даже большого бизнесмена сто тысяч долларов казались несбыточными, баснословными деньгами, долларовых миллионеров было крайне мало, не то что теперь. Деньги еще не заявляли о себе как о самостоятельной, а тем более — решающей силе.
Однако время шло, богатых людей, способных на серьезные акции, вроде приватизации, становилось все больше; к тому времени были приняты и соответствующие законодательные акты.
Останкино не мог оставаться стопроцентно государственным каналом. К тому же, явного разграничения «бюджетных» и «небюджетных» денег не было, и это создавало возможность манипулировать этими самыми деньгами — прежде всего за счет продажи Останкино своих передач и за счет раскрутки коммерческой рекламы в них же.
Да, Банкир был одним из первых, его не пустили, не дали подхода к самому массовому каналу — мол, у тебя уже есть один, теперь посторонись, дай другим, давно в очереди ждут.
А «другие» — это его Гладстон, Промышленник то есть. А он уже тут как тут: мол, без акционирования самого массового канала никак не возможно влиять на весь ход реформ в России, а я как раз такое акционирование и проведу, никого не обижу.
И заявление, которое сводится к тому, что его концерн и объединенный с ним банк — некое подобие филантропической организации, эдакая «Армия спасения», и что вкладывая деньги, он никак не намерен возвращать их обратно; первый год урон составит порядка ста миллионов долларов (на ветер, что ли?), кроме того, он, владеющий 16% акций добровольно отказывается от рекламы, которая так надоела россиянам… Так сказать — «идя навстречу пожеланиям»…
И вообще, глобально: для нас новое–де телевидение бизнесом в обычном понимании не является, мы идем на такие огромные траты денег исключительно ради стабильности в обществе, в России.
Банкир пустил в ход все возможные методы, но ему недвусмысленно дали понять: ты со своим Градоначальником лица нежелательные.
Хватит и того, что есть…
Но торговля продолжалась.
Торговля продолжалась.
— Семь треф, — произнес Банкир, стараясь придать своему голосу как можно больше безразличия, чтобы скрыть нараставший азарт.
— Семь бубей, — тут же ответил партнер
Ничего не остается, как рискнуть: если уже догнался до семи треф, почему бы не сказать и дальше. тем более, имея неплохую червовую карту.
А вдруг повезет?
А вдруг прикупит еще что–нибудь толковое? Ну, хотя бы туза с королем, или две метких червы?
Ведь нельзя строить все только на голом прагматизме, на расчете, надо же иногда испытать благородное чувство риска!
— Семь червей, — улыбнулся Банкир.
— Пас.
Да, зря позарился на прикуп: трефовый валет и пиковый король.
Короля все равно придется отдать: как говорит — бланка, единственная карта, без прикрытия. Вот если бы была дама… В большинстве случает, имея на руках даму и короля, берешь одну взятку; короля или даму отдаёшь под туза вистующего, а на то, что осталось…
Да, верная взятка.
Конечно, можно было бы сыграть по–крупному, попытаться действовать через взятки, это в России во все времена — верней верного, можно было бы попробовать, если бы тут не примешивались и политические интересы: как было совершенно очевидно, новый ОРТ создавался как «президентский» канал.
Выборы скоро, и отдавать его в руки человека неблагонадежного, вроде него, Банкира — крайне нежелательно.
Более того, в процессе реформирования неожиданно всплыла и третья сила — Дума.
Пока только один Сын Юриста заявил, что все эти игры в приватизацию надо было бы послать подальше, и принять ого, Сына Юриста то есть, проект — целиком и полностью национализировать теле– и радиовещание. То есть, Останкино в подобном случае превратилось бы в «думский», никак не «президентский» канал.
Пока только Сын Юриста.
А ведь есть еще и остальные!
И на что надеятся?
Такое уже было в 1993 году, когда на поле боя за общественное сознание установился паритет, однако предыдущий парламент потерпел поражение на референдуме, и пришлось их из Белого Дома выгонять танками.
Но Промышленник…
Не повезло: заказывал семь, как и торговался, а взял только пять взяток. Ничего, может быть, и наверстает в процессе игры.
Понтирует он, Банкир.
— Пас.
— Пас.
— Пас.
Все сказали «пас», никто не хочет делать свою игру: называется в преферансе «распасы».
Никто не хочет делать свою игру, а в «распасах» правила совершенно иные: надо взять как можно меньшее количество взяток.
Нужна хорошая память, чтобы не ошибиться, чтобы знать, кто и какую карту сбросил, нужно предельное внимание...
Конечно же, внимание Промышленника с самого начала было обращено на тех, кто и способен сделать это самое телевидение. Ведь ставят не на абстрактную идею, не на «стабильность в обществе», не на «реформирование, разгосударствливание Останкино», а на конкретных людей, которые это самое реформирование и разгосударствливание могут провести, которые в силах.
Стало быть, надо было найти двух, достаточно авторитетных и компетентных людей, и переманить их на свою сторону.
Таковыми должны были стать: во–первых, чиновник, но не одиозный в журналистских и общественных кругах, вроде бывшего Кравченко, а авторитетный и Уважаемый, во–вторых — журналист, популярный, Жадный всем абсолютно.
«во–первых», выбор Промышленника пал на Главною Функционера, снискавшего стойкую славу «идеологического прораба Перестройки», соратника отставного первого Президента бывшего СССР — он, кстати, и стоял во главе Останкино.
«во–вторых», журналиста, шоумена, более популярного. чем Владислав Листьев, найти было просто невозможно; бывшие соратники по «Взгляду» до сих пор пребывали в затяжной депрессии, остальные журналисты. конечно же. во многом не уступали ему профессионально но...
Но — «это — первый».
— Первый ремиз — золотой, — наставительно произнес Секретарь. — Если сразу опустишься в минус — пиши пропало, очень трудно выбраться.
— Но я ведь не сразу пошел в минус, — улыбнулся в ответ Банкир, — тем более, что игра–то еще не закончена… Когда очки подсчитаем, тогда и будем смотреть, сколько у кого чего есть…
Игра за Останкино, то есть — за контролем над ним только начиналась, и проводимая приватизация пока что ровным счетом ничего не меняла: так, во всяком случае, понимал Банкир.
Хотя сферы влияния на вновь создаваемом ОРТ определились: Главный Функционер отвечал «за все» — в том числе за прикрытие в самых верхах, за организацию; Промышленник — исключительно за финансы (они–то и были главными двигателями акционирования).
Ну. а Листьев, как человек творческий, отвечал за программную политику, и на вновь создаваемом «президентском» телеканале не был ключевой фигурой — в таком смысле, как Главный Функционер и Промышленник.
Началась активная скупка людей и программ у конкурирующей фирмы — российского телеканала. Притом, по слухам, никто не спрашивал, сколько именно хочет тот или иной человек: просто называлась цифра стоимости его программы в несколько раз большая чем та, которую он имел на РТР.
Разумеется, в кулуарах поговаривали о тотальной замене всей головки руководства РТР (которому положение вещей, переманивание конкурирующей фирмой сотрудников и скупка программ явно не нравилась), но пока дальше разговоров дело не шло.
Моторы работали исправно, приватизация, игра за Останкино продолжалась…
Игра продолжалась.
Секретарь:
— Пас.
Видимо, у Торгпреда карта неплохая, но не настолько, чтобы сделать солидную игру, и потому, неуверенно наморщив лоб, он произносит:
— Шесть пик.
Ну и хорошо. В случае «распаса» все равно наберется больше четырех взяток, а взятки на «распасах» брать нельзя…
— Пас.
Взяв прикуп, Торгпред поморщился, но заказал «шесть треф».
— Вист, — улыбнулся Банкир.
То есть: из десяти взяток он обязуется взять оставшиеся четыре.
А если повезет — то и не дать набрать заказанные взятки сопернику...
Не дать сопернику, то есть Промышленнику и иже с ним, реализовать задуманное (получить монополию не только на рынке рекламы, предварительно разрушив этот самый рынок), но и монополию на рынке политической борьбы, не представлялось возможным.
Даже беглый расклад сил показывал, что любые попытки Банкира обречены на провал: за ним, Банкиром то есть, стоит Градоначальник (или перед ним — без разницы), а за Промышленником — и Премьер со страшным монстром, абсолютным импортером газа в Европу, с «Газпромом», с «Империалом», да Дума, да Президент вместе со всей своей камарильей, да много кто еще.
Конечно же, сама идея передачи первого телеканала, равно как и любого другого — очень хороша, но, с другой стороны, проводилась она не по–джентельменски; так, во всяком случае, считал сам Банкир.
Нужен был скандал, надо было обратить на эту самую приватизацию максимум внимания, попытаться привлечь для этого кого угодно — пусть даже Думу: а вдруг проснутся, вдруг поймут, что такой замечательный инструмент власти уходит из–под их контроля?
Кроме того — и это было совершенно очевидно! — скандал ни в коем случае не устроил бы ни Главного Функционера, ни Промышленника.
Но как?..
Сдавал Торгпред.
На этот раз не карта, а непонятно что: на заказ игры и, соответственно, назначение козыря никак не тянет, и пасовать тоже никак не хочется — а вдруг все остальные тоже скажут «пас», тогда «распас» надо будет играть, а как играть, когда на руках —два туза и король?
Верные три взятки.
Нельзя брать взятки на «распасах», нельзя, лучше взятку–то сопернику всучить...
Глянул на листок с записями пули — да, сильно отстает он от соперников — у него «на горе» очков, штрафных то есть очков, записано больше других…
То, что он, Банкир, со своим пусть профессиональным, но все–таки карманным телеканалом значительно отставал от соперника, от главного соперника, от Промышленника то есть, было совершенно очевидно.
В случае предвыборной кампании вряд ли смог бы такой телеканал тягаться с этим, с первым.
Масштабы не те.
Телевидение, по мнению многих, делает минимум пятьдесят процентов голосов — вон, на предыдущих выборах в Думу стоило Сыну Юриста заявить о себе, как сразу же пролез, куда хотел.
А выборы — скоро, очень скоро…
Придется дать «шесть пик».
Торгпред и Секретарь как по команде:
— Пас.
— Пас.
М–да, карта далеко не блестящая, но можно попытаться сыграть.
— Шестерная в бубях.
— Вист.
— Вист.
Когда оба партнера играют «вист», это не очень хорошо, потому что игра всегда закрытая — не видишь карт соперника, в отличие от игры, когда один играет «вист», а другой пасует.
Каждый делает свою игру…
Да, каждый делал свою игру, и Банкиру ничего иного не оставалось, как предпринять решающий шаг: спровоцировать скандал.
У него–то, у Банкира, то есть, репутация настоящего джентельмена, его появление в бизнесе закономерно, он — всерьез и надолго.
Деньги — это власть, а власть, как известно — деньги. Одно не может быть без другого.
Без контроля над средствами массовой информации невозможна настоящая власть.
На этот раз повезло — сыграл свою шестерную. Проиграл Торгпред–ни одной взятки не удалось взять. И как это он с такой картой «вист» сказал?
Наверное, просто решил блефануть, чтобы Секретаря попугать, а тот, в свою очередь — его, Торгпреда.
И к чему им это надо было делать?
Теперь вновь понтировал Банкир.
Скосив глаза на листок с записями пули, убедился, что для того, чтобы решительно вырваться вперед, надо набрать десятку а это значит — или сыграть мизер, не взяв ни одной, или взять все десять взяток.
Хотя бы восьмерку — тоже хорошо.
Разумеется, он джентельмен, похлеще Дизраэли, это знают все, и партнеры, и соперники, конечно же, он никогда не прибегнет к грязным шулерским приемам — они недостойны его.
Но один–то раз можно?
Один всего лишь раз?!
Никто не узнает, никому в голову не придет, что он, банкир, способен на такое… А если и раскроется, то можно будет сказать: «Простите, ошибся, с кем не бывает?» И поверят ему, потому что порукой — его безукоризненная репутация.
Короче, надо привлечь внимание и снизить в глазах как населения, так заодно и парламента (он–то, если вдуматься, заинтересован) репутацию всей этой останкинской приватизации.
А чтобы привлечь, нужен скандал.
Но как?
Надо что–нибудь громкое, резонантное, что–нибудь такое, чтобы обратило внимание всех — и не столько на само событие, сколько на приватизацию.
Нет ничего страшней, ничего одиозней громкого, скандального убийства.
А таким убийством может стать убийство известного человека.
Промышленник?
Хорошо бы, конечно, если мыслить гипотетически, знал бы, неблагодарный, что и как — но с другой стороны сразу же станет понятно, чьих рук это дело. Вон, никак с тем взрывом «мерседеса» не могут успокоиться — все на него, на Банкира то есть, валят, да на его людей.
Главный Функционер?
Не подходит.
Главный Функционер, как и все чиновники — не самая заметная фигура. А потом, по существу, он хотя и «мотор» всей этой приватизации но — ничего не решает. У него денег нет, есть только голая власть, данная ему правительством, а власть, не подкрепленная собственными деньгами — эфемерна.
Впрочем, и деньги тоже эфемерны, но…
Остается третий…
Да, наверное все сходится, то, что надо: известен, образ намертво запечатлен в массовом сознании, всеми обажаем, всеми любим…
Наверное, он.
Да, смерть Листьева сама по себе ничего бы не значила, и в новосоздаваемом ОРТ он не был ключевой фигурой — ни в финансах, ни в управлении.
Но она и только она могла бы послужить катализатором скандала (прежде всего на самом Останкино), она могла бы спровоцировать привлечение к ОРТ общественного интереса: «а что это вы там приватизируете», «а как это так у вас получается, что государственные финансовые вливания из бюджета сохраняются, а телеканал в то же самое время становится смешанной формой собственности»?
И вообще — не слишком ли это подозрительно накануне президентских выборов?
Не ставите ли вы возможных кандидатов, куда более достойных, чем теперешний Президент (например. Градоначальника), в явно неравные условия?
Не слишком ли великий приз получает один, заведомо оставляя в банкротах остальных?
Похоже на то…
Банкир протянул колоду Секретарю.
— Сдвиньте, пожалуйста.
Тот срезал не глядя — что, он своему шефу не доверяет?
Не доверяет, и он, Банкир то есть, ему тоже не доверяет, коли у него есть серьезные подозрения, что неспроста он с ним в Лондон увязался…
Секретарь, с трудом подавляя в себе зевоту, инстинктивно прикрыл рот ладошкой — этого было достаточно, чтобы Банкир не срезал колоду, а ловко подложил загодя приготовленные «длинную масть» (от семерки до туза) себе.
И Торгпред на минутку отлучился…
Везет же!
— Прошу, — произнес Банкир, кладя две карты на прикуп — рубашкой вверх.
Глянул карту — ничего сдал, повезло: на восемь вполне потянет. А то, что в прикупе, можно сбросить; ведь заказывающий игру сбрасывает две ненужные карты — вместо тех, которые из прикупа взял.
— Ваше слово, — произнес Банкир, с улыбкой посмотрев на игроков.
— Пас, — тут же, не размышляя, произнес Секретарь.
— Ваша игра.
Прикуп — не совсем то, чего он ожидал: дама и валет. Можно взять на них что–нибудь, порой случается совершенно неожиданно, когда один из игроков кладет семерку, другой почему–то — десятку, и ничего не остается, как покрыть взятку валетом, хотя в запасе есть и король. А дама и валет — не верные взятки. Если у соперника туз и король, он их обязательно заберет…
— Прошу…
— Пас, — вздохнул Секретарь.
— Вист.
— Ваш ход…
И ход был единственным, как просчитал банкир — единственно правильным: скандал.
А чтобы сотворить скандал вокруг тихо начавшейся приватизации Останкино, нужно было убийство.
Убийство известного человека, куда более известного, чем Главный Функционер (его только в узких кругах знают) и Промышленник (это — не для широкой публики, для деловых кругов), вместе взятых.
И таким человеком мог быть только Владислав Листьев…
Конечно, если Банкир в состоянии купить старших офицеров из 5–го Главного управления бывшего КГБ (наверняка вместе с картотеками бывших и теперешних «стукачей»), то сбросить ненужную карту, или выбить ее у соперника не так уж и сложно…
Все произошло так, как втайне и надеялся Банкир:
Секретарь походил с девятки треф.
Торгпред, наверное, имея десятку треф бланкой, то есть, не имея положил её, и сам Банкир с удовольствием покрыл взятку дамой никак не ожидал, что так оно и иол учится!
Ну, а остальные восемь, имея на руках «длинный козырь» от семерки до туза — не проблема.
Конечно, убийство Листьева создало огромную проблему Градоначальнику; из московского руководства ФСК. МВД и Прокуратуры были удалены верные ему люди,
Повод для удаления подпорок из–под Градоначальника звучал более чем убедительно: куда смотрит московская милиция, куда смотрит Прокуратура, куда смотрят славные чекисты, почему они допустили в столице нашей великой Родины такой страшный разгул преступности?
Тем более, что начальника всей московской милиции за несколько часов до смерти министр МВД прочил в свои заместители...
Прокуратура, правда, взбунтовалась, но бунт был быстро подавлен.
Градоначальник, теребя кепочку, побежал к Президенту и пригрозил отставкой — мол, как вы без меня–то, как вы будете весь этот огромный бардак под названием «Москва» в порядке содержать?
Кто его лучше меня–то знает?
Однако Президент (скорей всего — по непосредственной подсказке Главного Телохранителя) с улыбочкой заявил: я–де всегда очень внимательно отношусь к твоим просьбам, дорогой Градоначальник, я тебя очень люблю и ценю, как замечательного человека, и потому просьбы той не останутся без внимания...
Удовлетворю только заявление напиши.
На первый взгляд это было полное поражение Москвы перед Кремлем, полное и безоговорочное, да только на первый взгляд, так как на второй и на третий создало неоспоримые плюсы: прежде всего, Градоначальник зарабатывал репутацию невинно пострадавшего, что и в России, и в Москве всегда вызывало симпатию; во– вторых, люди, поставленные на мест а изгнанных первых лиц столичной милиции, прокуратуры и ФСК. были еще мене компетентны, чем те, которые были изгнаны и. следовательно, это давало о пределен им е преимущества: я, мол, умываю руки, если завтра или послезавтра тут начнутся террористические акты, то я ни за что не отвечаю. Не надо, мол, было иьпонячь со службы проверенных людей. Ну, а в–третьих, это лишь подогрело симпатии и сантименты общества к Градоначальнику.
Правда, тут же началась массированная идеологическая атака на Градоначальника уже через Останкино, на 16% почти что приватизированное Промышленником (своя рука — владыка!), и, не в пример прочим идеологическим акциям, вроде обоснования ввода танков в Чечню — куда более профессиональная: ссылки на западные, красиво звучащие для обывателя «Шпигель», «Уолл–стрит джэрнал» и одиозную «Вашингтон таймс», на которую уважающие себя журналисты, как правило не ссылаются…
Но все равно — звучит очень авторитетно и потому впечатляет: вот, весь мир осуждаю московское руководство, все прогрессивное человечество!
Градоначальник нервничал, но Банкир, к его удивлению. сидя в Лондоне и поигрывая в преферанс, хранил полное спокойствие.
И Прокурор, и милицейский генерал небыли козырными картами: в этом раскладе борьбы за главное, за рычаг манипуляцией общественным мнением, они занимали в колоде иерархию где–то между некозырной дамой и козырной шестеркой — не более того,..
Они были средством, но никак не целью.
Главное, цель была достигнута: машина приватизации начала давать сбои, общественное внимание было обращено на Останкино, да и в самом Останкино начался нешуточный бунт; как и предполагалось, о гибели Листьева забыли довольно быстро, и теперь все внимание было поглощено одним: не дать, не дать такого передела, и еще раз пересмотреть это самое акционирование.
А что касается подозрений, то их и быть не могло: все знали, что он, Банкир, поддерживает Градоначальника. а тот, в свою очередь, поддерживает его.
После смерти Листьева, после его убийства у дорогого Градоначальника начинается неприятность на неприятности — но «я ведь джентельмен, я никогда не допущу, чтобы близкие люди получали такие неприятности!»
Пересчитав очки, Секретарь произнес;
— Удивительно, но вы, — он обернулся к боссу, — вы выиграли… А ведь с самого начала вам никак не шла карта…
— Колода всегда кажется плохо перемешанной, пока к тебе не придет хорошая карта, — вновь произнес Банкир, — главное — уметь…
Он хотел было добавить — «незаметно передернуть её» но, по вполне объяснимым причинам, не сделал этого; надо же всегда и во всем сохранять репутацию настоящего джентельмена!..
«Традиционный подарок ведущему программы…» 100 очков
Нет в мире ничего лучше, чем телефон: тебе надо — ты позвонишь, ты необходима — тебе позвонят. Самые последние новости, сплетни, кулинарные рецепты, советы, приветы, признания, пожелания, откровения, огорчения, шутки, слезы и смех…
Да и просто — неповторимая радость общения с близким человеком.
Если тебе звонят — значит ты еще кому–то нужна, значит о тебе вспоминают. Тебя хотят слышать, с тобой хотят чем–нибудь поделиться, что–нибудь предложить, от тебя узщсгъ что–нибудь такое, интересное; значит ты еще жива. Телефонные провода — тончайшие нервные нити, связывающие живые клетки абонентов; аппарат — хрупкое нервное окончание, крошечный, затерянный нейрон в бесконечно огромном коммуникационном мозгу мира.
Да и сам он, телефон — живой такой, зовущий: вон, когда из шкоды звонят, напоминают, что педсовет завтра или предметная комиссия, как он перед этим жалобно трезвонит, печально так, соболезнующе, словно почтальон, который страшную телеграмму принес, звонит в дверь; а как весело заливается смехом, таким серебристым радостным смехом, точно ангел заливается, когда подруга звонит, очередными новостями поделиться желает!
Прикладываешь трубку к уху, и сразу же между тобой и ним — пластмассовым другом с круглым глазом о десяти зрачках наборного диска — незримая пуповина.
Кому еще поведаешь о своих тайнах, переживаниях, стрессах, неприятностях?
Самому близкому человеку, и то не всегда можно сказать…
Только ему, ему одному.
Телефону, то есть.
Живой, конечно, еще как живой!..
Перережь у человека нервы, обесточь окончания, все эта нейроны и что же?
Угаснет такой организм, сразу же угаснет, как цветочек аленький, как нежная розочка–мимозочка, которую почему–то забыли полить. И вообще — без телефона все цивилизованное человечество сразу бы вымерло как биологический вид, как мамонты в начале ледникового периода…
Утречком проснулась, умылась, позавтракала наскоро, натягиваешь в прихожей пальто, а взгляд сам по себе на аппарат косится, вид у него приятный такой, глаз так и ласкает, и в указательном пальце зуд нестерпимый — надо, значит, утопить пальчик в наборный диск, номерок набрать…
Так сказать, возбуждение.
Какой–то там рефлекс Павловских собак — то ли условный, то ли безусловный. Скорей, наверное, все–таки безусловный. А может быть, тяга набрать заветный номерок уже выработалась за несколько поколений, так что превратилась в условный рефлекс?
Впрочем — какая разница? Она не биолог, может и не знать, простительно…
Стоп, стоп, время, время.
Торможение, стало быть.
Ага, половина десятого, до школки, лицея то есть — всего только пять минут, занятия начинаются в десять.
Двадцать пять минут всего. Маловато, конечно, для настоящей душевной беседы, но — ничего, потом с работы вернется, наверстает упущенное.
А–а–а, ничего страшного не случится, даже если опоздает на несколько минут, зато дорогой подруге звякнет. Как там, родная — жива?
Опять — возбуждение.
Указательный палец макается в лунку диска, по часовой стрелке, до металлического треугольника–ограничителя: пять… семь… пять… семь… шесть…
Ага, вот так…
Ну?
Наконец:
«Ой, Светочка, а ты знаешь, вчера иду я домой с работы и вижу…»
«Ой, что ты, не может быть!..»
«Ну, точно!..»
«Ай, она ведь раньше с другим ходила…»
«Ой–ёй–ёй, а что же её… ну, этот, бывший скажет?..»
И — безо всякого перехода, а зачем нужны связующие интермедии в беседе двух близких людей? — «А у нас завучиха — представляешь, какая дура, совсем с ума сошла! Захожу я вчера, значит, в учительскую, и вижу, значит, такую картину… Сидит она, значит, юбка коротенькая–коротенькая, в её–то годы… И говорит еще, значит, что…»
«Ха–ха–ха!… Ну, дорогая, это ты уже преувеличиваешь… Ну, юбка коротенькая, эго еще куда ни шло. А вот тако–ое сказать…»
«Ну что ты, нет, точно тебе говорю… Своими ушами… Стану я врать…»
И — вновь безо всякой связки:
«У Галки день рождения скоро, через две недели, и нас с тобой пригласила, надо бы подарок какой–нибудь поискать… Зарплату вот только получу, может быть, и в Москву съезжу…»
«Ой, нет, я не пойду, там ведь, наверное, этот… Ну, мой бывший будет…»
«Галке, её теперешний из Венгрии такое платье привез — закачаешься… Представляешь — жутко приталенное, декольте полукруглое, само платье черное, почти до пят… Говорят, теперь в Париже только такие и носят, длинные, классического покроя… Надо бы посмотреть, она ведь его обязательно на день рождения наденет…»
«Тогда, может, и пойду…»
«А у нас на работе зарплату подняли, теперь ставка педагогических…»
Глядь на часы: ой, неужели это я целых полчаса трепалась? Опять опоздала, опять завучиха будет недовольна, опять на педсовете склонять…
Торможение… .
Точно — как у подопытных собак великого физиолога Павлова.
Нет ничего лучше телефона, особенно — в маленьком городке, удаленном от столицы полутора часами езды на электричке, особенно — если в городке этом всего пятьдесят тысяч населения, знающих и друг друга, и друг о друге, особенно — если Она нестарая еще девушка, двадцати восьми лет, если Она приехала в этот незнакомый город по распределению после своего просветительского института, особенно, если Она…
Над телефонной полочкой–отрывной календарик, прикрепленный к плакатику–постеру, вырванному из иллюстрированного журнала: кошечки такие милые– милые, как Тиша и Маруся, только еще пушистей и милей, чудо, прелесть, а не кошечки!
Да, начало марта.
Скоро Международный женский — меньше недели уже осталось.
Слякоть под окнами, мужская сдержанность и потепление в природе.
Лучшая Подруга, наверное, уже готовится — бегает по магазинам и рынку, покупает продукты, просматривает рецепты тортиков и «сельди под шубой».
Раньше и сама Она по десять раз в день названивала Лучшей Подруге — а сколько ты сахару обычно кладешь, а маргарину, а когда из духовки вынимать, а он от протвиня отставать не хочет…
Да, было, было…
Но на этот раз Она не будет никому звонить, не будет и отвечать на звонки — пусть себе лучший друг надрывается в прихожей.
Она не пойдет ни в какую школу, Она закроет дверь, Она поснимает со стен все эта суетные, неуместные сейчас портреты кошечек и собачек, наглухо зашторит окна, поставит перед его портретом горящую саечку — ту самую, которую купила недавно в церкви, и будет Она плакать, плакать, и молить о прошении, и плакать, и вновь молить о прощении, и горючие слезы будут катиться по щекам, но Она не будет их вытирать, ведь это так сладостно: полумрак, свечка, он, стекающие по щекам горячие слезы, острая жалость к себе, покаяние и умиление…
Она все равно его любила — любила, любит и будет любить — всегда.
Все равно.
Нет в мире ничего хуже, чем районный центр, особенно, если ты не родилась в этом самом райцентре, если не знаешь местных нравов, не умеешь вникать а хитросплетения внутришкольных интриг, если близких существ у тебя тут — твоя Лучшая Подруга, с которой ты приехала сюда по распределению (мединститут, участковый врач–педиатр), ну — и этот самый телефон, друг любезный, надежный поверенный всех сердечных тайм.
В любом районном городке проблема номер один ~ свободное время. То есть как его убить. Особенно, если ты родилась в областном центре, далеко отсюда, если училась в самой Москве (а вы думали!), если надеялась на что–то лучшее (а лучшее для девушки из провинции, конечно же — выйти замуж за москвича, с пропиской), если за время учебы у тебя не было ни одной тройки, если ты за пять лет не пропустила ни одной лекции, ни одного семинара (честно–честно, ни одного!), если втайне надеялась, что тебя оставят…
И тут — такой вот удар судьбы, распределение: езжай–ка ты, милая, в город Z., сто сорок километров по железнодорожной линии от Москвы, поднимай местную культуру, облагораживай нравы. Вон, на карте, за моей спиной… Да нет, не это, это муха посидела, но точка приблизительно такого же размера. Не была там ни разу? Ну, ничего страшного в этом нет: всем когда– нибудь приходится начинать с нуля. Вот, в наше время, после войны, например, вообще в землянках жили. А насчет столичной жизни ты эти глупости оставь, оставь: тут и другие найдутся…
Город Z., конечно же, далеко не столица, даже не родной областной центр, но — дисциплина превыше всего: ты молодой специалист, и должна отработать положенные тебе три года, тут, в райцентре Z., тем более, что администрация дает тебе прекрасную однокомнатную служебную малосемейку, да еще с телефоном — на то время, что ты тут работаешь, разумеется. Скажи спасибо еще. Другие вон по общежитиям всю жизнь мыкаются.
Потом, правда, распределения отменили, можно было бы, конечно, уехать отсюда, но — куда?
Девушка–то Она слабая, беззащитная, в штормовых волнах жизненных реалий. Без мужчины теперь тяжело, а теперь и не выплывешь, волны–то вон какие — баллов по семь, а то и восемь…
И куда, куда, скажите мне, ехать?
Домой?
Так там таких как Она, хоть пруд пруди, и мест нет: педагоги после Гнесинского института и МГУ на рынке шмотками торгуют, или в Турцию челноками мотаются; не от хорошей, стало быть, жизни.
Да и жить негде: родители старые до сих пор в коммуналке ютятся. Ну, замуж надо будет, а если у мужа квартиры нет, что тогда?
Так что придется тут оставаться, наверное. И что — – привыкла уже, ко вешу человек привыкает…
Ехала Она в общеобразовательную школу «с художественным уклоном», а оказалась в художественном лицее: просто на августовском педсовете директор сказал, что пришла бумага. из облоно — срочно переделать школу в лицей.
Художественный лицей! Престижно! Звучит! Гордо звучит! Чтобы молодые выпускники не уезжали отсюда в столицу, пополняя ряды бомжей, проституток, праздношатающихся, лимитчиков и рэкетиров а после лицея оставались бы на малой родине, в родном райцентре: вакантных мест на автобазе, в райпо, в ремонтномонтажном управлении, на стройке, в леспромохозе — уйма, работать, сами понимаете, некому…
А потом художественный лицей–все–таки не общеобразовательная школа, пусть и «с уклоном»: звучит как–то поблагородней. Пушкин учился в Лицее, Кюхельбекер, Пущин, Горчаков, Одоевский… Ну, вся слава России, весь её цвет, короче говоря.
Помните, как там у Лермонтова Михаила Юрьевича:
и вообще:
Ах, это Тютчев? Ну, все равно, мысль хорошая.
Так что, товарищи педагоги — культуру и искусство нужно нести в массы. Кто это там говорил: «Искусство принадлежит народу»? Ну, неважно, кто говорил, важно, что слова хорошие, своевременнные такие слова.
А потому, товарищ, господин то есть, преподаватель по. физике, ваши педчасы мы урежем, потому что надо укрупнить блоки занятий по музыке, танцам и рисованию.
И по алгебре, по геометрии тоже. Деньги считать все умеют, а больше и не надо.
И вообще — вот сетка педагогических часов. Пришла вместе с распоряжением о переделке из облоно. Прошу всех заинтересованных ознакомиться.
Возражений нет? По лицам вижу, что нет. Сознательные товарищи, очень хорошо. Вопросы есть? Тоже нет. Вот и прекрасно. А теперь — за станки, товарищи, по классам то есть…
Мысли–то о лицее, культуре и искусстве, конечно, хорошие, но, только, от этого как–то не легче: хоть Академию Наук тут открой, хоть филиал Оксфорда, Гарварда, а все равно — райцентр, пятьдесят тысяч душ. Ну, пришла ты с работы — и что?
Полторы ставки, больше не дают.
Как время убить?
А ничего, можно и тут выкрутиться: приготовила чего–нибудь вкусненького; душевно так, с толком пообедала, позвонила по три раза всем, кому надо и не надо (и бывшим подругам по институту в разные города тоже; правда, почти половина зарплаты уходит на оплату междугородних счетов, но все равно).
Вот зачем телефон–то нужен в райцентре!
Но, тем не менее — для девушки со столичным образованием, для симпатичной девушки пусть и двадцати восьми лет, которая рассчитывала в жизни на большее, а получила — вот это (симпатичные девушки всегда рассчитывают на больше, чем реально могут получить), для нее, такой милой, такой умницы, такой хозяйственной, такой душевной, такой… ну, словом — такой, самой–самой — перспектива, в общем–то нерадостная.
Точней — полное отсутствие всяких перспектив.
А потом — ей двадцать восемь. Уже двадцать восемь. Время–то летит, летит… Оглянуться, не успеешь, как зима катит в глаза. И что — в ДК бегать, на вечера «для тех, кому за тридцать?»
Там что — пьяницы местные стоят, икают, все такие грязные, потные, липкие, соляркой от них так и несет, им, алкашам несчастным, только бы выпить за чужой счет… За её то есть…
Да разве это мужчины?!
А дальше?
Дальше–то что?
А дальше — телевизор вот еще есть, обычный вечерний наркотик. Спасибо Лучшей Подруге, на то она и лучшая: надоумила купить, когда еще деньги были. Теперь уже не смогла бы. Вот и проблема свободного времени решена. Очень, кстати–то говоря, животрепещущая проблема в райцентре.
Ну, а по телевизору…
Кому–кому, как не ей знать, что же там по телевизору!
«Богатые тоже плачут», «Марианна», «Просто Мария», «Эдера», «Дикая Роза», «Санта—Барбара».
«Нет, вы знаете, Мейсон что в прошлой серии Джулии сказал? А потом Си Си Кепвелл, ну, это отец его, богатый такой, жениться надумал — представляете, опять на Софи! Да, самое главное: Мейсон сейчас женится на Виктории, а у нее будет ребенок от Круза, а Джулия ждет ребенка от него, от Мейсона. Боже, какая драма! Как? Неужели не смотрите? Ну, тогда Роза Гарсия, Дикая, стало быть, Роза: вот дура–то, ей Рикардо Линарес, такой мужчина, такие подарки делает, а она их выбрасывает… Гордая. Платья там разные шикарные выбрасывает, кроссовки. Совсем она какая–то… Ну, не Дикая, а одичавшая — совсем ненормальная. Дурочка какая–то. И вообще–балда. Что — тоже не смотрите? А еще мните себя культурными и интеллигентными людьми, постыдились бы, как можно!»
Недалекие люди любят подсматривать в незашторенные окна и замочные скважины, чтобы сравнить чужую жизнь со своей собственной, попереживать, всплакнуть, дать совет, если поймут, конечно…
Но главного нет, главного–то эти сериалы не дают: прямого соучастия, сопричастности к чарующему, захватывающему действу:
«Вот, была бы я на месте Джулии Уэйнрайт, я бы себя с этим Мейсоном не так бы вела, я бы ему сказала: «Так, Мейсон...» — Мягкая она очень…»
А посоучаствовать, как выясняется, можно и в другом, и это куда реальней, чем оказаться на месте несчастной Джулии Уэйнрайт:
«Вот недавно «Поле Чудес» появилось, смотрите? И этот, как там его — из «Взгляда», молодой такой и красивый, с усами, ведет… Ну, сами знаете, о ком речь. Да, Листьев его фамилия, так ведь говорят, что туда можно и попасть, на это «Поле Чудес»… Да нет, там не переодетые телевизионщики, не актеры всех этих простых людей играют — это же видно, так не сыграешь, живые ведь люди. А призы–то какие, призы! А подарки! Да, посмотрите как–нибудь… Огромное удовольствие, честное слово!»
Короче говоря:
«Если бы я там оказалась, я бы все эти буквы отгадала в два счета: раз, два».
И — полная сопричастность к волшебному, почти сказочному и фантастическому миру, миру дорогих подарков от богатых спонсоров, общества обходительного джентльмена — красавца–телеведущего, слепящего сияния софитов в студии.
И — известность: на всю страну известность! — не на какой–то там райцентр с пятьюдесятью тысячами!
Неизменно превосходный результат.
И задумалась Она, и родила в голове дерзновенную мысль…
Лучшая Подруга выслушала дерзновенную мысль со здоровым скепсисом: мол, куда нам, со свиным рылом в калашный ряд!
Она (разговаривали, разумеется, по телефону) переложила трубку в другую руку и — обиженно так:
— Но ведь други–ие…
— Что?
— Участвуют… С живым Листьевым говорят, подарки там разные, ну, и все такое…
— Ну и что?
— А если попробовать?
— Попробуй.
Вкрадчиво:
— Я вот знаю, туда надо сперва кроссворд составить и отправить…
— Откуда знаешь?
— Листьев сам говорил: условия в журнале «Телевидение и радио»…
— Ну, давай, давай… — мол, дерзай, любезная, надежды юношей питают. И девушек, стало быть, тоже.
И трубку положила — ну, стервоза! А еще — лучшая подруга называется…
Кроссворд составлялся долго и мучительно: хотя и тему–то выбрала родную, близкую, музыкальную, пяти курсов просветительского института оказалось явно недостаточно; хотя и ни одной лекции не пропустила, ни одного семинара, но где же столько слов набрать!
Где, скажите мне, где?!
Лучшая Подруга сочувствовала, сопереживала — наверное, никак не меньше, чем сопереживала Мейсону после смерти Мери.
— Ты зачем его составляешь?
— Ну, по условиям…
— Дура ты, дура… Сидишь, мучишься.
Несмело так:
— А что?
— Надо взять какой–нибудь старый журнал, срисовать оттуда — и всех делов–то!
Она — обиженно:
— Не могу я людей обманывать…
— Каких?
— Ну, таких, как тот, ведущий… Листьев. Он ведь такой добрый, такой честный… И лицо у него… Такое… Такое открытое! Вон, когда «Взгляд» вел, так всех подряд и честил…
— Тебя что ли никто не обманывал в жизни?
— Обманывали, но я не хочу.
— Почему не хочешь?
— Обману, а потом возьмет да раскроется… Эти телевизионщики — знаешь, какие они ушлые? Знаешь, какие умные? Все знают. А потом на всю страну ославит: мол, живет в районном центре Z. такая–то такая–то, и прислала она кроссворд, который взяла из журнала такого–то за 1968 год… Позору потом не оберешься, выгонят с работы… И запись в трудовую сделают.
Посидела Лучшая Подруга, повздыхала:
— Как знаешь. И вообще, не тем ты, дорогая моя занимаешься: тебе надо думать, как мужика какого–нибудь заарканить, ведь годы–то идут…
Лучшая Подруга в плане «заарканить» была в более выигрышном положении: её жених, точней, пока еще не жених — как говорят в их райцентре, хахаль (но об этом — тс–с–с, никому ни слова! Между нами — девочками), был военным, героем–танкисгом, капитаном, и не просто капитаном, не просто танкистом, не просто героем, а героем, еще недавно служившим в Западной группе войск, в бывшей ГСВГ. Группе советских войск в Германии.
Приехал (перевели по международным соглашениям в местный гарнизон) весь такой из себя: машина заграничная, видик, дойчмарки из кармана торчат… Валюта! А шмотки какие, а аппаратура!
И при всех этих огромных достоинствах — еще и неженатый!
Блеск!
Ну, правда очень любит неразведенный спирт, а после спирта — ругатся очень любит, «ду бист швайн» [21], говорит, а «их бин русиш официер» [22], мол; но потом, если только ему не перечить, то утром тише воды — ниже травы, бормочет только: «их виль биир» [23]…
Но, как говорит Лучшая Подруга, у каждого свои недостатки.
Подытожила:
— Так что думай, родная, не о глупостях, а о будущем… Смотри, двадцать пять (тогда ей было еще двадцать пять — о, молодость, о, благословенное время!) — это тебе не шуточки!
И закралась тогда в голову другая мысль, еще дерзновенней первой — а что, если…
Ну, чем она, собственно, хуже других?
Когда Лучшая Подруга ушла, поднялась из–за стола, посмотрела в зеркало — большое такое зеркало, почти во весь рост, в прихожей висит, как раз напротив телефонной полочки.
Ножки — стройные, грудь — красивая грудь, полная, гордо так возвышается, второго размера по бюстгальтеру, и, что главное — сама держится, даже лифчика не надо. Лицо–миловидное, нежное такое, родинка вон черненькая под нижней губой, очень даже миленько.
Чем хуже других?
Двадцать пять? Ну и что, что двадцать пять? Люди– то и в сорок выходят…
Почему бы и нет?
Вон, последняя жена у Вознесенского — тоже из какой–то глухомани, сама читала. Повезло же девке…
Подняла трубку, набрала номерок: не пришла еще Лучшая Подруга. Наверное, в поликлинику к себе пошла, или по вызовам к детишкам больным.
Нет, пока что не стоит делиться, не стоит говорить… Всегда так бывает — расскажешь, а потом не сбудется. Вот когда все получится — если получится, конечно, — тогда они все рты поразевают.
И Лучшая Подруга со своим героем–танкистом на иномарке — от зависти же лопнет, точно вам говорю!
Кроссворд, давшийся ценой систематических пропусков педсоветов и страшной головной боли, был закончен только через месяц, и, конечно, первым же делом представлен на суд Лучшей Подруге.
Та, просмотрев, только плечами передернула — мол, я в музыке ничего не понимаю.
— А Гендель — кто это?
Наверное, для приличия поинтересовалась — ведь понятно, столько работала, столько старалась, нельзя же совсем ничего не спросить!..
— Композитор такой был немецкий в восемнадцатом веке — оратории писал…
— А–а–а… Ну–ну. И теперь что?
— Ну, отправлю туда… И ждать буду, пока он мне не ответит.
— Ну–ну. Ответит. Много там таких…
Однако — не была бы она лучшей подругой! — надоумила:
— Знаешь, там ведь столько претенденток будет, — подумав, предположила Лучшая Подруга, — и все кроссворды на бумаге пришлют…
— Ну да, — Она растерянно посмотрела на собеседницу, — а что ты предлагаешь?
— Ну, надо бы на чем–нибудь таком… Нетрадиционном, что ли.
Поджав губы:
— Не понимаю.
— Ну, чтобы не как у других. Вот мой (это она о своем танкисте так говорила) наверняка бы на листе брони нарисовал… Или на снаряде…
— На фортепианной деке, что ли, паяльником выжечь? Так ведь ни паяльника у меня нет, ни своего инструмента, а за казенный, если в классе взять, завхоз потом голову оторвет… Не говоря уже о завучихе…
— Нет, ты ведь женщина, у тебя должен быть женский подход, — втолковывала Лучшая Подруга.
— А как это?
— Как, как… Подумай.
Думала долго.
«Что–нибудь такое нетрадиционное» — а как это?
«Женский подход».
Ну, женский так женский: женщины что любят?
Правильно: стирать любят. Так что — на пачке из– под стирального порошка «Мечта» кроссворд нарисовать? Обидится еще, не пустит в «Поле…»
Что еще любят женщины?
Тоже правильно: шить, вышивать. Вот и прекрасно: кроссворд надо вышить на чем–нибудь таком… Покрасивше чтобы, чтобы ему понравилось…
В выходные смоталась в Москву, обегала все центральные магазины, пока не нашла: отличный китайский шелк, настоящий, не какой–нибудь там нефтяной, полиэфирный, и ниточек шелковых же купила — красивые–красивые, тонкие–тонкие, ну просто загляденье!
И — засела вышивать.
С непривычки тяжело, конечно: все пальцы исколола, ниточки шелковые вкривь да вкось идут, некрасивый кроссворд получается. Да и дырочки от иголки, когда не туда попадаешь — видно так…
Расплакалась, бросила свое шитье и — к Лучшей Подруге:
Что делать?
Та:
— Тебе сперва потренироваться надо было… Ну, не на шелке, чтобы не портить, а на полотенце каком– нибудь старом, вафельном. Руку набьешь — а потом только перенести, и готово!
Она:
— Так ведь время вдвойне уйдет…
Лучшая Подруга:
–— Ну и что? Зато получится хорошо! А за дырочки не беспокойся: шелк надо только намочить и аккуратненько утюжком прогладить — ничего видно не будет…
Права оказалась Лучшая Подруга: сколь мучительно шло тренировочное вышивание на полотенце, — столь же легко потом получилось по шелку. И то правда: терпение и труд — все перетрут.
Не кроссворд получился, а загляденье: хоть ты его на ВДНХ отправляй!
Буковки ровненькие–ровненькие, шрифт такой строгий, классический, каждую буковку часа три надо вышивать, а то и больше.
А сверху, чтобы было понятно, о чем кроссворд — лира вышита, музыкальный такой символ.
Знай наших!
Отутюжила, нашла у соседки оверлок, обметала аккуратненько, чтобы края тончайшего шелка не сыпались, на стенку повесила.
— Ну, мастерица, — похвалила Лучшая Подруга, — нет, честно, я бы так не смогла…
Она смущенно попереминалась с ноги на ногу и спросила — скромно так, чтобы ничего не подумала:
— А ему понравится — как ты думаешь?
— Кому это?
— Ну, Листьеву…
— Если бы я была мужиком, мне бы понравилось, — вздохнула та.
И тут подала еще одну мысль — такую замечательную, что Она была готова на шею подруженьке броситься и расцеловать: ну, честное слово!
— Вот что: мы с тобой о чем говорили? О том, что женский подход проявить надобно.
— А что?
— Эта вышивка, кроссворд твой для тебя — труд и радость, а для мужика это что?..
И откуда знает, что ради него это делаестя, а не ради кроссворда?
Так ведь — ради него, да?
— …а для мужика, — продолжала Лучшая Подруга тоном женщины, отягощенной опытом семейной жизни, — для мужика это так…
— Что значит — «так»?
— Ну, не тряпка, не совсем тряпка… Ну, скатерть, — нашлась Лучшая Подруга, чтобы не обидеть искусную вышивальщицу. — Вот мой с этим, знаешь как бы поступил? После танкодрома руки бы о нее вытирал, точно тебе говорю…
Она приуныла:
— Так что?
Вот тут–то и подала Лучшая Подруга мысль — замечательную мысль:
— Скатерть–то что предполагает? Что? Ну, подумай…
— Стол, — несмело предположила Она.
— Правильно, стол… А что на стол? Совершенно верно, закуску, стало быть, и выпивку. Так что одной только скатерти маловато будет… Я ведь тебе говорила — женский подход нужен.
— Постой, рано еще радоваться, — вздохнула Она, — надо сперва в Москву отправить, а уж потом… А вдруг не подойдет?
— Подойдет, подойдет, не переживай. Никому такая мысль насчет вышивки в голову не придет, так что оценит… Отправляй смело и — думай, что на скатерть поставить. Да, и еще — фотографию не забудь вложить. Подыщи такую, чтобы была в самом выгодном ракурсе…
— Голой, что ли?
— Ну, дура ты какая… Зачем голой? Найди фотографию, обязательно цветную, притом — чтобы ты была в самом красивом платье, какое только есть. А если нет самого красивого — у Галки возьми, ну то, помнишь, ты мне сама рассказывала, которое её хахаль из Венгрии привез. Возьми. В Доме Быта сфотографируешься, там Анькин бывший работает. Ему тоже не говори, зачем. А Галя — она добрая, не расскажет… Хотя и ты прежде времени не рассказывай, зачем тебе её платье. Мало ли…
— Да понимаю уж, не учи…
Конечно, отправлять такой страшный труд по почте было опасно — а вдруг не дойдет, а вдруг догадаются там, на почте, что тут лежит, вдруг какая–нибудь противная баба из тех, что посылки разносит, возьмет и откроет… И присвоит, сама ему вышлет? Воспользуется, так сказать, плодами чужого успеха.
На почте тетя Маня, соседка, на приемке сидит, прочитав на бандерольке адрес, спросила только:
— Что, милая–по телевизору захотела показаться, да?
А Она тогда только отвела глаза и ничего не ответила — не скажешь ведь, да, мол, хочу рядом с ним постоять, может быть, и поговорить удастся, может быть, и…
А почему нет, что она — хуже других, что ли? Вон, и у Вознесенского…
Обожди, обожди, будет и на нашей улице праздник!
Месяц прошел в томительном ожидании. А тут — у Лучшей Подруги нечаянная радость: герой–танкист не выдержал длительной осады и наконец сдался в плен!
Ур–р–ра!
И голос Левитана — торжественно, изо всех репродукторов: «В последний час, сообщение Информбюро: после тяжелых и продолжительных боев пал последний оплот… столица Германии… город Берлин. Безоговорочная капитуляция! Наше дело правое, мы победили! Поздравляю вас, дорогие товарищи! Ур–р– ра!..»
Не зря, стало быть, шла осада по всем правилам военного искусства, тактики и стратегии: старалась ведь, сапоги ему чистила, обеды готовила, борщи варила, носки штопала и стирала, за «бииром» в гастроном каждый «морнинг» бегала.
Заарканила.
Все.
Счастливая.
Её, её танкист, никому не отдаст.
Её.
Ну, и торжественная часть, совместный банкет победителей и побежденных: как положено, в лучшем ресторане, в «Заре» (побежденный танкист за свои дойчмарки весь зал арендовал — правильно, пусть выплачивает контрибуцию), свадебный кортеж во главе с трофейным «опелем» 1981 года, на котором герой её из Германии приехал.
Ах, ах — шмотки! Видик! Дойчмарки! Аппаратура! все эти трофеи по праву достаются стране–победительнице, Лучшей Подруге, то есть…
Везет же людям…
Акт безоговорочной капитуляции Гудериан подписал в городском загсе, Она, разумеется, была свидетельницей исторического акта.
Водка, закуска, водка, соболезнующие соратники по оружию, водка, закуска, братание победителей и побежденных, водка…
Друзья побежденного героя, напившись, все на свидетельницу косились, все за округлую попку норовили ущипнуть.
Грубияны.
Но ведь не скажешь ничего такого — нельзя!
Ой, что вы, как же можно…
— А вас, проссыте, как зовут?
Ой, что вы делаете?
А мне вот невеста сказала, что вы на фортепианах умеете играть…
Ой, что вы хотите там найти?
Молодая — строго так из–за стола:
Эй, товарищ майор, руки–то не распускайте… У нее парень есть. Кто? Не отсюда. Петька из ремонтного батальона? Нет, не Петька, и не из ремонтного, и не из батальона… Нет, не знаете. И вообще — не отсюда. Какое у него воинское звание? Генерал!.. Фельдмаршал!.. Верховный Главнокомандующий!
Как — Паша? Не может быть…
«Дорогие друзья! В этот радостный и торжественный момент позвольте поздравить молодых… Выпить за их долгую и счастливую совместную жизнь… Но почему шампанское так горчит?..»
Г о–о–о–орь–ка–а–а!..
Г о–о–о–орь–ка–а–а!..
Г о–о–о–орь–ка–а–а!..
Целуется Лучшая Подруга со своим танкистом. Ничего не скажешь — сладкая парочка…
Ответ пришел на удивление быстро: кроссворд, значит, понравился, и в конце месяца автора приглашали в Москву, в Останкино.
Ну, а теперь думай, — строго сказала Лучшая Подруга, прочитав ответ — красивый такой, на казенном бланке.
— О чем?
— Ну, помнишь мы с тобой говорили?
— Женский подход?
— Правильно, умница. Значит, скатерть есть, а на скатерь надобно…
Оживилась:
— Послушай, на твоей свадьбе такой пирог был — я целых три куска съела, хотя мне и нельзя много, чтобы не растолстеть… Ты его делала?
— Не–а.
— А кто — неужели твой?
— Повара из гарнизона готовили. Хочешь, я своего попрошу, он рецепт достанет? Только я бы не советовала тебе с этим связываться.
— Почему?
— Пирог вкусный, пока не черствый, а тебе сперва испечь надо, потом — до Москвы полтора часа, потом в Москве еще до Останкино, там неизвестно сколько ждать придется… Зачерствеет, не связывайся.
— А что же тогда делать?
Лучшая Подруга Заулыбалась — хитро так, лукаво заулыбалась:
— Я бы на твоем месте вот что сделала: испеки–ка ему торт, притом такой, какой долго храниться может. Или печенье…
— Что?
— А вот, слушай, я рецепт знаю. Ручка есть? Бери и записывай. Значит так: называется «Печенье миндальное». Берешь, значит, двести граммов миндаля, два стакана сахара, шесть яичных бежов и полсгакана муки. Миндаль надо кипяточком ошпарить, очистить и высушить, мелко истолочь, постепенно прибавляя сахар и белки, но не все сразу. Потом, значит, берешь…
Когда рецепт был записан, Лучшая Подруга, улыбнувшись, произнесла:
— Ну, и водочки возьми.. Мужики любят водочку–то — сама понимаешь. Правда, закуска не ахти какая, надо бы поплотней чего–нибудь, но, если ты намекнешь ему, что можешь и не такое, то…
Закраснелась, зарделась — ну точно девочка нецелованная!
— И главное, не забудь у Галки платье взять — ну, то самое, из Венгрии. Ты в нем фографировалась, значит, в нем должна и выступать. Тем более, что в таких платьях женщины всегда мужикам нравятся. Понятно?
— Понятно.
— В Москву — когда?
— В конце месяца.
— Ну, торт сразу не пеки, потренируйся сперва, как на кроссворде. Начни делать за сутки до отъезда, и коробку хорошую приготовь — вон, в электричках на Москву всегда такое столпотворение!..
И взошла звезда высоко–высоко над районным центром, и светила она всем, всем пятидесяти тысячам горожан, офицерам, прапорщикам, рядовому и сержантскому составу из гарнизона–тоже, и звездой этой была Она…
Правда, было и маленькое разочарование: Она–то думала, что «Поле Чудес» идет в прямом эфире, а оно, оказывается — в записи.
Ну, ничего — так даже лучше.
Себя можно посмотреть — по телевизору, посмотреть, как другие будут завидовать.
Представляете, как здорово: сидишь на диване, пирожное миндальное доедаешь, точно такое, как ему готовила, и вдруг — ты!
И — угадываешь, угадываешь: раз, два…
Запись была в субботу, и в тот же вечер Она вернулась в родной райцентр, а в понедельник–на работу, в лицей, значит.
То–то разговоров было в учительской!
— Ой, расскажи, как там?
Она вяло пожимала плечами — так ведь уже устала от этих расспросов.
Ну, как по телевизору… Все, как передают, только вырезают много, наверное. «Поле чудес» где–то час идет, а нас три с половиной часа в студии продержали. Нас сразу как туда загнали, а ассистент говорит: Владислав Николаевич, мол, очень устал, так что вы… ну, того, не лезьте с лишними расспросами…
Задумались учителя.
— А что — неужели это тяжело?
— Что?
— Ну, «Поле чудес» вести?
— Конечно!
— А почему еще не показали?
— Потому, что там все программы снимают в конце месяца, нам ассистент говорил, что за два дня — три–чегыре, если не больше.
— А кто слова–то выдумывает? Сам Листьев?
— Нет, ассистент говорил, что там у них есть какой– то структурный лингвист…
— А что это?
— Не знаю…
Ну, и самое главное, значит:
— Выиграла что–нибудь?
— Улыбнулась — хитро так:
— А–а–а… Потом узнаете.
— А мы–то думали — ты на машине вернешься.
— Потом, все — потом.
Когда?
— Ну, когда транслировать будут.
— А когда транслировать будут?
Голос мгновенно тускнеет:
— Не знаю… Может быть, через неделю, может — через две. Не знаю еще…
И вот — долгожданная минута радости и торжества, собрались дома у Лучшей Подруги (у нее телевизор японский, с большим экраном, по немецким репарациям достался), герой–танкист даже кассету не пожалел — на видио записать, чтобы память на всю жизнь осталась.
— Ну, ну, скоро?
— Сейчас, сейчас, вот только…
— Ой, а он точно запишет?
— Не волнуйся, дорогая, точно…
— А кассету потом отдашь?
— Ну конечно — для тебя ведь стараюсь…
И — вот, наконец:
— В эфире капитал–шоу «Поле чудес». Надеюсь, несложные правила этой игры всем понятны, и мы представляем первую тройку участников…
— Ты в какой?
— В третьей, в последней… Тихо, тихо…
— Сегодня спонсор нашей программы…
Ну, спонсора каждый ребенок знает — ат–тличная компания!
Тема:
— «Танцы, балет и все, что с этим связано».
Первый вопрос:
— Назовите танец, очень популярный в Венгрии…
Шесть букв.
Три участницы: ветеран войны и труда с Урала (подарок: якобы самоцветные камни, а на самом–то деле от булыжника не отличить!), студентка мединститута из Сибири (подарок: белый халат и колпак с красным крестиком), крановщик из Набережных Челнов (макет башенного крана, масштаб 1:400, наверное, из ворованных железяк собрал).
Первая буква: ветеран долго морщится и неожиданно угадывает:
— «Че»!
Листьев:
— Правильно! Есть такая буква!
Ветеран морщится дальше, и вновь:
— «А»!
— И такая буква есть!
Барабан — верть, «сектор приз».
Зал:
— Приз! Приз!
Короче, забрал ветеран приз, видеомагнитофон японский и, наверное, доволен остался.
Ничего, вернется на свой Урал, запишет передачу, чтобы внукам было что о нем после смерти вспомнить.
В финал вышла студентка–медичка, а слово, оказывается — «Чардаш». Танец такой.
— Ну, когда?
— Сейчас…
А на конвейере — уже вторая тройка участников… Быстро, однако тут все делается. Когда записывали, кажется, часа полтора эту первую тройку мурыжили.
Ну, можно и отвлечься, пока они там слово угадают («бальный танец, популярный в девятнадцатом веке» — «Падэспань»).
Лучшая Подруга, с некоторой завистью посмотрев на героиню дня, спросила:
— Ну, а ты хоть довольна?
— Еще бы!
— И Листьев — какой он мужик?
Из груди — невольный стон, и невозможно его сдержать, никак невозможно:
— О–о–о!.. А–а–а!.. Какой мужчина! Обалдеть можно!
— А где он лучше — на экране или в жизни?
— Даже не знаю… Когда смотрю телевизор, кажется, что по телевизору, когда передачу, студию вспоминаю — кажется, что живой лучше…
Вторая тройка прошла, слово угадала тетенька из Тамбова.
Сейчас, сейчас…
Ладони неожиданно похолодели, потом покрылись — неужели?., неужели Она саму себя сейчас увидит?!
Точно — Она. И нос её, и родинка, и грудь (специально бюстгальтер не одела, хотя ассистент и намекал деликатно), и…
— Ой, неужели ты!
Гордо так и безразлично:
— Конечно!
— Ой, смотри, точно!
— Тише, не мешайте…
— Назовите танец, старинный французский танец из семи букв.
Она — первая.
Ну?
— Ой, простите, можно…
— Что?
— Подарок!
Лучшая Подруга:
— Ну?
Она:
— Сейчас…
Листьев:
— О, неужели это мне… А это что?
Она:
— Водка…
В зале — струя веселья.
Листьев:
— Традиционный подарок ведущему программы… Ну, честное слово, меня, наверное, в вашем городе за алкоголика принимают… Нет? Еще не принимают? О–о– о, еще и закуска?
— Сама пекла, — отвечает Она со сдержанной гордостью.
— Очень приятно, благодарю. Ну, какая буква?
— «Лэ»!
И почему это Она тогда именно эту букву назвала? Непонятно. Наверное, подсознательно, чисто подсознательно, ведь и его фамилия тоже на эту букву начинается…
Деревянный стук:
— Увы, такой буквы нет…
Двое других участников: молодой, бандитского вида юноша, в кожаном пиджаке, без подарка, не догадался, наверное (такой только финский нож подарить может, под ребро), и домохозяйка (тоже какой–то райцентр; подарок: полная корзина свежих яиц. Издевается, что ли? Листьев ей что — наседка!).
Юноша долго морщит лоб, и выдает:
— Твердый знак!
Ну, еще хуже, чем Она: почему именно твердый знак?
Листьев:
— К сожалению, такой буквы нет…
Домохозяйка:
— «Гэ»!
— Есть такая буква… Прошу, откройте, пожалуйста!..
Точно — есть. Третья буква с начала, пятая, стало быть, с конца.
Лучшая подруга:
— И что за слово?
— Потом, потом…
Домохозяйка вертит барабан, повеселела:
— «Мэ»!
— К сожалению, такой буквы нет…
И вновь — Она.
— Простите, пока вертится барабан, можно я передам привет?
— Ну конечно же… Пожалуйста. А вы, простите, кем работаете?
Покраснела, потупила взор долу:
— Учительницей…
— А чему, простите, учите?
— Музыке…
Листьев — со вздохом:
— Всегда завидовал людям, которые умеют на чем– нибудь играть. У вас сто очков. Буква?
— «Эн»!
— Правильно, есть такая буква!
— Ой, простите, а привет?
— Конечно!
Вздохнула, набрала полные легкие воздуха:
— Я хочу передать привет… Это — моя Лучшая Подруга, и её мужу, герою танкисту — тоже… А еще… коллективу родной школы, лицея, то есть, завучу Марь–николавне… Привет… Пожелания…
И почему Она завучиху сюда приплела?
Непонятно.
А Листьев, с доброжелательной улыбочкой, достает откуда–то из–под барабана прямоугольник шелка — тот самый, и разворачивает:
Посмотрите, какой замечательный кроссворд прислала нам эта участница. Нет, это не рисунок, не роспись, это такая вышивка… Честно говоря, я сперва подумал, что вы профессиональная вышивальщица… Тутовый шелкопряд. У вас пятьдесят очков. Буква?
— «Дэ»!..
Барабан крутится дальше. Тридцать очков.
— Буква?
— «И»!..
— Есть и такая буква, с чем вас и поздравляю… А по условиям нашей игры… Три подряд угаданные буквы… Ассистент — в студию!
Ассистентка — длинноногая такая девица, с дежурной улыбкой приносит две коробочки с палехской росписью. Надо угадать, где деньги. Ну?
Не угадала: на ассистентку ревниво смотрела, на ноги её.
А деньги в большой коробочке деньги лежали, деньги — они всегда в большой.
Ну да ладно, главное–то впереди…
Осталось три буквы.
Лучшая Подруга — в бок локтем:
— А что за слово?
— Не мешай…
А зал уже подвывает:
— Слово! Слово!
Листьев:
— Может быть, назовете слово?
— Нет, еще покручу…
— Ну, пожалуйста… И вновь — сто очков. Вам везет. Буква?
— «О»!..
— Ну, что я могу вам сказать?
— ?
Улыбается:
— Ничего, кроме того, что таких букв целых две! Ваши очки за эту букву соответственно удваиваются.
Ассистентка открывает черные квадратики, на экране появляется:
..ГОДОН
Герой–танкист, уже было захрапевший, от знакомого созвучия неожиданно вскакивает:
— Что — «гандон»?
Лучшая Подруга вздыхает с укоризной — как можно опошлять такими словами торжество человеческого разума над бездушным барабаном? Это ведь не казарма, не боевое учение и не штаб округа!
— И не стыдно?
Отвалился танкист, мужлан бесчувственный, на другой бок, опять захрапел.
Ну, а дальше — пошло–поехало.
Листьев:
— Буква? Или скажете все слово?
Зал — истошно, как болельщики на хоккее:
Сло–во! Сло–во!
Вроде бы тогда так и не кричали, наверное, просто звуковую дорожку со спортивной программы поставили, перепугали, значит.
Она:
— Нет, я еще покручу…
— Пятьдесят очков. Ну, какая буква?
— «И»!
Листьев:
— Правильно! Ну, а теперь назовете слово?
— Назову…
— Так: полная тишина в студии. Я должен предупредить вас, что в случае подсказки я изменю слово. Если вы неправильно назовете слово, то…
Морщит лоб, думает, бледнеет, видно, как на лбу выступают капельки пота…
— Ригодон!..
Листьев — с плохо скрываемой издевкой:
— Эта догадка делает честь вашему уму. Действительно — ригодон!
Финальная тройка победителей отборочного тура.
— Напоминаю, что наша сегодняшняя тема — танцы, и все, что с ними связано. Назовите известный балет русского композитора Глазунова, восемь букв.
Соперники: студентка–медичка из Сибири и тегеньха из Тамбова, которая «падеспань» угадала.
Барабан. Студентка.
— Сто очков! Буква?
— «Сэ»!
— Неправильно.
Барабан. Тетенька из Тамбова.
— Пятьдесят очков. Буква?
— «Е»!
— Вынужден вас разочаровать, нет такой буквы… Барабан. Она.
— «Рэ»!
Есть такая буква… Первая буква в слове! Попрошу открыть…
Зал вновь неистовствует:
— Слово! Слово!
Листьев:
Может быть…
Разве может такое быть — по одной только букве, пусть себе и первой, все слово угадать?
Барабан. Она.
— Двадцать очков. Буква?
— «Вэ»!
— Неправильно. Нет в этом слове буквы «вэ».
Барабан. Тетенька из Тамбова.
Пятьдесят очков. Ну, может быть…
— «Лэ»!
— И буквы «эль» тоже нету.
Барабан. Медичка из Сибири.
— Сектор «банкрот», все ваши очки, к сожалению, сгорают…
Короче — мучались, мучались, и тетенька из Тамбова, и студентка–медичка из Сибири, и Она, а слово–то было сложным, балет русского композитора Глазунова назывался «Раймонда».
Но угадала Она, Она угадала!
Подсчитали очки — оказывается, много набрала. И выигрыш — японский цветной телевизор.
Знай наших!
Герой–танкист окончательно проснулся, обрел чувство реальности:
— Так ты телек выиграла?! Ну, это надо замочить… Эй, ты (это он жену так называет), спиртика принеси–ка сюда!
Листьев:
— Суперигра… На барабан выставляются: музыкальный центр! Телевизор! Видеомагнитофон! Кухонный комбайн! Автомоби–иль! Еще раз напомню, что призы и подарки любезно предоставила нам фирма… Ну, будете играть?
Она:
— Не–е–ет…
— Вы хорошо подумали?
— Нет, не буду…
— Что ж, ваше право… Примите поздравления. А мы, уважаемые завершаем наше капитал–шоу «Поле чудес», до свидания, до следующей пятницы…
Танкист выпил еще сто граммов, рукавом занюхал и — спать рухнул.
Лучшая Подруга провела гостью на кухню, села, подперев голову кулаком, пригорюнилась.
— А где твой телевизор?
— Дома стоит.
— Покажешь?
— Конечно!
Посидели, чайку выпили, о «Поле Чудес» поговорили.
— Ну, а как насчет…
— Чего?
— Ну, главного…
И смотрит понимающе — я ведь знаю, для чего ты все это затеяла, для чего кроссворд вышивала, для чего в Москву ездила!
И откуда знает?
Ведь не говорила же никому!
Вздохнула, покачала головой:
— Ну, не знаю… Я к нему потом подошла, мол, большое спасибо вам, Владислав Николаевич, большое спасибо от нашего педагогического коллектива, а он улыбнулся, отмахнулся и побежал… Мол, большое пожалуйста, еще раз примите поздравления.
— Дура ты, дура… Да разве так с мужчинами разговаривать надо? И вообще — не о том ты думаешь…
У нее от этих злых слов на глаза слезы навернулись, сдержалась, чтобы не расплакаться.
— А как — надо?
— Намекнуть надо было… Ну, понимаешь?
А на следующий день…
Ой, что было на следующий день!
В учительской на нее смотрели так, как смотрели бы, наверное, на Клаудио Кардинале или Мерелин Монро, если бы они тут, в райцентре появились — во как смотрели!
А расспросов!
А отзывов!
А просьб!
А приглашения в гости зайти!
Даже завучиха — и та улыбнулась: тронула её, значит, что и о ней слово перед Листьевым замолвила.
И в классе — посещаемость стопроцентная. И так — целую неделю…
В город — не выйти; все только пальцами показывают, и шепчут в спину: «Поле Чудес»… Листьев… телевизор… японский… выиграла!
Нет добра без худа: через две недели телевизор выигранный, японский, тот самый, который Она на своем горбу из Москвы тащила — украли.
Очень просто: пришла Она с работы, дверь выбита, дома — разор, и телевизора — как не бывало.
Наверное, грабители тоже «Поле Чудес» любят…
Плакала Она навзрыд — громко так, что даже соседка из–за стены пришла, пожалела. «Ничего, — говорит, — у тебя ведь еще один есть, старый… Еще раз съездишь в Москву, не такой еще выиграешь!..»
В лицее тоже узнали, поди, скрой: одни с жалостью узнали, другие — со злорадством. Вот, мол, думала, на всю страну известной стала, так теперь все можно, и телевизор японский? Не выйдет!
Телевизор–то тот, наверное, солдатики из военного городка украли: «дембеля» молодых посылают в город за водкой, как герой–танкисг объяснил, а денег не дают. Наверное, украли да на водку и поменяли.
Знала бы она — весь гарнизон чистым спиртом бы залила!
Но — все проходит, и свет звезды её вскоре поблек, как блекнут звезды с наступлением рассвета, и о ее участии в «Поле Чудес», о её блестящем, фантастическом выигрыше в районном центре Z. вспоминали все реже и реже.
Все проходит, и раны рубцуются, заживают: зажила и эта рана, телек японский. Тем более, что старый телевизор хотя и не японский, хотя и без пульта дистанционного управления, без телетекста, но ведь — показывает.
И про богатых, которые тоже плачут, и про Марианну, и про «Поле Чудес».
Да, все зарубцовывается, не зарубцевалась только эта рана, и образ его никак не хотел покидать душу.
И мысли — все дерзновенней: надо, надо еще раз в Москву поехать, надо его увидеть, надо во всем признаться.
А то — как он узнает?
А Лучшая Подруга–то — правильно говорит: дура она дура, надо было, наверное, и… ну, намекнуть, что ли…
А время шло, шло неумолимо. И вот уже ей — двадцать шесть, и вот уже не ведет он больше «Поле чудес», потому что перешел на другую программу — «Тема» называется, а «Поле…» ведет немолодой уже такой дяденька, с усами, хорошо ведет, интересно, и над участниками не издевается, не подкалывает их зло («Это делает честь вашему уму!»), но все равно — не то, не то…
А вот уже ей и двадцать восемь. И не ведет уже Листьев «Тему», потому что перешел на другую передачу
«Час Пик» называется. А на «Часе Пик» он ей еще больше нравится — чем–то таким теплым, домашним от него веет, так и хочется обнять, приласкать, к сердцу прижать…
Ну почему, почему так несправедливо устроен этот мир?
Почему он не её, почему они не вместе?
Она бы ему вкусненькое разное готовила, рубашечки бы стирала, подтяжечки бы широкие гладила, миндальные печенья — каждый день, и все такое…
И тут закралась в её голову самая дерзкая идея…
И вот, поплакав в подушку, решилась: к Лучшей Подруге пойти и во всем признаться.
А у Лучшей Подруги–то неприятности на неприятности: танкиста её военная прокуратура трясти начинает: генерал Бурлаков — знаете? Ну, которого судили недавно. Хищения в Западной группе войск — в курсе, конечно? Злоупотребления начальства — что скажете? О том, как на военно–транспортных самолетах угнанные «мерседесы» в СНГ переправляют — известно ль вам? А сколько генералитет российский с этого имеет? А хищение имущества? А коррупция? А все остальное? Международный скандал, понимаете. Немцы ведь и обидеться могут. В кредитах откажут. И вообще — журналиста того из «Московского комсомольца» убили, взорвали в кабинете редакции — кому было выгодно?
Отбивается танкист от военюрисгов, стоит насмерть, как двадцать восемь героев–панфиловцев на подступах к родной столице. Вроде, доказал свою непричастность, только в себя пришел, а тут — новая напасть: война, значит, с этими горцами, с чеченцами.
И его отправляют.
У Лучшей Подруги дома — вой, слезы, стенания:
— Что будет, что будет!?
Танкист храбриться:
— Да ничего не будет! Побьем мы извергов, которые там в Грозном, в детском садике целую группу среднего дошкольного возраста изнасиловали, побьем по закону добра и красоты, отстоим честь русского оружия, май либер мэтхэн{Моя любимая девочка (нем)}, и вернусь я на танковой броне с букетом цветов, и на груди будут сиять звезды и кресты, и будем жить с тобой долго и счастливо, и никакие военные прокуроры нас трогать не будут, так как вернемся из этих вражеских ущелий гордыми победителями незаконных бандформирований. Тем более, что наши, российские бандформирования–законные. А законных победителей не судят…
Успокоилась Лучшая Подруга, настолько успокоилась, что даже нашла в себе силы её выслушать…
Выслушав, вздохнула, пригорюнилась.
— Никак эти бредни из головы выбросить не можешь? Стыдись!
— Да разве любви можно стыдиться?
— Да, любви… Нет её, никакой любви…
— …?
— А что его касается (это о муже–танкисте), то я разочарована…
— …?
Пьет много, как говорится, жертвуя рассудком, цветом лица и военной карьерой. Весь спирт, что я с работы, из поликлиники ношу, с друзьями выпил.
— …?
— Но ни о чем не жалею: бабе, особенно теперь, без мужика очень трудно…
— А мне?
Тебе — еще трудней… Смотри, уже двадцать восемь лет, упустишь момент — и все. Сейчас такой возраст, что чем дальше, тем тяжелей…
— А что же мне делать?
— Не знаю… Мужика искать надо.
— Так ведь нашла я уже.
— …?
— А никого другого мне не надо.
— Что ж — съезди тогда, признайся: люблю, мол, жизни без тебя не представляю, души в тебе не чаю… Ну, и все такое. Мужики — они народ душевный, может, поймет…
И вновь — Москва, знакомый рейс с вокзала на Останкино.
Вовнутрь её, конечно, не пустили — там пропуск нужно показать, раз нет пропуска — до свидания.
Пришлось на улице дожидаться.
Снег пошел, пушистыq–пушистый, потом перестал, потом вновь пошел, ветер задувает, а Она все стоит, стоит, в снежную бабу превратилась.
Но где же?
Вот только появится, подойдет она к нему, смело так подойдет и скажет…
Люди какие–то все время бегают — из подъезда — в подъезд, из подъезда — в подъезд, суетятся, торопятся куда–то…
Темно уже.
Ну, скоро?
И … — Он!
Точно — он. Узнала. Из тысячи, из миллиона бы узнала. Идет быстро, на ходу с каким–то знакомым переговаривается, и — мимо, не узнает. И без шапки, разве можно зимой без шапки ходить, простудится ведь, и никто за ним не смотрит, некому, наверное…
Владислав Николаевич!
Обернулся.
О, Господи…
— Владислав Николаевич!
Обернулся и — учтиво так, улыбаясь:
— Слушаю.
— Вы меня не помните?
— Простите, но…
— Ну, три года назад… «Поле чудес», миндальное печенье… кроссворд на шеже… «Раймонда»… телевизор японский…
Простите, не понял.
— Я три года назад участвовала…
Не то надо говорить, не то!
— Девушка, извините, но я…
— Владислав Николаевич!
И почему же это Она к нему по имени–отчеству обращается?
— Девушка, извините, я очень спешу…
Комок застрял в горле, слова прилипают к гортани, а тут еще снег этот в рот набивается, ветер…
— Я вас люблю!
Нет, не расслышал, точно, ветер слова в сторону сносит.
Подошел к машине, уселся, спутника своего радом посадил, дверкой хлопнул.
Боже, что делать, Боже, научи, надоумь, Боже, ведь она жила ради этого момента!
Сама виновата: разве о таких вещах так говорят?! Кричать надо было, кричать, на всю Москву:
— Я! Вас! Лю! Блю!
Выбежала на дорогу, проголосовала, машину остановила…
— Вон, за той синей иномаркой — быстро!
Водитель недоуменно посмотрел на странную пассажирку, обсыпанную снегом.
— –А там кто?
— г* Друг мой… Я ему должна кое–что передать! Сказать должна!
— А куда он едет?
— Не знаю…
— Так и будем по Москве кататься?
— Да, за ним, за ним, быстрей!
— Ну, быстрей так быстрей.
Водитель назвал сумму, от которой Она едва в обморок не свалилась: почти вся её зарплата!
Но разве теперь можно думать о таких мелочах, как деньги, тут ведь действительно судьба её решается, и теперь, теперь надо догнать, догнать надо его, во что бы то ни стало догнать, и признаться.
Точно — он ведь не расслышал, не мог он на таком ветру расслышать, но ведь надо, надо ему во всем признаться, ведь она все это время жила этим и ради этого, ведь не может она вернуться в свой райцентр Z. просто так!
Приехали скоро — ни пробок не было, ни заторов на дорогах.
Остановилась иномарка во дворе дома, вышел из нее он, а Она — следом.
Уже набрала воздуха в легкие, чтобы крикнуть: «Я! Вас! Лю!…»
И видит: подходит он к подъезду, а из него женщина выходит — миловидная, черненькая, с короткой стрижкой, тоже без шапки, вся хрупкая такая, и целует его. А он — её!!!
Перед глазами поплыли огромные фиолетовые пятна, больше того самого барабана из «Поля чудес», во сто крат больше…
Да, такая женщина не может быть сестрой, не может быть родственницей…
Ясно — жена.
Боже, Боже, Боже….
Это был удар, цунами, обвал, катастрофа — точно землетрясение, семь баллов по шкале Рихтера, как в Японии.
Вернулась из Москвы — и сразу же с горячкой слегла. Сумела только до телефона доползти, номер набрать:
— Приезжай…
И голос — страшный, скрипучий, надтреснутый, першит в горле, сама свой голос не узнает…
Лучшая Подруга приехала, температуру измерила, 39.8, рецепты выписала, и сама в аптеку за лекарствами сбегала.
Чаем отпоила, лекарств дала.
— Ну, легче?
— Да–а–а…
— Ты что — в Москву ездила?
— Ездила… — эхом ответила Она.
— Видела?
— Видела…
— Призналась?
— Да женат он, — вздохнула Она и горько–горько расплакалась.
Несмотря на весь драматизм момента, Лучшая Подруга не смогла сдержать укора:
— Дура ты, дура… Да разве такие мужики бывают свободные? Ты ведь сама об этом догадывалась, сама знала… Что же ты со свиным своим рылом да в калашный ряд?
Да.
Догадывалась.
И знала, наверное… Но конечно же, знала! Но — все равно: она не могла ожидать от него такого коварства, такого низкого коварства, такого вероломства…
Болела долго: почти месяц. Спасибо Лучшей друге — больничный взялась оформлять, в поликлинику не надо бегать.
Уже почти выздоровела, и тут — танкист пришел, попрощаться пред отправкой на войну.
Лицо черное–черное, будто бы в мазуте, и перегаром несет.
Знать, нелегко сборы в театр военных действий ему даются!
Сел.
Повздыхал сочувствующе.
— Ну, как ты?
— Да так…
— Болеешь все?
— Уже нет…
— Горло болит?
— Немножко…
— Хочешь–подлечу тебя?
Она — вяло:
— Как?
— Ну, как в армии все болезни лечат? Спиртом, конечно, — произнес танкист и полез за флягой.
— Да нет, не надо…
— Десять граммов…
— Да не надо.
— Ну, как хочешь: мне больше достанется…
Спрятал флягу, посмотрел понимающе — стало быть, обо всем уже знает. Подруга Лучшая, наверное, растрепалась. А–а–а, теперь все равно.
Чтобы не заводить разговор о нем, перехватила инициативу:
— Ну, когда вас там отправляют?
— Вроде бы завтра…
— Боишься?
— He–а. А чего их бояться? Я только одного вот никак понять не могу: там ведь говорят, что горстка каких–то бандитов, уголовников воюет… Почему тогда против них танки посылают?
У танкиста было такое выражение лица, словно он хотел о чем–то попросить, что–то сказать, но никак не мог этого сделать — боялся, наверное…
— Ну, что там у тебя?
Танкист полез в сумку, достал какой–то сверток.
— Вот что: пусть это у тебя побудет…
— А что там?
Развернул: батюшки, пистолет! Настоящий, черный, тяжелый… И маслом оружейным пахнет.
— Откуда?
Да вот, когда в Германии служил, купил по дешевке…
— А почему у себя оставить не можешь?
Да ведь если с обыском придут, все перероют и обязательно найдут.
— С обыском?
— Ну да… Времена такие, что всего бояться надо. За свою жизнь — бояться, за будущее–бояться…
— А зачем он тебе?
Улыбнулся.
— Ну, я ведь говорю: времена такие. Слухи ходят, что скоро война опять начнется. Ну, как в 1993 году, осенью, когда по Белому Дому из танков палили — помнишь?'
— Да…
— Только теперь мы в другую сторону палить будем. Развели, понимаешь бардак в стране, хозяина настоящего нет, козлы эти всем заправляют. Армию до ничтожества низвели. Все, больше у них на поводу не пойдем, хватит. Теперь — до последнего!
— А пистолет?
— Ну, может, и пострелять придется… Да бери, бери, не стрельнет, не бось…
Взяла, посмотрела, повертела в руках — тяжелый такой, страшный…
— А пользоваться им вот как надо…
Объяснил, как обойма достается, как затвор передергивается, для чего предохранитель…
— Если пострелять захочешь, в городе еще не стрнляй — рано. Иди в лес куда–нибудь, по птичкам…
— А если у меня найдут?
— Не найдут.
— Почему?
— А кто искать будет? Кто догадается? Так я ведь тебе его и не насовсем отдаю, так, пока не вернусь… Если вернусь, конечно, бери, бери… Ауфидерзейн!
Уехал танкист священный долг исполнять, отстаивать рубежи Отечества, и у Лучшей Подруги сразу же времени больше стало — теперь и звонить ей не надо, сама приходит…
Пришла, посидела, чаю попила, о здоровье болящей справилась.
Разговор — вялый, тяжелый, хочется о нем поговорить, а боязно.
— Ну, как там твой?
— Ой, я так за него боюсь! По телевизору показывают, эти чеченцы такие кровожадные! Что они с пленными нашими, с русскими парнями вытворяют: за ноги вешают, за руки, — Лучшая Подруга понизила голос до шепота, — говорят, что даже половые органы отрезают… Я так за своего боюсь… Ну, а у тебя что?
Вздохнула.
–— По–прежнему…
— Любишь его?
–— Конечно…
И тут Лучшая Подруга нанесла ей удар, последний удар, который и решил все.
Сознательно или неосознанно? У женщин это почти одно и то же — что касается удара близкому человеку:
— Да, чуть не забыла, я ведь тебе газетку принесла… — и полезла в сумочку.
— Что за газетка?
Протянула.
Развернула Она газетку — о Боже! Белоснежная кухня, он сидит, красивый такой, импозантный, а в ногах у него — та самая, черненькая, хрупкая, с короткой стрижкой, без шапки, короче, та, которую она во дворе видела…
И подпись внизу:
на снимке: с женой Альбиной
Боже, Боже, дай силы все это пережить!
Сунула газетку под подушку, дождалась, пока Лучшая Подруга наконец–то свалит, развернула трясущими, лихорадочными руками:
Свадьбу Листьевы справили 31 декабря — решили, пусть уж весь мир с ними порадуется.
Когда в Москве в прошлом году пополз слух, что популярный ведущий «Поля чудес» и «Темы» Влад Листьев женился, мало кто знал, что со своей женой Альбиной он жил уже более трех лет, но все это время скитался по гостиницам. Только недавно «бомж» Листьев справил новоселье; сейчас его супруга, по профессии — реставратор станковой живописи, «заведует» обстановкой квартиры и делает это с таким изысканным вкусом, что ей впору быть по совместительству уже и дизайнером. Хотя, конечно, основная работа её–быть женой Владислава Листьева. Ноша не из легких.
Неужели жизнь прожита зря?
Кто подскажет, кто?
Не телефон ведь: он только слушать умеет, но вот научить, как жить дальше…
Дальше:
— Вы ревнуете его?
— Я думаю, что люди, которые боятся потерять друг друга, в определенной степени ревнивы. Отчасти потому, что и я, и Влад прекрасно знаем, что все при– ходит, но все потом и уходит. Мы стараемся как можно больше времени проводить вместе… Даже в моих командировках он сопровождает меня, как, например, недавно в Петербург. Мне кажется так легче: у меня не болит голова, поспал ли он, прочитал ли на ночь книжку, как он одевается, что ест…
Она читала, перечитывала несколько раз — с каким– то мазохистским удовольствием:
— Для любого человека, имеющего телевизор (а у кого его нынче нет?), Владислав Листьев — символ трех передач: «Взгляда», «Поля Чудес» и «Темы». И естественно, что мне, например, кажется: со своей будущей женой Влад мог познакомиться только во время съемок. Эдакая встреча Принца и Золушки на балу. Насколько это представление далеко от истины?
— Более, чем далеко. Я работала, как и сейчас, реставратором в Музее искусств народов Востока, и в мою мастерскую приходили друзья — пообщаться. Я часто была завалена работой, поэтому, как правило, занималась своим делом, а они общались между собой.
Однажды друзья привели Влада. И — знакомство не состоялось: я поздоровалась, даже не поворачиваясь.
— Какое же впечатление он произвел на вас как мужчина, когда вы все–таки его увидели?
— Никакого. Да и я вряд ли ему понравилась… Да… Вместе с компанией Влад стал часто появляться у меня. И как–то получилось, что он прижился. Прижился и остался..
— То, что Влад большой импровизатор, видно из его передач. А как его выдумка работает в области подарков жене?
— Великолепно! Однажды он подарил мне магазин цветов. Зашел в цветочный и купил все цветы, имевшиеся там. Я сложила их на пол в мастерской и поняла, что присутствую на собственных похоронах — такое количество цветов бывает только после смерти…
Все, это уже слишком.
Собственные похороны?
Нет, дорогая, ты недостойна его… Но ведь и её, такой милой, такой умницы, такой хозяйственной, такой душевной, такой… ну, словом — такой, самой–самой, он никогда не будет.
Факт.
Перспективка, в общем–то нерадостная.
Но будет все по–другому: ты будешь жить, останешься жить, и будешь мучиться всю жизнь…
Потому что — без него.
Улыбнулась, достала из–под подушки пистолет, осмотрела, прицелилась в окно–на ветке птичка какая– то глупая, чирикать, наверное, собралась…
А–а–а…
Пошатываясь, поднялась с дивана, подошла к телефону, набрала номер справочной.
Алло, вокзал? Когда ближайшая электричка до Москвы? Спасибо…
Нет в мире ничего хуже, чем телефон: глупая выдумка, посторонний раздражитель. Звонок, возбуждение и — сразу же торможение. Зачем? Какой смысл?
Безусловный рефлекс, собаки Павлова.
Звонит себе, звонит, восьмой раз уже звонит. Конечно же, Лучшая Подруга диск у себя в кабинете накручивает, только что по телевизору увидела портрет и подпись внизу: Влад Листьев убит.
Поделиться новостью хочет. Впрочем, Она и так уже обо всем знает, для нее это — давно не новость…
И диск этот глупый–преглупый: точно барабан в «Поле чудес», и все время накручиваешь одни и те же сектора: «пять… семь… пять… семь… шесть…»
Она перережет провод, оборвет незримую пуповину, разобьет этот телефон, Она достанет свечу, купленную недавно в церкви, и будет Она плакать, плакать, и молить о прощении, и плакать, и вновь молить о прощении, и целовать портрет, и горючие слезы будут катиться по щекам, но Она не будет их вытирать, потому что нет в мире ничего сладостней покаяния и умиления, и жалости к самой себе…
Она все равно его любила — любила, любит и будет любить — всегда, наверное, также как и себя.
Все равно.
«Полная тишина в студии… Сектор «X 2»! В случае правильного ответа ваши очки удваиваются!..»
Мысли, посещающие человека утром, сразу после пробуждения ото сна, как правило, всегда философски и глубоки. Особенно — мысли пожилого и на редкость трезвого человека, особенно — если такой пожилой и на редкость трезвый человек живет в пятикомнатной двухсотметровой квартире в центре Москвы совершенно один, особенно — если по складу ума и по занимаемой в Государстве должности такой пожилой и на редкость трезвый, живущий совершенно один человек склонен к абстракциям и отвлеченным умозаключениям. Но мысли–то утренние, сколь бы не были они бездонны и отвлеченны, как правило почему–то неминуемо переходят в сферу осязательного, отчего становятся еще более глубокими и, что очень неприятно — печальными.
А особенно — у пожилых людей, страдающих нарушением обмена веществ — сколь бы трезвы и глубокомысленны по своей сути они не были и какую бы должность в Государстве не занимали…
Такая вот парадигма, такое склонение, такое преломление понятия «пожилой и трезвомыслящий», такое вот кольцо Мёбиуса получается.
Вот, теперь надо подняться, умыться и сразу же засесть на унитаз. Первая мысль об ожидаемом осязании: сидение унитаза вновь будет холодно и почему–то скользко, мокро, будто бы кто–то мимо мочился.
Почему оно мокрое и скользкое?
Ведь в квартире больше никто не живет; будто бы призрак, фантом какой–то приходит по ночам и писает мимо, специально писает, чтобы ему. хозяину, наутро было неприятно на унитаз садиться.
Вторая мысль имеет непосредственное отношение к предыдущей, прямо вытекая из нее: и вновь ничего не получится, вновь придется уговаривать, упрашивать свой несговорчивый ворчливый желудок испражниться вновь придется унижаться, клянчить, просить, напрягаться, чтобы прямая кишка выдавила из себя хоть что– нибудь…
Проклятый запор.
Что ни пробовал — ничего не помогает: ни травки целебные, ни валютные патентованные средства, ни эскулапы из правительственного здравуправления, ни мануальные терапевты, ни шарлотанствующие экстрасенсы. Будто бы кто–то заколдовал его кишечник…
Но ведь все эти шлаки должны как–нибудь вы водиться из организма, не могут же они оседать в тканях, в мешках под глазами, в старческой обвисшей коже, в синих веревочных венах, обвивающих шею!
И куда они тогда деваются?
Иной раз по полчаса на унитазе сидишь и — никакого результата…
Нехорошо утром просыпаться с такими мыслями, нехорошо всякий раз, заходя в туалет, отрывать от рулона бумаги ошметку и брезгливо вытирать с матового сидения унитаза неизвестно откуда взявшуюся влагу, нехорошо начинать день с подобных прогнозов, весьма неутешительных (тем более, что еще так много предстоит сделать!), но — как говорится, суровые реалии, проза жизни…
Впрочем — есть чему и порадоваться…
Говорят: старость — самое печальное время жизни. Отложение солей, ревматические боли перед сменой погоды, систематическое выпадение оставшихся зубов и волос, всегда серое, всегда пасмурное небо над головой, мелко моросящий дождь, склеротическое брюзжание на погоду, природу, неприносящего пенсию почтальона и хулиганов–внуков, старческая болтовня у камина…
Пожилой, на редкость трезвый и склонный к философским абстракциям и умозаключениям хозяин этой квартиры мог с уверенностью сказать: старость — прежде всего время сбора плодов и подведения итогов.
Счастливая пора жизни… Очей очарованье.
Суровые реалии, проза жизни?
Скорее — скромное обаяние буржуазии и невыносимая легкость бытия. Приятная, то есть, легкость…
Причин для подобных выводов более чем достаточно: ну, хорошо, пусть он пожилой, но зато — на редкость трезвый человек.
Трезвый и потому практичный.
Философский и глубокий.
И достиг куда большего, чем другие — пусть такие же пожилые, но менее философские и потому неглубокие, поверхностные люди. Он — Функционер, человек, который выполняете Государстве определенную функцию, иначе говоря — функционирует. Да не просто в Государстве, а в Государственной структуре, отвечающей за умонастроения и политические воззрения подданых этого самого Государства; четвертая власть, информационное пространство…
Функционер.
И ничего зазорного в этом определении нет. Тех, кто режиссирует, называют режиссером, тех, кто пишет сценарии, называют сценаристами, тех, кто ведет (телепрограммы например), называют телеведущим. А его задача функционировать таким образом, чтобы и режиссеры, и сценаристы, и телеведущие функционировали в свою очередь на пользу этому самому нефункционирующему Государству…
Но Функционер — имя существительное, а у каждого существительного есть прилагательные и деепричастия: способный, талантливый администратор, авторитетный и на редкость компетентный человек, пользующийся уважением режиссеров, сценаристов, телеведущих, а также общественности, человек, способный пойти на здоровый компромисс, человек, находящий уступки…
Он никогда не отличался склерозом, даже теперь, и потому хорошо помнил студенческую аксиому: первые пять семестров ты работаешь на зачетку, вторые пять $1–$2 на тебя.
Большую часть сознательной жизни он работал «на зачетку» — на репутацию то есть. Не запятнал себя сотрудничеством с КГБ, не гонял инакомыслящих, хотя и стоял очень близко к идеологическому кормилу власти, иногда — хорошо просчитав, что неопасно — даже сдержанно заступался за тех, за кого другие заступаться боялись.
Это снискало ему авторитет и доверие.
Уважение и сдержанную же популярность.
Репутацию либерала и демократа…
Да — хорошее слово «репутация». Качественное определение, которое, как ничто другое помогает в жизни и в работе; в функционировании, то есть.
Он компромисен и уступчив, интеллигентен и доброжелателен — таким его знают все.
Ну, что касается уступок, то именно сегодня ему и предстоит это сделать…
А теперь — надо вытереть сиденье унитаза и попробовать выдавить из себя хоть немного желанной коричневой, отвратительно плотной массы…
Что $1–$2 запоры порой случаются и у людей, склонных к отвлеченным абстракциям и философским умозаключениям.
И, наверное, это как–то взаимосвязано…
Такое вот умозаключение — отнюдь не конкретное.
Уступка, о которой Функционер размышлял, собираясь усесться на унитаз, зрела давно: она не могла не созреть.
Он знал, кто сегодня должен к нему приехать, какой разговор намечается (неприятный разговор, еще хуже трехдневного запора), знал, чего будет требовать посетитель (ожидаемый гость мог только требовать — такие не умеют просить), и знал, что придется уступить…
Впрочем, легче от этого, так же как и от отсутствия стула, не становилось.
Информационное пространство — прежде всего телевидение, — та структура, ведение которой частично находится во власти Функционера. Информационное пространство создается прежде всего языком: наверное, именно отсюда появилось понятие «русскоязычные», хотя, наверное, правильней было бы сказать «останкоязычные» (производное от Останкино); «энтивиязычные», «эртээроязычные».
Что — нация такая есть, новый этнос, новая реальность?
Наверное, есть, да, получается, что так…
Он посмотрел на часы — без пяти десять. Вроде бы, через пять минут должен быть.
Сиденье унитаза за полчаса уже нагрелось — приятно. Интересно, а правда, что у таких, как предполагаемый гость, и унитазы с электроподогревом?
Фу–у–у, наконец–то!
Функционер приподнялся и, придерживая одной рукой приспущенные штаны, заглянул в унитаз: так и есть — какашка.
Наконец–то!
Малюсенькая такая, словно охотничья сосиска, светло–коричневая, плотная… И шкурка помидора торчит — жесткая, сморщенная, обоженная терпким желудочным соком…
Как хорошо, как замечательно, что вылезла из него эта какашка, и сразу — облегчение, и сразу же потеплело на душе, и ни о чем думать не хочется. Теперь надо поднатужиться, посидеть еще немного, поклянчить кишечник — а вдруг еще выдавит из себя? Вдруг еще что– нибудь вылезет?
Звонок дверной:
—Тара–рам, тара–рам, тара–рам, там…
Сороковая симфония Вольфганга Амадея Моцарта. А там, в электронной памяти звонка есть еще и Бетховен, и Брамс, и Чайковский, и даже Гершвин с Армстронгом. Сто сорок четыре мелодии.
Это — кто–то пришел.
Всегда так: как только сел с толком покакать, как только кишечник уговорил, и тот смилостивился, так всегда приходят. И надо судорожно отрывать от пахнущего фиалками рулона туалетной бумаги ошметку, суетливо подтираться и нажимать кнопку бачка, заставляя унитаз издавать гневное завывание, натягивать штаны…
Впрочем, ворчать не стоит: этого визита он давно ждал — с тех пор как узнал о том убийстве…
Гость был молод, самодоволен и нахален: что ж, второе и третье прямо проистекают из первого, как тут же умозаключил Функционер.
Вид — гордый и надменный, эдакий гибрид парижской суперфотомодели и саудовского шейха, персидского принца из сказки…
Туфли от Версачи, костюмчик оттуда же, очки в золотой оправе, свежевыбрит, «Хенесси Парадизом» слегка разит (600 долларов бутылка).
Во дворе, внизу — «Mercedes–600» класса SEL, его машина. Каждый год меняет. И охрана на желтой «волге» — поодаль остановилась, чтобы неприметно. Лучше бы на верблюде приехал, чем на «мерсе» — больше бы подошло… Что ж, ничего не скажешь — новый русский.
Элита.
Гордость нации.
Надо бы вот сперму его законсервировать и в какой–нибудь генофонд, или в беспилотный космический корабль — и в глубины вселенной, может быть, попадется братьям по разуму, селекционируют какой–нибудь производный гомо новорусикус…
В чем он русский — понятно: по–русски–то говорит. Русскоязычный. И — как совершенно точно знает Функционер — Останкино любит.
А вот в чем новый…
Загадка.
Наверное, тут больше всего подошло бы умозаключение, решил Функционер, «новый в отношении к жизни»: а отношение к жизни в наше время определяется прежде всего возможностями эту жизнь изменить. А возможностей для изменения этой жизни у него, наверное, не меньше, чем у дюжины саудовских шейхов и трех персидских принцев с медными позеленевшими лампами, в которых, скорчившись в три погибели, сидят услужливые джины…
Короче, эдакий царь Шахриар из ориентального фольклора. Впрочем, теперь все эти грозные Шахриары и многомудрые цари Соломоны подались в бандиты, но лучше об этом не думать…
Деньги — это власть, а власть — это деньги. Такое вот нехитрое но, тем не менее верное умозаключение.
Впрочем, лучше и об этом, о деньгах и откуда, как они берутся, тем более не думать — даже ему, Функционеру, страшно становится…
Бандит он — вот кто.
Это Функционер его так про себя называет: Бандит. А на самом–то деле, на поверхности, для всех — весьма преуспевающий бизнесмен, помогает выбивать западные инвестиции для реформирования российской экономики, для перевода её на путь рынка. Фонды организовывает, акции продает — и растут в цене, акции–то, и польза–то от них какая нищим россиянам, деньги партнерские, халявные…
Да, ну бандиты теперь пошли — не то, что во времена Функционера: романтика подъездов и танцплощадок, «В парке Чаир распустились мимозы», сделанные из напильников финские ножи, трофейные «вальтеры» и «шмайссеры», «черная кошка»…
Улыбнулся, по–хозяйски заложил ногу за ногу — будто бы это он, Функционер, не у себя дома, а у него в гостях…
И — с улыбочкой превосходства:
Ну, что скажете?
Функционер замялся: он давно, очень давно, с тех самых пор, как узнал, готовился к этому разговору, но почему–то не думал, что разговор начнется с такой простой, с такой банальной, кондовой фразы, о которую, как морской бриз о гранитную набережную, разбиваются все его умозаключения: «что скажете?..»
А что сказать–то?
И так все понятно…
Слухи о том, что на новосозданном ОРТ не будет рекламы, ползли давно, и только в феврале совет директоров нового «Останкино» сделал первое программное заявление, и оно оказалось сенсационным: «идя навстречу пожеланиям трудящихся», компания решила отказаться от демонстрации рекламных роликов.
Ну, «пожелания трудящихся» — это его, Функционера, идея, тут он ошибся, очень ошибся с формулировкой: прямо надо сказать.
Это раньше, лет десять назад можно было сколько угодно оперировать такими вот пожеланиями: «идя навстречу пожеланиям трудящихся, партия и правительство с… на…% процентов повысило цены на бензин, на …% — цены на ковровые изделия, на…% — цены на ликеро–водочные и пиво, на …% — тарифы воздушных перевозок, на …% — на табачные изделия, на …% — на ювелирные изделия из драгметаллов, но зато на …% снижены цены на нейлоновые рубашки».
Функционер, который в свое время достаточно долго стоял близко к идеологическому рулю, именно так и формулировал мудрую экономическую политику, партии и правительства; так сказать «базис и надстройка».
Трудящиеся, те, которые трудятся: очень удобная абстракция.
Ну и пусть себе трудятся.
На самом деле с рекламой все было куда проще, и он, Функционер то есть, понимал это лучше, чем кто– нибудь другой: Останкино всю жизнь числилось в «планово–убыточных»; Самый Главный Функционер, выступая перед публикой в Думе, периодически клянчил бюджетные деньги: вон, в последний раз заявил, что на этот год весь комплекс вещания требует 2,3 триллиона рублей, а дают ему только 320 миллиардов; клянчил, наверное, с не меньшим упорством, чем он, просто Функционер, клянчит по утрам свой несговорчивый кишечник. Даже тонкой подкладки между карманом с бюджетными деньгами (полученными, между прочим, от рядовых налогоплательщиков — в том числе и ценой хронических невыплат зарплат тем же шахтерам) и карманом, так сказать, негосударственного, при прежних порядках не существовало, истерлась она, дыры появились, фиктивной, короче, была эта подкладка, одна видимость, деньги запросто отмывались через продажу Останкино программ новосозданных негосударственных телекомпаний и соответственно, рекламу.
Отсюда — и плановая убыточность; убывают деньги через истершуюся подкладку.
Это понимали многие, но больше других — известный Промышленник, который и решился на акционирование Останкино. Акционирование началось — именно так, как хотел того Промышленник и Самый Главный Функционер (равно и те, кто над ними и за ними стоит). Разумеется, при этом преследовались две цели: во–первых, стратегически–финансовая, получить быструю сверхприбыль (предварительно разорив рекламные агентства–посредники и став монополистом: вот почему первое время ОРТ отказывался от рекламы, убытки, впрочем, взялись покрыть столичные банки, кровно заинтересованные в создании нового ОРТ); Промышленник–то решил вложить огромные даже по московским понятиям деньги не из чувства голого альтруизма, а только для того, чтобы их преумножить; а во–вторых, стратегическо–глобальная: в преддверии предвыборной компании 1996 года иметь целиком подконтрольный властям инструмент воздействия на умы и сердца элекго– рата, тем более, что люди, которые стоят за и над Промышленником и Самым Главным Функционером, смотрят на телевидение не как на способ эффективной пропаганды стирального порошка, шампуня или корма для собак, какие бы сверхприбыли это не сулило, а как на способ рекламы будущего (в смысле — теперешнего) Президента…
«…наши братья–избиратели не представляют себе жизни без телевизора, но вот беда — от мелькания многочисленных претендентов их мозги быстро пачкаются. Не сумел отбить очередные предвыборные обещания — Ци пожалуйста, выбор России… Как же их отмыть — без предварительного замачивания?..» — «…очень просто, вот вам новое ОРТ… благодаря специальным добавкам частного и государственного капитала полностью удаляет даже невидимое загрязнение…» — «…как чисто!., теперь у всех братьев мозги будут одинаково стерильны… а за–апах!.. теперь всегда будем пользоваться новым ОРТ…» — «…вы променяли бы один ОРТ на два обычных телеканала?..» — «…ну что вы!..»
И такой вот вам выбор России.
Ясно, кого должны будут выбрать дорогие братья– избиратели со стерильными, хорошо промытыми ОРТ мозгами.
Но Бандит смотрел на телевидение совершенно иначе, по–бандитски: тоже, конечно, как на способ рекламы, но не стиральных порошков и не будущего (теперешнего) Президента…
Останкино часто напоминало Функционеру «Титаник», следующий между айсбергами и торосами. Сам–то он не был капитаном — на мостике, конечно же, стоял Самый Главный Функционер, судовую компанию представлял совет директоров (Промышленник плюс остальные); он был, так сказать одним из старпомов. Тоже немаленькая $1–$2 размеры и масштабность «Титаника».
Стоишь на палубе, наводишь цейсовский бинокль на горизонт, регулируешь резкость, а потом переводишь на другие палубы, потом — опять на горизонт.
Ага: с одной стороны айсберг — Промышленник и те, кто за ним стоит, с другой $1–$2, вот этот сидящий напротив наглый и самоуверенный Джаффар, Бандит из «Тысячи и одной ночи» (а как Бандит — бандит примерно того же уровня, как Промышленник — промышленник, и неизвестно еще, у кого денег и соответственно власти больше). А есть ведь еще один страшный и практически непотопляемый айсберг, правда — далековато, в краях, где начинает свое течение теплый Гольфстрим, но все–таки… Ледяные глыбы могут плыть куда быстрей, чем кажется, ситуация на горизонте меняется с каждой минутой, ни в один бинокль не усмотришь…
Да, Останкино — государство в государстве, наверное, еще похлеще громада, чем многопалубный «Титаник»: строгая иерархическая лестница; на каждой палубе, в каждой каюте ненавидят тех, кто сверху, снизу, справа и слева, тихая конкурентная борьба между старпомами, штурманами, рулевыми за выбор курса…
А сколько еще подводных льдин — кто знает, а вражеских субмарин, а всего остального?..
Гость посмотрел на хозяина так, как, наверное, смотрел бы восточный властелин на слугу, преподнесшего ему в куске халвы кусок кизяка.
— Ну, что скажете?
Функционер улыбнулся, и тут же поймал себя на мысли, что улыбка помимо воли получилась у него какой–то жалкой, чтобы не сказать — подобострастной.
Конечно — ведь и он, и много кто на Останкино повязаны этим самым гибридом фотомодели и шейха, «вусмерть» повязаны…
И не только деньгами — если бы!
— О чем?
— О том, о чем мы с вами уже говорили…
—Тогда, по телефону?
— Совершенно верно, — Бандит, достав сигареты, с удовольствием закурил, даже не сочтя нужным спросить разрешения хозяина.
— Ну, простите, это было так давно…
— Не так и давно, могу напомнить: второго марта…
— Как вы были испуганы, — с видимым, даже подчеркнутым удовольствием произнес Бандит.
— Тогда все были испуганы, — пробормотал Функционер, оправдываясь. — Не только на Останкино… В Кремле — тоже.
— Но ведь вы знали уже за две недели, что это могло произойти…
— Одно дело — представлять смерть человека умозрительно, а другое… — Функционер запнулся, и почему–то перед глазами с отчетливостью возникла давешняя какашка в унитазе, — другое дело… Ну, гроб, отпевание в Воскресении Славущем — он ведь был прихожанином этой церкви, Ваганьково…
— Ладно, — Бандит поморщился, — не утопайте в подробностях. Меня интересует другое…
— Рекламное время?
— Да.
— Я ведь за него заплатил… И вперед заплатил, и не только вам… И не только деньгами.
— Понимаю.
— Я связывал с этим временем большие надежды, — многозначительно произнес Бандит, — мой проект… Вы сами знаете, какой.
Да, Функционер знал, прекрасно знал, какие именно надежды связывал его собеседник с этим временем, и какой проект имелся в виду…
С недавних пор в метро, на стенах домов, в подземных переходах и на фонарных столбах столицы появилась «липучки» — реклама фонда, «акционерного общества открытого типа»; ну, подобными рекламами рядовых москвичей, а тем более — работающего на Останкино Функционера никак не удивить.
Петя Воронков, какой ты умный, что акции купил — эт–то что–то!..
Функционер прекрасно знал, что фонд, торгующий акциями и являлся тем самым проектом, о котором говорил Бандит: его, так сказать, детищем. В самом центре Москвы Бандит со скоростью волшебного джина из «Тысячи и одной ночи», едва ли не за одну ночь организовал шикарный офис: мягкая мебель, дюжина компьютеров, две дюжины факсов, три дюжины улыбчивых длинноногих секретарш, разносящих чай… Хор– роший, индийский! На порядок выше конкурентов, значит. Офис (по–бандитски — «крыша», то есть легальное прикрытие, защита), плюс меняльные конторы в кинотеатрах. Короче говоря Р–хороший чай, хорошие акции, прекрасная такая компания.
Вот ради этих самых акций все и организовывалось, а $1–$2 того, что они могут дать.
Ради денег.
Акции покупались с воодушевлением, каждая росла в среднем на 6 — 7 % — тоже, значит, больше чем у ненавистных конкурентов.
Но размаха еще не было — «липучки» не могут дать того размаха, который дает только телевидение.
Дальнейший механизм действий Джаффара, Бандита то есть, был не прост, а очень прост: сперва — игра на повышение, вздутие собственных акций. Продал за один, завтра же купил за два. Ясно, что глупые пингвины–вкладчики тут же бросились доставать баксы жирные с утесов, из чулков, со счетов и так далее, а также продавать квартиры, машины, дачи и все, что только можно продать, одалживать у родственников и знакомых, хоть на неделю, хоть на один день, чтобы скупить бумажек побольше, которые сегодня можно купить за один, а продать за два… А значит, послезавтра они будут стоить три, а через неделю…
А через месяц — представляете себе, сколько они будут стоить?!
А через месяц, через два, но только не через тысячу и одну ночь, когда сборы за акции и билеты принесли бы максимальный доход, составив сумму, перед которой бы меркли богатства царей Соломона и Шахриара одновременно, деньги были бы оперативно отмыты в твердую валюту и переведены в какую–нибудь хорошую офшорную зону; «крыша» — офис в центре Москвы — вместе с прекрасными девушками, разносящими чай, с компьютерами, факсами и мягкой мебелью растворилась бы в сыром московском воздухе столь же быстро, как и дворец из восточного фольклора, вновь одураченные акционеры штурмовали бы пункты и саму «крышу» с яростью советского спецназа, идущего на приступ дворца Амина, но, в отличие от последнего — безрезультатно.
Это вовсе не означало бы, что Бандит, упаковав наличные деньги в чемоданы и баулы, спасался бы бегством от разгневанных вкладчиков; фонд наверняка был записан на подставное лицо; Бандит к тому времени был бы занят организацией другого фонда… Согласно умозаключениям Функционера «собственные ошибки учат людей еще меньше, чем чужие»…
Но для того, чтобы все это развернуть, нужна была реклама — та самая реклама, о которой и говорил Бандит, то самое рекламное время, которое было им закуплено на корню, и не только время…
Вот уж где наглядная иллюстрация умозаключению «время — деньги», «time is money». Конечно, если время — рекламное…
Практика показывала, что самые крутые сборы делаются в первые два–три месяца, деньги, вложенные в проект, удваиваются, как очки на барабане «Поля чудес» в случае попадания в сектор «х 2». И также: нахаляву.
Любой бандит или бизнесмен, желающий раскрутить рекламу по Останкино, налаживает стабильно партнерские отношения с рекламным агентством–посредником, которое «держит» студии и, в свою очередь, ангажирует место в программе (лучше всего вечерней); сферы влияния при этом четко поделены и пересмотру не подлежат: одни независимые компании ставят рекламу только в мексиканских телесериалах, другие — в спортивных программах, третьи — в собственных шоу…
Но на все нужна техника, нужны люди, которые умеют эту технику обслуживать. Бандит, справедливо рассудив, что фонд–то он организовывает не последний (то, что не первый — Функционер знал наверняка), чтобы не быть ни от кого зависимым, купил новейшую компьютерную студию вместе компьютерщиками–графиками (к финансовому контролю, о котором говорил гость, добавлялся контроль технический — вот еще почему он, Функционер, да и много кто еще были должны!), и студия готовила серию рекламных роликов.
И тут — известие о прекращении трансляции рекламы.
Это целиком и полностью разрушало уже запущенный проект.
Да и многое что другое.
Офис из ориентальной сказки существовал уже реально, акции прекрасно продавались по вздутым ценам (потому и прекрасно продавались–то), народ, слюнявя пальцы и кнопки карманных калькуляторов, подсчитывал будущие дивиденды… Но размаха не было, не было того самого ожидаемого размаха; проект, если и окупался, то не в секторе «х 2». Чтобы создать размах, надо было запустить по Останкино несколько роликов (уже давно готовых): только телевидение способно создать массовый психоз!
И тут, как назло совет директоров заявляет, что отказывается от рекламы, и как раз на то самое время, с начала апреля, когда, по подсчетам финансистов и социологов, купленных Бандитом, народ и должен был валом повалить в приемные пункты…
В середине февраля Бандит вышел на Функционера и недвусмысленно дал понять, что отмену рекламы надо планировать на какой угодно срок, только не на апрель. Мол, мы шутить не любим. Функционер, в свою очередь, испугался, и побежал к Листьеву, объяснять, чью и какую игру он срывает, но всеми любимый Влад только плечами передернул — мол, я ведь с рекламой ничего не решаю, хотя и говорил там что–то о её вреде, финансовую политику диктует Промышленник и иже с ними, а я занимаюсь, мол, исключительно творческой работой, так что не обессудьте…
Вот, знаете ли, мне надо очередной «Час пик» готовить. Может быть, приглашу я этого Бандита на свою передачу — поговорим о реформировании экономики, о переходе на рыночный путь но — после апреля. График у меня жесткий, извините уж…
Бандит недвусмысленно дал понять, чем это может кончиться: классической русской разборкой со стрельбой и, как следствие — с легальным исходом.
Конечно, можно было бы застрелить в подъезде и Промышленника (он, правда, большей частью в Вене живет, но все равно), и Самого Главного Функционера — эти смерти были бы куда логичней, но выбор пал на Листьева, как «стоявшего во главе команды, делающей новое телевидение».
Можно было собрать десяток или два десятка банков, договориться со всеми, учесть интересы кого угодно, в том числе и банка Бандита (ах, почему сразу так нельзя было поступить Промышленнику, почему он не учел интересы всех?), и сделать какое–нибудь другое ОРТ, хоть «президентское», хоть «премьерское»… Но банки никогда не дадут денег под абстрактный проект, они могут дать только под конкретных людей и конкретную команду. А пирамиду команды венчал Листьев, на него и поставили, как на самого известного.
И как самого известного, как верхушку этой самой пирамиды его и убили; наверное, для устрашения, «чтобы другим не повадно было».
Функционер это сразу же понял.
Понял и испугался: в этой стране можно и нужно бояться всего, особенно, если занимаешься будущим телевидения и знаешь, кто это будущее диктует.
Будущее телевидения диктует…
Нет, не Япония, а Люберцы, Кунцево, Самара и особенно Солнцево. По крайней мере — российского общественного телевидения…
Бандит выжидательно смотрел на хозяина — ну, мол, что скажешь еще в свое оправдание?
— Я ведь говорил с Листьевым… Ну, тогда, после вашего звонка.
Ощерился:
— Я знаю.
— А он сказал — я ничего не решаю, мол, это уже Промышленник решил…
— Ага.
Бандит, улыбаясь, смотрел на собеседника — с таким выражением лица можно смотреть только через оптический прицел.
— Ага, ага, это я уже слышал…
Так, теперь главное — показать, что его не боишься. Надо сконцентрировать всю силу воли и взглянуть ему в глаза. Функционер–это не хрен в стакане, он функционирует, стало быть…
— Вы ведь сами знаете, какие люди стоят за Промышленником…
Мол — что я могу сделать? Я сделал что мог, пусть сделают лучше другие.
— Меня это не клонит, — перебил его Бандит, — равно, как и не клонит вся эта приватизация приватизированного… Большая и лучшая часть техники вашего Останкино принадлежит мне и другим, и вы, — он сделал такое выражение, будто бы собирался плюнуть Функционеру в лицо, — вы это хорошо знаете… И ваш Промышленник, думаю, тоже. Хрены с бугра, красные директора эти хорошо задумали, ничего не скажешь — приватизацию приватизированного. Как в 1917–ом году — «грабь награбленное» — да? И это — переход к рыночной экономике?! — спросил он, скривившись.
— Но я… — вновь начал было Функционер, взглянув, наконец, на собеседника — не в глаза, а в переносицу, чтобы создать иллюзию честного и открытого взгляда, — я ведь говорил…
— Я это уже слышал. Что с рекламой? Теперь что, я спрашиваю.
— Пока — ничего.
— От вас это зависит?
— Нет. Тут все решают Промышленник, Самый Главный Функционер и немного — одна тетя, которую теперь вместо Листьева ставят… Они там с сыном работают, семейный, так сказать, подряд…
— С сыном, без сына — мне от этого не легче. Машина, проект то–есть, запущен, машина поехала, и остановить её нет никакой возможности.
— Ну, а если на радио… — осторожно предположил Функционер, — я бы помог…
— На хрена мне твое радио? — Бандит автоматически перешел на «ты», — что оно дает? Эффекта почти что никакого… Не больше, чем от всех этих «липучек» в метро… Мои социологи просчитали — вон, целый институт купил.
— Но ведь и на Останкино машина уже запущена… Тем более, вы ведь сами знаете, какой там теперь страшный скандал вокруг всей этой приватизации… Листьева клянут, Самого Главного клянут, Промышленника — так того вообще матом кроют… Я ничего не могу сделать. Тут, — Функционер понизил голос до доверительного шепота, — тут ведь не только деньги… Тут есть еще и «высокая политика». ОРТ был задуман также с целью улучшения имижда Президента. Иногда ведь его так и называют — «Президентский канал». Это, по слухам, Телохранитель его задумал… Было бы логичней с ним поговорить.
— Поговорю, когда сочту нужным, — процедил Бандит. — Так, с рекламой все ясно. Значит, в апреле её не будет…
Что поделаешь, решил Функционер, иногда и бандиты приходят к мудрому умозаключению, что если ничего нельзя изменить, надо смириться….
— Не будет, — ответил хозяин квартиры и честно взглянул гостю в переносицу.
— Но ведь появится когда–нибудь?
— Да. Ни одно телевидение в мире, тем более, если в это телевидение вкладываются частные деньги, тем более — такие огромные, не может существовать без коммерческой рекламы, — теперь Функционер смотрел уже не в переносицу, в глаза собеседника, потому что говорил святую, каждому известную правду. — Отмена рекламы — не более чем ловкий стратегический ход… Дело в том, что Промышленник, монополизировав…
— Знаю, знаю, — поморщился Бандит, — только я бы сказал, что это ход тактический, а не стратегический… Но все равно… — он небрежным жестом сбил пепел на ковер, поднялся, открыл окно, выбросил окурок. — А когда запустят очередную рекламу?
— Думаю, не раньше осени…
— Почему?
— Пока всех посредников не передушат.
— И все будет в руках…
— Да, да, именно так.
Бандит задумался.
— Да, невесело все это…
Функционер лишь плечами пожал — ну, что поделаешь, невесело — а я тут при чем?
— А с Промышленником можно войти в долю?
Если бы Бандит предложил ему, Функционеру то есть, все нефтяные скважижны Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, да еще и «Газпром» с Премьером в придачу — он бы, наверное, удивился бы меньше.
Он знал, что Бандит приедет требовать (просить он не умеет), предполагал, чего именно, и был готов пойти на уступку, немного помявшись, рассказав о трудностях, возникших после смерти Листьева — чтобы набить себе цену.
Но такое?
Войти в долю с Промышленником?
Ему, Бандиту?
Что он несет…
— Вы могли бы устроить мне встречу? — вновь перейдя на вы (надо же хоть иногда казаться культурным человеком, а не бывшим рэкетиром Центрального рынка, с чего, кстати, начинал!), спросил Бандит.
— Вам?
— Да, мне… А чего удивляетесь? Думаете, кандидатура не подойдет? Да и так, много ему чести. Если вдуматься, то я с этим чудаком на букву «м» в одном поле сратъ бы не сел…
Функционер очень удачно сделал вид, что не расслышал последнего предложения.
— Но ведь паи, доли и все остальное уже расписано,
Функционер принялся нервно загибать пальцы, перечисляя: — «Газпром», «Национальный кредит», «Микродин», «Менатеп», «Столичный», «Альфа–банк»… Ну, и так далее. А еще и Попечительский совет: Президент, Спикер…
— Это не более, чем опереточные фигуры, — совершенно справедливо заметил Бандит, — свадебные генералы, вроде того. — Он вновь закурил. — И все–таки поговорите с Промышленником… Если он действительно собрался быстро обернуть свои деньги, то вряд ли захочет неприятностей на свою жопу… А я их ему могу доставить — ох как могу. Или ему одного Листьева мало?
Да, теперь вот и надо было сделать над собой усилие и заставить себя пойти на уступку.
На такую уступку.
Компромисс — двигатель прогресса, также, как и реклама: хорошее умозаключение, хотя и слишком абстрактное!
Наверное, Бандит по каким–то непонятным причинам не мог выйти на Промышленника непосредственно, а он, Функционер, человек, целиком и полностью повязанный Бандитом, этим баснословным восточным шейхом, мог выступить в качестве посредника.
Стать посредником между Бандитом и Промышленником означало для Функционера примерно то же, что для капитана судна, даже несоизмеримо меньшего, чем «Титаник» провести его между двумя ледяными громадами. Одно неосторожное движение означает пробоину ниже ватерлинии и — прощай, Родина–мать…
А с другой стороны не стать посредником означало, что Бандит неминуемо отправил бы его, Функционера то есть, на встречу с покойным Владиславом Николаевичем — в чем–чем, а в этом пусть и склонный к абстракциям пожилой человек не сомневется ни на йоту.
— Ну, так как?
— В Вене он теперь, — попытался было соврать Функционер, но, встретившись с ясным и чистым взглядом голубых глаз бывшего короля рынка, тут же понял, что сделал это напрасно.
— В жопе он, а не в Вене, — ухмыльнулся Бандит. — Какая в задницу Вена, если теперь на Останкино против него бунт начался? Да и комитет один в Думе на ушах стоит. Он ведь, Промышленник–то, на днях по телеку выступал…
Похвальная осведомленность, и выражение хорошее: «по телеку».
Интересно, а «телек» он сам смотрит или тоже кого– то нанял?
— Ну, так как?
Функционер вяло пожал плечами.
— Собирался, во всяком случае…
— Он теперь в Москве, я знаю точно, — уверено прервал оправдания страшный гость, после чего Функционер понял: спорить бесполезно.
— Ну, хорошо… Попробую. И что я должен буду ему сказать?
— Что я хочу с ним встретиться… Фамилия–то на слуху, он знает, кто я такой, — процедил Бандит, — а если выразиться более конкретно — прозондировать почву: на что был бы согласен, на что — нет…
— А если откажется? — с надеждой в голосе предположил Функционер, который прекрасно понял, что теперь решается — а может быть и вообще без компромиссов и уступок можно обойтись?
— Ха! Хотел бы я посмотреть на человека, который бы отказался встретиться со мной…
— И все–таки… Ну, хорошо, допустим, я скажу ему, что вы хотите побеседовать, прозондировать, так сказать, почву, допустим, он согласится…
— Допускаю, — Бандит развалился в кресле, — допускаю, что именно все так и будет…
— Но он спросит, он ведь обязательно спросит — «а зачем, мол?» Что мне ему ответить?
— Ответьте, — к собеседнику вновь вернулась его надменность и холодная гордость восточного принца, скрещенного с парижской фотомоделью, — ответьте, что негоже присваивать вещи, которые тебе не принадлежат.
— Это насчет студий?
— Не только студий, не только техники и людей. Я думаю, что он знает, насчет чего еще, — произнес Бандит, поднимаясь и подходя к окну, за которым в выжидательных, собачьих стойках стояли телохранители.
— Хорошо…
— В таком случае, позвоните мне… Когда вы можете с ним встретиться?
— Надо дня три, — пробормотал Функционер, — ведь у Промышленника, как я знаю, график расписан до последней минуты… Там только через личного секретаря, через секретаршу…
— Хорошо, три дня… Да, и самое главное: хрен с ним, насчет апреля мы как–нибудь выкрутимся… Есть еще один вариант раскрутить рекламу, мне тут посоветовали: организовать какой–нибудь благотворительный фонд с красивым таким названием… Ну, скажем, для калек или сирот из Чечни, купить им какую–нибудь халупу на окраине Москвы, протезы и костыли, пару телеков, десяток нянь с воспитателями и красивые ночные горшки. А потом договориться с информационными программами и газетами, чтобы показали и написали, какой наш фонд хороший, как мы детей любим. Разовая акция, много прибыли не принесет, вкладчик особо не повалит, только известность и репутация добрых бескорыстных дядей–бизнесменов… — парижско–ориентальный гибрид вздохунул. — Машина уже запущена, и не остановить её, машину, никак… Конечно, останавливать выплату дивидендов нету смысла, тогда вся пирамида коту под хвост… Можно только немного приостановить рост акций, — задумчиво закончил Бандит.
Он знал, что собеседник в курсе относительно проекта, знал, что и сам Функционер может на многое рассчитывать в случае успешной реализации задуманного (в прошлые разы на счета Функционера через третьих лиц были переведены хорошие деньги), и потому не считал нужным стесняться, как не стесняются друг друга однополо–моющиеся особи в общем отделении бани.
— Да, кстати, в случае, если мне удастся договориться, с вашей, в смысле, помощью, вы сможете рассчитывать на нормальные комиссионные, — наконец–то улыбнулся Бандит. — Я никогда не обижаю людей, которые мне помогают… Вы любите наличные деньги?
Выйти напрямую на Промышленника не представлялось возможным: личный секретарь по телефону вежливо, но настойчиво отсеивал и не таких функционеров, как он, и это было ясно.
Ясно было еще одно: наверняка или Бандит, или кто– нибудь из его людей обработали еще какого–нибудь Функционера, и требование было тем же: заставить Промышленника немного поделиться паями будущего ОРТ; проект–то зависал… Так что теперь по Москве, наверное, не один он ломает голову, как договориться с новым хозяином.
А действительно — как?
Однако можно было поговорить с людьми из окружения: так сказать, люди свиты иногда решают больше, чем сам король.
После непродолжительного анализа свиты выбор Функционера пал на Экономиста, как человека, приближенного к Промышленнику лично; кроме того, этого самого Экономиста, Функционер неплохо знал — еще с тех времен, когда оба они входили в Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза и были в курсе валютных счетов партии за границей, и не только счетов, и не только партии, и не только…
Впрочем, об этом тоже лучше не говорить.
Выслушав Функционера, Экономист задумчиво забарабанил пальцами по лакированной поверхности стола.
— Вот как, — произнес он, — мда–а–а, попали, нечего сказать… Мало того хера из Лондона, так еще и этот. А Бандит этот–точно бандит?
— Определенно точно.
— Так может быть его можно… Ну, подальше послать? Телохранителя подключить, и все такое… Он–то лицо заинтересованное, и прямо, и косвенно. Не будет же он на нас наезжать — а? — предположил Экономист, на что собеседник ответствовал собственным мудрым заключением:
— Бизнесменов, бандитов и коммунистов роднит общее: они считают, что их оппоненты не могут быть одновременно и честными, и умными…
—А к чему это?
— «Мерседес» твоему боссу больше никто взрывать не будет — факт. Есть и другие способы… И ты знаешь какие, говорить только не хочется.
Экономист криво усмехнулся.
— М–да. Правильно пишут–криминальные структуры прибирают к рукам все ценности России, продают оптом и в розницу…
— Ему–то будешь говорить? — поинтересовался Функционер, подразумевая под «ним», конечно же, самого Промышленника.
— Понятия не имею. А что — вся эта техника, все эти студии — точно его?
— Да.
— «Купил?
— Вместе с компьютерщиками, студийцами, техниками, инженерами, мультипликаторами и так далее, — вздохнул Функционер.
— А это где–нибудь записано?
— Все Останкино знает.
— Все Останкино знало, что из себя Листьев представлял — и что с того? На чьем балансе записано?
С Экономистом Функционер говорил довольно раскованно — на «ты»; ну, станешь ли говорить «вы» человеку, с которым в свое время…
Ну, лучше об этом не вспоминать, не вспоминать, тем более — теперь. Не к месту, да и не ко времени совсем.
—Так на чьем балансе?
Функционер состроил печальное лицо.
— О каком балансе ты говоришь? Ну ясно, что на государственном… Ведь и техники, и компьютерщики, и все остальные тоже получают зарплату в бухгалтерии… Кроме того, разумеется, что платит им Бандит. Куплены на корню — я же объяснил. Конечно, он расстроен, такое дело сорвалось, — печально добавил он.
— Значит, ты хочешь чтобы я объяснил это Промышленнику?
— Вот–вот.
— Постараюсь. Только боюсь, что он может не понять, чего от него хотят.
— Ну как это чего, — медленно начал Функционер, прикидывая, сколько денег сможет дать ему Бандит если он все уладит, — все очень просто, просто, как грабли: Бандит хочет войти в пай с Промышленником… Понятно, что ОРТ будет Президентским каналом, понятно, что Промышленник через несколько месяцев каждую передачу три раза подряд будет прерывать рекламой о «варрантах, дающих право…», понятно, что реклама сразу же поднимется в цене — как и весь монопольный товар. Куда еще сунуться — самый массовый канал… Но пай…
— А какой пай ему нужен — сколько именно? — уточнил Экономист.
— Я не знаю… Он сказал, чтобы я только устроил встречу — и все. Прозондировал обстановку. Ну, приблизительно — процентов пять, как я предполагаю.
— В подобных вещах желательно быть точным, бизнес — наука, не терпящая приблизительности, — заметил собеседник, на что Функционер тут же философски ответил:
— Любая точная наука базируется только на приблизительности. Ну, я думаю…
— Что?
— Ты любишь наличные деньги?
Экономист мягко улыбнулся:
— А кто их не любит–то? Конечно… А к чему это ты?
— Ты ведь ничем не рискуешь… Один человек хочет познакомиться с другим, и находит третьего, который знает и первого, и второго, и потому имеет моральное право представлять их друг другу. Так сказать — комиссионно–посредническая деятельность.
— Сваха?
— В некотором роде… А потом — ты ведь понимаешь, что…
Функционер резко запнулся и выжидательно посмотрел на Экономиста — ну, что скажешь?
Тот молчал. Молчал долго, наверное, минуты две, пока не проговорил медленно:
— Хорошо, постараюсь… Позвони мне завтра под вечер — ладно? Или нет — лучше я тебе сам позвоню…
Поднявшись из–за стола, Функционер вышел из кабинета. По дороге он зашел в роскошный, отделанный карельской березой туалет, уселся на унитаз и с удовлетворением отметил, что впервые за последние несколько месяцев сиденье унитаза было не только сухим, но и теплым; наверное, кто–то специально грел его своей попой — для того, чтобы ему, Функционеру то есть, сделать приятное…
Кряхтя на унитазе, Функционер размышлял — на этот раз весьма конкретно.
Ну, хорошо, в любом случае существует только два варианта: или Промышленник соглашается поделиться с Бандитом (что, впрочем, маловероятно), или не соглашается (что, разумеется, вероятней всего).
Вопрос: что будет иметь с этого он, Функционер то есть?
Если соглашается, то Бандит наверняка, как и в предыдущие разы даст деньги… «Вы любите наличные деньги?..» «А кто их не любит!..»
Долг–то он не скосит — зачем? Лучше всего держать таких вот Функционеров, как он, в долговой яме, иногда кидая в эту яму кости, чтобы пленник не умер с голоду.
Знает ли Промышленник, что Бандит — это бандит? Наверняка знает, а, если не знает еще, если не сообщили, то догадывается. Хотя внешне — честнейший человек, вон, в экономических газетах его имя употребляется исключительно с прилагательными «порядочнейший» и «достойнейший», и всегда — исключительно в превосходных степенях. Итак: в первом случае он, Функционер то есть, будет иметь с этого дивиденды, и посерьезней тех, которые обещает Бандит своим вкладчикам.
Это — если Промышленник согласится.
Хорошо, более реальный исход: Промышленник пошлет Бандита куда подальше, как послал в свое время Банкира.
Что тогда?
Тогда ему, Функционеру то есть, придется юлить на заднице, как он по утрам юлит на мокром сиденьи своего унитаза и виновато–виновато разводить руками–мол, а что я мог сделать? Я сделал, что мог, пусть сделают лучше другие… Денег в таком случае он, разумеется, не получит — факт. Не будет же ему Бандит просто так платить? А кроме того — такая долговая яма; самая глубокая, в нее можно падать всю жизнь, и чем дольше падаешь, тем глубже — естественно, такая скорость… Интересно тогда, почему же Бандит завел разговор о «наличных деньгах»?
О–о–о…
Наверное, все–таки ничего не получится. Проклятый запор — не выдавит из себя страдальческая прямая кишка желанную какашку, не выдавит… Надо домой собираться.
Звонок не заставил себя ждать — но это звонил не Экономист, как предполагалось…
— Алло? — послышался из трубки совершенно незнакомый голос.
— Кто это?
— Это от одного вашего знакомого, — уклончиво произнес неизвестный абонент, — по поводу интересующего вас дела…
— Простите, но я…
Функционер со всей осторожностью отвел трубку от уха, опасливо посмотрел на нее, будто бы оттуда могла вылететь киллерская пуля. От таких непонятных звонков всего можно ожидать, — умозаключил Функционер.
— Алло, — вновь послышалось из трубки очень вкрадчивое, — почему молчите?
— Кто вы? — прямо спросил Функционер, стараясь подавить в себе все нараставшую тревогу.
— Один ваш хороший знакомый пожелал лично встретиться с человеком, который… Ну, это не по телефону. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Да, — ответил хозяин враз повеселевшим голосом. — Очень хорошо, буду ждать…
Положил трубку, пожал плечами — с чего это вдруг?
Кто это мог звонить — неужели человек Бандита?
Почему же он тогда сам не позвонил?
Может быть, кто–нибудь от Экономиста?
Но тот обещал позвонить лично…
Странно, очень странно.
Послонявшись по бескрайней квартире, в которой непривычному человеку–то можно было бы и заблудиться, Функционер прошел в зал, включил один из многочисленных японских телевизоров, поставил видеокассету, скуки ради захваченную в Останкино.
Видеозапись концерта, посвященного «девяти дням» по Листьеву.
Функционер попытался было думать о конкретных вещах—о сегодняшних разговорах с Бандитом и Экономистом, о своих размышлениях и подсчетах,'о недавнем звонке, о том, что за человек, чей человек ему звонит, но мысли, как и утром, были бездонными и отвлеченными…
Посмотрел на телевизор, зевнул.
Любимец московской публики Буйнов с улыбочкой на весь экран:
Эта суетность никак не вязалась с размышлениями Функционера и с его мыслями, а последняя мысль была удачной: о вечности, о бренности, о смерти (иногда подобные размышления посещают даже трезвых и на удивление глубокомыслящих людей, посвящающих старость лет сбору плодов и подведению итогов).
Смерть — это единственное, что еще не удалось опошлить людям, — прошептал Функционер и выключил телевизор.
—Тара–рам, тара–рам, тара–рам, там…
Это — сороковая симфония Вольфганга Амадея Моцарта в дверь. Наверняка тот человек, что только что звонил.
Ну–ка — кто это, кто…
Посетитель имел вид явно кагэбистский, то есть — ничем особо не выделяющийся, «без особых примет»: лицо — овальное, нос прямой, волосы русые, глаза серые… Ну и так далее; невзрачный такой вид.
Наверное, телохранитель этого самого Джаффара, решил Функционер. Это теперь мода у них такая, у криминальных и некриминальных царей — приглашать на службы бывших гэбистов. Вон, Банкир, хитрый царь Соломон, который теперь в Лондоне сидит, по слухам, накупил дюжину бывших старших офицеров и несколько генералов из страшного 5–го Главного управления КГБ. которое в свое время успешно травило идеологических диверсантов и диссидентов, а этот, наверное, из 2–го набрал, контрразведчиков…
И чего это с телохранителями?
Один из сопровождавших остался стоять в дверях; не человек, а монстр какой–то, огромный резиновый сейф, набитый мышцами, гибкими сочленениями и сухожилиями. Наверное, мигни ему невзрачный посетитель — тут же перешибет сухой стебель его, Функционера, шеи с болтающейся седовато–лысым стручком головы одним ударом.
А невзрачный посетитель, профессионально осматриваясь по сторонам, прошел на кухню, скромно так прошел, как показалось — едва ли не на цыпочках.
Поставил на стол дипломат и сдержанным жестом восточного принца, который дарит младшему вассальному князьку половину своих земель, расстегнул его.
Прошу!
У Функционера зарябило в глазах: столько денег и за один раз он еще никогда не видел… Все стодолларовые, новенькие, в упаковках, аккуратненько так лежат, как покойнички в гробах…
— Что это?
Невзрачный скромно улыбнулся.
— Деньги. Не видите, что ли? Ведь вас спрашивали, любите ли вы наличные деньги, а вы сказали — да, очень… Да мы и так это знаем.
Странно — и с чего это?
Неужели Экономист так быстро все сделал, и Бандит теперь, попивая свой «Хенесси—Парадис» в обществе Промышленника, договариваются о передележе паёв ОРТ? Наверное, ведь деньги, такие деньги так просто не привозят…
Стало быть — комиссионно–посреднические, честно заработанные…
Но ведь он, Функционер то есть, ему, Бандиту должен, и очень должен…
Однако на всякий случай решил прикинуться:
— Кому?
Пододвинув дипломат, Невзрачный пожал плечами.
— Вам, конечно же…
— Но за что?
Функционер по–прежнему лихорадочно соображал: почему, за что все–таки ему принесли эти деньги? Ведь не Бандит должен ему, а он Бандиту, и тут — на тебе…
А вдруг не от Бандита?
Ситуация меняется с каждой минутой, торос и айсберги то сходятся, то расходятся, наскакивают друг на друга, круша молодой лед…
Интересно — сколько же их тут? Говорят, в типовой атташе–кейс, в дипломат, то есть, входит ровно миллион, если стодолларовыми. Ну, тут конечно же, миллиона не будет, но все–таки…
Полмиллиона?
Двести тысяч?
Тоже неплохо…
Да. что ни говори, а старость — если ты, конечно, обстоятельный, философски мыслящий и глубокий человек — старость не такое уже и плохое время.
Время сбора плодов и подведения итогов. А итоги — вот они, итоги: полный чемодан денег.
Наличных.
На лицо, так сказать…
Теперь предстоит выяснить главное: за что? Это частично решит другой вопрос: от кого?
Стараясь не смотреть на банковские упаковки, Функционер осторожно присел на краешек кресла — будто бы не у себя дома, а на приеме как минимум в Эр– Рияде и спросил:
— Ну, все в порядке?
— У нас всегда все в порядке, — туг же последовал ответ.
Да, и никакого удивления: у этих нервная система вообще отличается тренированной стабильностью.
Но все–таки…
Может быть, кто–нибудь из других функционеров нашел выход на Промышленника, но по каким–то причинам не хочет светиться, а Бандит (нет, все–таки Бандит, Бандит — кто еще?) решил, что это его, Функционера работа; может быть, действительно Экономист все–таки постарался: а в самом–то деле, что ему — никакого криминала тут нет, обыкновенные комиссионно–посреднические услуги, ни к чему, кроме того, не обязывающие. Просто один банд… то есть бизнесмен хочет войти в долю с другим бизнесменом, но в силу присущей скромности и природной стеснительности не может сделать этого самостоятельно; он как девочка–целочка нецелованная, должен, чтобы их познакомили…
Так почему бы и нет?
А–а–а, какая, к черту, разница?
Главное, что перед ним — деньги.
Наличные.
Налицо или, как говорили во времена его, Функционера подъездного детства — «на рыло».
Наверное, придется немного поделиться и с Экономистом — не иначе, как он… Ему, стало быть, «на рыло»…
— Да, вот еще что, — добавил Невзрачный, достав из кармана глянцевую аптечную упаковку, — вам просили передать…
— Что это? — Функционер машинально взял упаковку в руки.
— Отличное средство, — Невзрачный фазу же взял тон главврача из правительственной лечебницы, — у вас ведь со стулом не в порядке…
— Откуда вам известно?
— Нам все известно, — столь же бесстрастно ответил посетитель. — И не только это. Замечательное лекарство, снимает запоры, нормализует обмен веществ и тонизирует. Прошу. Это — презент. Можете выпить немедленно и увидите, как это хорошо…
— Хорошо, — все так же механически повторил Функционер, — приму…
Он осторожно выдавил таблетку и, не запивая её, проглотил.
— Вам это поможет, обязательно поможет.
— Спасибо.
— Ну, всего хорошего, — Невзрачный незаметно кивнул резиновому сейфу — тот отошел от двери. — Не буду задерживать.
Хозяин мягко улыбнулся в ответ и откровенно скосил глаза в сторону остававшегося на столе атташе–кейса.
— До свидания…
Действительно, сразу после таблетки Функционер почувствовал не только облегчение, но и настойчивые позывы кишечника.
Фу–у–у, наконец–то, какое счастье! Если вдуматься — как мало человеку надо для счастья! Уверенность в том, что ты — трезвый и глубокомыслящий, что ты не зря прожил свою жизнь, что на старости лет у тебя есть что собирать и что подводить…
Ну, и отсутствие таких неприятностей, которые испытывает он, Функционер то есть — особенно по утрам.
Но главное–то — главное это чемодан денег. А теперь, к закату дня, похоже на то, решены сразу две глобальные проблемы: стул… Ну и это.
Функционер закрыл дверь и, взяв атташе–кейс в руку, зашел в туалет.
Приспустил штаны, уселся и с необычайным приятным для уха шумом, уже подзабытым, быстро и обильно испражнился.
Нет, все–таки — как мало надо человеку для счастья!
Регулярный стул… Репутация… Глубокомыслие…
Ну, склонность к абстракциям. Ну, и то, что тут в дипломате лежит.
Банальненькое такое, конечно же, умозаключение, но — верное. Все банальности верны, все верное банально. Аксиома.
Осторожно положил атгаше–кейс на голые голубовато–прозрачные колени с обвисшей старческой кожей, щелкнул замочками…
Ну, сейчас самое лучшее занятие — пересчитать, сколько же туг.
А действительно — каков итог, каковы плоды, под чем подвести черту?
Функционер медлил, медлил, сознательно оттягивал приятный момент…
Неожиданно в мозгу замаячила мысль, уже посещавшая его сегодня, до визита Невзрачного, философская и глубокая, трезвая, и на удивление абстрактная — как все его сегодняшние мысли.
Почти все.
И мысль эта показалась настолько глубокой, так захватила его, что он с удовольствием еще раз прошептал её вслух:
— Смерть — единственное, что еще не удалось опошлить людям…
После чего одновременно щелкнул замочками атташе–кейса…
Это было последнее его умозаключение: слепяще–белый взрыв оглушил его, с давлением в сотни атмосфер вжал в стену, размазал по нежно–кремовой матовой поверхности, растворил, распылил, втирая в побелку потолка, в правильные кафельные прямоугольники…
Если пожилой и пусть даже на редкость трезвый человек живет в пятикомнатной двухсотметровой квартире в центре Москвы совершенно один, то, сколь значительную функцию он не выполнял бы в Государстве, его смерть не станет известной в тот же день…
Произойдет это только после того, как у соседей снизу «у туалете» потечет потлок; после того, как будет вызван сантехник, который определит, что наверху что–то случилось; после того, как спустя многократно повторяемое «тара–рам, тара–рам, тара–рам, там» из сороковой симфонии Вольфганга Амадея Моцарта участковый милиционер в присутствии двух обязательных понятых выломает дверь и, после поисков по всем двумястам метрам квартиры хозяина — а точней то, что от него осталось наконец найдут в туалете.
Но это будет уже не хозяин: обезображенный обрубок туловища с засохшей кровью, с впившимися с дряблое старческое тело осколками унитаза и кафеля, с намертво присохшими к испражнениям, сероватому студенистому мозгу и коричневым кровяным ошметкам стодолларовыми банкнотами, которые последующая экспертиза признает фальшивыми, с раскроенным черепом, на который приглашенные с улицы понятые будут смотреть с подсознательным любопытством, переходящим в брезгливый ужас, в блевотное отвращение, — сколь бы трезвые и глубокие умозаключения не рождались в нем еще несколько дней назад…
«Слово!.. Слово!..»
Телохранитель вежлив, улыбчив и интеллигентен — чтобы не сказать застенчив. Генерал (недавно высочайшим указом произвели), но почти никогда не появляется на людях в кителе и в лампасах — зачем себя афишировать? Ведь и так все знают, кто он такой и каков его удельный вес тут, в Кремле, знают без формы, без кителя. Что — обязательно слышать в спину полуиспуганное: «Посмотрите, как он нравится Президенту! Посмотрите, в какой он форме!»?.. Для его роли вполне достаточно костюма — хорошего, темного, консервативного, двубортного; страсть к таким костюмам он подсознательно перенял у своего уважаемого врага и конкурента, у Аналитика.
Жаль, что зрение хорошее — иначе бы, как и тот, обязательно носил очки в тонкой золотой оправе. Очки на редкость облагораживают; если человек носит очки, значит, у него не в порядке зрение, испортил за чтением книг…
А потом очки — не форма, даже с красными генеральскими лампасами; собеседник–то не на ноги смотрит, а в лицо…
Телохранителю нельзя выделяться, нельзя, имея реноме человека, «близкого», «влиятельного» и «вхожего», портить его страстью к показной дешевке, тем более, что клички, слова то есть, прилипают намертво, и чем обидней они, тем мертвее прилипают: если обозвали вас однажды «мерседесом» за пристрастие к дорогам и роскошным автомобилям, то считайте, это пожизненно. Будьте хоть трижды Героем Советского Союза, хоть четырежды Верховным Главнокомандующим — так и умрете, так и закопают вас «мерседесом». Наверное, когда грохнут злые чечены (а грохнут, рано или поздно грохнут, как пить дать), то и к Новодевичьему повезут вас на катафалке — «мерседесе»; и в надгробной будут говорить не по имени отчеству, а только — «Паша».
Впрочем — какой из вас, дорогой, Верховный Главнокомандующий! Главный, кто верхами командует что ли? Верхами, то есть самым верхом нынче командует не маршал, а…
Если в свое время служили вы в полку охраны Кремля прапорщиком, то потом хоть вы всеми верхами мира командуйте — все равно будут называть вас грубо и по–армейски — «куском».
Ну, и «мерседес», и «кусок» — слова, которые звучат обидно. Очень даже обидно звучат такие определения относительно высокопоставленных лиц Государства.
Слова — вообще очень обидная вещь, словами можно обидеть куда более остро, чем делами; по крайней мере тут, в России.
А вот «телохранитель» — ничего, нормально звучит слово, очень даже достойно: «хранитель тела». То есть тот, в обязанности которого входит охрана тела самого главного человека.
И вообще — хорошее слово: у народонаселения вызывает в памяти множество достойных страха и уважения ассоциаций и параллелей; от классического голливудского фильма, популярного несколько лет назад, до люберецких и солнцевских мальчиков, ныне промышляющих охраной тел бизнесменов, депутатов и бандитов что, по сути, в современных условиях одно и то же.
Хотя, если честно, кроме тела, там уже и охранять–то нечего… Начальство в кулуарах иногда так его и называет — «тело».
Но об этом — тс–с–с! — никому ни слова. Государственная тайна.
Иначе поблекнет, потускнеет, сотрется загадочное и внушительное слово — Телохранитель, которое светит не собственным светом, а отраженным; так луна блестит за счет света солнца.
Телохранитель должен быть интеллигентным, улыбчивым и предельно незаметным, и ездить не на роскошном «мерседесе», а на обыкновенной черной «волге» ж– как все нормальные люди. Тем более, что тело, которое он охраняет, кажется, именно этого и хочет: незаметности и скромности ну, и само собой — надежности, исполнительности и умения быстро принимать решения; на то ему и поручено самим телом себя и охранять.
Наверное, право тело, иначе нельзя, да и есть такой закон: чем грубей тот, кого охраняешь, тем интеллигентней должен быть тот, кто охраняет.
По контрасту.
А если быть до конца честным и откровенным, то не тело это себе внушило, а Главный Телохранитель — телу: он давно уже заслонил собой то, что собственно, идолжен хранить: на одном из последних прилюдных появлений, при церемонии открытия Малого театра. Главный Телохранитель сидел уже не позади тела, как и положено по кремлевскому протоколу, а рядом; все остальные — дальше.
Не произвольно же они там места занимали, кто первым придет, туда и сядет!..
Так что теперь главенство Главного Телохранителя над тем, что он должен хранить, окончательно узаконено и запротоколировано.
Но тоже — культурен, интеллигентен, обходителен и учтив.
Говорят, что в свое время в Ватикане чем тупей и развращенней был Папа, тем с большим тщанием подбирал он швейцарцев для своей охраны, то же самое и в Версале делали бесчисленные Людовики. Были, правда, исключения, тут, в Кремле, вроде Ивана Васильевича Грозного и его опричников — тех самых, которые сурово и жестоко наказали Калашникова, не изобретателя популярного автомата, а купца, но исключения, впрочем, подтверждающие правило, а правило обще и едино: охранник, папский гвардеец, швейцарец короля, телохранитель Президента должен быть интеллигентным, как врач–гинеколог и незаметным, как солдат до присяги (Самый Главный, впрочем, может дослужиться и до кардинала, а эта должность видная).
И тогда все будет замечательно, и тело будет довольно. Видимо, подсознательная тяга к прекрасному, к недоступному.
Тело без души — неодушевленное, не может такое тело существовать само по себе.
А душа у него — он, Телохранитель, и его высокое начальство…
Поднявшись из–за стола, Телохранитель подошел к окну и приподнял жалюзи: мелко моросящий дождик, слякоть, темно–бурый кирпич древнего Кремля… Говорят, раньше эти стены были белыми, только потом потемнели. Наверное, от пролитой тут, в Кремле крови.
Кабинет Телохранителя, расположенный в 14 корпусе Кремля, там, где совсем недавно размещалось 9–е Управление КГБ, знаменитая и престижная «девятка», выгодно отличался от других кремлевских кабинетов: прежде всего обилием книг. Два стеллажа, заставленные томами — все, что хочешь, вся мудрость мира.
И телефоны…
К сожалению.
Да.
Многие, в том числе и начальство Телохранителя, уверены: нет ничего лучше, чем телефон. Особенно, телефон, по которому говорят депутаты парламента, члены правительства, влиятельные бизнесмены и популярные журналисты. А говорят они, как совершенно точно известно Телохранителю и его начальству, тому же Куску или Главному, обо многом: не только о природе, погоде и новых покупках коттеджей, участков, собольих шуб да лимузинов, но и о…
Впрочем, теперь говорят уже меньше: боятся. Его, Телохранителя то есть, боятся. И правильно, между прочим делают.
Глядя на хирургически блестящие плоскости многочисленных телефонных аппаратов. Телохранитель поче– му–то вспомнил собственное же сравнение с интеллигентным гинекологом и усмехнулся.
Каждое сравнение хромает, но тут — точней и не скажешь.
Эрозии общественных настроений, связанные с чеченским кровотечением, и выпадения отдельных структур в этой связи. Как следствие, наступление преждевременного климакса — и очень некстати, потому что через год — выборы президента.
Россия — огромная рыхлая баба, раз в положенный срок исправно должна рождать себе престолонаследника, Президента, собственного же хозяина, царя, императора.
Конституция у нее такая.
Иногда, правда, случается, что она, как Кронос из древней мифологии, пожирает своих детей. В русской истории прецедентов — уйма. Но хуже всего внеплановая беременность: Россия–то — баба влюбчивая, — непредсказуемая и капризная, как какая–нибудь тетя Клава, продавщица в вино–водочном магазине районного центра Z, откуда, кстати, сам Телохранитель родом; не понравишься–вообще дверь магазина не откроет, ни за какие деньги, понравишься — и в долг отпустит, и стаканчик одолжит, и даже домой пригласит,,. Все зависит от того, какое слово ты ей скажешь. А коли домой, то и в постельку, и…
Приголубит, пригреет, и переспит она с тобой; если только слово ей в любовных играх нашептывать будешь. Тут ведь всегда так в России: делам не верили, верили только словам.
Как справедливо писал в начале века один классик: «…тут поймут все, что выражено логично, просто и без иностранных слов. Но не поверят ничему, что просто и понятно. Тут убивали докторов в оспенные и холерные эпидемии, устраивали картофельные бунты, били кольями землемеров. Изобретите завтра самое верное, ясное как палец, но только не чудесное средство — и вас сожгут же послезавтра. Но шепните, только шепните на ухо только одно словечко: «золотая грамота!», или: «антихрист!», или: «объявился!», все равно, кто…»
Да, прав классик — главное слово. Классики — они ведь потому и классики, что всегда правы.
И услышит она слово, и наступит у России–матушки внеплановая беременность, потому что если кто–нибудь тете Клаве понравится, если молвит ей ласковое — то, которое она, страдалица, ждет не дождется, тут уж никакие спирали не помогут, никакие таблетки противозачаточные, и залетит она, и разродится президентом, царем, императором — да не тем, которого ждали. И тогда — пиши–процало. Было нечто похожее несколько лет назад в Бразилии, когда великий футболист ди Насименто, более известный как Пеле, захотел стать Президентом. С трудом отговорили, прервали внеплановую беременность…
А если бы не прервали?
Что тогда?
Все, что хочешь; нет ничего более страшного, чем непредсказуемость, особенно–туг, в России; еще хуже в Бразилии…
А потому–телефон, телефон, и еще раз телефон.
Да, нет ничего лучше, чем телефон, по которому переговаривается российская элита, и знаете почему? Прослушать можно такой телефон–чем он и хорош… И не только, кстати, прослушать, и не только телефон, и не только…
Откройте для себя…
Подсматривающие устройства! — и вы увидите, как выглядит российская элита!..
Подслушивающие устройства! — и вы услышите, какие звуки издает российская элита!..
Детекторы лжи! — и вы проникнитесь духом российской элиты!..
А вот это как раз нежелательно — * дух–то у нее… м–м–м, не хочется говорить, про дух–то.
Впрочем, это и без телефона всем хорошо известно: несколько народных избранников целиком и полностью находятся на содержании более чем известной частной фирмы — вон, по телевизору едва ли не каждый день рекламу крутят, и проталкивает, лоббирует, как теперь принято говорить, её интересы; другие фирмы, объединив усилия, скупили целую депутатскую фракцию, еще одна мощная финансовая группа, группа весьма известного и влиятельного Банкира — совершенно определенно! — намерена финансировать будущую предвыборную кампанию Градоначальника.
И все друг другу врут — наверное, уже ни один детектор лжи зашкалило, списать пришлось: фирма — депутатам, фракция — тем, кто её купил, Банкир –— Градоначальнику, а все вместе…
Но все эти в качестве кандидатов в любовники переборчивой России, вряд ли понравятся: как и тетя Клава из вино–водочного в районном центре Z., она не любит ни политиков (изменщики они!), ни тем более крутых бизнесменов (дали б автомат — рука б не дрогнула! Кровопийцы, кровь народную сосут!..)
Теперь ей может понравится только такой…
Культурный, в меру интеллигентный, показательнопорядочный, не связанный ни с обманщиками–полити– ками, ни с кровопийцам и–бизнесменами.
Молодой.
Красивый.
Обаятельный.
Улыбчивый.
Знающий.
Слово.
А поэтому конфеденциальные сведения, слова то есть, полученные техническим путем (кроме телефонов, снимается, разумеется, вся информация и из множества компьютерных сетей) сортируются по важности и ценности и поступают сразу же в две параллельные структуры: в Аналитическую службу Президента, Аналитику, и в Информационную службу –— столь же огромный аппарат, куда Главному Телохранителю и Куску удалось собрать лучшие кадры из службы внешней разведки, ГРУ, ФСК и Прокуратуры.
Информационная служба более оперативна, в отличие от Аналитической в ее ведении не находится долговременное прогнозирование. Между Аналитиком и Телохранителем разница примерно такая же, как между профессором–теоретиком и хирургом–практиком. Но в ведении хирурга–практика–не менее, а может быть — и более серьезные вещи: тетю Клаву надо научить, чтобы с тем, с кем надо нагуляла, роженицу подготовить, консультации провести, антисептику соблюсти, роды принять…
А если надо — то и аборт сделать. Как это недавно пришлось.
Только вот какое именно слово Россия должна от любовника услышать, чтобы стать Россией–матерью — это ты никак не внушишь, хоть роту гипнотизеров да экстрасенсов найми.
Капризная она баба, Россия–то…
Книги лучше телефона–во всяком случае, к книгам обращаешься, когда хочешь найти что–нибудь полезное или приятное для себя, или и то, и другое, а вот телефон обращается к тебе сам (входящих звонков тут как правило больше, чем исходящих), и не всегда они утешают, звонки–то…
Впрочем, с телефона многое и начинается; чаще, чем с книг.
Но не только…
Русские по своей сути — одни из самых консервативных людей в мире.
И старые, и новые.
Любят традиции.
В свое время тут, в Кремле была замечательная традиция — собираться узким кругом Политбюро и радовать друг друга — досрочным перевыполнением планов, например, производственными победами, реляциями со славных полей битв за урожай. Традиция, равно как и планы, сохранились, но называется традиция теперь иначе: Совет безопасности. То же Политбюро, если разобраться, только вывеску поменяли.
Но по–прежнему собираются и радуют: к славному пятидесятилетию, к 9–му мая будет окончательно разгромлен чеченский супостат (иначе буржуи не приедут, обидятся, «права человека»), к концу года — окончательно завершены успешно начатые экономические реформы, к концу тысячелетия жизненный уровень населения окончательно достигнет показателей 1913–года, что тоже, между прочим, неплохо.
Все это называется компетентное руководство страной.
Главное — вовремя порадовать друг друга хорошими известиями.
Иногда на Политбюро приглашают тех, кто в его состав не входит, правда, изредка. Как, например, Аналитика и его, Телохранителя (Главный–то Телохранитель там бессменно заседает, и неизвестно еще, ради кого Политбюро заседает. И это радует).
После одного из таких заседаний — еще зимой, в конце февраля, Телохранитель и имел ту памятную беседу с Аналитиком. А говорили–то они о меморандуме — том самом…
Да, многим, очень многим известно, что между Телохранителем, и Аналитиком разница такая же, как между университетским профессором, читающим лекции об абортах, и врачом–гинекологом, выполняющим эти самые аборты по десятку в сутки, как монтажник на конвейере завода имени Лихачева.
Аналитик — исключительно теоретик, и теории, кстати говоря, иногда выдвигает совершенно бредовые: как–то в частной, правда, беседе, совершенно серьезно заявил, что массированные бомбардировки Грозного, по всей вероятности были организованы финансовой группой и межбанковским объединением, которое успешно развивает свою деятельность по всей территории России — мол, купили верхушку ВВС, чтобы обеспечить себе фронт работ на ближайшие десять лет.
Бредни!..
Теории!..
Фантастика!..
А вот он, Телохранитель — практик.
Но последний меморандум Телохранителя весьма заинтересовал…
— Я ознакомился с вашим заключением, — произнес тогда он со скрытым чувством превосходства постоянно практикующего врача над никогда не практиковавшим университетским лектором, — «…необходима искупительная жертва, могущая не только отвлечь от происходящего, но и консолидировать российское общество… необходим положительный образ, необходимо мгновенно создать Национального Героя, способного сфокусировать в себе… таковым может стать только популярный телеведущий Владислав Листьев, не связанный ни с какими политическими партиями…», — очень точно процитировал Телохранитель по памяти.
Аналитик по–профессорски улыбнулся и, дохнув в лицо приятным, домашним запахом липового меда, скромно поинтересовался:
— И что скажете?
— Скажу больше: источники сообщают, что человек, наделенный такими несомненными достоинствами, вполне сможет претендовать в 1996 году на многое…
— В том числе, и… — осторожно предположил Аналитик, не завершив предположения; впрочем, по выражению лица собеседника он понял, что в этом нет особой нужды; в Кремле все и без того понимают друг друга с полуслова.
— Да, именно так: России надоели политики, и она проголосует за целиком нейтрального человека, к тому же… Как это вы говорили — «за Мейсона»?
— Именно так. За самого привлекательного и обаятельного. С усами. Пшеничными.
Аналитик задумался: теперь собственное понятие «Национальный герой» представлялось для него в совершенно другом свете.
— А действительно… — зловеще сверкнув очками в золотой оправе, он поджал тонкие змеиные губы: — но это лишний раз доказывает мою правоту… А что — есть сведения, что он собирается…
— Во всяком случае, чисто умозрительно это совершенно идеальный кандидат: богат, но богатство не на виду, обаятелен, популярен, каждый день на экране, удачлив… Тетя Клава–то, увидев его перед тем, как к участку идти, как скажет: «а какие он слова–то хорошие говорит, а подтяжки у него какие!..» А почему бы и нет? — развивал свою мысль Телохранитель, — ведь тетю Клаву учили, что всякая кухарка может управлять государством. Почему тогда не журналист, не шоумен? Политика — то же шоу. Становятся же президентши литераторы — Гавел, Тер—Петросян, покойный Гамсахурдиа… Журналист, к тому же более известный, чем любой писатель — ничем не хуже. Более того, — он понизил голос, — более того, ведь на него могут всерьез поставить те люди, которые поставили, когда водрузили на верхушку останкинской телебашни… Пирамиды, то есть. Промышленник, например.
— Так что — ваши источники действительно утверждают, что он…
Телохранитель тогда ничего не ответил и только многозначительно улыбнулся–вот, мол, в чем преимущество практика!
Но главное: он похож на человека, знающего то самое слово, которого ждут все. Вся Россия. И ему поверят — во всяком случае, первое время, поверят его слову. В отличие от теперешнего Президента, который повторяет разные бестолковые и безответственные слова по десять раз на дню…
Но последнее слово, как и всегда, осталось за Аналитиком:
— Значит, я все–таки был прав, — произнес он. — Когда обратил на него внимание.
Правоту Аналитика, Телохранитель понимал и сам; понимал он также то, что мертвый Национальный Герой будет куда лучше живого…
Разумеется, осведомленность врача–практика, о которой Телохранителю было выгодно умалчивать конкуренту; простиралась куда дальше: источники, (не голько телефоны) действительно сообщали о том, что подобные разговоры уже велись, непонятно правда, как: то ли серьезно, то ли не очень, но, во всяком случае — велись, и что к выдвижению кандидатуры Листьева активно подбивали круги, близкие к Промышленнику…
А это означало следующее:
В случае реорганизации ОРТ (создаваемого, как справедливо считалось, и для улучшения имиджа Президента в преддверии выборов) большинство пусковых кнопок на пульте управления умонастроениями и манипуляциями общественным мнением сосредотачивалось бы в руках как Промышленника (экономически), так и самого Листьева. И это несмотря на «президентскость» канала, несмотря на то, что значительную часть акций оставляло за собой государство. Это сейчас Промышленник может во всеуслышание заявлять — «я ставлю на того Президента, который есть», потому что теперь, в 1995 году Президент ему еще нужен; а когда информационное пространство будет, по сути, в руках Промышленника (и не его одного), что он тогда скажет?.. Тем более, имея под рукой превосходного карманного кандидата, который по всем параметрам может подойти теге Клаве, России–матушке, то есть, который скажет ей наконец то самое долгожданное слово…
…а потом, после того памятного разговора с Аналитиком были: массовый шок после расстрела на Новокузнецкой, тридцать; гневно–проникновенное выступление Президента; прощание в Останкино, по случаю гибели, временно превращенного в подобие Мавзолея; отпевание в церкви Воскресения Славущего; трогательные слова последнего «прости» на Ваганьково…
И вопросы, задаваемые повсеместно, от вечерних семейных кухонь до редакций газет и Думы: Кто убил? Кто нанял киллера? Кому была нужна смерть всеми любимого, всеми обожаемого Влада? Почему ни Прокуратура, ни российские спецслужбы, ни МВД, ни ФСК, ни Президент не взяли на себя ответственности за невиданный разгул преступности в. стране, почему до сих пор не найдены убийцы Холодова, Меня, Талькова и остальных? Почему даже регулярные убийства депутатов Думы теперь никого не удивляют, как недавнее убийство Андрея Айздердзиса? Почему Президент и его близкое окружение довели Россию до того, что тут безнаказанно стреляют в лучших и достойнейших людей? Почему, наконец, до сих пор не найден убийца Влада Листьева?! Куда смотрит Президент?
Да, все так или иначе сводилось к этому вопросу: «куда он смотрит?!»
Последнее весьма волновало Телохранителя — тем более, что чем дольше тянулось время, чем больше общественность утверждалась в мысли, о том что киллеры и те, кто его наняли не будут найдены, тем большая тень падала на тело; вот, мол, бессилие власти, вот, мол, ничего не может, только оркестрами в Берлине дирижировать!..
И нехитрый вывод тети Клавы: «за этого голосовать не буду, он бессилен… а знаете, как называют бессильных мужчин?»
Импотентами их называют.
А потому, как совершенно справедливо рассудил Т елохранитель, все это в сумме никак не способствовало улучшению имиджа того, кто по идее должен был лечь в постель с Россией–матушкой…
Размышления прервал трезвон одного из много– численых телефонов:
…дзи… дзи–и–и–инь!..
— Алло?
Машина ждет.
Это снизу — он действительно заказывал машину; надо срочно ехать в одно замечательное место, названное так в честь соратника и соподвижника Петра Великого.
Всякий раз, отправляясь туда, Телохранитель вспоминал телфекламу одноименного банка и усмехался: да, будущее России, нечего сказать…
Может быть, именно таким оно и должно быть, будущее–то?
Уселся на заднее сидение, положив на колени папочку, посмотрел в окно: и когда этот дождь кончится?
— В Лефортово…
В этой ситуации был еще один достаточно щекотливый момент, о котором прекрасно знал и Аналитик, и он, Телохранитель, но, разумеется, не могли позволить высказывать свои опасения вслух: сравнительно недавно в Думе инициативой депутатов во главе с коммунистом Илюхиным был рожден проект нового закона — закона о создании Федеральной службы безопасности.
Закон этот существовал на бумаге, был неплохо отработан, но еще не был подписан Президентом.
Принятие нового закона означало бы многое, и прежде всего — для служб, некогда входивших в компетенцию Лубянки, а теперь вышедших из–под её контроля: во–первых, не только очередную смену вывески на Лубянке и в Ясенево, но и создание, по мнению Главного Телохранителя, неподконтрольного никому монстра — подобия старого ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ; во–вторых, с другой стороны, в случае принятия такого закона и сама служба Телохранителей, равно как и Аналитическая служба становились бы ненужными; их функции вновь бы переходили к Федеральной службе безопасности.
Стало быть, при всей ревности и конкурентности интересы и Аналитика, и Телохранителя совпадали: надо было доказать свою необходимость, надо было дать понять телу, что два опытных домашних доктора куда лучше, чем одна большая, но бестолковая клиника.
Домашние доктора–кто лучше знает больного, его тело? И пилюли пропишет, и подсластит, если надо, и посторонних домочадцев от постельки отгонит, чтобы не надоедали, не мешали больному…
Хотя — пусть клиника существует на Лубянке, а они, профессор и хирург, Аналитик и Телохранитель, будут существовать отдельно, автономно от нее. А иногда собираться для совместных консилиумов — например, перед очередными родами.
Но для этого нужно было доказать свою необходимость, свою полезность, свою незаменимость — куда же вы без нас–то денетесь?!
Телохранитель представлял, как это можно сделать, разве что теоретически, но до недавнего времени не знал, как осуществить задуманное…
И вот сегодня утром, изучив недавние сводки источников, он решился.
Усевшись поудобней, он повторил еще раз:
— В Лефортово.
Нет ничего хуже, чем утрата доверия товарищей и особенно — руководства. Тогда никакие прошлые заслуги, никакое бренчание орденами и медалями, никакие клятвы, никакие погоны — пусть даже с тремя звездами на двух просветах, — не помогут, никакой гуманизм.
Гуманизм–истинная ценность, но весьма абстрактная, а как когда–то учили Телохранителя — «какая весовая разница между абстрактным и социалистическим гуманизмом? Девять граммов разницы, запомните это раз и навсегда, товарищи чекисты …»
Слово «социалистический» ныне не в моде, но если заменить «государственным», получается примерно то же самое.
Да, есть множество способов утратить доверие: продать секреты родной страны ЦРУ или «Моссад», вступить в «Выбор России», поведать всему миру о том, что тело — только тело, и что ничего человеческого в нем не осталось; посмотрите–ка, уважаемые, его ведь только под ручки везде водят!
Можно стать морально–бытовым разложенцем (теперь, правда, сложней: никто из руководства и товарищей точно не скажет, что это такое).
А можно — и того проще и незамысловатей: потерять табельное оружие.
Узник, на свидание с которым отправлялся Телохранитель, находился в Лефортово вот уже с неделю, и именно за это: утеря пистолета «Scorpion», любимого оружия спецслужб Восточной Европы, утеря с полным боекомплектом.
Конечно, за подобные–то вещи полагается не в Лефортово, где, наряду с Матросской Тишиной, обычно сидят или очень крупные уголовники, бандиты и террористы, или очень крупные оппозиционеры (после очередной неудачной попытки очередного переворота), но Телохранитель предусмотрительно настоял — ему так удобней.
Да и Полковнику, кстати говоря, тоже…
Полковник спецслужбы, он, конечно же, не сам его утерял: отправил в Останкино идиота–прапорщика, сопровождавшего крупную долларовую наличность, тот в какой–то начальственной приемной повесил на стул пиджак, во внутреннем кармане которого и находился злосчастный пистолет, всего только на несколько минут повесил, говорил, что в туалет, а с пистолетом неудобно садиться, полу оттягивает.
И нет, чтобы по инструкции, положить оружие в подмышечную кобуру — надо было в карман сунуть.
Короче говоря, когда идиот–прапорщик вернулся, пиджака уже не было.
Украли пиджак на Останкино и, что самое печальное — вместе с пистолетом украли. Говорят, якобы видели какого–то то ли техника, то ли оператора из спортивной редакции, который в комнату мимоходом заходил, а кого именно — кто их разберёт?
На Останкино этих самых техников да операторов — считать–непересчитать.
Так и все тут, в России получается–по глупости. И Чечня, если разобраться, по глупости началась, можно было бы договориться спокойно, и все эти события вокруг мэрии, и…
Но теперь не до отвлеченных суждений: на очереди Полковник в своем Лефортово.
Конечно же, во всем был виноват идиот–прапорщик но, чтобы лишний раз насолить непосредственному начальству Полковника (с которым и Телохранитель, и его руководства в последнее время были в весьма натянутых отношениях), надо было найти виноватого, крайнего (идиота–прапорщика для этого оказалось явно недостаточно), и козлом сделали именно его, Полковника–как ответственного за подчиненного идиота.
Как ни странно, но начальство, вместо того, чтобы заступиться за подчиненного, хотя бы из чувства корпоративной солидарности, пустило все на самотек: видимо, Полковник и у себя кому–то слишком мешал…
Короче, сидел он в своем Лефортово, и солнце ему не светило.
С Полковником Телохранитель был на «ты», да и тот, в свою очередь говорил ему «вы» только на людях — субординация!
Вместе начинали, вместе продолжали, вместе…
Да что там говорить, если знают друг друга уже больше пятнадцати лет! Правда, Полковник так на прежнем месте службы и остался, а он — он Телохранителем стал, что на порядок выше. Тело охраняет.
Но дружбе это, как говорится, не помеха…
Беседовали они не в специальной комнате для свиданий, не в кабинете начальника (тут ведь тоже подслушать могут, враг не спит, «Родина слышит, Родина знает!..»), а во дворике.
Трогательная картина: двое коллег, два уважающих друг друга человека, Телохранитель–генерал и Полковник, нежно улыбаются давно не виделись, и теперь — на консилиуме, решают, что делать…
Точней — Телохранитель решает. Но беседуют ровно и спокойно — даже не скажешь, что один из них узник… И Полковник, видимо, не волнуется — а чего ему–то волноваться?
Он человек опытный и бывалый, не то, что оппозиционны, которые имели честь сидеть в этой же тюрьме после октября 1993 года, его на фунт изюму не проведешь; по слухам, к каждой камере с оппозиционером высоким распоряжением подводили специальную радио– точку, и она с утра до вечера орала истошными «народными голосами», «гневными выступлениями трудящихся» — покарать, покарать, расстрелять мерзавцев!
Его, Полковника то есть, на такую дешевку не проведешь — сам в свое время успешно практиковал подобные штучки.
Выпустят же, рано или поздно выпустят, не будут же из–за такой ерунды держать, если, конечно, его, Полковника, тут только из–за того пистолета держат… Вопрос только, что за это будет предлагать Телохранитель?
После обязательных в подобных случаях вопросов о кормежке и самочувствии гость Лефортово перешел к самому главному.
— Ситуация малоприятная, — — начал Телохранитель, — народ страждет крови…
— Где?
— В России, конечно…
Полковник выжидательно молчал — мол, а к чему это?
И чьей крови?
Вытащив из бокового кармана пиджака смятую, сложенную вчетверо газету, Телохранитель протянул её узнику Лефортово.
— Посмотри это…
Тот, скосив глаза на гостя (зачем мне твои газеты?), тем не менее поправив очки, принялся за чтение.
У НАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ БОЯТЬСЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
прочел он заголовок.
— К чему это мне? — Полковник посмотрел на собеседника с искренним недоумением, тем более, что действительно не мог понять — почему беседа начинается столь неожиданно — с газеты.
— А ты дальше почитай, — посоветовал Телохранитель.
Полковник, усевшись на свежеокрашенную скамеечку, принялся за чтение:
Выступление Президента пред коллективом ТВ Останкино оставило сложное впечатление. Об этом говорить тяжело и не хочется, но надо. Тяжело и не хочется, потому что на первом месте скорбь о погибшем, а политические дискуссии у гроба кажутся неуместными Но надо, потому что политические заявления у гроба сделаны, и сделаны они небезупречно.
Президент приехал к товарищам погибшего и произнес человеческие слова, которые уместны в такой момент. Хорошо, что на сей раз он сделал это. Но разум политика не обуздал эмоций, толкнувших президента на пугающие слова. С осудительной интонацией сказано о том, что мы боимся полицейского государства. И в одобрительном контексте — бессудных расстрелах в Узбекистане. Правда, речь шла о расстрелах бандитов, которых вроде как жалеть не следует. Но в цивилизованном обществе приемлем только один подход: если суда не было, то никто не вправе называть убитых бандитами–это просто расстрелянные без суда люди.
He берусь судить о делах узбекских: я их не знаю. Но наших–тoроссийских пинкертонов требуется поощрять к беззаконию даже намеком? Многие из них и без того всегда готовы подыскать подходящую кандидатуру на вакансию преступника…
После этого Полковник отложил газету и, прищурившись, посмотрел на Телохранителя.
— К чему ты мне это принес? Что — .хочешь сказать,что меня как в Узбекистане за какой–то поганый пистолет расстреляют? Без суда и следствия — да?
— А ты дальше, дальше читай, — произнес тот, — до конца… Тогда и поймешь, к чему я тебе это принес.
…предоставив подлинному виновнику гулять на свободе. Не уместнее было бы для этого спросить, где ответственные за убийство Дмитрия Холодова?
У нас есть исторический опыт, мы знаем, к чему приводит правовой нигилизм. Во времена гражданской войны бессудные расстрелы в массовых масштабах применяла ВЧК…
(…)
…И все–таки–только через суд, только через закон. Потому что уже бъгла возможность убедиться: без– законие полицейского государства не знает границ, рано или поздно такое государство пожирает и себя…
Не вижу основания подозревать умысел в действиях самого президента. Но его слова могут быть использованы в недобрых целях. У граждан нашей страны есть очень много причин опасаться полицейского государства.
И еще одно. Предвыборная кампания началась — не формально, а фактически. И с прицелом не только на ближайшие, но и на отдаленные, президентские. Уже не один будущий претендент заявил во всеуслышание о своих намерениях. Может быть, кто–то из сторонников переизбрания теперешнего Президента беспокоится, что он отстает в гонке, и старается уже сейчас «подсвечивать» каждый его шаг предвыборным расчетом? Разумеется, внимание к делам ТВ Останкино, к делам Москвы, к надежности руководства УВД и Прокуратуры Москвы — дело благое. Если только тут не примешивается ничего, кроме заботы об интересах самого дела.
— Если недостаточно — вот еще, — с этими словами Телохранитель протянул узнику следующий, загодя приготовленный номер.
МЫ ХОТИМ ЗНАТЬ:
Чем занимается московская милиция?
Наша справка: в столице России насчитывается более ста тысяч милиционеров: Для сравнения: в столице Великобритании полицейских около 28 тысяч.
Кто из чиновников ответит за смерть Листьева?
До сих пор не найдены убийцы вице–премьера Виктора Поляничко, певца Игоря Талькова, священника Александра Меня, журналиста Димы Холодова…
Почему следствие всегда ведется закрыто?
В федеральном бюджете на 1994 год на правоохранительную деятельность и органы безопасности было выделено 12734231 млн. рублей. Из них МВД РФ — 7870717 млн. рублей. Это–деньги налогоплательщиков, которые хотят знать, куда они тратятся.
Почему бандитов все больше, а нас все меньше?
Сегодня в Росам насчитывается 160 воров в законе, 5 тысяч «авторитетов». В прошлом году удалось выявить 23200 преступных групп. С применением огнестрельного оружия зарегистрировано 16800 преступлений…
Дочитав до конца, Полковник вернул газету.
— Еще бы написали — «чем занимается служба охраны», — произнес он.
— Напишут, напишут еще, все впереди.
— Ничего не понимаю.
— Дело в том, — начал Телохранитель, — дело в том… Никто из будущих избирателей не захочет жить в полицейском государстве. И это очевидный факт. Слишком уж устрашающе, слишком пугающе, откровеннопугающе звучит… Да и память у России–матушки не девичья.
— Разумеется, не захочет, — вяло поддакнул Полковник, с трудом соображая, куда же все–таки клонит собеседник.
— Тем более, что в свете убийства Листьева ситуация представляется еще худшей, чем того можно было ожидать… Так сказать — все, последняя капля. Расстрел Белого Дома, массовое обнищание, гробы из Чечни, народ возмущен — но глухо, глухо. Кстати, вон станция Ростов–товарная — вся забита вагонами–рефрижира– торами со свежемороженными неопознанными трупами… Но — тихо, потому что по телевизору не показывают. А потом — ведь убитых там, в Чечне, знапи разве что их начальство, родные да близкие и — все, очень узкий круг. А Листьева — вся страна, вся Россия. И его убийство куда значительней и весомей, чем мгновенная гибель пусть даже целого мотострелкового полка. Как говорят твои коллеги — «резонансное» убийство. И чем больше проходит времени с момента убийства, чем меньше шансов убийцу отыскать, тем ниже рейтинг Президента. Ты же сам понимаешь, как тут, в России рассуждают: он–де один во всем виноват, он бессилен навести порядок в стране…
— Ну, допустим, — вяло согласился Полковник, — тем более, что его и не найдут… Все, момент упущен. Такие преступления, как мне известно, раскрываются или по горячим следам, в первые три, четыре дня, максимум — неделя, или не раскрываются вовсе. Точно говорю — не найдут его уже.
— Убийцу? — спросил Телохранитель, интеллигентно улыбнувшись.
— Ну да…
— Тем хуже для Президента.
— Только для него? — многозначительно поинтересовался узник, и в этой многозначительности ясно прочитывалось: мол, чем хуже для Президента, тем хуже для тебя, дорогой коллега–ты ведь с него–то кормишься… Пошлют твоего Президента в жопу, и будешь ты уже не Телохранителем… Говорить не хочется, кем будешь.
Пауза была непродолжительна, но значительна, и чем дальше длилась, тем больше нарастала эта самая значительность.
Первым прервал её Телохранитель:
— А теперь — представь: было бы так кстати — найти, показать всему миру, и образцово–показательно расстрелять перед телекамерами, мол — смотрите, люди добрые, вы говорили, что Президент только и умеет, что спать летаргическим сном в самолете во время встреч с Премьером Ирландии, да с немцами водку пить, а он–то на самом деле… Вон он какой–ночи не спал, подчиненных своих дрючил, чтоб те в лепешку расшиблись а — нашли гнусных убийц героя. Кстати было бы такое — а?
— Допустим, — согласился Полковник; теперь вид у него был очень озабоченный.
— А ты чего разволновался? — Телохранитель достал из кармана пачку «Мальборо», раскрыл ее и вежливо предложил собеседнику — сам–то он не курил, но всегда носил с собой сигареты — именно для таких случаев. — На, покури, успокойся…
Полковник, нервно прикурив, уставился на собеседника — мол, ну и дальше что?
— И дальше что?
— Рейтинг бы его поднялся, это во–первых, — принялся загибать пальцы Телохранитель, — и народ бы успокоился, это во–вторых, и жажду крови бы удовлетворили… Эго в–третьих.
— Ну и что с того? — вяло спросил Полковник; мол, какое это все ко мне имеет отношение, сидящему тут за какой–то драный пистолет. — Мало ли что было бы хорошо? Это из области гипотез, уровня «если бы у бабушки был хрен, она была бы дедушкой…»
— Понимаешь, — Телохранитель развивал собственные соображения, — понимаешь, дело в том, что…
— Что?..
Телохранитель не зря отличался хорошей памятью: перед глазами отчетливо всплыл меморандум, составленный Аналитиком «на высочайшее имя», точней — не весь меморандум, а та его часть, где говорилось об «искупительной жертве».
— Нужна жертва…
— Жертва?!
— Да. Убийца будет найден, найден и показан общественности… Убийца и заказчик.
После этих слов Полковник понял все…
Они говорили долго — иногда даже переходя на крик (как старые друзья и сослуживцы, они могли себе это позволить невзирая на субординацию и теперешнее незавидное положение Полковника); кричали друг на друга так, что контролеры находившиеся метрах в тридцати (ближе их не подпускали), испуганно вздрагивали и инстинктивно хватались за кобуры.
Телохранитель увещевал, клянчил, просил, как старого друга, ссылался на субординацию, на высшие интересы Государства…
До слуха любопытствующих контролеров то и дело долетало:
«…если ты признаешься, тебя признают невиновным… тебе присвоят очередное звание, тебе дадут орден… высшие интересы Государства…»
— Ладно, шутки в сторону, — произнес Телохранитель, нахмурившись, — ты ведь понимаешь, какое это дело, и что тебя ждет? Это тебе формально за пистолет будут вваливать, а на самом–то деле…
— Нет.
— Подумай, у тебя нет выхода…
— И думать не буду.
— И выбора, кстати говоря, тоже нет…
Но Полковник упрямо стоял на своем: он был согласен понести какое угодно наказание за подчиненного идиота–прапорщика, за «Scorpion», хоть за утерю всего табельного оружия всех российских спецслужб, включая службу самого Телохранителя, но не брать на себя лишнее дело.
Он был профессионалом, и знал, что означает ввязываться в подобное.
— А почему именно я? Почему нельзя найти каких– нибудь сволочей–бизнесменов, которые обиделись на Листьева за то, что тот снял с ОРТ рекламу? Ведь это — самая популярная версия!
— Сволочи–бизнесмены — слишком абстрактно звучит, — туг же ответил Телохранитель, — тут нужна не группа лиц, а один человек, один, который бы сфокусировал в себе всю ненависть народа… Как Листьев фокусировал в себе всю любовь… Понимаешь?
Криво усмехнувшись, лефортовский узник поинтересовался:
— Ты хочешь сказать, что в это — поверят?
— Во что?
— Мне пятьдесят пять лет, — усмехнулся Полковник, — не может же человек в таком возрасте быть киллером… Не поверят, ни за что не поверят.
— Схему надо отстроить так, чтобы были и «Заказчик», пусть даже сволочь–бизнесмен, и «Исполнитель» — то есть киллер…
— Ты что — киллера из меня хочешь сделать? — откровенно хохотнул собеседник.
— Нет.
— …?
— Киллер — идиот–прапорщик, — прищурился Телохранитель, — во время задержания он погиб…
— Как — уже?
— Еще нет, но неважно.
— Как?
Полковника, как профессионала, прежде всего интересовали обстоятельства.
— Ну, захватил заложника, оказал вооруженное сопротивление, зная, что ему ничего не светит, открыл стрельбу в центре города. Мало в Москве стреляют, что ли? Учитывая несомненную опасность, служба безопасности была вынуждена применить табельное оружие…
— Какая, какая служба? — ехидно поинтересовался узник.
— Охрана Президента, — не моргнув глазом, произнес Телохранитель. — Ну, кто–нибудь из… Из рядовых, так сказать, охранников. Придумаем кто и как, короче говоря.
— Но почему тогда расследованием убийства журналиста занялись люди из охраны Президента? — задал Полковник совершенно резонный вопрос, — ведь следственно–розыскная функция… э–э–э… вам не свойсгвена? Тем более, что по этому делу, убийству, то есть, создана то ли какая–то спецгруппа, то ли сводная бригада из следователей ФСК, Прокуратуры и МВД. День и ночь тру дятся, работают, не покладая рук.
Телохранитель кивнул.
— Совершенно верно. И пусть себе трудятся, пусть себе работают.
— Так как вы торда все объясните?
— Что–нибудь да придумаем… Ну, скажем, очередная попытка очередного государственного переворота… Нет, слишком громоздко, переворот придумывать, надо будет ссылаться на конктретных людей, много подвязок. Ну, попытка террористического акта, это куда проще. Ведь была уже такая, так ведь? — спросил он, будто бы ища поддержки у собеседника. — Занялись вплотную расследованием, и неожиданно вышли на след киллера… Потянулась цепочка, отследили, что и как… А там придумаем что–нибудь. Подходяще?
Вздохнув, Полковник с сомнением пожевал губами.
— Нет.
Но почему? — спросил Телохранитель немного разочарованно; он уважал в Полковнике не только старого друга, но и профессионала, и потому всегда прислушивался к его мнению.
— Потому что слишком громоздко получается… И — шито белыми нитками. Не поверят… Люди–то теперь шибко грамотные пошли. Скажут–мол, такой поворот на рукутебе, мол, посмотрите, какие мы хорошие, и не надо никаких новых законов принимать, не надо нас вновь под лубянскую крышу… Все и так хорошо. Нет, нет, не поверят. ни за что не поверят, — уверенно закончил Полковник.
— Поверят, поверят, когда предоставим вещественные доказательства. — успокоил узника собеседник, — то есть — «Заказчика», тебя, стало быть, и «Исполнителя», киллера то есть… Покойного прапорщика. И никто не будет докапываться, как именно нам это удалюсь. Скажем — никак нет, извините, секрет фирмы, строжайшая государственная тайна — и все.
— Но почему все–таки я? — Полковник наконец прикурил сигарету, но не с того конца — собеседник тут же протянул ему следующую.
— А что — неподходяще?
— Что — нельзя найти каких–нибудь нормальных сволочей? Бизнесменов мало, да? — узник принялся жевать сигаретный фильтр.
— Бизнесмены будут орать на весь мир, как резаные, — терпеливо объяснял Телохранитель, — как их все в России обижают… Друзья и соратники начнут бегать по редакциям, по судам, по адвокатам, ну, и так далее… Понимаешь?
— Угу, — мрачно ответствовал Полковник, сжевывая табак.
— Для такой роли нужен только свой, проверенный человек. и ты–лучшая кандидатура. Человек, который и на суде признает себя виноватым, и будет со всем соглашаться. Ты ведь наш человек — не так ли?
— Ты говоришь так, будто бы я уже согласился, — криво усмехнулся Полковник, сплюнув табачное крошево. — Ну, допустим, чисто гипотетически: я согласен. Повторяю–чисто гипотетически. И что дальше? Образцово–показательный расстрел перед телекамерами — да? Как в Узбекистане, без суда и следствия?
— Кстати, референты Президента опять напутали, — поморщился Телохранитель, — на самом–то деле, расстреливали не в Узбикестане, а в Таджикистане. А он и не заметил. Для него — все едино; Азия, она ведь такая большая. Но дело не в этом, дело в том, что лично тебя никто расстреливать не будет. Дело из–за чрезвычайности будет объявлено закрытым, материалы — засекречены… Да и не будет–то никаких материалов — пусть потом ищут. Вообще ничего не будет.
Невесело улыбнувшись, узник поинтересовался:
; — А со мной что? Мне–то от этого будет не легче, сам понимаешь. Какая разница, где и как меня расстреляют, перед телекамерами или так, втихомолку?
— Сперва создадим тебе какую–нибудь солидную крышу, чтобы ты сошел за типичную сволочь–бизнесмена… Ну, какую–нибудь богатую фирму, концерн или, что еще лучше–акционерный фонд. Ну, акциями хотел торговать, народ обманывать…
— Все равно потребуется масса перекрестных ссылок. Что–такой вот хрен с бугра появился, на голом–то месте, деньги у него неизвестно откуда, и захотел на Останкино рекламу разместить?
— Вот и хорошо, что неизвестно откуда. Стало быть, капиталы имели явно криминальное происхождение — неужели непонятно?
— А сам я? А фирма? А счета? А партнеры? А все остальное?
Телохранитель сделал успокоительный жест рукой.
— Это дело техники. Организуем как–нибудь, не такое организовывали.
— А потом?
— Ну, поместят в газетах фотографию, несколько измененную, вроде фоторобота… Ведь массам, страждущим крови, нужен один человек, который бы и сфокусировал в себе ненависть и отвращение. Нужен конкретный образ, на который и наводится резкость. Сволочей– бизнесменов не любят, версия о том, что его отправили на тот свет «рекламщики» нравится абсолютно всем.
— Ну, а если к этому времени все–таки найдут настоящих убийц?
— Не найдут, — успокоительным тоном произнес Телохранитель, — ты ведь сам знаешь, что не найдут… Да и нет уже их, этих убийц 4^ точно тебе говорю. То есть, — спохватился он, — есть, конечно же… Есть, если ищут, то найдут.
Бросив сигарету, Полковник вздохнул:
— А дальше?
— Через несколько месяцев — официальное сообщение во всех центральных изданиях, что прошение о помиловании отклонено и что приговор приведен в исполнение… И народ с облегчением вздохнет.
— А я? — спросил Полковник, вжав голову в плечи, — а со мной что?
— Ну, отправим тебя в какое–нибудь тихое место, в ближнее зарубежье, — задумчиво произнес Телохранитель, — придумаем что–нибудь вроде охраны посольства в какой–нибудь постсоветской банановой республике… Во всяком случае — для тебя это куда лучше, чем… Ты ведь понимаешь, что утеря пистолета твоим подчиненным — не более чем повод?! Что — кусок не по зубам захотел заглотить — да? Конфеденциальными бумагами налево торговать, о начальстве?
Узник ожидал многого, но только не такой осведомленности — после этих слов он окончательно сник, тяжело и грузно, как грузовик на спущенных шинах, прошелся по дворику и уселся на скамейку.
Насладившись видом поверженного в ничтожество собеседника, Телохранитель спросил:
— Ты ведь, надеюсь, понимаешь, как теперь тебя вздрючат?
Он недоговорил, но теперь, после этой беседы Полковник прекрасно понял: неприятности начались у него не из–за идиота–прапорщика, утерявшего свой «Scorpion»; пистолет был только зацепкой, зацепкой Полковник давно уже ходил в немилости у начальства, потому что слишком много знал…
— Ну, так что?
— Хорошо, я согласен, — произнес Полковник и почему–то побледнел. — Но я могу тебе верить?
— В чем?
— В том, что все будет именно так, как ты мне сейчас рассказал? В том, что меня не расстреляют, чтобы удовлетворить жажду крови? Равно как и во всем остальном…
— А я тебя когда–нибудь обманывал? — в свою очередь весело поинтересовался Телохранитель, весело, потому что вое так удачно закончилось, для него, конечно, — честное слово коммуниста!..
В городе сумерки наступают незаметно: «серый час», «время волка». Небо над Москвой становится мертвенно–бледным, а потом сразу же начинает темнеть — быстро, буквально на глазах. Кремлевские стены сочатся сукровицей, и только телефонные плоскости привычно поблескивают, как хирургические инструменты в абортарии. В такое время лучше всего думается, такое время мысли скорей, чем в какое–нибудь иное время, склоняются к аллегориям и ассоциациям.
Да, любое сравнение хромает, но «врач–гинеколог» — лучше и не придумаешь. Потому что опытный врач должен не только грамотно избавить от нежелательного шюда, не только уметь быть интеллигентным и предельно обходительным но, как и всякий врач, уметь сокрыть от больного его участь, знать, какое слово тот хочет услышать — особенно, если такой больной приговорен и ему уже ничего не поможет…
«Суперигра!.. На барабан выставляются: информационное пространство, деньги, акции… политическая власть в стране!..»
…неприметная в московской автомобильной толпе желтая «волга», покружив по центру Города, пересекла сперва Бульварное, затем Садовое и выехала на Ленинградский проспект.
Сырой весенний ветер надул на ртутное небо рваные комки облаков, лужи и грязь немного подсохли; было только слышно, как в салоне ровно и зловеще гудит отопитель, да в днище машины иногда попадают мелкие камешки.
По соседним рядам проспекта проносились автомобили, сигналили, толкались перед перекрестками, суетливо перестраиваясь из ряда в ряд; по грязным, мокрым обочинам муравьинно бежали чем–то перепуганные, озабоченные прохожие — тоже, наверное, боялись опоздать…
Скоро и тут, в Russia, будет точно также, как и в New York; все эти злые хмурые people, сломя голову, куда–то спешат, торопятся, всем надо было успеть, угнаться, никто не хочет оставаться последним…
Быть последним в очереди, в жизни, быть аутсайдером — нет ничего хуже. Писатель понял эту прописную истину в United States of America. Можно быть предпоследним, предпредпоследним, но — не в самом хвосте. Остаться последним, признать себя неудачником, — нет ничего страшней, позорней, ужасней, безобразней, бездарней. кошмарней, чем это. Наверное, еще хуже, чем бытьимпотентом…
Hавернoe, самое страшное ощущение — это когда никто не подталкивает тебя в спину, когда ты не ощущаешь чьего–то горячего дыхания в затылок.,.
Но теперь ему дышали в затылок, но это была уже не очередь; это было что–то страшное, ужасное, непонятное, совершенно необъяснимое — не только рационально, конкретно, но и абстрактно–умозрительно.
Кто они, эти страшные люди с зелеными туберкулезными клевками глаз, с жуткими электронными голосами — автоответчиками, так нагло и бесцеремонно затолкавшие его в машину, будто бы гнусные black наркоманы a New York, но не где–нибудь в South Bronks, а в центре столицы мировой державы?
Конкуренты из другого издательства?
Страшное и до сих пор вездесущее КГБ?
Люди Телохранителя, куда более страшные, чем все спецслужбы мира, вместе взятые?
Профсоюз киллеров — кто–то из тех самых, которые отравили на тот свет его героя?
Бандиты, которые теперь будут вымогать мзду, выкуп с Издателя?
Может быть… может быть это просто какая–нибудь ошибка, досадное, как говорится, недоразумение, и он, Писатель, когда выйдет из этой желтой «волги» целым и невредимым, обязательно опишет забавное приключение в последней главе будущего бестселлера?
Если, конечно, выйдет…
Вряд ли недоразумение: голос–то — будто бы электронный, аэмоциональный такой голос — тот самый, из трубки…
Автоответчик: «не. надо. тебе. этим. заниматься.»
А чем таким он занимался?..
Просто выполнял свой гражданский, понимаете ли долг — распутывал хитросплетения жизни и смерти известного и любимого всеми журналиста, замечательного человека, профессионала высшей пробы, доброго гения Останкино Влада Листьева… Которого любили все. Гражданский и, если на то пошло — коммерческий долг перед Издателем, который вложил в него деньги…
Что тут такого?
Писатель, немного осмелев, повертел головой — и куда это его везут?
В Шереметьево, что ли? Что, сейчас на самолет посадят и — из страны?
Насилуя мышцы лица, чтобы изобразить хоть какое– то подобие улыбки, он со скрытым, почти безотчетным подобострастием спросил:
— А куда мы едем?
Спутники промолчали будто бы не расслышав вопроса. А может быть, и действительно не расслышали, может быть, они глухие, может быть, запрограммированные роботы с немигающими лампочками блевотного цвета?
Писатель попытался высвободить руку — она по– прежнему была заломана, но тут же ойкнул от боли.
— Не делай лишних движений, — ледяным голосом посоветовал тот, что сидел слева.
Ой, как больно — зачем же они ему руки–то ломают?
Не знают, что ли, что он — писатель, который тут, в Russia, больше чем писатель, и что ему над руками работать–писать, писать, писать, писать, издавать свои детективы–мелодрамы–триллеры как минимум стотысячными тиражами и писать, писать, писать, чтобы вновь издавать и…
И на хрена он в эту литературу полез?
Сидел бы лучше на Брайтоне, среди таких же, как и он, работал бы таксистом спокойненько… Ведь таксист в New York — не больше, чем таксист…
Уже темно, и улицы, которыми катит желтая «волга», совершенно незнакомы Писателю. Какие–то плавающие в черно–чернильной, как гематома, темноте окраинные микрорайоны, заводские трубы, бетонные коробки…
Боковые стекла запотели ничего не видно. И дождь начался, как назло.
Желтая «волга» движется плавно, с трудом преодолевая сопротивление заводненного пространства; точно подводная лодка среди донных ущелий, подсвечивая себе путь фарами–прожекторами, иногда освещая ближним светом встречно проплывающие субмарины с красными и оранжевыми хвостовыми огнями. Коралловые безлистные деревца, робко тычащие вверх, на поверхность поломанными пальцами, фосфоресцирующие прямоугольники в стенах ущелий, дождь только угадывается — по шуму над головой…
Еще минут десять — и автомобиль подъезжает к металлическим воротам; они тут же отодвигаются.
А впереди уже маячит какое–то здание — то ли ангар, то ли пакгауз, то ли небольшой завод. Еще одни ворота — прямо в стене, и тоже открываются сразу же, как по незримой команде…
Писателя вывели из машины и повели какими–то темными коридорами, бесчисленными переходами, лестницами.
Никак нельзя понять направление: вправо, влево, наверх, вниз? Коридор, налево, направо, лестница, два пролета вверх, три — вниз, еще один коридор, налево, прямо, еще одна лестница, переход на другую площадку, вверх на четыре пролета, вниз…
Все, судя по тому, что сопровождающие остановились как вкопанные — пришли.
Небольшая комната, похожая скорей, на камеру — окон нет, и синий, как в операционной люминисцентный свет безжалостно высвечивает каждый угол. Две табуретки, письменный стол — и все.
— Садись…
Писатель, робко взглянув на спутников, уселся за стол.
— Не сюда…
— К стене?
— Да.
Ну, спорить не приходится: Куда бедному аиду спорить с такими…
— Лицом к стене…
Ой, мамочка…
— Ты знаешь, кто мы?
Писатель заискивающе улыбнулся:
Федеральная Служба Контрразведки?
— Нет.
— Охрана издательства… — он назвал конкурирующее издательство, в которой, по слухам, создавался аналогичный товарец — тоже книга про павшего смертью храбрых.
— Нет.
— Охрана Президента?
— Нет.
— Банд… извините, бизнесмены?
— Нет.
— Кто вы?
Молчание.
Скрипнула металлическая дверь, тонкий и зловещий скрип, будто писк попавшей в капкан канализационной крысы. Водятся такие крысы под Москвой, в бесконечных подземных коммуникациях — огромные, бурорыжие, с голыми, тошнотворными хвостами, с острыми умными мордами…
Писатель оглянулся — никого.
Ушли.
Поднялся, сделал несколько робких шагов к выходу. Потрогал дверь — железная, толстенная, непроницаемая, будто бы в хранилище американского золотого запаса Форт — Нокс, тонну динамита заложи — ничего не случится… Сколупнул сухую краску, растер между пальцами…
Ну, и что теперь?
Долго его будут тут держать?
Очень хотелось курить, но сигарет как назло не было. Наверное, в кабинете Издателя забыл. Похлопал себя по карманам, зачем–то поставил ногу на табуретку, подтянул носок, послюнявил ладонь, стер с туфель комочки засохшей грязи…
Что делать?
Непонятно…
Сел на прежнее место, опасливо озирнувшись по сторонам: а вдруг его сейчас изучают, рассматривают через какие–нибудь подглядывающие устройства, сортируют, анализируют информацию…
Надо выглядеть на все сто — чтобы спокойствие на лице было, чтобы носки были подтянуты, чтобы обувь блестела, чтобы…
Ведь он — Писатель, а писатель in Russia больше, чем writer in USA…
Вновь скрипнула дверь, и тут же команда бесстрастно–электронным голосом:
Не оборачиваться.
Да, вот и все.
Пришли.
Они.
Кто они?
Какая разница: они — это просто Они. Они — понятие неперсонифицированное, только во множественном числе. Те, кто надо всеми, те, кто на самом верху.
Они, короче.
И все–таки:
— Кто вы?
— Теперь вопросы будем задавать мы.
Ну, хорошо… Неужели вы схватали меня на улице и привезли сюда только для того, чтобы задавать вопросы?
— Задавайте…
Голоса вошедших были спокойны и бесстрастны, настолько бесстрастны и так удивительно спокойны, аэмоциональны, что вопросы и ответы невольно выстраивались в сознании с книжно–графической точностью, как на заправленном в печатную машинку листе бумаги; у любого Писателя это — подсознательное, профессиональное.
Он — им:
Кто вы?
Они — ему:
А разве ты не знаешь? — Пауза. — Мы храним истину в последней инстанции, мы наказываем графоманов и суесловов. Нам известно все — что было, что есть и что будет… Ты хочешь узнать главное?
Он — им:
— Да.
Они — ему:
— Что?
Он— им:
— Кто его убил.
Пауза.
— Ты неправильно ставишь вопрос: тут, в России принято сперва спрашивать «кто виноват?», а затем — что делать?», хотя если бы эти вопросы догадались поменять местами, второй бы отпал за ненадобностью.
Он — им:
— А как?
Они — ему:
— При такой последовательности логичны третий и четвертый вопросы: «кто?» и «почему?» Если поменять местами и их, «кто?» отпадает. Зная «почему?», всегда можно узнать «кто?».
— Но кто?
— Ты уже написал об этом.
— Я не верю в написанное — ни в Аналитика, ни в Маньяка, ни в Нее, ни в Бандита, ни в Банкира ни, тем более, в Телохранителя…
— Тогда–зачем писал?
— Потому что… Потому что… Вы сами знаете, почему…
Пауза.
Они — ему:
— Ты десять раз крутил барабан, ты набрал много очков, и теперь можешь сыграть в суперигру. Как он.
Он — им:
— Он выиграл?
Они — ему:
— Проиграл. Иначе бы ты тут не сидел. Но его суперпризы были иные — информационное пространство, деньги, акции и главный суперприз: политическая власть. Ему надо было угадать слово, но он не угадал его. У тебя иные призы, ты сам знаешь, какие… Если ты угадаешь, «почему?», будешь знать ответы на все остальные вопросы — «кто?», «что делать?» и даже «кто виноват?». В случае неправильного ответа ты лишаешься уже выигранных призов, и никогда уже не выйдешь отсюда. Ты согласен?..
— Да. — ответил Писатель, — да, я согласен…
Отложив рукопись, Издатель закурил и, протянув сигареты Писателю, поинтересовался:
— Так ты что — действительно знаешь, «почему?» и «кто?» его убил?
— Я даже знаю «кто виноват?» и «что делать?», — скромно улыбнулся Писатель.
Не зря же он сразу после того разговора отправился пить кофе, долго думал, что будет говорить в неприметном одноэтажном доме где и получил не только «закрытые источники информации», но и больше, чем даже мог рассчитывать, а потом уселся за машинку и, как Владимир Ильич Ленин в эмиграции — работать, работать, работать…
Издатель недоверчиво посмотрел на него.
— Ты что — угадал слово в суперигре? Ну, с этими, на желтой «волге»… Которую они тебе предложили?
Закурив и с наслажденением затянувшись, будто бы действительно долго не курил, Писатель ответил:
— Не было никаких их…
— Как это?
— Мы ведь договорились, что факты я возьму из открытых, полуоткрыто–полузакрытых и вовсе закрытых источников. И облеку их в художественную форму.
— Так ты что — и эту желтую «волгу», и их — тех самых, и суперигру — придумал?
— Равно как и все остальное.
— Хм–м–м… Но ведь ты знаешь, «кто?» и «почему?» — спросил Издатель.
— Да, — ответил тот, — знаю, знаю, я теперь много что знаю… Но писать об этом не буду.
— Как?
— Потому что мне моя жизнь дорога как память, — улыбнулся Писатель. — Да и вашу, кстати говоря, я тоже ценю…
Докурив сигарету почти до фильтра, Издатель печально вздохнул.
— Читатель не поймет.
— Как?
— Ну, возмутится: как это — читал, читал, и на самой последней странице убедился, что… Так и не узнал главного. Может быть — вообще выбросим эту суперигру с суперпризами — а?
— А что — он это с первой страницы должен был понять?
Издатель неопределенно повертел пальцами.
— Ну, все–таки…
— А почему игру выбросим?
— Ну, случается же и такое: набрал человек призы, а в суперигру не захотел… И так вроде все нормально: десять новеллок, каждый увидит то, что захочет увидеть… А потом, — он вновь потянулся к сигаретной пачке, — потом не нравится мне все это… Знаешь, наверное правильно по «ящику» говорят: «Мир будет таким, каким мы его создаем»…
— Конечно правильно, — улыбнулся Писатель. — А к чему это?
— Ну, представь: помнишь какая очередь к Останкино стояла — желающих попрощаться? Допустим, что каждый второй купит по твоей книжечке, — в Издателе заговорил профессиональный издатель, — и каждый второй из тех, что купит — поверит…
Писатель отмахнулся.
— В них и так каждый первый вериг.
— Вот и создастся «новая реальность», — довольно мрачно подытожил Издатель, — такая вот новая русская реальность… Неутешительная такая, короче говоря, реальность.
— Хотите сказать, что она… ну, материализуется? — уточнил Писатель. — Это только в дебильных голливудских фильмах материализуется. Тут — не United States of America. Тут Russia.
Издатель ничего не сказал — аккуратно сложив листки рукописи, он запер её в сейф и вздохнул…
…неприметная в московской автомобильной толпе «волга», точно такая же, как в его романе, остановившись у выщербленного бордюра, скрипнула тормозами. Взгляд Писателя лишь на секунду задержался на её грязной дверце и скользнул дальше — в сторону уже видневшегося кафетерия. Да и смотреть–то на что–это тебе не огромный «chrisler» цвета яичного желтка, на котором он ездил по бесконечным и унылым нью– йоркских street, высматривая, не поднимет ли кто hand, не проголосует ли?..
Слава Богу, что те времена уже позади — он Писатель, почти что автор почти что бестселлера, а писатель in Russia больше, чем писатель, а также — издатель и читатель одновременно.
Любят тут, in Russia книжки, знают и его, замечательного writer'а. Если по буквам читать, как маленькие дети, только–только овладевшие латинским алфавитом, «вритер» получается. От слова «врать», наверное. А вы покажите мне честного писателя или журналиста — тут, в Russia. И вообще — честного человека.
Нет тут таких людей: разве Лёня Голубков или Марина Сергеевна — за что их народ любит и до сих пор очень так тепло вспоминает…
Ну, «вритер» так «вритер».
Надо бы тут, в Москве престиж–рекламу где–нибудь повесить — хотя бы тут, вместо глупого плаката вон тех шоколадок. Что — его товар хуже? Чем была бы жизнь без любви к литературе? Чем была бы любовь к литературе без него, writer’a…»
Передняя и задняя дверцы желтой «волги» синхронно, как по команде открылись, и оттуда вышли двое — такие же неприметные в московской людской толпе, как и эта машина.
Они шли прямо на Писателя, и в их ничего не выражающих бесцветных глазах отражалось слово «writer» по слову в каждом зрачке.
Писатель все понял, но было уже поздно: заломав руки, его втолкнули на заднее сидение, и уселись по бокам, рядом — точно в гангстерском или шпионском фильме или в его последнем романе.
— Вы… вы кто?
Сидевший слева резиново улыбнулся и после непродолжительной паузы произнес голосом телефонного автоответчика:
— Мы ведь тебя предупреждали… Не надо было тебе этим заниматься.