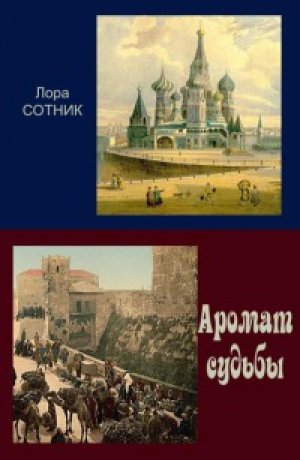
Лора СОТНИК
АРОМАТ СУДЬБЫ
Историческая новелла
1. Бег от печали
Дарий Глебович Диляков и его сын Гордей сидели в удобной повозке, катящейся на юг усилиями впряженных в нее волов дивного пепельного цвета с роскошными не очень закрученными рогами. Говорят, эти волы — потомки бизонов, только в результате многих скрещиваний рога у них стали массивнее и выше; шерсть тоже претерпела изменения — по всему телу выровнялась по длине. Редкий их окрас эти подробности, однако, не объясняли. Ну и ладно. Главное, что смотреть на них, величаво идущих впереди, не надоедало.
Вокруг — начинался май, пел и бурлил!
Еще обнаженные рощицы со скелетиками крон были, тем не менее, многозначительно укутаны зеленым туманом, исходящим из разбухших и потрескавшихся почек. Туман распространял беспрепятственно аромат весны и свежести. Почва, на любом пятачке, покрывалась молоденькой растительностью, совершенно по–детски нежной и светлой, тянущейся к солнцу в непреодолимой жажде жизни, и тоже пахла призывно и головокружительно. Вовсю пели птицы, а когда не пели, то деловито носились в воздухе и хором кричали.
Такую красоту описать нельзя, ибо она не фиксируется памятью. Ведь тут главное не в видах и даже не в звуках и ароматах, а в солнечном просторе, пронизанном их сочетанием. А как запомнить простор, ширь широкую от края и до края? Она нематериальна, она просто становится состоянием человеческой души, летучим, как облака, и ускользающим, как свободная мысль.
Погружаясь в такое состояние, человек начинает жить полнокровным содержанием, и тогда ему до всего есть дело. Тогда он понимает, как трудно птице свить гнездо, вывести в нем детенышей и поставить их на крыло — под открытым небом, без никакой защиты! И сочувствует растениям, привязанным к одному месту и обреченным на доверие к миру, который зачастую того не стоит. Окружающая благостность открывается другой стороной, откуда видно, что она не так уж умильна. Скорее, она опасна и жестока. Ее тяжело терпеть. И только понимая это, человек начинает ценить свое превосходство, состоящее в умении мыслить и жить в коллективе. А заодно научается беречь остальной живой мир, как свой дом.
Спешить путникам было некуда, их основная цель состояла в самом путешествии. Поэтому и выбран был такой тихоходный вид транспорта, как волы. Им они рассчитывали доехать до Воронежа, потому что этот участок пути наиболее страдал в непогоду, оставляющей после себя колдобины, глубокие колеи и кочки, труднопреодолимые на быстром ходу. Намечая маршрут, решили так: не мешает поберечь свои бока, если к тому имеется хоть малая возможность. Воловий ход как раз такую возможность и предоставлял.
При всей мудрости такого решения все же из дому они выехали в конной коляске и догнали обоз только возле Тулы, где кончались хорошие дороги. Прощание с родным городом было трогательным, как никогда, что объяснялось не длительностью разлуки, а тревожащей дальностью поездки. Остановившись у околицы, они вышли из коляски и долго смотрели на город, на многажды виденные картины, на группы построек, на отдельные дома, окутанные теперь дымкой майского утра, и им казалось, что над Москвой был простелен охранный полог. Они испытывали невольную дрожь, что сами–то из–под этого полога выехали, оставшись без его защиты.
Они словно посылали Москве наказ и благословение крепко стоять в днях и веках, чтобы уверенно встретить их возвращение. И вместе с тем, брали с собой частицу ее невидимых материй, как залог их неразрывности и как опору свою на земле.
Это походило на укол ностальгии, на крик души, привыкшей к месту, на щекочущий страх перемен. Так играло с ними воображение, и игра эта была характерной для любого, кто вознамерился далеко–далеко уехать от дома.
Зато настроения они испытывали разные. Дарий Глебович со всех сил подбадривал себя, хвалил за решимость, за оригинальность выдумки, за отвагу, что придумал это странствие, дабы избавиться от угнетающей тоски по жене. И вот как раз пуще всего жила в нем надежда на выздоровление, на воскрешение его души, на возрождение в нем увлеченности жизнью. А Глеб был исполнен энергией, как малый щенок на прогулке по незнакомым ему местам, он горел любознательностью и жаждой познания.
— Как велика Россия, отец! И как разнообразна!
— Именно так и есть, — поддакивал отец. — Нам надлежит гордиться своей страной, дружок, и государями нашими, что собрали ее воедино.
— И как прекрасно, что я ее увижу. Хотя и не всю. А мы поедем после этого в Сибирь?
От Сибири Дарий Глебович отговаривался, говоря, что этот суровый край для праздных поездок не приспособлен.
Отец и сын Диляковы, заразившись всеобщим оживлением в природе, всю дорогу заинтересованно беседовали. Одно время вспоминали о Пушкине, которым до крайности был увлечен Гордей, а потом Дарий Глебович незаметно перевел празднословие на себя, как, собственно, и бывает, в пути. Путешественники ехали на юг, так что их единственным развлечением, кроме разглядывания и обсуждения разворачивающихся вдоль дороги окрестностей и событий, оставались беседы.
— Впервые я познакомился с твоим кумиром в ранней молодости, когда только начинал практиковать в медицине и ехал на Кавказские минеральные воды в поисках жизненного и профессионального опыта. Я недавно окончил Московский университет, получил хорошую практику у профессора Эриха Липпса, проработав у него два года в качестве ассистента, и имел основание верить в собственные силы и надеяться на счастье. Мне шел двадцать седьмой год, и я хотел обзавестись интересными, перспективными и полезными знакомыми, с которых бы в будущем мог сформироваться круг моих московских пациентов. Жизнь казалась бесконечной и прекрасной. И все это было у меня впереди, — рассказчик замолчал и опустил голову, выдернул из подстилки сухую ароматную соломинку, начал мять ее в пальцах.
Прошло всего лишь два месяца со дня неожиданной смерти его жены Елизаветы, душа еще кричала и болела. Но сильно горюющий Дарий Глебович был просто необыкновенным молодцом, что сопротивлялся горю и нашел возможность путешествовать, причем — не в праздности и с удобствами, а в полезных трудах и будничных тяготах. Эта неординарная поездка даст ему новые впечатления и сотрет из памяти тяжелые картины прошлой осени и зимы. Поистине горе забывается в тяготах и в новых впечатлениях, и тут он их получит сполна.
Нетерпеливый Гордей невольно вздохнул, раздосадованный паузой в рассказе, но лишь посмотрел на отца — боялся спугнуть в нем то редкое состояние, при котором раскрывается и поверяет себя душа. Исповедь отца сама по себе интересна, — думал он, — и стоит того, чтобы и говорить и слушать ее без спешки. Кроме того, она как очищающая процедура избавит его от страданий, вызванных смертью мамы, для чего, собственно, мы и едем в Багдад.
Тракт, ведущий из Москвы в город Ростов–на–Дону, основанный повелением императрицы Елизаветы Петровны в конце 1749 года, менее столетие назад, еще не был обустроен. Только недавно он окончательно освободился от снега и был еще влажным, но при этом довольно утрамбованным. Удачная пора, им с этим повезло. Ранняя майская поездка имела множество преимуществ: равное отсутствие жары и холода, а вместе с тем солнечную погоду, беспрерывное пение птиц, запах свежей травы, успевшей укрыть землю по долинам и холмам, и эту весьма приятную дорогу, когда из–под колес не вырываются облака пыли и не гонятся за телегой, оседая на ней. Лучшего желать нельзя. Парень тихо радовался, что уговорил отца взять его с собой, поэтому старался не надоедать, во всем слушаться, помогать и вообще все впечатления запоминать.
В его мыслях крутились строки из поэмы «Полтава», которую они слушали в исполнении автора перед своим отъездом, и парню трудно было удерживаться от того, чтобы не произносить их вслух. Конечно, ни время года, ни их теперешние настроения, ни текущие заботы, ни события поездки не были созвучны тем строкам, но они с отцом ехали на юг, скоро должны были попасть на исконные казачьи земли. Все это словно оживляло в воображении исторический фон поэмы. И это вдохновляло Гордея вспоминать встречу с Пушкиным, наполняло его ощущением большой значимости той давней истории, пережитой краем, о котором писал Александр Сергеевич в своих стихах. В памяти Гордея не прекращал звучать тихий, немного хриплый голос гениального поэта, выразительные декламации, перед глазами возникала его хрупкая фигура, порывистые движения, характерные жесты, поза с отставленной назад ногой, вдохновенное лицо с горящим взглядом…
Дарию Глебовичу были понятны отроческие увлечения сына, потому что он сам уважал литературу и охотно вспоминал свою молодость, где потерялась его неожиданная встреча с Пушкиным. Пушкин? Да он его тогда и не знал! Конечно, поэт вырос в Петербурге, а Дарий Глебович был москвичом. И отец с удовольствием разделил бы сейчас Гордеевы настроения, но пережитое недавно горе, такое неизбывное, не оставляло душу, угнетало и омрачало его мир, убивало в нем радость и легкость жизни. Никак ему не удавалось сбросить с себя тяжесть утраты, расправить плечи, вздохнуть с облегчением…
Гордей не заметил, как произнес эти строки вслух. Дарий Глебович даже качнулся от неожиданности, опамятовался от задумчивости и посмотрел на сына. В его сердце вспыхнул огонек нежности и гордости — вот какого умницу родила ему Елизавета. Тут же на глаза набежали слезы, но Дарий Глебович успел их вытереть еще до того, как в его сторону повернулся Гордей и продолжил читать стихи с беспечным видом:
— Ну как, папа, хорошо я читаю из «Полтавы»? — Гордей деликатно отгонял от отца угрюмость, зная, что его игра в поддавки тоске может затянуться надолго и не только повредит здоровью, но и оторвет от Гордея время приятного общения с отцом. — Выучил! Но ты вспоминал свою поездку на Кавказ, — напомнил парень Дарию Глебовичу. — Расскажешь дальше?
Дарий Глебович отошел от задумчивости
— Так вот я и говорю, что Александр Сергеевич тогда еще был бойким и озорным мальчишкой, — продолжил он. — Правда, только по настроениям, на самом деле он всего на пять лет моложе меня. Но в юности пять лет много значат.
— О, конечно, — с пониманием поддакнул сын. — Так где вы конкретно встретились?
— В Екатеринославе. Я там остановился на отдых, потому что торопиться меня ничто не вынуждало. Тогда, как и сейчас, бушевал май, был в самом разгаре. Но погода стояла влажная и прохладная. Еще и ветреная. А на тех ветрах сразу высохли продавленные в грязи колеи, комья превратилось в камень, что сделало дороги почти непроходимыми, по крайней мере очень тряскими. Кони падали от усталости, люди мяли бока в поездках, у них затекали ноги от долгого напряженного сиденья. Да. Значит, Пушкин, оказывается, тоже был в этом городе. В южной столице России он ждал конный поезд генерала Раевского, чтобы вместе с ним путешествовать на Кавказ. А тем временем развлекался местными невидалями и успел искупаться в Днепре. Конечно, заработал простуду.
— Чего он туда ехал, разве он был военным?
— Куда? — не понял Дарий Глебович, ибо мысль его летела стремительнее слова и уже успела опередить вспоминаемые события.
— На Кавказ.
— А-а… Нет, конечной целью Пушкина была Бессарабия, куда после посещения Северного Кавказа должен был отправиться и Раевский. Вот Пушкин и ехал с приятной оказией кружным путем, во–первых, ему было интереснее коротать время в дороге со своими хорошими знакомыми. Ведь он дружил с Николаем, младшим сыном генерала, и симпатизировал его красавице–дочери. А во–вторых, так было и надежнее и безопаснее.
— А в Бессарабии что ему надо было? Неужели ехал за материалом к своим произведениям?
— И за материалом, конечно, но официально это выглядело как перемещение по делам службы. Хотя после событий с декабристами я лично понял, что это была самая настоящая ссылка.
— Но ведь ссылают в Сибирь!
— Не только, как видишь, друг мой, — Дарий Глебович засопел от недовольства тем, что нетерпеливый мальчишка все время его перебивает. А ему хотелось рассказать все по порядку, не спеша, чтобы еще раз восстановить в памяти стертые уже впечатления. Ведь это была его молодость, радостная пора.
— Папа, прости, я тебя перебил, — Гордей словно услышал мысли отца. — Что было дальше?
— Сначала я ничего этого не знал. Просто меня вызвали ночью к больному. Делать нечего — пошел. Больной оказался совсем юным. Небритый, бледный и худой, он сидел на дощатой скамье в еврейской лачуге, весь в жару.
«Вы заболели? — спросил я. — Как давно?»
«Вчера. Видите ли, я опрометчиво искупался в Днепре», — ответил молодой человек, и тут я заметил, что перед ним на столе лежит лист бумаги, на котором было что–то написано, еще чернила не высохли.
«Чем вы здесь занимаетесь?»
«Пишу стихи».
«Нашел время и место», — подумал я, прописал ему на ночь теплое питье и пошел домой. Скажу тебе по секрету, полыхание его щек в большей степени объяснялось теми стихами, чем простудой.
— Это все? — снова не выдержал Гордей. — Или позже ты еще его видел?
— Позже я тоже присоединился к поезду генерала Раевского и имел возможность всю дорогу до самого Горячеводска наслаждаться общением со своим необычным пациентом. Им оказался Александр Сергеевич Пушкин, молодой поэт из Петербурга, но уже известный при дворе. В дороге он продолжал болеть, потому что не любил лечиться. Пил микстуры, как ребенок, — с капризами. И конечно, шалил, не слушался рекомендаций. На остановках носился по степи раздетым, снова простужался. Мы познакомились поближе, он мне читал стихи, рассказывал о своих лицейских проделках, о друзьях, много шутил.
— А теперь он показался мне подавленным, раздражительным.
— Так это теперь… Побила его жизнь, конечно. А тогда он постоянно проказничал. Вот, например, приехали мы в Горячеводск. Там обязательно надо было зарегистрироваться в книге коменданта, как делали все посетители вод. За это взялся Александр Сергеевич, сказал, что всех запишет. Я видел, как он сидел во дворе на куче дров и с хохотом что–то писал. Но я ничего предосудительного заподозрить не мог. Оказывается, он записал в книге, что прибыли лейб–медик Диляков и недоросль Пушкин. Я едва убедил коменданта, что я не лейб–медик, а просто врач, и Пушкин не недоросль, а титулярный советник, что он вышел с этим чином из Царскосельского лицея.
— И что ты после этого сказал Александру Сергеевичу?
— Сказал, что исправил запись.
— А он тебе?
— Ничего не сказал, немного подулся и все. Но скоро мы расстались. Я погрузился в новую работу, а он спустя некоторое время поехал дальше. Однако эта встреча еще долго бередила мое воображение. Вскоре я достал «Руслана и Людмилу», перечитал и убедился, что имел честь познакомиться с гением и больше на него не обижался за опасные шутки.
Покачивание повозки, ласковое весеннее солнышко сделали свое дело — путешественников склонило ко сну. Дарий Глебович не сопротивлялся ему, закрыл глаза и вскоре сладко засопел. А Гордей продолжил вспоминать «Полтаву», звучание неповторимого голоса поэта и мечтать о новой встрече с Пушкиным. Он хотел не просто присутствовать при авторском чтении стихов, не просто удостоиться вежливой беседы гения с поклонниками, а персонально познакомиться с Александром Сергеевичем, сказать, как он восхищается его стихами, как любит его. Он придумает такие слова, которые убедят Александра Сергеевича в необходимости гнать от себя лишние хлопоты, бытовые дела, различные придворные распри — ради новых свершений в творчестве. Все остальное — мелочь, не стоящий внимания мусор, пена жизни. Обо всем остальном через десяток лет не только забудут, а даже знать не будут, что оно на свете существовало. А его творчество — вечно, его имя — бессмертно, его влияние на благородные души никогда не прекратится, сколько будет существовать род человеческий.
Гордея от неопределенного воодушевления пробирал озноб, словно он имел ко всему этому причастность. Он посмотрел на отца, и вдруг острое сожаление резануло сердце — он заметил у отца и седину, и морщины под глазами, и серый цвет кожи — черты, отпечатавшиеся на его внешности от пережитого недавно горя. Мальчишка тоже тосковал по маме, скорбел, что она рано покинула их. Но разве весна, солнце, новые впечатления и мечты об этом путешествии не способны были вытеснить из отроческого сердца любую грусть или хотя бы заглушить ее? И не потому ли, что этого хотела оптимистическая и жизнелюбивая природа, что он не оставлял воспоминаний о встрече с Пушкиным, все время оставался в плену своего восхищения им?
Так же и Дарий Глебович искал себе утешения в новых впечатлениях, встречах, в новой работе. Случайно он узнал, что Соломон Несторович Конт, известный владелец модных московских магазинов, купец и богач, снаряжает своих людей в Багдад за новым товаром, «за тканями да шелками — заморскими чудесами», как он говорил, и ищет врача для сопровождения обоза.
— В начале мая на юг пойдет обоз с товарами, поставляемыми из России на Кавказ и в Персию. Ну… в основном мы торгуем ситцем, миткалем, шерстяными и шелковыми изделиями и бархатом — это так называемый «красный товар». Правда, я знаю только то, чем сам загружаю обоз. Об остальных могу сказать, что их товары могут не относятся к «красному товару», а быть из главных категорий — хлопчатобумажные ткани, соль, сахар, чай, нефть и нефтепродукты. А также перец, каучук, швейные машины…
— Внушительный список, — огорошено прокомментировал Диляков, подрядившийся ехать вместе с обозом. Путешественники часто прибегали к таким вариантам, чтобы попасть в нужное им место. Другое дело, что самих путешественников было не так много, поэтому их присутствие в обозе воспринималось как странность.
— Да, — усмехнулся Соломон Несторович. — Но я говорю, что там будет груз еще двух купцов, поэтому и возов будет несколько, — рассказывал он о своем предприятии Дарию Глебовичу. — Но вояж будет почти приятен. Смею уверять, что дорога окажется легкой и наши люди не отяготят вас своими болезнями, но, посылая их в долгий путь, мы обязаны позаботиться об оказании лекарских услуг. Об этом нашим сообществом поручено позаботиться мне. Следите за режимом передвижения, за питанием, за погодой, дабы путешественники учитывали эти факторы в дороге и оставались живыми–здоровыми. Впрочем, об этом также будут заботиться обозные, это их парафия.
— Только бы погода была хорошей, Соломон Несторович. Уповаю… — сказал Дарий Глебович.
— Голубчик, холода точно не будет — лето ведь, юг… А если дождь, так шатры натяните, у вас для этого будут накидки. И на скотинку тоже, как же — мы ее бережем. Ну остановитесь в укромном месте, конечно, постоите. Но ведь раскисшая дорога при первом же ветерке и солнце опять наладится.
Диляков кивал головой, представляя себя уже в пути и прикидывая, что он такие тяготы в состоянии будет вынести. Ему бы сейчас только дома не оставаться, не видеть привычных вещей, прежней обстановки… Убежать, бежать!
— Сколько же продлится поездка? — поинтересовался он, плохо, тем не менее, представляя столь грандиозное мероприятие. — Немаловажно знать.
— Извольте, мой друг, — Соломон Несторович отодвинул занавеску и открыл висящую на стене карту дорог Российской империи, где ярким цветом выделены были те маршруты, куда он снаряжал свои экспедиции. — Пути вам предстоит 3 200 верст. Добираться будете воловьей упряжью, а это медленнее, нежели конной, — в среднем пять–семь верст в час. Правда, хорошо, что по тракту из Москвы на Кавказ налажена смена тягла. Но не будем брать лучшее значение скорости, допустим, она будет 6 верст в час.
— Ну–ну, — заинтересованно следил Дарий Глебович за подсчетами Соломона Несторовича, по студенческой привычке теребя левое ухо.
— Тогда чистого хода в одну сторону у вас будет 534 часа. Все учтено, мой друг, — Соломон Несторович улыбнулся и поднял вверх указательный палец, призывая не ослаблять внимания. — Далее. Хоть сейчас день нарастает и долгота дня составляет свыше 17-ти часов, но всему живому нужны отдых, сон. Так что будут у вас остановки. Давайте думать, что идти вы будете не больше 14-ти часов в сутки. Так?
— Да, давайте.
— Тогда вам потребуется около сорока суток. Если честно, то я беру два месяца. Мало ли что?!
— Да, запас времени нужен, — согласился Дарий Глебович. — А безопасность гарантирована? Ведь туда мы повезем не только товар, но и деньги или драгоценности, а оттуда — товар. Так ведь?
— Конечно! — удивленно округлил глаза Соломон Янович. — Видите ли, раз в два года я пополняю свои запасы изысканными и экзотическими товарами с востока. Редко, согласен, надо бы чаще. Но это дорогие вояжи и долговременные. В Европу мы наведываемся чаще. Так вот, до Кавказа мы едем со своими караулами, а дальше дополнительно нанимаем казаков, которые лучше знают местные условия, язык. Они сопровождают обозы до Багдада. Дорога домой в обратном порядке: до Кавказа охрану ведут казаки, а затем остаются только наши стражники. Еще что–то интересует?
— А если придется путешествовать не только сушей, но и морем? Кто должен позаботиться о грузчиках? — с сомнением, правильные ли он задает вопросы, произнес Дарий Глебович. — И потом, как быть с толмачами?
— Ну, на море мы не рассчитываем… Разве что случится что–то неожиданное… А так, наши стражники при необходимости будут выполнять грузовые работы. А как вы думали? — отреагировал Конт на удивленный взгляд слушателя. — Работа есть работа. А если потребуется, они наймут на месте дополнительную силу. Да вы не волнуйтесь, голубчик, у нас все давно налажено, — похлопал Соломон Несторович по плечу своего собеседника. — Это же не ваши вопросы! И с толмачами все в порядке. Нас уже ждут и на Кавказе, и в Багдаде. Каждому хочется свой гешефт иметь.
С этим Дарий Глебович спорить не мог. Втайне он затевал то, чтобы извлечь из пребывания в Багдаде и свою пользу, — привезти оттуда новые лекарства, восточные чудодейственные снадобья, редкие целебные коренья и травы. Для этого тоже брал в дорогу драгоценности, в силу чего беспокоился и заботился о безопасности поездки. Долго он искал по Москве человека, способного вывести его на нужных людей в Багдаде.
Поиски были долгими, потому что усложнялись осторожностью. Ведь он не хотел оглашать о своих намерениях случайных людей, чтобы лихой человек не понял, что он поедет туда не с пустыми руками. Наконец, хвала Богу, некий аптекарь с Мясницкой, Петр Алексеевич Моссаль, дал ему нужный адрес, даже записочку написал, говоря, что уважаемый Раман Бар — Азиз, знает его почерк и поверит этой рекомендации. Он также от руки нарисовал схему городского квартала, где располагалась аптека Бар — Азиза. Это было в самом центре этого восточного мегаполиса.
Конечно, там, на месте, надо будет решить вопрос с доставкой его груза в Россию, но это будет несложно, потому что его груз не займет много места.
— На окраинах там беспокойно, я бы не рекомендовал туда ездить. А в центре сравнительно тихо, — делился опытом Петр Алексеевич. — Но все же не забывайте, что это Багдад.
Так что речи насчет своего гешефта Дария Глебовича во всем убедили. Оставалось выяснить чисто технические детали. На вопрос о продолжительности поездки, купец сказал, что ждет их домой самое позднее в конце сентября.
— Вернетесь вместе с первыми прохладами и ранними сумерками, по летней еще дороге, — а я рассчитываю на будущий осенний сезон иметь обновленный ассортимент товара.
Договорились о взаиморасчетах, о других вопросах более–менее деликатного характера. На следующий день Дарий Глебович дал объявление в газете, что временно прекращает частную практику и продолжит ее в октябре. Он собирался вызвать в Москву бывшую няню Гордея, которая сейчас проживала у его младшего брата в Муроме, чтобы она присматривала за сыном как летом, на отдыхе в родовом имении, так и по приезде в Москву, когда наступит время продолжить обучение в гимназии.
Но Гордей заупрямился:
— Возьми меня с собой, не оставляй одного, — просил отца. — Я тоже хочу путешествовать, увидеть южную Россию, восточные страны.
— Это трудная и опасная поездка, — отбивался от мальчишки отец, но это его только подзадорило.
— Тем более. Как же ты один будешь, без меня? Вдвоем мы — сила!
И никакие уговоры на парня не действовали. Тогда Дарий Глебович решил пойти на хитрость — увлечь сына чем–нибудь таким, что заставило бы его остаться дома. Выбор был невелик. Отец попытался воспользоваться тем, что сын увлекается стихами, книгами, причем в свои неполных четырнадцать лет уже и разбирается, где массовые издания — неинтересные, наивные, — а где для образованных людей. Он и в руки не возьмет что–то вроде «Ивана Ивановича Вижигина» или «Димитрия Самозванца»[1], его притягивали не косность и застой авторов для народа, которые писали примитивно поучительные выдумки, а книги проблемные, содержательные, которые были написаны на языке новом, понятном, притягательном. Гордей даже «Московский телеграф» иногда читал.
Решение это пришло спонтанно. Как–то Дарий Глебович мысленно готовился к путешествию и попутно вспоминал свои странствия на Кавказ в молодые годы, вспомнил о тогдашних знакомствах и приключениях и наткнулся в памяти на встречу с Пушкиным. Да, как–то все у него тогда непросто получилось…
Конечно, сразу после встречи Дарий Глебович следил за молодым дарованием, отмечал сияние звезды Пушкина, наблюдал за ее восхождением, чувствуя какую–то призрачную причастность к нему. Даже в 1826 году, когда Пушкин приезжал в Москву, где Дарий Глебович уже давно, возвратившись с кавказских минеральных вод, развернул частную практику, он постарался попасть в число приглашенных в одно партикулярное собрание, организованное в честь знаменитого гостя. Там они при встрече поздоровались, а поговорить им не удалось.
А потом Дария Глебовича незаметно поглотила собственная работа, семья, дети, и он понял, что не успевает за этим гением. Александр Сергеевич так стремительно летел в будущее, так напряженно спешил навстречу грядущим поколениям, так безвозвратно удалялся от современников, снисходительно поглядывая на них с невероятной высоты чистого духа, что успеть за ним было невозможно.
И вот недавно, что сейчас показалось ему судьбоносно справедливым, Дарий Глебович прочитал «Бориса Годунова», последние главы «Евгения Онегина», поэму «Братья разбойники» и понял, что Александр Сергеевич на глазах погружается в вечность, тем более что в его произведениях появились мотивы «вожделенной смерти». Это было страшно, этого не хотелось допустить. Но как помочь тому, кто уже давно распрощался с человечеством, кому оно надоело как сборище безрассудных детей, которые только раздражают, а не вызывают умиление? Раздражают полностью и навсегда.
Как бы там ни было, а это был шанс оставить Гордея дома, привязать к книгам!
Ради такого дела Дарий Глебович решился даже на поездку в Петербург. Давно уж пора была познакомить сына со столицей. С новой столицей! А там он подгадал события так, чтобы попасть с Гордеем в общество, посещаемое Пушкиным, где удалось бы послушать, как он читает свои произведения. Пусть парень получит и пользу, и сильные впечатления, и вдохновение заниматься науками, лишь бы он не просился в поездку в Багдад.
Говорят, что любой бродяга может попасть на беседу, например, к губернатору в семь шагов. Надо только найти подходящих знакомых, которые могут быть как высокими чиновниками, так и челядью, прислугой или холопами. Загоревшись идеей встречи с Пушкиным, Дарий Глебович задействовал свои возможности, и благодаря давнему знакомому и коллеге доктору Сатлеру ему хватило не семи, а только трех шагов, чтобы добраться до цели.
И вот — встреча с Пушкиным! Это был замечательный вечер! Александр Сергеевич после нескольких слов, сказанных Дарием Глебовичем, узнал его и, раскинув руки, подошел поближе с обязательной шуткой:
— Любезный друг, как вы себя чувствуете? Помощь поэта врачу не нужна?
— Не помешает, — признался Дарий Глебович. — Вот, — при этих словах он кивнул, чтобы Гордей подошел ближе, — мой сын, Гордей. Ваш поклонник. Горит стремлением послушать ваши стихи.
Гордей быстро, насколько позволял этикет, приблизился, поздоровался, посмотрел в глаза поэту и, вытянувшись почти по–военному, низко склонил перед ним голову.
— Приветствую в вашем лице молодое племя, юноша, — Александр Сергеевич повел взгляд вниз, отвечая тем на поклон почитателя. — Какие имеете планы на будущее? — спросил вежливо.
— Закончить обучение в гимназии и поступать в университет, — ответил Гордей. — Пойду по стопам отца, хочу быть врачом.
Александр Сергеевич начал отговаривать мальчишку от поступления в университет, уверяя, что от отца он научится всем премудростям, а университет ему ничего не даст.
— Я не только хочу получить знания, но и познать людей, — скромно отвечал Гордей.
Пушкин рассмеялся.
— В университете людей не познаешь, их вряд ли можно изучить в течение всей жизни. Все, что можно приобрести в университете, это привыкнуть к жизни среди людей, и это много. Если вы так смотрите на вещи, то поступайте в университет, но вряд ли вы после этого не раскаетесь.
В нервозности, какой сопровождались эти слова, звучало разочарование, и было видно, что великий человек говорит это не для своих собеседников, а для себя. Что он в себе пересматривал, что переценивал?
— Но позвольте, как же в медицине без образования…
— Молодец! Человек стойких убеждений! — перебил говорящего Александр Сергеевич и широким жестом указал на него. — Вот что важно, молодой человек, — продолжал поэт, — читайте Святое Писание, читайте Ветхий и Новый Завет. Там есть все, поверьте мне. Это и успокоит, и добавит мудрости, и поможет смиренно перенести потери, — Александр Сергеевич улыбкой и пожатием руки благословил Гордея на путь свершений и отошел от них.
Но если бы он знал, как вовремя сказал свои прекрасные слова! С какой благодарностью откликнулось на них сердце самого Дария Глебовича! Он бы понял, что без всяких шуток оказал своему врачу исцеляющую помощь.
Скоро Пушкина попросили читать. И он выбрал поэму «Полтава», хотя она уже почти год большими кусками читалась в обществе. Может, кто–то из присутствующих о ней просил заранее, хотел еще раз услышать, а может, у самого Пушкина была такая потребность. Кто знает.
При первых звуках пушкинского голоса, декламирующего свое великое произведение, Гордей замер. Ему хотелось прикрыть глаза, чтобы лучше представлять картины, разворачивающиеся в стихах, но и на Пушкина хотелось смотреть. Весь облик этого необычного с виду гения, его голос и смысл читаемого создавали одно невероятное явление, нечто мировое, что следовало видеть, впитывать всеми центрами восприятий, чтобы запомнить на всю жизнь. Он обязательно воспроизведет этот миг своим детям и внукам! Надо все–все запомнить, все складки пушкинского костюма… А главное — его горение, интонации, логические ударения. И эти молнии в глазах — им надо найти слова, чтобы описать предельно точно и в этих фразах пронести через века.
Улавливая в поэме переливы народных песен, сказочных мотивов, Гордей интуитивно, пребывая сознанием где–то в стороне, прочитывал, что Пушкин использовал тут молдавские предания, народные украинские песни и думы. Сущность молодого слушателя составлял восторг: вот к чему был причастен отец, в ту пору видевший Пушкина! Вот что носил в себе выдающийся поэт, когда болел и говорил о купании в Днепре при встрече с лекарем Дарием Глебовичем. Вот что зрело в нем, когда он носился по цветущим лугам и проказничал, когда запредельно шутил и простужался на свежих ветрах! Это чудо какое–то, чудо вселенское — и он, маленький Гордей, его вдыхает и им проникается всем умом, всей разросшейся до гигантских размеров душой.
Потом Александр Сергеевич читал новые куски «Евгения Онегина», которым не заслушаться было нельзя. Но все же впечатление от этого произведения было скорее умильным, чем очень сильным. Похождениям Онегина, его физическому пресыщению, а позже прозрениям ума сочувствовать не хотелось — просто это была не та тема для подростка. С гораздо большим вниманием он слушал стихотворение «Пророк», особенно потрясало окончание, слова Бога, сказанные поэту:
Завороженно Гордей повторил про себя последнюю строку, и мороз прошел от нее по всей его коже. Он посмотрел на свою руку и отметил, что кожа на ней изменилась, взялась бугорками, словно его окутал настоящий мороз. Сколько страсти Пушкин сложил в эти сроки, являющиеся ответом на неожиданно суровые события, последовавшие за восстанием декабристов, многие из которых были его друзьями. Так много времени прошло с тех пор, а он все еще кипит и переосмысливает тот свой опыт, тот отрезок жизни — думал Гордей. И тут его проняло настоящее сочувствие к Александру Сергеевичу, потому что жить все время на пике таких волнений было невозможно. А он жил!
Гордей сказал об этом отцу, незаметно прошептав на ухо, потому что терпеть наплыв эмоций не мог.
— Тебе кажется, что четыре года — это большой срок, — ответил отец. — Это свойство отрочества. На самом деле… прошли мгновения.
— Но разве можно было не отреагировать на другие события. Они ведь были после восстания?
— Были, конечно. Таков поэт! Нам, дружок, не понять.
Далее Пушкин читал отрывки из его романа «Арап Петра Великого», и это произвело неизгладимое впечатление на притихших слушателей. Это была какая–то новая проза, великолепная, умная, строгая. Неизвестно было, что преодолел в себе великий поэт, какой переворот совершил с русским языком, но заговорил он тут не замшелым, салонным и манерным слогом. Его язык в романе был просветителем и бойцом, ведущим тех, кто им владеет, в новое время, к новым берегам, в жизнь с новыми идеалами. Время, казалось, остановилось, и всем хотелось, чтобы замечательный момент, который они переживали, продолжался долго–долго.
Но пора было дать покой душе великого творца. И общество обратилось к танцам.
Все он правильно сделал, — думал Дарий Глебович, попав после этих событий домой, — действительно, Гордей увлекся творчеством Пушкина, начал изучать его, да и он сам как бы заново открыл для себя великого поэта, на чем, конечно, сказалось их личное знакомство. Но от мысли о поездке с отцом парень не отказался.
Хорошо взвесив риск, поговорив о предыдущих поездках с теми, кто в них участвовал, Дарий Глебович решил взять сына с собой. В конце концов, он едет развеяться, а не по делам, дела он себе придумал. А зато их с сыном на свете только двое родных людей, так что не стоит расставаться хотя бы на неделю, не то, что на семь месяцев. А если, даст Бог, они успеют возвратиться раньше, то и в гимназии все прекрасно устроится.
С тем и поехали, взяв с собой для помощи в пути Гордеевого гувернера Василия Григорьевича Зуева, готового к любым подвигам молодого человека.
2. Россия — это Бог
Ландшафты менялись столь незаметно, что уловить перемены широт было невозможно. Только вдруг господа Диляковы отметили, что растительность из очень буйной, сочной, гонкой — стала скупее и суше, приземистее. И легендарная полынь появилась, примета и символ степи.
— Гляди! — вскрикнул Гордей, показывая отцу на ее скромный сизый кустик у обочины. — Это же полынь!
— Когда–то в Великой Степи за добрый знак почитали посылать далекому родственнику не письмо, не подарок, а пучок сухой полыни — сигнал к встрече или к возвращению, — рассказывал об этом растении Дарий Глебович сыну. — Так что это добрая трава.
— А еще я слышал о молочае… — сказал Гордей. — Это какая трава? Тоже добрая?
— Сообщу тебе, друг мой, как специалист, что молочай степной — чудное растение. Он наделен слабительным, спазмолитическим, антигельминтным воздействием на организм человека. Настой, приготовленный на основе травы этого растения, используется в качестве мочегонного средства, а отвар применяется наружно для лечения экземы. Водный экстракт его при наружном употреблении способен выводить бородавки и лечить злокачественные опухоли. А свежий сок — выводить мозоли и бородавки. Но! — воскликнул Дарий Глебович и поморщился. — Внимание! Ибо это ядовитое растение, дурман. Хотя и очень эффективное, как видишь, в деле целительства. Поэтому к нему должны прикасаться исключительно руки знающего человека. Важно тебе запомнить, милый, что при употреблении больших доз препаратов на основе этого растения могут возникать тяжелые осложнения.
Гордей поднял руки, как бы прося пощады.
— Все, все, все, — воскликнул он. — Ты убедил меня, отец, чтобы я к нему даже не приближался.
— Хорошо, — улыбнулся Дарий Глебович, успокаиваясь.
От впечатлений у него разбегались глаза. Он не успевал их все отслеживать и высказывать. Иногда в зарослях вдоль дороги он примечал высиживающую птенцов дрофу. А в другом месте им перекрыло дорогу семейство вепрей, правда, шедшее по своим делам с весьма мирными намерениями. Пришлось остановиться и пропустить их. Тут и там замечались пробегающие косули. А как нравились ему сидящие на верхушках деревьев хищные птицы! Их было легко различить по серому или пятнистому оперению, по крупности и особенному клюву. А орлы, которые сидели просто на кочках у дороги?! Это были настоящие хозяева здешних мест.
Больше всего Гордея увлекали обеды, устраиваемые теми, кто, как и они, сопровождал обоз. По дороге они успевали добыть птицу или мелкое животное. Затем останавливались, разводили костер и запекали мясо в костре. Туда же бросали и овощи, например, свеклу или модный картофель. Отдельно в котле варили кашу. Затем все это разламывали и разливали на порции и ели сообща. Это был настоящий дух путешествия по необжитым местам! После такой трапезы еда, которую можно было купить в трактирах, казалась помоями.
— Наедайтесь, господа, — бывало, приговаривал кто–нибудь из трапезничающих. — А то ведь в калмыцких местах такой гадостью кормят, что не сказать.
Приключений было много. То дожди их трепали, то ветры. От дождей расплывалась дорога. И тогда обозные принимали решение стоять у обочины и ждать их высыхания. Трудить тягло в вязкой грязи они не хотели, все–таки живые существа — дети наши, не умеющие говорить. Благо, что весенняя непогода недолгая. Нет, в непогоду, в топь и грязь они не ехали. По всем соображениям выгоднее было переждать эту немилость богов, вздыхая да сетуя… Впрочем, это–то и было у них всего раз за всю дорогу, так что и жаловаться не пристало.
— Эх, был бы это «фашинник», мы бы не стояли, — вздохнул тогда Дарий Глебович. — Все же «фашинник» гораздо удобнее и надежнее обычной грунтовки.
И почти вслед за ним звоночком отозвался Гордей:
— Что и как ты сказал? «Фашинник»?
— Ну да! Как Столичный тракт. Ты же помнишь поездку в Санкт — Петербург? Как тогда хорошо шли кони, как ровно катилась повозка!
— Помню, — горел нетерпением мальчишка. — Так что это за тракт такой?
— Это? Это, значит, дорога такая, специально сделанная. Столичный тракт строили так называемым фашинным способом, когда по всей трассе рыли котлован глубиной метр–два и в него укладывали фашины, связки прутьев, пересыпая слои фашин землей. Когда эти слои достигали уровня поверхности земли, то на них поперек дороги укладывался помост из бревен, на который насыпался неглубокий слой песка.
— Как просто… Кто же до этого додумался, отец?
— Скифы, мой друг.
— Скажешь тоже… — засмеялся Гордей и, сдвинув шапочку, закрывающую голову от солнца, на затылок, откинулся на спину, опираясь на выставленные назад локти.
Солнце, пробивающееся сквозь ушедшие дождевые тучи, сеяло на его лицо мягкие лучи, согревая и золотя кожу. Гордей сощурил глаза и поморщился, пытаясь разглядеть картину неба.
— Я не шучу, голубчик, это действительно так, — между тем продолжал Дарий Глебович. — Именно таким способом скифы возводили свои курганы. Только они вместо фашин использовали дерн.
А затем наступала очередь солнышка. Уж оно–то не ленилось — палило на славу, так что даже ветер засыпал и повисал между небом и землей без движения. Тогда еще и духота наступала. Впервые Гордей увидел марево, бегущее к небесам.
— Что это — спросил у отца, — струится вверх прозрачными, но блестящими огнями?
— Далеко ли? — спросил отец. — Не вижу что–то.
— Да вот, почти рядом! — нервничал мальчишка, показывая рукой. — Как–то стеклянно блестит. Столбы такие, движущиеся.
— Беги попробуй. Это не опасно.
Гордей вскочил с воза и побежал, гонялся за своими «движущимися столбами», нырял в них и только руками разводил, оборачиваясь к отцу. И не понимал, почему тот смеется.
— Это марево, — объяснил отец, когда запыхавшийся Гордей вернулся на воз. — Природа сего явления лежит в зное. Без ветра разогретые нижние слои воздуха не могут переместиться в прохладное место, поэтому волнами устремляются вверх.
— Мираж, призрачное видение?
— Ну… по сути, да. Только видения больше пустыням свойственны, а наше марево не в состоянии так уж сильно шалить. Правда, степное марево тоже бывает весьма морочливо. Тогда нижние слои воздуха, на глаз вроде бы такие чистые и прозрачные, отражают и искажают мелкие предметы (кустики, бугорки) в самых разнообразных образах: то являют подобие обширных вод, позади которых видится заселенный берег, то превращают бурьян в лес, обманывая всякого неопытного. Иногда оно скрывает только верхнюю половину предмета, и тогда называется верхорез, верхосьем. Однако вблизи марево исчезает, уходит от путника все далее вперед, как ты убедился.
Наносившись под лучами солнца, Гордей не пропускал оказии искупаться в водоеме, если встречались на пути реки или озера. И если обозные не прочь были сами окунуться в прохладу водной стихии, то тогда все останавливались и по очереди предавались этому наслаждению. Мешало одно — ил. Явление чрезмерного раскисания речного дна характерно только для черноземных областей. И вот тут Гордей столкнулся с ним, ранее незнакомым. Но он быстро нашел выход из положения: перед погружением в воду приносил на берег булыжник или охапку травы, чтобы на выходе из водоема встать на эту подстилку и вымыть ноги. Конечно, тут в бидоны набирали свежей воды, коей окропляли себя в пути.
Просто удивительно — такие простые вещи, о которых в Москве были умозрительные представления, которые, как будто бы, и встречались раньше, как марево или ил в реке, тут, на природе, становились чистым открытием! Возможно, так было потому, что Дарий Глебович смотрел на мир Гордеевыми глазами.
Господи, как хорошо, что они едут вдвоем. Страшно даже представить, в какую скуку превратилась бы его попытка избавиться от тоски, будь он один.
Наконец, они въехали в кипчаковскую степь, где стало ровнее и проще. Повозки побежали веселее.
— Тут, говорят, еще и теперь пошаливают «половцы» всякие поганые — недобитки ордынские, грабители, — спросил у обозников Дарий Глебович. — Правда ли это?
Те уклонились от прямого ответа, дабы не пугать своих пассажиров.
— Правда в другом, — сказал один из них, — что мы едем по территории, хорошо освоенной, охраняемой пограничными казаками. Но все же, да, иногда путников пробирает страх, особенно в тишине дневного безлюдья и ночью.
— Степь, — попутно рассуждал Дарий Глебович, — это извечная головная боль для русских людей.
— Почему? — удивился Гордей. — Здесь же столько много простора. А ароматы какие! Все время хочется вздыхать глубоко, чтобы заглотнуть больше ее раздолья.
— Согласен, дышится привольно. Да только степь издавна привлекала к себе всякую нечисть бездомную, бродячий люд, кочевников. А это же были не сеятели и не жнецы, а паразиты, к тому же людоловы, воры и разорители. Тяжело было оседлому люду бороться с ними, вот и не шли в степь селиться — боялись.
— Неужели кочевники сами ничего для себя не производили?
— Условно говоря, русские, как оседлый народ, были земледельцами, хлебопашцами, а кочевники — скотоводами. Было у них свое хозяйство необременительное, подвижное, как и они сами, — кочевое. Это стада лошадей, отчасти баранов. Мясо они любили, молоко у лошадей брали. Но ведь им и хлебца хотелось, и всякого другого скарба человеческого.
— А-а… вот откуда возник миф про Каина и Авеля. Это не просто выдумка, это из жизни взято! — воскликнул Гордей.
— Конечно, милый, из жизни. Писание придумать нельзя было, потому что жизнь богаче выдумки.
— Только ведь получается, отец, что древние иудеи все переврали — очернили Каина–земледельца, который олицетворял оседлые народы, и сказали, что он убил Авеля–скотовода, символизирующего кочевников. А ведь на самом деле все наоборот было — это Авель убил Каина, как мы наблюдаем на протяжении всей истории на практике. А! Как же так?
Дарий Глебович даже дар речи потерял от этих слов сына, так они его поразили. Особенно же тем, что были сказаны в столь юном возрасте. Он постарался скрыть изумление.
— Порадовались бы мама на тебя, Гордей, какой ты умный растешь! Вот ведь приметил что… Так оно и есть, дружок. А что же ты хочешь? Ведь те, кто писал Библию, сами были кочевниками. Тут как говорится, кто первым проснулся, тот и обулся.
— Во–от оно что-о, — протяжно проговорил мальчишка. — Точно! Оболгали они нас, подлые…
— Ну, — поднял ладони вверх Дарий Глебович, — ты не очень впечатляйся. Об этом говорить вслух не принято. Знай себе, и помалкивай. Такой несправедливости ты в жизни еще много повстречаешь, очень много. А что касается иудеев, то запомни: все, ими сказанное, нельзя понимать буквально.
Открывшиеся в этой части пути картины, возможно, и радовали бы Гордея, как и прежние, если бы тут не обозначалось повсеместное присутствие калмыков — чужой неприятной силы. Ни калмыцкие кибитки из хвороста и войлока, ни вонь их стряпни, ни они сами Гордея не заинтересовали. Чувствовалось в них что–то присмиревшее, но не обузданное до конца. И казалось, что при малейшей возможности они опять пойдут по людям с огнем и ором.
Он хотел сказать об этом вслух, но тут из–под куста орешника выскочил заяц и понесся по взгорку прямо на виду у путников, удаляясь от дороги. Бывалые их спутники, ехавшие на других повозках, оживились, но не больше. А Гордей вскочил и замахал руками от неожиданности, словно бурно радовался неожиданно встреченному родному существу.
Скоро после этого закончился Большой почтовый тракт, называемый Черкасским. Была оставлена позади равнинная часть пути, составившая приблизительно его треть. Дальше пошли полудикие кавказские предгорья. Путники в очередной раз сменили деревянные оси и колеса телег, обновили их смазку и повернули на Военно — Грузинскую дорогу.
Движение тут было сколь оживленным, столь же и опасным. Чтобы поспевать за основным потоком повозок, им пришлось пересесть на лошадей, нанимая их по дороге. Эти крепкие горные лошади, небольшие по размеру, запряженные четверками, с легкостью брали самые крутые подъемы на горы. От смотрения на них дух заливало восхищением. Возникало невольное стремление их жалеть и им помогать.
Кстати, в конце тракта произошло еще одно изменение — тут их поджидали более мелкие обозы, с целью присоединиться и тем самым усилить свою безопасность, так что в общем перед отправкой в горы собрался товарный караван из без малого сотни повозок. Дабы сэкономить деньги на отдельной для себя охране, караван подождал почтовые кареты и дальше поехал в их хвосте. Теперь за ними следовал настоящий конвой из казаков и пехотных солдат с боевым вооружением, как и говорил в свое время Соломон Несторович Конт, кажущийся теперь нереальным, когда–то обозначившемся персонажем снов. По сути он должен был ехать за почтой, но интересы примкнувших путников тоже учитывались.
Ну… поелику присоединившаяся часть охраняемого объекта оказалась больше почты, то интерес конвоя, конечно, тоже был учтен…
Пока путешественники ехали Кавказским предгорьем, Гордей все поглядывал на стала волов, бегающие вдоль дороги, и вздыхал — что ни сказать, а езда на воловьей тяге была более мягкой, чем на конской. И он никак не мог понять, почему им пришлось отказаться от волов. Но что делать — за пределами тракта не было организованного их использования. А без смены тягла до места не доедешь.
Если не учитывать всякие нагайские новизны, сопровождавшие караван, дорога в этой части пути характеризовалась своей однообразностью — та же равнина, только по сторонам холмы чуть выше прежних, окоем ближе и выше — создавалось впечатление, как будто они медленно въезжали в подземные чащобы из камня. Это был Кавказ, громоздившийся на дальнем горизонте и с каждым днем все больше налегающий на них.
Гордей, скорее подавленный, чем восхищенный Кавказом, все допытывался, было ли так и раньше, ведь его отец бывал уже тут, да?
— Тут бывал, — терпеливо отвечал Дарий Глебович и на протяжении всего пути, практически от Железноводска до Нальчика, комментировал все виденное. И опять вспоминал свою молодость, знакомство с Пушкиным. — Только тогда тут меньше было того, что служит удобством при перемещениях, все было проще и примитивнее, как в природе. Или мне это кажется…
В один из дней вдали показались более крутые вершины со снежными шапками, серебрящимися на солнце, — они давно миновали станицу Невинномысскую, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ и въехали в настоящие горы.
Пребывание здесь оказалось несравненно труднее всех рассказов о горных условиях. Донимал не только подъем вверх, но и солнце, и пыль, и жар, идущий от раскаленных камней — и все это при отсутствии ветра. Только и радости было, что обилие воды, текущей с гор быстрыми ручьями, в которых можно было как–то охладиться, да то, что в вечерние часы от снежных вершин струились свежесть и прохлада.
Военно–грузинская дорога вела их через Главный Кавказский хребет, соединяющий Владикавказ и Тифлис. Сначала она поднималась по долине Терека, затем по Дарьяльскому ущелью пересекала Скалистый хребет и выходила в долину еще одной реки, откуда начинался подъем к более высокому перевалу — Крестовому. Это была высшая точка Военно — Грузинской дороги, которая возносилась над уровнем моря более чем на две тысячи метров.
На этой дороге в последнее время было произведено много устроительных работ, это было видно даже не специалисту.
— С тех пор, как дорога перешла под надзор Управления путей сообщения России, — рассказывали господам Диляковым более опытные путешественники по этим местам, когда он сказал им о своих наблюдениях, — был проведен колоссальный объем работ. Например — видите? — сняты откосы, созданы карнизы, сделаны выемки, проведена отсыпка, возведены плотины и дамбы, для предотвращения обвалов выстроены подпорные стены и крытые траншеи и т. д.
— И мосты возведены, — добавил Дарий Глебович. — Да, эта дорога — удивительное инженерное сооружение. И весьма чувствуется, что она эксплуатируется еще не так давно. Ты заметил это, дружок, — обратился он к сыну, на что тот только кивнул. — Кажется, движение экипажей открыто с 1814 года? — повернулся Дарий Глебович к своему собеседнику из каравана.
— Да, — ответил тот. — А с 1827 года устроена экспресс–почта.
На дороге имелись станции, где были помещения для бесплатного ночлега, и, начиная от Владикавказа, Гордей начал их считать, запоминая названия.
— Как удобно, когда есть ямы… — говорил он отцу, и при этом записывал новые впечатления в свой дорожный дневник, коротая время отдыха.
Тряска на горной дороге мешала писать на ходу. А на равнинной части пути писал так много, что исписал уже две толстые тетради.
— Вот, отец, будет что рассказать мне своим товарищам по возвращении! Ведь без записей я всего не запомню.
Отец его хвалил за прилежание и рассказывал, как это хорошо, когда человек ведет дневник. Такой человек не только выработает хороший стиль речи, не только многое запомнит, но обязательно на склоне лет напишет воспоминания и оставит потомкам живые свидетельства о минувшей эпохе.
— Так уж и обязательно… — засмеялся Гордей.
— Напрасно ты смеешься. Тебя душа позовет это сделать. Заметил, что старики любят рассказывать о своей жизни?
— Заметил.
— Это, мой друг, свойство преклонного возраста, веление природы, если хочешь знать. А представь, каким настоятельным станет это веление, если в твоих руках будет богатый дневниковый материал.
— Возможно.
— Да. Ты, мой милый, теперь обязательно о маме напиши в дневнике, пока помнишь ее. А то ведь скоро забудешь. И обо мне пиши — пригодится. Я тоже не вечный.
Но вот и Крестовый перевал был перейден. Они начали спуск в долину реки Белая Арагви, чтобы затем пойти по правобережью Куры до Тифлиса.
Иногда, идя по Военно — Грузинской дороге, приходилось пересаживаться на верховых лошадей или идти пешком. Маршрут, давно освоенный путешественниками, все же пролегал по местности, мало похожей на дорогу в нашем понимании, не в пример милым сердцу равнинным большакам. Тут как ни укатывай, а камни и валуны то и дело появлялись под ногами: то они вылазят из–под грунта, то насыпаются с горных вершин. Говоря об этой части пути, нельзя умолчать о том страхе, который иногда завладевал ими, неопытными путниками, вплотную. Дарий Глебович не являлся исключением, как и Гордей, он тоже зажмуривал глаза, отворачивался от пропастей и мужественно сжимал зубы.
Но такое высокое напряжение они не перенесли бы, и, пожалуй, бросились бы прочь с криками: «Пусть тут умирают другие!» — если бы оно не отпускало их на более безопасных участках, где не было обрывов. В таких местах они даже останавливались на отдых и совершали прогулки в горы, где лежали без счета времени в высокой траве, любуясь цветами, коих тут было бессчетно. Цветы росли по горным склонам красными, голубыми и желтыми пятнами, то высоко поднимающимися над травами, то стелющимися вдоль поверхности земли, и просто приковывали к себе взоры. А еще Дарий Глебович и Гордей дружно следили за полетами жаворонков, которые поднимались высоко вверх и потом камнем падали вниз, чтобы посмотреть на свои гнезда, и комментировали то, как эти птицы мудры.
Наконец, въехали в Тифлис. Это была победа! Первый переход они выдержали и только окрепли в нем, набрались опыта и воодушевления преодолевать свой путь до конца. Значит, и до Еревана доберутся благополучно.
Громада Казбека, покрытого снегом и уходящего своей вершиной в голубое небо, царила над узкими, кривыми улицами, которые вели к базарной площади и были всегда наполнены шумной толпой. Армянские продавцы фруктов, сумрачные татары верхом на мулах; желтолицые бухарцы, кричащие на своих тяжело нагруженных верблюдах; беспечные персы, закутанные в пестрые ткани; грузины, ярко выделявшиеся на фоне остальных людей черными лицами и одеждами; и наши солдаты в простой форме — все эти персонажи перемешались тут в одном непрестанно движущемся потоке. А сверху он обильно поливался солнцем, доводя градус жары до невыносимого, а зной — до адского. Только мелодичное журчание быстрой Куры смягчало шум и гам этого клокочущего и орущего города, только прохлада великой реки кое–как помогала людям выживать.
Хотелось поскорее убраться отсюда, однако, внешние обстоятельства, связанные с частичной разгрузкой, принуждали их задерживаться. Человек, которому предназначался тифлисский товар, опаздывал с оплатой ровно на одни сутки. «Так получилось! Так Бог послал!» — кричал он, носясь вокруг вожделенной телеги, и просил подождать, заверяя, что старший сын, его наследник, вот–вот подвезет все необходимое. В виде гарантии того, что сделка остается в силе, купец предложил себя. Он суетился, не отходил от их обоза, как будто боялся, что привезенный ему груз уплывет в другие руки, и всячески старался угодить ответственному за товар человеку.
Телеги уже стояли на сборном пункте, откуда обоз должен был отправиться дальше. Собственно говоря, задержка на сутки была только на руку обозным — они ждали, что к ним присоединятся новые попутчики и вместе будет безопаснее продвигаться дальше и дешевле платить казакам, подрядившимся сопровождать их.
Отец и сын Диляковы, наблюдая картину с суетящимся тифлиссцем, молча переглядывались и посмеивались. Помещения для бесплатного отдыха путников не могли вместить всех желающих, поэтому они, как и некоторые другие, во время простоя валялись на телегах, нежась на свежем сене.
— Слушай, такое случилось, да! — вдруг сказал тифлиссец и страшно выпучил глаза. — Ты не слышал? Что в столице говорят?
— О чем? — мрачно отозвался Корней Карлович, доверенный человек господина Конта, который как раз и решал все дело.
Он лениво отмахнулся от вездесущих мух, летающих вокруг поедаемой им дыни, и изобразил полную невозмутимость.
— Как о чем?! Как о чем?! Это же уму непостижимо! В Персии убили русского посланника. А он говорит, о чем… Это пахнет войной!
— Погоди, — медленно начал раскручивать сказанное Корней Карлович, отвлекаясь от дыни. — Если ты говоришь о после, то это же наш Грибоедов.
— Был ваш, а стал наш — ведь не зря его везут хоронить к нам, а не к вам, — резонно заметил тифлиссец. — Все базары об этом шумят, везде только и разговоров, что о несчастной судьбе Грибоедова, об ожидаемом на днях прибытии его праха, а он не знает!
— Неужели погиб Грибоедов… написавший такое великое произведение, как «Горе ума»? Я читал его в списках…
Из возникшей между ними перепалки отец и сын Диляковы узнали страшную новость, что в Тегеране, пребывая на посту председателя русского посольства, погиб великий поэт современности, гений и слава России — Александр Сергеевич Грибоедов. Погиб страшной, жестокой смертью. И сейчас его тело везут на Родину. Он возвращается домой той же дорогой, по которой навстречу ему едут они!
Невероятно! Какая трагедия, какое совпадение…
Живя в Москве, они, тем не менее, прекрасно знали Грибоедова, от слова до слова читали поэму «Горе ума», приобретшую широкую популярность и хождение в народе. Еще не опубликованная, известная публике из рукописных копий, подозреваемая в непочтении к свету или даже в крамоле, она буквально взрывала умы своим совершенством, отточенностью фраз и новизной мыслей, новым, необыкновенно свежим взглядом на московскую жизнь. Это был взгляд со стороны. Но почему остальные этого не видели, ведь все эти образы и характеристики теперь так легко угадываются между людьми?! Поэма в Москве тут же разошлась по фразам, тут же определила, кто есть кто в ее замшелом обществе. «Муж–мальчик, муж–слуга, из жениных пажей»… — это было грандиозно!
Господа Диляковы даже слышали отрывок из нее, читаемый Пушкиным в тот единственный раз, когда встречались с ним в столице. Правда, слышали со стороны, как бы подслушали, потому что он продекламировал монолог Чацкого не с импровизированной сцены, а как бы неофициально, в кулуарах, в окружении поклонников, так сказать — к слову пришедший на ум. Но впечатление от стихов Грибоедова и от декламации Пушкина у них осталось что называется головокружительным.
Сейчас все это их потрясло до холодного озноба, до помутнения рассудка, до нежелания кого–либо видеть и слышать. С этих пор от них отошли мысли о дороге, о ее разнообразии, прекрасности и тяготах. Они снова вернулись в то время, когда видели Александра Сергеевича Пушкина, прикасались к нему, впитывали в себя его дыхание и голос, его дорогой облик, его стихи. Их мысли были наполнены только им, ибо они понимали, какой это для Пушкина удар — такая огромная потеря, невосполнимая в веках. Как же перенесет эту потерю его утонченная натура, как справится с потрясением его чувствительная душа? Кто сейчас находится рядом с ним? Кто убережет его от отчаяния?
Но они не знали еще одного совпадения, почти мистического — одновременно с ними и в том же самом направлении из Москвы выехал на Калугу, Белев и Орел обожаемый ими Пушкин. Он, возмущенный запретом ехать за границу, направлялся в Арзрум. Не последним соображением был сбор материала для новых произведений.
А тут такое!
Так же, как и они, он в дороге узнал о трагедии с Грибоедовым. Сказать, что он был потрясен — это ничего не сказать. И сейчас Александр Сергеевич находился недалеко от них, где–то здесь, в этих местах — их разделяло что–то незначительное. Это его могучий дух, титанически рыдающий, наполнял эти пространства, эти ущелья, витал над вершинами гор, падал в бурные реки, возмущал стихии, кричал и плакал. И они безошибочно улавливали его и поэтому уже пушкинским умом понимали и оценивали случившееся, пушкинским сердцем переживали его.
Нет, прочь отсюда! Южные города, наполненные неугомонным восточным людом, главной обязанностью которого было, казалось бы, издавать громкие звуки, не понравились Гордею. Он все время воскрешал в воображении картины прошлого для сравнения с настоящим, оглядывался на свой московский жизненный опыт, невольно закрепляя его в памяти, что было ничем иным, как велением судьбы приуготовить себя к ждущей его неожиданной будущности.
Завершив движение по Военно — Грузинской дороге, наши путники снова перевели телеги на воловью тягу, обрадовавшись, что на казачьих постах ее все так же можно было менять на свежую, а сами остались на лошадях. Им подвернулись все те же низкорослые волы с длинными прямыми рогами, очень острыми. Правда, той удивительно светло–серой, какой–то молочной масти «потомков бизонов», что были вначале, уже не встречалось.
Из Тифлиса караван вышел в прежнем составе, конечно, если не считать тех, кто в этом городе закончил свой путь. Дошли до околиц, затем отошли далеко от них, и тут почти четверть каравана отделилась и, повернув налево, пошла на Рустави и дальше на Баку. Остальные, ориентируясь на правый отрог дороги, продолжили путь на Ереван.
Отправляясь в поездку, Дарий Глебович и Гордей, конечно, познакомились с маршрутом и поинтересовались описанием главных его пунктов у тех людей, кто там бывал. Искали среди знакомых. Правда, таких оказалось огорчительно мало, да и те не умели толком рассказать о своих впечатлениях. Поэтому большей частью нужные сведения брали из литературы и публикаций в журналах.
Что касается Еревана, то тут им просто повезло — в Россию недавно приехал некий француз, принявший имя Иван Иванович Шопен, историк и этнограф, отлично знающий Кавказ, в частности Армению. Свои знания он предложил России, чтобы зарекомендовать себя и сделать с их помощью столичную карьеру ученого и чиновника. Для этого одну за другой публиковал свои работы, делаясь популярным человеком и знатоком востока в глазах передовой общественности. Вот из этих публикаций они и составили свое предварительное представление о Ереване.
И надо сказать, что оно оказалось почти безошибочным. Действительно, в столице столь древнего государства, как Армения, не видно было сооружений и зданий, свидетельствующих о развитой промышленности, о стремлении населения обновляться, шагать в ногу с событиями в мире. Ереван вообще имел какой–то пыльный средневековый облик, как будто время тут остановилось. Ничто не указывало на то, что это была столица. Неизменные узкие и кривые улочки удручали, а не умиляли, как в Европе. Невозможно было понять, в чем тут дело. Не чувствовалось в них какой–то величественности духа, какой–то его живой глубины. Это были просто отвратительные щели в каменном нагромождении. Теснотой своей и видом эти улочки походили на коридоры, ограниченные с двух сторон стенами низких старых жилищ. Едешь — и боишься зацепить эти кладки из необожженного кирпича, дикого камня, какой–то черной осыпающейся глины. Кажется, что они рухнут и жители тебя тут же разорвут на части.
Нехватка ровного места, пригодного для застройки, вынуждала людей обходиться без палисадников и заборов, которые так славно закрывали европейские дома от уличного шума. Но в настоящий ужас путников привело то, что тут по главным улицам, где было чуть–чуть просторнее, бежали зловонные потоки, из которых жители брали воду для своих садов. И непонятно было — то ли это вода с гор, то ли бытовые стоки, то ли все вместе…
Они втайне подозревали, что теперешнее восприятие мира омрачено у них той трагедией, знание о которой затаилось внутри. Однако это ничего не меняло вокруг — это не избавляло их от горя и не делало виденное ими более гармоничным. Они просто старались не говорить об этом. Единственное, что оба вдруг обнаружили, было связано с их личной утратой. Они обнаружили, что боль от нее ушла, незаметно, исподволь — как будто была снята какой–то мистической рукой. И чувствовалось, что ушла навсегда.
Облегчение, ровное и расслабленное, спокойное и безмятежное, как море в штиль, завладело ими, и в нем не чувствовалось ни предательства, ни черствости души, ни эгоистического стремления отречься от ушедших любимых. Мама и жена спокойно удалилась от них в беспредельную синеву, не оставив даже облачка по себе.
«В самом деле, — думал Гордей, — клин клином вышибают. Эта трагедия с Грибоедовым спасет отца. Отец сейчас много думает, и в итоге поймет, что мама ушла после болезни, в силу того, что окончился ее срок пребывания на земле, а не потому что кто–то совершил над нею акт насилия, и перестанет кручиниться. Он будет именно радоваться, что именно так случилось, а не иначе, что мы до последнего вздоха были с мамой. Мы не оставили ее».
Действительно, приблизительно так размышлял и Дарий Глебович, мысленно ощупывая себя, как ощупывают люди зарубцевавшиеся раны, и не находя больше болевых точек. Он прикрывал глаза и благодарил Бога, что этот стержень, так долго режущий его изнутри, терзающий дух и волю, наконец извлечен из него милостивой рукой Всевышнего. Как приятно, как свободно теперь ему дышится!
— Я представляю, как тут опасно ходить зимой, когда все сковывает мороз, — отвлекаясь от своих дум, сказал Дарий Глебович. — Скользко, наверное, неописуемо. Посмотри, какие тут рытвины от этих ручьев. Основное разрушение производит большая скорость течения. Запомни это, друг мой.
— Ну и масса воды тоже? — откликнулся точно так же задумавшийся его сын.
— Конечно, и масса, — согласился отец.
— Неужели тут бывают морозы? — удивился Гордей. — Это же такой далекий от севера юг?
— Все верно, голубчик. Но тут — высокие горы с ледниками. Гляди, здесь даже летом холодно, едва исчезает солнечный свет.
— Это да… — согласился мальчишка.
Разговоры кое–как отвлекали их от созерцания этого мрачного, не понравившегося города. Никакой эмоциональной отзывчивости не вызывала его старина, никакого представления об истории не несли его бессистемно нагроможденные убогие и как–нибудь возведенные лачуги восточного типа и его виды.
Здесь все было плохо: даже торговля шла вяло, и людей на улицах было меньше…
И путники с облегчением вздохнули, когда Ереван остался позади.
— Отец! — сумасшедшим голосом закричал Гордей. — Отец! Это Пушкин! Вон он, спешился и присел на валун! — указывал куда–то влево от дороги Гордей, которого сразу же начала бить нервная дрожь.
Просто счастье, что отец Гордея был именно лекарем. Поэтому он не поддался на провокацию, не оглянулся в сторону, куда указывал сын, и не поднял крик следом, а внимательнее присмотрелся к нему. Спокойным жестом взял за руку, нащупал пульс… Потом губами прикоснулся к челу. Нет, сердцебиения не было, жара не было — сын был здоров. А меж тем он продолжал кричать:
— Дайте лошадь! Отец, прочь с телеги! Помчали к нему!
Не ожидая дополнительных распоряжений, перепуганный и ничего не понимающий Василий Григорьевич, взявший на себя иные дорожные обязанности, подвел к ним лошадей, которые сейчас шли свободными, отдыхая от седоков. Но делать им было нечего, пришлось опять подставлять спины под них.
Уже вскакивая на коня, Дарий Глебович глянул налево и заметил сидящего на валуне человека, характерная посадка головы которого, разворот плеч, застывшая линия рук и профиль указывали: да, это был Пушкин Александр Сергеевич, собственной персоной и в полной яви. Он был в накидке, предохраняющей от переменчивой горной погоды, и в кепке с козырьком, тень от которого надежно закрывала глаза от солнечного блеска. Расстояния между ними было с треть версты, но ошибка исключалась. Конь его, зашедший за валун и щиплющий траву чуть пониже по склону, был скрыт от глаз, если смотреть со стороны дороги. Дарий Глебович крикнул Зуеву остановить обоз и вслед за сыном помчался вперед. Дорога шла под легкий уклон, лошади бежали споро.
Подскочив ближе, Гордей буквально скатился на землю, но тут же и остановился, не решаясь приблизиться к своему божеству, не зная, какие слова для этого избрать.
— Вы? — узнав его, Александр Сергеевич поднялся с камня. — И вы, конечно! — поднял он взгляд на подскочившего следом Дария Глебовича.
Дарий Глебович был более решительным. Не замедляя шаг, он приблизился к Пушкину и как ребенка обнял за плечи:
— Почему вы здесь? С кем вы, дорогой Александр Сергеевич? — и тут отец и сын заметили, что поэт плачет, указывая рукой куда–то за их спины.
— Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал.
Но отставший слуга, везущий поклажу Пушкина, скоро появился и господа Диляковы немного успокоились. Растроганный Дарий Глебович прижал поэта к груди успокаивающим жестом.
— Ну–ну, друг мой, вы же величайший поэт… Что это, право?
— Грибоедов… — произнес Пушкин и снова навзрыд заплакал.
Он вынул откуда–то платок и начал вытирать им глаза, вовсе не пытаясь остановить слезы. «Так надо, — думал при этом Гордей. — Пусть поплачет».
Сбивчиво, с паузами и всхлипами рассказал Пушкин о только что встреченной арбе, везущей на родину тело Грибоедова.
— Обыкновенная арба, устеленная белой тканью, а на ней обитый черным плисом гроб погибшего, — рассказывал он. — Волы шагали тяжело, с усталостью. Впереди их вел в поводу один грузин, а за телегой шли еще двое. И все.
— Позвольте узнать, где они шли? Откуда? — спросил Диляков, хорошо знающий, что только расспросами можно было остановить крайнюю растроганность Пушкина, отвлечь его от слез и переживаний.
— Оттуда, — показал Александр Сергеевич рукой в сторону от дороги, на которой они оставили свой обоз, из чего следовало, что арба, везущая тело Грибоедова, хотя и шла во встречном им направлении, но по какой–то другой дороге, пролегающей неподалеку.
В любом случае, если бы такая арба появилась в поле их зрения, то они бы ее заметили. Пусть бы не придали значения, не заинтересовались, но запомнили бы. Но ничего такого не имело места. Это вызывало недоумение. Пришлось Гордею влезть на коня, встать на его спину и осмотреть окрестности, ища хотя бы след еще одной дороги или тропы. Но ничего подобного не находил, о чем и сказал.
— Возможно, арба ехала по вашей дороге… Не знаю, — Александр Сергеевич уже овладел собой, глаза его высохли и он даже начал улыбаться. — Как чудно, что я вас встретил в таком месте! Зачем вы здесь? Каким ветром?
Дарий Глебович в двух словах рассказал о своей жизни последних лет, о своих делах, закончив тем, что сам только в Тифлисе узнал о трагедии с Грибоедовым и до сих пор удрученность давит на его сердце весом всех Кавказских гор.
— Возможно, в это трудно поверить, но мы с Гордеем сразу подумали о вас, беспокоясь, чтобы это известие не надорвало ваши силы, дорогой Александр Сергеевич.
— Мы как будто чувствовали, что вы где–то близко, — позволил Гордей и себе сказать слово.
— Насчет арбы… я мог перепутать, потому что сразу же после встречи с нею, закружился юлой на месте, а потом поехал в сторону, словно от потрясения перестал понимать, где нахожусь, — выслушав их, сказал Александр Сергеевич, испытывая очевидную неловкость за свою неточность.
— А вы в какую сторону ехали?
— Им навстречу, — ответил поэт.
— То есть вы обогнали нас?
— Нет. Я только что пересек горную реку… Места эти мне известны, поэтому кое–где я еду напрямик.
— Реку… — задумчиво произнес Дарий Глебович, закусывая губу, как он обычно делал в особо затруднительных ситуациях, и оглядываясь. — Но вы не находите, что тут что–то не сходится? Ведь мы никакой арбы не встречали и реки, о которой вы говорите, тут нет…
Пушкин сдвинул плечом и позвал своего коня. Когда тот подбежал, молча начал ладить его для езды.
— Я выехал из Москвы первого мая, — сказал он. — Устал от гор. Пора мне домой, брат…
Было в этих словах и какое–то признание, и укор этому дотошному лекарю за его дотошность, и усталость от одиночества. Уж ее–то, эту душевную муку, Дарий Глебович умел распознавать.
— Простите, если я чего–то не понял, — сказал он. — И желаю вам… счастья. Вот и Гордей тоже, — он взял сына за плечи и пододвинул к поэту.
— Экий вы, право, Дарий Глебович, — наконец сказал Пушкин примиряюще. — Какой–то очень обыкновенный. Не верите мне… А ситуация ведь простая… Смерть Грибоедова была мгновенна и прекрасна. Да разве бы я плакал, кабы не встретил никого? Но время прощаться нам. Вас ждут, да и мне задерживаться не с руки.
С этим он прижал сердечно своих знакомых к груди, сначала старшего, потом младшего, пожелал им счастья. Вскочив на коня, умело послал его вперед и скоро растворился в жаркой дымке.
Отец и сын возвращались к обозу в недоумении, не в силах скрывать подавленность. Подумать, что Пушкин им пригрезился, они не могла — ведь их было двое, а галлюцинации не носят массового характера. И о Пушкине сказать, что он был не в себе, они не могли, найдя его абсолютно адекватным. Оставалось только что–то выдумывать на ходу.
— В чем дело? — не рассерженно за задержку, а сочувственно спросил у них Корней Карлович, нашедший в них интересных собеседников после тифлисского разговора о Грибоедове. — Кто были эти люди?
Два знак Гордею молчать, Дарий Глебович ответил искренне, как мог:
— Это был Александр Сергеевич Пушкин, путешествующий по Кавказу. Представьте, он выехал в безлюдье, чтобы оплакать Грибоедова. Прямо, как дитя…
— Грандиозно! Пушкин? Он тоже только что узнал?
— Вестимо, голубчик.
Убеждение в том, что Пушкин их с Гордеем мистифицировал, говоря, что встретил гроб с Грибоедовым, не оставляло Дария Глебовича до конца пути. Не могли прах государственного человека, погибшего на посту, везти домой без специального сопровождения. Никак не могли! Доверить такую ответственную миссию трем грузинам… Что за чушь?! И почему именно грузинам?
Закрадывалось подозрение, что Пушкин, известный насмешник, их просто разыграл. Но разве на такие темы шутят? Пушкин не мог опуститься до цинизма и безбожия. Нет, это грязные предположения! Диляков–отец себя ругал: как он может такое думать о великом человеке? Не успевали они найти ответы на одни вопросы, как тут же возникали новые.
Они уже и в Багдад приехали, уже и нужный адрес нашли, а все продолжали обсуждать эту тайну.
Не знали тогда отец и сын Диляковы, что без малого два столетия спустя их потомки будут вспоминать этот вояж, разбирать его по деталям, обсуждать их встречи и впечатления и будут задаваться теми же самыми вопросами, так и оставшимися без ответов.
Правда… если во всем этом была мистика, то ее надо исткать в подсказках провидения, которые нашими героями не были услышаны вовремя. А значит, не были ими вовремя подкорректированы собственные судьбы.
3. Послесловие к главе
В виде послесловия к этой главе осталось сказать немного и коротко.
Раман Бар — Азиз со своей женой и с дочерью–подростком встретили гостей из России весьма радушно, расположили у себя и заверили, что обязательно снабдят такого ученого лекаря восточными целительными снадобьями. И пусть он еще приезжает. И пусть знает, что всегда будет желанным гостем в этом доме. Потому что они любят Россию и хотят торговать с нею.
А на следующий день, когда русские гости пошли в город, чтобы осмотреть его, и задержались до темноты, на них напали багдадские налетчики. Понаблюдав за попавшими им на глаза иностранцами со стороны и поняв, что они из Европы, преступники предположили, что при них окажутся большие деньги или ценности. Но этот их расчет не оправдался, свои сокровища господа Диляковы оставили там, где остановились, — просто среди своих вещей, в своих поклажах. Тогда от злости грабители безжалостно избили несчастных и нанесли им много ножевых ранений. Обиднее всего было то, что грабители подстерегли их буквально за углом дома Бар — Азиза, где до полной безопасности было рукой подать.
Истекающий кровью Дарий Глебович только теперь понял, что означали все случившиеся с ними странности последнего времени.
— Были… знаки судьбы, — прошептал он, поднимая голову и ища глазами сына.
— Какие? — придвинулся к нему тот, прикрывая ладонями раны.
— Умираю, — вместо ответа сказал Дарий Глебович. — Побудь. Потом… к Раману.
— Я не брошу тебя, отец.
— Подсказка — новость о Грибоедове… Надо было ехать назад…
— Как можно было понять, что это подсказка?
— Аромат судьбы… Мы не услышали… Нам повторно…
— Пушкин? — наконец догадался Гордей.
— Плачущий… Пушкин… Наверное, привиделся…
— Нет, — прошептал мальчишка. — Пушкин был настоящий, — но отец его уже не услышал.
Гордей исходил кровью, когда постучался в дверь к знакомым. Долго они выхаживали его, приняв в свою семью, но и после выздоровления мальчишка остался инвалидом.
Он вел дневник, он все в него записал.
Потом Гордей вырос, начал помогать Раману в его делах и женился на его дочери. В новой семье его русскую фамилию исправили и начали называть на ассирийский манер — Бар — Диляков. Он все время болел, страдал от полученных ранений, но все же успел увидеть своего сына Глеба, родившегося в год гибели Пушкина. Был ли это еще один знак? Кто знает… Гордей не научился чувствовать аромат подсказок… И он не дожил до времени, когда его сын Глеб возмужает, — ушел, когда тот был еще подростком. Правда, оставил сыну завет — вернуться на Родину, добраться до их великой России.
— Россия — это Бог, — это были последние слова Гордея, сказанные на родном языке, но понятые и сыном и женой.
Но до России Глеб не доехал. До России не смог доехать даже его сын, названный Емельяном. И только внук — Павел Емельянович Бар — Диляков — осуществил завет Гордея.
Это и был тот Павел Емельянович Диляков, которого в лихую годину изгнали из родимой земли махновцы, вынудили возвратиться в Багдад, где оставили свои жизни несколько поколений его предков, сохранявших в сердцах память о России и передававших своим детям родной язык.
Что мы знаем об этих поколениях Бар — Диляковых? Не очень много. Знаем их имена и даты рождения, продолжительность жизни некоторых из них. Вот эти сведения:
Дарий Глебович Диляков — (1794, Москва — 1829, Багдад), московский врач, погибший от рук уличных грабителей во время коммерческой поездки в Багдад.
Гордей Дарьевич Диляков, затем Бар — Диляков — (1816, Москва –1851, Багдад), вынужденно остался на чужбине и умер, завещав сыну вернуться в Россию.
Глеб Гордеевич Бар — Диляков — (1837, Багдад — ? Багдад), сын Гордея.
Емельян Глебович — (1862, Багдад — ~1907, Багдад), внук Гордея.
Павел Емельянович Бар — Диляков — (1889, Багдад — 1975, Макеевка, СССР), правнук Гордея, возвратившийся из Багдада в Россию и оставшийся в ее земле.
Все потомки русского мальчишки Гордея унаследовали от Рамана Бар — Азиза умение вести торговлю, благодаря чему, будучи его прямыми наследниками, сохранили и приумножили нажитое им добро. Только Емельян и Павел не стали ограничиваться торговлей целебными травами и снадобьями — подчиняясь требованиям века, они расширили ассортимент своего товара специями и пряностями, чаем, цукатами.
О Павле Емельяновиче, моем дедушке по отцу, рассказ еще впереди.