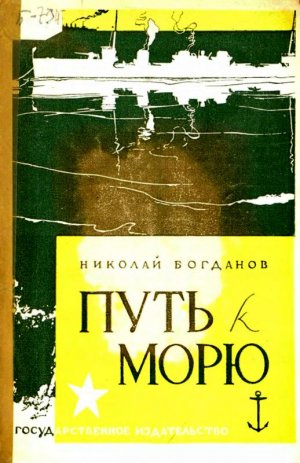
Вступительное словцо
Ну, вот все уселись, Подтепли-ка огоньку, дай дымку, комары кусают, глаза жмурь— спать постой, — здесь я расскажу про тех диких ребят, что живут и дышат морем и не признают ничего, кроме самих себя. Про ихнего главного вожака всей шайки— Моряка, Чудесного Писа, про Толстого Щербу и про многое другое.
Тише, ребята, внимание, мы в Севастополе на базаре. Эй, не убейся!
Глава первая
КОНКУРЕНТ
— Ой, цоб, цоб.
— Дядечко, это ж наилучшие баранки!
— Где ж вы видали такую тарань? Ай, нигде не видали…
Лязгом колес, скрипом арбы, руганью, перестуками, переливами голосов поет шумный севастопольский базар.
— Груши, груши, пять копеек, только пять — ходи, заходи!
— Халва миндальная, скандальная! Денег не жалей ка, штука— копейка! вывертывают друг перед другом, каждый по-своему щеголяя.
— А вот холодныэ водэ-э! — тянут слепцами мальчишки в разных концах, и голоса их плывут по верху, легкие и слышные из всего шума. Белая, густая пыль грязною татарскою шалью окутывает низину базара.
А севастопольское темносинее море устало вздыхает в тесной Артиллерийской бухте, и мертвыми остекляневшими глазами смотрят из воды медузы.
Далеко легкими тенями мелькают крылья парусников и быстро проскальзывают дальше в Северную бухту и Южную, мимо глазастых бойниц крепости, далеко от базара.
Ветер дует с моря и не пускает дальше шум базара, и толчется он и будоражится в затхлой котловине.
Небо низкое, жаркой крышкой захлопывает котловину и душит.
— А вот холодныэ водэ-э, — тоскуют голоса ребятишек.
Вдруг, необычайный мотив спутал, смешал этот тоскующий ровный напев.
— Вот холодная-холодная вода, эх, вот холодная! — с подголоском в конце вывел чей-то звонкий голос.
Перепутались голоса, чутко прислушивались водоносы к новому голосу, сбегались в кучки, шептались:
— Кто?
— Откуда?
— Гришка, с корабельной стороны.
— Нет, с Ремесленной улицы пацан.[1]
Вопрос большой, ведь кто-то хочет урвать кусок и без того скудного дохода. Волнуясь, скучились, у старых железных барж.
— Пацаны, — поднял руку тонкий рыжий парень, — пацаны… Он стукнул ведерко оземь. — Слушайте, пацаны. Уговор блюдете — торговать будете, а нет пропадете!
— Знаем давно.
— Этого пацана надо отшить!
— Отучить, отбрить его! — загалдело собрание, замахало руками и взбудоражило пыль.
Конкурент, держись…
Глава вторая
НА «ХРУСТАЛКЕ»
— Черный, никого нет?
— Нет.
— Отойдись!
Коричневый паренек с разбегу подскочил и перевернувшись щуренком[2], рассек гладь воды. Обломки скал причудливо нагромоздились здесь и с двухэтажной высоты страшно прыгать, когда видишь дно, а до него еще две сажени. Не вода, а хрусталь, и зовут это место у входа в Артиллерийскую бухту— «Хрусталкой».
Дно здесь каменистое, и камни курчавые в зелени, и стаи рыбешек то выбегают, то прячутся в водорослях. В тихую погоду долго можно лежать и смотреть на их резвые игры.
Стаи ребят постоянно кишат здесь, юлят среди взрослых парней, подобострастно липнут к морякам и с завистью поглядывают на уступ скалы, где сидит Щерба со своим помощником Писом.
Толстый Щерба поблескивает на солнце своей медной шкурой, лениво щурится и листает кожаную тетрадь. На груди Щербы развернул могучие крылья орел, выпуклый, живой; сорвется, крикнет и уйдет в синь; тоска ему сидеть на жирной груди противного рябого Щербы.
Кроме орла у Щербы на левой руке маленькая тонкая женщина и это все, зато Пис весь пестрый от татуировки, сделанной рукой Щербы.
Здесь и якоря и целые корабли, гербы, флаги, виды моря, женщины, рыбы, гады, здесь ласточки и жуки, а на спине целая картина, где сирена играет на свирели, а моряк слушает, и волны ласкают песчаную отмель.
Потому и «Пис», что исписанный от головы до пят. Не Пис, а выставка! Белый он и слабый и перед Щербой — как лист. Он носит за ним припасы, тетрадь рисунков, наколку и чернила, а Щерба носит только деньги, и жадно ловит Пис пущенный вертушком двугривенный. После хорошего заработка скалит длинные зубы и вьется вьюном. Так и кажется — хвоста только нет. завилял бы.
Моряки, торговые и военные, приходят к Щербе, долго смотрят кожаную тетрадь и, нахмурившись, подставляют грудь, руку. Щерба накалывает артистически, с любовью, лицо его оживает, но не верится, что эти могучие орлы, быстрые ласточки и тонкие женщины выходят из-под его скрюченных лап.
Пацаны трутся около, смотрят и, запуская руки в пустые карманы, подавляют вздохи.
— Эх, вон тот бы якорек..
— Ласточку бы.
— Щерба, сколько за якорек маленький?
Щерба презрительно смотрит и цедит:
— Полтинник.
Кончено. Торговаться пацану нельзя. Пис поддаст пониже спины ногой и попадешь прямо в Хрусталку.
К удивлению окружающих, спросивший пацан не отошел сконфуженно в сторонку, а, вынув круглую блестящую монету, поднес ее к тупому носу Щербы и сказал:
— Сработай якорек!
Скоро наколка Щербы жадно впивалась в свежее тело, сквозь наложенную тонкую бумажку с рисунком, а паренек сидел и не вздрагивал, а только сжал губы.
— Это тот самый, с Ремесленной, которого Моряком прозвали.
— Ага, он! Ишь, чорт, заработал!
— Постой, заробишь якорек! — перешептывались водоносы, жадно следя за тем, как рука парня вздувалась синими бугорками после окончания операции.
— Готово.
— Получи.
Паренек бережно понес руку сушить.
Глава третья
КОГДА РЕВЕТ РЕВУН
Небо светлое и прозрачно-голубое, как тело медузы. В бухте тихо. На приморском бульваре гуляет народ. Говорят, придет эскадра и вот ждут. Солнце на исходе и веет холодком с открытого моря. Скоро закат, народ идет и заполняет бульвар.
Внизу на камнях плещутся ребятишки, забираются на каменные барьеры и прыгают через камни в воду.
Особенно приезжие дивятся на их ловкость. Якорек на руке высох, и коричневый парень тоже здесь. А кучка водоносов следит и ходит за ним по пятам.
— Моряк, здорово! — подошел к коричневому папиросник и потянул руку из-за лотка.
— Эх, у тебя якорь?
— Якорь, — согласился моряк и посмотрел на руку.
— Сколько?
— Полтинник.
— Ну!
— Да, я заробил малость, с водой вышел. Около двух сторговал.
Глаза папиросника расширились.
— Двух рублей, а?
— Ну, да.
— На воде? Да это я лоток расшибу!
Друзья уселись на барьер, и папиросник стукнул лотком, точно правда хотел расшибить его, засаленный, грязный, с обшарканными пачками папирос.
— Мы его расшибем, два рубля урвал, — скрипели зубами водоносы. — Два рубля…
Море вдруг почернело и застонал ревун,[3] будто тоже пожалел два рубля.
Ребятишки, кувыркавшиеся на камнях, насторожились.
Ревун застонал сильней и протяжней, стал жаловаться громче и громче и скоро завыл нудно, со вздохами.
Ребятишки убрались с моря и засели на барьере, свесив ноги, по воде побежали барашки. И там, куда шло солнце, потемнело. Ветер осторожно пробежал по верхушкам деревьев и потом подул порывисто горячий и нервный.
На камни выбежала косматая волна и ухнула, обдав мелкими брызгами барьер.
Ребята взвизгнули:
— А ну, еще, а ну, скорей…
Вторая не дошла, третья хлестнула подальше, а четвертая ударила прямо в лоб барьеру и взметнула вверх стену брызг. Пацаны едва усидели. Папиросник оттащил коробку, накрыл ею свою одежду и морякову и оба уселись рядышком, готовясь к буре.
Ревун заревел по настоящему, и скоро публика отодвинулась от барьера, где волны стали ударяться в его упрямый лоб и взметывать столбы выше барьера, выше деревьев. Волны ухали и бросали мелкий камень с такой силой, что он ранил лицо. Тут ребята не вытерпели, вперебой вскакивали они на барьер и изловчались бросаться в отходящую волну, пролететь ее и попасть в идущие и бороться и визжать — как дикарята. Публика смотрела на их игру, и возгласы удивления и страха вырывались у всех.
А ревун не ревел, а орал отчаянно, и крик его рвал, уши и волны глушили своими ударами, и гудел крепкий лоб барьера, едва удерживая и отбивая вверх столбы бешеной воды.
Пацаны, лягушатами увертываясь, чтоб не быть размозженными волной о барьер, стали вылезать и поглядывать друг на друга, как бы говоря:
— Это уж чересчур.
Повылезли все и стали греться и одеваться, косясь на взлетающие двухэтажные стены воды.
— Ну, как, здорово? подошел к кучке пацанов пионер.
Скосились презрительно глаза.
— А ты бы попробовал.
— Да он москвич![4].
— Хуже, девчатник, вместе с девками они.
Пацаны, самостоятельные и отчаянные, не терпели пионеров: это паиньки, прилизанки, в игрушки играют. Везде они задевали пионеров и относились к ним с пренебрежением.
Пионера это задело.
— У нас разницы нет, девчата и ребята равны, а что я не трус — можете убедиться.
В ответ кто-то фыркнул.
— А ну, кто купаться? — весело предложил пионер и, скинув одежду, легко побежал к барьеру.
Рев волн заглушил его слова. Почерневшее море хлестало огромными валами через барьер, переламываясь на нем, выкидывая со дна моря обломки камней. Вылезть обратно живым было нельзя.
Ребята ахнули.
Тот, над кем они зубоскалили, вскинулся на барьер, сверкнул клубком, и отхлынувшая волна швырнула его далеко навстречу другим, которые не доходя рушили белую пену.
Смельчак скрылся, вынырнул, опять скрылся, и видно было — продержится он не более как несколько минут, а потом море изорвет его в куски о камни.
— Назад, назад! — заорали пацаны, — держи право, право держи. к купальням, где лесенки. Здесь убьет!
Буря заглушала слова. Пионер крутился на одном месте, не решаясь плыть или выбраться через барьер, но вот он поплыл.
— Куда, погибнешь! — замахали ребята.
Тут волна жадно подцепила легкое тело и ударила о барьер.
— А-а! — закрыли глаза ребята и отшатнулись, боясь, что их обдаст кровью.
— Жив, жив, вон он…
— Держись там, — гаркнул Моряк, метнулся с барьера и прошиб головой гребень волн. Он нырнул еще раз, вот они вместе, вот отгребаются от опасного места.
— К купальням, к купальням, Моря-ак!
— Он знает, смотри…
Моряк греб изо всех сил, и видно было, почти тащил пионера к безопасному месту. Пацаны бежали к купальням, валила публика.
— Сюда, сюда, поналяжь!..
Моряк налегал, но волны сбивали, захлестывали и выматывали силы. Вот он ближе, вот попал удачно с попутной волной, вот еще ближе.
На ступеньки Моряк взобраться не мог, дрожали колени и все мускулы. Чьи-то сильные руки подняли и прислонили к стене.
— Молодец…
Взглянул и видит — форменки, клеш и два загорелых лица военморов. Они взялись за пионера, и скоро он ожил — нахлебался таки порядком.
— А все ж, деляга, — судачили пацаны.
Моряк отдышался и поплелся домой.
Как он исчез — никто не заметил. Только три тени скользнули следом. Город навстречу тьме выставил огни, а тьма бушевала, ярилась и жалобно ревел ревун. Моряк шел, качался, хватался за стены, снова шел. Кривые узкие переулки без огней, жуткие. А следом три тени.
— Теперь справимся.
— Ну, сразу.
— Бей!
Моряк почуял удар, отскочил, хотел защититься, дать отпор, но мускулы не слушались, он осекся и со второго удара упал на колени.
— Бей!..
Топтали ногами, визжали и рвали.
Всю ночь ревел ревун…
Глава четвертая
В КРОТОВОЙ НОРЕ
— Уфф — дошли!
— Сюда?
— Ага!
— Да не пролезешь.
— А ты боком…
Один из говоривших задом спустился вниз по ступенькам и ногой толкнул дверь, но дверь отворилась до половины, а там уперлась во что-то мягкое и большое. Человек удивленно поглядел на дверь и поддал ее ногой по футбольному.
— Ой, батюшки!
Дверь отворилась и тут же закупорилась огромной тушей.
— Опять, полунощник, волосянки хошь?!
Огромная рука высунулась из двери и ухватила незнакомца за чуб.
— Стой, ведьма, что ты, ослепла… пусти!
Вместо ожидаемого писка — густой бас, и карающая десница опустилась.
— Кто это, господи… С нами крестная сила!
— Башку с волосами хотела отодрать, а теперь крестная сила… Сама ты нечистая сила!
— Батюшки…
— Да вовсе и не батюшка, разгляди получше, парня вот возьми…
— Ой грехи, что ж это?
— Помяли его малость, отойдет.
— Так и знала, так и знала, родимец его разорви. У, громовой осколок!
— Дa тише ты, куда его положить-то?
— Неси сюда, неси в комнату.
Попробуй пронеси, в три погибели согнулся и не влезть. Тьфу… в комнату в кротовую нору легче влезть…
После таких злоключений тело Моряка было протолкнуто внутрь и уложено в том самом углу, где оно обитало и раньше в своем живом виде.
Принесшие так и не влезли в комнату, и тетя Мавра их не видела, разглядела только ноги в матросских клешах.
Она взглянула раза два на племянника, раза три зевнула, перекрестилась столько же, и с толком, с чувством, с расстановкой, почесав поясницу, опять улеглась, задавила своей тушей дверь и захрапела богатырски.
Солнце долго карабкалось на бугры. Первым увидел его часовой батареи, охраняющий вход в бухты Севастополя. Он встрепенулся, промялся и повеселел, а потом, взглянув на узорно золотое море, крякнул:
— Ишь, хвороба!
Солнце поняло ласку и заиграло ярче и вдруг с горы затопило Севастополь, ошеломило задремавших собак, стукнуло по лысине колокольню, домам стало весело, и все стекла заблестели.
Тут проснулся Моряк и тетя Мавра вместе.
— Ты это што? — грозно вопросила тетя Мавра.
Моряк потянулся, пощупал ребра.
— Вздули вчерась водоносы, доход отбил, а они мне бока; спасибо, два флотских шли да нашли, сам бы не дошел. Снесем, говорят… Сказал я им квартиру, а дальше не помню…
— Ох, горюшко ты мое, безотцовщина! И чего с тобой делать, мать ты в могилу свел и меня…
— Для тебя могилы такой нет, и гроба подходящего.
— Тьфу, сатана, отец такая же язва был.
Тетка хлопнула дверью и покарабкалась на улицу.
— Вот чорт, я ее в могилу… да и мать-то не от меня померла.
Моряк вспомнил — жили тоже так, только просторней было, мать много-много тоньше была. День стирает, ночь стирает, утро стирает, вечер стирает, а по воскресеньям ходит в церковь и плачет.
Он себе день в бухте, ночь в бухте, утро в бухте, вечер в бухте. Прибежит, схватит кусок, иногда два, и ходу.
Раз прибежал так, а вместо матери тетка Мавра, торговка.
— Мать?
— Мать, — говорит, — три дня схоронили, а ты мать спрашиваешь. Да не реви, кормить буду, — и сунула хвост селедки.
Так и зажили в тесноте и в обиде.
Моряк попытался встать. Кости ныли и поджилки дрожали, кое-как сел на скамейку.
Глянул в окно — серый каменный бугор и в мусоре спит котенок.
Стало тошно и голодно. Пошарил еды — ни крошки.
Со стены ядовито улыбался отец, щуря глаза на неожиданно попавших солнечных зайчиков, которые прыгали растерянно, смущенные обстановкой, торопились удрать.
— Эх, — Моряк заерзал на лавке и отвернулся от отца. По жилам пошла тоска и кругом мутно, ничего не хочется, пропадай все.
Вдруг он почуял на руке якорь и представилось ясно: волосатая крепкая рука тоже с якорем ведет его к морю.
Он бежит и заглядывает в прищуренные глаза и путается в ногах.
— Вон мой корабль — видишь — во-он!
Отец поднимает на руки и показывает сыну море, а морю — сына. И пяти лет он уже знает— он моряк, и отец как-нибудь не только покажет издалека, но возьмет его с собой, даст морю сбрызнуть соленой водой, приобщить к гневу и к ласке своей.
Но этого так и не случилось. Не успел отец приготовить замену, взяло его море навсегда.
Остался сыну портрет, да завещание — итти к морю. А труден путь к нему одному.
Многого добился сын — Моряком все ребята зовут, — якорь на руке, а вот на корабль попасть, на корабль!
И опять по жилам огонь! — пробьюсь, не я буду… Все равно: в море, а не в кротовой норе сдохну. Эх… море…
Сорвался, пнул дверь.
И кротовая нора пуста.
Глава пятая
ЭСКАДРА ПРИШЛА
Как она пришла, никто не видел — только вдруг с Графской — теперь с пристани III Интернационала— потянуло по улицам военморами.
— Это «Коминтерн», а за ним «Шмидт».
— Нет, вовсе «Незаможник».
— Верно, «Шмидт» другого типа.
Стоял Моряк с друзьями на каменных ступенях пристани и впивался глазами.
А громадины кораблей стального цвета спокойно и стройно рисовались на рейде, поблескивая яркокрасной ватер-линией.
До самой пристани резвились легкие военные шлюпки. Загорелые ребята выскакивали на берег и видимо с наслаждением скакали по ступеням, разминали ноги.
— Куда топаем?
— В парк!
— В клуб!
И уходили, далекие и недоступные. Какое им дело до пацанов, что пялят зенки на море и разевают рты на тонные фасонные форменки.
Долго стоял Моряк на пристани, заглядывал в глаза, хотел заговорить, но ничего не удавалось. Дождался, когда шумливый, чванливый буксирка[5] подкатился к выточенному каменному крейсеру «Коминтерну», забежал так и этак, потом зацепил его канатом и, важно надуваясь, потащил в Южную бухту.
Буксирка гугукал, пыхтел, выходил из себя, встречаясь с другими кораблями, — словом, преувеличивал свою роль. «Коминтерн» тянулся нехотя на неприятную канитель — погрузку угля и свысока поглядывал на взбалмошного буксирку.
Моряк понял его и рассмеялся.
Вечером город блестел огнями и военморами.
Для них открыт приморский бульвар, для них играет музыка вальсы, для них разрядились городские девчата, а в морском клубе имени лейтенанта Шмидта улыбается афиша черною рожей:
«КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА»
ДЛЯ ВОЕНМОРОВ КИНО
Моряк тут. Несколько раз впирался, хотел пройти, и каждый раз контролер подставлял коленку и легонько отстранял его:
— Не лезь.
А ну — попытаю еще раз! Опять замешался в белую массу военморов.
— Ты куда?
Цапнул его сзади за вихры.
— С вами охота— взмолился Моряк.
Уцепивший взглянул на пацана и увидел в его глазах столько обиды и просьбы, что размяк:
— Иди под крыло— он обнял его рукой и контролеру бросил:
— Со мной.
И контролер стал не страшный, а даже ласковый.
У Моряка забилось сердце и сперло дыхание: и почуялся отец и рука крепкая, с якорем, как у него.
А военмор вспомнил такого же оборванца, там, на родине, ластившегося к старшему брату, провожавшего глазами, полными такой же обиды, и ему стало хорошо, что дал частицу радости этому неизвестному пареньку.
Поднимались по лестнице; а по стенам — корабли старинные, новые, картины морских боев, карты, якоря.
У Моряка остались только глаза. Он окаменел и ничего не слышал.
Первый раз наконец-то он попал в клуб…
Здесь все морское, здесь и воздух и стены пахнут морем!..
Прошли, сели на скамейку, и военмор улыбался, глядя на восторг пацана.
Вдруг Моряк очнулся: прямо на него шли два пионера.
«Пропал, кончено, сейчас подойдут: — А ты зачем? ты пионер? — нет, и выгонят».
Хотел спрятаться, нырнуть под скамейки. Но они вот рядом.
«В лепешку расшибу— не уйду», — стиснул зубы, сжал кулаки.
— Здорово!..
У Моряка глаза вылезли вон: пионер отдал ему салют.
— Здорово! Не угадаешь, а я тебя запомнил хорошо, в бурю-то тогда плыли…
— А-а… — у Моряка в висках застучало. Пионеры уселись рядом.
— Ты как тут?
— Я… я… тут.
— Мы звеном пришли, наше звено «Краснофлотец», мы тут часто бываем.
— Я не часто.
— Ты что же тогда удрал-то, я слышал, тебя поколотили?
— Их трое, а я один, да устал еще тогда, — оправдывался Моряк, — а то бы я…
— Тебя ведь те моряки подобрали, которые там были?
— Я не разглядел… помню — моряки.
Из клуба шел Моряк вместе с пионерами.
Спасенный им оказался сам вожатый звена «Краснофлотец».
— Это вот, ребята, парень, который меня спас, — представил он.
— Да врет, сам плыл, — покраснел Моряк до ушей.
— А ты хороший парень. Почему ты, брат, не пионер? — Моряк смутился окончательно.
— Да я… это, — ну, как им сказать, что он их считает, во-первых, чистоплюйчиками, во-вторых, бездельниками, только и знают — вырядятся да с барабаном по улицам — чик, брик — не нашенские. Им в игрушки играть, а ему — в моряки.
— Ты зря, ты вот ходи к нам чаще, право, пионером будешь!
— А хочешь, мы на корабль завтра пойдем — приходи.
— На какой? — удивился Моряк.
— На «Коминтерн», моряков навестить, наше звено имени крейсера «Коминтерна», пойдем, право!
Моряк и слова вымолвить не мог.
— Пойдешь, значит? — перебил вожатый звена, — завтра в 10 часов утра.
Глава шестая
НА КОРАБЛЕ
Длинным золотым жуком кажется Южная бухта, так ярко блестит на солнце нефтяной налет на ее черной глади.
Дремлют старинные миноносцы, обреченные на разбор, а около них пригрелись незаметные глазу хищные подводные лодки.
Вдоль берегов толпятся неуклюжие угольные шаланды и еще какие-то старые корабли вылезают ободранными носами на берега. Среди всего этого случайным гостем стоит крепко пришвартованный красавец «Коминтерн».
Задорный буксирка куда-то удрал, и «Коминтерн» стоит спокойный, невозмутимый столь неподходящей обстановкой.
Военморы в грубых холщевых рубахах, черные как «арапы» грузят уголь.
Верещат лебедки.
— Вира, вира по малу![6]
— Майна![7]
Отрывисто выкрикивают боцмана.
— Полундра![8] — сердито срывается иногда.
Уголь, едкий и липкий, забирается везде, и в ботинки и в нос. Хрустит на палубе, мажется. Надоедливый.
К обеду едва-едва кончили.
— А ну-ка — сказал крепконогий боцман и, засучив штаны, взял кишку. Она фыркнула, брызнула, и потоки воды заиграли радугами, отдирая и унося грязь.
Матросы с хохотом бегали под струями и щетками убирали палубу, Боцман со свирепым видом пускал какому-нибудь неловкому струю пониже спины и хохотал вместе со всеми, глядя, как тот удирал на карачках.
За таким занятием застало звено «Краснофлотец» своих шефов.
— А, «смена смене»!..
— Постой, малость окропим!..
— Грязь смоем, чтобы смене в хорошем виде предстать, — шутили комсомольцы, стаскивая измоченные грязные рубахи и удирая обмыться и переодеться.
По скользкому трапу забрались ребята на крейсер.
Моряк выдавался из шеренги, задевая всех, и совсем терялся на людях, а пионеры — как дома.
— Кузьмич, здорово!
— А, сам Кузьмич!
— Вот Кузьмич!
Встретили все увалистого белого парня и затормошили.
— А Керзон где?
— Фьют, фьют, фьют.
Из кубрика катил на всех четырех смешной пестрый пес.
— А стенгазета вышла?
— Нет? почему?
— Клеить некогда.
— Ребята, не дело, а? Надо устроить. — И повалили вниз через кубрик в красный уголок.
Очевидно, они здесь не первый раз.
Моряк не поспевал, он заглядывался всюду, то к орудию прилепится, то койки подвесные его заинтересовали, то военмор, что спускает флаги на мостике. Раньше издалека его видел, а теперь вот он, рядом. Ведь на корабле, да еще на каком, на самом главном!..
Пионеры разложили стенгазету на полу, и работа закипела. В круглые окошки-иллюминаторы лился свет и блестел свежий клей на полосах разноцветной бумаги. Моряк совсем рот разинул.
— Вот так вот, ему бы невдомек, а они вон что делают!..
Военморы наперебой заговаривали с ребятами, водили их по кораблю. Моряк с одним из пионеров пошли смотреть машины. Долго пробирались куда-то вниз. И чем ниже, тем делалось жарче; кто-то пыхтел, посапывал, большой и горячий, и от его вздохов, казалось, двигался пол и дрожало нутро корабля. Вот за решеткой тускнеет огонь, и в его багряном свете копошатся люди. Они черные, рубахи на них мокрые, стоят колом, иные без рубах, и потоки пота делают их полосатыми и жуткими.
Это кочегары у котлов. «Духи» — называют их военморы.
Тяжелыми вилками они подламывают[9] уголь, открывают вдруг чугунные дверцы топок и прямо в полыхающее пламя суют черную пищу. Котлы воют зверями и повизгивают, скулят, когда снова зажимает им пасть закрышка. Моряку стало тяжко, ему показалось, он лезет в ад, и черти с вилами, и пламя, а неба не видать!
— Вот это котлы, их сейчас чуть поддерживают, а на ходу близко не подойдешь, ух, пышут, — как будто угадав его мысли, сказал военмор.
Вечером собралась команда на баке.
Весело пробили вечерние склянки, город развесил огни; желтым парусом закачалась луна в черноте летнего неба.
От орудий легли странные тени, корабль потерял очертания. Хорошо и необычно было сидеть, поджав ноги, на палубе и слушать рассказы комсомольцев, как они ходили в тендру[10] на стрельбу, как поймали дельфина, как «Кузьмич» свалился в воду на ходу и много, много интересного.
На носу стоял часовой, отражался в лаковой воде и щурился на красный глаз сторожевого фонаря.
Так бы и не ушел Моряк с корабля! Хоть бы юнгой его взяли, стал бы по канатам лазить, а уж не то, так кочегарам пить носить, чай им без воды тошно, — а спать — хоть под пушкой, в башенке; есть бы он и не запросил, да и много ли ему надо? Однако, пришло время, с корабля ушли и Моряка взять не забыли.
Глава седьмая
КАК ПРИНЯЛИ ТОРГОВЦА
Ночь не спалось. Не хотелось верить, что опять в кротовой норе. Задремлет и кажется — выпуклая палуба, таращит глаз фонарь и гудят котлы, фырчат, наверно хотят ехать, — Моряк жмется в комок, авось не заметят, а там в открытом не выбросят. Но котлы шипят сильнее, становится горячо, а корабль — ни с места.
Очнется, протрет глаза, а это не котлы, а тетя Мавра завалилась и пышет жаром, храпит. Тьфу! — опять не спится и раздумье лезет.
— Почему они смена, пионеры-то. Так их и зовут — смена!
Долго думает, все вспоминает про них, как ходят, как говорят, как газетину клеили, и видит — не как наши ребята.
Под утро он засыпает и видит во сне, что и его хлопает по плечу военмор и говорит: «вот смена!», и ему становится легко и радостно.
Пацаны на Моряка удивлялись: как же, — бывало, встретятся пионеры, один ли, целое ли звено, посмеется, заденет их первый. Раз как-то уезжали они поездом, да на станции все распевали «Взвейтесь кострами». Барабан-то и не усмотрели. Пацаны сперли, продавили, да внутрь кошку дохлую Моряк запихал— нате, дрынгайте! А вчера вот шел по базару пионер, а галстук длинный. Подошел папиросник Луна:
— С моей матери платок, чем пахнет? — да сморкнулся в конец…
Едва его Моряк живым выпустил, а пацанам отмочил, рты разинули:
— Крысы, крысы вы есть, a они — смена, понимают о жизни больше и дело делают!
Совсем вывернулся парень. В отряде стал часто бывать; слышал беседы вожатого, приглядывался и как-то раз признался вожатому того самого звена «Краснофлотец»:
— А я бы тоже с вами…
Неудачными буквами, разными, кривобокими чертил заявление, и вот настал день. Все ребята как ребята, а тут уперлись глазами — пытают.
— Взаправду с нами хочешь или так только? — Вожатый звена изложил все, что знал про Моряка, и подвел:
— По-моему, такого парня принять.
— Конечно.
— Дельный парень.
— Свой.
— А социальное положение, а? — спросил кто-то. Моряк потупил глаза, вдруг тряхнул головой — была не была и жахнул:
— Торговец я!..
Все звено подскочило.
— Это как?
— Да так, водой.
— Зачем водой?
— Водой я торгую.
— А отец что делает?
— Не знаю…
— Как не знаешь?
— Да помер он.
— А мать-то?
— Тоже.
— Ребята, по-моему, это не беда, что он торговец, ему ведь жить нечем… как-нибудь потом искореним, — встал на защиту помощник звенового.
— Ребята, вы ошибаетесь, его надо рассматривать как беспризорника! — выступила пионерка Тося.
— Нет, я не согласен!..
Пожалуй бы долго спорили: вожатый, наконец, разрешил недоразумение и сказал:
— Люмпен-пролетариат; самый распролетариат!
После таких слов — спорить было некуда.
Моряк был принят в пионеры.
Глава восьмая
ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК
Вскоре у Моряка с тетей Маврой пошли нелады. Пришел раз с отрядного сбора, а в «нору» не влезть. Дым. Ругань. Протиснулся и задохнулся.
Сидят кучей торговые моряки, тянут спирт, закусывают чесноком и вонючей селедкой.
А тетя Мавра за хозяйку.
— Это што, — потянул ее за рукав Моряк, — ведь запрещенный спирт-то, а?
— Нишкни, мал ты еще!
Пьяные горланили песни и пачкали рвотной зеленью пол.
— Не хочу я их… я в милицию, — загорелся Моряк, спаиваешь?
— Ах ты, гадюка, тебе перед этими людьми на задних лапах ходить, в ножки кланяться чтоб в люди вывели. А ты…
— Вот он, Матвей Кузьмич, оголец; пристройте уж его, говорила я вам, — обратилась тетя Мавра к усатому. — Мешает он мне только тут, а вам поможет по поварской части…
— Я што ж… я… — Повар встал на кривые ноги и оглядел Моряка.
— Да кланяйся ты, гадюка, в ножки кланяйся, проси. Ну!?. — Моряк взглянул в пустые водянистые глаза корабельного повара, и ему стало мерзко: нет, не такой мой путь…
— Тьфу мне на вас! — крикнул Моряк и выбежал вон, и ночь жаркая не могла остудить горячих висков.
С тех пор что ни праздник— в норе попойка.
— Тетка Мавра, сойди с моей квартиры, — заявил Моряк в тихий летний вечер.
Тетка встала и не вздохнет.
— В категорический срок — завтра все это барахло забери, — указал на передний угол, вышел, лихо посвистывая.
Ремесленная улица горбатилась верблюдом, щерились обитые ступени, где-то далеко позванивал трамвай и тартакала водокачка.
— Ну, с теткой уладил, завтра выселяется, и отдаю мою квартиру нам под пионерский клуб! — докладывал Моряк пацанам, спускаясь на Хрусталку окунуться на сон грядущий.
Тетка Мавра и в ус не дула, встала и торгует, а Моряк не смутился.
— Срок истек, — заявил он пацанам утром, — пойдем, выселим.
— Складывай по порядку — иконы зря не порть — ее имущество.
Барахло тетки Мавры выросло порядочной кучей. Приставили охрану, занялись уборкой норы — пыль столбом. Любопытные соседки сбежались, как на пожар.
— Господи, што такое?
— Беги за самой-то!..
— Ой, батюшки, рехнулся парень!
Скоро в гору пыхтела сама Мавра.
— Это што, а? — загремела она, выкатывая глаза. Вдруг сообразила.
— Ах ты, огрызок, да я тебя… и ринулась всей своей громадиной на утлую хибарку.
— Держись! — скомандовал Моряк.
Дверь не поддалась, и в тетю Мавру посыпались камни и мусор, ребята крыли с горы.
— Передушу щенят! За ноги раздеру! Батюшки, родимые, да что вы окаянные. Ой…
Атака была отбита, тетка Мавра отступала, не выдержав ураганного огня, и несла добрую корзину мусора в голове и за шиворотом.
— Соседушки, что ж это? Пашенька, Сидоровна, Егор Карпыч, помогите унять. Батюшки. Ополоумел парень, караул! Родимые, помогите! — заголосила она и бросилась снова.
— Цыц, пацаны, чего затеяли, метлы хотите…
Егор Карпыч ухватил метлу, две-три старухи — палки, рогачи и двинулись вместе за ней.
— Не робей, пацаны, держись!
Тучи пыли и щебня засыпали.
— Вот я вас, вот… — махал Егор Карпыч метлой, пятясь раком.
— Го-го-го! — ревел в восторге собравшийся народ.
— Ребята. и я за вас — выскочил из толпы Пис, — примите, братцы!
Тетя Мавра упыхалась, села и пот ее даже прошиб.
— Милиционера сюда, милиционера! — кричал кто-то.
— Дайте его, родимые, дайте! — ухватилась тетка Мавра.
— Что такое, почему? Тише, не толпитесь, пожара нет! — распихивал милиционер народ.
— Гражданин, товарищ, — уймите ребят!
— Да в чем дело?
— Выселили!..
Ребята решили лечь костьми, а в квартиру не пускать и воинственно кричали милиционеру:
— Полезь, полезь, — всю вывеску испортим!..
Однако Моряк вышел и сказал:
— Ведите, товарищ, только подальше от нее. В милиции объясню.
На объяснения вся милиция собралась и даже скрюченный делопроизводитель, подняв на лоб очки, только фыркал.
— Ловко, вот это ловко!..
— Вселиться обратно, гражданка, можете, только пьяный притон там прекратите!..
— Не вселюсь я, ни-ни-ни, выпорите его при моих глазах, иначе ни-ни-ни!..
— Этого мы не можем!
— Не можете? какая же вы милиция, кто же его без отца учить будет, а? не милиция вы, а тьфу! — и тетка Мавра растерла ногой плевок, — вот вы кто!..
— Гражданка! — привстал начальник милиции, но тетка Мавра не стала ожидать, бросилась в дверь и, ругая милицию, понеслась по улице, на ходу выбирая из головы сор.
— Я ей, товарищи, категорически предложил — довольно дурман и прочие антимонии и будет открытие клуба… — толковал Моряк желающим.
А тетка Мавра, собрав свои выселенные пожитки, уехала к сестре куда-то ближе к докам заниматься своим ремеслом. Так кончилась знаменитая война, отдавшая в руки пацанов такое сокровище, как кротовая нора,
Глава девятая
ПЕРВОЕ СБОРИЩЕ
После захвата кротовой норы Моряк объявил:
— Учреждаю вполне свободный клуб для всей босоты, если бьют, свои иль чужие, приходи, скрывайся — не выдадим!
Если жрать хочешь и не втерпеж — накормим чем есть…
Если заработал лишнего, поймал рыбу или что — тащи, здесь и сготовим, здесь и съедим.
А вообще организуем шайку, в которой можно ходить на корабли, в настоящий морской клуб, а то в кино бесплатно.
Пацаны взбудоражились. Весть разнесли по всему берегу папиросник Луна, удивительный Пис и друг Моряка, лучший нырок — Черный.
Сперва туго, по одиночке приходили пацаны — заглядывали.
Сидит за столом Пис и что-то малюет, Черный стены скоблит, а папиросник Луна клеит что-то из пустых коробок и все Писа смущает.
— Вот маляр, — какой же это Троцкий, это дикий лев!
— Он и есть Лев, — отбривает Пис.
Поглядят ребята, поглядят: народ все свой, кто не знает Писа? И Черный тут — настоящие пацаны! И соблюдая достоинство, поздороваются и зайдут в нору.
— Как оно, верно, что болтают?
— Кто болтает? — угрожающе спрашивает Черный.
— То есть не болтают, а разговаривают, будто…
— Не будто, а так и есть и в воскресенье первое сборище — если твои ноги ходят— приходи, если твои глаза глядят — увидишь, а если даже башка варит — поймешь…
Озадаченные не на шутку пацаны уходили с твердым решением раскусить эту затею. Заглядывали и враги водоносы, держать стали себя тихо, видя Моряка среди крепких друзей, и первый сбор, или «сборище» был людный.
Моряк долго готовился к докладу, никого не спрашивал, сам до всего доходил, держал он свое дело в секрете. Он ходил один по берегу моря и шептал про себя разные приемы своей речи.
В назначенное время он встал и, не робея перед десятками глаз, сказал:
— Пацаны, я сам такой, долго я это мозговал и выходит, надо делать так — будет у нас крепкая шайка, каждому помога и застой, здесь — указал пальцем на стены кротовой норы — здесь наше «сборище». Я говорил — если бьют, беги сюда, не выдадим! И так далее, а впоследствии будем ходить на корабли и орудия своими руками щупать, как вот этот стол, и если будем держать твердую линию, то морякам будет смена!
— Ну, вот, кто хочет заходи, а нет — выходи и не копти хату. Какие у кого слова?
— У меня!..
— Говори, Пис…
— Я вот предполагаю всем, значит, отметиться, секрет, братцы, не у Щербы, а у меня, все его фигуры я писал, он только накалывал, и сработаю вам сам лучший вензель, так что всем желающим быть в шайке могу сделать вензель серп со звездой и будь готов… будет красовито, что надо!..
— Ладно, примем, дело говорит!..
Самое горячее было «сборище», затронуло каждого, и когда Моряк положил на стол белый лист и сказал— «кто с нами — пишись», на белом листе в разные стороны полезли десятки фамилий.
Совсем к вечеру пацаны разошлись, остался Пис, которому негде было ночевать.
— Слышь, — спохватился Пис, — а что же про пионеров-то не помянул?
— Чудак, напугаются ребята, если сказать прямо, а я с подхода, ты постой…
— Тебя же они и вздуют, с твоим подходом, — заключает Пис.
— Не боюсь, посмотрим…
— Я вот уж боюсь, только не ребят, а Щербу, ищет он меня и, сказывают, сердитый, понимает, что я хочу сам работать, секрет я весь знаю..
— Ничего, обойдется.
— Ну ладно, спим.
— Храпим…
Ребята заснули, и Ремесленная улица провалилась в черноту южной ночи, только над кротовой норой мигал фонарь, сделанный папиросником Луной из разноцветных папиросных коробок с надписью:
«Клуб морских ребят»
Глава десятая
ЭКСКУРСИЯ В ДРЕВНИЙ КОРСУНЬ
— Вот что, — объявил Моряк, — для нашей спайки надо вместе потолкаться, пошла братва на экскурсию…
Все записавшиеся согласились.
— Экскурсия будет антирелигиозная — политическая…
— Ладно.
Опять согласились и, слыша такие мудреные слова, прониклись уважением к Моряку, а он набирался этой мудрости в отряде.
Пошли в древний Херсонес, где в круглой бухте хорошо и искупаться.
Прошли Севастополь, обошли форты и вот в каменистом бугре увидели какие-то норы.
— Лезь, ребята, — сказал Моряк..
Поглядели экскурсанты — не решаются.
— Чего мнетесь — здесь раньше люди жили.
— Ну, тогда ничего! — Луна полез первый и все потянулись за ним.
— Это вот комната— показал Моряк на круглую выемку. Все огляделись.
Сверху шел мутный свет, и куполообразная пещера была таинственно молчалива. По сторонам ее в камне были выемки для гробов, это была семейная могила, где древние хоронили своих мертвецов, но Моряк действовал политически:
— Это, пацаны-товарищи, полки, на которых и спали и также клали пищу, овощи и разное барахло.
— Каково было плохо древним людишкам в таких трущобах, и где же тут бог, когда сами додумались строить домины, как у нас в Севастополе на Нахимовской!
— Нет его, выходит, — а то бы он сразу дал дома поспособней.
— Правильно говорит, решали пацаны, которые вообще за бога мало держались.
Облазили десятки таких пещер, обтерли бока в узких коридорах и окончательно усвоили, что в таких домах древним было неважно, и бог палец о палец не стукнул для благоустройства.
Когда собрались вылезать, кто-то крикнул:
— Змеи!
И все увидели с десяток черных веревок, которые свивались и развивались в одной куче.
Позеленев от страха, карабкались в узкую дыру, заткнули ее, завязали, дрались, кто не поспел прыгнуть на гробовые полки и, выкатив глаза, ждал неминуемой смерти. Моряк выскочил первый и, с удивительным хладнокровием стоя у самой дыры, призывал к порядку.
Когда все вылезли и оправились от испуга, он сказал:
— Ну, вот видели теперь, как древним-то приходилось?!
— Да-а, — протянули ребята…
— Теперь пойдем на гору, в развалины. — И, похрамывая, потирая ссадины, пошли экскурсанты к развалинам самого города Херсонеса, или Корсунь, как звали его славяне.
Кругом высокого бугра ясно выдавались крепостные стены, а в середине торчали колонны, а на них массивные, изъеденные временем плиты.
Кое-где почти сохранились дома. Ребята эабрались на террасу одного дома, впереди открывался прекрасный вид моря и круглой песчаной бухты.
— Ну, вот, здесь было жить лучше, объяснил Моряк… но, товарищи, в чем соль — здесь жили буржуи, а пролетариев-то именно загнали в ямы, где разные змеи и кромешная тьма… — и он показывал на могилище.
— Ах, дьяволы — их бы туда, толстопузых!
— Жальнула бы змея в брюхо, узнали бы!
— Верно, — направлял Моряк, — испокон веков как видно они нашего брата давили, а теперь их тово…
— Не больно-то теперь!
— Так им надо! — увлеклись пацаны.
— А если они опять насядут? — спросил Моряк.
— Как насядут?
— А как раньше.
— Да ну?
— Вот тебе и ну!
— А кто им дозволит?
— Они сами, у них, брат, тоже сила.
— Да мы им покажем — сила!..
— Они, брат, хитрые, много понимают — образованные и потом очень спелись между собой, готовятся с нами сразиться, а мы так шалаемся, не организуемся.
— Это верно…
— Правильно ты говоришь!
— Надо нам готовиться!
— Эх, что же мы, право, а?
— Прозевали.
— Надо бы что-нибудь такое…
— Не тужи, ребята, а для чего же я шайку набрал — для этого!
— Ну? Для этого? — заорали сразу в десять голосов.
— Для этого самого.
— Вот Моряк, а! Вот брат сметливый, живем, братва!..
— Значит согласны?
— Ну да, как же, вот чудило!
— Тогда не отлынивать, — взял обещание Моряк, и пошли купаться, захватив найденный древний горшок с закаменевшим нутром. Моряк перевернул его вверх ногами и, показывая древние росписи, в виде глаза, сказал:
— Вот какие боги были, и тоже молились…
Ребята до упаду хохотали над простотой древних; так антирелигиозно-политически провел Моряк экскурсию в древний город Корсунь.
Глава одиннадцатая
ЩЕРБА В СЕТЯХ
— Кто сработал? — грозно спросил Щерба, увидя у одного пацана на правой руке якорек внутри пятиконечной звезды и вензелем слова «Будь готов».
— Пис! — пискнул прижатый паренек.
— Кому еще работал?
— Все нашим, кому полагается.
— Так… вот как, ну, стой, мало того сбежал из компании — хочет секрет отбить. Так, стой! — рыкал Щерба.
— Где он живет?
— На лодке плывет! — показал нос вырвавшийся пацан и улепетнул от Щербы.
Щерба хмурился, фигуры рисовать не мог, а старые всем приелись и накалывать не по чему, наполовину пал его заработок. Вся выдумка-секрет у Писа — совсем отобьет!
— Ах ты глиста белая! — ругался Щерба и бродил в поисках Писа по берегу и грозился смолоть его в муку.
Но Пис как в воду канул, а диковинные вензеля Щерба видел еще и еще у некоторых пацанов.
Работа совсем не шла, и, ругаясь и сплевывая, он жевал табак и клялся уследить соперника и притиснуть.
Проговорился ли какой пацаненок, сам ли набрел Щерба, только появилась его толстая туша у знаменитого клуба и в час вечерний прильнула глазом к окну.
Щерба разинул рот — полна хибарка пацанов, по краям на лавках, прямо на полу — за столом Моряк, Пис и парень в галстуке.
— Пацаны-товарищи, не грех, что он в галстуке, это пионер тот самый, с которым я плавал и с которым на корабль ходил… он нам согласился читать.
— Так что же?
— Пущай читает.
— Не жалко!
— Нам хоть в гости ходи, мы ведь ничего, — отвечали пацаны, и пионер стал читать им книжку.
Толстое ухо Щербы не расслышало, что читал парень, но он видел, как разинули рты пацаны и как горели их глаза. Щерба посматривал на Писа и злобно ворчал: «Погоди, дождусь — выйдешь», а тот себе чертил что-то карандашом и спокойненько поглядывал на читающего.
Щербу разбирало зло, стоял час, стоял два, тело стало тяжелеть… когда же они кончат, черти!..
Щерба снова сплюнул и сел в уголок на камень, пряча в широком поясе нож.
В поле пели сверчки, а город слегка позванивал трамваями.
Щерба привалился к хибарке и заснул, как праведник.
Совсем на заре вывалились кучей ребята.
— Приходи еще читать!.
— И товарищев приводи!
— Что-нибудь про ваших про пионеров чтоб было в книжке-то…
— Ладно, ладно. — обещал пионер, провожаемый кучей пацанов после прочтения интересной книжки про Стеньку Разина и после его рассказов о пионерах. Больше всех ребятам понравилось, как ездят пионеры в лагеря.
Пис и Моряк, проводив гостей, шли обратно и услышали чей-то зверский храп.
— Гм?
— Гм?
Подошли — поглядели.
Спит дюжий Щерба и губы оттопырил, как старая лошадь. Не долго задумываясь, Пис уцепил сеть, стоявшую у соседа-рыбака и накрыл Щербу, ласково говоря:
— Кабы москитки деточку не покусали, спи, крошка. спи…
И ребята ушли.
Щерба похрапывал.
Так блаженно спящего в серебряных сетях застало Щербу утро.
Хозяин сетей проснулся раньше его, протер глаза:
— Улов у меня нонче в ночь ничево!..
Подошел ближе.
— Хорош бычок!
Расставил ноги, приложил руки рупором и в ухо Щербе заревел:
— Крепи снасть. белуга воет![11]
Щерба вскочил, сеть затянулась, свернула его в комок, он качнулся туда-сюда и вдруг покатился вниз с горы.
— Держи, держи! — орал рыбак, прыгая и махая руками вслед катящемуся шару.
Сеть трещала и рвалась о камни. Щерба выл до слез, а выбегающие на крик рыбаки подставляли жерди, чтоб удержать его бег.
Они спасали сеть, а у Щербы от этого скрипели ребра.
Когда его извлекли из предательской сети, он взревел зверем и попер к клубу, сжав кулаки.
В норе сидел незнакомый пацаненок. Не видя света белого, Щерба ворвался и табуреткой стал колотить окна; какие-то вензеля из ракушек по стенам, какие-то полочки с камешками — брызгали в разные стороны.
Пацаненок вылетел взъерошенным шмелем и помчался куда-то по тропинкам.
Когда от табуретки осталась одна ножка и от всех украшений остался небьющийся чудесный древний горшок, Щерба бросился в догон.
Паренек удирал на Хрусталку и, пробежав извилистые тропинки, юркнул к морю. Щерба за ним и, повернув за обрывом, увидел купающихся ребят и белое расписное тело Писа, затейно игравшее на солнце.
— Ага! — прохрипел Щерба и остановился передохнуть, боясь сгоряча упустить добычу. Он увидел, что ребята пускают самодельный корабль и даже заинтересовался его рейсами по заливу. Потом (тут у Щербы стало зеленеть в глазах) вылез Пис из воды и стал накалывать какому-то пацану вензель! Накалывать ловко, тонко, любуясь и скаля зубы. Сердце Щербы закипело, дыхание сперло, он не выдержал и бросился к изменнику.
Пацаны с криком рассеялись, видя в руке Щербы кривой сверкающий нож.
Пис не успел.
Он заохал, закричал, схватился за вспоротый живот и повалился на песок.
Щерба нагнулся, хотел полоснуть по горлу, но его опять накрыла сеть. Испугавшись такого наваждения, он крикнул, забился, но Моряк не потерялся и, накрыв Щербу сушившеюся сетью, затягивал ее все туже и туже. Щерба хотел перерезать сеть ножом, но стая пацанов заколотила веслами и палками по голове, и он выпустил свое оружие, скорчившись и ослабев в сетях, и тут, взглянув на покрасневший под Писом песок, вдруг понял, что наделал, заплакал, зарюмил, и всем стало гадко.
Заключительное слово
Пису рану зашили. Разгромленный клуб убрали еще лучше и совсем к осени после тесной дружбы со звеном «Краснофлотец» после хитрой политики Моряка, пацаны не постыдились надеть «сморкачи», у них стал отряд пионеров и вожатого дали комсомольца — Пашку Докера. Единственно что не признают эти новые пионеры, так это — барабан, а горн почему-то признали и любят в него дудеть во всякое время, от этого Ремесленная улица навсегда лишилась покоя.
Моряка теперь не узнать, заходит в нору по большим праздникам в бескозырке.
Сдвинет ее на бритый затылок, посмотрит кругом, оглядит ребят, кивнет чуть-чуть Пису, Луне и Черному.
— Ну, как поживаете?
— Поживаем…
— Работаете?
— Работаем.
— Ну — то-то… — И обратно топает. Недавно, когда пятый год праздновали, привел старого моряка, бывшего в очаковском деле, и ребята не выпускали его два. дня.
Все дело в том, что Моряка приняли в открывшуюся школу юнг, учтя его происхождение, работу и горячее стремление к морю.
Теперь он там действует также стремительно и решительно, как и прежде, как именно — когда-нибудь расскажу, надо съездить его повидать.