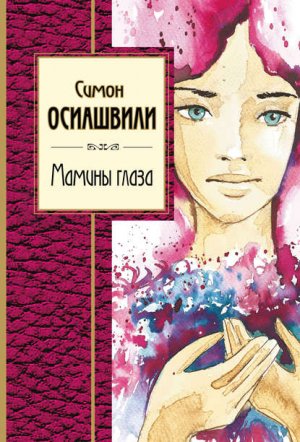
© Осиашвили С.А., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Я назвал этот сборник «Мамины глаза» совсем не потому, что мою песню с таким названием исполняет великая Тамара Гвердцители, и даже не потому, что с возрастом память, как увеличительное стекло, все отчетливее высвечивает далекие воспоминания о теплом молоке с сахаром, которое я пил из блюдца в маминых руках, о песне «Эх, дороги», которую мама пела мне вместо колыбельной, о том, как, встречая маму с работы, я протягивал ей халат и тапки, чтобы она больше не уходила. «Сталат и тапты» – так называл я их, как рассказывала мне потом мама… А потому, что чем дольше я живу на свете, тем чаще я вспоминаю мамины глаза и все важнее для меня становится то, как бы посмотрела она на меня в той или иной жизненной ситуации. Иной раз мне кажется, что я и сам смотрю на жизнь мамиными глазами. Потому что ничего важнее этих глаз, оказывается, и нет… Думаю, рано или поздно это осознает каждый.
Вижу бога
Мне досталась всего только жизнь
Когда-то я был положительным человеком. Окончил политехнический институт в родном своем городе Львове, работал программистом в большом вычислительном центре – и все в моей жизни было ясно и понятно. Тем более что профессию я себе выбрал совершенно осознанно – еще в школе я был победителем областных и республиканских математических олимпиад, так что никем иным, кроме как технарем, себя не мыслил. И уж во всяком случае, не гуманитарием точно. Все, собственно говоря, так и складывалось, пока однажды не прочитал я в журнале «Юность» повесть актера «Таганки» Вениамина Смехова «Служенье муз не терпит суеты». И вот в этой повести были процитированы стихи некоего безымянного автора. Это через несколько лет, когда были положены эти стихи на музыку, стали они популярной песней, помните, называлась она «Под музыку Вивальди». Но это случилось потом, а тогда, прочитав эти стихи, я просто сошел с ума. И дело не только в том, что стихи эти с бесконечными аллитерациями, с набегающими друг на друга, как волны, строками очень музыкальны. Вспомните:
Для меня, пожалуй, главнее всего оказалась ситуация возвращения к предыдущей любви, описанная в этих стихах:
А у меня как раз в жизни тогда именно это и происходило, я тоже возвращался к предыдущей любви. И вот все вместе, эти волшебно красивые стихи и эта ситуация – все это просто свело меня с ума. Я стал без конца бормотать про себя эти строки, днем и ночью, наяву и во сне – постоянно. А через некоторое время я вдруг обнаружил, что бормочу уже другие слова, то есть не просто слова, а стихи, которые я сочинил сам. Вот это новость! Я ведь до этого стихов никогда не писал, даже в том романтическом возрасте, когда просто положено это делать. Да и не читал их почти. А тут на тебе, взрослый двадцатичетырехлетний положительный человек, с серьезной профессией, вдруг занялся таким эфемерным делом. Смешно! Но мне было не смешно. Потому что несколько месяцев спустя выяснилось, что я просто не могу без этого жить. И это было действительно не смешно. Меня перестало интересовать все на свете, кроме сочинительства. И в этом было огромное мое счастье, потому что до этого жил я по накатанной не мной колее: школа, институт, работа – и вдруг пришло ко мне Нечто, перевернувшее и захватившее всю мою жизнь. Но это, так сказать, эмоциональная сторона дела. А была еще и рациональная. Работа программиста стала меня тяготить, я хотел профессионально заняться сочинительством и отдавал себе отчет, что и образован я в гуманитарном смысле мало, да и в украиноязычном Львове мне с русскими стихами далеко не пойти. И выход мне виделся один – Литературный институт. Тот самый, знаменитый, имени Горького. Выпускникам которого, как мне казалось из львовского далека, открыта прямая дорога в Литературу. Вот и собрал я свои стихи, положил их в конверт и отправил в Москву, на творческий конкурс в Литературный институт. Не знаю, как сейчас, а в те годы, когда страна наша была самой читающей в мире, оказалась она еще и самой пишущей. И конкурс в Литературный институт был свыше трехсот человек на место. Потому что один такой он был на всю одну шестую часть мира. Но как-то повезло мне, что ли, прошел я конкурс, вернее, стихи мои прошли, и приехал я сдавать вступительные экзамены. Но об этом позже, а сейчас я покажу вам стихи, с которыми приехал я в Москву. Но прежде хочется обратить внимание на одну вещь. Помните, я писал, что к стихотворчеству меня привело совершенно конкретное обстоятельство, а именно стихи из повести Вениамина Смехова. А если бы мне не попался тот журнал, я до сих пор был бы программистом в городе Львове. Представляете! Вот так случай может перевернуть судьбу. Я, как говорится, по гроб жизни буду благодарен Смехову за эту свою метаморфозу, впрочем, каким-то образом я с ним расквитался – для его дочери Алики Смеховой я написал несколько песен, а одна из них «Не перебивай» какое-то время была достаточно известной. Я рассказал Алике о том, какую роль в моей судьбе сыграла повесть ее отца, она вместе со мной поудивлялась тому, как лихо бывают закручены жизненные сюжеты, и мы вместе решили, что все в этой жизни взаимосвязано и закольцовано. Впрочем, до этого еще далеко. Я еще только поступаю в Литературный институт со своими ранними стихами, круто меняя свою жизнь…
Мне досталась всего только жизнь
«Перелистаю облака…»
Утро
В провинции
Средневековое каприччио
(диптих)
Предзимье
«Посольство севера, старинная зима…»
«Разгулялся январь снегопадом…»
«Бежишь… Упала. У калитки…»
«Видишь, солнце попало в яблочко…»
«Как хорошо целоваться весной!…»
«Деревья осенью пугливы…»
«Как день ноябрьский постарел…»
«Что осталось от осени?…»
«Как объясняются в любви глухонемые?…»
«Твои письма, как капли крови…»
Одиночество
Засуха
«Олени вечером доверчивы…»
«Олень склонился над рекой…»
Проводы
«Моя душа беременна любовью…»
«Такое время дня…»
«Я жизнь освобожу от штор…»
На небе след моих губ
Итак, мы остановились на том, что, пройдя творческий конкурс, я приехал в Москву сдавать вступительные экзамены в Литературный институт. Профилирующим экзаменом была, естественно, русская литература. Но тут была одна тонкость. Поскольку институт был единственный на весь Советский Союз и поступать приезжали со всех республик, то многие абитуриенты окончили не русские, а национальные школы и русским языком владели постольку-поскольку. И вот для уравнивания шансов выпускников русских и национальных школ экзамен по литературе был в двух вариантах: русскоязычники, назовем их так, писали сочинение, ну а, скажем, националы – диктант. Накануне экзамена были вывешены списки, кто какой экзамен сдает. И тут я, к своему удивлению, увидел, что фамилия моя стоит в списке пишущих диктант. Первая моя реакция – бежать в приемную комиссию и требовать восстановления справедливости, то есть включения меня в число тех, кто сдает сочинение. А потом я решил, что делать это совершенно не обязательно. В конце концов я честно указал в анкете, что окончил русскую школу, а если меня, вероятно, по моей фамилии внесли в список «диктантников», то это не моя вина. Были тут, конечно, и корыстные соображения. Дело в том, что я был золотой медалист – и, значит, мог быть зачислен в институт по результатам одного (профилирующего) экзамена при условии получения отличной оценки. Такой был порядок в те благословенные времена, не знаю, сохранился ли он до наших дней. Если нет, то жаль нынешних отличников. Так вот, естественно, получить пятерку за диктант было куда как легче, чем за сочинение, где оценивалась не только грамотность, с которой у меня был полный порядок, а еще и художественная часть. А оценка последней – дело очень субъективное: кто как посмотрит. Так что я поблагодарил судьбу, сделавшую мне такой подарок, и спокойно отправился писать диктант. Как сейчас помню, диктовали нам отрывок из «Капитанской дочки», я с божьей помощью получил пятерку, а вот мой сосед, почему-то запомнилось мне его имя – Турсун Бостонкулов, киргиз, – получил двойку и очень возмущался, потому что списал у меня, как он говорил, все до последней буквы. Но, наверно, с киргизским акцентом.
Так я стал второй раз студентом и уехал до осени домой, во Львов. А перед первым сентября одолели меня вдруг сомнения – надо ли мне все это. Ведь мне уже двадцать шесть, я бросаю налаженную жизнь, работу, жилье – определенность, одним словом, и уезжаю в совершеннейший туман. В чужой город, в одиночество, в общежитие, в неясные перспективы. И мне стало страшно. Я не спал ночами, мучился – был в полной растерянности. И здесь решительно выступил мой отец, который сказал, что мне дан шанс круто изменить свою судьбу, попробовать жить совсем другой, возможно, более яркой жизнью – и если я упущу эту возможность, то никогда себе этого не прощу. Да, очень может быть, у меня ничего не получится, но я всегда смогу вернуться, а если не попробую, то другого раза уже не будет. Никогда не нужно жалеть о том, что сделал, жалеть надо только о том, что мог сделать – и не стал. Эти слова я запомнил на всю жизнь. И стараюсь свои поступки сверять с этой формулой. Не всегда, правда, получается, но стараюсь я честно. Надо сказать, что отец мой не случайно так настаивал, чтоб я поехал в Москву. Дело в том, что я каким-то образом повторил его судьбу. Когда-то, еще до войны, папа учился в Тбилиси в финансовом институте и во время преддипломной практики подрабатывал грузчиком. А чтобы легче работалось, пел. И вот подходит к нему некто и говорит: «Молодой человек, вы хорошо поете, вы учитесь в консерватории?» На что мой папа ему отвечает, что ни о какой консерватории он и не слыхивал и что через месяц будет бухгалтером. Тогда папин собеседник заявляет, что такая естественная постановка голоса большая редкость и нужно обязательно заниматься пением профессионально, а быть бухгалтером может каждый. Он оставил отцу свой телефон, и через некоторое время они встретились уже около пианино – и папин знакомец, оказавшийся профессором консерватории, прослушав отца еще раз, написал ему рекомендацию на музыкальный рабфак (так в те времена называлось музыкальное училище), окончив который папа поступил уже в консерваторию и стал профессиональным певцом-тенором. Но это уже другая история, а пока что я поехал-таки в Москву и начал учиться в Литературном институте.
Должен заметить, что, конечно, в смысле литературного кругозора институт меня поднял, но вот что касается стихотворчества, то, по-моему, этому делу обучить нельзя. То есть версификацию освоить можно, но вот стать не графоманом, а поэтом, если этого не дано, невозможно. Наверно, это звучит банально, но поэт в первую очередь определяется мироощущением и отношением к слову и образу, а не способностью рифмовать и ритмически организовывать текст. Но вот чему Литинститут научил меня точно, так это тому, без чего существовать вообще и в шоу-бизнесе в особенности практически невозможно. Он научил меня держать удар. Дело в том, что у нас по вторникам были обсуждения работ друг друга. Раз в несколько месяцев очередь доходила до каждого – и вот тут начиналось сведение счетов. Если ты не входишь в ту или иную литературную или товарищескую группировку, твои однокашники по семинару поэзии, с которыми ты общаешься ежедневно и вроде нормально, накидываются на тебя (на твою работу, естественно) с таким ожесточением и уничижением, что ты начинаешь ощущать себя совершеннейшей бездарностью, коей не то что в Литинституте делать нечего, а вообще жить не стоит. И выходишь ты побитой собакой, и ищешь ближайшее дерево, чтобы свести счеты с жизнью, потому что такой бездари нечего делать на белом свете, – и только огромным усилием воли или порцией алкоголя заставляешь себя повременить с этим делом. Ну а через несколько дней появляется сначала желание жить, а потом и работать – и все возвращается на круги своя. И снова жизнь прекрасна. Так вот, именно этот навык держать удар очень помог мне, когда я делал первые шаги в песенном творчестве сначала как автор, а позже и как исполнитель. Впрочем, это еще впереди, а пока я учусь в Литературном институте, подрабатываю ночным сторожем, потому что негоже взрослому дяде брать деньги у родителей, которые, кстати говоря, уже выучили его в политехническом институте. Я сторожил склад электрооборудования около Киевского вокзала, там хранились огромные катушки с кабелем, которые, по-моему, никаких злоумышленников заинтересовать не могли, ибо в советские времена не было еще пунктов приема цветных металлов и частных ЛЭП тоже. Но тем не менее семьдесят рэ я получал плюс сорок рублей стипендии – жить можно. Так существовали многие мои однокашники, и это было нормально. Мне как сторожу была положена собака, она и была. Вернее, он. Звали его, естественно, Рекс, а как еще могут звать дворнягу, и ему ужасно не нравилось, когда я его выгонял из сторожки заниматься прямыми служебными обязанностями, а именно – сторожить. Он отворачивался, делал вид, что я обращаюсь не к нему, и, по-моему, обижался, если я настаивал на своем. Но все же он меня уважал и в моем присутствии был очень храбр в собачьих разборках, а если вдруг меня не оказывалось поблизости, Рекс благоразумно ретировался с поля боя, делая вид, что не имеет ко всему этому никакого отношения. Кормили его раз в несколько дней – приносили ведро отходов из ближайшей столовой, и он моментально проглатывал все, от чего его пузо становилось похоже на средней величины арбуз, а настроение делалось благостным и умиротворенным. Правда, ненадолго… Мне нравились часы, проведенные с Рексом, он был хорошим и терпеливым собеседником, думается, я даже любил этого пса и свою сторожку, несмотря на то что однажды чуть не сгорел в ней. Дело в том, что зимой для дополнительного тепла была там самодельная электроплитка, которую я ставил около двух кресел, служивших мне ложем, – и вот однажды рукав дубленки, которой я укрывался, попал в разогретую спираль. Слава богу, дубленая овчина не горит, а тлеет – и когда я проснулся (а просыпался я много раз за ночь, будили проезжавшие мимо поезда), то увидел, что рукав мой светится в темноте, а в сторожке стоит тяжелый дух паленой овчины. Потом я просто выкрошил истлевший край и ходил с подвернутым рукавом, а все решили, что на меня напал Рекс. Стоила моя дубленка примерно три месячных оклада сторожа, но я не унывал, потому что уж очень хорошие бывали ночи в сторожке. И стихи писались хорошие…
На небе след моих губ
Филиппу Киркорову
Прибалтийский сюжет
Конец дождя
«Освобождалось небо от грозы…»
Апрель
Осень наступила ночью
Осенний романс
«Я прощаю тебя за обиду осеннюю…»
Зимние дожди
Зимняя Ялта
Письмо
Пьяный вальс
Амулет
Столичная штучка
«Словно голову страус…»
Черно-белый фотоснимок
«Поцелуи – словно выстрелы…»
«Я один стою на пристани…»
«Ничему не научился…»
Все цветы
Я прервал повествование на рассказе о своих литинститутских буднях. А ведь были еще и праздники. Вернее, каникулы – для студента любого возраста это всегда праздник. На каникулы я, естественно, ездил в свой родной город Львов, где оставались мои родители и мои друзья. Поэтому мне там было хорошо. Львов первой половины восьмидесятых годов прошлого века был чем-то средним между нашей Прибалтикой и всей остальной страной. Не такой европейский, как Рига или Таллин, но и не такой советский, как все остальные наши города. Сказывалось то, что несколько столетий он входил в состав Австро-Венгрии и Польши, а советская власть там установилась фактически только после войны. Поэтому архитектура, ландшафты да и традиции были не вполне советскими. Ну и кроме того, так как Львов был столицей Западной Украины, то и влияние украинского языка было очень сильно. Практически никто из русскоязычных львовян не говорил по-русски правильно, даже не владея в полной мере украинским языком. Кстати, я-то украинский знаю в совершенстве, потому что у меня было много приятелей украинцев, и вообще я считаю, если живешь среди людей определенной национальности, нужно уметь говорить на их языке. А великодержавное отношение к этому вопросу до добра не доводит, в том числе и на бытовом уровне. Так вот, это знание украинского языка, помогая мне быть своим во Львове, сыграло со мной злую шутку в Москве. Оказалось, что в моей речи было очень много украинизмов, неправильных ударений и глагольных форм, причем это проявлялось не только в разговоре, но и в стихах. Но я не обижался, когда мне делали замечания, наоборот, просил как можно чаще указывать на мои ошибки, чтобы я их преодолел. Ну и довольно быстро я избавился от этого недостатка, помог, наверно, музыкальный слух – и теперь я уже сам остро реагирую на неправильности в русском языке, которых сегодня так много и в разговорной речи и, увы, в песнях. Потому что тексты пишут все подряд, кто и говорить-то толком не может, а худсоветов, к сожалению, не осталось и критерий только один – прибыль. А то, что калечится родной язык, современных радиокоролей не волнует. Главное – рейтинг. Впрочем, я отвлекся. А говорили мы о моих львовских каникулах, которые я проводил в основном в кофейнях, кои в почти европейском Львове были на каждом углу. И вот однажды я там разговорился с одним молодым человеком, который оказался композитором, студентом консерватории. И вот он ко мне пристал с предложением написать песню. Я отказываюсь, мол, какие песни, я занимаюсь серьезной поэзией, а это низкий жанр и все такое. Но он не отставал, а мы подружились и встречались почти ежедневно – и я понял, что мне проще согласиться, чем убедить его в своей позиции. И я написал нечто, что, как мне казалось, могло бы быть текстом песни, – а через две недели мой новый приятель позвал меня во Дворец молодежи послушать нашу песню. И вот я в зале, полном зрителей, и музыканты поют стихи, которые я сочинил. И пятьсот человек их слушают, представляете? Нет, вы не можете этого почувствовать, но поверьте, это невероятное ощущение. Потому что кто сегодня, в наше непоэтическое время интересуется стихами? Ведь эпоха стадионной поэзии канула в Лету вместе с шестидесятыми годами, а сейчас ну кому я могу показать свои стихи? Ну послушают их пять-десять ненормальных, а остальным и дела нету. И я понял: вот он, выход к аудитории. Я обязательно буду писать песни, но только такие, чтобы их тексты были самоценными, чтобы их не стыдно было дать почитать глазами, без музыкальной поддержки. Вот так случай привел меня к песне. А не зайди я тогда в ту кофейню, не разговорись я с тем парнем – и не было бы сегодня песен Симона Осиашвили. Это я к тому, что это уже второй случай, который кардинально изменил мою судьбу. Второй, но не последний. Но об этом позже, а пока что я вернулся в Москву, полный желания писать песни с самыми лучшими композиторами. Но одного желания мало – никто не ждал меня на этом поле, никто не собирался поддерживать. И только почта была за меня. Да-да, я выписал из справочника Союза композиторов адреса тех авторов, чьи песни мне нравились, и разослал им свои стихи. А потом звонил им и… И в основном они мне говорили, что мои стихи им неинтересны. Помнится, так же мне ответил и замечательный композитор Марк Минков. А потом, через несколько лет, когда в моем багаже уже были и «Дорогие мои старики», и «Не сыпь мне соль на рану», дома у меня зазвонил телефон, и голос в трубке назвался именно Марком Минковым, который предлагал мне посотрудничать – конечно, я согласился, не напоминая ему о нашем первом разговоре… Так вот, в основном композиторы вежливо меня посылали, и только Владимир Мигуля, царство ему небесное, сказал, что мои стихи ему понравились, и пригласил меня к себе. Я был поражен, когда увидел его рабочий стол, заваленный стихами, которые ему слали отовсюду – все же он был очень популярным композитором. И как он в этом потоке выудил мои опусы – непонятно. Повезло мне, что ли, не знаю. И вот Мигуля, отложив мои листки в сторону, говорит, что есть у него одна мелодия и хорошо бы, если бы я написал на нее стихи. На профессиональном жаргоне это называется «писать на рыбу». Это для меня была незнакомая работа, но я, конечно, не отказался – уж очень хотелось мне сочинить песню с известным композитором. Я и сочинил, только получилось забавно: Мигуле стихи понравились, но он написал на них другую музыку. Так родился первый в моей жизни шлягер, который назывался «Дни летят», исполнила его София Ротару – и через месяц песню запела вся страна. Но тут Мигуля обратил мое внимание, что его исходная мелодия осталась не у дел, и предложил написать на нее новые стихи. Что я и сделал, но Мигуле не понравилось то, что я сочинил, – и тогда я снова обратился за помощью к почте. Давид Тухманов, которому я отправил эти стихи, написал на них музыку. Так в моей жизни появилась песня «Старое зеркало», ее исполняли и Катя Семенова, и Ирина Аллегрова, а я получил за нее первый свой диплом на телефестивале «Песня года». Это был 1986 год. Всего этих дипломов у меня 19 штук. А в 2004 и в 2012 годах мне был дважды вручен «Памятный приз им. Р. Рождественского за вклад в развитие отечественной эстрадной песни».
Особенно мне приятно, что некоторые песни, соавтором которых я являюсь, стали визитными карточками для многих артистов, исполнивших их: для Вячеслава Добрынина это «Не сыпь мне соль на рану», для Тамары Гвердцители – «Мамины глаза», для Игоря Саруханова – «Дорогие мои старики», для Ирины Аллегровой – «Все мы, бабы, стервы», для Алексея Глызина – «Зимний сад» и «Ты не ангел», для Ирины Понаровской – «Ты мой бог», для Ярослава Евдокимова – «Колодец», этой песней он начинает и заканчивает концерт уже больше двадцати пяти лет. А под песню «Все цветы» Николай Басков обходит зрительный зал и собирает урожай букетов. Другим артистам уже не остается.
Я благодарен всем артистам, давшим жизнь моим песням, и считаю их полноправными соучастниками успеха этих произведений. Я глубоко убежден, что кроме композитора и поэта певец является полноценным «родителем» песни, потому что исполнением можно подарить песне крылья, а можно и приземлить ее, чему есть немало примеров. Так, Алла Пугачева, мало того что замечательно спела песню «Одуванчик» на мои стихи, так она еще и придумала очень глубокий видеоряд, повернувший произведение совсем другой гранью. У меня облетающий одуванчик был символом любви, не выдержавшей порывов жизненных ветров, а Алла Борисовна показала на экране призывников, которых стригут «под ноль», привнеся в песню такую пронзительную интонацию, которую я как автор и не закладывал в нее.
Я с удовольствием вспомню эти и многие другие песни, а также артистов, которые дали моим стихам жизнь, – им я их и посвящаю.
Все на свете музыка
Дни летят
Софии Ротару
Не сыпь мне соль на рану
Вячеславу Добрынину
Зимний сад
Алексею Глызину
Все цветы
Николаю Баскову
Одуванчик мой, моя любовь
Алле Пугачевой
Любовь пять звезд
Филиппу Киркорову
Ты не ангел
Алексею Глызину
Капля в море
Валентине Легкоступовой
Колодец
Ярославу Евдокимову
За милых дам
Михаилу Шуфутинскому
Бабушки-старушки
Вячеславу Добрынину
В любовь надо верить
Таисии Повалий
Горячий финский парень
Лайме Вайкуле
Продавец цветов
Валерию Леонтьеву
Пепел любви
Алексею Глызину
Старое зеркало
Давиду Тухманову
Я пришел к тебе совсем
Александру Буйнову
Спасатель
(Ах, друзья мои, друзья)
Вячеславу Добрынину
Черный снегопад
Григорию Лепсу
Запомни меня молодой и красивой
Татьяне Овсиенко
Паганини
Владимиру Мигуле
Киса-киса
Михаилу Шуфутинскому
Лучшая женщина
Игорю Браславскому
То ли воля, то ли неволя
Алексею Глызину
Рыжий
Павлу Слободкину
(анс. «Веселые ребята»)
Желтые кораблики
Светлане Лазаревой
Одинаковые одинокие
Сергею Куприку
Первые цветы
Андрею Державину
Опер с Петровки
Александру Кальянову
Под знаком Тельца
Светлане Лазаревой
Положи мне голову на плечо
Знаете, я счастливый человек. Потому что в моей жизни есть огромная радость – радость рождения песни. Когда я сижу на своем диване, вожусь со словами, терзаю гитару – и вдруг чувствую: пошло! Мне нравится!!! Большего кайфа, чем это состояние, я никогда не испытывал. Конечно, успех, деньги, которые потом принесет песня, – все это замечательно, но ни с чем невозможно сравнить ту совершенно невероятную радость, которая охватывает меня в эти мгновения. Но сочинительство – дело волчье, одинокое, и только мой кот Кука видит, как все это происходит. Вообще, он первый слушатель моих опусов, потому что всегда присутствует около меня во время работы – и надо сказать, что судья он строгий, и если ему что не нравится, дает мне понять это своими коготками. Иногда песня рождается долго, порой мучительно, а другой раз на ее сочинение тратится ровно столько времени, сколько нужно, чтобы записать ее на бумаге. Так, в частности, было с «Дорогими моими стариками» – у меня не было в голове ничего, я просто написал строчку «Постарели мои старики…» и, не отрываясь от листа, дописал эти стихи до конца. Причем сидел я на обшарпанной тумбочке в полуразвалившейся кухне – своего жилья у меня тогда не было и приходилось снимать угол у какого-то алкаша, который в любой момент мог прийти с бутылкой для душевного разговора. Вообще, жилось мне в те времена, если смотреть из сегодняшних дней, ой как непросто. Никто, ничто и звать никак. Ни жилья, ни работы, ни прописки, ни знакомств. Но какой-то такой кураж бурлил во мне, что все жизненные трудности как-то проходили мимо. Теперь такой кураж посещает меня все реже и реже. Наверно, потому, что я, к сожалению, преодолел недостаток, который с годами проходит у всех. Он называется молодость. Зато появляется что вспомнить…
Интересно было работать с Алексеем Глызиным, потому что я не просто писал стихи для его песен, я этими стихами формировал его образ. Алексей, когда он работал в «Веселых ребятах», был лирико-игровым героем, а когда он занялся сольной карьерой и обратился ко мне за помощью, я понял, что его органике более свойственно лирико-драматическое амплуа. В таком ключе и были написаны все песни его альбома: «Зимний сад», «Ты не ангел», «Пепел любви», «То ли воля, то ли неволя» и многие другие. Я с ностальгией вспоминаю нашу совместную работу, когда по ночам ребята звонили мне со студии, наигрывали музыку – и я сочинял на нее стихи до самого рассвета. А на следующий день была уже готова фонограмма новой песни. И еще через некоторое время песня эта звучала из всех окон. Вот так правильно угаданный образ способствовал успеху проекта. К сожалению, уже довольно давно мы с Глызиным ничего вместе не делали, впрочем, и новых интересных песен он почти не записал, за исключением, быть может, одной.
Особую роль в моей жизни сыграла встреча с Вячеславом Добрыниным. Дело в том, что если с остальными композиторами у меня складывались чисто творческие отношения, то со Славой мы подружились. Знакомство наше состоялось в редакции радиостанции «Юность» в 1986 году. Он еще не стал звездой эстрады, но был уже маститым композитором, а я – всего лишь начинающим автором. Не знаю, чем уж я ему глянулся, думаю, он немного устал от своих соавторов, которые все были существенно старше его, и ему хотелось общаться с более молодым человеком, чтобы и самому помолодеть, что ли. Кроме того, не исключаю, он мог чувствовать себя по отношению ко мне мэтром, что вряд ли у него получилось бы с его немолодыми и маститыми соавторами. Возможно, в некий резонанс попали наши взгляды на то, какими должны быть песни в новое время – вовсю набирала обороты перестройка, и, чтобы заинтересовать слушателей, песням нужны были какие-то новые краски, в том числе и в текстах. Они должны были стать более раскованными и более приближенными к разговорному языку, чем это практиковалось в предыдущие времена. Так или иначе, мы со Славой прониклись взаимной симпатией, которая переросла в дружеские отношения. Наши многочасовые телефонные разговоры выливались в песни, которых мы за несколько лет написали довольно много, и некоторые из них стали широко известны. Причем общались мы исключительно по ночам – Добрынин абсолютная сова, засыпает под утро и спит, соответственно, часов до трех, кстати, я, не зная его режима, долго не мог понять, почему он бывает так холоден со мной, если я звоню ему до обеда. Но потом мы согласовали наши биоритмы и все устаканилось. Кроме того, Слава считает меня своим «крестным отцом» как исполнителя, потому что именно мне принадлежала идея, чтобы он сам спел песню «Ах, друзья, мои друзья» («Спасатель»), после чего началась у него карьера артиста. Ну а уж когда появилась «Не сыпь мне соль на рану», тут народная любовь к Вячеславу Добрынину хлынула через край. Кстати, эту песню Слава исполнил случайно – просто не приехал в студию певец, который должен быть записать «Не сыпь мне соль на рану» (помнится, это был Коля Расторгуев в еще «долюбэшный» период), время уходило, нужно было что-то делать – и я предложил Славе подойти к микрофону, чтобы не пропадала смена. Тем более что после «Спасателя» опыт у него уже был. Так и родилось это «нетленное» произведение, проложившее Добрынину путь к звездности, а меня окончательно утвердившее в ипостаси автора-шлягериста. Потому что песня пошла в народ. Помню, я как-то наблюдал встречу двух не вполне трезвых товарищей, при этом один хлопнул по плечу второго со словами «Ну что, насыплем соль на рану?». И я понял, что могу умирать спокойно – свой след в русском фольклоре я уже оставил. Как только не переделывали название этой песни: и «Не лей мне чай на спину», и «Не сыпь мне сахер на хер», и бог еще знает как! А это дорогого стоит. Правда, один из маститых соавторов Добрынина все доказывал ему, что фраза «не говори навзрыд» из этой песни – это не по-русски, что, мол, и неудивительно, откуда Осиашвили может знать русский язык. Я пытался объяснить, что говорить навзрыд означает говорить, сдерживая рыдания. Но это не подействовало, и тогда я прибегнул к авторитету классика и вспомнил Пастернака с его стихами «Февраль. Достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд». То есть писать навзрыд можно, а говорить нельзя, что ли? Ведь в этом и есть, в частности, поэзия, чтобы сказать как-то по-новому. Убедил. Вообще, мне часто приходилось доказывать свое право выражаться так, как я считаю нужным. Скажем, один уважаемый редактор с радио вполне серьезно убеждал меня, что в песне «Дорогие мои старики» слова «мы еще, мы еще повоюем» отдают милитаризмом, и советовал их изменить, представляете! Я вообще-то человек компромиссный, никакого особого пиетета к своей работе не испытываю, прислушиваюсь к чужому мнению и готов переделывать непринципиальные для меня вещи, но уж если я что-то считаю важным, то буду стоять до конца. И не припомню случая, когда бы я не оказался прав.
Но вернемся к моим с Добрыниным песням. Почти все они становились популярными, вспомним кроме названных хотя бы «Колодец», которым Ярослав Евдокимов уже долгие годы и начинает и заканчивает свои концерты, «Бабушек-старушек», перепетые кроме самого Добрынина, наверно, всеми детскими коллективами, или «Каплю в море», когда-то лихо исполненную Валей Легкоступовой, а недавно записанную в новых ритмах девчонками из группы «Блестящие», ну и, конечно, практически ставшую тостом «За милых дам». Я благодарен Добрынину за годы, когда мы дружили и работали вместе, это было хорошее время… Потом, когда Слава достиг эстрадной звездности, общение с ним стало несколько однообразным, потому что он все время рассказывал мне о грузовиках с цветами, которые увозили после его концертов на стадионах (нисколько в этом не сомневаюсь). По-моему, он утратил самоиронию, без которой трудно быть объективным по отношению к себе и своей работе. Впрочем, наверно, это болезнь всех звезд – она потому и называется «звездной». Но кроме того, что мы написали с Добрыниным много не самых плохих песен, он сыграл в моей судьбе, сам того не желая, еще одну очень важную роль. Дело в том, что я всегда писал стихи для песен либо на готовую музыку, которую мне давали мои соавторы (так были написаны практически все песни для Алексея Глызина), либо просто сочинял их с гитарой в руках, наигрывая какой-нибудь свой мотивчик. Возможно, стихи потому и получались песенными, что рождались вместе с музыкой. Только эту самую музыку я никому не показывал, а отдавал композиторам таким образом написанные стихи. Именно так была написана и песня «Любовники». Я отдал Добрынину стихи, естественно, не говоря о том, что у меня есть собственная музыка. Слава написал добротную песню, снял клип, песня приобрела относительную известность, хотя от нее долго отказывалось телевидение, потому что слово «любовники» было слишком смелым для рубежа восьмидесятых-девяностых годов. Ведь в Советском Союзе, как известно, секса не было. Так вот именно об этом у Добрынина и получилась песня. Он то ли музыкой, то ли исполнением внес в нее как раз этот посыл, хотя у меня песня была совсем о другом. О любви. Помните припев:
Удивительное дело! Одни и те же слова, но с другой музыкой и в другой манере исполненные, могут говорить совершенно о разном. Я переживал, показывал песню в том виде, как я ее придумал, своим друзьям – им нравилось. И вот Александр Кальянов, не только известный исполнитель русского шансона, но и владелец одной из лучших в Москве звукозаписывающих студий и добрый мой приятель по совместительству – я для него написал песни «Опер с Петровки» и «Помотало, поносило», – предложил мне записать у него «Любовников» в моем варианте. Я бы не стал этого делать, потому что раньше никогда не записывался в профессиональной студии, но уж очень мне жалко было мою песню. А через некоторое время у меня был творческий вечер в концертном зале «Россия», и я решился исполнить «Любовников», причем за номер до меня эту же песню, но, естественно, в своей интерпретации исполнил Добрынин. И вот в зале две с половиной тысячи зрителей, я выхожу на сцену и пою «Любовников» так, как я сочинил, – и, знаете, меня очень хорошо приняли. Уже потом, с холодной головой я понимал, что это был мой творческий вечер, звучали хорошие песни, пели прекрасные артисты, ну и виновник торжества тоже что-то исполнил – нормально. Но тогда, во время концерта, крышу мне снесло основательно, и я решил, что теперь обязательно буду писать какие-то песни специально для себя и приносить их людям в том виде, как я их задумал. Вот и замкнулся круг: когда-то по моему совету Добрынин стал исполнителем, а через годы он сам невольно подтолкнул меня на эту же стезю! Но первые шаги мои на сцене были непростыми, и тут очень кстати пришелся полученный мной в Литинституте навык держать удар, потому что мне пришлось пережить очень нелегкий период ироничного ко мне отношения со стороны коллег и редакторов, которые в один голос убеждали меня не делать этого, мол, я состоявшийся автор и нечего менять амплуа. То есть мое дело писать песни и не более того. Но я же видел, что людям нравится, что и как я делаю, они приходят на мои концерты, покупают диски, где я уже не только автор, но и исполнитель, а что касается коллег, то, в конце концов, это их личное дело – не нравится, не слушайте. Ну и постепенно все привыкли к тому, что я существую теперь в двух ипостасях – автора и исполнителя. Сегодня в моем багаже уже три диска: «Положи мне голову на плечо», «От любви любви не ищут» и «Любимые песни. ру», где я выступаю не только автором стихов и музыки, но также исполнителем.
Вот так третий раз случай сыграл в моей жизни такую судьбоносную роль: первый раз, когда я прочитал стихи в журнале – и стал стихотворцем, второй раз, когда я разговорился в кофейне с композитором – и стал сочинителем песен, ну и наконец, когда меня разочаровало, как мою песню поет другой артист – и я стал автором-исполнителем. А ведь этих случаев могло и не быть. Но я не прошел мимо шансов, которые подкидывала мне жизнь. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в правоте моего отца: не надо бояться совершать поступки и жалеть нужно не о том, что сделал, а о том, чего не сделал.
Любовники
Положи мне голову на плечо
Я принесу тебе счастье
Господи, ну сделай так
Вдвоем уснуть
Мое лекарство и спасенье
От любви любви не ищут
Посиди со мной
Ты пахнешь снегом и дождем
Дай мне на память
Я так скучаю по ночам
Я твой будущий
Детские обиды
А дождь идет…
Луна
Ночь в твоих глазах
Зимняя вишня
Скучаю, люблю и целую
Шестое чувство
Все будет хорошо
Все мы, бабы, стервы
Не знаю, чем уж объяснить мое особое пристрастие к написанию женских песен. Считается, что в стихах автор самовыражается, что написанное им отображает его внутренний мир, его понимание жизни и себя в ней. И в этом смысле сочинителю-мужчине пристало писать стихи мужские. Поэтому для меня самого остается загадкой, почему у меня получаются – и, судя по всему, неплохо – стихи женские. Впрочем, творчество – штука иррациональная, и пытаться понять его мотивацию, копаясь фрейдовским инструментарием в своем подсознании, – вещь неблагодарная. Да и нужно ли? Получаются женские песни так, что женщины им верят – и слава богу.
…После того как мной были написаны несколько хитов, ко мне все больше стали обращаться за песнями. Помню, позвонил мне Сосо Павлиашвили и предложил написать песню на его музыку, как он выразился, для одной красивой женщины. Этой красивой женщиной оказалась Ирина Понаровская, с которой я тогда не был знаком, не знал, чем она дышит и о чем хочет петь. А это очень важно, чтобы материал был органичен для артиста, если он, конечно, личность – тогда возникает та самая искренность, которая заставляет зрителя поверить в то, о чем поется. Но когда я увидел, какими глазами Ирина смотрит на Сосо, я понял, что это должна быть за песня. Я много раз прослушал музыку, и мне пришла в голову главная строчка «Ты мой бог» и вместе с ней тональность и настроение песни – а дальше пошло-поехало. Как и почему эта строчка пришла – вопрос не ко мне, как и о главных строчках других моих песен, ну а остальное, как говорится, дело техники. Уж эту-то науку я, слава богу, за годы работы освоил… Когда я показал стихи Ирине, она меня спросила, как я, нормальный с виду мужчина, могу знать, что чувствует влюбленная женщина. А я не только с виду, я вообще нормальный мужчина – и поэтому на вопрос Понаровской ответить не смог. Просто я помнил ее глаза… И думал о ней, когда сто раз подряд прокручивал кассету с музыкой – пока что-то не щелкнуло внутри и возникло состояние вибрации. Этот момент, как я уже говорил, от меня не зависит, но когда он наступает, я бываю самым счастливым человеком на свете.
С песней «Все мы, бабы, стервы» была другая история. Я написал ее, как обычно, если нет готовой музыки, с собственной мелодией и спел ее под гитару по телефону Наде Бабкиной. Она сразу за нее ухватилась, видать эпатаж стихов ее увлек, и сказала, что берет песню, только они в «Русской песне» сами напишут музыку. И написали. А потом Надя жаловалась, что зрители с недоумением слушают эту песню, что, мол, от нее (Бабкиной) ждут другого и петь она ее не станет. Ну что ж, я человек не обидчивый, такие ситуации у меня бывали не раз – и я отдал эти стихи Игорю Крутому. А через несколько месяцев песня «Все мы, бабы, стервы» в исполнении Ирины Аллегровой стала шлягером, и женщины (за редким исключением) приняли ее как свой гимн. Наверно, поймал я что-то важное в женской психологии и сказал об этом точными словами. Не знаю, тут женщин надо спрашивать, им виднее. Во всяком случае, после этой песни и Алла Борисовна Пугачева обратила внимание на мою работу и исполнила нашу с Игорем Крутым песню «Ухожу», а потом (тоже, думаю, не без ее совета) и Кристина Орбакайте спела еще одну мою с Крутым песню «Каждый день с тобой».
Непросто было и с Машей Распутиной. Она вообще мало кому доверяет в смысле написания песен, и авторитет у нее завоевать очень сложно. И когда композитор Александр Лукьянов, написавший для нее немало шлягеров, предложил ей, чтобы стихи на его понравившуюся ей музыку сочинил я, она отнеслась к этому скептически, мол, кто такой этот Осиашвили и что он может написать. И лишь когда я написал строчки
она признала меня. И я сделал для нее еще несколько работ, в том числе и песню «Я ослеплю тебя улыбкой».
Но самой главной своей женской песней я считаю «Офицерские жены», которая была мной написана с Вадимом Лоткиным для Анны Резниковой. К сожалению, продюсер певицы не уделил должного внимания этой композиции, и она всего пару раз была в эфире, но как-то так получилось, что песня «Офицерские жены» своим ходом «вышла в люди» – и я не раз слышал ее в исполнении самых разных армейских и неармейских певиц и коллективов. Значит, удалось верно понять судьбу, самоотверженность и самопожертвование офицерских жен и, самое главное, сказать об этом просто и искренне. Ведь людей не обманешь, и на пафос они сегодня не клюют… Кстати, думаю, если бы продюсер Резниковой вел более грамотную репертуарную политику и делал ставку не на ресторанные шлягеры, а на большие душевные песни, которые способны тронуть сердце слушателя, а не только прилипнуть незатейливой мелодийкой, судьба этой талантливой певицы могла бы сложиться более счастливо – ведь такие песни у нее были.
Представляя подборку женских песен, я еще раз навлекаю на себя опасность быть неправильно понятым, но что поделать, если женская душа всегда казалась мне более глубокой и тонкой, чем мужская, – а значит, она представляет собой больший интерес и дает больший простор для поэтического проникновения и воплощения. Но, возможно, есть и другая, более личная и мотивированная причина моего желания и способности писать о жизни с точки зрения женщины. Я уже рассказывал о том, что у меня есть старшая сестра, так вот, когда мы были детьми, я, как младший, естественно, все время таскался за ней и за ее подружками, играл в девчачьи игры и, вообще, жил их, девичьей, жизнью. Пусть это было давно, когда мне было где-то от трех до семи лет, пока я не пошел в школу, но, видать, Фрейд все-таки прав, и это как-то повлияло на мое мировосприятие, кто знает?.. И все-таки, все-таки мне кажется, что женщинам в этой жизни приходится больше страдать и выносить на своих слабых плечах такие вещи, какие нам, мужикам, и не снились. И поэтому они более нашего брата достойны быть предметом поэзии, да простит меня сильный пол.
Все мы, бабы, стервы
Ирине Аллегровой
Ты мой бог
Ирине Понаровской
Офицерские жены
Анне Резниковой
Ухожу
Алле Пугачевой
Каждый день с тобой
Кристине Орбакайте
Не стерпелось, не слюбилось
Натали
Развод и девичья фамилия
Маше Распутиной
Позднее счастье
Надежде Кадышевой
Грустное слово «любовь»
Кате Лель
Возвращайся домой
Светлане Лазаревой
Красавица
Кристине Збигневской
Любовь со знаком минус
Ирине Аллегровой
Красивая девчонка
Татьяне Овсиенко
Где же любовь моя?
Людмиле Николаевой
Давай поженимся
Светлане Лазаревой
Навсегда…
Анне Резниковой
Не перебивай
Алике Смеховой
Лодочка
Натали
Прости меня, любовь
Маше Распутиной
Не мой фасон
Ирине Аллегровой
Пластилиновый мужчина
Бразильское кино
Ты мне сыночка подари
Мадемуазель Сто тысяч вольт
Кофе капучино
Улыбаюсь я сквозь слезы
Спрячь меня в любви
Ты ошибся, пацан!
Иди на все четыре стороны
Поддавки
Ты сорвал стоп-кран моего сердца
Черная лилия
Я люблю по-русски!
Дорогие мои старики
Я уже рассказывал о своем отце, о том, какую роль сыграл он в том, что я все же решился круто изменить свою жизнь и из программиста стал стихотворцем. Пожалуй, это единственный раз, когда родители мои как-то специально повлияли на меня, обычно они не вмешивались в то, как я живу, и я самостоятельно принимал решения. Хоть и давалось мне это всегда с трудом… Впрочем, и моим воспитанием старики мои тоже специально не занимались, не говорили мне, что вот это – хорошо, а вот этого делать не следует. Просто они всегда были около меня, и я видел, как они живут и поступают. Я уверен, что поступки куда действеннее слов, и поэтому личный пример моих родителей был куда более воспитательным, нежели они бы сто раз прочитали мне мораль. Они любили друг друга и нас – мою сестру Сули и меня. И этого было достаточно, чтобы мы выросли теплыми и очень родными людьми, у меня никогда не будет более близкого человека, чем сестра, хотя мы уже сорок пять лет живем далеко друг от друга (Сули вышла замуж за чеха и уехала из дому еще в семидесятом году)… Жизнь моих родителей была непростой. Они встретились на фронте, на Курской дуге, где мама была главным хирургом госпиталя (майором, между прочим!), а папа – завклубом (всего лишь старшим лейтенантом), куда его определил командующий, грузин. Он пожалел отца, когда узнал, что у него консерваторское образование, а он служит на передовой политруком. Иначе папа мой вряд ли дожил бы до победы… День Победы всегда был самым главным праздником у нас дома, родители надевали свои боевые ордена и медали, мама пела военные песни (самая любимая у нее была «Эх, дороги», по-моему, она мне пела ее и в качестве колыбельной). С тех пор и для меня этот праздник очень важен – я всегда в этот день поминаю дорогих моих стариков, разложив перед собой те самые их боевые награды…
Песня «Дорогие мои старики», как я уже рассказывал, не сочинялась мной – в том смысле, что я не затратил никаких усилий на ее написание. Она как бы выплеснулась из меня на бумагу – и на ее сотворение ушло ровно столько времени, сколько нужно, чтобы записать слова, ее составляющие. Характерно, что Игорь Саруханов, автор музыки, тоже совсем не работал над песней – он посмотрел стихи, которые я ему показал, глаза его заблестели, и он сказал: «Старик, ты сам не понимаешь, что написал…» А потом взял гитару и сразу спел песню «Дорогие мои старики». И она живет уже долгие годы. Потом Саруханов не раз говорил, что этими стихами тема родителей закрыта раз и навсегда, но я еще неоднократно возвращался к ней и очень дорожу песней «Мамины глаза», которую блистательно исполнила Тамара Гвердцители. Помню, когда я позвонил ей и напел стихи, написанные на музыку Евгения Кобылянского, Тамара заплакала на другом конце провода и сказала, что это песня про нее и ее маму. А я писал о себе и своей… Наверно, больше о родителях я уже ничего не напишу, потому что, когда дорогие мои старики ушли от меня навсегда, родилась песня «Они все время надо мною кружат»…
Дорогие мои старики
Моим родителям
Мамины глаза
Тамаре Гвердцители
Отец
Владимиру Винокуру
Мамы не стало
Михаилу Шуфутинскому
Они все время надо мною кружат…
Моим родителям
Как сладко быть мамой
Спой, мама
Крестный
Три времени любви
У любви, как и у природы, есть три времени: когда она зарождается, когда расцветает и когда – умирает. В моей жизни, как и у всех нас, все так и бывало. Поэтому и стихов о любви у меня немало. Я, правда, никогда ничего не сочинял непосредственно по поводу тех или иных жизненных моментов и ситуаций – мне для того, чтобы прийти в состояние, когда невозможно не писать (если можешь не писать – не пиши, говорил Лев Толстой), необходимо, чтобы возникла строчка или образ, который заставит меня вибрировать. И тогда (только тогда!) могут пойти стихи. Но, с другой стороны, конечно же, живу я не на облаке, и все, что в моей жизни случается, так или иначе оставляет свой след в моем сердце – и материализуется в тех словах, которые ложатся на бумагу. В моей жизни были женщины, которых я любил больше, чем они меня, возможно, бывало и наоборот, но всем им я благодарен за те мгновения ощущения полноты бытия, которые были бы невозможны без их бескорыстных или не совсем чувств. И по прошествии времени я прощаю предательства, которые были по отношению ко мне, и, конечно же, каюсь в неправедных поступках, совершенных мной.
Был в моей жизни период, когда брачные узы связывали меня со Светланой Лазаревой, довольно известной в свое время певицей. Я писал для нее песни, совместно с ней занимался ее «раскруткой», как принято говорить в мире шоу-бизнеса. Но в конце концов выяснилось, что, кроме совместной работы, нас ничего не связывает, а этого оказалось недостаточно для семейной жизни – и дальше мы пошли разными дорогами. Прошло уже много лет с тех пор, как мы расстались, но я по-хорошему вспоминаю то время, наверно, потому что мы были молоды, вместе делали первые шаги в непростом мире эстрады, преодолевали бытовые трудности, укореняясь в Москве, которая, как известно, слезам не верит… Мы со Светланой иногда пересекаемся на неисповедимых путях шоу-бизнеса: то на телевизионных съемках, то на концертах, – но этим наше общение и ограничивается, потому что нас ничего не связывает, кроме нескольких моих песен, которые до сих входят в ее репертуар.
Был в моей жизни и трагический момент, когда из жизни добровольно ушла женщина, которую я любил, – и я бесконечно благодарен Богу за то, что послал мне утешение и успокоение с другой женщиной, которая приняла меня со всеми моими недостатками. Наше знакомство было и случайным и, думаю, неслучайным одновременно. Мы встретились в холле одного учреждения и прошли мимо друг друга, хотя я и обратил на нее внимание, потому что она была похожа на ушедшую из жизни мою жену. Я только пришел, а девушка направлялась к выходу. А когда я через полчаса уже уходил из этого учреждения, то вдруг в гардеробе опять увидел ту же незнакомку. Тут уж я не упустил момент и помог ей одеться, а потом завел разговор. И тут выяснились странные вещи. Во-первых, как я уже сказал, она внешне очень походила на мою покойную жену, во-вторых, ее звали так же, в-третьих, она жила почти там же, где был дом моей ушедшей из жизни супруги, и, наконец, самым удивительным оказалось то, что она же собиралась уже уходить, когда мы встретились первый раз, но почему-то не смогла это сделать, ноги сами ее несли то в одно место, то в другое в этом здании, хотя никаких дел у нее там больше не было. Даже охрана заинтересовалась женщиной, которая бесцельно бродила туда-сюда. А когда она наконец собралась окончательно уходить и подошла к гардеробу, появился я – и мы встретились второй раз. Чтобы уже больше не расставаться… Мне иногда думается, что это почти мистическое стечение обстоятельств было совсем не случайным, как будто кто-то всемогущий его срежиссировал, столкнув двух одиноких и не очень счастливых людей тогда, когда им это было особенно необходимо. Мне, во всяком случае… Весь мой жизненный опыт убеждает меня, что как бы ни поворачивалась жизнь, какие бы моменты ни поджидали нас на просторах календаря, как бы ни подводила нас прошлая любовь, все равно надо быть открытым новой любви, хотеть ее, искать – и она обязательно придет!
Три времени любви
Так хочется любви!..
Николаю Баскову
Летит моя душа
Софии Ротару
Настольная лампа
Алексею Глызину
Грустная история
Вячеславу Малежику
Небесный музыкант
Простая повесть
Как будто взрыв
Мне послал тебя бог
«Мы с тобой остаемся вдвоем…»
День любви
Привычка
Ангелы наши поссорились
Бьется о стекло
«Я других обнимал, чтоб с ними тебя позабыть…»
«Я заглянул в твое окно…»
«Как холодно твое тепло…»
«Мы дожили с тобой до осени…»
Круги на воде
Еще одна любовь
Повторяется все
Треснувший диск
Девять дней
Не я
Похмелье любви
Горячая точка
Ты опоздал
Я остаюсь в любви
Мне легко жить в России
О том, как велика наша Россия, я узнал, когда из поэтов-песенников перешел в авторы-исполнители. В то время как мои коллеги по песенному цеху иронизировали по поводу изменения мною рода занятий, меня стали приглашать с выступлениями то туда, то сюда – и помаленьку жизнь моя из оседлой превратилась в кочевую. Где я только не побывал за эти годы! Урал, Сибирь, Якутия, Русский Север, Центральная Россия, Черноземье, Северный Кавказ… Одно только перечисление городов и весей, где я исполнял свои песни, заняло бы не меньше страницы в этой книжке – и, знаете, я пришел к твердому убеждению, что в провинции, где живется куда как сложнее, чем в Москве, люди, наоборот, куда симпатичнее обладателей столичной прописки. Они в хорошем смысле остались более советскими людьми, что ли, – более искренними, более открытыми, более эмоциональными. И самое главное, более душевными. У меня ведь и программа называется «Душевные песни для взрослых людей». Атмосфера, в которой проходят мои концерты в провинции, куда более доверительная, чем на столичных площадках, где все больше и больше правит бал клубная культура с ее гламурностью, манерностью и показухой. И конечно, я гораздо больше люблю работать в концертном зале, чем на вечеринках (случается и такое – работа есть работа), потому что удается установить контакт с людьми, которые не закусывают во время выступления, а слушают…
Я очень благодарен судьбе, которая позволила мне из-за перемены профессии увидеть то, что вряд ли удалось бы сочинителю песен. Как бы я, оставаясь стихотворцем, оказался около совершенно циклопических размеров открытого карьера, из которого в течение пятидесяти лет вынимали породу в поисках якутских алмазов, – это огромная рукотворная воронка, уходящая в землю на глубину трехсот метров, по стенкам которой в любую погоду ездят стотонные грузовики, сверху выглядящие как муравьи. А как у автора-исполнителя у меня был сольный концерт в поселке Алмазный, приуроченный к открытию новой драги – для жителей поселка это событие огромной важности, потому что теперь они благодаря этой драге еще долгие годы будут добывать алмазы. Или каким образом я смог бы попасть в режимный город Байконур и присутствовать на запуске космической ракеты «Протон», если бы не принимал участие в праздничном концерте, посвященном десятилетию Байконурэнерго. А разве довелось бы мне в течение одного дня совершить четыре часовых перелета на вертолете «Ми-8», если бы не было у меня трех выступлений на нефтяных буровых, расположенных в ямало-ненецкой тундре, и не увидел бы я с высоты птичьего полета бесконечную реку, оказавшуюся оленьим стадом, тянущуюся от горизонта до горизонта. Я видел город Ленск, уничтоженный страшным наводнением и восстановленный руками строителей со всей России, когда выступал на открытии там нового Дворца культуры. А полярные ночи Мурманска, когда весь город залит электрическим светом, который не гаснет несколько месяцев! А задушевные разговоры с нефтяниками Нарьян-Мара и архангельскими геологами… И таких впечатлений у меня за эти годы набралось море. Какие-то из них стали стихами и песнями, и мне приятно, что песня «Мы любим тебя, Архангельск» стала музыкальным символом города, и Государственный северный народный хор с успехом исполнял это произведение на моем творческом вечере «Мне легко жить в России», состоявшемся в Кремлевском дворце.
Я горжусь тем, что в 2014 году стал лауреатом премии ФСБ за песню «Линия жизни», в которой я линию на карте, обозначающую государственную границу, сравнил с линией жизни людей, избравших нелегкую работу пограничников. Интересна судьба этой песни. Она была написана к очередному Дню пограничника, а впоследствии ее в качестве саундтрека включили в состав фильма «На последнем рубеже», повествующего о буднях пограничной службы. Фильм этот был выдвинут на соискание премии ФСБ, но лауреатом так и не стал, а вот песня-то как раз, по мнению жюри, оказалась достойной высокого лауреатского звания.
Многие песни о городах, о представителях разных профессий были написаны мной по заказу. И я этого не скрываю. Когда-то, в самом начале моего пути как сочинителя стихов для песен, на съемках «Песни-86», где я получил первый свой диплом за песню «Старое зеркало», написанную в соавторстве с Давидом Тухмановым, я поинтересовался, что для него является источником вдохновения. И он мне ответил, что для него лучшим источником вдохновения является хороший контракт. Помнится, меня тогда его слова покоробили, но по прошествии многих лет сочинительства я понял, что в этом есть резон. Ведь еще А. С. Пушкин говорил, что «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Почти все мировые шедевры музыки и живописи были созданы по заказу королей, герцогов и императоров. И если бы не эти уже забытые сегодня заказчики, не было бы в сокровищнице мировой культуры опер Моцарта и Доницетти, полотен Рафаэля и Микеланджело, и даже романов Достоевского, которые он писал, чтобы оплатить карточные долги. Каждый автор создает свое произведение в меру таланта, отпущенного ему небесами, не лучше и не хуже в зависимости от того, делает он это по велению души или по заказу. Но контракт всегда мобилизует творческую энергию, дисциплинирует и организует творца. Я, упаси боже, не провожу никаких параллелей и не сравниваю художественный уровень творчества великих мастеров и своей скромной работы, но принцип остается тот же.
Мне часто приходится бывать с выступлениями в различных уголках нашей страны. Причем не только в России, но и в тех местах, которые с некоторых пор стали именоваться ближним зарубежьем. В наших бывших союзных республиках, если уж быть совсем точным. Особенно мне запомнилась поездка 1996 года в армянский город Гюмри, тот самый, где в 88-м году произошло страшное землетрясение, практически стершее все с лица земли. Я видел совершенно седую семнадцатилетнюю девочку, на глазах которой погибла вся семья. Мой концерт был первым после восьми лет траура по погибшим. Время врачует раны, жизнь продолжается, рождаются новые дети, и хотя память о страшной трагедии никогда не уйдет, жители города Гюмри решили устроить праздничный концерт, и я горжусь, что оказался тем самым артистом, которому было доверено прервать череду траурных дней. После концерта меня водили по городу, и я был потрясен разрушениями, которые еще оставались повсеместно. Когда-то, по горячим следам сразу после землетрясения, Гюмри (в то время он еще назывался Ленинакан) восстанавливала вся страна, и я видел строительные вагончики, на которых были названия самых разных городов Советского Союза – Москва, Питер, Сибирь, Урал, Дальний Восток, Средняя Азия. Потом, когда Союза не стало, рабочие разъехались, но вагончики остались как памятники тому времени, когда мы жили в единой стране и последствия общей беды устраняли все вместе. Но память об этом времени осталась, и поэтому, наверно, везде, где бы я ни бывал, в Белоруссии ли, Армении, Молдавии, люди обязательно подходят и с неподдельным интересом спрашивают: ну как, как там Москва? Оказывается, хоть мы давно уже и живем в разных государствах, многие все равно привыкли сверять свою жизнь по самому главному для них, по московскому времени. И это неудивительно, потому что границы можно нарисовать на карте, что с успехом и сделали политики, но невозможно провести границы через сердца людей, ведь мы все так перемешаны в нашей стране, что трудно уже определить, кто есть кто. Вот взять хотя бы меня. Фамилия у меня грузинская, родился и вырос я на Украине, говорю, пишу, дышу по-русски – и когда меня спрашивают, кем я себя считаю по национальности, я совершенно искренне отвечаю, что я – живое воплощение ленинской национальной политики. Не в том, конечно, плакатном смысле, которым нам морочили голову долгие десятилетия, а в том, что люди судят друг о друге не по записи в паспорте, а в зависимости от того, хороший ты человек или плохой, злой или добрый, искренний или лживый. И дальше я читаю стихотворение «Мне легко жить в России», в котором все обо мне правда, – и тогда ко мне уже никаких вопросов не остается. Остаются только стихи и песни.
И мне очень жаль, что в некоторых новых странах государственная политика направлена на искоренение русского языка. Можно иметь те или иные претензии к советскому прошлому, но язык, по-моему, здесь ни при чем. Наоборот, исторически сложилось, что на русском могли понять друг друга эстонец и узбек, молдаванин и армянин. И это, быть может, лучшее, что осталось нам в наследство от прошлой эпохи. Язык потерять очень легко, пройдет одно поколение, и русский язык уйдет в новых государствах, если его не поддерживать, – и как тогда поймут друг друга латыш и казах? Ведь английский еще надо приобрести, а русский уже был.
«Мне легко жить в России…»
Линия жизни
Пограничному ансамблю ФСБ
Моя Россия
Иосифу Кобзону
Ярмарка
Людмиле Николаевой
«Над душистым клевером кружится пчела…»
Рассвет в Гурзуфе
Московское время
Питерские мальчики
Мы любим тебя, Архангельск!
Заполярные цветы
Наша двинская земля
Северному русскому народному хору
Все у нас будет в порядке
Северное счастье
Ставрополье
Александру Добронравову
Его величество вино
Возьмемся за руки, славяне!
Мне снится Россия
Тамаре Гвердцители
«Опять Куры гортанный говор…»
Уносит нас теченье дней
Когда в 1990 году в концертном зале «Россия» состоялся мой первый творческий вечер и я впервые вышел к зрителям, публика была удивлена, что много не самых плохих песен написал еще довольно молодой человек, мне было тридцать семь – почему-то люди считали, что я должен быть как минимум седовлас и морщинист. Помнится, я тогда отшутился известной фразой, что молодость – это недостаток, который с годами проходит. И на своем творческом вечере в Государственном Кремлевском дворце, приуроченном к моему пятидесятилетию, я с сожалением констатировал, что этот недостаток мной, увы, преодолен. Теперь я и седовлас в достаточной мере, и некоторым образом морщинист. Раньше я мог сочинять в любых условиях: гуляя, в метро, на пляже – теперь у меня получается только дома. И пешком я ходить совсем разучился – могу только за границей почему-то. Да и кота моего, которого, казалось, совсем недавно я подобрал в подъезде и назвал Кукой (в честь жены Добрынина, потому что он своего попугая в мою честь окрестил Симой), уже давно нет. Когда Куки не стало, а прожил он почти семнадцать лет, мне было очень плохо, потому что у нас с ним были удивительные отношения. Когда я, сидя на диване с гитарой, чего-то мурлыкал, он обязательно был рядом и очень внимательно слушал, иногда ударяя лапой по струнам. Поэтому я считал его своим соавтором. Ну уж во всяком случае критиком, потому что иной раз он бил не по струнам, а по мне, если его что-то не устраивало – в словах или в музыке, наверно. Лишившись такого соавтора и критика, я долго не находил себе места, пока не решил организовать реинкарнацию моего кота – завести нового, который стал бы клоном ушедшего. И я подобрал на улице внешне очень похожего котенка, и назвал его, естественно, Кукой, но, увы, на этом повторение и закончилось – песен Кука-второй со мной не пишет. И вообще мало мной интересуется. Может, поэтому я писать стал меньше, но, думаю, дело в календаре – он неумолим.
Раньше я жил только вперед, а теперь все больше воспоминаниями – а ведь еще совсем недавно я не задумывался о прошлом, меня интересовал только сегодняшний и завтрашний день. И в этом прошлом остались многие дорогие мне люди, о которых я буду помнить всегда… Иногда становится очень горько, что жизнь тает, как лед в бокале, и осталось не так уже много глотков – но все равно, я опять с нетерпением жду весны, хотя понимаю, что каждая новая весна это минус один год жизни. И охватывает тогда неудержимая и непонятная радость просто от того, что я еще живу и все в моей жизни еще происходит, и бог с ним, с календарем, который худеет и худеет с каждым днем на странной диете под названием время… Именно в такой момент была написана песня «Мой поезд еще не ушел», которую очень точно и пронзительно исполнил Коля Караченцов, как будто предвидя испытания, выпавшие ему совсем через небольшое время… Слава богу, стихи оказались пророческими – поезд Николая еще не ушел. А время, проведенное в студии с этим замечательным артистом во время записи песни, и последовавшее за этим застолье я вспоминаю с нежностью. Коля отменил гастроли и пришел на мой юбилейный концерт 2002 года в Кремль, хотя мы с ним не такие близкие товарищи и в его репертуаре всего две мои песни – не каждый артист так поступил бы, поверьте мне. Наверно, потому что Караченцов – человек театра, а не шоу-бизнеса.
По-хорошему удивил меня Володя Винокур, который опять же на моем юбилейном творческом вечере решился выйти на сцену Кремлевского дворца не в привычном для себя юмористическом амплуа, а с серьезной песней «Отец». Видимо, Владимира действительно тронула эта песня, раз он, артист другого жанра, решил записать ее и снял клип. Он и еще Алик Достман, руководитель Культурного фонда «Артес», когда мы вместе сидели за столом, говорили, что это – о них и их отцах. А я писал о себе и о своем…
А неувядающий Лев Лещенко, который начинал мой юбилейный концерт 2002 года с песней «Уносит нас теченье дней»! Я всегда хотел, чтобы мою песню исполнил этот замечательный певец, мы были давно знакомы, но только, когда были написаны эти стихи, причем многое я в них переписывал по просьбе Льва Валерьяновича, наши творческие дорожки пересеклись. И песня эта в значительной мере задала тональность и настроение всего моего первого творческого вечера в Кремле.
Но особую, я бы сказал, державную нотку в мой второй уже юбилейный концерт в Кремле в 2013 году внес, конечно, Иосиф Давыдович Кобзон. Представляя его, я, помнится, сказал, что долго не мог написать органичную его образу песню, и не потому, что он народный артист и народный депутат, а потому, что от него исходит такой дух державности, которому надо соответствовать песенным материалом. Такой песней стала «Моя любовь, моя Россия». Вообще, юбилейный концерт 2013 года в Кремле запомнился мне прежде всего тем, что многие молодые, но уже известные артисты по-новому исполнили мои старые песни. Так, певица Слава не менее органично, чем Аллегрова, спела «Все мы, бабы, стервы», а Марк Тишман тонко и иронично исполнил песню «Я пришел к тебе совсем», первым исполнителем которой был Александр Буйнов.
Варвара так вообще вдохнула новую жизнь в песню «Колодец», внеся в нее этнические интонации, которых и в помине не было в классическом варианте Ярослава Евдокимова. А элегантнейшая Анжелика Варум, которую я знаю с тех пор, когда она была еще десятилетней девочкой, с таким вкусом преподнесла песню «Ты мой бог», что впору было позавидовать и самой Ирине Понаровской, к сожалению, завершившей артистическую деятельность. И, конечно, не могу не вспомнить очаровательную Зару, которая замахнулась на великое и решилась спеть песню «Одуванчик» после самой Примадонны Аллы Пугачевой, с ее благословения, естественно. А «Бурановские бабушки» так зажигательно исполнили песню «Бабушки-старушки», что я и сам чуть не пустился в пляс. Но, конечно, и «старая гвардия» не подвела, были на концерте все, кто обещал: И Вячеслав Добрынин, и Тамара Гвердцители, и Лев Лещенко, и Алексей Глызин, и Диана Гурцкая – все приехали, несмотря на то что была репетиция парада ко Дню Победы и центр города был перекрыт. Анне Вески призналась, что она впервые приехала на концерт на метро. И только Сосо Павлиашвили не преодолел трудности перекрытой Москвы.
Очень приятно было видеть в тот вечер в первом ряду моего доброго друга Борю Грачевского, уже долгие годы неизменного художественного руководителя «Ералаша», превратившего свой киножурнал в целую веселую солнечную страну. Он и сам человек солнечный – достаточно увидеть его улыбку, ну а уж шутки его, которые он придумывает двадцать четыре часа в сутки, заставят смеяться самого мрачного человека независимо от возраста. Ему, конечно, льстит, когда его называют «живой легендой», но он всегда уточняет, что он «еле живая легенда». Когда «Ералашу» было десять лет, я написал по просьбе Бори песню «Что такое Ералаш?», казалось, это было совсем недавно – и вдруг оказалось, что «Ералашу» уже тридцать! Вот так незаметно летят годы – и как было не написать по поводу юбилея новую песню?! Я и написал «Ералаш – это мир удивительный».
С особой теплотой всегда относился и отношусь к Мише Шуфутинскому. Так вышло, что мою песню «Гадалка» он пел еще в эмиграции, а потом мы с ним познакомились и специально для него были написана «За милых дам», песня, ставшая тостом. И еще водкой. Да-да, какие-то оборотистые предприниматели додумались выпустить водку с таким названием, естественно, не поставив меня в известность. Бог им судья… А с Михаилом нас роднит дерево, которое уже лет двадцать присутствует в его жизни. Однажды, будучи приглашенным на его юбилей, я долго думал, что же мне ему подарить: дорогим подарком удивить его было трудно, да и денег таких, чтоб его поразить, у меня не было – и тогда я в цветочном магазине приобрел небольшое растение в вазоне, не помню даже какое, и преподнес его Мише. Я думал, что в суматохе юбилея он его потеряет, но оказалось, он забрал его домой, стал за ним ухаживать, пересаживать во все большие горшки, перевозил его с одной квартиры на другую – и сегодня это огромное дерево, которое стоит в его кабинете. Так что у нас есть не только общие песни, но и дерево, которое выглядит великолепно уже долгие годы – значит, от души было подарено… Так замкнулся круг, который начался еще в середине восьмидесятых годов, когда на музыку Оскара Фельцмана я написал песню «Посадите дерево», которую исполнил Михаил Боярский. Душевная получилась песня…
Я вообще считаю, что душевность – это главное качество наших людей и наших песен. Мода на аранжировки приходит и уходит, а душевность остается, потому что она в ментальности нашего народа. И только те песни, в которых есть душа, проходят испытание временем и остаются жить после того, как их крутят по радио – их просто помнят и хотят петь. И для автора это самая высокая награда. Да, семнадцатилетние не слушают наших песен, им близки другие ритмы, более острые и эпатажные, но проходит время, они взрослеют и уже в двадцать пять поют за столом «Вот кто-то с горочки спустился…». И так будет всегда, потому что в русской песне слова бывают главнее музыки. Почти всегда…
Потому я и считаю себя счастливым человеком, что всю жизнь вожусь со словами, которые потом приходят к людям – и остаются с ними. И все же немного грустно, что незаметно уносит меня теченье дней от того замечательного, безвозвратно ушедшего времени, когда меня не интересовал ни успех, ни деньги, ни узнаваемость – просто я был счастлив бормотать слова, которые складывались в стихи, и мне самому нравилось то, что получается. Вот за звенящую радость таких моментов я безмерно и благодарен той самой жизни, которая, как писал я в своих ранних стихах, мне всего лишь досталась. Как и всем нам…
Уносит нас теченье дней
Льву Лещенко
«Часы, часы, часы, часы…»
Мой поезд еще не ушел
Николаю Караченцову
Посадите дерево
Михаилу Боярскому
Первый крик
«В общем вагоне жизни…»
Дворики нашего детства
Переходный возраст
Детство не забывается
Николаю Караченцову
Тысяча дождей
До свадьбы заживет
У окна
Здравствуй, Новый год!
Давай за дружбу выпьем, друг!
По ко́ням, дружище!
Мне небо с овчинку
Александру Кальянову
Маятник
Игорю Демарину
Такая уж судьба
Сорванный листок
Будет праздник!
Не бей лежачего, судьба
Игорю Демарину
Я соберу своих друзей
Мне сейчас так легко
Кате Семеновой
Столько лет
«Еще мне предстоит быть стариком…»
«Я предал все, о чем не написал…»