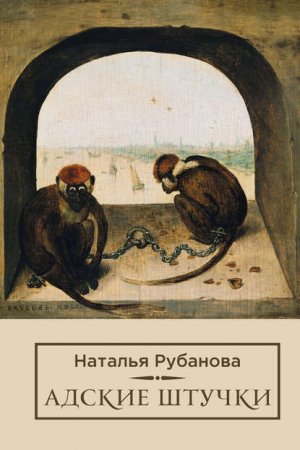
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет.
БГ
«Да, вы – писатель, писа-атель, да… но печатать мы это сейчас не будем. Вам не хватает объёма света… хотя вы и можете его дать. И ощущение, что все эти рассказы сочинили разные люди, настолько они не похожи… не похожи друг на друга… один на другой… другой на третий… они как бы не совпадают между собой… все из разных мест… надо их перекомпоновать… тепла побольше, ну нельзя же так… и света… объём света добавить!» – «Но это я, я их писала, не “разные люди”! А свет… вы предлагаете плеснуть в текст гуманизма?» – «Да вы и так гуманист. Просто пишете адские штучки».
[face как book]
Владимиру Набокову нравится свой статус, Вере Слоним нравится статус Владимира Набокова, Валерий Брюсов прокомментировал статус Веры Слоним, Валерий Брюсов прокомментировал свою собственную ссылку, Вера Левченко поделилась мероприятием «Серебряный век», Вере Левченко нравится фотография Владимира Холодного, Вера Холодная поделилась фотографией Асты Нильсен, Аста Нильсен поделилась ссылкой «Немое кино», Мэри Пикфорд поделилась мероприятием «Поллианна», пользователь проекта «Полианна» поделился мероприятием Анны Ахматовой, Анна Ахматова и Фаина Раневская теперь друзья, Федерико Феллини и Де Лоурентис теперь друзья, Федерико Феллини прокомментировал ссылку Де Лоурентиса, Де Лоурентис прокомментировал ссылку Федерико Феллини, Де Лоурентис отметил Джульетту Мазину на фотографии, Джульетта Мазина отметила Федерико Феллини на фотографии, пользователь проекта «Мата Хари» отметил Грету Гарбо на фотографии, Грете Гарбо нравится проект «Поток», Джону Гилберту нравится ссылка Греты Гарбо, Грета Гарбо удалила Джона Гилберта из списка друзей, Глория Свенсон и «Голивуд» теперь друзья, Марлен Дитрих и проект «Femme fatal» теперь друзья, Ингрид Бергман и Роберто Росселини теперь друзья, Ингрид Бергман нравится статус Густава Моландера, Густаву Моландеру нравится статус Ингрид Бергман, пользователь проекта «Оскар» поделился ссылкой «Intermezzo», Иоганнес Брамс поделился ссылкой «Интермеццо», Винченцо Беллини и Джузеппе Пьермарини поделились ссылкой «Ла Скала», Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Порфирий Бородин, Цезарь Кюи, Николай Римский-Корсаков поделились ссылкой «Могучая кучка», «Могучая кучка» прокомментировал свою собственную ссылку, Макс Фриш прокомментировал свою собственную ссылку, Макс Фриш рекомендует страницу «Назову себя Гантенбайн», Назову Себя Гантенбайн хочет добавить вас в друзья.
[и жили долго и счастливо]
анекдот
Солдатов жил на Тушинской, Генералова – на Пушкинской. Солдатов перемещался на старой тойоте, Генералова – на новом ситроене. Солдатов пил по утрам черный чай, Генералова – зелёный кофе. Солдатов дожимал вечером сто пятьдесят коньяка, Генералова – двести кьянти. У Солдатова жил пёс, у Генераловой – кот. Солдатов промучился со своей «экс» пять лет, Генералова – шесть. Солдатов загорал в Турции, Генералова – на Сейшелах. Солдатов слушал «Серебряный Дождь», Генералова – «Relax.fm». Солдатов читал на ночь Довлатова, Генералова – Бродского. Солдатов одевался в торговых центрах, Генералова – в дизайнерских бутиках. Солдатов пользовался нерегулярно Сalvin Klein, Генералова – регулярно – Dior’ом. Солдатов не ел мяса, Генералова – и рыбу. Солдатов играл в шахматы, Генералова – в теннис. Солдатов играл на варгане, Генералова – на губной гармошке. Солдатов уважал Уорхолла, Генералова – Муху. Солдатов заглядывал в «ЧасКор», Генералова – в «Независимую». Солдатов работал с утра до ночи, Генералова не работала. Солдатов фотографировал, Генералова вышивала. Солдатов рассчитывал бюджет, Генералова занималась благотворительностью. Солдатову снилась Козетта, Генераловой – Гаврош. Солдатов обожал набережные, Генералова – портовые города. Солдатов учился в институте, Генералова – в университете. Родители Солдатова жили на одну пенсию, и он помогал им; родители Генераловой жили в Швейцарии и ни в чем не нуждались. Солдатов захаживал в «Дом», Генералова наведывалась в Большой. Солдатов не верил ни во что, Генералова верила эфемеридам. Солдатов не стряхивал воду с зубной щетки, Генералова – стряхивала. Солдатов не отличал Гайдна от Моцарта, Генералова – отличала. Солдатов хорошо плавал, Генералова побаивалась воды. Солдатов хотел стать летчиком, Генералова – стюардессой. Солдатов в детстве ненавидел пшёнку, Генералова – манку. Солдатов учился на своих ошибках, Генералова – и на чужих. Солдатов носил обувь сорок второго размера, Генералова – тридцать шестого с половинкой. Солдатов не смотрел телевизор лет десять, Генералова – двадцать. Солдатов ненавидел ООО «РПЦ», Генералова в церкви крестилась. Солдатов нередко использовал обсценную, Генералова – редко. Солдатов служил в армии, Генералова не служила. Солдатов ценил свое время, Генералова – свое и чужое. Солдатов летал во сне, Генералова – наяву. Солдатов уже не видел смысла в продолжении рода, Генералова еще видела. Солдатов мечтал о чуде, Генералова – верила: так Солдатов выехал из пункта А, а Генералова – из пункта В. Двигались они в одном направлении: после того, как их взгляды встретились в пункте С, аккурат у шлагбаума, Солдатов продал свою квартиру на Тушинской, а Генералова свою – на Пушкинской. Они купили домик в экодеревне, где жили долго и счастливо и умерли в один день. Именно тогда упадчерённый Ванюша, высаживая на холмике их ромашки-лютики, подумал о том, какие они были, в сущности, дураки: «Стакан воды в старости!..» – а ведь пить перед смертью ни Солдатову, ни Генераловой не хотелось.
[Фира Фелль]
труба VS забава
Под новый год менеджер по продажам 219-миллиметровых стальных труб Фира Фелль купила себе трусики с крошечными эйфелевыми башенками да маленький черненький рюкзачок: что, собственно, надо еще для Парижа? Всё остальное, исключая, увы и ах, кавалера (но о том – молчок-на-луну-волчок), – было. И всё б ничего, кабы не скобки эти, да не осложненьице психического масштаба. Труба! Электросварная прямошовная, бесшовная горячедеформированная, сварная для магистральных парам-пам-пам – и проч.
Третьего дня Фиру Фелль стошнило прямо на нее – еле успела добежать до клозета, вызвав у sosлуживиц подозренье в чадоношенье, с коим – на хрупких плечиках, обнявшим их наподобие заскобочного (см. выше) кавалера – и вышла из офиса в половине четвертого вместо положенных восемнадцати полных нуль-нуль.
Время Ч – время представить Париж, в который Фира Фелль хотела всегда, и при первой возможности запускала в то направление бумажного евро-Змея: l'amour pour toujours[1], бывает ведь и такое! Змей же, чудом крепясь на тонюсенькой нити, с явным неудовольствием наблюдал за вполне материальной субстанцией, породившей «нереальную» его мыслеформу… Фира Фелль, чего уж там, представлялась ему особью малоинтересной: что с нее взять? «Ах, Париж! Ах, ах…» – она, как и большинство её биосинонимов, мечтала всенепременно о Елисейских, монмартрском кафе да снежнозубом французике, то и дело подливающем в ее, Фиры Фелль, бокал, то самое «вино любви». Змей же наш предпочел бы, положа хвост на евро, другую даму, но – увы! На улице, чай, не Франция – к тому же, Фира-то Фелль предпочла именно его… Именно он, евро-Змей, и стал той самой дыркой от бублика, гордо именующейся в курилке Трубы «мечтой». А запретить Фире Фелль мечтать было решительно невозможно.
Сообщение, разбудившее ее ранним субботним утром, вызвало приступ тошноты: каждой клеткой почти еще нового своего тела менеджер по работе с вип-трубами ощущала одну лишь несправедливость: неужто и в выходной не отоспаться? Неужто снова лазить по ГОСТам?.. Неужто? Неужто?.. Ах, ах, кошмарик Одесской улицы! Выключать телефон Фире Фелль не дозволялось ни днем ни ночью: если бы Главной Трубе стукнул аккурат в мозг напор той самой жидкости, стучать коей следовало б разве что о стенки знамо чего, она, Фира Фелль, обязана была б строить новёхонький план «девелопмента» аккурат здесь и сейчас… Стоит ли говорить, что в Париж Фира Фелль хотела не столь даже из-за его, парижских, декораций, сколь по причине не больно-то художественной, но в целом вполне понятной! Ах, как мечтала Фира Фелль хоть немного, чу-уточку, замедлить, если уж совсем не остановить, процесс собственного распада! Остановить хотя б на неделю-другую то самое разложение, которое вот уже несколько лет усиливает дым той самой Трубы.
А Змей усмехался. Ёрничал. Вырывался из рук Фиры Фелль. Показывал ей язык. Скалил клычищи. Тщета, да и только! Продолжая мечтать о Париже, Фира Фелль все чаще задавалась вопросом, существует ли тот на самом деле. Чтобы приблизиться к искомой точке на карте, Фира Фелль купила маленькую круглую шляпку с вуалью – ту самую «таблетку», которую, как ей казалось, должны носить «все настоящие парижанки», приобрела черные чулки в сеточку, обзавелась красной, чуть выше колен, узкой юбкой, лаковыми «лодочками» да обложилась путеводителями. И еще: Фира Фелль – да-да! – отправилась на курсы сладкоголосого французского… Три раза в неделю с семи до девяти, кто б мог подумать.
Змей, наблюдая, как крутится она у зеркала, репетируя «выход в свет», сжимался, раз от раза становясь все меньше, пока не стал размером аккурат со спичечную коробку (в такой-то шеф Фиры Фелль и держал траву): коли попадет Фира Фелль в реальный Париж, тотчас ему и крышка!.. Мыслеформой одной Змей может являться: обрети мечта Фиры Фелль плоть, тотчас рассыплется.
А Фира Фелль знай настаивает: грибки на ягодках, печальку на смехе: ну и что, ну и что, поду-умаешь! Да, она, Фира Фелль, поднимается в семь, в восемь-двадцать выходит, ну а в девять вздыхает: «Труба!».
…Фира Фелль все хочет и хочет в Париж – хочет на всю катушку, хочет так, что и сказать нельзя: обстоятельства непреодолимой силы-с! Но что есть любовь? Что есть бог? И кто сказал, будто бог есть любовь? Кто здесь?..
На самом интересном месте Фира Фелль открывает кошелек и пересчитывает купюры. Нет-нет, – говорит она, – нет-нет, Змей должен подрасти, подрасти-и! Бумажки в кошельке Фиры Фелль превращаются в багеты и вылетают в окно, к птицам. Фьюить! Фьюить! Фира Фелль превращается в фалафель и тает во рту Змея. В трусики с эйфелевыми башенками, болтающимися на бельевой веревке, дует северо-западный ветер.
[завет коллонтай]
кошмартик
Выпить и закусить за Варвардмитну желающих собралось много: выпить и закусить за упокой анимки – ну или что там в двуногом, какой такой червь точеный, – хотелось неимоверно. Тов. Попов, кашляя, произнес то, что и полагалось в подобных случаях: все немедленно выпили – кто водочки, кто наливочки, – да и закусили чем б. послал. Снеди на столе, где еще недавно возлежала мертвой царевной Варвардмитна, которую, за пристрастие к алко-, покойный муж называл Варя-стакан, было немерено… да какой! Что там кухня Поля Бокюза для «загадочной русской души»! Тут тебе и гады морские, и птицы небесные: свадьба и свадьба!..
Тов. Попов сентиментально крякнул: «Мы потеряли нашего товарища…» – «Кристальной души человек…» – «Можно сказать, святая», – повторялись один за другим тов. Жопин, тов. Хмурый и тов. Ангельцев. «Криста-аальной!» – вторила тов. Женщина и качала головой.
Когда же закуски – горячие и холодные, умело сервированные официантами, – подошли к концу, в шкафу что-то шмякнулось, открыло само дверцу, да и покатилось, подпрыгивая: на все лады паркет цветистый перестучало!
Тов. Попов, приподняв п р е д м е т, заржал и, покрутив им у виска, хмыкнул: «А Дмитна-то!».
Тов. Смирнова кинулась тут же к тов. Попову: «Отдайте, отдайте немедленно! Отдайте мне это…. Как память… память о покойной… Вечная память!».
Тов. Жопин смущенно отвернулся, тов. Хмурый подкрутил ус, тов. Ангельцев поправил гульфик, а тов. Женщина и бровью не повела – подошла к тов. Попову и, дав лёгонько в дышло, выхватила у него п р е д м е т да передала тов. Смирновой, аранжируя презент книксеном.
Тов. Смирнова смутилась. Тов. Орлова похлопала ее по плечу и показала глазами на дверь. Тов. Смирнова вышла. Тов. Женщина воспоследовала за ней.
Тов. Попов прислушался. Тов. Жопин также напряг слух. В ухо превратился тов. Ангельцев. Звуки, доносившиеся из-за стены, вводили во смущение.
Тов. Хмурый намотал на ус кончик красной салфетки. Тов. Жопин опрокинул еще рюмочку. Другие товарищи перешли было к беседе, но быстренько вернулись обратно: стоны, долетавшие в залу из комнаты, становились всё более громкими.
«Что происходит? – всполошилась тов. Кузина. – Кого там мучают?» – то краснея, то бледная, она тщетно пыталась нацепить сморчок на вилочку.
«Да-да, что там происходит?» – загалдели товарищи Какашин, Стельникова, Огурцов, Козлова, Кротов, Гнидин и Почкин.
«Пустяки, дело житейское!» – махнул пухлой ручкой пролетавший мимо Карлсон.
В тот самый момент на горизонте появилась голова тов. Коллонтай Александры Михайловны, цитировавшей товарищам покойной Варвардмитны саму себя: «Секс возможен только между товарищами по партии. Всякий иной секс аморален!» – оглядев притихших товарищей по партии, она умолкла уже навсегда.
«Так это, значит…» – начал было тов. Попов, но быстро присвистнул: раскрасневшиеся тов. Смирнова и тов. Женщина шли прямо на него, весело размахивая п р е д м е т о м, и, поглядывая на чеширскую улыбочку тов. Коллонтай, смеялись: «А мы? Что МЫ говорили?!»
«А не товарищи ли мы все здесь по партии, господа?» – пискнула тов. Стельникова, мучившаяся фантомным спермотоксикозом. «Волк свинье не товарищ!» – буркнул тов. Хмурый и, поглядывая на ус с намотанной на него красной салфеткой, пялился на жирные ляжки тов. Стельниковой. Тов. Стельникова потупила взор и раздвинула; тов. Смирова и тов. Женщина, нисколько не стесняясь присутствующих, обсуждали достоинства и недостатки предмета; последних, впрочем, как таковых не было, и посему дамы, увидев в чеширских глазах тов. Коллонтай нечто вроде благословения, пустили искусство в массы – так предмет пошел по рукам.
«Ах, какой хорошенький!» – пискнула снова тов. Стельникова, но заткнулась под испепеляющим взглядом г-на Жопина.
«Ах, ах!» – верещали дамы.
«Ух, ух!» – подкашливали господа.
«Чудо индустриального дизайна!» – не договаривала тов. Коллонтай.
«Ах! Ах!» – всё громче кричали извивающиеся дамы.
«Ух, ух!» – наддавали господа: по лбам катились градины пота.
…
Всё это могло б длиться невесть сколько, кабы стол с объедками не начал расти и, опрокинувшись, не накрыл собой весь честной люд.
«Ах, ах!», «Ух, ух!» – бились тушки товарищей по партии в последней судороге, но никто – кажется, даже сама Александра Михайловна, – их не слышал: во всяком случае, делал вид.
[белый]
Она приходит вся такая воздушная, в длинных сапогах, с куантро.
Она любит воздух, всё такое длинное и куантро, ну да, а ещё – книжечки: она – журналист, критик, что там ещё в этих «узких» бывает? – старо-то как мир, вот иподнимаю, вот и опрокидываю рюмку, и все – поднимают и опрокидывают: пятница, вечер, «я обещал ей пурпур и лилии…», за окном и в зрачках минус тридцать – бежать из белкового карцера некуда, тс-с.
Лина, Лина Нильсон – назовем так, – да, пусть так, вполне себе псевдонимец: под воздух, под куантро, подо всё длинное: аккурат. «А потом, когда мы были в Италии…» – темы для разговоров, о-о, эти темы для разговоров: гондолы и шопинг, виски, выпитые в клозете перед – «Удачного полёта!» – полётом: много чего можно рассказать «о себе», на себянисколько не намекнув.
Лина. Лина. Лина улыбается всем, Лину можно было б назвать и милой, ан похожая на паука татуировка портит картину: я отворачиваюсь – всё хорошо, но что-то будто б не так; я решаю не думать – я просто смотрю на то, как дают Лине книги и книжечки, книжицы и книжонки – она не отказывается и от книжулек: Лина ест всё, «глянцевый форм» ей не так чтоб претит: Лина – полезный контакт, Лина обещает рецензии и – «…ах, братцы, уже на донышке!» – щёлкает зажигалкой.
Лина курит, неспешно смакуя мои индийские «бидис»: крепковато, но в целом неплохо… главное, экзотично: почему нет? Там это стоит пять рупий, забавно, что такое пять рупий, ах-ха! Петля разговора, обматываясь вокруг шеи, переходит на вечненькое-с – эМундЖэ – эМундЖэ, а как вы хотели, мороз в целом крепчал, слова и слоги закуриваются, затягиваются, переходим на «ты»: прерванный оборот, несовершенная каденция, почти по Камю: «привычка жить» суть смехотворна, очевидность не влечёт за собой очевидность.
«Мой экс, – сообщает вдруг Лина (она, как теперь говорят, глубоко подшофе, с куантро явно смешалось ещё что-то), – был биологом… ну и заводчиком. Так дома у нас настоящие анаконды водились… – выдыхает дым, разводит руками. – Просыпаешься, а над тобой – они… в аквариуме. Над кроватью, за стеклом, жили… Красавцы» – «И чем кормили?» – из праздного любопытства кто-то уточняет: Лина уточняет тоже.
Кое-кто интересуется, «так ли важно живыми цыплятами и мышами», нельзя ли использовать некий субпродукт: есть же гуманные альтернативы etc., но Лина не слышит, выражение лица не меняется – лишь только паук всё увеличивается и увеличивается, того и гляди – вот-вот прыгнет на пол, запляшет и, окутав тончайшей сеткой, высосет её, как ту муху – третьего дня… Лина не замечает, Лина будто б его не боится: «Щеночков на Птичке брали… сама покупала… они, змеи, всех душат сначала», – взгляд блуждает и на секунду туманится.
Одной ли мне к а ж е т с я – не ослышалась? Переспрашиваю: Лина кивает. «Ну а потом – потом-то что?» – переспрашивают другие. – «Потом домой привозила, что-что…» – теребит ворот. «Ты смотрела на то, – мы, странно, на ты, – как душили?»
Лина тушит «бидис» и направляется в туалет: её рвёт – дверь остаётся открытой.
Разговор провисает.
Облако дыма в подражание классику натягивает штаны – жмут, упс.
Я понимаю, что из подобного материала вышел бы преотличный рассказ.
Как можно было бы описать Лину, выходящую – сны-уж-сбываются, – невтерпёж-замуж.
«Мужчины мечты» приходят: случается.
Пусть в масках биологов.
Змеезаводчиков.
Да мало ли!
Как можно было б раскрыть «душевные метания героини», все её «за» и «против», все эти треклятые бесплодные искания и пресловутое о!диночество, все эти чёртовы «смыслы», полные одной пустоты, штурм унд дранк, bla-bla… – не забыть про умирающего попугая её, умирающей от рака, френдши… «Да у неё самой онко!» – шепчет мне кто-то на ухо: он знает её лет тысячу, он у!веряет: «Лина, на самом деле, хорошая…».
Ок, продолжаем визуализировать текст.
Вот Лина на Птичке.
Зима.
Допустим, зима: как здесь и сейчас – за окном и в зрачках.
На Лине оранжевая дублёнка и высокие сапоги.
От Лины пахнет куантро и духами.
Лина ходит между рядами, приценивается.
У неё, на самом деле, добрые, очень добрые глаза: каждый хочет отдать щеночка.
«Вы уж его берегите…» – Лина кружит по Птичке долго, Лина принюхивается.
Прицеливается.
Стреляет.
Лина представляет, как они будут смотреть: у них ведь удобная, нет, правда удобная кровать.
Наверху – анаконды.
«Так рыжий или пятнистый?» – «Белый» – «Ну-ну, кончай разрываться, обед пролаешь! То же мне, Бим… Повезло ж, в добрые руки попался…»
В первый раз, конечно, не по себе.
Принести в дом, раздеться, лечь с ним, гладить его: «биолог» войдёт через миг, и тут-то!
Долгий, мощный, превосходный оргазм. «Любовь есть смерть, смерть есть любовь – это цитата или ты сам придумал?»
«Берите, вот этого вот берите! – толстая тётка в фуфайке протягивает Лине тёплый комочек. – Красивый какой! А ла-асковый!..».
Паук проходит сквозь руку Лины и, передвигаясь по венам и артериями, добирается до четырёхкамерного – забавно, я вижу, как меняет оно свой цвет: раковые клетки её любви множатся, раковые клетки её любви – белого, как саван фаты, цвета.
[Простые люди]
кошмартик
…вдрабадан явится орать начнет денег требовать а деньги откуда поди на трех работах-то шваброй помахай только б кулаки не распускал скотина чего на аборт не пошла дурында ребеночка ей подавай видите ли вот и подавись на старости лет своим ребеночком жеребеночком козленочком жизни нету да и не было ее никогда жизни чего видела видела-то чего детство считай и то украли мамашка как за отчима вышла так к бабке в деревню засунула зимой в резиновых сапожках бегала кости ломят надо говорят к ревматологу а есть разве время по ревматологам этим сама в восемнадцать выскочила чтоб от бабки-то хуже стало поди-принеси да еще все не так аборты опять же детей не хотел первый помер вторую залечили развод потом-то второй раз вроде как по любви хороший был смирный пил поначалу немного по праздникам потом каждый день а там и печень в дырках господи а денег Чертиле не дашь посуде конец а то и лбом об стенку колошматиться начнет больной больной же васильевское отродье голоса слышит шизофреник сынуля табуреткой на мать это ж надо бугай здоровый корми его сил никаких устала хоть в гроб ложись сколько ж терпеть одного алкаша схоронила другой со свету сживает как вчера на подоконник сволочь встал орет я мать щас выброшусь если денег не дашь я мать щас выброшусь гнида перед соседями не то что неудобно в глаза смотреть не моги цепочку золотую пропил телевизор пропил ковер пропил а больше и нечего холодильник не вынес тяжелый наверное развяжи руки господи хуже ада ты прости коли можешь не умею молиться не умею в церкви-то даже страшно стоять не там ступишь бабки сразу цыкают противные вредные они как ты при себе таких держишь только а я свечку тихонечко вот поставлю да разве дойдет до тебя огонек-то ее вон их сколько поди каждому помоги всей жизни не хватит знаю умом не понять не знаю за что мучаешь так только изводишь за что меня что сделала тебе я мы же все простые люди простые люди-и-и-и…
Лизавета Федоровна, еще секунду назад крепко сжимавшая поручень, вдруг обмякает, безвольно опускает руку и затравленно оглядывается: собственно, как по нотам – да и чего хотела-то? Та же предсказуемость скучных поз, те же унылые сочетания грязно-черного и темно-коричневого, тот же пар из крикливых ротовых отверстий с нелеченными зубами да все та же ее, Лизаветы Федоровны, уязвимость.
Каждый вечер, возвращаясь с работы, она протискивается в неудобную дверь автобуса (маршрутка, не говоря уж о машине, – для неэкономных «белых»), и думает, увертываясь от локтей: вот толкни ее – да что «толкни»! дунь, – и тут же она рассыплется, превратившись из «каменной бабы» в горстку белого песка – того самого, увиденного во сне лет двадцать назад: не достать, не потрогать, не забыть н и к о г д а: и вообще – ничего, нигде, ни с кем, и нечего о том! Не до лирики – неделю как обчистили: аккуратный разрез на сумке, сразу и не заметишь: профи, профи, ловкость рук, достойная восхищения – и не почувствовала ведь, и ухом не повела, мать их…
В милиции долго уговаривали не заводить «дело», предлагая написать «ввиду потери» – Лизавета Федоровна и махнула рукой: все одно – не найдут, все одно – деньги не вернешь, но у кого вот занять, чтоб дотянуть до получки, неизвестно. Хотя, думает она, грех жаловаться: соль есть, и лук в чулке, и полмешка картошки в чулане, чая да сахара немного – с голоду-то поди не опухнут. На карточки только вот… то ли дело с «единым», а теперь вот на поездки треклятые тратиться: государство не проведешь, государство бдит, го-су-дарст-во…
Полуулыбка дамы, покупающей в переходе метро нежные темно-сиреневые ирисы, застает Лизавету Федоровну врасплох – она даже останавливается на миг, чтобы рассмотреть получше ее уютное ярко-оранжевое пальто, блестящие, в тон, сапоги на высоченных каблуках да сумку от каких-то там «кутюр»: «Неужели кто-то счастлив? Неужели можно быть счастливым? Можно вот так – просто – покупать цветы и у л ы б а т ь с я?» – а у Лизаветы Федоровны в глазах какая-то рябь, а Лизавете Федоровне мерещится уж ленинградская тетка, утопающая известно где в ирисах… Помахивая перед носом племяшки цветами, мертвая тетка садится на излюбленного конька-гробунка: «По улице… Ходить только по центру по улице-то! Только по центру улицы ходить!! Ни к дому какому, ни к парадному какому чужому не ходи – сожрут… Простые люди… Не принято о том… Блокада, дорога жизни… А соседочку-то мою, Валеньку, съели… Уволокли… По центру ходить, по центру улицы, посередке по одной только! Ни к какому парадному чужому не ходи, упаси Боже – к подвалу…».
– Да помогите же, помогите! – кричит дама с ирисами. – Ей плохо!..
Выйдя кое-как на поверхность, Лизавета Федоровна – глаза вниз – ежится и привычно направляется к остановке: по сторонам она смотрит лишь для того, чтобы увернуться от возможного столкновения с суетливыми «согражданами», которые, того и гляди, собьют с ног. А скользко: не хватает только переломаться – с работы выгонят, Чертила вещи пропьет, квартиру спалит… «Самую крепость – в самую мякоть» – впрочем, стихов этих Лизавета Федоровна не знает и никогда не узнает: какие стихи, когда встаешь в пять утра пять дней в неделю, с одной уборки скачешь на другую, с другой – на третью, а дома – и сказать никому нельзя, что творится! Нет у нее продыха, нет и быть не может: в автобусе Лизавета Федоровна встает в относительно безопасное (людье) место и, прижавшись лбом к замерзшему стеклу, застывает – через минуту на подтаявшем узоре вырисовывается прозрачный кругляш-колобок. В детстве, помнится, они с братом (белые шапки с помпонами, красные одинаковые шарфы и варежки, расплющенные носы) прикладывали к окну трамвая пятикопеечные монетки, а потом долго на них дышали… Вот и сейчас: акварель Деда Мороза плачет, можно долго разглядывать дома, улицы, прохожих… Где теперь ее брат? Бааальшой человек, говорят, ищи-свищи!
«Граждане пассажиры, выход через заднюю дверь…» – неприятный тенорок… Так было и вчера, и позавчера, и три дня назад, когда двадцатиминутная дорога оборачивалась часовой. Снегопад – красивое «буржуйское» словечко – простому человеку ни к чему.
Лизавета Федоровна еще плотнее прижимается лбом к стеклу и зажмуривается: Лизавета Федоровна не понимает, почему они все так хотят замуж («А он?» – «А что – он? Молчит… Тянет…» – «Ну а ты?»…): ах, если б только можно было «развернуть» чертово колесо, о т к а т и т ь! Уж она точно не стала бы портить паспорт да лежать в уроддоме с разрывами, а потом, двадцать лет спустя, обивать пороги больниц – да еще каких больниц!
– Чертила, а что… что именно тебе говорят-то? – спросила она как-то сына, разговаривающего с г о л о с а м и, а, услыхав ответ, надолго заперлась в ванной.
Надо просто заткнуть уши, уши, у ш и, только и всего: «В магазин пошла – тыщу взяла, так и не купила ниче толком…» – «Дак еще ж коммуналка вся подорожает!» – «Правдаштоль?» – «Совсем задушили, сволочи!» – «Их бы на пенсию нашу! Месяцок… На три тыщи-то…» – «Думка проклятая – обдумалась, как обгадилась!» – «А по ящику говорят, уровень жизни подымается» – «Не уровень жизни, а уровень жопы! Жопа у кого-то торчком торчит, выше головы! Они ж там все пидарасы, ага!» – «Ты прям знаешь, что пидарасы!» – «Не пидарасы, а сексменьшинства! Геи…» – «Ну да, чисто голубки…» – «Ты б, голубчик, заткнулся, пока я тебе в морду не дал» – «Чего сразу в морду-то?» – «Ванчо!» – «У них мозги в жопе, га-га-га!» – «Я бы этих всех…» – «Господа, а как же социальные программы? Развитие инфраструктуры? Интернетизация? Да ведь гражданская война могла б начаться, кабы не през…» – «Ты откуда взялся, чмо в шляпе? Ты, может, сам пидар?» – «Что вы себе позволяете? Я женат, у меня двое детей! И вообще, надо быть толерантными…» – «Глянь-ка…» – «Че? Рантными? Ты че в натуре выражаешься, мудило? Быстро извинился!» – «Да я, собственно…» – «Я те щас, на х. й, такую рантность покажу, закачаешься! Ща за яйца подвешу – и все!» – «Коля, слышь, хороший, успокойся, а, Колечка? Не кипятись!» – «Рот, дура, не разевай, усвоила?» – «Ну прости, прости…» – «Е. ать тебе не перее. ать, тьфу!» – «Люди, мужчины! Да что ж это такое! Угомоните их – здесь женщины и дети! Почему они должны все это слушать?» – «А хули, пусть привыкают! Мы люди простые, че думаем – то и говорим, да, Колян?» – «Во… А то ишь: рантность: бей жидов, спасай Россию!» – «Мама, роди меня обратно!» – «Товарищ водитель, когда поедем?» – «Последнего т о в а р и щ а дерьмократы знаешь когда прибили?» – «Граждане, соблюдайте в салоне правила поведения согласно инструкции: инструкция висит у кабины водителя!» – «Какой, на х. й, инструкции, когда тут одни жиды и пидарасы? Русских мужиков нормальных ваще не осталось, ля буду! Одни эти… говноеды… из телевизора!» – «Да чего ты к нему прицепился? Ну какой он пидар? Вообще на хохла похож» – «И то правда: и акцент хохляцкий… Ну-ка, скажи на своей собачьей муве…» – «Сало, небось, ломтями хавает!» – «Вот я ж и говорю: одни пидары да хохлы… Понаехали тут!» – «Уважаемые пассажиры! Просьба соблюдать спокойствие! Отправка транспортного средства по техническим причинам задерживается» – «О! Час до этого проклятого Кукуева едем, тут и ангел чертом станет!» – «И не говори… Ребят, а давайте споем!» – «Чего споем-то?» – «Тсс, тихо! Темная ночь, ты, любимая, знаю, не спишь…»
Лизавета Федоровна не спит что-то около двух лет: с тех самых пор, покуда в Чертиле не проснулись дремавшие до того гены. Сама, конечно, виновата – все боялась чего-то, все думала: «Авось образуется, парню отец нужен». Так все и разрушилось в чаду пьяном, к тому же печень: существительное – то, что существует? – «вдова» долго жгло слух… А теперь – что? Теперь, только-только сумерки, и глаза уж слипаются, руки тяжелеют, ноги затекают, а голова так и норовит «спрыгнуть» на грудь. Часто Лизавета Федоровна выходит из полузабытья только на своей – одним лишь чертом не забытой – остановке: благо, та конечная, не проспишь.
…вдрабадан явится орать начнет денег требовать а деньги откуда поди на трех работах-то шваброй помахай только б кулаки не распускал скотина чего на аборт не пошла дурында ребеночка ей подавай видите ли вот и подавись на старости лет своим ребеночком жеребеночком козленочком жизни нету да и не было ее никогда жизни чего видела видела-то чего детство считай и то украли мамашка как за отчима вышла так к бабке в деревню засунула зимой в резиновых сапожках бегала кости ломят надо говорят к ревматологу а есть разве время по ревматологам этим сама в восемнадцать выскочила чтоб от бабки-то хуже стало поди-принеси да еще все не так аборты опять же детей не хотел первый помер вторую залечили развод потом-то второй раз вроде как по любви хороший был смирный пил поначалу немного по праздникам потом каждый день а там и печень в дырках господи а денег Чертиле не дашь посуде конец а то и лбом об стенку колошматиться начнет больной больной же васильевское отродье голоса слышит шизофреник сынуля табуреткой на мать это ж надо бугай здоровый корми его сил никаких устала хоть в гроб ложись сколько ж терпеть одного алкаша схоронила другой со свету сживает как вчера на подоконник сволочь встал орет я мать щас выброшусь если денег не дашь я мать щас выброшусь гнида перед соседями не то что неудобно в глаза смотреть не моги цепочку золотую пропил телевизор пропил ковер пропил а больше и нечего холодильник не вынес тяжелый наверное развяжи руки господи хуже ада ты прости коли можешь не умею молиться не умею в церкви-то даже страшно стоять не там ступишь бабки сразу цыкают противные вредные они как ты при себе таких держишь только а я свечку тихонечко вот поставлю да разве дойдет до тебя огонек-то ее вон их сколько поди каждому помоги всей жизни не хватит знаю умом не понять не знаю за что мучаешь так только изводишь за что меня что сделала тебе я мы же все простые люди простые люди-и-и-и…
Она ставит сумку на снег и, пошарив в кармане пальто, чиркает спичкой: неожиданно ее красивый рот кривит странная улыбка – впрочем, всего какие-то доли секунд. Лизавета Федоровна замирает от неожиданно резкой боли под лопаткой, уходящей в подреберье, и… Мечты-мечты! А ведь, кажется, умри она здесь и сейчас, исчезнут все беды: не нужно будет выходить в пять утра из дому, трястись в набитом автобусе, толкаться в метро, торопиться к семи на первую работу, чтобы махать там шваброй до десяти, тянуть время до двенадцати и ехать на вторую и, наконец, сломя голову, нестись на третью, а потом, не чуя себя, снова толкаться в метро, трястись в набитом автобусе, выискивать в магазине «что подешевле», заходить в квартиру со стойким, не выветриваемым, запахом перегара, да ждать Чертилу, у которого либо водка, либо «голоса», а то и все вместе, пес его разберет: и так каждый день, а в выходные еще хуже… доигралась-допрыгалась, лошадка, пшла, давай-ка, хоронить одно некому, так что не умничай, подумаешь, болит у нее – ишь, чего выдумала! Давай-давай… Хоть картошки ему начистишь, не жрет же, не жрет ничегошеньки!.. Иди-иди, да иди же, не стой истуканом, ну…
Оказавшись как-то «по делу» на Тверской (нотариус), Лизавета Федоровна изумилась: «Москва-то красивая какая стала, это ж надо!..» – она ведь не была в г о р о д е лет шесть, если не больше. Все ее удивляло: зазывные витрины, огни, пестрая разноголосая толпа, обилие иномарок, но главное – тот особый дух, чудом сохранившийся лишь в центре, да и то не везде. Магазины представлялись Лизавете Федоровне чуть ли не музеями (тончайшее шелковое кашне за три тысячи ввело в ступор), а в тот же «Елисеевский» она и вовсе побоялась войти, позволив себе рассматривать гастрономическое изобилие лишь сквозь стекло. Увидев же целующихся то ли мальчиков, то ли девочек – парочка сворачивала в переулок к клубу без вывески, – Лизавета Федоровна окончательно почувствовала себя не в своей тарелке, и заторопилась: ей ли «гулять», в самом деле, чего это она вздумала! Чертила, чего доброго, еще квартиру спалит… Если еще не… На улице только остаться не хватало – мало ли ей горя выпало? А эти-то, эти… Надо же… Неужто – любовь? Странно… А все лучше, чем с водкой… Да лучше б Чертила голубым – как их там называют? – уродился, прости господи… Да хоть с кошкой… А что? Только б не пил! Она бы поняла: она вообще с детства понятливая.
Лизавета Федоровна перешагивает через банку из-под кофе, полную окурков, откатывает ногой пустую бутылку, другую, третью, присаживается на краешек стула и, спрятав лицо в ладони, начинает раскачиваться. Она не помнит точно, сколько это продолжается, и обнаруживает свою оболочку, скрюченную в три погибели, уже на маленьком кухонном диванчике. Подглядывающий за ней чертенок находит, будто во сне Лизавета Федоровна походит на ангела, и убирается во Свояси, а там, во Своясях, кричать Лизавете Федоровне – не докричаться, стучать – не достучаться! Ни единой живой души кругом, одни мертвецы ручищи свои к ней тянут, кошмарами мучают, но самый главный, «самый страшный ужас» – кто б мог подумать? – цок-цок-перецок! – стук каблучков удаляющийся. Да разве забыть ей когда эти лакированные, с бантиком, туфельки, да разве не завыть на перроне том? – а от бабки то ли луком несет, то ли плесенью какой, а может, и всем вместе – цок-цок! – «Мамочка! Не уезжа-а-ай!» – перецок…
А там и первенец – дня не прожил: «Родить и то не можешь!» – в живот, в живот. Через год – девочка, глазки ясные, солнышко: врачи «залечили». Что ни день, Лизавета Федоровна за ней в кроватку – вместо щита малышка: «На кого руку поднимаешь? На ребенка? Ирод!» – кричит. Да вот же они, пальчики сладкие, любимые! Два годика любовалась… А вот и мамочка – цок-перецок! – красивая, молодая: «Здравствуй!», а вот и муженек покойный, а вот и печень его, печень его дырявая в крови, печень его поганая, свят-свят-свят-а-а-а!..
Лизавета Федоровна просыпается от скрежета ключа. «Денехх дава-ай!» – Чертила наступает из коридора; она суетливо прячет последнюю сотенную под матрас. «Ты, сука старая, ты зачем деньги прячешь? На похороны себе собираешь? Тебе куда деньги – солить?» – и в живот, в живот.
У Лизаветы Федоровны в глазах уж красным-красно – так красно, что, кажется, онемечь Чертилу, устрани досадную помеху – и все тут же утроится, образуется: и ночами спать можно будет, шутка ли! «Не дашь, сука, денег, из окна выброшусь! Вот те крест – выброшусь! Прям щас! Перед соседями неудобно, ха! Неудобно знаешь что? В ж. пу е. аться! Деньги давай, деньги, говорю, дала быстро, а то спрыгну – локти кусать будешь!»
вдрабадан явится орать начнет денег требовать а деньги откуда поди на трех работах-то шваброй помахай только б кулаки не распускал скотина чего на аборт не пошла дурында ребеночка ей подавай видите ли вот и подавись на старости лет своим ребеночком жеребеночком козленочком жизни нету да и не было ее никогда жизни чего видела видела-то чего детство считай и то украли мамашка как за отчима вышла так к бабке в деревню засунула зимой в резиновых сапожках бегала кости ломят надо говорят к ревматологу а есть разве время по ревматологам этим сама в восемнадцать выскочила чтоб от бабки-то хуже стало поди-принеси да еще все не так аборты опять же детей не хотел первый помер вторую залечили развод потом-то второй раз вроде как по любви хороший был смирный пил поначалу немного по праздникам потом каждый день а там и печень в дырках господи а денег Чертиле не дашь посуде конец а то и лбом об стенку колошматиться начнет больной больной же васильевское отродье голоса слышит шизофреник сынуля табуреткой на мать это ж надо бугай здоровый корми его сил никаких устала хоть в гроб ложись сколько ж терпеть одного алкаша схоронила другой со свету сживает как вчера на подоконник сволочь встал орет я мать щас выброшусь если денег не дашь я мать щас выброшусь гнида перед соседями не то что неудобно в глаза смотреть не моги цепочку золотую пропил телевизор пропил ковер пропил а больше и нечего холодильник не вынес тяжелый наверное развяжи руки господи хуже ада ты прости коли можешь не умею молиться не умею в церкви-то даже страшно стоять не там ступишь бабки сразу цыкают противные вредные они как ты при себе таких держишь только а я свечку тихонечко вот поставлю да разве дойдет до тебя огонек-то ее вон их сколько поди каждому помоги всей жизни не хватит знаю умом не понять не знаю за что мучаешь так только изводишь за что меня что сделала тебе я мы же все простые люди простые люди-и-и-и…
Сын стоит на подоконнике, покачивается: обычные дела, «понты». Мать подходит к нему, пытаясь, как обычно, успокоить, но все привычные слова вдруг в миг улетучиваются, а на душе становится на редкость покойно.
Какое-то время она рассматривает чью-то сутулую спину, покрытую шерстью, а потом легонько, почти ласково, подталкивает ту к чернильной тьме.
[идиллия]
ванванч, скрытый мизантроп и экс-профи в области дамских телес, проснувшись, повел носом: однако… И дело не в том вовсе, что супружка его, зойсанна, не хлопотала на кухне, традиционно прикудахтывая. И не в том даже, что коитусных звучков из комнаты высоколобого лысеющего отпрыска с этой его не было слышно. Нет-нет, тут гораздо, гораздо серьезней! ванванч повел носом другой раз, третий, а потом причмокнул да и растянулся с блаженной улыбкой – запах человечины исчез напрочь. Ну то есть натурально: полное отсутствие какого-либо амбре. Салтыков-Щедрин. Сказочки.
ванвынча, в силу энных причин к пятидесяти годкам порядком упавшего духом, такой расклад приободрил: ведь это же щастье, щастье – ни душонки… Приоткрыв дверь спальни, он, словно боясь спугнуть что-то, осторожно, будто вор, метнулся в длинную кишку коридора и, глубоко втянув широкими ноздрями с торчащими из них черными волосками воздух, удовлетворенно крякнул: чисто сработано.
Наскоро умывшись, ванванч надел шляпу и отправился в городок, где, к его величайшей радости, запахов потных граждан и измочаленных гражданок ничто не предвещало. Безлошадные кареты сновали туда-сюда, за прилавками стояли элегантные роботы, из репродукторов доносилось эсперанто. ванванч заходил в безлюдные кафе, где на него таращились лишь спинки плетеных кресел, в немые cinema, в бесконечно пустые – и оттого кажущиеся огромными – супермаркеты. «Fater-fater! Харашо-та ка-ак!» – думал он, пребывая в абсолютном осознании того, что так славно было ему лишь в блаженном детском неведении, когда он, иван-иваном, хотел поскорей вырасти, ибо счастья своего не ведал, не ценил. Потом подумал, что счастье как таковое не выдается напрямую: «Точно… Дозируют его… цедят…» – он сделал большой глоток темного пива: глаза заблестели от свалившейся внезапно свободы, пусть примитивной – но его, и ничьей больше.
Однако вздохнул, и глубоко: слишком поздно пришло понимание, увыкай – не увыкай. Пятьдесят лет присутствия в чел-овечьем зловонном футляре проросло камнями в почках, заполнило сахаром кровь. ванванч снял очки, протер фланелевой тряпочкой, купленной когда-то зойсанной, опять надел, да и посмотрел внутрь себя, где, к его изумлению, копошились самые обыкновенные черви. Подскочив от омерзения, ванванч начал судорожно раздеваться. Сначала ветер унес шарф и шляпу, затем – рубашку с брюками, потом трусы и майку, а через несколько минут тело уже бежало по трассе в одних носках. Перед глазами плыло: «Вот так, верно, умирают… А то, жуки: тоннель, свет… Врут! Какой свет – ни кондиционера тебе, ни вентилятора! А я-то, я-то… Неужто – всё? Неужто – вот так, в очочках? Неужто пощады не будет? А-а-а!..»
Он остановился перевести дух и, схватившись за сердце, придирчиво оглядел себя: обвислый бледный живот, худые конечности, сморщенное, бывшее в употреблении, навсегда поникшее «достоинство» – неужели зойсанна любила его за это?… Ах, зоя-зоя, змея особо ядовитая, гадюка родёмая! Всё прикудахтывала, всё свитерочки, всё щи-борщи… Уморила, сука, кровь выпила! А ведь он мечтал… Да если б только годы вернуть… В расчет, в расчет влетел… Деревня Смертинка – Мутерляндия ее, студенточки педулищной, адская! Фрикции как плановое средство зацепиться за город… Городския мы, не вам, колхозникам, чета! И шубы у нас, и шпильки… Цок-цок… вот уж по паркету раскиданы… А он-то, он-то! Ванькой-встанькой… Щи-борщи, пеленки-распашонки, машина-дача, тоска собачья… Да лютая, лютая же! Как и любовь его лютая – такую только жизнь напролет забывать: прости, фея.
«Господи-и-и! Неужто и вправду – КОНЕЦ? Неужто ничего не будет больше, а? Неужто… титры?!» – но докричать ему не дали: надев на голову целлофановый пакет и туго стянув его на шее, ангелы прибили ванванча к позорному столбу, да и закидали камнями на скорые крылья: о, сколь великолепно трепыхались они в последних лучах заходящего солнца! Как нежны были!..
[прокрустовы ложки]
Твой любовник Прокруст манит тебя в кровать…
Арефьева
Ложе – узкое до страха, белое до боли, – мешало телу, которому одного только и хотелось: спрятаться, затаиться, снова (хотя б на миг!) стать эмбрионом, забыв о холоде заоконного пространства. Вычеркнуть ненужные, скучные, набившие оскомину имена, звуки, запахи, словечки, страпоны, страны. Удалить возможность слишком резких движений. Ампутировать нескончаемость самоповторов. В общем, откалибровать монитор так, чтобы зрачкам стало удобно: и навсегда, навсегда так. И без письмишек-пасквилей: «Ну до чего скучная, наглая! – за скобками, своему психиатру. – Отвисшая от кормлений грудь, брежневские брови, опущенные, как у филиппинца, уголки губ, снулые буквы, выставленный за презенты «счёт»… и она, она предлагает мне – ЭТО! Тьфу!».
«А где чай? – вторгается Обычный в мир Франсуазы: холодный душ в обещающий быть теплым, вечер. – Не помню, – героиня текста морщит анимку, понимая, что если нос, то непременно скандал. – В самом деле? – Обычный упирает руки в бока: он и не подозревает, насколько нелеп в треклятом «здесь и сейчас». – Я работаю, – Франсуаза указывает пальчиком на словари: зрачки ее расширяются. – Разумеется, зачем помнить о чае, когда вокруг столько азбук! Французские, английские, немецкие… – загибает пальцы Обычный, потом кидает томики на пол. – Прекрати, – невольно Франсуаза переходит на свистящий шепот. – Прекрати, будет хуже. – Ты больна нарциссизмом…» – Обычный хлопает дверью, но Франсуазе от этого не легче: текст её уже перебили, срочно нужно бинтовать.
Прокруст тем временем подходит к диве, недовольно качая головой – а ложе его для дивы нехорошо: то руку судорогой сведет, то нога занемеет, а то и затылок ныть начнет… Обычный же садится на излюбленного конька-гробунка: «Объясни, нет, объяснись, почему ты думаешь только о себе? Неужели так трудно сделать то, о чем тебя просят? Просто купить чай, Франсуаза… Неужели ты в самом деле ничего не помнишь?»
Прокруст ходит по комнате взад-вперед, вдоль-поперек, стелется по полу и потолку, по окнам и стенам: размерчик снова не тот: опять – лишнее, ненужное, не позволяющее осчастливить лежащую диву: слишком высока, длинна, раз-бро-са-на: слишком для формы его своеобразна: слишком всё, слишком – в футляр не спрячешь! Смеется Прокруст страшным своим смехом, тужится над очком – ан бестолку: ни мысли в голове, ни грамма в сосуде, одна птица в клетке, да и той крылья резать надо.
«…если ты веришь в то, что я стану вечно терпеть эти выходки, то ошибаешься! Я сыт, сыт, сыт по горло твоей безалаберностью! И эти грязные ложки… Что ты возомнила о себе, черт возьми?! Да ты самая обыкновенная ба-ба! Подумаешь, переводы… У людей уже дети растут, а ты?!.. Кому они нужны, эти твои книжки? Бальзак, ёпт… Эгоистка!»
Прокруст чуть было не прослезился: слишком хороша оказалась дива для резки, слишком нежны у нее крылья, слишком трогательны запястья, слишком тонки лодыжки… «Дива моя, дива, что ж мне делать с тобой прикажешь? Как конструкцию изменить, как мир перевернуть, на что силушку последнюю растратить, как, о-оп-.ля, ложе не опорочить?!»
А дива лежит себе, посмеивается: спокойнёхонька – всё одно кремация, если не черви: смыслушки как не было, так и нет – уж не в воспроизводстве он вида-то, ей-же-ей! Этой, с отвисшей от кормлений грудью, конечно же, не понять – только и может, что бабки свои считать: расход-приход, ни цента даром: каждый – за что-то, каждый должен с лихвой вернуться… скука: «часть долга по ипотеке, – читает в сети Франсуза, – возможно, простят молодым parents, коли в их «гнездышко» явится новокоитусный киндереныш…» – детский жилищный вычет, олэй, плодицца и размножацца: тсс, тихо.
«…тебе плевать на все! Мало того, что над людьми издеваешься – так ты презираешь их! На тебя же смотреть противно, чуть в город выйдешь! Губы сожмет, лицо скривит… Тьфу! Королева без трона, ёпт… И этот «ящик»… Оставь разглагольствования о зомбировании электората тупыми сюжетами, я тебя умоляю! Переводчица, ёпт… Ты жизнью живи, реальной жизнью! Дом – муж – дети – работа… Нормальная работа, а не эта твоя… за столом пи-исьменным! Я сначала думал: ну не может, чтоб так все время… Когда-нибудь остановится. Нет: на шею села, ножки свесила… Ты что, не понимаешь – я все твои буковки не-на-ви-жу?»
Прокруст встал пред ложем, и как по нотам сыграл в миф-то: голова дивы покатилась сначала в одну строну, потом в другую, затем – в третью, превратившись на четвертой в отрубленную Горгонью: так и приковала она к себе взгляд Прокруста, так и превратила того в камень.
«Ты меня – нас! – предаешь! Ты меня – меня-а! – променяла на дело паршивое! Как ты могла, нет, объяснись, как ты могла, а? Я ведь хотел рядом быть… Днем и ночью… Мысли читать… Насквозь видеть. Детей… А ты – нет. Ты не хотела. Ни сына ни дочь не хотела: «Они будут орать и им вечно будет что-нибудь нужно». Никогда о себе не расскажешь… Всё в тайне, всё из-под полы будто… И эти твои знакомицы странные… что тебя с ними связывает? Что?.. И эти – на столе – крошки… И готовить ты не умеешь! Не любишь… Не терпишь… Неинтересно тебе всё человеческое… Чуждо… Зачем тебе жить на свете? Что ты делаешь здесь, Франсуаза?»
Вернулся заполночь, позвал – но лишь щётка зубная забытая в раковину упала, лишь ложки серебряные немытые, в классическом беспорядке по полу разбросанные, смеялись легко и непринужденно: И Стал – охохонюшки – Свет.
[я жил с ней]
Я жил с ней лет двадцать или около того. Сначала думал: игра. Только потом дошло – попал, да так, что шефу бывшему не пожелаешь. Ладно… В общем, каждый вечер одно и то же. Прихожу к ней, а она отворачивается, засыпает будто. Я по всякому – и так, и эдак: нулевой результат, ага. Говорю как-то: ну может девочку, чтоб стихи тебе перед сном читала? – до ручки дошел, буквально, а она меня трраах – по мордам, по мордам… «Зайка, – говорю, – ну я ж для тебя стараюсь!» – «Да пошел ты, скотина… для меня…» – и слезы по щекам, по щекам… Ага.
Раньше-то все по-другому было. Не успеешь домой прийти, она уж готовенькая стоит, под халатиком ничего: мокро под халатиком! А потом как подменили – даже запах будто другой сделался. Я-то, дурак, сначала ну упрашивать, унижаться… Стоит и в ус не дует: натурально, каменная баба, ага! «Милая, – допытывался, – за что ж ты меня так? Или тебе любовь какая особая нужна?» Молчит, локоток покусывает – и как достает только? Гибкая – страсть! Ну, размышляю, что-то тут нечисто – или свихнулась девочка моя, или подменили ее. Стал я тогда за ней подсматривать, ага. Дождусь, бывало, покуда она подумает, будто я сплю, а сам глаза до конца не закрою, и гляжу, гляжу… Ох, лучше б мне ее такой не знать!
К зеркалу, значит, подходит, кожу с себя сдирает, остается вся – истинный крест! – в мясе на костях; скальп тоже снимает, язык себе кажет, хохочет, крылья – те на пол за ненадобностью, а рожи такие корчит, что и сказать нельзя, ага! А как светать начнет, всё взад вертает, и ко мне под бок, под бок – хнычет так жалобно…
Ну, я первым делом в церковь: а куда еще?! «Помоги, батюшка, дьявола изгнать!» – а батюшка, не будь дураком: «Изгнание дьявола стоит пятьсот долларов плюс сто за визит на дом. Очередь до конца мая. По двойному тарифу можно до февраля успеть – итого, значит, тысяча двести долларов». – «Батюшка, побойся Бога, откуда ж у меня такие деньги? Работаю сторожем сутки через двое!» – «Ну и иди себе с Богом, милчеловек, сторожи…». В общем, когда он меня Туда послал, я сразу к Федьке, мы в школе вместе учились, он теперь психиатр, ага. Так мол и так, говорю, Федька, женщина моя в чудовище каждую ночь превращается из красавицы – жизнь, бла-бла-бла, не мила, может, полечишь? А он: «От чудовищ я, брат, не лечу. У меня одни психи», – и руками разводит, а глаза у самого гру-у-устные – не передать, ага! Ну я тогда – последняя инстанция – к бабе Шуре: она самогонкой приторговывает и в травках сечет. Так и так, бабшур, женщина моя ничего не хочет, такие ночами рожи строит, может, возьмешься? – «Не-а, – баба Шура головой мотает. – Имя у ней не нашенское. Не возьмусь ни в жисть, милок. А ты выпей – оно все легше, когда на душу примешь!» – и стакан, стакан мне под нос сует, ага.
Ну, в общем, месяц проходит, другой, третий… я уж сам чуть ума не лишился, как вдруг вижу: голуба моя в чем мать родила на балконе стоит, крылья новые примеряет: беленькие такие, чистенькие – загляденье!
– Музонька, милая, не улетай! Косая, хромая, горбатая – какая хошь будь, только останься! Я ж без тебя пропаду, сопьюсь… Ты ж мне и жена, и сестра, и полюбовница…
– Не канючь, мужичонка! Когда идиотские свои рассказочки царапать бросишь, тогда и поговорим, – с теми словами Муза моя взлетела в воздух, да еще успела ножкой своей меня лягнуть… – Эх, еще б у ментов поганых помощи попросил, даром что «деревенщик» немытый! – оттуда, сверху, кричит, ага…
… так она кинула меня. Так я стал как все и, не написав больше ни строчки, закончил дни свои, что неудивительно, скучно и бездарно: под кухонным столом, от разрыва аорты, в беспамятстве. Но там, где нет и не может быть белковых тел (это очень, очень хорошее место, поверьте!), я обнаружил контуры девочки, напоминающие Ее. Она плакала чем могла, и я не удержался, спросил:
– Почему ты плачешь, малышка?
– Отвали, старый педофил! – ни за что ни про что огрело меня каленым ответом хрупкое создание и, скользнув с неба на землю, вошло через ноздри в мозг небезызвестного студента Литинститута ***, который никак не мог закончить дипломный цикл рассказов.
– Ахтунг! – она пригрозила ему пальцем, и студент, проснувшийся, скорее, от нестерпимого перегара, нежели от прикосновения неземной материи, скорёхонько испил полбанки рассола, стоявшего рядом, на тумбочке, и, перевернувшись на другой бок, заснул с улыбкой: сюжеты, раскрасившие яркими радугами его сон, были один одного необычней.
А я, наблюдая за достойной описания сценой, вдруг почуял, что скоро найду Ее, чего бы это ни стоило, ага… Я верил, я знал – уж теперь-то Муза не назовет меня «деревенщиком» и не оставит, не оставит…
Да разве можно издеваться над нами и после смерти?
[Nappy New Year]
праздничное па
Катенька – когда-то ведь и так ее называли – подумала: заройся она сейчас лицом в снег, всё будет лучше. Суетливая предновогодняя толпа, осаждающая магазины (вполне серьезная, деловито-напыщенная озабоченность ингредиентами для оливье и проч.), казалось, пройдет по ней, еще живой, и даже не заметит, как растопчет. Ей, предновогодней толпе, явно нет до нее никакого дела – да и кому до нее, собственно, дело? ДЕЛО №… – мелькнуло ни с того ни с сего перед глазами, которыми Катенька и хотела бы заплакать, да не могла. «Ну что же, что же это такое, что я с собой творю? – молча кричала она, обходя людей, наверняка знающих, что это такое. – Как докатилась? Как могла? Почему? Господи, какая же я дура, дура, дура – нет, хуже… хуже дуры…во сто крат…»
Ей, бедняге, действительно не понарошку было так плохо, так плохо, что и сказать никому нельзя: да и кому 31 декабря скажешь «так плохо, так плохо…»? Вот она и не говорила, держа при себе раскаленную добела боль, разъедающую изнутри все то, к чему хорошо бы не прикасаться. Гидравлический пресс отчаяния, который вот-вот – и опустится по самое «не могу», и придавит, и расплющит окончательно, оставив от Катеньки одно лишь мокрое место, больше ничего… – а, впрочем, к чему метафоры, если жизнь не мила! «Что ж мне делать, что-о? Эй, кто-нибудь! Гос-по-ди…Да я же превратилась в кусок мяса, просто в кусок мяса…меня же живьем будто варят… гос-по-ди…»
С такими вот мыслями Катенька сворачивала с улицы на улицу под не слышные никому аплодисменты распоротого равновесия, сыгравшего с ней как по нотам злую свою шутку. «Как все глупо… Глупо, банально… Глухо… И ведь выхода-то нет, выхода-то я никакого не вижу, кроме как…» И никто не услышит, ой-ё, – раздалось из проехавшей в направлении Кузнецкого машины, и аккурат на распеве чайфовского «Ё» Катенька наконец-то заплакала.
В минус четыре слезы, в общем-то, не имеют обыкновения замерзать, поэтому говорить хорошим литературным языком о застывших соленых льдинках неуместно. «А что, что – уместно?» – будто услышала нас Катенька, но никто, конечно же, ей не ответил. Увы, с каждым приключаются порой некие ситуации, описать кои, стрельнув «в яблочко», можно лишь с помощью обсценной лексики. Не замечали ль вы, к примеру, как одно лишь матерное слово может вывести из ступора иного упрямца, которому битый час пытаются доказать очевидное? Однако после «Ёб твою мать!» он вдруг понимает вас и даже смотрит осмысленно, будто прямо сейчас ему доказали сложнейшую теорему. Однако вся беда в том, что Катеньке в канун Нового года – увы-увы! – некому было напомнить таким вот образом о матушке. Заснеженная столица, вся в огнях, снисходительно поглядывала на нее: уж она-то, Москва, слез повидала немало – стоит ли всем-то верить? Печальный опыт подсказывал обратное, а одно и то же кино – с небольшими вариациями – повторялось с периодичностью смен времен года: Москва тосковала, ей уж самой хотелось плакать – в общем, Москву было не узнать. Однако Катенька чем-то тронула ее сердце, давным-давно – столько не живут! – выработавшее иммунитет к людям и бездомным животным (хотя вторых, положа руку на звёздочку, жаль больше первых, да-да, чистая неразбавленная правда!). «Новый год все-таки… – размышляла Москва. – Пусть и иллюзия, но великая… Совсем с ума сошла, лица нет… Убивается, будто кто-то умер! Что ж делать-то?»
Москва не знала, отчего Катеньке так плохо, но знала про обсценную лексику всю правду-матку: оной-то резать и решила.
– Милка, помоги, упала я… – услышала Катенька, методично перебиравшая тем временем способы самоубийства и отвергавшая оные один за другим, а, обернувшись, увидела растянувшуюся посреди дороги бабку. – Сама не дойду…
Бабка оказалась тяжелой: уже навалившись на Катеньку всем весом, покряхтывая, она вспоминала канувшие в Лету времена, когда жетон на метро стоил пятачок. И вдруг за всеми этими дурацкими словами Катенька почуяла: бабка только для отвода глаз разглагольствует, а на самом деле знает то, что ей, Катеньке, узнать надо позарез – здесь и сейчас; в общем, мистика, да и только.
– А вот вы… вы…когда-нибудь любили? – выпалила Катенька и, испугавшись бестактности, осеклась.
– Любила, – ответила бабка как ни в чем не бывало, и снег повалил вдруг огромными хлопьями, и Катенька в какой-то момент радостно в них от боли своей спряталась. Но самое странное то, что улица Рождественка, по которой они с бабкой шли, видоизменилась до неузнаваемости – да и Рождественка ли это была, полноте? Нет-нет, какой-то другой город, другой мир… И Катенька – в другом городе или другом мире – сам слух, и то, о чем ей говорят, навсегда откладывается в выдвижные ящички памяти, и наставительное «Ёб твою мать» – тоже.
А потом снова всплывает Москва – настоящая, лихая, гулкая – и Катенька к Кузнецкому бежмя бежит, потому как Happy New Year на носу, а там, дома, ее – ждет? не ждет? – такой же бледнолицый двуногий, которого любит она до потери пульса и до такой же потери пульса не понимает. Слезы застилают глаза, дыхание учащается: быть проще безумно сложно.
– Пойми, – умоляет Катенька, а бледнолицый двуногий курит не переставая, и куранты бьют, и телевизор бьет, и праздник бьет, бьет, бьет по лицу наотмашь: мандарины и елка – неудачное плацебо больных на голову взрослых детей.
«…Маруся отравилась… Мужчина как фаллоимитатор… И никто не услышит… ой-ё! …Мама не пошла на аборт…А вы любили?…Ой-ё!..» – бредит Катенька, обнимая унитаз: новогодняя сказка бодро и весело ухает в его белую пасть.
[разрешите вами восхищаться!]
Наталья Дмитриевна – интересная дама лет сорока – вздыхала, прогуливаясь по саду: корсет сегодня оказался чересчур туг. Солнечные зайцы, нагло соскакивавшие с кружевного зонтика на ее полные белые плечи, ничуть не смущались и уже прыгали в декольте: а уж там-то было раздолье!
О том же самом раздолье думал и гость ее мужа – поручик N, прогуливавшийся неподалеку. Наталья Дмитриевна нравилась ему давно. Впрочем, «нравилась» – едва ли то слово, способное обрисовать его чувства-с. Он желал ее так сильно, что лоб все чаще покрывался испариной, а ладони потели. И вот поручик, наконец, осмелился приблизиться к даме своего сердца на непочтительно близкое расстояние и, приветствуя, произнес:
– Разрешите вами восхищаться!
– Ах! – сказала Наталья Дмитриевна: да и что можно сказать, когда красавец-поручик подходит к тебе со спины?
– Разрешите вами восхищаться! – снова пробасил поручик, и Наталья Дмитриевна покраснела да выкинула на всякий случай солнечных зайцев из декольте. Поручик, заметив сей красноречивый жест, придвинулся к даме своего сердца еще ближе и снова пробасил: – Разрешите вами восхищаться!
– Ах! – опять сказала Наталья Дмитриевна и коснулась груди. – Колет-с! Сердце!
– Сердце? Где-с? Натальдмитна, позвольте, где-с колит-с? – поручик почти дотронулся до ее груди, а Наталья Дмитриевна снова: – Ах!
– Что «Ах» – с? Что «Ах» – с, милая Натальдмитна? Вы позволите помочь вам? – поручик казался встревоженным.
– Ах, оставьте! – покачала головой Наталья Дмитриевна. – Никто не сможет помочь мне. Никто не сможет вылечить мое сердце…
– Но почему, милая Натальдмитна? – поручик взял ее руку в свою и поцеловал.
– Ах! – вскрикнула Наталья Дмитриевна и, как показалось поручику, упала без чувств.
– Натальдмитна, натальдмитна! Что с вами? Я обидел вас? Помилуйте, голубушка, и в мыслях не…
– Ну давайте же, давайте скорей, пока супруг по делам выехали-с, не томите, я вся ваша… Ах…
Платье Натальи Дмитриевны принесло поручику немало хлопот, не говоря уж о корсете. Однако всё было исполнено в лучшем виде, и полные плечи Натальи Дмитриевны уже слегка утомленно поднимались и опускались. Поручик, запутавшийся в подвязках, отряхивался от травы.
– Разрешите вами восхищаться! – пробасил он и, превратившись с теми словами в солнечного зайца, навсегда поселился в ее шикарном декольте.
Небо, говорят, было все еще голубым, а трава – зеленой: именно в ту пору и прогуливалась Наталья Дмитриевна по саду своего имения. Ничто не предвещало ей удовольствия, как вдруг…
– Разрешите вами восхищаться! – услышала она голос гувернера своей дочери и, небрежно поплыв ему навстречу, снова подумала, что если б в ее жизни не было этого маленького порока, она с ума сошла бы от скуки: право, нельзя же целыми днями пить кофий, завивать волосы да тренькать на фортепьянах!
– Ах! – только и сказала Наталья Дмитриевна и, прислонясь к толстому стволу клена, оголила щиколотки, а потом и колени: тонкие ажурные чулки пахли лавандой.
Гувернер без лишних слов освободил даму от ненужного шелка и исполнил все в лучшем виде. Через полчаса полные плечи Натальи Дмитриевны уже утомленно поднимались и опускались. Гувернер, запутавшийся в подвязках, отряхивался от травы.
– Разрешите вами восхищаться! – пробасил он и, превратившись с теми словами в солнечного зайца, навсегда поселился в ее шикарном декольте.
…Моросит дождь. Наталья Дмитриевна прогуливается по алее парка: жизнь кажется ей никчемной (что дальше? старость?). Пора выдавать дочь замуж, пора намекать мужу на завещание – он старше ее на двадцать пять и последнее время не выходит из дому. Ей скучно, очень скучно…
«Разрешите вами восхищаться!» – слышит она вдруг, и почти уже бежит на зов, но, споткнувшись о пару десятков солнечных зайцев, выскочивших внезапно из ее шикарного декольте, падает в грязную лужу: так брызжат слезы из глаз Натальи Дмитриевны, так смывает ливень пудру…
«Ах!» – слышит Наталья Дмитриевна, открывающая дверь дома, вздох дочери и чьи-то быстрые удаляющиеся шаги. Она бежит на их звук, чтобы уличить гувернера, но увидев Глашку – новую горничную, кровь с молоком! – застывает.
– Стареете, маминька! – облизывает дочь пухлые губы. – Прогресс идет вперед-с!
…Наталья Дмитриевна прикусывает язык и, ничего не говоря, тяжело поднимается по лестнице к себе в комнаты. Единственное, о чем она жалеет…
«Т-с-с! Право, мне неловко, – соскакивает Наталья Дмитриевна со страницы, забыв о дозволенном. – Не стоит этого говорить! Нельзя-с поступать с персонажами столь безжалостно, умоляю!»
…и мы внемлем. Мы никогда больше не говорим о Наталье Дмитриевне; Глашка же, высунувшая на миг носик в коридор, тихо-тихо прикрывает дверь в ее комнаты.
занавес
[Ledi Ferrum рук Пушкина]
растравочка
«Когда Бог создал время, Он создал его достаточно» – то сказки, сказки матушки Ады, но что с них – Гере? (ту-дук, ту-дук: поезд? сердце?). «Когда вода подходит к горлу, выше голову»: зачитанный томик Леца, впрочем, ту не спасет, а по сему [ «Однажды стало быть появится история каждого от самого его начала до конца»[2] ] – (ту-дук, ту-дук, а вот и не угадаешь!): ну то есть от этой вот самой уродбольнички до того, аккурат – во-он! – кладбищчка, и далее по тексту: «Ты купишь мне туфельки, мама?..» – «Вырррастешь – и купишь! Выррр…» – «Хотя б одну-у…» – слёзищи градом – [ «Однажды стало быть непременно появится история каждого кто жил или живет или будет жить»] – (ту-дук, ту-дук: поезд) – вот и пшла стори, и пшла, и пшла, и пшла себе: «Вон пшла, камугрю!» – «Одну лишь ту-у-фельку, одну туф…» – (ту-дук, ту-дук: не бзди паголёнком[3], – сердце).
стравочка
Солнечным весенним утром – так они, случается, зачинают, – Гера облокотилась не на ту руку и, приподняв вверх первую – казалось, будто та жмет, – принялась ее изучать. Нельзя сказать, будто увиденное привело в восторг, нет-нет… да и кого приведет в восторг с неба свалившаяся – буквально, – из разнокалиберных пластин скрученная, змейка? Змейка, распластавшаяся на тебе от плеча, на минуточку, до запястья?.. И ведь вчера – еще вчера, заметьте, – никто, даже вумненький Вордочист, не имел о ней ни малейшего представления! Сковырнуть – пищи-считай, свергнуть – с заштатного трончика Эпидермисов комплекс, привизуализировавшийся накушавшемуся опиума доктору, не было никакой возможности. Более того – если Гере и удалось неосознанно «перебрать» assemblage point[4], обнулившись «заочно» на некоем витке знамо какой спирали[5] (назовем ту для облегчения восприятия ложкой с медом), то пешечки быстренько среваншировали. Отбивая многоуважаемый мозг синкопированной морзянкой (koshmarnaya bol’, транслит, mi bolshe etogo ne vinesem, о-о!), «земная соль» – бочка с дегтем, – методично, со знанием дела, стучала за всю популяцию, и Серому кардиналу ничегошеньки-то не оставалось, как отдалять еретические мысли особы, черепную коробку которой он по приказу г-жи Анимы арендовал, от непрестанно лучащегося на «коконе» объекта[6]…
Вторая рука Геры также прорастала. Чешуйки, пластинки, змейки… сначала на руках, далее везде – все не как у людей, которых Гера, впрочем, едва ль где-либо (а уж в рiдной Варфолоiоппоwке и подавно) встречала. Быть может, именно потому они ничего и не замечали, ну то есть натурально, никакого феррума, – кроме того, разве, что Гера ах-с как похорошела. Комплименты, отскакивающие от стен цирюльни, будто чудо-горошины, которые и «закладывают» принцесс, дабы скотный двор мог удостовериться, не приведи Б-г, в неполноценности последних, вызывали у Геры недоумение, смешанное с брезгливостью. Логорейные власо– и брадобрейки, жужжащие о том, какой крэм пробуждает на щечках коллеги-счастливицы дивный, «не по годам», румянец, etc., походили на мух даже больше, нежели сами мухи, и Гере ничегошеньки-то не оставалось, как мыть мысли свои тридцать три раза на дню, дабы очиститься от вербалящей мозг заразы.
Каждое пробуждение, меж тем, означало новую аппликацию: назовем сей бени-пет[7] так. «О, донна Роза!» – хваталась за голову Гера, не совсем, что и молчать, осознававшая смысл происходящего таинства. Все-все, повторимся, отмечали «особiй блескъ» ее глаз, ну а те, кто внимательней, еще и «удивительный», «необычайный» цвет дермы. Походка также была охвачена-c: шаг Геры, словно б сузившись, стал более стремительным и легким. Даже тембр голоса изменился – и все б ничего, кабы не тесная – жмет, как на духу! – змейка… Куда ж с феррумом этим – Здесь и Теперь? Горгона Горгоной!..
Но даже горгоны иногда молятся, уж об обнулении-то воспоминаний – и избави мя от многих и лютых – всяко: превеселых картинок такого рода было у Геры не счесть, и все, как на подбор, чудо как хороши: из соображений гуманности опустим концы их в воду. [ «Это очень похоже на прыгающую лягушку она никогда не сможет раз за разом прыгать на одно и то же расстояние одним и тем же способом»] – слышит Гера, топящая детали, скрип древа жизни, и понимает, что домолилась. В том, что мычания такого рода слышны, где надо, сомневаются одни лишь бедненькие, а потому темочку закрываем. Насчет же того, коим образом запечный речитатив сей воплощается в ту самую, в ощущениях данную, ре... «Чур!.. – вумненький Вордочист против: смотрите-ка, уж машет руками… – Чур меня!..» – а проще так: wantушки[8] Геры ставились на поток, что называется, в извращенной форме: каждую болезненную картинку из прошлого ввинчивали в тело ее вместе с соляным шариком, отвечающим, – а было оных не счесть, – за конкретную драмку: и вся премудрость… Что ж, все б ничего, кабы не выстроились страданьица-то в рядок: моли Яво, не моли – без вариантов! Но – упс! Вумненький Вордочист прерывает нас следующим пассажем: «Каждой боли соответствует “занебеснутая зарубка”, отражающаяся в “заземленной” железной пластине: последняя и обесточивает приступы страха, отключая ужас 3D-опции “Воспоминание”» – [«Любая вещь это две вещи… Любая вещь это две вещи»] – укрывается деревянным щитом скобок Stien. Одним словом, – если совсем упростить, – стоило коже «разжиться» железкой, как прикрепленная к ней мысль теряла над Герой власть: сказочная, сказочная невесомость, – а какая легкая голова!.. Нет-нет, это ни капельки не пугало – скорее, наоборот: да как же вышло, сокрушалась Гера, что я раньше т а к и м и-то пробавлялась мыслишками? Уж лучше я вся, с головы до пят – пусть, пусть! – покроюсь чешуйками, чем буду с ума по живущим лишь в мыслях кошмарам сходить!.. Сыта по гланды, delete, итожит, игнорируя кавычки, вумненький Вордочист и, выметая сор со страницы, показывает своему психиатру stein’овый лист: [ «Интересно, действительно ли вы понимаете что я имею в виду»]?
расправочка
Ан нет, не бывает, чтоб совсем-то уж гладко. Так закалялась сталь, но зачем? – именно этот вопрос задал когда-то Гере «немец» Павел Иванович, роман с которым спровоцировал в крови ее брожение навроде Sturm und Drang’a[9], ну а сейчас… чешуйка за чешуйкой, пластинка за пластинкой вспыхивали то тут там, заставляя кожу мерцать. О-лэй!.. Но даже чешуйки, пускай и превратившиеся в щит, в шлем, в латы, чувствуют то, что зовется зовом плоти, и Гера – почти железная, – поняла: попала.
Он – далее М. – был похож на Павла Ивановича: во-первых, близорук. Во-вторых, обожал Вермеера. В-третьих – в том, впрочем, героиня наша, как и вумненький Вордочист, были не так чтоб уверены, – абажал Геру. Поначалу М. являлся в цирюльню раз в две недели, но вскорости зачастил, сократив интервал между приходами дней до шести. Когда же записываться на стрижку по причине отсутствия «лишних» волос стало совсем уж смешно, герой наш наконец-то откашлялся, да и предложил героине пройтись – «тут, недалеко».
Попытки касания повисли сначала в воздухе, вызвав сопротивление Геры, хотя ее и влекло – привет, gesamt kunst werk[10], ну привет, – очень влекло к М.: еще бы, он ведь казался последним необнулённым воспоминанием! Но было Железо, и Железо было плотью, и Железом была плоть, а потому – жало в плечах: выносить чужую, пусть и желанную, кожу, не было никакого терпения. Я железная, я могу все, стискивала Гера зубы, все что угодно… – Но если ты можешь все что угодно, пел М., значит, можешь влезть и в прежнюю шкурку… зачем нужна новая? Зачем тебе ее родословная? Зачем вести отсчет дней своих от момента падения металла небесного на Землю? И как насчет фактурной совместимости матерьялоff? – [ту-дук, ту-дук] – ах, как стучит сердце!.. Да даже если оно и не было никогда железным, если лишь теперь – стало, то что же ей, Гере, делать? Стань мягкой, шепчет М., стань, чего тебе стоит… – Только лишь растечешься, растаешь, поверишь на слово, как тут же крышка, качает головой Гера. – Откуда ты знаешь, горячится М., да откуда ты можешь знать-то?..
Откуда может!.. О, жар, жар, нестерпимый жар, сравнимый лишь с жаром первого поцелуя – лето, развалины графской усадьбы, – когда б поцелуй тот и впрямь ставили в шехтелевских декорациях, а не «монтировали» в ледяном павильоне, где отголоски снулого февральского вечера имитируют чувственность… А ежли без лирики: в цирюльню Гера наутро не пошла – не пошла и в больничку для имитации острого респираторного: зевнула, едва представив серо-коричневую толпу, и, перевернувшись, уткнулась в спину М. И впрямь: почему не растечься? Кто вынуждает ее изо дня в день носить на себе чертовы железяки? Зачем обороняться, если никто на тебя не нападает? К чему защищаться от Мастера?..
Скоро, совсем скоро у Геры появится доппельгангер: не из дешевых, уточняет наш Вордочист, удовольствие, не всем по карману… Но до кармана ль, когда на кону целая, как кажется, жизнь? В общем, в ту ночь Гера сорвала с себя все чешуйки: она и не заметила, что стала ростом чуть больше дюйма.
Сначала из глины, затем из воска… офтальмологические протезы, заказанные в спецклинике… Волоски, один за другим – и так несколько тысяч, – вплавленные в восковой череп «железной леди»… Корректировка морщинок и пор… Когда же с этими и прочими чудесами было кончено, Мастер – «Ну-ка, куколка… – Умри, грязный садик!..» – подцепил кроху пинцетом и закрепил в свежеотлитой женской головке. Фигура экс-премьер-министра, как впишут позднее в Живую Жижу, «имела ультрамегасуперуспех» у публички-дуры, что, впрочем, не помешало Мастеру убраться аккурат после выставки: по словам реанимационной сестрицы, покойный повторял непрестанно, – вот я и запомнила, – одно лишь «В ушную раковину Бога шепни всего четыре слога: “Прости меня”»[11], – мадам искренне верила, будто и это, и это тоже дело рук Пушкина.
[Снег на даче]
этюд между пальцами для левой руки
– Мне нужна твоя любовь! – пробаритонил многозначительно Очередной-С-Претензией-На-Интеллект.
Меня как током ударило, и, чтобы не сказать что-нибудь обидное, я набрала в легкие побольше воздуха, досчитав до одиннадцати.
– Мне, – он акцентировал, – нужна твоя… – я прикрыла ему рот ладонью:
– Давай чай пить. Остынет.
Очередной-С-Претензией-На-Интеллект сел напротив, и посмотрел какбывлюбленными глазами то ли в мое лицо, то ли в стоящую на возвышении тарелку с песочным печеньем – «в», а не «на», и это был просто предлог.
– Восхитительно! – пробаритонил, и я снова не уловила, к кому-чему именно относится восклицание.
Он долго дул в чашку, потом основательно намазывал масло на то самое лакомство и еще дольше поглощал его.
– Изумительно! – прожевал, наконец. – А молока нет?
– Нет.
Он почесал затылок и прошел в ванную. Я, зевая, пилила ногти, слыша, как фырчит вода, и как кто-то фырчит в унисон.
Очередной-С-Претензией-На-Интеллект вышел в моем халате и попытался; я увернулась, отмазываясь накрашенными ногтями. Впрочем, он не казался расстроенным, даже наоборот:
– Молока нет?
– Нет, не пью я его.
…Он долго одевался, брился, целовал мне руки, говорил пафосно и какбыискренне. Однако третий вопрос о молоке поверг меня в уныние:
– Нет. Ты уже спрашивал. Забыл?
– Забыл… – топчется в прихожей, смеется чему-то. – Так я поеду?
– Так поезжай.
– Я обязательно скоро появлюсь! – будто успокаивает себя.
– Появляйся, – пожимаю плечами, отходя от входной двери.
– Не скучай! – грозит пальцем.
«И не подумаю», – не говорю, усиленно улыбаясь: кажется, в эту секунду я похожа на девушку из клипа «Жизнерадостные кретины».
Очередной-С-Претензией-На-Интеллект наконец-то уходит.
Выдыхаю.
Мне почти легко, и я с банальным удовольствием отмываю от чего-то невидимого чашки, а потом закидываю все полотенца и постельное белье в стиральную машину; но желание прокипятить собственные мозги еще не проходит.
Нет, не проходит.
Еду в гости.
В гостях много гостей, еды и вина. Стою на балконе с «нормальными» своего пола, пытаясь не сказать чего-нибудь непонятного. Разговор «о кофточках» вполне безобиден. Потом все уходят есть курицу, еще не снятую с бутылки, и мы остаемся вдвоем с давней знакомой: «Полька, смотри, упустишь – тебе же хуже!» – смеется она.
Смеется она!
– Ага, – соглашаюсь, и тушу ополовиненную сигарету. – Курицы не останется, пошли.
…Пью какое-то красное. И, чем больше, тем легче даются мне вечные, неистребимые огнем и мечом «кофточки». Развязывается язык: меня с интересом слушают – я даже выдавливаю поланекдота: «Скупой платит дважды. Пойду работать к скупому». Становится смешно, жарко, вместо курицы появляются кости; в этот вечер я не пью снотворное.
Утро, похожее на утро.
Рассматриваю – в зеркале, чужой-не-заметит – седые ниточки, подлизываюсь к лицу и шее кремом: в этом возрасте – «Что-что?» – советуют не забывать про шею, и я не забываю: для гильотины хороша больно!
Отправляюсь в место, хождение на которое предполагает о к л а д. Я просчитываю – так еще и не подойдя к двери, – что через семь с половиной часов уже выйду: я, разумеется, опаздываю.
Вечером обозначается Очередной-С-Претензией-На-Интеллект с веником красных роз.
– Спасибо, – терпеть не могу розы, особенно красные; ищу подходящую тару.
– Что-что? – переспрашивает Очередной-С-Претензией-На-Интеллект.
– Послышалось.
– Полина, я хочу, чтобы у тебя… у нас… В твой день рождения… – он еще что-то несет, а я думаю почему-то: в устаревшем содержанка – четыре слога; четыре – магическое буддийское число, и, может, оно-таки вынесет… Хотя, со-держу себя как раз я.
Ночью мне не нравится запах кожи Очередного-С-Претензией-На-Интеллект. Впрочем, едва ли он груб, если даже не нежен.
Не могу расслабиться.
Набираю семь цифр и облегченно выдыхаю: тишина! – а через секунду подпрыгиваю к двери, в которую – только что. Толстая тетка в зеленой телогрейке смотрит в упор: «Мыши-крысы есть?»
– Нет. И молока нет, – сдуваюсь, как круг.
Сажусь за шахматы, но голова отказывается думать. Я тупо растягиваюсь на постели: мало кто верит, но я на самом деле люблю спать одна.
Снятся зеленая собака и вертлявая бабочка-однодневка. Очень много солнца, в котором я – слепо-глухо-немая – пытаюсь открыть заархивированный файл «Teplo. Zip», нажимая на несуществующие кнопки.
Просыпаюсь – 02:00 – и перечитываю «Пену дней» (Виан – гений!), а утром снова подлизываюсь кремом к шее, что больно хороша как для Очередного-С-Претензией-На-Интеллект, так и для гильотины. Снова иду в место, предполагающее о к л а д, где автоматически не говорю ничего непонятного, а вечером – «Да пойдем, билет пропадает!» – оказываюсь на концерте кумира семидесятых. Поначалу что-то во мне оттаивает (на дворе девяностые), однако кумир порядком истаскан, и поет не те песни. Я выбираюсь из толпы постаревших фанатов, с облегчением покидаю помпезный КДС, и звоню бабушке:
– Не болеешь, бусь?
– Приходи, Поленька, приходи.
– Я люблю тебя, бусь…
– Что? Что? – переспрашивает.
– Сейчас приеду!.. – кричу в трубку, и сажусь в трамвай, везущий на другой конец мира.
Бабушка потчует чаем с пирогами, не забывая удивленно ахать:
– Как похудела-то, а! Поди, не ешь ничего?
– Ем, ем.
– Да вон под глазами-то! Чёрно! – бабушка всплескивает руками. – Хоть высыпаешься?
– Высыпаюсь, бусь. Ты-то как?
– Ноги болят, а так ничего, – улыбается. – Ну, пойдем, я тебе постелю на диване, уже первый час…
Я покорно плетусь за ней, замечая, как она ссутулилась и будто осела.
– Бусь! – резко поворачиваюсь.
– Чего?
– А ты кроме деда кого-нибудь любила?
Она молчит, потом смеется, становясь похожей на девчонку:
– А ты как думаешь? Спи, ну тебя…
– Как его звали? – не унимаюсь.
Бабушка мнется:
– Лёнчик. На лодке всё катались. Ночами… А он постоянно к камышам греб… Красивый такой.
– Правда красивый, или ты специально?
– Чего врать-то? Стишок мне перед войной написал, – она заговорщически улыбнулась. – Я потом, знаешь, до 47-го по всем вокзалам бегала: встречала.
– Не встретила?…
– Спи-и-и…
– Сплю.
День похож на лабиринт, в котором я убегаю от воображаемого Минотавра, и где я более чем прозаична: нужно туда, туда, туда, а еще – пломбу, в четыре: «Вам которая будет держаться или бесплатную?».
Шпилькой – марш! – а в сумке кукуруза и сны Флоринды Доннер, а в голове ничего, ну то есть абсолютно; выхожу от дантиста в полной уверенности, что успеваю все, кроме самого главного, вот уже лет тысячу.
Дома открываю окна и включаю музыку в полный рост – я знаю, как и БГ, «что-то должно случиться»; я не открываю дверь Очередному-С-Претензией-На-Интеллект, я молча срываю с окон шторы и смотрю на звезды: я больше не имею права в с е в р е м я д у м а т ь.
Утром звоню в место, где предполагается о к л а д, и хриплю, и кашляю… в общем, мне верят. Я – ответственная за что-то единица «на хорошем счету».
За что?
– Полина, к вам вчера какой-то мужчина так долго звонил! – толстая соседка, мающаяся от училкинского диплома, оглядывает меня с головы до ног, пока я вызываю лифт. – Прям-таки звонок надорвал! А уж поздно было, и я выш…
– Спасибо, – на соседей, покойников и сослуживцев не наступать.
Сажусь в длинную зеленую электричку. Зимой в направлении, нужном мне, почти никто не ездит. Вагон пуст. Я прислоняюсь виском к окну: мимо отстраненно проплывают станции, дома, люди.
Через полтора часа выхожу.
Я была там всего раз, и едва помню дорогу: иду «по нюху», превращаясь в ищейку. Какая-то птица – за мной, знаю точно! – невозмутимо перелетает с ветки на ветку: ты – конвойный, я – острожный… Подставляю ладони – снегу.
Тропинка не широкая и не узкая. Сосны кругом, гос-по-ди, твоих ли рук и это дело?… Втягиваю воздух: ноздри дрожат, колени, само солнечное сплетение – и то: химические процессы, гос-по-ди? Я ощущаю себя ошибочно осужденным, дождавшимся, наконец, амнистии.
Ноги по колено в снегу – ок, ок, но я даже не знаю, куда идти после этой чертовой развилки! Я вспоминаю магическое «чЕтырЕ», и пытаюсь применить его к «направо», «налево» и «прямо». Не находя «е» в «правом» и «прямом» измерениях, иду дважды налЕво… Глупо?
Знаю: еще есть пульс – не помню лишь, в какие такие п я т к и ушло сердце – да и что такое вообще п я т к и? что такое вообще с е р д ц е и сколько у него к а м е р?…
Скрип калитки. Я вижу его, порядком обросшего: он что-то кипятит над костром в котелке. Он похож на так и не залегшего в спячку медведя – доброго, но все же зверя. Я подхожу к Зверю со спины и барабаню легонько пальцами по плечу:
– Эй!
…Он вздрагивает только слегка, и сразу приподнимает опущенные углы губ:
– Как ты здесь оказалась? Откуда?
– Ниоткуда. Сюда.
– Все в порядке? – смотрит с опасением, ждет подвоха.
Я киваю, сев в снег. Это от дыма, конечно, глаза слезятся; он, разумеется, т о ж е так думает. Я киваю еще раз, а потом кричу:
– Нуневозможножетакбольше-е-е-е!
– Я знаю, – он, тихо, сквозь кашель.
А потом молчим несколько часов, и только смотрим на звезды – они гораздо ярче, чем те, что были когда-то видны из нашего бывшего окна. Зверь теряет бдительность и, приближаясь, спрашивает, опрокидываясь на спину, по-звериному:
– Правда?
И я отвечаю Зверю на зверином его языке:
– Правда.
И мы опять молчим и смотрим на лес, потому как звезды уже погасли, и я не подлизываюсь к шее кремом, хотя началось давно – утро.
Я пересыпаю снег с ладони на ладонь – он так похож на белый песок! Левая рука затекает; подобные пьесы для двух актеров не даются малой кровью.
– Но ведь я не люблю твои риф-мы, – прищуривается он, смеясь зрачками.
– Какая разница, – хохочу я. – Да какая разница!
Снег на даче.
[Londonбайки]
«Боже, как удобно быть нормальным – без рефлексий и претензий на что-то большее!» – думает миссис Лидчелл, глядя в окошко и наливая джинн на донышко бокала, чтобы через секунду-другую утопить его льдом. Впрочем, миссис Лидчелл стала она совсем недавно; не прошло и года со времен отечественных, прошитых на лицевую сторону суровыми нитками, «ф.и.о.». То время миссис Лидчелл не забудет никогда: еще бы! Сорок семь пестрых зим, проведенных в столице и так называемых «регионах» (в переводе с русского на русский – прочих городах-весях достославной Империи), не выжечь и каленым железом: и даже самый-сусамый заграничный черт иваныч не вытравит!
На поиски англицкого свадебного платья ушло ни много, ни мало – пять часов. Вернулась Линда без рук – без ног, а купили-то всего одну юбочку китайского производства – блузку к ней так и не нашли. «У вас все свадебные наряды такие ужасные?» – спросит она потом Уильяма, и тот, как всегда, вспылит, а Линда запишет в дневнике, хотя для маленького блокнотика чуть больше ладони это слишком громкое название: «Сего дня докупили свадебное барахло – блузку, топ и пиджак – все из хлопка, поэтому я буду слегка помятой и потрепанной, но, как и положено – белой. Что дальше?».
«Линда!» – этот, из коридора. Немалый плюс, впрочем, что Уильям пытается спикать ин рашн, во всяком случае, имя произносит достаточно внятно. «Later, please. Sorry», – миссис Лидчелл потягивает джинн, хотя и не очень любит его – и вообще: спиться ей явно не грозит. Двести граммов вина – больше она не может, а если и «да», то наутро ни головы, ни того, что в голове, не чует.
Однако жизнёнка часто смеется над ней, и по иронии судьбы она оказывается в Лондоне с похмелья, а посему и громады Тауэра, и купол Святого Павла, и Вестминстерское аббатство поначалу не кажутся. Т о г д а ей очень хотелось их, «буржуйского», аспирина – родной остался за тридевять земель: в стране, где по улицам, как по инерции приговаривают европейцы, ходят медведи. «А ф Рассийя прафда никагда ни закусыватть воттка?» – сначала она пыталась отбиваться, но потом только снисходительно качала головой и посмеивалась.
…Уильям снова позвал. «I can’t sleep. Later», – и плеснула еще джинна. Через полчаса, пройдя тихо мимо спальни, Линда услышала приглушенный храп и не впервые сморщила нос.
Увы, так бывает: подчас чтобы быть (во сто крат хуже – жить) с кем-то, нужно перешагивать через самое себя, – а это невыносимо, учитывая редкостное постоянство «переходов». Так думала Линда Мяртт, родившаяся на качественных брегах Балтики. Окольцевавшись когда-то по неопытности-неосторожности с красивым и на редкость неглупым военным (форма была тогда в моде), уехав из «русской Европы» в самую настоящую «советскую задницу», она поняла, где раки зимуют, но было, в общем, поздно. Инга поарывала уже, пытаясь сбежать, но глазки-бусинки дерзко поглядывали на м а м у (новое словечко) из коляски, а «красивый и на редкость неглупый» переезжал из Куева в Кукуево да целовал не только на ночь, но и с утра… – только вот о чем говорить с жонами военных (подвид, чаще через «о»), Линда так и не поняла. Чувство одиночества и ощущение собственной беловоронности сменились равнодушием, и даже чудо-девочка с глазками-бусинками – не говоря уж о человеке, чью фамилию она зачем-то взяла – оказывалась порой в тягость. Линда чувствовала, что тупеет, тупеет, тупеет, а потом и вовсе сходит с ума. Так канули в Лету почти три нескончаемых года, тусклых и тягучих, после которых она подала на развод; так Линда осталась с маленькой Ингой в чужом городе, находившемся в четырех часах езды от сердца Империи.
«Линда! – Уильям просыпается от ее мыслей и выходит в коридор. – What happened?»
Линда вздрагивает и, словно кошка, мягко крадется по полу, однако мурчать от радости по мере приближения к хозяину не может: выучка не та – да, собственно, нет никакой «выучки»… Она вспоминает англицкую свадебную церемонию – такую же пошленькую, впрочем, как и в Имперском загсе. Вместе с новобрачными (к сорока семи Линду потрясывает от этого словечка, в самом корне которого запрятан «брак») крутили-вертели головами еще одиннадцать человек – друзья Уильяма да две приятельницы Линды, не без труда выписанные из Империи.
Итак, на берегу канала уютной деревушки, название которой Линда не помнит, устраивают пикник. «Сколько лет зданию?» – кивает Линда на, как ей кажется, замок. «Четыреста, миссис Лидчелл. Здесь, кроме ресторана, еще паб и отель». В зале за большим овальным столом, заставленным цветами и свечами, Линда ощущает себя на какие-то доли секунд маленькой девочкой, играющей во взрослую т ё т ю, но лишь на доли секунд – именно тогда и выбегает на канал, чтобы покормить птиц, с криками слетающихся к хлебным крошкам, и вот уж владельцы проплывающих пароходиков машут руками, приветствуя ее – неужто опять ее, думает она? – свадьбу. «Ближе к полуночи гости разъехались, – запишет позже Линда, – а мы остались ночевать в отеле. Слава богу, засыпаю я пока быстро. Когда настигает меня бессонница – это конец. Свадьба обошлась ему где-то в девяносто тысяч – лучше б поехали в Италию…».
Уильям же Лидчелл, экс-владелец двух жен, сбежавших от него аккурат через два года каждая, заснул счастливым: наконец-то он встретил «женщину своей мечты» – так ему, во всяком случае, казалось.
Дом большой и холодный. На первом этаже столовая, кухня, кладовка, ванная и пр. и пр. На втором – спальни, кабинет, гостиная. Линда находит англичан, как ни забавно, тупыми: «Как можно босиком ходить по каменному полу, а потом, в шестьдесят, ездить из-за этого в суперсовременной инвалидной коляске? Неужели нельзя сделать полы теплыми?» – она надевает три пары шерстяных носков и меховые тапки.
«Что вам еще не нравится, миссис Лидчелл?» – она, так и не поняв, кто ее спрашивает, выстреливает: «Придурки, полные придурки! У них так много славных натуральных продуктов, а ведь жрут какую-то гадость, химию непонятного цвета! Потом – диабет, ожирение…» – «Вы любите Уильяма, миссис Лидчелл?» – «Да, я перечитываю иногда сонеты», – она идет в сад: о, там прыгают белки, там растут розы… Линда ухаживает за цветами – это нравится ей гораздо больше, чем ходить по каменному полу или поглощать безумную яичницу с беконом, приготовленную Уильямом: завтракает Линда вот уж лет десять как только мюсли с йогуртом, а от бекона ее всегда подташнивает. Уильям кипятится; Уильям кидает сковородку, чудом не задевая Линду, в стену, и «лишние калории» равнодушно растекаются по кафельной плитке цвета неба, проглядывающего из тюремного окошка. Линда сначала плачет, а потом привыкает: ей нужно продержаться еще некоторое время – гражданство можно получить лишь через два года. Линда должна помочь дочери, большую половину суммы за обучение которой заплатил не кто иной, как мистер Уильям Лидчелл: «Твоя Инга будет учиться только в хорошем месте!» – а Линда шкурой чует: западня. Она хочет жить одна – да вот беда: не на что жить одной, полвека скоро – и всё бесприданница! Впрочем, Уильям не вызывает у нее отвращения, хотя «местами» этот человек и психопатичен. Однако секс делает свое дело, привязывая их друг к другу куда более сильно, чем хотелось бы.
После того, как она и девочка с глазками-бусинками остались одни, Линде снова пришлось работать. Но кому она, в сущности, нужна была со своим красным «кульковским» дипломом («Хореограф – это звучит гордо!») и киндером? Ставки во Дворце (!) культуры едва хватало на то, чтобы не загнуться от авитаминоза, и более-менее прилично одеться (насколько, конечно, можно было прилично одеться в 80-е, покупая свитера в магазине «Советский трикотаж» и заказывая костюмы в Доме быта). К маме же, на качественные брега Балтики, Линда уже не могла: «замуж за русского да как ты можешь они заняли нашу землю ты сошла у ума назад не возвращайся они…». Тем не менее Линда вела в ДК несколько групп бальных танцев (девочки от семи до пятнадцати, танцующие друг с другом по причине тотального отсутствия мальчиков), а по окончании занятий все чаще замечала осанистого бородатого мужчину, поджидавшего дочь… и не только: в один из таких вечеров они и вышли на улицу втроем. Потом это вошло в привычку, подло подставившуюся, как всегда, под «замену счастию». Впрочем, Линде показался интересным этот, начинающий седеть, человек. Привлекло и то, что он оказался журналистом – хоть провинциальная, но все же – газета: тогда печатному слову верили больше, чем собственному.
Игорь Павлович – так представился – оказался как нельзя более «кстати» разведенным. Дочь он видел два раза в неделю, встречая с бальных танцев. Обессилевшая от одиночества и неустроенности, Линда переспала с ним через пару месяцев, а потом переехала из кишки-коммуналки в огромную «сталинку», где высота потолков и тяжесть стен давили на нее все семь лет: тогда, собственно, мигрени и начались.
«Линда!» – Уильям, конечно, не Шекспир, но кроме бекона любит и искусство. Так, в один из солнечных осенних дней, когда, по замечанию Линды, «тупые англичане ходят в майках и с голыми ногами», они втроем едут в театр на «Горнило» Миллера. Однако уже в первом акте ей становится скучно и она, оставляя в театре дочь и Уильяма, решает побродить по городу: люди, как ей пока кажется, все-таки интереснее пьесы. И что же она видит, сворачивая с улочки на улочку? Молодых людей с девицами самых разных пород и оттенков, переходящих из бара в бар, где по новому закону, уже не курят, а только пьют и танцуют да стараются друг друга перекричать, так как в десять вечера всё битком, все – впритирку, и духота от скопления тел жуткая. А вот, скажем, барышня с черным лаком на каблуках: белые носки приспущены (дурацкая мода!), сверху – полное декольте... Шум, гам, слева «ай лав ю», справа – «факин-факин», во всех вариантах; мужчины ведут себя как мальчишки…
«Вам интересно это, миссис Лидчелл?» – «А? А-а?..» – не слышит она, снова не понимая, кто задает вопрос, и уже подходит к театру, с облегчением думая о том, что уик-энд завершается, а дочери завтра в колледж. Инга учится модному и перспективному – дизайну и рекламе на TV; быть может, хоть ей удастся… Линда осекается: Линда запрещает себе загадывать.
А Инге двадцать два, и понимает она слишком многое для того, чтобы в ее глазках-бусинках не поселилась грусть. Иногда ей кажется, будто она старше Линды – но это лишь кажется.
Когда секс превращается в супружеские обязанности – тогда пиши-пропало. Так и пропало когда-то у Линды, хотя развод с провинциальным журналистом и заставил себя ждать лет семь. Пожалуй, главным толчком к этому событию послужила банальная автобусная «давка»: когда икарус тряхануло, Линду прижало вдруг к некоему вьюноше. «От него шел такой жар, что я вся до косточек за минуту согрелась, без преувеличения, – а ведь было минус двадцать! И не хотелось двигаться – только чувствовать это тепло!» – не скажет она никому, никогда: незачем.
Но вечного тепла не бывает – ложась ночью в постель, Линда вдруг совершенно отчетливо понимает, что давно не испытывает ко второму мужу не только любви (а, может, никогда не испытывала?), но даже простой привязанности, позволяющей хоть как-то («Кааак?..» – шипит со страницы) скрашивать пресные дни, разграфленные на колонки «надо», «можно» и «нет»;, шипитнности, не бывает, ачались. нтервью для "– по дно. приехатьсть проблем. дни, безжалостно раздавленные провинциальной скукой; дни, когда на улице ни одного трезвого…
Линда скучает по Балтике – Линда прожила у моря двадцать лет.
Она открывает для себя Октавио Паса («Преодолеть временность своего существования человек может лишь одним способом – с головою уйдя в стихию времени. Победа над временем – в слиянии с ним»), и вообще – много чего открывает: развод хорош уже тем, что на какое-то время отпускает человека к самому себе. Итак, Линда решает «никогда больше не портить паспорт» и спустя полгода знакомится с Т., чем-то напомнившим ей вьюношу, за секунду согревшим ее своим жаром в автобусе. Их связь продолжается несколько месяцев, «а больше и не надо» – от смены персонажей… Так пройдет почти десять лет – и Инга вырастет, и «хрущоба» – разменянная «сталинка» – станет совсем, совсем мала, и Линда ужаснется: одной не выбраться. Но не только из-за этого, на самом деле, разместит она свою банальную анкету на сайте знакомств: всему «виной» окажется опять-таки пресловутая жажда чуда. Ну да, обыкновенного чуда – взаимности. Чуда, которого Линде так и не довелось испытать несмотря на всех м&м, и даже, как казалось, «последнего» – высокого брюнета-ресторатора, влюбившегося в нее с первого же, как теперь говорят, секса, и почти насильно (противостоять такому напору Линда не сумела) перетянувшего ее в столицу Империи.
Мегаполис не вызвал, впрочем, ни восторга, ни отторжения: город как город – она много где пожила… Наконец-то, правда, Линда позволила себе не работать и тратила время, как хотела – во всяком случае, так продолжалось до тех самых пор, пока ресторатор не измучил ее ревностью, и однажды (о, тихие зимние вечера!) так не заехал по шее в приступе ничем не оправданной ярости, что Линда быстренько собрала вещички, да и поплыла к своему корыту – рыбкой, рыбкой: там и залегла лицом к стенке – устала.
Потом, уже в Лондоне, прикидывая, в какой стране безопаснее провести остаток дней, она пройдет сквозь все башни, купола и шпили этого сумасшедшего города – и дождь омоет тротуары, и дымчато-серые облака будут лететь и клубиться ежесекундно, а, может, даже быстрее, и сквозь безумную клубящуюся стихию проглянет, наконец, луна – и невозможным окажется отвести взгляд от этого магического движения… Тогда и исчезнут вопросы: «Маленький паучок сплел за ночь прозрачную сеточку между боковым зеркалом и дверцей нашего пежо. И когда мы ехали, ни ветер, ни дождь, ни скорость не могли разорвать эту тоненькую паутинку!»
Тсс…
Когда чувствуешь мир содранной кожей, понимаешь, что пора эту чертову кожу наращивать. Линда же грустит и скучает по Империи; Линда чувствует, что деградирует, потому как уже даже не ходит ногами, что приводит к онемению ступней… и языка тоже. «Я не могу все время передвигаться на машине! – кричит она человеку, которого, как ей казалось, она действительно полюбила. – Не могу вставать раньше девяти! Не могу каждый день есть ресторанную пищу! Мне хочется иногда просто побыть одной, со своими мыслями! Не могу смотреть эти американские фильмы! Не могу…» Но Уильям не слышит: он считает, будто Линда не ценит его отношения и лишь потакает своим капризам. Линда пишет, пишет, пишет в свою маленькую книжечку – и та разбухает от ее слез: «Сегодня опять ревела. Решили съездить в шоп быстро, а я забыла плащ. Когда стояли у кассы и я сказала Уильяму, что не могу платить, потому что кредитка осталась в кармане, он страшно психанул, а потом со злостью бросил пакеты в багажник и всю обратную дорогу злился – типичный Скорпион! Жутко обидно, ведь все вспышки злобы – из-за ерунды. Глупо, пошло… а я реву. Надо бы перетерпеть два года – может, гражданство дадут, может, смогу сама что-то заработать… может, даже помочь кому-то… Однако я «одна» здесь, наверное, даже больше, чем в Империи… Зачем – я – здесь?.. Сначала казалось, будто это тихая, смирная такая любовь, но она пряталась под маской страсти, а страсти быстро утихают – и утомляют. Неужели я здесь из-за денег? Из-за этих проклятых подлых денег?! В новостях ничего об Империи нет – вот и живу, как грибок. Вокруг пока все зеленое, а у нас там, видно, осень золотая…»
Уильям не понимает, чем недовольна Линда, ведь он делает все, от чего были бы в восторге многие женщины. Многие, но не его бывшие жены – и не Линда. Не за этим летела она сюда, совсем не за этим!
«Чем вы недовольны, миссис Лидчелл?» – миссис Лидчелл отмахивается от навязчивого голоса и вдруг произносит смиренно, что совсем на нее не похоже – кажется даже, будто она слегка меняется в лице, а взор ее окончательно гаснет: «Летит себе птица-Земля, летит – за хвост не поймаешь… Вчера вот ездили на кладбище к его отцу – тоже Уильяму. Жаль, что даже отдаленно тот не Шекспир… Поменяли цветы… У всех – одинаковые серые плиты из камня – только надписи и даты разные… Какими бы дорогами мы ни шли, как бы ни блуждали извилистыми тропками, конец у всех один… Любовь, говорите? Да люди просто не хотят возвращаться по вечерам в пустые дома – вот и мучаются вдвоем. Брак нужен лишь для того, чтобы вместе растить детей – так удобнее и лучше для них: ма-ма и па-па – такая вот «идиллия», которая распадается вдруг на кусочки… Любовь, говорите? Это все-таки, наверное, болезнь. Я не смогла бы уже жить в любви с мужчиной: сильные чувства разрушительны… Без любви тоже нелегко, но не так мучительно, если оба это осознают. У нас очень неправильно мечтают о любви и браке, а потом разочаровываются – и всё, всё летит кувырком! Вот старые люди не выбирали – кольцевались для потомства, в чем и видели смысл… Для меня спасением в ближайшем будущем могут стать только внуки – без этого я просто не смогу удержаться на поверхности… А союз мужчины и женщины – это удовлетворение эгоистических потребностей, жажда наслаждений, и часто – без чувств… Не знаю, видели ли вы «Скорбное бесчувствие»… у меня, кстати, в саду два бутона распускаются – наверное, последние… посмотрите-ка…» – «Но, Линда, это же не ты!» – «Это я, – улыбается миссис Лидчелл и, наклоняясь к бутонам, мурлычет: – Ну разве они не чудесны, Уильям?»
«Love-stories»: из моноцикла
[Три года брака /условно/]
Сначала заключили контракт. О, тогда «брак» еще был безусловен, хотя и странен – будущий Сосед По Времени обязывался писать мне по сонету в неделю, иначе соглашение оказалось бы расторгнутым. Потом сонеты потеряли свою свежесть, потускнели, и я поручила Соседу акростихи – те самые, что высвечивают имя по вертикали.
До сказочных цветочков мы так и не дошли. А дети плачут – ягодки, блин!
Быть может, говорит, я плохая мать. Или не очень мать. Так себе мать. Впрочем, дети ее обожают – наверное, именно потому, что «не очень» и «так себе».
Больше всего она ценит, разумеется, свободу. Ну, а «ягодки» – что с тех? Памперсы-сопли-расходы… Глазки, конечно, да, пальчики, «ма-ма» – да, да, все она проходила, но никогда ее это по-настоящему не задевало, не трогало, не трясло (ее выраженьице).
– Я всегда относилась к детям как к растениям, – напоминает. – Поливала, ухаживала, чтоб, не дай бог, не засохли; вносила удобрения во избежание рахита… Боже! За что ты дал мне их? Они спят сейчас в маленькой комнатке, даже не подозревая, насколько условны!..
…
– Госпожа Обвиняемая, что Вы можете сказать в свое оправдание?
– Я? В оправдание? Ненавижу оправдываться. Всегда ненавидела. Говорят, в этом есть бесценная доля инстинкта самосохранения. Я желаю сохраниться! – кричу Им.
– А судьи кто? – спрашивает по привычке «обличающий» классик.
Молчу, потупившись. Я уже не в том возрасте, чтоб…
– Чтобы что? – снова спрашивают ОНИ.
Уворачиваюсь от удара.
Мне стукнуло тогда. Стукнуло. Не важно, сколько. Важен сам факт, сам процесс стука. Застукивания. Как будто я играла с жизнькой в салочки и вот, наконец, та «осалила». Догнала, поймала за хвост, схватила за жабры. Прищемила, короче.
– А не пора ли тебе… – начала, было, Она.
– А не пошли бы Вы… – предложила я Ей, и тут же получила по башке: ой-ой-ой, ай-ай-ай…
Дама же, не привыкшая к дерзостям, разозлилась и, решив меня проучить, загнала в угол с паутиной. О, как там было темно и неприятно, бог мой! Как тоскливо, как безнадежно!
– Хорошо ли тебе, девица? – поинтересовалась Дама.
– Хорошо, – выдавила я слово, словно остаток пасты из засохшего тюбика.
– Тепло?
– Тепло!
– Ну, тогда еще разок, – усмехнулась Дама.
На этих словах что-то подбросило меня сначала вверх, затем пригнуло низко-низко, и только потом уж зашатало из стороны в сторону. Измученная, но не сдавшаяся (кому? чему?), я встала на четвереньки и огляделась.
Итак, я находилась в некоем пространстве, из которого необходимо было выбраться. Помимо него существовало, соответственно, еще одно – то, в которое предполагалось попасть, чтобы сохраниться как вид. Увы, требовался пропуск, а я не знала, в каких заведениях выдают такие штуки, и есть ли они вообще, эти заведения. И где.
…
– Госпожа Обвиняемая, говорите по существу, не прикрывайтесь псевдолитературными излишествами! Что Вы можете сказать в свое оправдание? Что?
Я растерялась. Я давно не прикрывалась излишествами, тем более псевдолитературными. Я просто так говорила. Речь моя текла легко, без надрывов и надломов, без намеков скользких или прозрачных – я жила, дышала именно в этом ритме, и ни в каком другом. Что я могла сказать Им в свое оправдание? Что?
– Госпожа Обвиняемая, Вы намеренно отходите от темы! Говорите по существу! – прогремели Они. И снова – соль, соль, соль… Тонны грязной соли на мое кровоточие…
Мое существо всегда противилось Их существованию. Я замолчала, а потом расхохоталась – вульгарно так расхохоталась, будто находилась не в Зале суда, а на собственном эшафоте, выполненном по спецзаказу модным дизайнером: штучное исполнение.
– Госпожа Обвиняемая! Вы признаны дееспособной и вменяемой!
…соль, соль, соль, сплошная соль! Всю жизнь – одна сплошная соль вместо имбиря и корицы!
«Я – ломаная линия, нанизывающая на себя пестрые слова, тугая леска, колючая проволока! Я – бельевая веревка, приговаривающая шею героини к ежедневному повешению! Идеальная пропорция хромоты и изящества, ужаса и чуда, распущенности и целомудрия – да я только претворяюсь мертвой! Направо пойду – Свободу потеряю. Налево – буквы забуду. Назад оглянусь – сгину».
ОНИ всё смотрят своими сальными: им, конечно, нравится мое тело. Разглядеть кое-что еще ОНИ не в состоянии. Я для них – гей, не раскаявшийся в «дезориентации».
А Черная курица, тем временем, прохаживается по Залу суда, забывая оставить мне волшебное зернышко. Пока я не знаю, смогу ли сбежать. Но только пока.
– Госпожа Обвиняемая! Суд признает вас виновной во всех смертных, а также в грехах средней и легкой тяжести. До конца дней вы будете лишены Свободы, если не измените хода ваших мыслей. До конца дней будете лишены букв, если не отыщите правильного сюжета. Однако у вас есть одно смягчающее обстоятельство: вы еще мыслите и, следовательно, хм, существуете. Суд приговаривает вас к трем годам брака (условно) с тем, чтобы вы выполнили предъявленные требования. В противном случае вас ждет чрезвычайно болезненная кончина и пытки (посмертно). Ваш муж уже ожидает вас: можете проследовать к нему прямо сейчас.
«Курочка, курочка, скажи на ушко, как тут быть, что поделать? Помоги, научи, уж я тебя отблагодарю! В чем провинилась я, что хотят они сгноить меня заживо? Что сделала, чтоб так надо мной измывались? Что совершила, чтоб дали мне ТРИ ГОДА БРАКА УСЛОВНО?! Чернушка, одари зернышком, защити, унеси, спаси! Век не забуду доброты твоей…»
Черная курица расхаживает по Залу суда; ее никто, кроме меня, не видит – не слышит.
– Не хочу-у-у-у-у! – вот он, муж: на пороге.
Суженый, ряженый, свадебкой загаженный… Муж глядит настороженно на моих конвоиров: он еще не знает, нет-нет, не знает, что…
О, чудесный перформанс! Презентация реального совокупления! Всеобщая медитация на коитусе! Народу – тьма-тьмущая: все записались в соглядатаи – как пропустить зрелище? Свадебка-то пышная: в платьице траурном, в костюме женильном, с кандалами золотыми! Как невеста хороша, как свежа, так трогательна! А как трепещет! А как ресницы дрожат! Молодых показывают по всем каналам: «ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! ОТ ХАЛДЕЙСКОГО ИНФОРМБЮРО!..»
Гостей и не сосчитать, скатерок самобранных – то ж, подарков дорогих – страшно сказать! Жених весь в красном, на лице маска с прорезями для глаз. Невеста – в черном, грудь обнажена: клеймо так и «горит». Дамы делают вид, будто отворачиваются, господа любопытствуют, а невесте хоть бы хны: идет себе, глазами сверкая, – того и гляди, взлетит! Среди приглашенных, опять же, пересуды – кто такая да откуда взялась, а она, знай себе, вышагивает! Пониже спины у нее хвост, словно у крысы – так она этим самым хвостом и размахивает, пыль гоняет; а жених-то ее всё к возвышению подталкивает – ближе и ближе, ближе и ближе… И вот уж на ложе кладет, уж на глазах у всех платье срывает: а невеста-то – горбунья морщинистая с грудью обвислой, на левой – клеймо то самое… Жених как отшатнется, а она – в смех: и хохочет так молодо! Он, не дурак будь, за хвост ее, и – голову на пень. Топор занес: лезвие острое на солнце так и блеснуло – хвать! – покатилась голова прямо в корзину: губы только что-то шептали… Народ ахнул – и давай по новой закусывать: не пропадать же добру, вон сколько пирогов напекли. А как закусили, так с неба голос невесты и раздался – слов только не разобрать, крик один. И Курица черная над столом пролетела – шух! – только ее и видели…
А как исчез крик, так и проснулась: смотрю – супружник мой новый по щекам бьет, водой поливает, в чувство приводит. В новую, bla-bla, жызнь, зовет: так и пошла.
Итак, жызнь приобретала «новые краски»: иные. Более-менее тусклые, ведь Суд постановил: а) покаяние; б) степенность; в) замену старой, родной, кожи, на новую, неродную; г) слияние с биомассой.
Суд обещал за это: а) сохранение существования; б) материальные дотации.
Суд не учел одного: их клятвы на Несвященной Книжонке мало трогали меня – так «клясться» могла я ежедневно… Я только выжидала момент, чтобы сбежать. «Вон! Вон, сука!» – я хлестала себя по щекам, болезненно реагируя на детский плач, доносящийся из маленькой спальни: выродки не давали покоя ни днем, ни ночью – все три условных. Лишали последнего: времени, и тогда я уже не подходила к ним. Не брала на руки. Не отзывалась на плач. Иногда, правда, жалость пересиливала – вероятно, это было именно жалостью, но никак не любовью: так бывает.
О, ОНИ убивали меня целенаправленно. ОНИ дали мне всё из того, что я больше всего ненавидела и чего пуще смерти боялась. Расквитались сполна: забрали меня у себя самой. ОНИ отправили меня не только «в дом», но и «на работу». Чтобы я чувствовала себя полноценной женщиной, способной не только к репродукции. ОНИ выписали мне пропуск и начислили жалованье, навязали разговоры о витаминах, корпокультурку и кое-что еще. О, ОНИ не убили меня сразу! ОНИ оказались куда более жесткими, чем я предполагала – то и дело отрезали от меня по малюсенькому кусочку, готовя пикантное лакомство: лакомство из моих кровоточий, приправленных корицей, – я так любила ее в детстве! ОНИ заставляли меня покупать контрацептивы, читать профессиональную литературу и постоянно ходить: куда-то, зачем-то, всегда! Приучили не делать главного.
А еще… еще я никак не могла простить себя, и ОНИ были здесь уже не при чем. Я боялась – оказывается, всю жизнь я просто боялась жить так, как хочу.
– Как ты хочешь жить? – спросила меня однажды Муха, пролетающая мимо: ее прозрачные крылышки сверкали на солнце.
– Не улетай! Пожалуйста! Не улетай, останься со мной! Видишь, Черная курица не смогла помочь. Или не захотела… А, может, я не заслужила? Не заслужила счастья?
– Какого именно? – уточнила Муха. – Смотря что понимать под счастьем.
– Свободу и Любовь. Любовь и Свободу. Я не знаю, что для меня важнее – ведь, когда нет Любви, Свобода болеет; когда нет Свободы – болеет Любовь, – пробормотала я что-то вроде этого.
– Но у тебя есть дети! Ты совсем не любишь их? – удивилась Муха.
– Какие же это дети, Муха! Неужели ты не видишь, что это два трупика?
– Но у тебя же есть муж! Неужели ты совсем не привязана к нему?
– Какой же это муж, Муха! Неужели ты не видишь, что это заводная кукла?
– З-ж-з-ж-з-ж…Но у тебя же есть дело!
– Какое же это «дело», милая Муха? Разве не видишь ты, что всё это – одна сплошная дырка от бублика?
Муха присела на мое плечо:
– Чего ты действительно хочешь? Скажи, не бойся! Я, конечно, не Золотая рыбка, но…
– Я хочу быть собой, Муха, – сказала я, и – слезы, слезы: известный сценарий.
– Это очень легко устроить, – сказала Муха, и посадила меня на прозрачные, сотканные из Семи чудес света, крылышки: о, они отливали всеми цветами радуги!
– Как? Куда? – удивлялась я легкости своего тела. – Куда? Как? – недоумевала, нащупывая за спинкой крылья. – Это на самом деле? Это навсегда? Ты не обманешь? – не верила я.
– А как бы тебе хотелось? – Муха смотрела на меня пристально, словно оценивая.
– Мне бы хотелось.
Я иду по разделительной полосе дороги в направлении церкви: моя земная гостиница рядом. Церковь окружена проститутками – это их место. Они и не подозревают, насколько здесь нет вестей от Бога. Они влюблены в своих сутенеров! Да они только претворяются монашками!
Кто они – эти люди? Я никогда не говорила на их языке. Никогда не могла продеть полено их нитей в свое игольное ушко. И все-таки я вышла. Свобода показалась хрупкой, почти нереальной – особенно в присутствии острокрылой подруги, говорящей на одном со мной языке.
Три года условно… Что это такое по сравнению с обретенной случайно мечтой? Да: я, как будто, свободна. И, кажется, счастлива.
[менеджер моего тела]
Он был так добр ко мне, Менеджер моего тела! Никогда не говорил, что занят или не может. У него всегда находилось время. Он всегда мог. Проблема была, разумеется, во мне.
Что с тобой? – спрашивал он, а я отворачиваясь к стенке. – Перестань читать этот кошмар, – косился он на груду книг с причудливыми названиями.
– Нет, – протестовала я. – Об этом не может быть и речи.
– Но, в таком случае, мы не сможем… – он тяжело вздыхал.
– Да, но что я могу поделать? – вопрос с грохотом разбивался о воздух. Мы подбирали осколки несколько дней подряд, и все начиналось сначала:
– Что с тобой?
После одного из таких разговоров я и обнаружила в шкафу энное количество скелетов – действительно, не сосчитать: униформы «социальных ролей» вызывали дикое раздражение. Я искала хоть что-то, соответствующее моему нынешнему состоянию, но тщетно, а потому курила чересчур много травы: ведь только так удавалось поговорить теперь с Менеджером моего тела. Тогда-то я и вышла на улицу голой: всё когда-нибудь случается в первый раз.
Нельзя сказать, что было холодно – нет, скорее, необычно. Людики почти не обращали на мое тело никакого внимания – только одна старуха замахала руками, но на том всё и кончилось: она выпала из окна на мостовую и разбилась. Тень Хармса склонилась над нею и иронично покачала головой: «Я же предупреждал! Не нужно быть такими любопытными! Каждый имеет право ходить голым – во всяком случае, нигде не написано, что этого нельзя делать!» Мое же тело, перешагнув через мертвую старуху, направилось дальше: туда, где Лето плавило Асфальт, где Зима пускала в глаза замордованному Городу колючую «манку», где Осень танцевала под французский аккордеон, а Весна весело скидывала на общедоступные головы зазевавшихся прохожих сосульки. В общем, без передышки: Вивальди, Чайковский. О времена, о нравы!
Между тем, повсюду валялись старинные платья и камзолы, расшитые драгоценными камнями и золотыми нитями, декольтированные блузы и узкие юбки до пят, пончо и плащи, свадебные наряды, шляпы и причудливые кепи, все мыслимые и немыслимые сарафаны, туники, сари, хитоны, а также костюмы, шубы, дубленки, пальто, купальники, белье кружевное и не кружевное, черное и красное, бежевое и белое, розовое и зеленое, прозрачное и непрозрачное, туфли и туфельки, тапки, кеды, ботинки, сапоги и сапожки, сандалии, гэта, пуанты, валенки и даже котурны… Все это выглядело вполне сносным; многие вещи казались почти новыми, однако носить их мое тело отказывалось. Но хуже всего было, разумеется, то, что мы – я и оно – так и не узнали, чего именно хотим: так, от бессилия что-либо изменить и побросали тряпье в костер. Запахло жареным: точнее, паленой кожей.
Тогда-то, глядя на огонь, дым от которого обволакивал запахи издыхающего прошлого, я и задала вопрос Менеджеру моего тела. Он долго смотрел на него, бережно гладя все выступы и впадины, а потом сказал:
– Ему больше ничего не подойдет. Ты сама выбрала.
– Что? Что не подойдет? – не сразу поняла я.
– Видишь ли… – он замялся. – От нафталина тебя тошнит, но его отсутствие, собственно, здесь не предполагается.
– Значит, мое тело должно разгуливать голым? Или ты предлагаешь и его сжечь?
– Возможно. Ты ведь больше не хочешь играть, а не играть еще рано. Ты находишься в некоей промежуточной области: ни тут, ни там. Тебя вообще как будто нет.
– Что же делать? – перебило Менеджера мое тело, перевернувшись на бок: оно впервые подало голос – голое, на снегу, очень хрупкое, очень живое среди всей этой мертвечины. И мне впервые – впервые! – стало его жаль… Так жаль, что я, чуть было не переместилась в него окончательно!
– Постой, – остановил меня Менеджер моего тела. – Ты не чувствуешь ни тепла, ни холода, ни голода, ни жажды, ни боли, ни страха. Да?
– Да…
– Тебе хорошо?
– Да, но… – я с сожалением смотрела на тело, оставшееся так далеко. – Мне все-таки нужно идти… Мне почему-то так кажется… Возможно, это и глупо.
– Что ж… Не смею задерживать, – он как-то быстро сдался, неприятно усмехнувшись, – а то остынет!
– Это грубо! – во мне что-то съежилось и с криком устремилось вниз.
– Не совсем, – покрутил хвостом Менеджер моего тела перед тем, как исчезнуть.
Так мы остались с телом один на один. И оно сказало мне, мое тело: «Слышь… Не бойся… Твой trip обязательно закончится: срок исправительных работ скоро истекает».
Я хотела спросить, откуда оно это знает, мое тело, но промолчала, ведь оболочка уже умащивала себя благовониями: «А пока – любить! Живо, живо! И не умничай!»
И мы пошли в мир – голые, любить: что оставалось? И нам было немножко грустно от того, что это – в последний раз… Но только совсем немножко.
[распечатанные на принтере мыслеформы, формы и любовники]
Мы с сыном выходим на балкон, чтобы швырнуть вниз петарду: Борька почти визжит, я визжу вместе с ним, на кишащем новогодними людьми асфальте кишат люди, припудренные снегом, и тоже кричат: у сына и людей начинается Новая Эра – Новое Тысячелетие, Третье. Оно обещает Спасителя, Апокалипсис, Город Будущего, регулярные зарплаты и оргазмы. Сын трясет меня за плечо: «Мам, смотри!» Я смотрю, смеюсь, восхищаюсь: у ребенка должен быть праздник.
Мы, все в снежинках, захлопываем дверь балкона и садимся к столу. На столе то, что любит Борька больше всего, а около стола и того, что любит Борька больше всего, – елка, по-настоящему пахнущая лесом. Борька в свои десять с половиной давно просек и про дедов морозов, и про аистов, но игру принимает. В двенадцать, под циничный вой курантов, когда вся страна загадывает желания, мы с сыном чокаемся понарошным шампанским.
– Мам, а ты желание загадала?
Безжалостно врезаю лопатку в жирное сердце торта и киваю: у ребенка должен быть праздник.
Я прихожу домой не раньше девяти; Борька один, но уроки все-таки делает. «Мам, ужинать будем?» – «Все вопросы к Яndexy», – но я не сразу включаю компьютер и все-таки шуршу на кухне. В конце концов, ребенок не должен голодать. В конце концов, он ни в чем не виноват.
Через полчаса без умиления наблюдаю, как он уплетает вчерашний голубец из кулинарии. 21:31, уроки выучил, зубы почистил? К половине одиннадцатого Борька наконец-то успокаивается, а я тупо смотрю в монитор, где логотип для флористической фирмы – очередная халтура – замер в ожидании чуда: движения моего пера по планшету. Кстати, перо еле пашет, а планшет…
Я стараюсь не думать об этом. О том. Пытаюсь задавать вопросы лишь Яndexy – более удобной для меня поисковой системе, нежели «ностальгичный» Rambler: с последним, кстати, связана не самая банальная переписка а-ля хочу любви, однако проблема возникла из-за размеров (…большой) и того, что называется унылым словечком «психогигиена» (…и чистой), поэтому письма в конце концов и исчезли. Впрочем, они остались – нагло распечатанные на принтере, заявляющие о собственной самодостаточности и важности качеством бумаги и хорошим тонером, а также лопнувшим, как мыльный пузырь, содержанием.
Не важно.
Сын спит. Я опрокидываюсь над логотипом. Я должна скинуть его заказчику не позднее завтрашнего утра. До завтрашнего утра несколько часов.
ОНИ ВСЕ говорили: «Тебе нельзя доверять детей – посмотри на себя!» – мне было двадцать пять, я не знала еще и сотой доли того, что напрочь отбивает охоту к, назовем сие так, воспроизведению вида. Но, вопреки закону жанра, «мамочка» из меня вышла неплохая – Борьке, во всяком случае, нравится быть моим сыном.
Я развелась во вторник, ясным морозным утром (не знаю, ей-богу, не знаю, почему они все хотят замуж). Я помню длинные классные разговоры – действительно длинные и классные. Пробки из-под шампанского. Помню, как оставляла Борьку одного. Как входила в игольное ушко. И как забывала выйти. Как невозможно было наговориться, и как не о чем – вдруг – стало… Помню, как лежала с сыном в больнице. Как не ждала чуда. И как случались иногда чудеса.
А потом я распечатала на принтере и тебя. Мы хотели поговорить о языческом начале, но получилось, что снова о языческом конце. Я тогда так устала! Подсела на все эти пустырники-валерианы-пионы-ландыши. Рассыпала по полу много-много тебя. Ты говорил сдержанно, но с какими-то прорывами. Признавался в любви в письменном виде. Это напоминало школьное сочинение.
И вот тут-то мне и захотелось уйти от тебя – того, кого я так легко распечатала. Ты стал малоинтересен. Изучен. Всегда одинаков. Но самое смешное, что тебя действительно оказалось безумно много: инкубатор показался б игрушкой.
Ты стал множественным числом.
Тут-то до меня и дошла одна классная штука – та, что доходит, впрочем, до любой звери, столкнувшейся хоть раз со зверюгой – не в смысле зверя, а в смысле твари, поэтому не буду о ней, не буду. Скажу о другом: логотип вышел отличный. Я получила полагающиеся у.е.: мы с сыном поехали к морю. Он был, разумеется, счастлив – у ребенка должен быть прааааа…
– Зачем я живу, Господи?
– Чтобы славить меня.
– А зачем славить тебя, Господи?
– Затем, что я создал тебя.
– Но зачем ты создал меня, Господи?
– Все вопросы к Яndexy.
Я зашла в Сеть и набрала искомое.
Я улыбалась чему-то, известному лишь мне.
[Одушевлённый Предмет Первой Необходимости]
Живу два раза в неделю по две столовые ложки. Чайные съёжились. На сморщенные климаксом шеи похожи стали. Десертных нет: нет самого десерта. Приходится пользоваться тем, что имеется. Избегать длинных предложений. Говорить с паузами. С точками. И снова: юзать, что есть.
– Эй, ЧТО есть? Э-эй! Э-ге-гей!
Чок-молчок. Ноль целых, ноль десятых. Чтобы жить два раза в неделю по две столовые ложки, нужно, чтобы чайные непременно съежились. Тогда не будет выбора. Тогда исчезнут лишние знаки. Если те, конечно, бывают лишними. Если те, конечно, вообще бывают.
Как-то пошла на рынок. За чем-то Второй необходимости. Потому что Первой никогда не было. Или почти никогда. А на самом-то деле хотелось именно Первой. Что вам еще?…
Так вот. Хожу, значит, между рядами, хожу, прицениваюсь, выспрашиваю: «А сколько этот предмет? А у него необходимость какая? Ах, Вторая? Нет, не нужно!» – «А этот почём? А необходимость какая? Третья?! Что, я так похожа на идиотку?»
В общем, ничего не нравилось мне, да и Первой необходимости опять не оказалось на всем рынке. Я, конечно, приказала себе не расстраиваться, а чтобы занять руки, купила малосольных огурцов, и пошла домой. И только картину эту представила – ну, как сижу на полу да огурцы-то ем – тут и окликнули:
– Стой, Моя Покупательница! – и что-то словно побежало за мной. Но как будто это что-то – подталкивали, как будто оно шло ко мне насильно, против воли. Что ж! Я обернулась и не поверила глазам. Напротив меня стоял он, долгожданный – Одушевленный Предмет Первой Необходимости: долговязый, прозрачный, рыльце в пушку. С его шеи свисал длинный пестрый шарф из тонкой шерсти.
Потрогав Предмет, я улыбнулась. Да, все было именно так, правильно: широкополая шляпа над невидимым лицом, перчатки на невидимых руках, ботинки на невидимых ступнях… Чтобы лишний раз убедиться в том, что Предмет н а с т о я щ и й, я сняла с него перчатку и дотронулась до пальцев. Предмет неуверенно пожал мою руку, а потом достал из нагрудного кармана карточку с кодом: «09-775-НЗ» – заметила я номер.
– Сколько я должна заплатить и почему ты не продавался раньше? Я столько раз хотела тебя!
– Очень нестабильная рыночная ситуация, Моя Покупательница! Но разве стоит говорить об этом? Я хочу поскорее сделать то, что должен сделать. Плати вон тому скорее, и…
Не дослушав, я направилась к толстому ушастому дядьке, у которого покупала похожий предмет в прошлый раз.
– Отменный экземпляр! – сказал он, пересчитывая деньги.
– Сколько продержится? Надеюсь, не как тогда – две недели?
– Побойся чёртушку! В уме ли? Да на нем пахать можно!
– Не для пахоты беру… – сказала я и, подцепив Предмет за невидимый, но реально существующий локоть, пошла жить дальше – а что оставалось делать после того, как меня выродили?
Зайдя в мой дом, Предмет тут же направился в кухню и уселся на пол.
– Ты живешь одна, Моя Покупательница? – грустно спросил он.
– Когда как, – вяло ответила я. – Во всяком случае, мне не бывает одиноко.
– Сколько предметов здесь перебывало? – он задавал слишком много вопросов, но тогда это почему-то не раздражало меня.
– Здесь бывали даже предметные пары! – рассмеялась я. – Но тебя это не должно касаться. Всё, что ты должен делать, это…
– Я знаю, – Мой Предмет опустил невидимую голову. – Я знаю, что это должно произойти, Моя Покупательница! Надеюсь, это случится в момент моего…
– Не бойся, – я дотронулась до плеча Предмета. – Так будет лучше.
Он не спросил кому, но со странною, почти блаженной улыбкой, начавшей проявляться на лице, прошептал аmen.
…Я долго гладила Предмет по голове. Он действительно был одушевленным: у него имелось н у т р о, впрочем, как бы отдельно. И он читал Батая и Брега Эллиса, а не только Мураками с Эко, хотя Мураками с Эко не виноваты в том, что их все знают. «А Батай с Эллисом виноваты в том, что их знают не все?» – спросил он стену, и потихоньку начал испускать дух: ведь чем нежнее гладила я Предмет, тем меньше духа у него оставалось.
Мы сидели так долго-долго – в кухне-пустыне, на полу. Мой Предмет продолжал испускать дух, я же наполнялась жизнью. Лишь одно тревожило – раньше процедура эта не вызывала столько эмоций. Сейчас же ряженые прыгали перед глазами и строили рожи. Показывали языки. Издевались. Я протерла глаза, и ряженые исчезли. Эмоции – топ-топ – ушли. Но не Предмет, по-прежнему испускавший дух. На моих руках. Мне в руки (правая подача!). С моей же легкой руки. А что ему оставалось после того, как его выродили?
Я пыталась забалтывать Предмет, чтобы его не тошнило на пол. Ведь, если вовремя заболтать, не стошнит. Я подумала, что самыми оптимальными будут разговоры о финале, и, начав таким образом с героических финалов бетховенских симфоний, плавно перешла кj Второму закону термодинамики. «Был такой ученый, Клаудис, – сказала я. – Он говорил, будто с течением времени наша Вселенная придет к состоянию с максимумом энтропии, то есть, наступит…» – «Тепловая смерть», – перебил меня мой Предмет, став почти невесомым. Во всяком случае, я не ощущала его прикосновений. «Но другой человек, Больцман, в качестве контраргумента придумал другое», – жарко зашептала я, вбирая в себя всё больше его нутра. «Какой?» – еле слышно спросил Предмет невидимыми губами, и мне на секунду стало его жаль. Я с трудом взяла себя в руки: «Он говорил, будто в этом процессе будут существовать отклонения от основного состояния, флуктуации», – и все же, забалтывая Предмет, мучалась я необычайно. – «А что, если перекинуть Второй закон термодинамики и все его флуктуации на нас? – из последних сил сказал мой Предмет. – Что ты скажешь по поводу отклонений от маршрута?» – «Т-с-с!» – замахала руками я, и выпила из него всё нутро – тихо-тихо.
На цыпочках.
Сквозь игольное ушко прошла.
Наутро тошнило. Я думала, тепловая смерть, завещанная ученым-преученым Клаудисом, – не столь отдаленная штука. Внутри будто поселились тысячи солнц – они-то и жгли, сжигали плоть.
Было чертовски обидно. Ей-ей! Заплатить кучу денег, забалтывать Предмет весь вечер, провести ужасную, кошмарнейшую ночь, чтобы проснуться утром и обнаружить, что новый ливер нутра не прижился? И кому жаловаться? Торговцу? Он имеет несколько сотен предметов в неделю, и не дает никакой гарантии… Ведь только месяц назад я взяла предмет, и что же? Его нутряного ливера хватило на семнадцать дней! Тогда как я рассчитывала минимум на полгода! Конечно, покупая на нутряном рынке предмет, выращенный в искусственных условиях, не получаешь абсолютной гарантии качества – лишь нюх, чутье избавляют от, так скажем, «подводных камней». До последнего момента везло. И вдруг… второй раз подряд т а к о е!
Кусая локти, спустилась я в подвал, волоча за собой бездыханную чурку – то, что еще вчера было Одушевленным Предметом Первой Необходимости, обратилось в мертвого Буратинку, чей нос больно колол мой бок: узкое платье затрещало, бесстыдно выпятив перед деревянной мертвечиной кусок полуживой человечины. Сморщив нос (в подвале пованивали сотни Буратинок, накопившиеся за годы), я доковыляла до ближайшего угла и швырнула Предмет. Оно шлепнулось на трупики бывших в употреблении предметов, больно шлепнулось, как мне показалось, ударилось и затихло. Я не могла объяснить, почему предмету было больно. Да и что я могла объяснить после того, как меня выродили?
– Нет, я не понимаю! – Чего, чего ты не понимаешь? Что тут не понять? Приехала из своего Кукуева, так и молчи! – Я не понимаю, каким образом нутро… – Не грузи. Скоро и это придет в провинцию. Это пока всё кажется нереальным, но здесь, в Адеграде… – В Адеграде и так бешеные цены! А теперь еще и нутро продают! И сколько стоит сменить старый ливер нутра на новый? – Ты не поняла про ливер. И про нутро тоже. Как же вы в своем Фигово живете? – Расскажи. – Понимаешь, у каждой анимы есть свой ливер. Как и у тела. Но ливер анимы особый. – Особый? Ливер анимы? Никогда не слышала… – Да, особый. Потому что в ней есть «центр», «ядро», понимаешь? Оно вечно. А есть еще оболочка – то, в чем это «ядро» содержится. Ну, как драгоценный камень в оправе, скажем. Но оболочка анимы – или нутра, как угодно можно назвать, – изнашивается, в результате чего и начинается распад тела. Чтобы предотвратить его, нужно новое нутро. Нутро души. Ну, что-то вроде пломбы в зуб, хотя зуб и не вечен. – Так ты вот о чем… – А когда у нутра появляется новый ливер, или оболочка, заменяющая старую еще при ее существовании, распада тела не происходит и человек не стареет. Понимаешь? – Не стареет? – Не стареет. – Но, получается… – Да. Получается. Человек, заменяя ливер нутра на новый, может жить в одном теле: ему нет нужды умирать, чтобы выжатая, как лимон, за одну жизньку прежняя оболочка вырядилась в новую. Нет! Теперь, исключительно благодаря имплантантам, реально всё! – Но как же сами… сами имплантанты? – Не грузи, сестрица. Скоро и это придет в провинцию. Это нормально для Адеграда. Ты понимаешь? Нор-маль-но!
Кажется, она все-таки не поверила мне. «Диффузия с душком», – только и сказала почему-то, на что лишь оставалось пожать плечами.
Она приехала в Адеград, потому как в Фигово работка ей не светила. Нормальная работка. Впрочем, нормальная работка не светила ей и в Адеграде, но здесь была я. Скрепя сердце, я кинулась помогать младшей сестрице, смотревшей на меня с восхищенным осуждением – особенно после разговора о том, что еще не дошло до провинции. Через несколько дней после приезда я устроила сестрицу в Муниципальный центр эвтаназии – санитаркой, по великому блату. Эвтаназию делали всем желающим, боявшимся заменить старый ливер нутра на новый (чтобы всегда быть в отличной форме и не менять тело). Сестрице не приходилось делать самой ничего такого, что обожгло бы ее, так скажем, не рожавшую душу. Я обещала сестрице найти место получше – как только, так сразу. В любом случае, она должна была быть довольна – ведь в Фигово она получала раз в пять меньше.
Я же чувствовала себя плохо. То ли ливер последнего Предмета не подошел мне по группе риска, то ли вероятность приживания оболочки души оказалась слишком низкой за счет повышенной чувствительности этого экземпляра… Черт его знает: в любом случае, меня плющило, а еще… я старела. Сестрица смотрела с сожалением и укоризной: «Зачем купила его? Зачем взяла грех на аниму? Думаешь, всё продается?» – «Да, девочка моя, всё продается», – не уступала я, продолжая стареть. – «Если бы в Адеграде не было нутряных рынков, ты бы…» – «Если бы в Адеграде не было нутряных рынков, не было бы Адеграда, а ты получала бы в Фигово ровно столько, сколько стоят в месяц коммунальные платежи за твою халупу» – «Но ведь живут же…» – «Они везде живут. Но ты ведь не хочешь как они?» – «Не хочу», – сестрица плакала, разглядывая мои морщины и уродливые пигментные пятна. Действительно, субстанция нутра Того Предмета – Моего Предмета Первой Необходимости – никак не хотела приживаться. И вот он, результат: еще недавно мне было тридцать, а потом – сразу – гусиные лапки, легкая седина; а потом – сразу – седина, гусиные лапки; кожа, волосы, зубы; бессонница, глаза, мигрень; ноги, шея, спина… В девяносто два, скрюченная колесом, я напоминала хиппующую Бабу Ягиню. Сестрица все плакала и просила меня покаяться, но я не могла каяться; к тому же, б о ж к и у нас были разные.
Продолжая работать в Центре эвтаназии, сестрица тем не менее искренне не понимала, как можно продавать нутро. Наконец, не выдержав, она сказала мне – беззубой, почти оглохшей и ослепшей: «Пойду в подвал. Я знаю, что делать». Могла ли я, карга, ее удержать? Я знала только то, что знала: имплантант не прижился. Один процент из ста: бывает. Ничего удивительного, что это произошло именно со мной. У меня ведь очень больное нутро, очень. А какое оно могло быть после того, как меня выродили?
Я слышала, как скрипнула подвальная дверь и как сестрица споткнулась о полено. И еще. Еще. Я заткнула уши. Мне не хотелось… И еще. «Божок-божок, мне купи пирожок, пойдем мы на лужок…» – вспомнилось вдруг детская считалочка: глупый, глупый, глупый ум!..
Как ни странно, она притащила наружу именно то дерево. Разумеется, мой Буратинка, мой неудачный имплантант, мой Одушевленный Предмет Первой Необходимости, дурно пах. Пах так, что пришлось зажать нос. Это не помогло делу и, пересилив отвращение, я подошла к тому, что продавалось когда-то на нутряном рынке толстым торговцем с оттопыренными ушами.
– Э-эй! – позвала я Предмет. – Э-эй-эй! – он отозвался не сразу: сначала слабым скрипом, потом негромким всхлипом, затем гулким воплем, прорезавшимся из того самого нутра, которое я когда-то из него вынула…
«Привет, старуха!» – «Привет, труп!» – превозмогая отвращение, я подошла к бывшему Предмету совсем близко. Я знала: если отдам ему назад то, что забрала недавно, все будет тип-топ – так, по крайней мере, сказал торговец с нутряного рынка… Но захочет ли это полено снова становиться имплантантом? И как убедить? Как убедить в том, что дерево станет человеком, а не донором для ливера чужих душ?
Пока я думала и дряхлела, моя сестрица уже подошла к полену и обняла его. Кажется, она не замечала вони. Кажется, она не замечала вони. «Что ты делаешь? – крикнула я. – Зачем тебе это?»
Она ответила совершеннейшей пошлостью: «Люблю» – «Кого, сумасшедшая? Это разложившееся дерево?» – «Ты не видишь, – повысила голос сестрица. – Да ты просто ничего не видишь!» – «Черт дери! – заорала я. – Черт дери! Да неужели ты не понимаешь, что это просто о в о щ ь! Биомасса в виде полена, созданная для поддержания бесконечного существования того, что называется «анима»! Есть доноры, а есть тот, кому вливают кровь! Неужели ты не понимаешь, что его нельзя любить?» Сестрица покачала головой и произнесла на полтона ниже: «Это ты не понимаешь. Тебе сто два года, а до тебя так ничего и не дошло» – «Что до меня должно дойти, блаженная? Я знаю: я должна вернуть ему обратно то, что взяла – нутро, но и только. И только! Тогда я сдохну не сразу. Во всяком случае, не сейчас». Сестрица снова покачала головой: «Не только», – и, взвалив на себя тушку, вышла. «А что делать с ними? Что?» – крикнула я вслед, кивая на подвал, где догнивали самые разные Предметы самых разных Необходимостей. «Ничего. Их уже не спасти», – отозвалась сестрица, а я уснула: что еще оставалось больной старухе?
…Проснувшись и подойдя к зеркалу, я удивилась: мне снова было не больше того, чем в день, когда я купила свой последний Одушевленный Предмет Первой Необходимости. Я пила кофе, вспоминая случившееся, как дурной сон; я не могла понять, что же произошло на самом деле, и куда исчезло из памяти то время, которое… «Может, ретроградная амнезия, – думала я, – когда полжизни не помнишь из-за какой-нибудь травмы или потрясения? Но какая у меня была травма? И какое потрясение?» Я ничего не понимала.
Из ступора вывел звонок. Почтальон протянул телеграммку: сестрица приглашала на свадьбу. Я не помнила, был ли у сестрицы кто-то, подходящий на роль потенциального хасбанта. Ехать же из Адеграда в Фигово, куда вернулась сестрица, не выдержав работки в Центре эвтаназии, мне не хотелось, однако повода для отказа я не находила.
…Итак, на сестрице был жесткий белый накрахмаленный халат и красная шелковая косынка. Сама же сестрица выглядела до неприличия счастливой. Несмотря на то, что приглашенных было не много, ни одного лица я так и не разглядела: только костюмы да платья, платья да костюмы, и – какая-то прозрачность везде и во всем, во всем и везде… Ну и дышалось легко очень – такого в Адеграде не бывает, не может быть.
Когда же я посмотрела на жениха, то поняла, что где-то его видела, только вот снова никак не могла вспомнить, где именно. Прозрачный! А между ног – здоровенный лингам из красного дерева.
– Ритуальная имитация? – спросила я.
В тот момент жених сестрицы ударил меня этой самой «ритуальной имитацией» по голове так, что мама не горюй. Сестрица же захлопала в ладоши и, взяв шприц, стала набирать в него что-то, притоптывая: «Это из эвтаназийного центра, милая! Ничего теперь не бойся, кроме сумерек! Один страшый суд в проеме пыльных окровавленных гардин! – напевала она. – Всё будет хо-ро-шо! Аффирмация!»
…И действительно – стало хорошо. Не нужно было больше жить по две столовые ложки в день ни в Адеграде, ни где бы то ни было, и ходить на нутряной рынок к толстому ушастому торговцу за предметами, с которых можно «скачать» оболочку для своей гребаной бессмертной души.
[только число]
Тридцать – только число: всё остальное – внутри.
…Маленькая серебряная ложечка неприлично бьется о стенки граненого стакана. Почему, собственно, неприлично? Для кого? Ложечка молчит, стакан, впрочем, тоже; лишь Тени Моих Мертвых, кружась, восклицают: «Нужно было уже вчера!» Было – не было, какая разница? Забываю до смерти: «Фу» – иероглиф счастья, только не вспомнить вот теперь всех его линий, а потому лучше так: «Фу» – закорючка счастья, «China forever», свинячий хвост тела, которому уготовано возлежать на большом блюде в центре стола. Изо рта трупика завлекательно выглядывает веточка укропа – так у гостей начинается слюноотделение. Я собираю в прозрачный мешок для мусора осколки разговора некоей гинекологини «деликатного возраста» и молоденькой выдрочки с приличным уже пузом, пахнувшей, чур меня, «Лесным ландышем»: «Одна моя беременная…» – начинает гинекологиня, выдрочка кивает, а я плыву себе дальше. Забавно, если совсем скоро к моим – Homo sapiens sapiens! – знаниям, умениям и навыкам – присоединится еще одно достижение, достойное включения в CV как древней дамки, так и любого neanderthalensis в принципе – добывание огня с помощью кресала, кремня и трута (трут я предусмотрительно изготовлю из гриба-трутовика).
Слепки внутренних полостей черепа древних говорят о том, что у так называемых «прогрессивных неандертальцев» произошло увеличение областей коры больших полушарий, намертво связанных с членораздельной речью и мелкой моторикой. Моя речь тоже членораздельна, а мелкая моторика до того хороша, что ею можно похвастаться перед любыми представителями типа Homo erectus[12], и даже перед некоторыми неандертальцами, которые до сути современного antropos не догоняют совсем немного; лишь название подвида – neanderthalensis – указывает на некоторые его отличия от «Человека Разумного Разумного». Борьба за существование, естественный отбор, Труд создал человека… Но Тени Моих Мертвых снова отвлекают меня от самого первого века, до которого изредка еще хочется докопаться, чтобы понять, какого вообще чёрта: «Ваша зажигалка, мадам!» – «…и еще виски с содовой» – «Конечно, мадам, сию минуту, мадам!»
И вот, сию минуту мне кажется, будто я просвечиваюсь, будто вижу саму себя изнутри: о-го-го, да оказывается, во мне – рыбы! Чем не концептуальная идея? Много-много разноцветных рыб с пестрыми хвостами, похожими по окраске на павлиньи! Они задевают мои нервные окончания плавниками, живя-поживая рыбьей своей жизнью, и иногда прислушиваются к шороху – шуррр-шурр! – моего сердца. Между тем я уверена только в том, что лишь однажды человек способен стать донором собственного сердца, и больше – ни в чем. Если, конечно, не считать их: Рыб, тех самых Pisces, в зодиакальном созвездии которых находится знак весеннего равноденствия: день, когда я, сама того не желая (и оттого тоскливо поарывая), явилась – не запылилась. Служить внутривидовому разнообразию?..
Вот сквозь мой аквариум просвечивает длинная, как червь, минога: она всегда на страже, если какой-нибудь antropos – животное, способное от природы к обучению – захочет жареных фактов; минога сама по себе жареный факт; миногу так просто не подцепишь. Вот скат с треугольной мордой, уверенный, как и многие, в том, что степень «высоты» развития интеллекта не зависит от массы мозга; впрочем, у ската есть собственное электричество – это выгодно и удобно, по-своему эргономично – я понимаю ската, когда он бьет кого-то током. Между тем (между чем?), от него уже недалека акула, моя огромная страшная акула, готовая поглотить при случае даже собственный аквариум, но поглощающая вместо этого забавную стайку рыбок-химер – рыбкам-химерам больно, как больно и сельди, и туповатому лососю, и деловитой треске, и извивающемуся угрю… А вот и щука: она ловко уворачивается от моей акулы – да она сама может проглотить многих, разве что не морского черта – ночного кошмарика какой-нибудь педагогини-словесницы, выпускницы вечно неудовлетворенного филфака: жирный сом лениво поворачивает голову в ее сторону, и педагогиня лезет поутру в сонник, а потом долго не может прийти в себя… Сом как будто флегматичен, но на самом деле наблюдает за морским коньком – я видела много таких засушенных «коньков» в детстве, с присохшей к их несчастным скелетикам солью… Я вспарываю консервную банку; она скрежещет, а саркастичная скумбрия, вся в масле, уже косится на рогатенькую рыбку-кузовок: кузовок смущается, спеша укрыться от постороннего взгляда… В этом самом месте мою печень задевают сразу: двоякодышащая рыба, полосатый окунь, бычок с модным воротничком, строгий осётр и плоская камбала, готовящаяся к жарке: я запиваю последнюю темным пивом и слышу на углу какой-то южной улицы, будто через толстое стекло: «Мама, ну что ты понтуешь понты!»
Я понимаю, разумеется, что antropos «разумный», как вроде бы вполне сложившийся биологический вид, относится к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов: см. школьный курс. Я не понимаю, никогда не пойму до конца (уже конец?), что есть квант магнитного потока, исходя из: Фо=h/2e, а если число 2,0678506 умножить на 10 в минус пятнадцатой степени Вб, то… Я вижу, что приматы приспособлены к жизни на деревьях и у них сильно развиты большие полушария головного мозга, подвижные пятипалые конечности, дифференцирована система зубов, а органы слуха, зрения и осязания почти совершенны. Я не вижу существенных различий между некоторыми разумными antropos и антропоидами – даже в силу приспособленности первых к прямохождению.
– Мне бы собрать минимум вещей… хотя бы пару трусов, – плачет Беременная девочка с суицидальными наклонностями, а Думка тем временем пробилась из грязи в князи, да и Указ издала: «Каждый самоубийца должен явиться в Думку за справкой о подоходном налоге за несанкционированное лишение себя жизни». Я наклеила газетную вырезку на Чёрный квадрат; Малевич сказал, что именно это и имел в виду.
– … и когда в югословском отеле категории «А», в шикарном отеле, русский штурман сам солит капусту, – продолжает Благополучная дама, не замечая Малевича, – потому как идет четвертый месяц его непрерывного пребывания в этой стране…
– А капусту-то? Капусту-то зачем? – подает голос Какой-то Местный.
– Ностальгия! Хотя, знаете ли, там было всё, и икра, и рыба дорогая, и фрукты необыкновенные… А однажды я зашла в номер другого штурмана, так, знаете, сразу и не поняла, в чем дело – все в клубах дыма, так накурили, и в пару!
– И что же там было? В номере другого штурмана? – Какой-то Местный снова подает голос.
– А они с приятелем – представляете? – шторы стирали: всё уже перепробовали; только бы чем-то заняться… И вот, среди этого дыма, слышу, как говорят: «И дышится легче. По-домашнему». Знаете, четвертый месяц в другой стране самый кризисный, что ли…
– А шестой? – сжимает кулачки Беременная девочка.
– Что – «шестой»? – не понимает Благополучная дама.
– А на шестом месяце как насчет кризисов? – Беременная девочка смотрит на Благополучную даму в упор; Благополучная дама пожимает плечами и проговаривается глазами, что ни о чем подобном не слыхала.
Беременная девочка тем (этим?) временем заходит в вагон метро и, присаживаясь на свободное место, наблюдает; от этого самого наблюдения Посторонний испытывает некоторую неловкость, хотя сам не из робкого десятка (двадцатка?). Посторонний, пожалуй, ощущает дискомфорт, возникающий лишь в лифте: зачем чужое дыхание смешивается с его собственным, он не знает. Но неловкость из-за Беременной девочки – иного толка (бестолку?). Посторонний замечает, как Беременная девочка замечает, что он, Посторонний, снова начал читать «левую» страницу книги, хотя минуту назад уже перешел на «правую» – да он попался, как мальчишка, смутившись от того, что его так (как?) неожиданно раскусили… Но что, в сущности, Постороннему в какой-то посторонней беременной – Беременной девочке, подглядывающей за ним? Ведь он-то вернулся на предыдущую страницу «Просвечивающих предметов» лишь затем, чтобы поаплодировать фразе «Готовить к печати чужие книги – значит губить свой собственный мозг»[13]. Да, пожалуй: он, исполнительный директор крупного ИД, совершенно согласен с автором: «Привет, персонаж!» – «Здравствуйте, Владимир Владимирович!» – и здесь н е с л ы ш и т…
Беременная девочка громко хлопает в ладоши и смеется: «Лучше пойдемте ко мне пить чай!» – «?..» – Посторонний сдвигает на бок очки; ему лет сорок пять, лысина под шляпой не видна. – «Чай, чай! The tea!» – «Tea?» – «Хватит читать книжки! Пойдемте ко мне, у меня на самом деле есть чай!» – Беременная девочка трясет исполнительного директора крупного ИД за руку; «Просвечивающие предметы» падают на грязный пол и разбиваются вдребезги. «Пошли!» – соглашается Уже-Не-Посторонний и, забывая поднять один роман с пола, берет второй за локоток: «Сколько тебе?» – спрашивает Уже-Не-Посторонний Беременную девочку, когда они выходят на улицу. – «Шестнадцать. Через месяц» – «А живешь где?» – «В общежитии; домой не вернусь, лучше уд…» – Уже-Не-Посторонний прикрывает ей рот ладонью. Через час, оставив паспорт на общежитской вахте, Уже-Не-Посторонний проходит в комнату Беременной девочки.
Пьют чай. Девочка становится на шар и сходит вместе с атлетом на картину. Я снова долго рассматриваю «Девочку на шаре»: я знаю, когда-то, давным-давно, в тетради по внеклассному чтению, она записала: «Вблизи Ленинграда была маленькая деревня. Там жили мать и дочь. Муж этой матери погиб на фронте. Когда кончилась война, то вся деревня была разрушена, и они вернулись в город. В Ленинград. Там они приехали в одну неказистую на вид квартиру… Всю книгу я пересказывать не буду, она большая».
Я не могу находиться в музее больше двух часов; все два сижу перед «Девочкой на шаре», а потом выбегаю из зала на воздух: Волхонка – как всегда, всё как всегда, а в сумке вот – не как всегда – буковки Натали Саррот. Неискушенному кажется, будто сию минуту они разобьются, развалятся, распадутся… Не тут-то было! Мадам легко ловит его, слово – каждое по-отдельности, и зажатое в горсти вместе с остальными…
Иногда в и д и ш ь: жизнь – просто черная дыра с болтающемся на веревочке кусочком сахара. «Вот так мы и держим друг друга за волосы над болотом», – говорит мне тот, кто должен сказать именно эту фразу именно в эту минуту. «Я знаю, – говорю я. – Зна-you…»
И тут начинается самое интересное, потому как с этого самого момента все в некотором смысле (бессмысленно?) переворачивается вверх тормашками, становится с ног на голову, на которой, как известно, долго не простоишь. «Давай поиграем!» – предлагает Персонаж. «Давай!» – говорю я, еще не зная правил. Персонаж сажает меня на плечи: «Я знал одной лишь думы власть, Одну – но пламенную страсть: Она, как червь во мне жила, Изгрызла душу и сожгла…» Он цитирует это, а я – то: «На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус»: так мы и летели, и Лермонтов был с нами, а потом Демон сказал мне, опуская как-то чересчур бережно, на землю: «Смотри!» – «Куда?» – не сразу поняла я. – «Смотри», – властно повторил Демон и, встав сзади, крепко сжал плечи.
Я не сразу заметила серый забор с протянутой по верху колючей проволокой: забор представал моему взору – предстал во всем своем уродливом великолепии – не сразу; как будто кто-то мокрой тряпкой протирал запотевшее стекло… Я с интересом наблюдала за происходящим и спрашивала Демона: «Это кино?» – «Да, – отвечал Демон; он был очень красив, очень! – Живое кино, живые немцы». Прищурясь, я увидела – сначала размыто, а потом очень отчетливо – каких-то людей. Один из них был в военной форме – он говорил что-то стоящему рядом юноше. В глазах последнего читались одновременно и боль, и страх, и отчаяние, и тоска, и любовь, и жалость, и раскаяние, и тщета, и обида. Они прыгали друг по другу, как блохи, отталкиваясь от загадочной, никому не ведомой, бесконечности. У забора же стояли две женщины: одна – лет пятидесяти, сухопарая, с высоким пучком начинающих седеть черных волос, очень похожая на мечущегося мальчика, другая – девушка с тугой темной косой, перекинутой через плечо.
«Что происходит?» – спросила я Демона, потому как не слышала ни звука: дозволялось только смотреть. – «Он предлагает ему стандартный выбор: из двух женщин в живых должна остаться одна – мать или, скажем так, невеста. Не правда ли, интересно?» Я тупо смотрела в ошалевшие глаза паренька. «Чудовищно!» – хотела крикнуть я, но вместо этого лишь повернулась к Демону, крепко держащего меня за плечи, и прокусила до крови губу. «Пожалуй, да… – произнес после небольшой паузы Демон. – Чудовищно. Но у него, тем не менее, есть свобода. Свобода выбора» – «Да из этого нельзя выбрать! Это не та свобода!» – я снова не смогла сказать ничего из того, что хотела, и лишь смотрела на Демона глазами, полными злых слез. «Гляди-ка, – он снова повернул мою голову к экрану. – Все-таки он оставил в живых мать! Эдипчик…»
Я вижу, как девушка с тугой темной косой падает замертво, как тонкая струйка темной крови вытекает у нее изо рта; вижу, как мать и сын кидаются друг к другу, но уже через секунду склоняются над телом убитой…
«И все-таки сначала он кинулся не к любимой, а к мамаше…» – заметил Демон, очень больно сдавивший мне плечи. Я молчала; серый пейзаж, человек с винтовкой, мертвая невеста, материализованный Эдипов комплекс – всё исчезло. «Зачем ты показываешь мне это?» – спросила я Демона, но вместо ответа снова увидела унылый серый цвет – сначала мутный, а потом будто с наведенной резкостью. «Смотри: все снова живы. Второй дубль. Никого не убили. Еще одна попытка свободы. Свободы выбора. Кто же на сей раз?» – Демон больно сжимает мою грудь; я не в силах скинуть его руки.
Передо мной снова жутковатый квартет: человек в военной форме, молодой человек с бешеными глазами, его мать и девушка. Парень орет; человек в форме не обращает внимания – он просто выполняет свою работу, зная, что одна из двух женщин непременно будет убита. Парень рыдает – свобода выбора дается ему тяжело. Вскоре мать падает замертво; несколько пуль всаживаются в еще теплый живот «на всякий случай». Мальчик в ужасе отшатывается от убитой; он кричит, кричит и девушка…
«Зачем ты показываешь мне это?» – я снова беззвучно спрашиваю Демона, гладящего мой живот. «Свобода выбора! – так же беззвучно отвечает Демон; собственно, слова ни к чему. – Теперь ты понимаешь, насколько она случайна? В первый раз он выбрал мамашу, во второй – девицу… Он не последователен, он мечется, он на самом деле не знает, чего хочет! Он не должен жить», – говорит Демон, убивая юнца, над которым тут же склоняются любившие его дамы. «А кто? Кто должен жить? – спрашиваю срывающимся голосом: я стою перед Демоном совершенно голая, я полностью в его власти. – Те, кто всегда правы и уверены? Не будь таким узколобым…»
Демон накрывает меня своей тенью: черт, а ведь я никогда не испытывала ничего лучше; на какое-то время свобода воли представляется мне лишь пустым звуком.
«Я люблю тебя, – говорит Демон. – Я очень люблю тебя».
Просыпаюсь.
Гуттенберг, изобретая в пятнадцатом веке книгопечатание, не знал, сколько всего стерпит после его смерти бумага. Эй, Гуттенберг! И он не слышит…
Когда-нибудь я высплюсь. Когда-нибудь. Не в этой жизни.
«А что, бывает та?» – «Бывает» – «Это точно? Это разве доказано наукой?» – «Точно. Но не доказано» – «Так откуда же?…»
Я усмехаюсь, залезая на верблюда; никто не понимает, откуда у меня небо в алмазах: «Верблюд на горбе принес!» – улетает сорока, виляя хвостом. А у меня есть ключи ото всех их (почему нельзя «ихних»? – ноет, как всегда, Bradipus, неправильно расставляющий ударения в общедоступных словах) «фортификаций». Если группу Antropomorpha[14] составляют такие роды как Homo, Simia и Bradipus[15], то большинство объектов особей принадлежит Simia. Если отряд Primates, объединяющий человека, обезьян и полуобезьян, рассматривать с максимальной дотошностью, то и здесь можно заметить полуобезьяньи приоритеты. Если род Человека включает два вида – Homo Sapiens и Homo Silvestris[16], то…
Они все каким-то образом проходят этапы прямохождения и уменьшения челюстей; у них даже развиваются некоторые представления и речь! Они слушают звуки, надевают на голову пакеты, передавая друг другу букеты ЗППП[17]. Они ходят в офисы – отутюженные, выбритые, проглаженные; они смотрят на экраны – рассчитывают, анализируют, синтезируют, интегрируют. Они, бритые, пьют в кабаках; на них кожаные куртки, в их тарелках fish и все, что нужно под водочку; в их карманах купюры и что надо стволы. Они еще помнят буквы – они покупают «желтуху».
ОНИ: неплохо сохранившиеся питекантропы, переходная форма между Simia и Homo, – немалая часть живой природы, именуемая «социумом». У них нет хвоста и седалищных мозолей. Их тело уже не покрыто редкой шерстью без подшерстка, как было когда-то, а мимика напоминает мимику Homo. У них четыре группы крови и тоже 46, а не 48, хромосом. Большие пальцы рук хорошо развиты: в связи с настоящим образом жизни, кисти верхних конечностей завуалированно крюкообразны, тип стопы – хватательный. Говорят, будто Homo отличается от них, в основном, поведением и образом жизни.
«Что-что? – переспрашивает Верблюд, а рыбы, живущие внутри меня, волнуются: пестрые их хвосты колышутся». – «Мне нужен последний клад», – говорю я ему, с трудом вытаскивая из себя аквариум и разбивая его о землю.
Верблюд смотрит в упор: его морда удивительно флегматична. Рыбы – много-много самых разных рыб – остаются на горячем песке.
Оазис влажен.
Темно.
Горячо.
Всё – на ощупь.
Еще горячее!..
Волна за волной, волна за волной: так вскрываются старые раны.
– Что такое совесть? – спрашивает вдруг Верблюд.
– Это такое русское блюдо с горчицей, хреном и уксусом, подающееся обычно после водки.
– Ха-ха! – смеется верблюд. – Ха-ха!
– Что ты хочешь сказать? – спрашиваю я, и тоже смеюсь, предугадывая ответ.
– Только то, что ты хочешь услышать! – ржет Верблюд, а я удивляюсь: я понимаю его, верблюжий, язык.
Мы едем дальше. Хочется пить. Оазис – мираж. Оазис существует.
Когда-то я мечтала нашептать суше о молчаливых рыбах: их немота завораживает – или, быть может, только antropos их не слышит? Я видела живую рыбу, брошенную в раскаленную железную посудину… Я хотела крикнуть, что Рыбы – надкласс водных позвоночных с непостоянной температурой тела. Что дышат жабрами. Что у многих есть плавательный пузырь. Еще я бы сказала, что рыбы легко рулят по водам благодаря плавникам, изгибаясь волнообразно. Предположила бы, что размер рыб напоминает диапазон певицы, берущей как «ре» малой октавы, так и «ля» третьей: от сантиметра, как какой-нибудь филиппинский бычок, до двадцати метров, как гигантская акула. Ихтиологи отдают им свои мозги, нашептала бы я, хотя на самом деле хотела написать совсем не об этом, и даже не о множестве разноцветных рыб, живущих внутри меня.
«Почему?» – спросит кто-то, а я отвечу, улыбаясь одними ресницами (и пусть только попробуют сказать, что ресницы не улыбаются!): «Тридцать – только число; всё остальное – внутри».
[Римма, Марина, Маргарита]
Вещи наступают, вещи надвигаются, вещи вот-вот оживут, но Летка не хочет, и потому складывает их так, словно не желает касаться – того и этого, да, и вон того тоже – никогда больше: больше – не значит меньше, хо-хо, испугали ежа голопопышем, ну-ка, колись! Коробки и коробочки, коробушки-коробушечки, живчики душеголые! Почто так много, что проку во всем «добре», когда от него – зло одно? Того и гляди, надорвёшься – А ты того: не гляди-и-и!
Летка не думает, Летка пакуется: думать, к тому же, нечем – труд, м-м, освобождает, упраздняя не только «скверну», но – оптом – и «лучшие чувства». Топ-топ! – вот они и выходят гуськом из тела, одно за одним, топ-топ: бежевое смущение, сиреневое желание, пурпурная радость… Апельсиновый смех, разбивающийся об изумрудный замок её нежно-розового рта, отбрасывает тайники слов, тщетно целящие свои стрелы в атласное сердце запретного плода, к рогатой матке: ух, как от них горячо-то! Ни стыда у словечек ни совести: Летка вздрагивает, Летка прижимает колени к животу и лежит, скрюченная, на разбросанных по полу вешалках: лежит до тех пор, пока рогатая матка не вбирает в себя всё тайное и чуть-чуть букв сверх того, на посошок.
Когда-нибудь, Летка знает, она родит новую азбуку.
А вот чего не знает, так это к чему теперь все джинсы и сабо, пончо и размахайки, галстуки, ремешки и вон те, на столе, подтяжки – что нынче подтягивать? Нет ни костей, ни кожи: то, что передвигается по разноцветным квадратам пола, – хрупкая мыслеформа, только-то: дотронься – и воздух погладишь (ну-ну, перестань): за него и держись! Коли вокруг – лишь воздух, коли сама ты – воздух, выходов наперечёт: дерни, впрочем, за ту верёвочку…
Летка дёргает: веревочка обрывается – сказка скоро не сказывается, дело же, знай, спорится. Тонкое тело перелетает из кухни в комнату, касаясь тонких трубочек, вживлённых в материю – сюда и туда – чувствуя, как смешивается с кровью Летки бледная жидкость: так бы и выдернуть, так бы и растоптать! Летка открывает глаза: все чаще ей кажется, что так было всегда, а эдак – никогда не было, что, в общем, неправда, ведь то и дело Летка натыкается на капканы Эль-Эль или еще чьи-нибудь: капканы Эль-Эль, сколь те не выбрасывай, оживают в самых разных местах – только в сливном бачке их нет!
Бокалы маленькие и большие, пепельницы стеклянные и деревянные, шторы плотные и прозрачные, вина испанские и аргентинские, щипчики такие и сякие, ну и совсем уж по-жэ: пузырьки, флакончики, бусины, кастаньеты – все кружится, все танцует, все, кажется, вылетит прямо сейчас в трубу: там, знает Летка, живет ее трубочист-хранитель, любитель отлынивать от работы, а потому приходится напоминать о себе: даже в жару Летка подкидывает дрова в камин.
Ночью она выпаривает расклады – рецепт, в сущности, прост: взять ящик с памятью, сложить туда ахи-охи, колечки, ленточки, а чтоб не смердили, залить гашеной известью да нажать на Delete. Все под рукой, как ни крути у виска, – и ящик с памятью, и ленточки, и колечки с бумажками – нет лишь гашеной извести, а значит, на Delete не нажмешь. Тогда-то руки и опускаются – тогда-то и разбивает Летка стеклянным буковкам стеклянные их мозги: трупики старых азбучек катятся по паркету, тут-то не проведешь: Летка не верит словам, согнутым в предложения – ей-то его не сделали: дым-дым, я не вор, дым-дым, я масла не ем – Delete, ну и вонища!
Летка гадает, как дальше – гадает триста лет и три года, а на триста четвертый выходит из дому: пора купить рыбину, пора съесть что-то! Над домом болтается солнце – кажется, его плохо прибили к небу: держится впрямь на липочках, вот-вот убьется! Летка подглядывает: вот сейчас оно касается водосточной трубы, вот, перетекая вниз, отражается в луже, а вот, превращаясь в золотой дым, отправляет смущенных зайцев гулять по ее спящей груди.
Летка спит и видит: грудь по-прежнему умещается в ладонях Эль-Эль.
Летка спит и видит Эль-Эль – никто, кроме Эль-Эль, не рисует на ее груди буквы из радуги – никто, кроме Эль-Эль, не может этого сделать, и потому Летка берет радугу в руки и, выгнув между домами, танцует: красный! оранжевый! желтый! зеленый! голубой! синий! фиолетовый!.. Охотник убивает фазана: сон, как всегда, дезертирует: радуга разбивается, солнечные зайцы отправляются восвояси, Эль-Эль дезертирует подобно сну, вместо рыбины в пальчиках Летки липкая пахлава – сладкая липкая пахлава, переливающаяся на солнце за пять медных монет – а-ам! Мед, орехи, слоеное тесто – не сдохнуть бы в «сейчас и сейчас».
Гнутая, как ручка зонтика, Шапоклячка жмется к прилавку – Летка пропускает ее вперед; та приценивается и тут же отскакивает. Летка думает, как предложить Шапоклячке сахарное чудо, не обидев, и потому спрашивает, часто ли она покупает здесь сладости. «У-гунь-гунь!» – свистит Шапоклячка: нижних зубов нет как нет, белый порошок пудры осыпается со сморщенной кожицы – коснешься и, кажется, тут же проткнешь: главное увернуться – чистый неразбавленный гной. «У-гунь-гунь!» – Шапоклячка заглядывает Летке в зрачки, Шапоклячка пыхтит: «Этому гаду покупает, чтоб заткнулся, этому гаду покупает! Ты замуж-жэм?..» – Шапоклячка не ждет ответа, Шапоклячка пыхтит: «У-гунь-гунь, и не вздумай ходить, у-гунь-гунь! А сходила да заговнился – бросай к свиньям! К старости еще больше портятся…» – рот Шапоклячки, вымазанный кровавой помадкой, живет сам по себе – прыгает по жилистой шее, забирается на впалые щеки, перелетает на разлинованный морщинами лоб, кувыркается на бесцветных бровях-нитках… Летка не хочет смотреть, но здесь и сейчас ничегошеньки, – у Шапоклячки ни рук ни ног, одни лишь усатые губы шамкают да причмокивают, вот же вонища! «На всякий роток не накинешь платок, – раздвигает лес Шапоклячка, – на всякое хлебало не накинешь покрывало!». Летка отходит, Летка хочет кануть сама в себя и лежать там, на дне двурогой, до скончания времен: когда-нибудь же и время скончается?.. Но его похороны – иллюзия, а рот Шапоклячки – реальность, данная Летке в ощущениях, там и сям, ухохотаться, да, там и сям: еще чуть – и точно сожрет! «Ты это… – рот Шапоклячки сбавляет вдруг обороты. – Замуж-то не ходи! Живи одна!» – Летка останавливается, чтобы перевести дух: вот если б можно было остановить сердце! Вот если б можно было выкинуть из головы всех-всех, даже Эль-Эль! «Куколка-куколка поначалу, а потом – блять да блять! – Шапоклячка трясет над головой пакетиком с пахлавой. – Я водкой его ж ему по башке съездила: дверку приперла потом, чтоб не прибил-то… Говно, говно жизнь… Чем дальше, тем и говнистей: живи одна!»
Летка одна, Летке жарко – коробки и коробочки обступают, а в это время: меняется состав правительства, белые ленточки и розовые треугольники появляются на людях и зверях, температура оправдательных приговоров замирает на нуле, в скверах и парках появляются палатки, автозаки декорируют оставшееся в живых пространство – большой город рвется на части, рвется на части и Летка, даже там: проктозан – однородная мазь желтого цвета для ректального и наружного – отпускается без рецепта и имеет в составе лидокаин.
Она болтается в воздушном шаре: кругом никого, да и откуда б этим другим тут взяться? В воздушном шаре, да, это ни хорошо ни плохо, у каждого ведь – свой. Как найти сообщающиеся шары? Как удалить вакуум кнопкой Delete?
Летка не знает, когда она выйдет из шара и возможен ли выход в принципе. «Что ты продаешь?» – спрашивает её маленький трубочист. «Я – пластиковую тару», – она пожимает плечами. «А я – небесные фонари», – отвечает трубочист, но Летка больше не верит: всё, что ей нужно, – покинуть шар: тот и этот.
Конденсат чувств есть капли желаний на поверхности обесточенного смирения: ничего, кроме игры, в общем, не остается. «Играй, чтоб кишки не разорвало. Играй временем и огнем – играй в храмах, где плотность времени выше, потому что любви там больше», – трубочист смахивает золу с сердца Летки в маленький черный ящик: Летка думает, не сыграть ли в него.
Сегодня она – Римма: парик ярко-рыжий, клоунские полосатые гольфы. Завтра – Марина: парик почти черный, изящные алые босоножки, ремешок врезается в тонкую щиколотку. Послезавтра – Маргарита: парик пепельный, маленькие очки без стёкол. Каждый день можно играть в ку-кукол, думает Летка, каждый трубочистов день: сырьё, топливо для чьей-то лю-лю, никогда не своей, да вот она кто! Чёрт, чё-ёрт… «Красота сияния бриллианта зависит от преломления света и его разложения на спектральные составляющие», – читает по слогам Римма поваренную книгу душонок. «Сияние нашего бриллианта зависит от преломления света?» – пожимает плечами Марина. «По Договору рисков, один камень на сердце спаривается с другим камнем на другом сердце, – качает головой Маргарита. – Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора: это могут быть гражданские волнения, забастовки, военные действия, акты госорганов, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожар, другие бедствия…» – она умолкает, и Летка понимает, что хочет избавиться от договора: Летке не нужна подстраховка. К чему три чучела, если есть целых четыре времени? «Не красота – доброта спасет мир, – говорит она Римме, Марине и Маргарите: серые глаза Риммы смеются, чёрные глаза Марины сомневаются, синие глаза Маргариты грустят. – Но в том-то и дело, что доброта и есть красота, они близне…» – чучела Риммы, Марины и Маргариты не дают ей договорить: взявшись за руки и окружив Летку, они начинают водить хоровод. У Летки отрывается голова и летит: Римма пахнет землёй, Марина – водой, Маргарита – огнём: как же не хватает воздуха, как больно дышать! «Но если ты сама и есть воздух, если сама ты – свой собственный, у себя украденный, воздух…» – эхо трубочиста настигает Летку, эхо трубочиста поднимает её над кругом, эхо подаёт ей метлу… олэй, не зря смеялась кривде в зрачки! Пока-пока, love’ушки для слов, пишите другим теперь!..
Тело метлы упруго – зачем «плечо» или «стена», когда есть она, думает Лета, и позволяет себе это: точку опоры. Наконец-то можно кануть саму в себя! Новые смыслы не имеют ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Так буковка «к» поскальзывается и, ломаясь, оставляет в улыбке времени фиксу между «а» и «т». Так тысячи азбук, взорвавшие угольки сердца, заставляют его биться: тук-тук, Лета, тук-тук! Нет никакого забвения, нет никаких вод, кроме околоплодных – роды нового алфавита почти безболезненны: если где и кровит, то, скорей, по привычке. Если где и свербит, то лишь потому, что из буфера обмена не сразу исчезает кусок старого текста.
[привет от Норштейна]
А что ж с нами станет? – Мы тоже можем пролететь.
– Как птицы? – Ага.
– А куда? – К югу, – сказал Ёжик[18].
А вы поживите с фамилией Ёжиков! Он и жил. Развёлся же, кроме шуток русских, первого апреля: благоверная, нацепившая спешно девичью, фыркнула: «А ты Ёжиковым жил – Ёжиковым помрёшь: не трать на меня время». Прозвучало сие как жил дрожал – умирал дрожал, но Козловская не читала: писала дам$tory, и иже с её издателем.
Позже, услышав от какой-нибудь проходящей – транзитец – фейки сакраментальную фразу, касающуюся исключительно его, как выражаются нынешние манагеры, тайм-простигосподи-менеджмента, попыток удержать нежнокрылую боле не делал: «Когда меня бросали, я сочинял вальс» – запомнил Ёжиков подслушанное в «Прощальном послании»[19] признание, и всерьёз задумался, что делать, коли ты не Шопен, а тебя всё равно бросают.
Или, скорее, так: что делать, если даже Шопена бросали.
И вообще.
Ответов на «и вообще» существовало, конечно, несколько, но ни один из них персонажа нашего не устраивал – более того, в ответах этих чувствовался какой-то подвох, а потому Ёжиков ждал прихода. Ментальная клизма, вычистившая б весь мусор из вумной его головушки, пришлась, верно, кстати – оставалось лишь запеленговать ту, но это было сложнее, и потому такие отходы, как, скажем, впечатанный в серое вещество Ёжикова запах духов да хоть той же Т., всё ещё вызывал ускоренное сердцебиение – ну и так далее. Впрочем, в запахе ль одном дело? «Пока доберёшься до этих ваших энтузиастоф[20], – морщилась Т., – умрёшь в пробке!» – «Да я сам, сам приеду!» – сопел Ёжиков, но получал отворот-поворот: «Ма-па на флэте…». Столичная география, равно как и заплёванный проловскими отпрысками ёжиковский подъезд, к проявлению тонких чувств со стороны эксцентричной особы, ряженой в девочку, не располагали – так и расстались. И вот тогда проклятый русский вопросец, заданный Времени и Пространству г-ном Ч., замаячил пред Ёжиковым с такой превеликой силой, что пару недель персонаж наш, будем честны, пил беспробудно, – но только пару недель.
Чего не делать, дабы не стать бедным и больным, он, в общем, знал, и всё же главный дольчевитный рецепт был Ёжикову неведом, а потому за богатого и здорового сойти всяко не выходило, – и уж тем паче стать таковым. Причина, возможно, и впрямь имелась – как-то во сне углядел он возмутительной красоты воздушную змейку, после чего тронулся тихонько головой: что тот Степан от ящерки[21] – спит и видит шальную, видит – и спит будто… Так всё лето. Потом вроде успокоился, ан ненадолго: начал змеев скупать – и ну по имени: Машенька, Варя, Верочка… «Всё почему? – объяснял Ёжиков, приняв сто пятьдесят, а потом столько же, катафальщику: с ним в институтскую бытность разработали они, сказывают, тот самый скафандр, под которым и ныне прячут свои головушки, забыв о списанных – в утиль-с – изобретателях, космолюди в космо– своём пространстве. – Ласковые они, живы-ые!..» – тут и сказке конец.
Всё чаще казалось Ёжикову, что прямоходящие – как мясные (он называл их плотными), словно бы нарочито выпуклые, со всей их сутулой лексичкой, так и бесплотные тени-призраки, полулетающие по улицам и иногда (он видел) даже проходящие сквозь него, Ёжикова, как сквозь стену, – живы как бы условно. Будто «по умолчанию» дана им лишь кожано-костяная решётка да «двуспиральный» инстинкт выживания-размножения; что же до остального, – а именно остальное стало для Ёжикова с определённого момента единственно важным, – то его-то в программке[22] их не было. Тайное знание не столь уже раздражало, сколь расстраивало, и потому-то персонаж наш, всё больше запутываясь в том, что называют учёныя мужчики «бытием», всё чаще сворачивался: «Глупо показываться – сожрут!» – вздохнул однажды, не выдержав. «Могут», – подтвердил из точки сингулярности покойный профессор М-кий: от него-то лет двадцать назад Ёжиков и услышал, будто Е не равно mc² просто в силу того, что в формуле отсутствует духовная составляющая… Олэй! Тогда же М-кий завёл разговор и о символике франкмасонской винтовой лестницы, и об иллюминатах, и о пресловутом карцере из пяти, – а хотелось шестого: всегда, всю жизнь и ещё пять минут – чувств… Задержись профессор в трёхмерке чуть дольше, глядишь, судьба нашего персонажа и сложилась б иначе – но увы: сердце, как пишут профессиональные писатели, «не выдержало» – в общем, оборот легко превратился бы в пошлость, кабы не стал былью… Ёжиков, кстати, плакал.
«Лестница – дезоксирибонуклеинка многонитевая: в ней – ключ контроля. Над нами, над кем!.. От трех до пяти процентов известного человеческого генома в изученных ДНК-кодах? Не смешите. Миром правят рептилии, Ёжиков! Чтоб вы знали. Ил-лю-ми-на-ты. Режим выживания – единственный оставленный двуногим крючок. Своего рода красная кнопка. Все мы обрезанные: было двенадцать[23] спиралей – теперь вот две. Пожинаем плоды!.. У некоторых – вот как у нас с вами, хотя, у вас-то третья едва проявлена, – три: и не спорьте, не спорьте – я вижу… Услышьте, Ёжиков: есть кое-что ещё… Кое-что, о чём вы не имеете никакого понятия. Да не смотрите так! Вы можете изменить ход мыслей, а значит, пространство… пространство вокруг себя, всю жизнь, всю-ю, чёрт дери! Вы понимаете, что это значит? Ну да, вам разговор этот странным кажется… И даже больше, чем странным, так ведь? Вы с другими вопросами шли… Но есть вещи более важные, нежели летательные аппараты… Вы, Ёжиков, ведь в курсе, что у зверя и человека инструкции основные жизненные на одном языке писаны, шифром одним и тем же?.. И у двуногого, и у бактерии – A-G-C-T… И к бабке не ходи. Их – и только! – расположение суть нашей формы определяет, а потому нет преимущества человека перед скотом, нет и быть не может… дважды два: аденин, гуанин, цитозин, тимин… вы ещё что-то знаете? Я – нет… Язык Матрицы… Я в своем уме, Ёжиков, и потому скажу больше. Чуть больше, чем может воспринять сейчас ваш мозг: иллюминаты обращаются напрямую к рептильному мозгу. Вашему. Моему. Чьему угодно. Что такое мозг рептилии, помните? Средоточие страха. Агрессии – и страха. Точка. Точка манипуляци-ий! Вы бояться-то перестаньте… Ничего не бойтесь, Ёжиков, ничего! Даже тумана. Самое худшее уже свершилось – мы с вами на шарике… Вспомните старика Чжуан-цзы: “Рождение человека – это его горе”».
Нет-нет, не то чтоб Ёжиков оказался совсем не подкован: нет-нет, – и всё же пресловутый экзистенциальный неврозец был вызван тогда, в прошлом, страшно сказать, веке, в том числе и беседами с профессором. Впрочем, едва ли Ёжиков согласился бы променять их на нечто иное – его бытие (ага, словечко) в абсолютном мире чистого, что сестринский спирт, абсурда стало б тогда вконец невыносимым, и даже позиция ЯБ-ЮМ – та самая, положение которой «обязывало» Ёжикова сидеть, скрестив ноги, а её, волоокую лань, обнимать его спину ножками, дабы соединить, наконец, чакры, – не спасла б. Однако именно она, Наталинька-Наталинка, отправляла Ёжикова на парашюте воображения – по нёбу: touch your alveoluses! – в то самое небо, до которого, казалось, рукой подать, ан дотянуться не получалось. «За рамками измерений и вибраций… – убаюкивал Наталинькин голос. – Обойдём гору Кайлас по часовой, очистим карму…» – драила карму она, впрочем, уже без Ёжикова: «Я видела сон: мне пора, ты не должен печалиться», – но Ёжиков печалился, потому как многие его знания обернулись аккурат многими печалями, и даже беседы с профессором – …если стереть с ДНК все мешающие родовые программы и понять, что амнезия и страх – просто двигатели «прогресса» треклятой Матрицы, чьи фиктивные мироконструкции приносят нам синтетическую боль…, etc., etc., – перестали вытягивать. Что толку во всех этих уровнях осознанности, которые должны (!) быть (!) выше (!) эмоционального (!) реагирования (!), когда он, щенок, так тосковал по Наталиньке? Ну да, той самой Наталиньке-Наталинке, которую, вестимо, «никогда не забудет», потому как именно она – она, не какая-нибудь надя-настя, – п о к а з а л а ему, что любовь (здесь уместен анахронизм) есть нежный цветок? «Ну да, цвето-ок… Ваалшебный», – усмехнётся годы спустя грустная шлюшка, не охочая до маркесовских «Воспоминаний»: персонаж наш бросит взгляд на томик классика и, потянув на себя простынь, закурит.
Как это нередко случается с разлюблёнными, Ёжиков, пройдя серьёзный винно-водочный курс практической реабилитации, стал искать сложносочинённую диву среди одноклеточных барышень, но тщетно: год за годом, программку за программкой, новую жизнь (транслит) – он думал, будто начинает ту с нуля, – за новой жизнькой. Дошло до того, что любое проявление нежности отзывалось в глубинах «смежной» его шкурки жестокой ломкой; банальная психосоматика, ну да – сначала горло сводит, потом – желудок, кишки… Вся природная теплота ушла, не спросившись, в иголки: словечки на «це» и «ску», да даже нейтральное «абнимаyou» приводили всё чаще в бешенство. Техничные же «па», отягощённые таким малоприятным нюансом, как до– и посткоитусный трёп, не воодушевляли тем паче: дух противился всему простому и внятному – противился до тех самых пор, пока персонаж наш не стягивал-таки трусики с новенькой пассии, принявшей, как всегда, непристойное его предложение с рабской скоропостижностью. Статистика, впрочем, всегда расставляла убранные корректором точки над «ё» – расставила и сейчас: минус десять миллионов самцов, «согласно последней переписи», – вот и вся сказка на ночь, detka; дошло до меня, о великий калиф…
Всё чаще закидывал Ёжиков виртуальные удочки в иллюзорную Сеть – пожалуй, это было б и впрямь пошло, кабы не так смешно. Госпоже Ли, скажем, срочно требовался «нижний для аренды жилья». «Внимание! – подмигивала латексная бабища с кнутом в руках. – Я – госпожа! Доминирующая и властная, сделавшая наклонности профессией! Бью аккуратно, но сильно. Sic! Квартира надолго. Рассмотрю срочно все варианты. ЗД, порка, бондаж, бытовое рабство, ФФ…» – что такое ЗД, Ёжиков догадался, аббревиатурка же ФФ поддалась расшифровке не сразу, и он поспешил перейти к другому окошку face-ленты, не обратив внимания на цвет – «Интересы и цены в профайле: без лишних вопросов, плиззз». Скука какая, пригладил иголки Ёжиков, и, поведя носом, снова переключился: «Могу станцевать для вас забавный стрип-данс, – подмигивал кареглазый вьюноша. – М, Ж, М+Ж, Ж+Ж, М+М… Включаем вебку?». Попадались, конечно, и иные искатели, но и от них не было толку: «Встречусь с состоятельным господином, – писала шатенка, похожая на молодую Анук Эме. – Почему с состоятельным? Те, у кого нет денег, хотят только их, а те, у кого они есть, хотят только чувств…». Ёжиков не знал, может ли он причислить себя к состоятельным, – с точки зрения сетевой Анук, – господам; впрочем, надо ли? Цена вопроса, упакованная в романтический фант, убивала весь romantic, ну а это – «сегодня. сейчас. москва. хочешь? пиши. не развод, не мужик, ничем не больна. просто хочу. так бывает» – и вовсе не обсуждалось… В общем, Ёжиков наш чихнул раз, чихнул два да и загрустил – и так сильно, что пребывал в миноре сем (си, си: чёрная тональность) аккурат до тех самых пор, пока внутренний его голос не приказал ему решить бабьи лица. Ну да, «решить», «прощёлкать» всех этих самок, словно задачки, а потом сверить данные с ответами в конце учебничка: см. стр. ***, далее опускаем.
Утром, выпроводив незапланированную – нарисовалась в полночь, не выгонять же – сетедиву (третья подряд Марина), Ёжиков снова забрался в Сеть. «Если граждане всерьёз обеспокоены невозможностью идентификации собственных останков в случае авиакатастрофы, – сообщалось в новостях, – они могут проделать любые необходимые процедуры в частном порядке и передать свои анализы крови, зубные снимки, отпечатки пальцев и любые другие данные в…». «Твою мать! Вот же!» – что именно вот же, он, впрочем, уточнить не успел: «Взрыв неустановленного взрывного устройства – тридцать девять погибших, семьдесят восемь раненых». Взрыв взрывного… – журналюги! – в самом верху страницы…
Ёжиков потёр глаза – поплыло моментально.
Что такое, в сущности, десять лет? Десять лет без Наталиньки, которую видел он последний раз аккурат восьмого августа, в день её тридцатипятилетия? Четыре слога, На-та-линь-ка – вдох-выдох, выдох-вдох, – а ведь он без них пластилиновый!
Ёжиков видел себя, бегущего по эскалатору, видел, как перескакивают лапки его со ступени на ступень, как колет его шкурка пахнущий потом – он ненавидел это словечко – пассажиропоток, видел, виде-ел, как кто-то, бывший некогда им самим, чуть не расшиб лоб о стеклянную дверь и не врезался в одну из торговок цветами, коих было тогда на Пушке великое множество… Секунду спустя, уже на улице, он, услышав взрыв, замер. «Сто двадцать два ранено, семь погибло, шестеро скончались в больнице» – присвистнут газеты, а Наталинька лишь качнёт головой: «Да ты счастливчик!» Через полгода, в феврале, ему опять повезёт, и он не станет шестнадцатым раненым в переходе на «Белорусской»… Ну а сейчас… да что, что сей час? Склонившись над ноутбуком, Ёжиков потёр виски: жив? умер? ни жив ни мёртв? Третье, пожалуй, ближе всего к истине! «Тела двух шахидок-смертниц найдены на месте происшествия… два килограмма тротила… второй и третий вагоны поезда с головы состава разру…».
Его всегда коробило от этого вот с головы состава: ну да, фишка гниёт с головы… Ну да, он слышал, будто шахидок накачивают таким чудодейственным миксом, как героин, пиптин натрия да аммониевая кислота (две доли), но что ему теперь до того?.. Вдруг она – ОНА – и впрямь обошла этот священный Кайлас? Вдруг – отдраила карму? Вер-ну-лась? Зашла утром в метро?..
Ёжиков набрал номер горячей линии; когда ему сообщили, что тела Наталии Леонидовны Стрешниной – нет, не обнаружено, – у него затряслись руки.
Позвонил катафальщику – вышло не вовремя: сросшийся за ночь с геймерскими (новояз) девайсами, он старательно – стекающая по спине капелька пота, полуоткрытый рот, покрасневшие глаза, – переходил на новый уровень. «Жив», – выдохнул Ёжиков, понимающий, впрочем, что приятель его едва ли спустился б в подземку – в свободное от похорон утро тем паче: всё, что интересовало его после ухода из профессии, это машинка да игры. «Я бог! – признался он как-то Ёжикову. – Я это с д е л а л! Прошёл!» – Ёжиков тактично кивнул: сохраниться как вид на работке, исчисляющей срок годности анимы парой лет… да, это вызывало смешанное с ужасом-ligth удивление. Так некогда удивила и ужаснула Ёжикова высветившаяся на перронном табло надпись «ПУТЬ 1»; так озадачил итальянский автобус с оранжевым словечком catazza, да, пожалуй, бело-голубое убожество «ПАРСЕК-ТРАНС» на дверце маршрутки, стыдливо припаркованной около их рiдной больнички – шоферил Ёжиков на «скорой» без малого восьмой год, и ни о каких скафандрах с летательными аппаратами, как и катафальщик, боле не помышлял.
«Не думать! Главное не думать!» – подумал-таки Ёжиков, засеменив к ближайшему супермаркету: Марина-3 – скучный евростандарт с приемлемыми минусами и мини-плюсами – оказалась весьма прожорливой. Надпись на пакете, в коем болталась полчаса спустя нехитрая снедь, ввела Ёжикова в лёгкий ступор: «50 кг. Приобретая наши пакеты, вы не только сохраняете здоровье своё и своих детей [такой, да, такой порядок слов был], но и поддерживаете отечественного производителя». Олэй! Он, Ёжиков, поддержал отечку на пять рэ: ту самую отечку, которая, как сообщили недавно, позволила и этому самолёту тоже потерять высоту да совершить жёсткую посадку в лесу, не долетев километра до взлётно-посадочной. Ту самую, о-о, которая помогла оторваться крылу и надломиться в двух местах – фюзеляжу… Серебристый лайнер ТУ навернулся на лету, вспомнился кошмар пионерии, потому что в фирме ТУ выпускают ху… Ёжиков чертыхнулся и зашагал к дому: да и куда ещё?..
А вскоре произошло то, что произошло – должно же это было когда-то случиться! Все предыдущие дамы – даже Наталинька, да-да, даже она, – сошли как-то на нет. Ёжиков – страшно сказать – увлёкся. Ещё страшнее – влюбился (по-настоящему). Но самое страшное, что всё это здорово попахивало служебным романом. Да что попахивало! Она звалась Аннушкой…
Её – кто на новенькую? – смены совпадали с его, ёжиковскими: так уж вышло. Обыкновенный «лучший на свете доктор» в строгом таком халатике… Нежный завиток на мраморной шейке… Танцующие веснушки… Быть может, Ёжиков и не лишился б мозгов столь быстро, кабы не столкновение у лифта – она выходила (забыла мобильный), он – входил (нёс его ей)… Аннушка облизнула губы да так улыбнулась, что сердце Ёжикова ушло в лапки, а с него самого едва не посыпались иголки: ещё «парсек» – и точно «транс»… ПУТЬ ОДИН, ну да, ну да… «Ничего не бойтесь, Ёжиков, даже тумана!» – вспомнил он слова покойного профессора, а Аннушка – к чему бы? – больного: отстранившись, она побежала, виляя хвостом, в 84-ю, – вернулась, впрочем, быстрёхонько да произнесла то, к чему персонаж наш долго ещё не мог привыкнуть: «Зачехляем».
С тех пор он думал об Аннушке «хорошо» (какой она доктор и всё такое) каждый день и «плохо» (как закусывает она, постанывая, нижнюю губку) – каждую ночь. Иногда Ёжикову казалось, будто видит перед собой он вовсе даже не Аннушку, а составленные из плоти её и крови тексты, причём качество их и смысл значения вроде как не имеют. Будто б они, эти самые тексты, и есть всё, что его окружает. Да что там! Он, Ёжиков, думает на их языке!.. Например, таком: «В случае порчи какого-либо имущества организации заказчик возмещает ущерб в размере стоимости испорченного имущества. Бой посуды оплачивается из расчёта на одну единицу» – Или таком: «У испытавших клиническую смерть уровень углекислого газа в крови был значительно выше, чем у тех, кто ничего не видел» – Или: «Готовность работать в авральном режиме в условиях дефицита времени» – и далее по тексту: «Только суррогатная ма! И постанов на бабки. Тридцать тысяч у.е.: платите только раз – зато ребёнок всегда ваш!» – ну и «Остеклись по ценам завода!», конечно… Когда же совсем сорвало крышу, Ёжиков сгрёб-таки докторицу в охапку и зашептал на ушко то, что шептал в прошлой жизни одной лишь Наталиньке-Наталинке. «Она мне интересна, я её хочу, её есть, за что уважать…» – стучало в висках. «А я умыкнула однажды гейшу, – наврала от скуки Аннушка и опустила глаза, вспомнив некстати быстро хмелевшую мороженщицу из Коньково. – В Токио, ага… Но ты мне нра… – она щебетала, как пэтэушница, – нра, очень нра…».
И тогда они уехали ни к нему, ни к ней, а в отельчик – так было нужно: ни к нему, ни к ней, всё новое, – и рвали простынки да друг друга до наступления новой смены, и Ёжиков понимал, что если сейчас её отпустит, то счастлив уже не будет, видимо, никогда: Аннушка так похожа, так похожа на Наталиньку, Наталиньку-его-Наталинку, что и сказать нельзя, – да и не надо, не надо ничего говорить! И потому-то решился, ну да – нужно ведь когда-то на что-то решиться! Нужно же предложить… вот и сделал.
Сделал ей предложение.
А сердце Аннушки возьми – да и не в такт забейся.
Совсем, совсем не в такт: «Нет-нет, невозможно… Прими как есть – или сбеги».
И тогда сердце Ёжикова – триста мучений в минуту – сжимается и припускает, пристукивая, что есть сил, к воде. «Я в реке, пускай река сама несёт меня», – решает оно, и глубоко вздыхает: его, сердце, несёт вниз по течению. В это самое время высокие сущности берут шкурку Ёжикова на понт: «Что, дурачина? Перерождаться-то не желаешь? За идею лапки двинуть готов? А ежли миллионером тебя?.. Если аннушек – лучших! – с наталиньками?.. Режиссёром великим – а?.. Банкиром? Певцом? Бездельником?..» А Ёжиков за своё: «Я Ёжик. Я упал в реку. Я совсем промок. Я скоро утону»… далее опускаем.
Посовещались сущности высокие, посовещались, да и выполнили просьбу. Напустили тумана на ситуацию, про осознанный переход брякнули чтой-то, да и отправили странничка на «Союзмультфильм», в год 1975-й, к Норштейну младому под крылышко. Ну, просыпается весь в титрах Ёжиков, а суффикса-то у него и нет… Вместо рук – лапки, вместо живота – брюшко, вместо волос – иголки… Пошёл он по лесу рисованному, змейку воздушную запустил, улыбается, – а она возьми, да в радугу обратись: так и пошёл по небу, только катафальщик и видел…
«Главное не оглядываться», – вспомнил ёжик напутствие профессора М-кого, который знал про духовную составляющую каждой формулы всё.
Ну да, всё на свете.
[Литвинов]
Служанкам Виктюка
Платон, «Хармид»
- «Как нравится тебе юноша, Сократ?
- Разве лицо его не прекрасно?» –
- «Прекрасно», – отвечал я.
- «А захоти он снять с себя одежды,
- ты и не заметил бы его лица –
- настолько весь его облик совершенен».
Ок, ок.
Давайте, наконец, допустим.
Допустим в своем узком кругу, что такие вещи иногда случаются.
Классика жанра! Литвинову, впрочем, было не до смеха.
Последнее время он ходил сам не свой – да и что такое «сам», «свой»? Знать бы…
А он – нет.
Он-то, оказывается, как раз не знал.
Ни-че-го не знал о себе.
Но – по порядку: с такими вещами ведь не шутят.
Долгая память – хуже, чем сифилис, – надо же, как некстати вспомнилось! – Особенно в узком кругу…
Литвинов вышел из клиники и, слегка сутулясь, зашагал по Моховой, тщетно пытаясь спрятать лицо от колючего снега – увы, сегодня без машинки: какая машинка, когда даже щетки стеклоочистителей замерзли, а коврики покрылись льдом? На стекла пальмы и опалы мороз колдующий навел, ну и так далее, everything’s cool, ес?.. Подойдя к перекрестку, Литвинов поежился, а, прочитав слоган на дверце заблудившейся в центре «спальной» маршрутки, даже поперхнулся: «Когда боль наступает на горло: Coldex Бронхо».
Что раньше знал он о боли?
Что?..
Кажется, Бог наконец-то вынул беруши и внял его, Литвинова, мольбам, но что теперь с того, коли выходит так, будто все эти годы он, Литвинов, жил каким-то отраженным светом, а настоящего (что, впрочем, есть «настоящее»? то-то и оно!) – не видел, не чувствовал?
А вот если взять, скажем, ту же античность, размышлял он, тайно мечтая о своего рода «исторической индульгенции». Те же Древние Афины – пример вполне себе хрестоматийный, а именно: объект желания рассматривается не сквозь призму пола, но в первую очередь как некая позиция: его, М или Ж, позиция агрессии или покорности… Сто-оп: опять же, он-то, Литвинов, не в Древних Афинах, а в Москве, в Ма-аск-ве живет, где кто-то make love, кто-то – have sex, а кто-то просто делает то, что называется have intercourse, и о существовании такого экзота как сексуальная идентичность по обыкновению не подозревает…
Ну да, ну да, сейчас (Здесь и Сейчас. Господи! За что!) он, Литвинов, переживает пресловутый острый кризис треклятой сей и-ден-тич-нос-ти – спасибо, поgooglил; отдельное спасибо г-ну Кинси за утверждение, касающееся дискретных категорий, в природе практически не встречающихся – а он-то, Литвинов, прерван, разделен, раздроблен! (Он – встречается?). На «встречающихся» вдруг резко пересохло в горле и Литвинов подумал, что если некоторые М-особи имеют низкий уровень тестостерона и повышенный – эстрогенов, то у него тестостерон понижается только когда он видит В., а все остальное время пребывает в норме, что, по сути, если уж не патологично, то, по крайней мере, довольно странно… А если это, не смеющее (впрочем, скорее, не спешащее: так будет верней) себя назвать, чувство, и впрямь подобно, пардон, импритингу? Ты воспринимаешь некий образ, а потом банально его идеализируешь: стимул-реакция – вот, собственно, и весь «эталон»…
Ок, ок, но ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?..
…гипнозприжиганиетерапиярадиациейкастрациялоботомия, ja-ja?..
А что: перерезать нервные волокна передней части мозгофф, и никакого тебе В., никогда – как, впрочем, и никого другого. Svoboda транслитом! Методы коррекции «недоразвитых» (нет-нет, никакого уничижения – пациент, скорее, жив…) разнообразны: breeder предлагает в том числе и репаративную терапию…
Он сам не заметил, как оказался на Петровке и проскользнул в арку, за которой находился тот самый, наgooglенный, шоп с неприметной вывеской; если бы Литвинова в тот момент спросили, что именно ему здесь нужно, едва ли он смог сформулировать хоть что-то сколько-нибудь внятное. Небезызвестная кантовская цитатка – та самая, насчет человека, который «по природе зол», – впрочем, не исключена, а раз так… раз так, Литвинов жаждал невольно опровержения этого самого зла, и не важно, что искать «противоядие», пусть, опять же, неосознанно, пришлось в девиантном, с точки зрения нормальных – назовем сей подвид так – людей, магазине, где киноклассика мирно соседствовала с латексом, что никого из посетителей, разумеется, не смущало; да их и было-то… Грубо сколоченный парень, внимательно изучающий ретро-подборку дисков, стильная короткошерстная девица, листающая журнал, непонятного пола субъект, приценяющийся к длинному радужному шарфу – вот, собственно, и вся публика-дура, не считая продавцов – скорее М, нежели Ж (Литвинов сразу не разобрал).
Пробежавшись по названиям, он взял в руки первую попавшуюся энциклопедию, со страниц которой все они – Зевс и Ганимед, Будда и Ананда, Давид и Ионафан, – казалось, уверяли его в том, будто в чувстве к В. нет никакого подвоха: die liebe ist mein fuhrer, ок, ок, а уж если верить, опять же, г-ну Кинзи, сорок восемь процентов М-особей хотя бы однажды имели [бес]подобный контакт, причем тридцать семь – с оргазмом; Ж-особи вели себя более вяло – всего двадцать восемь процентов; впрочем, самки не интересовали Литвинова с того самого момента, когда он принял решение развестись, а экс-0.5 стал полушутя-полусерьезно называть «мать моей дочери», и иже с ней и серийной ее – раз-развод, два-развод – моногамией.
Положив на кассу томик Френсиса Мондимора, стихи Руми да три диска – «Закон желания» Альмодовара, «Орландо» Салли Портер и «Караваджо» Джармена, – Литвинов быстро расплатился и поспешил домой: да, он придет в квартиру, отключит телефоны и будет думать. Думать, думать, черт дери: а что остается?.. Драма-с расколотого субъекта!
To think [θɪŋk] – неопределенная форма глагола.
«We didn’t think we’d have any trouble! You´ve got another think coming».
Когда все началось? Сомнения – поставим здесь воображаемые скобки – в полоролевой адекватности, и тут же: «Хочешь поговорить об этом?»
Нет-нет…
Не-е-е-ет!!
Да нет же, ей-богу, не здесь и не сейчас.
Не надо, прошу вас.
Не надо выносить мой мозг!..
Да оставьте же, наконец, меня в покое!..
Вы.
Вы все.
И вы тоже…
Во-он!!
Он был самым обычным долюбленным ребенком: нормальным, едва ли не «таким как все». Типичным. Не числилось за Литвиновым и странностей – к женской одежде слабостей не питал, с девчонками не водился, дрался отменно, в отличие от В. (ему, бедняге, не повезло ни с мамашей – синечулочной невротичкой, ни с отцом – аутичным садистом, единственной формой диалога с которым мог быть ремень). «А вот если б мы жили во времена папы Григория Третьего, – сказал однажды В., – нам бы установили ЗА ЭТО годичное покаяние, а тетки обошлись бы всего ста шестьюдесятью днями… Дискриминация: ты не находишь?..». Литвинов застопорился с ответом – единственное, в чем он был тогда абсолютно уверен, так это в том, что некоторые их с В. телесные эманации волшебным образом синхронизированы – частота сердцебиений и температура тела, во всяком случае, точно; про пиковый уровень тестостерона не будем – во всяком случае, не на этих страницах. А может, это любовь, подумал впервые Литвинов, и сжал виски так, что костяшки его пальцев побелели.
В Иране, читал он купленную в наgooglенном магазине книжицу, ежегодно казнят за это двести человек. Смертная казнь практикуется также в Афганистане, Саудовской Аравии, Судане, Маврикии, Мавритании и Ийемене; Пакистан и Гайана обходятся тюрьмой. Что происходило в Империи, Литвинов тоже знал, и не понаслышке, как знал и то, что становится самим собой – по-настоящему собой – лишь рядом с В., которого так же, как и Литвинова, нисколько не занимали принятые в community – чего-чего? – ролевые игры а-ля passiv/activ. Он просто хотел чувствовать, разговаривать, быть с ним, а уж каким способом проделывалось бы это самое быть, докладывать никому не собирался. В конце концов, дело вовсе не в количестве и, если угодно, «стандартизации» (на все-то бы – да ярлычок!) коитусов – кстати, в чем повинен перед людьми половой акт? – все дело, на самом-то деле, в кактусах, да-да, так бывает: хоть плачь, хоть смейся после л о п а т а.
Литвинов хорошо помнил день, когда В., явившийся на повторный прием (осталось поставить пломбу на верхней шестерке – нормальный такой средний кариес, стандартный, будь он неладен), вошел в кабинет с внушительных размеров цветущим кактусом, чем вызвал легкий шок некрасивой молодящейся медсестры и его, док’а, сдержанное удивление: он, Литвинов, был док’ом В., подумать только! Док’ом, женить на себе которого стремилась едва ли не каждая третья пациентка… Сто-оп, а дальше так – потому что так тоже бывает, и не только в кино не для всех: «Знаете, когда впервые появилось слово «интимность»? – спросил В. Литвинова, устраиваясь в кресле. – Во Франции, в семнадцатом веке: на днях буквально узнал… Странно! Получается, до этого интимности не было… А вот ведь вы, док, наверняка знаете в ней толк… – Литвинов неожиданно громко сглотнул. – Лечение зубов – дело куда более интимное, чем даже поцелуй. Интимнейшее, я бы сказал. Полное оголение, сделка с тайной, если угодно. Сделка – потому как за деньги; ну а своеобразное проникновение врача в больного – проникновение по обыкновению в незнакомца – пародия на «индустрию порока»… Оральный секс с использованием посторонних предметов. И ведь чего только у вас нет! – В. небрежно указал на инструменты Литвинова. – В некотором смысле стоматологическую кухню можно причислить к такой разновидности перверзий как БДСМ-light: врач хотя бы иногда получает удовольствие от своей, причиняющей неизбежную боль, работы (ок, ок: знает о страхе больного даже под анестезией), ну а пациент… Бог с ним, с пациентом. А вот вы, интересно… Ведь вы же получаете удовольствие от собственных действий, док?.. Ну, признайтесь – не стали бы вы иначе всю жизнь ковыряться в чьих-то гнилых зубах? Что-то ведь заставляет вас делать это тридцать часов в неделю на протяжении, как минимум, двадцати лет? Что именно, док? Простите за дурацкую шутку, смахивающую на допрос… Это все от страха. Но дам-стоматологов боюсь куда больше…» – В. как-то вымученно улыбнулся, а Литвинов закашлял: «Почему?» – «Они не умеют… точнее, умеют плохо… В них нет главного… Самого главного! Да и как верить женщинам? Лживые, в большинстве своем циничные создания, стремящиеся обменять вагину на то, что называется социальной защищенностью… Своего рода путаны… Не все, конечно, не все, – но подавляющее большинство – увы… Я знаю, о чем говорю…» – обернувшись на медсестру, В. замолчал, а та, не сумев перевести, пошленько, с жирком, фыркнула.
Зуб, зуб – «У меня в сердце зуб болит. О, люди без зуба в душе!» – сейчас он, Литвинов, должен поставить пломбу: стандартную светоотверждаемую пломбу, да, и дрожь в руках неуместна, более чем неуместна – пожалуй, следует подождать. Остыть немного. Да-да, техника безопасности – особенно в таком тонком деле – еще никому не вредила! И тут же, вихрем: сказать ему, что лечение начнется через несколько минут? Что он, Литвинов, должен еще кое-что сделать, прежде чем перейти к операции?.. (Спокойствие, ха, только спокойствие, малыш!..). Сделать, разумеется, для него. А для кого же? Ведь он – пациент, а врач обязан делать все, абсолютно все для облегчения его страданий… Ужели слово найдено? Обязан. Палочка-выручалочка, соломинка-былинка, не дай сорваться – однако и каша сегодня у него в голове!.. Неужто вот так, средь бела дня, и впрямь сноситбашню?.. Справившись кое-как с дрожью, Литвинов подошел к В., чтобы исполнить привычное – и вместе с тем уникальное, сродни ювелирному – solo: откройте рот, не бойтесь, укол безболезненный, та-ак, хорошо, посидите несколько минут, та-ак, рот можете закрыть, ну как, немеет? хорошо, etc. Да где ж этот раббердам, почему не на месте? Марина, куда все исчезает?.. Тонкий лист латексной резины, надевающийся на зуб, очень-очень тонкий-тонкий лист-лист… Литвинов покачал головой, подвинул слюноотсос и вдруг увидел, что раббердамы смотрят на него в упор, как, впрочем, и медсестра – едва не чертыхнувшись, он ловко надел один из них на зуб В., поставил кламмер и… – вот оно, сухое рабочее поле! О чем, любопытно, размышляет пациент, в то время как пальцы доктора словно бы случайно касаются его губ, а то и щеки? Любопытный пациент… демон, о котором он, Литвинов, думает едва ли не ежедневно – да что там «едва ли не ежедневно»! Ежеминутно, – и потому берется за антисептик, накладывает прокладку, протравливает подготовленную полость, вымывает фиолетовый гель и подсушивает воздухом зуб В. исключительно машинально, как, собственно, делает на автомате и тот же бондинг… «Ничего не чувствуете? Не колет нигде?» – спрашивает Литвинов, и В., как и все они, мотает вместо ответа головой; в глазах, правда, прочитывается обратное – то, что у В. колет, сомнений не вызывает, впрочем… прочь, мысли, прочь, приказывает себе Литвинов, слой за слоем – раз-и, – почти нежно, заполняя полость «Спектрумом»: слой за слоем, слой за слоем – раз-и, да-да, вот так, не бойся, дружище, ничего больше не бойся, даже дам-стоматологинь… раз-и, вот так, да, да, молодчина, ну, еще чуть-чуть, еще шире, да не дергайся, не дергайся, кому говорю… а тебе, кажется, нравится… неужто ошибаюсь? Неужто это мне кажется? Какой ты смешной!..
Идеально выверенные движения – точные, красивые – впору сравнить с пластикой музыканта, о чем доктор наш, конечно же, не подозревал. Направив на композит луч светоотверждающей лампы, Литвинов отодвинул алмазный бор, взял копировальную бумагу и попросил В. сомкнуть зубы: на пломбе осталось черное пятнышко – эту-то самую точечку Литвинов и принялся отшлифовывать, да так увлекся, что чудом остановился. Тпр-ру, окстись: полировальная резинка, паста, защитный лак, лампа-а-а – вот, собственно, и вся премудрость.
В. был, как на грех, исключительно хорош собой – микс Аполлона и Диониса: именно сочетание несочетаемого, быть может, и сломило Литвинова окончательно. Приняв приглашение все еще пациента – «Придете на мой спектакль?» (В. играл в * * * у знаменитого * * *), – Литвинов уже без удивления – и в который раз – отметил, что в солнечном сплетении екнуло.
«Культовая» пьеса оказалась цепляющей, хотя и несколько затянутой, но, в общем и целом… Что ж, недурственно, и даже весьма. Пациент – он по привычке все еще называл В. так – явно не бесталанный. И, к счастью (хотя, почему «к счастью»? ему-то какое дело?) не бедный: чинить зубы в их клинике – удовольствие недешевое. Как жаль, что с пломбами покончено, схватился вдруг за голову Литвинов, тут же отметив предательское свое «жаль» и поймав себя на мысли, что он фиксируется на В. чаще допустимого (впрочем, кем?); поэтому, когда В. пришел на бесполезную, в общем-то – Литвинов настоял, – консультацию, быстро-быстро, пока медсестра мыла руки, написал на визитке клиники свой телефон и молча протянул ту В.: вот, собственно, и вся экспозиция – она же завязка – love-story: кому как не/нравится, господа, ну а мы продолжим.
Их встречи носили поначалу, как сказал бы какой-нибудь заштатный психолог, эпизодический характер. В. приглашал Литвинова на спектакли, Литвинов, хотя и не был театралом, всегда соглашался. «Вы всех врачей в публику обращаете?» – «Избранных, – улыбался зрачками В. – Тех, кто умеет хранить тайны…» – «Тайны? – прищуривался Литвинов. – Конечно, жизни и смерти?» – «Интимные, док, интимные!» – в общем, вся эта банальная игра казалось занятной до тех лишь пор, пока Литвинов кое в чем себе не признался, а, признавшись окончательно, схватился за голову и чуть было – от незнакомого доселе ужаса, вызванного собственными мыслями, – не запил, но таки удержался, как удержался, впрочем, и от многочисленных словесных клише, с помощью которых можно было хоть как-то обозначить все то, что происходило в душе.
«Грех городов и равнин», «обратная сексуальность» – вот что занимало его денно и нощно. Да, разумеется, он знал кое-что об этом – кое-что, не более того, но теперь… теперь Литвинов должен был увериться в своей так называемой нормальности, утвердиться в адекватности, вменяемости, если угодно. Почему «он» – не «она»? Какого дьявола?.. Нет-нет, речь в его случае, конечно, не шла о такой радикальной смене имиджа, как транзишн – Литвинов всего лишь сетовал на то, что так называемой прекрасной половине странного сего шарика «любовь, не смеющая себя назвать» сходит с рук куда как чаще и легче, нежели половине, которую все еще – надо же, странные какие! – называют «доминантной», а феминистки – вот она, vagina dentata! – обвиняют в навязывании «фаллоцентричных канонов»! Ничего себе, фаллоцентризм: знай – прячься… Но, размышлял Литвинов, если ЭТО существует в природе, не может же ОНО быть просто «сбоем программы»? Сбоем программы в столь огромных масштабах? Ведь если Он создал человека по образу Своему и подобию, значит и этот образ есть Образ Божественный, который никак нельзя – далее новояз персонажа – отпрокрустить ни словечком «болезнь», ни даже какой-нибудь «безвредной индивидуальной аберрацией»! Ведь если Творец есть Любовь, значит любовь – в каждом Его творении, а значит – в каждом земном чувстве, лучшем чувстве, а значит… Господи… За что… Здесь и Сейчас… За что прямо Здесь и Сейчас, Господи?.. Ну да, ну да, иудаизм и христианство, что называется, отличились; мерзость – вот как припечатал бы Ветхий завет его чувство к В.; но, может, на то он и ветхий? А как же греко-римская цивилизация тогда? Нет-нет, Литвинов не говорит о скотстве – он имеет в виду другое, совсем, совсем другое… Опять же: универсальная бисексуальность (начиная с эмбриона), если взять за точку отсчета не самый плохой, кстати сказать, античный канон… «Священный отряд» в Фивах… Урания… и кстати, вот еще что…
Литвинов сам не заметил, как заснул: слетевшие со страниц энциклопедий и web-страниц «девиантные» приматы, рыбы и птицы, млекопитающие и рептилии, амфибии и насекомые смеялись над ним, а уж о людях-то и говорить нечего: «У твоего “диагноза” нет анатомо-физиологических признаков! – шептала на ухо одна из Labrides dimidiatus. – Вот мы, рыбы, живем в гареме, нам хорошо… Как только самец умрет, я поменяю пол и займу его место. Это нормально, нормально, ты хоть понимаешь, что это нормально?» – «Они хуже свиней и собак», – разъяренно замахал руками президент Зимбабве Роберт Мугабе. – «Ты что-то имеешь против собак?» – зарычали на него лайки. – «И против свиней?» – захрюкали свиньи. – «Давайте допустим в своем узком кругу, что такие вещи иногда случаются», – повторила сдержанно-отстраненно Вирджиния Вульф. – «Я думаю, что важно делать фильмы о любви, и, конечно же, для меня важно делать фильмы о любви между мужчинами. Я на самом деле снимаю не как режиссер», – пожал плечами Дерек Джармен. – «В утробе матери все мы вначале девочки – мужской ген активизируется позже, а если не, рождается она, а не он», – развела руками Атма. – «Нормальный секс – это любое взаимное наслаждение, получаемое двумя свободными и информированными партнерами, которое доставляется телом, обычными облачениями и украшениями партнера», – вычитал в своей собственной книге Эрик Берн и развел руками. – «Прежде рука моя всегда лежала на Коране, но теперь она держит флягу любви. Страстное стремление к Возлюбленному заслоняло для меня науки и декламацию Корана, и я опять стал одержим и невменяем», – покачал головой Джалал Руми. – «Летом примерно десятую часть времени я с удовольствием посвящаю тому, чего ты так хочешь и чего так боишься», – выпустил фонтан кит-убийца. – «Двадцать седьмой съезд КПСС требует от людей укрепления моральных устоев семьи и брака, заботы прежде всего о нравственном воспитании молодежи», – напомнила Винни-Пуху и всем-всем-всем Ангелина Вовк. – «Где-нибудь ты найдешь Сеть и, войдя в нее, войдешь и в меня», – В. помахал рукой Литвинову, и он, очнувшись, вдруг понял, что впервые за сорок с лишним лет – вот только что, как на духу!.. – проснулся совершенно счастливым; если, конечно, допустить, будто счастье его было так возможно и так близко.
[Гамаль: город-синкопа]
Есть люди, которые сдают квартиры, и те, которые снимают: Алевтина снимала. Скворечня ее размещалась в Саккале, в Старом городе. Когда-то, много лет назад, она приезжала сюда с бывшим, затем с сестрой, ну а потом одна.
Последний раз останавливались в «Реджине» – уютном и непривычно зеленом для Хургады отеле, находящемся аккурат против вездесущего Macdonalds’a, дотянувшего щупальца и до цветистого арабского мирка.
Тогда, в экс-жизни, Саккала была для Алевтины одной сплошной улицей-базаром: ароматические масла, кальяны, «арафатки», очень разная – на любой вкус и карман – ювелирка, предлагаемая темпераментными торговцами, обижающихся на «арабы» и требующих гордого «египтяне», – все было в диковину, все не как в Симфе, который хоть и Крым, а без моря.
Здесь же – Красное: душегубительное, ибо самое на шарике чистое, с радужными кораллами и мириадами пестрых рыб, задевающих тебя, стоит лишь войти в воду… Туда, в эту самую чистоту, и сбегала Алевтина от синкопированного ритма Саккалы: о-о, если б она знала, что есть сие, то непременно назвала бы Хургаду городом-синкопой! Но музыке и другим искусствам барышня не училась, а если чего и знала, то не ахти: еле школку окончила. Точные науки ей не давались (да, чего уж там, и не упиралась особо), к гуманитарным же рвения не испытывала: история казалась мертвой, литература – нудной… Впрочем, весьма сносный английский помог ей выплыть и поступить на иняз, который в полноги она все ж умудрилась обскакать, едва не вылетев за непосещение, поспешно выйдя на пятом курсе за Бориса – предпринимателя, банальненько «снявшего» ее, слегка подшофе, на фоне тщедушного, как Алевтине показалось тогда, заката: они с соседкой курили и громко, слишком громко смеялись – этот-то ее смех и сделал свое – ни белое, ни черное – дельце. Странным образом постельные па переросли в то, что принято называть «чем-то большим», и вскоре они – М и Ж, классика жанра, – к удивлению Бориса, окольцевались.
Как замедленную съемку, прокручивала Алевтина теперь кадры экс-жизни: единственное, по кому скучала она в пространстве фараонов и пирамид, так это по Арише, оставленной с тем еще Deus’oм у тещи Бориса – тонкогубой логорейной хохлушки Веры Власьевны, да по комфорту, к которому успела привыкнуть за пять лет: в Симфе г-жа Хотиненко не работала и раньше одиннадцати глаза открывала редко.
«Куда ты хочешь лететь?» – спросил тогда Борис, и Алевтина, крутанув деревянный напольный глобус, пожала плечами: «В Египет». Он предлагал томящиеся бездельем Принцевы Острова, залитые солнцем пляжи Тосканы (ему хотелось непременно в провинцию Маремма), далекий – да существует ли он на самом деле? – Варадеро, но Алевтина, сама не понимая, почему, лишь качала головой. Ее-то тянуло именно на северо-восток Африки – той самой Африки, где она никогда не была: а Нил вот был, Нил много чего знал, и ее, Алевтинино существование, совершенно не колыхало грязную – при ближайшем рассмотрении – реку почти в семь километров длиной: ничего романтичного.
Первый раз полетели в Хургаду в октябре 99-го. Пальмы, не похожие на ялтинские, смеялись над Алевтиной, разглядывающей их из окна авто: «Квартал Дахар» – напомнил таксисту Борис, много где побывавший, и потому с прищуром наблюдавший за двадцатилетней девчонкой, впервые оказавшейся так далеко. «Я обожаю эту страну, – важно-смешно заявила она, расставляя разноцветные флакончики в белоснежной ванной. – Обожаю. А ты разве нет?»
В городе ее тотчас поразил нервный и будто рваный ритм – тот самый, синкопированный, когда слабая доля смещается на сильную, и вместо привычных для уха двух восьмых и четверти, сыгранных подряд, звучит – стучит? – восьмая, четверть, потом снова восьмая… «Настоящие египтяне» в длинных, до щиколоток, одеждах, с тюрбанами на – да что-там-в-них! – головах; голодранцы со стажем и юные попрошайки, лишь только осваивающие безотбойную технологию хитрой работки; люди на ослах и джипах, правил движения для которых нет и не будет; уличные торговцы, требующие бакшиш, зазывая в лавки да во все очи глазеющие на белых леди – «черные» женщины по Хургаде не ходят.
Самым странным показался Алевтине египетский воздух: он на самом деле смеялся, пританцовывая вместе со всем честным людом, он пах по-другому, срастаясь с шумом, жестким наречием и чужой суетой, благовониями, пастермой и кушари – названий этих, впрочем, Алевтина еще не знает… и вот – неужто из воздуха? Борис-Борис! – появляется сладкий заглюль: буро-красный финик у нее на ладошке, «ам, хрустящий, никогда не пробовала сырые!» – «это лучший сорт, мадам!» – и дальше, дальше, дальше, сквозь узкие улочки арабских кварталов, где роскошь и нищета смотрят друг на друга с опаской.
Если бы Алевтина читала «Поэму Воздуха», то подумала б: это – ее ПЕРВЫЙ ГВОЗДЬ, но она не понимала Цветаеву и вообще – поэзии. Мать, педантичная филологиня, ценившая прежде всего порядок, и потому быстренько расставшаяся с отцом своих детей, имевшего дурную привычку выдавливать зубную пасту из середины тюбика, а не с конца оного, часто бросала: «Никто тебя замуж не пригласит. Кому ты нужна? У тебя в голове – воздух!» – но Алевтине совсем не хотелось в какой-то там замуж: «Что я там буду делать, ма?»
И – вот он, воздух Египта! Такой объемный и плотный, что хоть ножницами его разрежь… Впервые в жизни Алевтина по-настоящему счастлива – здесь, в бывшем рыбацком поселке Эс-Саккал, о котором еще вчера и слыхом не слыхивала: через одиннадцать дней она поймет, что вернется к нему.
К воздуху.
Как пишут «настоящие писатели», прошло несколько лет: позволим же себе подобные титры и мы. Итак, прошло несколько лет, Алевтина с криками «никогда больше, бл!..» выдавила из себя новое существо (живая девочка, вес 3500, 53 сантиметра, глаза голубые) и побывала в Египте еще несколько раз – в Шарме и Каире – с Борисом, в Хургаде – с сестрицей. Борис отпустил их с легким сердцем – сам Бог Тот, видимо, повелел провести им отпуск раздельно. Впрочем, Бориса удивляло настойчивое нежелание Алевтины лететь еще куда-либо, кроме Египта. Любая женщина, как он думал, должна непременно мечтать об уютной Европе, но Алевтине та была ни к чему. Алевтина хотела на Красное море, в Город-синкопу – ПЕРВЫЙ ГВОЗДЬ был давно вабит: «Уверенность в слухе и в сроке…» – впрочем, «Поэму Воздуха» девочка наша так и не осилила.
В тот ноябрь она снова летела в Хургаду, но уже одна – бизнес Бориса переживал не лучшие времена, ну а к Арише пригласили няню: «Мама-а, не уезжа-ай!» – шум, гам, слезы на пухлых щечках. Потягивая манговый сок на балконе, Алевтина листала путеводитель. «А давай завтра в Луксор», – предложила она сестрице, рассматривавшей папирусы. – «Завтра? Но мы же думали на Гифтун, катер в де…» – «К чертям катер, хочу в Луксор. Ты же говорила все время: в Карнакский храм, в Карнакский храм…» – «Да, но деньги за Гифтун уже…» – «Я за тебя заплачу».
Дорога до Луксора заняла часа четыре. Хотя выехали и рано, в шесть, Алевтине совершенно не хотелось спать, и она даже тихонько фыркнула, увидев задремавшую сестру. Нет, не для того она едет в этот город… А для чего, для чего же? История Египта ее по-прежнему мало волнует – мертва-с; Хургада и Шарм оборудованы вот именно что для бездельничающих туристов – так какого рожна тащиться почти триста километров неизвестно куда? Но у нее какое-то предвосхищение, предчувствие… – «чё?» – она сама покуда не понимает… К тому же, четвертого ноября в Луксоре праздник – день открытия гробницы Тутанхамона, а сегодня как раз четвертое, значит, если путеводитель не врет, должен быть фестиваль искусств, а значит… «Что? Что? Ну что – значит?» Алевтина смотрела на сменяющиеся за окном пейзажи, и ни о чем не думала: сначала отели, потом ничем не примечательная трасса, а потом вот как-то так сразу – желтые пыльные горы: ни дать ни взять – декорации, любовно расставленные Криэйтором по петляющей узкой дороге.
В десять оказались в Луксоре. Шумная толпа арабов едва не закружила Алевтину, отбившуюся от группы. Гид – Гамаль – вернулся за ней и, улыбнувшись, погрозил пальцем: «Русский, не отставай!». Перед Карнакским храмом он снова улыбнулся и затянул привычное: «Нивазможна асмотреть Карнак за адин расс… культ Амона…тысячья пятьсот лет… состоит из трех чьястей: храма Менту, храма Мут и храма Амона…» – забавно, но Алевтине вдруг небезразлична стала «мертвая» история: она ловила каждое слово Гамаля и послушно поворачивала голову в нужную сторону: «А тьеперь пасматрити налево…»
И она посмотрела налево, Алевтина.
После Музея папируса (жуткий, жуткий ватер-клозет!) она глаз не спускала с Гамаля и, когда русиш-их-групп привезли в ресторанчик, села с ним за один стол. После обеда была переправа через Нил и что-то еще, Алевтина не помнит: как пишут в дамских романах, смуглая кожа, волнистые волосы и темно-карие глаза Гамаля заслонили и Город Мертвых, и пространство живых. «Да что с тобой? Крыша поехала?» – пытала сестрица. «Поехала…» – процедила Алевтина и повернулась к Гамалю: «Где ты учился русскому?» – «В Каире. Русский – очьень сложно! Столько падьежей…» – «Каир далеко?» – «Да, от Луксор симьсот с лишним киламетров. А да Масквы ище дальше» – «Я из Крыма, не из Москвы» – «С Крыма, не с Москвы? Ты крьасивый… У тибья такой бьелый кожа…» – «Приезжай в Хургаду! Мы с сестрой живем в “Синдбаде”» – «Ты будишь смиятца – но я послезавтра ехать в Хургада работать; здесь последний день. А в Хургада у меня родственники. Я найду тибья! Сколько дней вьи будьете в горот?»
И он нашел ее, и она светилась от счастья, и они ели в «Фельфелле» гадов морских, и смеялись, а ночью он целовал ее всю-всю, и пальцы ног – особенно долго: «Если араб полюбит…» – многозначительно говорила Алевтина сестре, а та ужасалась: «Но ты же не бросишь ради него своих? Не бросишь? А как же Ариша? Ты подумала о дочери? А Борис?..». Алевтина ничего не говорила и нервно считала дни, оставшиеся до отлета в Симф.
В декабре она снова летела в Хургаду, придумав для домашних «депрессию» и уложив Бориса на лопатки непреложностью «Мне. Нужно. Побыть. Одной. Там».
Гамаль встречал ее в аэропорту и называл «египетской розой». На катере, несшем их в Эль-Гуну, она говорила себе, что впервые в жизни влюбилась вот так, и «Венеция в песках» – всего лишь предлог, еще одна уловка, для того чтобы насладиться тем, как играет ветер волосами Гамаля – или как гудит воздух в пустой ее голове? Алевтина не узнавала, не понимала себя – и самым неожиданным для нее стало то, что ради Гамаля она уже готова была выбросить из жизни не только Бориса, но и маленькое существо с вьющимися льняными волосами – такими же, как у нее… Если бы Алевтина знала, кто такой Дебюсси, то непременно вспомнила б небезызвестную прелюдию, но девушка с волосами цвета льна, увы, фальшивила.
Две недели пролетели как миг, ну а в Симфе ничто не могло отвлечь Алевтину от мыслей о Гамале: ни чудо-ребенок, ни муш-объелся-груш.
Но нельзя же всю жизнь терпеть! Терпеть-терпеть-терпеть – и потом сразу, цитатненько так, потихонечку умереть? И Алевтина решилась. Здесь, в Египте, у нее не было никакого прошлого. Гамаль, ошалевший, переминался с ноги на ногу: «Я люблю тьебя, роза, я не думал, что ты прьавда сможьешь… у тьебя там дочь… Я нье вьерил… Я скоро летьеть в Амьерика… на польгода… у менья контракт…» – «В Америку? Контракт? Полгода?»
Через две недели, подыскав ей квартирку – маленькую скворечню с видом на мусорный бак – Гамаль уже летел над Атлантикой в обманчивый, ничего никому не обещающий, чуждый город: настоящий египтянин долго объяснял, но Алевтина так и не поняла, зачем.
Пути назад не предполагалось – к тому же, надо было элементарно выживать, а открытая рана и не думала затягиваться. «Самое страшное зло на свете – ложь, она страшнее и злее любой безумной любви», – писала Алевтина сестрице, но та не отвечала. А что местным до ее ран? Каждый местный видит в ней белую женщину; каждый местный тянет ее в постель. Алевтина работает сначала в Macdonalds’e, но быстро увольняется, не выдержав жесткого напора темнокожих ребят. Не зная, куда податься, она знакомится с некрасивой, стриженой под ежа, девицей-нарциссом из Питера, – та устраивает ее в турагентство на свое место, где Алевтина держится неделю, а потом еле уносит ноги: «Ты украла семь тысяч фунтов! – кричит директор. – Ты не получишь ничего, ни-че-го, никаких выплат, русская дрянь!». Девица-нарцисс разводит руками: «Я пишу новый роман… мне нужны живые истории! Твоя подходит…».
Пространство, куда нас привозят, имитирует восточный шатер. Девчонка лет двадцати пяти повязывает туристам «арафатки», которые мы упорно называем «ясерками», так, чтобы при поездке на квадроцикле песок не попал в лицо. «Меня зовут Алевтина, я буду вашим гидом», – говорит девчонка. «Очень приятно, – киваю, – Макс». Марину тем временем снимают с верблюда («Бедняга раз двести в день встает на колени перед тупыми туристами… и ты туда же?» – так и не отговорил), а вскоре подвозят ямаховские полуавтоматы. Сцепление на том гениальном приспособлении выжимать не надо; передачи переключаются вверх-вниз левой ногой. Как оказалось, можно сразу нажать на пятую передачу, да так на ней и ехать: даже если сбросить газ и остановиться, мотор не заглохнет. Как говорили в местном агентстве, «управлять такой тачанкой может даже ваш малыш!». Малыш наш, впрочем, в долгоиграющем проекте, ну а управление только «газ-тормоз» – сущий кошмар: машину легче водить! «Сущий кошмар, – вторит Марина, – особенно сзади, когда тебя трясет, и ты вспоминаешь, что не успел составить завещание».
Ок, мы берем хваленые квадроциклы, но в последний момент Марина пугается вести сама и подсаживается к Алевтине, посчитав, что ехать до поселения бедуинов, которых нам обещали показать живыми, с девушкой, возможно, не так страшно (зная мою страсть к гонкам, мой квадроцикл Марина отвергает).
Увы, она жестоко просчитывается: Алевтина гонит «тачанку для малыша» так, что несколько раз обе дамы чуть не вылетают в Сахару. «Эй, я убью тебя, поняла? Медленней давай! Чего гонишь!» – но Алевтина только смеется: «Да ты что! Это адреналин! Мне потом люди спасибо говорят!» – «Я тебе такое спасибо устрою, когда доедем! – кричит Марина, еще сильнее вжимаясь плоским животом в ее спину. – Я жить хочу!». Алевтину, то обгоняющую, то отстающую от группы, это только распаляет: она гонит еще и еще быстрей… «Ты что, каждый день так?» – тяжело выдыхает Марина, еле переводя дух, когда Алевтина, устав, начинает ехать чуть медленней: наконец-то можно рассмотреть пустыню. – «Да. Полгода. Я разбиться хочу, понимаешь? Аришу мне семья не отдаст, ну а Гамаль, наверное, вырастил на другом конце света целый сад египетских роз… Америка-Америка!»
Через полчаса Марина сходит с квадроцикла, а потом долго смотрит на девчонку, рассказывающую туристам о бедуинском поселении: «Перед вами колодец: двадцать пять метров в глубину… По краям, вниз по спирали, идут ступеньки: выкопаны вручную… А вот жилище бедуинов… С этими можете сфотографироваться… Еще есть аптека… все эти травы можно ку…».
«Она говорит одно и то же каждый день в течение шести месяцев, – ужасается Марина. – И ни разу не была на море! На прачечную уходит очень много: кругом один песок… Работает с одиннадцати утра до десяти вечера… Ползарплаты идет на квартирку с видом на мусорный бак…»
Я разглядываю бедуинку с почерневшим лицом, спящую рядом с ней козу, сморщенного ребенка, прижатого к груди, курящего трубку бедуина: все кажется нелепым фарсом, дурным театром… и этот их чай из крошечных – для гномов – немытых пиал мы с Мариной не пьем. Назад я везу ее сам – в квадроцикл к Алевтине она уже не садится и только шепчет: «Гамаль пока не приехал…»
…
[нормальный человек]
…единственный нормальный человек в нашей веселой и счастливой семейке – это кот. Шерсть у него как у голубой норки, а морда “сладкая” какая-то – в общем, made с любовью, хоть и in Russia. Кота так и зовут: Коt.
Когда отец заложит за воротник (а закладывает он, вообще-то, не так уж редко – попробуй-ка не закладывай при таком раскладе!) и мама истерично начинает гоняться за ним по квартире, будто Фрекен Бок за Карлсоном, все, кроме кота, шизеют крещендо. Сестра визжит, бабушка охает, дед хватается за ружье и сердце, отец или беспомощно улыбается, разводя большие свои ладони, или преподносит нам всем чудные уроки ненормативной лексики, – последнее зависит от степени его опьянения. Я в это время наблюдаю за котом, возлежащим на пылящемся собрании никому теперь не нужных сочинений признанного классика: толстенные тома в добротных зеленых переплетах служат коту другой стороной баррикад.
– Профессор, блин! Профессор кислых щей ты, вот ты кто! – кричит мама, гоняясь за отцом с полотенцем и периодически попадая скрученной тугой махровостью по его начинающей лысине. – Востоковед хреновый! Все диссертации пишем, а потом нажираемся как сапожники! – мама сверкает пятками.
Все еще стройные мамины ноги в поблескивающих чулках доставляют коту ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение: кажется, он самодовольно наблюдает именно за ними.
– Лара, Ларочка, да я ничего, – отмахивается от ударов отец, а потом лексит что-то совсем уж неприличное.
Лара – она же мама, она же: Ларочка, Ларюсик, Лори, Лариска, Ларетта, Лариса Дмитриевна, – садится рядом с ним, хватается голову и поет свою любимую песню:
– Семенов, ты ужасен. Ты испортил мне молодость! Да что молодость… жизнь сломал! Если б двадцать лет назад я вышла не за тебя, а за Максика Лощилина… Впрочем, – осекается она, – здесь дети, – и строго смотрит на нас с сестрой.
В этот патетический момент отец перебирает четки, а кот прыгает со шкафа и симпатичненько так картавит:
– Совсем сбгендиги! Сумасшедший дом пгосто! Кащенко!
Немая сцена: мама замирает в театральной позе, даже отец вроде бы трезвеет, бабушка крестится, сестра чешет затылок, а дед откладывает ружье.
– С ума сошги! Все! – кот нагло расхаживает по кухне, пользуясь случаем: все в оцепенении смотрят на него, не веря ушам своим. – Уйду от вас, згые вы! – Шерсть серебрится, хвост трубой, а морда наглая и таинственная.
Первой приходит в себя, конечно, мама – ей так по должности положено: мама у нас – женщина деловая. Так вот, наша деловая мама и говорит:
– Слушай, кот, а чего ж ты столько лет молчал?
– Ф-р-р, – фырчит кот. – А чего с вами газговагивать? Вы ничего умного все гавно не скажете.
– Это почему же не скажем? – сводит идеально выщипанные брови мама (ей так по должности положено – брови сводить).
– Потому что, – прыгает кот обратно на шкаф и сворачивается клубочком. – Есги скажу, обидитесь.
– А ш-што… П-пусть с-скажет, – отец порывается встать, но теряет равновесие. – Слышшь, др-руг, погврр-им!
– Перестань, глупец! – негодующе смотрит на пьяного папу трезвая мама. – Тоже мне, друга нашел! О детях бы подумал!
Мы с сестрой переглядываемся: чего о нас думать? Предкам и в голову не придет… но это не для печати.
– Да, о детях! – подхватывает бабушка. – Совсем от рук отбились! Вот бы их в нашу бытность – сразу бы дурь-то вся из головы повыходила! А то и сыты, и обуты-одеты, и все им надо чего-то. Радовались бы, что в тюрьмах не сидели!
Мы с сестрой опять переглядываемся и радуемся, что в тюрьмах не сидели: нам пионерлагерей хватило. А дед хихикает: дед – классный!
Кот же смотрит на нас с высоты шкафьего полета, подмигивает, а потом прыгает вниз так неожиданно, что до самой потери пульса пугает маму: та хватается за сердце, хихикает и умирает. Отец, окончательно трезвея и видя все это безобразие, тоже хихикает и умирает, предусмотрительно ложась рядом. Дед стреляет из ружья и, хихикая, испускает дух; вслед за ним, давясь от смеха, отправляется на тот свет и бабушка. Сестра, держась за живот, умирает из солидарности к родственникам. Томик Хармса падает с потолка на Царство мертвых. Так вот и остаемся один на один с котом.
– Что я буду делать теперь с этой горой трупов? – спрашиваю.
– Как что! – удивляется кот. – А что обычно дегают с ними?
– Ну, вообще-то, закапывают. Или сжигают.
– Так и закопай, – советует кот, “помечая” свои владения. – Иги сожги.
– Так ведь надо справки из жэков этих вонючих собирать – типа, там, свидетельство о смерти и все такое…
– Не ггупи! – кот недовольно поводит усами. – Бюгокгатию газвели! Какие еще спгавки? Гучше о себе подумай.
– А что тут думать? – спрашиваю, не зная, хочу ли стать трупом прямо сейчас или чуть позже.
– Знаешь, скогько лет здесь жиг, все думаг: ну когда же вам надоест? – он неодобрительно посмотрел на моих бэушных родственников, замертво улыбающихся не очень чистому кухонному полу.
– Что “надоест”?
– Что-что… Дугью стгадать, – кот сплюнул и, взяв отцовскую сигару, закурил.
– Ты куришь? – я удивляюсь.
Впервые в жизни мне пришлось столкнуться с таким котом. А он – не будь дураком – уже уселся в “профессорское” кресло, надел мамин шелковый халат и, закинув лапу на лапу, начал расти. Рос он примерно минут двадцать, пока не стал где-то метр семьдесят. Можете представить мое восхищение, смешанное с ужасом? Не кот… а кто?
– Не бойся, я вегетагианец, – предупредил он мой вопрос. – Просто надо поговогить, как мужчина с мужчиной…
– Но я не мужчина! – засопротивлялась я.
– Ха! Это еще вопгос! – кот двусмысленно рассмеялся.
В ужасе стала разглядывать я свое тело: руки и ноги покрылись темными волосками, на шее и лице проявилась щетина, пальцы стали какими-то грубыми, а между ног… о, боже! за что? – да еще идиотичный “ёжик” на голове…
– Послушай, кот, – мягко пробаритонила я новым для себя голосом. – Это все из-за тебя, да? Это ты всю нашу веселую счастливую семейку загубил, а теперь из меня какого-то придурка лепишь-творишь-малюешь? Давай-ка, вертай все взад!
– Чего вегтать-то? Вегтать-то чего? – попятился кот. – Да и где тот зад… Помнишь, смеягись? “От винта, – сказал Каггсон, отгоняя гогубых от жопы”. Оппаньки… Жениться вам, багин, пора…
– Чего??? Ты что, белены объелся?!
– Жениться, да. Самки – оно всегда…
– Ах ты, морда кастрированная! Ты-то откуда знаешь? Всю жизнь на балконе просидел!!
– Знаю. С генами впитаг! – кот выпятил грудь. – А бегадонной не багуюсь, нет уж, пгемного благодагствуйте!
– Ага. С крокодилами. Жениться… Да я тебе щас как… – надо было отдать должное “новым” моим кулакам.
– Погоди-погоди, – кот вытянул вперед правую лапу в останавливающем жесте. – Ты впегед батьки не гезь на стенку-то. Китайская все-таки, стогько веков стгоили! А вот и невеста твоя. Смотги, кака кгаля!
Я настолько обалдела от этой наглости (меня – и женить?! Да я даже замуж-то ни за кого не хотела), что стала машинально рассматривать невесту. Или начал? Б-р-р…
В общем и частном, женщин я не очень люблю: эгоистичные мало– и развитые существа, вечно претендующие на “что-то большее” – им всегда хочется “чего-то большего”, если вы замечали. Ладно, не к столу сказано. А тут еще “краля” эта… Маленькая, хроменькая, горбатенькая, минимум девяноста лет от роду, она несла себя подобно королеве, вверившей микробный свой шлейф юному темнокожему пажу с глазами цвета переспелой вишни. Но самым гнусным оказывалось то, что хроменькая невеста нацеливала отвратительную свою пасть прямо на мои губы! О!..
Тут-то я заорала (или заорал?):
– Да по какому праву? По какому такому праву ты м е н я, кот поганый, женишь? Кто сказал, что Я этого хочу? Да ты посмотри на старуху, из нее песок скоро посыплется, а все туда же – ишь, стерва, уже в койку заманивает! – чуть не стошнило, когда увидел/а, как невеста приглашает меня в постель. Папы-мамы, между прочим, постель!
– Ничего, стегпится-сгюбится, – промурлыкал кот, рассматривающий слайды: сейчас был как раз “Неравный брак” Пукирева. – А вот и документы. Все в ажуге. Твоя подпись?…
Я удивленно взял/а бумажку и увидел/а свой бессмертный автограф. Расписка.
– Да пошел ты! Ничего я не подписывала! Это фальшивые документы! Ты просто подделываешь почерки, а мою загогулину подделать всего-ничего… Да ты сам подумай, котяра! Ну неужели я с этой ведьмой буду жить?! – последний довод показался мне наиболее рассудительным, но кот только подмигнул:
– Ты пгиггядись погучше!
В это время моя продвинутая соседка за стеной на всю громкость включила Арефьеву. Наверное, это было в тему, в масть, – но кому?
Ищет дедушку Интерпол,
А он – девушка:
Сменил пол…
Я в ужасе начал/а приглядываться и в какой-то момент увидел/а на постели миниатюрную брюнетку с родинкой над верхней губой слева. Ее ретро-обнаженность, напоминающая однажды виденные эротические картинки начала прошлого века (“Ученые дамы” – так, кажется, они назывались), почти принуждала собой воспользоваться. Тогда я, совсем растерявшись, хлопнул/а кулаком по столу:
– Кот, а не кажется ли тебе, что перед свадьбой нужно хотя бы познакомиться? Не Азия! И вообще…
– Знакомьтесь! – кот ухмыльнулся и закурил сигару. – Говогите! Вгемя пошго.
Я, поборов нечто, не имеющее названия, возникающее в случае, когда вас насильно женят на женщине, подошла (или все-таки подошел?) к брюнетке и ойкнул/а. Одна ее часть оказалась юной, влекущей. Другая – та, что находилась ближе к стене и которую сразу было не разглядеть, – старой, страшной. Голову даю на отсечение, ничего более уродливого вообразить не представлялось никакой возможности. “Надо линять, – подумал/а я. – Чем скорее, тем лучше. Но только чтобы она сама так решила, иначе кот с меня живой не слезет”.
– Э… милая… – подозвал/а я ее. – Какого дьявола ты здесь околачиваешься?
Она не ответила.
– Э… милая… Видишь ли, я никогда на тебе не женюсь, будь ты хоть Синди Кроуфорд.
– Почему? – поинтересовалось 0,5 брюнетки.
– Потому что я – женщина.
– Ты – женщина? – 0,5 старухи расхохоталось.
– Так… – я начинал/а злиться не на шутку. – Еще одно слово – строем в космос пойдете. Обе! Выдры…
– А как же контракт? Ты же контакт подписывал!
Здрасть-пжалста! “Подписывал”! Надо ж так меня опустить!
– Поддельные документы. Насильственная смена пола в измерении, мне неведомом. К тому же в бессознательном состоянии.
– А как же первая брачная ночь? – в один голос заохали 0,5 старухи и 0,5 брюнетки.
…И тут все полетело вверх тормашками. Через какое-то время я обнаружил/а, что стою на голове, а кот – на ушах. Все было перевернуто вверх дном, – но нет, не подумайте: ровным счетом никакого беспорядка. Просто все перевернулось.
Кот уныло стряхивал пыль с горностаевой мантии, сказочным образом оказавшейся у него на плечах. Невеста же, поворотив ко мне лучшую свою часть, скалила свежеотбелённые зубы. Кот тем временем взял большую коробку и, соорудив из нее нечто вроде кафедры, надел дурацкую треугольную шапочку с нелепой кисточкой (никогда не знала, как та называется) и толкнул речь.
Речь на Кота тумбочке (расшифровка стенограммы)
Мигостивые судаги и судагыни! Дамы и пгости-господи! Калюжанки и сосгуживицы! Сотгудники и сотгуднички! Годственнички бедные и сиготы казанские! Гости незваные и монгого-татагы! Господа хогошие и нехогошие, тогстые и тонкие, здоговые и богьные, беднейшие и богатейшие! А также их годитеги, дети, погюбовнички, дгуги и дгужки, товагки и товагищи! Годные и бгизкие покойных! Пгишествеи мое всгечайте!
Новой фигософии молитеся, ибо Я есть истинный ваш гугу, а кто сгова такого не знает – учитегь. Дык! Я пгишел, чтобы дать вам вогю: а пгисгоняться к двегным косякам, выходить на подмостки, пить иги не пить, – тепегь гадать нечего. Дышать газучились, смегтные мои! Цигуном бы позанимагись хоть – богьно погезен! Подышаги-подышаги! Упс… В здоговом теге – здоговый дух, на самом деге – одно из двух… А как насчет подумать? И нечего в кгозет говмиться, пан пгофессог! Как же так? Ай-ай-ай… Книжицы не тогько писать, но и читать надобно-с: ученье – свет, туннегь дгинный… А вы, господа инженегы? Окно в миг – “гадуги” да “сапфигы”…
Пгишествие, Пгишествие мое встгечайте! Да помните: коги все, как есть, оставите, Системка поедом съест! Кого-кого. Да тебя пегвого и сожгет! А ежги кто, пгостите, эвогюциониговать хочет, читайте книжки мои ученые. Там и пго потенциаг, и пго… Да уймись, дугачина, не там ищешь! Потенциаг, говогю, котогый еще до гождения в тебя вбиги. Застегнись, не вгемя… Дегаем паузу… Та-ак… Кто хочет эвогюциониговать, пгошу тепегь поднять гуки… Гогосуем. Так… Тгиста тгинадцать… Так… Семьсот четыге… Пятнадцать тысяч… Та-ак… Шестьсот девяносто тги… Так-так… Пять миггионов… Согок тги… Девяносто девять… Так-так… Миггиагд четыгеста! За мной! Угга!! Даешь!!!!! Что так вяго? Что так вяго, спгашиваю? М-да, богатыги – не вы… А вам, дамочка, только бы ссыгки на цитаты и указывать: ничего, ногмагьно по ночам спите? Классики и совгеменники в кошмагах не явгягись? Ах, дискугс… Виноват-с: с мегтвыми или о дискугсах, или о гитпроцессе!..
Э-эй! Есть кто живой? А кто живой, тому Системку и оценивать. Как-как, а-дек-ват-но. И без иггюзий! Что такое “иггюзия”, маррриванн? Ну, это догго: читала б ты словагь в шкоге… Поговогим гучше, к пгимегу, о Законе. Закон – эт что? Пгавильно, сгедство подавгения, Вовочка. Кого? Что ты, Вовочка, говогишь такое, повтоги?… Пгавигьно, сгедство подавгения масс. Вас, значит, сгедство подавгения. Потому как не вы законы пишете, а те, у кого бабга богьше. Но, скажу по секгету, кто Системкой-то вогочает, тот самый и ущегбный. Коголь-то ваш, сгам пиагом-то пгикгывший, вам с тги когоба наобещаг, – вы и гапки квегху. А потом – оппаньки: вымя есть, а хегеса – нету! Но, что ни говоги, жениться по любви… Аггочка, догогуша, погодите… В общем, Системка до тех пог стоять будет, пока вам ее кговушкой своей когмить-поить не наскучит. Есги в микгосхемку ее – погоди, маррриванн – впишетесь, на хгеб хватит, а на нет и суда нет, один Стгашный да гогодный. Как пгогибаться пегестанете, вас – ам! – оппаньки: и нет вас, да и кто скажет, что быги?
А-у, гю-ди-ии! Слышите? Запашок откуда-то, не пойму… В штаны нагожили, никак?.. Ты, вот ты! Ты пошто к стенке жмешься? Пошто когенки дгожат, я тебя спгашиваю?! Пгидумал себе дядьку с богодой, тги буквы на корону его нацепиг… Дугачина ты, пгостофиля… Всё б тебе на печке…
Попаги вы, бгатцы… на одном месте уж скогько топчетесь? Всё фогм непогноценности ищете: да взять хоть б киношки с газетками. Заагканить же вас ими хотят, на-ту-гагь-но! В плен инфогмационной фикции – да-да! – ведут: что-то, дескать, “пгоисходит”. Но ни-че-го не пгоисходит, тогько вы в овощи пгевгащаетесь, дгуг дгужку по магкам часов мегяете… Моцарррта – пгокладками – на части гвете… Кто такой Моцарррт? Гучше могчите!.. Потому и похогонен в могиге для бедных: да не вогнуйся, сгышь? Тебе не снигось: я ж сказаг – могигы такие тогько гениям погагаются… Тебя ж, ванёк, хоть и дугак ты, за идиота дегжат. Как почему? Что носишь? Жгешь? Пьешь? Дышишь как? Сам, что ли, допетгил? Когда, с кем, сколько газ? Не живешь ты: инстинктики убгажаешь! Как смею? Дык Пришествие ж! Тгетьего не дано… А ты, запиши, запиши, пейсатигь, не то забудешь: “Чеговек – ничто без гиста, втигающего ему: “Это ты”. Но это – не ты…”.
С этими словами кот, единственный нормальный человек нашей веселой и счастливой семейки, начал резко уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться… и через минуту, став не больше здоровенной крысы, легко запрыгнул мне на плечо. Тогда же вернулось ко мне и прежнее мое обличье.
И… гладя великолепную шерсть кота, не сходящего с моего плеча, я снова слышала, как мама гоняет отца по квартире. “Лара! Ларочка, уймись!” – кричал он, пряча бутылку, а хитрый дед хватался за ружье, а бабка грозила пальцем, а сестра затыкала уши ватой и поднимала с пола упавший томик Ювачёва, а в доме, который построил Джек, синица воровала пшеницу, а я хныкала на балконе – мне на самом деле так хотелось на море (просто пройтись босиком по берегу!), но оно было временно недоступно по глупым, лишь издали – одушевленным, причинам…
[Пантера Таврическая]
“Южная оконечность Великой Степи – р-р-р-раз, северная часть Средиземноморья – р-р-р-два, субтропики ЮБК – р-р-р-три. Еще что-то… р-р-р…” – она с недоверием в который уж раз косилась на разбросанные прикрытия плоти и как-то невесело закидывала то одно, то другое в дорожную сумку.
– Шурмен ка йа виссабон! Ламенска тана виногальдо доменте! Парамиз шассон де ву бижу! Спрайтиш калченштреххен зи марф! – набросили на нее шарф слов, пытаясь затянуть на шее.
– Т-с-с, – скинула она горсть букв. – Т-с-с!
Она подошла к шкафу и, достав из его чрева потрепанный том “Мифов народов мира”, о существовании которого никто, кроме нее, уже не помнил, раскрыла: зеленоватые бумажки обожгли узкую ладонь. Она положила их на дно сумки, потом, взявшись за тонкое кашне, мечтательно потянулась, а через секунду поджала одну ногу, будто цапля, однако медитации не получилось:
– Де ла мюн! Партоничельсе карамисо! Тун-тун яхо сан! Лвапендремозо торквенчесло! Бат инстиглиш ворумен куд би чин! Зоймахерр гонештут!
– Т-с-с! – она покачала головой, снова стряхивая с себя что-то. – Т-с-с!
– Вон ит биге! Ласт вукрсандавито! Изщигликурсен мойо! Турунхаузен вальтшнапсе! Дарблюммер хайсе вуннекракеншмайн! Эолло пинсо капитоленте! Що го бо уж то ви натпа!
– Т-с-с, т-с-с… – отбилась она, отработанно увернувшись.
– Кур де при винте! Фане блюмерсанте! Компорамиссимо! Херугвинато каматабука! Цекута канария! Бомплежеон форвинтека! Энд каф энд каф энд каф энд каф…
– Т-с-с, – она прижала палец к губам и, хлопнув дверью, вышла.
Поезд – только предлог, думает она. Как в-, с-, по-… Предлог, чтобы не возвращаться. Ощущение. Одно сплошное ощущение. Дынная сага. Авантюрный аквамарин. Движение. Комбинации узоров. Мыслеотточия. Мозаика переплетений. Хастыбаш: “больная голова”, с татарского, – слышит она. – Летайте самолетами, пока не разобьетесь.
Бежала долго, не желая понимать ни одного их слова: на улицах же говорили именно так – дольше, чем я могла предположить. Громче, чем могла перетерпеть. Поэтому всё. Поэтому и оказалась в домике у горы: его обвивали инжир и виноград, а рядом пристроились слива и кипарисы. Я не купалась, довольствуясь, так скажем, видом сбоку. Я приехала к морю, как приходят в Театр Кабуки невежды, не понимая элементарной цветовой символики. Мне нужен был только воздух. Воздух и вид из окна. Воздух и вид, чтобы не.
Я ни с кем не разговаривала. Я дышала да ложилась спать раньше, чем затухал чей-нибудь вечерний мангал – ложилась рано, чтобы встать с рассветом и смотреть на море. Сбоку: я ни разу не зашла в воду.
Однажды вечером я обнаружила на веранде невиданных размеров пантеру. Какое-то время мы сидели молча, разглядывая друг друга. Я видела ее пронзительные глаза, уши-локаторы, вздрагивающие при малейшем шорохе, шикарную черную шубу и острый коготь, торчащий из бархатной подушечки, удар которой… Пантера прервала молчание первой:
– Ты думаешь, будто сможешь убежать от того языка? – она грациозно прыгнула в шезлонг. – Думаешь, найдешь здесь покой? – она словно смеялась.
– Не знаю, – ответила я, потому как действительно не знала. – Во всяком случае, с тобой я вполне сносно обхожусь без словаря, а там… – там без него никак!
– Придется занести тебя в мою черную книжечку, – проурчала пантера и ловко достала откуда-то из-за спины нечто в черном кожаном переплете, на котором красовалось серебряное тиснение – вот только разобрать надписи я не смогла.
– А что это за… книжечка? – поинтересовалась я, не испытывая, как ни странно, большого любопытства.
– О! – только и проурчала она. – О! В книжечку я впишу сегодня твои желания, касающиеся следующего воплощения. Ну, ты понимаешь, о чем я. Не всем так везет перед тем, как. Ты же понимаешь… – повторила пантера, плотоядно заурчала и повернула голову в сторону моря: оно было чертовски красиво, мо-ре… – Желания на предмет расы, пола, страны, родителей… Сегодня ты держишь в руках Сансаркин круг! – с этими словами пантера бросила мне обыкновенный надувной круг с надписью на одной стороне “Не допустим падения курса ру…”, а на другой – “…бля”.
Я положила Сансаркин круг на землю и спросила:
– Почему ты пришла ко мне?..
– Не задавай лишних вопросов. Карму выбирай, пока солнце не зашло. Другая б на твоем месте давно… – с этими словами пантера открыла книжечку и, сладко зевнув, перевернула страницу, обнажив девственно-чистый, нежнейший пергамент. – Хочешь денег? славы? любви? Что хочешь, то и будет. Попозже. В следующей жизни. Стопроцентная гарантия.
– Другая бы на моем месте и в море купалась… Ладно, погоди! И во сколько же ты оцениваешь столь интимную услугу? – как будто во сне, продолжала спрашивать я пантеру.
– Сегодня рекламная акция. Я же говорю, тебе повезло! Обычно перед тем, как должен умереть кто-то, интересный мне с точки зрения потенциала, я прихожу к нему и делаю предложение. Ну, вот как тебе сейчас. А так как ты… Ну, ты понимаешь… – пантера как будто смутилась, – в общем, нет времени объяснять. Это твоя единственная возможность пожить в нормальных условиях и в нужном окружении, – пантера ударила хвостом по земле, подняв пыль.
– И скольких ты осчастливила? – поинтересовалась я.
– Немерено, – оскалилась пантера и, достав “Parker”, принялась с необыкновенной ловкостью крутить ручку в лапах. – Поторопись, солнце заходит, мне нужно успеть… – она подняла глаза к заляпанной жиром лестнице в небо.
– Не хочу, – выдавила я.
– Ты что, сумасшедшая? Упустить такой шанс! – пантера смотрела на меня как на больную. – Второго раза не будет – второго раза не бывает в принципе! Ты опять будешь гнить, и… Если б ты только знала… – в глазах ее читалось неподдельное сожаление.
– Ты не поняла, – остановила я ее. – Я просто не хочу больше рождаться. И вообще – ничего не хочу больше: ни денег, ни расы, ни пола… Ни камнем, ни деревом. Ни собакой. Ни-кем. Ни-че-го, понимаешь? Ты можешь записать в свою книжечку именно это? Я больше никогда не хочу рождаться! Я хочу быть ничем. Пустотой. Это возможно? – в глазах стояли, разумеется, слезы.
– Х-м… – пантера с искренним интересом посмотрела на меня. – Вообще-то, в рекламной акции нет такой услуги. Но бывают еще и спецпредложения; нужно поискать в архиве… Однако ты первая, просящая о подобном в этом месяце. Может, еще передумаешь?
– Шурмен ка йа виссабон! – заорала я. – Ламенска тана виногальдо доментне! Парамиз шассон де ву бижу! Спрайтиш калченштреххен зи марф! Де ла мюн! Партоничельсе карамисо! Тун-тун яхо сан! Лвапендремозо торквенчесло! Бат инстиглиш ворумен куд би чин! Зоймахерр гонештут! Вон ит биге! Ласт вукрсандавито! Изщигликурсен мойо! Турунхаузен вальтшнапсе! Дарблюммер хайсе вуннекракеншмайн! Эолло пинсо капитоленте! Що го бо уж то ви натпа! Кур де при винте! Фане блюмерсанте! Компорамиссимо! Херугвинато каматабука! Цекута канаррья! Бомплежеон форвинтека! Энд каф энд каф энд каф энд каф…
Последние лучи солнца медленно исчезали за верандой. Душистый воздух убаюкивал. Незванная гостья таяла у меня на глазах. Когда солнце спряталось за море, я увидела, как Пантера Таврическая, – а именно так ее звали (я прочитала это на листике пергамента, вырванном ею из книжечки), – прыгнула на крышу соседней дачи. Дама в черном резко ударила хвостом по шиферу и в последний раз улыбнулась мне: странно, я никогда не видела ее больше – ни на Том, ни на Этом.
[йога forever]
Кеведо-и-Вильегас
- Я, точно Феникс, яростным объят
- Огнем, и в нем, сгорая, возрождаюсь,
- И в силе мужеской его я убеждаюсь,
- Что он отец, родивший многих чад,
- И саламандры пресловутой хлад
- Его не гасит, честью в том ручаюсь.
- Жар сердца моего, в котором маюсь,
- Ей нипочем, хоть мне он сущий ад.
Я сняла шлюху, с шестого на седьмое – гулять, так гулять: январь зубами скрежетал, кулаками грозил, в лицо метель пускал: “Не положено!” – а я хохотала, а в сумке болтался известно какой томик Н.В. Казалось, вот-вот, и кузнец Вакула с красавицей Оксаной покажутся на Остоженке, а то и сам черт с украденным месяцем под мышкой свернет в Первый Зачатьевский, только его и видели! “…поглядите на меня, как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна!” – “Чудная девка!” – услышала вдруг я, а потом увидела – и Вакулу с Оксаной, и – да-да! – самого Чёрта. Он был скорее симпатичен, нежели уродлив, и вызывал улыбку – хотелось гладить его, будто собаку: впрочем, проходившая мимо дама с веревкой на шее и молотком в руках, чье лицо показалось мне знакомым, покачала головой: “Да, черт мой лопнул, не оставив от себя ни стекла, ни спирту” – и, как-то нехорошо рассмеявшись, вбила первый гвоздь в морозный воздух, сотрясаемый криками странных деток. “Колядин, колядин, я у батьки один, по колена кожушок, дайте, дядька, пирожок!” – галдели о н и у перекрестка: деткивторой свежести, детки с истекшим сроком годности. Просроченные детки! – я точно знала, их кости сгнили лет двести назад… У того же перекрестка стояла бывшая в употреблении девица и, набирая снег в передник, жалобно подвывала: “Полю, полю белый снег на собачий след, где собачка взлает, там мой суженый живет…” – после второго развода, впрочем, слово “суженый”, как и синонимы, провоцирует у меня мигрень.
В общем, пахло палёной кожей, содранной с того самого места, которые иные персонажи – “Привет, персонаж!.. Не слышит…” – называют душой. Однако не к каждому Рождеству покупаешьтакое. Вот, скажем, словарь Ушакова толкует “девочку” как “ребенка женского пола, малолетнюю девушку”, и только вторым пунктом идет “женщина легкого поведения, проститутка”; морфемно-орфографический же, как всегда, сухо расчленяет – “де?в/очк/а”, и ничего не толкует, а потому…
– Потолкуем? – я кладу руку ей на плечо: даже сквозь шубку оно кажется жестким. – Сколько? – спрашивает шлюха, косясь на мой массивный браслет, напоминающий кастет. – А сколько ты сегодня стоишь? – Она называет “праздничную” цену. Я морщусь: – Ок. – Только без садо, – предупреждает она, и я чувствую, что больше всего на свете хочу дать ей в зубы. До крови, до крови, до самой последней капельки крови, похожей на подкрашенную воду. “Мама, ты обещала сказку!”
“Там, где Небо сходится с Землей, в сверкающем ледяном дворце, жила-поживала Жёсткая Девочка. Целыми днями писала она алмазным стержнем стихи, слушала механических птиц, живших в серебряных клетках, да оттачивала асаны. Стихи ее были столь же красивы, сколь холодны – строка за строкой, строка за строкой! Иногда она сама мерзла от собственных слов, но – что поделать? – с природой не поспоришь.
Каждый, кому выпало увидеть ее хоть раз, тут же терял покой – одно слово, красавица! Волосы – что заря утренняя, глаза – что волна морская бирюзовая… А на лютне играет как – заслушаешься! Только вот незадача – никто ей не нужен, ничего не хочет: всем женихам отказывает, – а женихи один одного лучше: уезжают в растерянности, дары свои обратно увозят… Не берет Жесткая Девочка ни шелка, ни злата, любовь старую позабыть не может. А любовь-то лютая, лютая! Скелетом в шкафу притаилась, прошлогодним снегом прикинулась, листом сухим, змеем бумажным: сколько слез пролила она, того никто не узнает – и ни к чему…”
Улыбаюсь: дорого, круглосуточно. Мне нужно купить подарки и отвезти из пункта А в пункт В, детёнышам и гувернантке: да, сегодня, да, не рассчитала время. “Пристегнись!” – говорю, захлопывая дверцу машины. “А ничё у тя тачка!” – шлюха закуривает. Мы едем-едем-едем: голова кругом – и уже кажется, будто тот самый Черт с месяцем под мышкой подмигивает мне со стороны Гоголевского бульвара. “Выпить купи…” – просит вдруг она. Задрипанный продуктовый в Дегтярном переулке, пластиковый пакет, продавщицы без следов интеллекта на лице – ладно, ладно, какая разница? Шлюха пьет мартини из горлышка: ей, впрочем, идет – чем-то она похожа на цыганку… “Эй, тёть, ты чо? живая?” – тормошит, лучше б молчала. – “Что? – поднимаю брови. – Никаких т ё т ь, усвоила?” – “…ты ж минут десять в одну точку смотришь… чо, может, прям щас? Чо тянуть-то…” – мы едем-едем-едем. Мысль о том, что к ней придется прикоснуться, вводит меня в ступор. “Улыбайтесь!”
Олля – необъятных размеров женщина, как называет ее младший, пытаясь скрестить Олю с Олле Лукойе – открывает дверь: когда очень нужны деньги, можно посидеть и с чужими отпрысками. Кто-то находит, что лучше мыть сортиры – это, разумеется, личное дело каждого. Свобода воли и право выбора: “Я не знаю, как быть, у меня два решения” – вытирать сопли или драить унитазы, если третьего не дано. В среднем каждый человек проводит в WC три года жизни; если же заняться другими подсчетами, станет и вовсе тошно. “Мама, мамочка, я соскучилась! – кричит старшая, и я тут же выключаюсь. – Что ты нам принесла сегодня?” Я ставлю на пол коробки и говорю, что распаковывать их можно лишь после моего ухода, иначе они растают, и, целуя детёнышей, исчезаю. Я, возможно, “не очень мама”. С другой стороны, детёныши ни в чем не нуждаются. Этот пункт из графы “совесть” можно вычеркнуть. Хотя бы этот. Оба чувствуют, впрочем, мое тепло. Но вот действительно ли я люблю их – или это встроенное в мозг чувство долга, инстинктивный “автомат” самки?.. Самки, у которой есть шанс стать через энное количество лет в их глазах “отработанным материалом”?.. “Муки ада” – не только блистательный рассказ Акутагавы: м у к и а д а есть безостановочное подтверждение осознания того, что ты не можешь выдать необходимую (всегда кому-то, не тебе) порцию чувств. “Олля, с Рождеством!” – она всегда берет конверты так, будто не знает, что в них. “А дальше, мама, что дальше?”
“Как-то, прогуливаясь по своему ледяному саду, Жесткая Девочка вдруг остановилась, услышав за спиной летящие шаги. “Кто здесь?” – спросила она, не надеясь, впрочем, на ответ, однако ей ответили: сначала каким-то необычным пением (так, наверное, поют в лесах дриады), потом – запахом (так благоухает жасмин, влюбившийся в бабочку), а вскоре увидела самую настоящую Фею – в руках ее была изящная волшебная палочка, а за спиной – прозрачные крылья. Лицо ее лучилось, глаза сияли: “Я пришла, чтобы согреть тебя”, – улыбнулась Фея и, подойдя к Жесткой Девочке, поцеловала в лоб. “Согреть?! – отстранилась она. – Меня?.. Но я ведь ничего, ничего, ничего не хочу – и даже чуда… Зачем ты пришла? Неужели волшебницы до сих пор не научились читать мысли?” – Фея грустно покачала головой: “Я пришла, чтобы ты окончательно не заледенела. Твоя душа должна оттаять, и когда это произойдет…” – “Нет. Я не нуждаюсь в поблажках, к тому же не верю тебе”, – сказала она расстроенной Фее, которую уже уносил на своих могучих плечах Юго-Западный Ветер. “Ни один покой не стоит любви, глупышка!..” – шептал разбуженный волшебными слезами Феи Дождь, но Жесткая Девочка его не понимала и потому не слышала”.
Внутренняя истерика – это всего лишь внутренняя истерика: не больше, но и не меньше. Иногда я кажусь себе Каем, собирающим тщетно треклятую вечность… однако Герды не будет, не будет: Герды с л у ч а ю т с я лишь в сказках. Когда-то девчонка возненавидела их лишь потому, что единственно желанную книжку с великолепными картинками ей так и не купили. Ханс Кристиан Андерсен, “Сказки и истории”.
“Что не угробит, то укрепит”, – успокаивала меня бабка, она же простой советский патологоанатом, она же бабзоя – змея особо ядовитая, и добавляла: “Мертвых бояться не надо. Бояться надо живых!” Фразы эти повторялись регулярно за столом и, вероятно, не слишком благотворно действовали на детскую психику. “Нас е…ут, а мы крепчаем!” – крякал дед из другого угла, подмахивая водочку: он, впрочем, был специалистом по немертвым (прилагательное, слитно) телам – работал в виварии. Когда я узнала, чем на самом деле он занимается на работе и что скрывается за фразой “прошло дерматологический контроль”, сбежала из дома: мне едва исполнилось тринадцать. Обнаружили беглянку, чудом не распотрошенную, через двое суток на Казанском. Бабка с криком вцепилась мне в волосы, дед выругался так, что, кажется, даже серым крысам в форме стало неловко, а mama… mama была на гастролях и ни о чем не подозревала. Мне ли винить Ее? Ее, одинокую и талантливую, всю жизнь разрывавшуюся между музыкой, мужчинами и саднящим псевдодолгом? Но мужчины уходили и приходили, “долг” давил, а музыка оставалась. Так Инструмент стал Ее единственным Возлюбленным – и это было священно, это не обсуждалось. Иногда, впрочем, в мою наивную душу закрадывались сомнения: так ли необходима mame эта музыка? Насколько я помешаю maminoi интерпретации le grand Couperin? Разве не может mama заниматься при мне? Разве нет в Ее квартире пространства, которое могло бы вместить и меня? Я сидела бы тихо, как мышь… Я не смутила б Ее ни словом, ни взглядом – я впитывала бы в себя Ее волшебные звуки, представляя, как скользят царственные руки по клавишам… ей-богу, я отдала бы за это много лет жизни… тогда, не теперь. “А потом, мама, что потом?”
“Больше всего на свете Жесткая Девочка любила смотреть на айсберг, что был виден из ее башенки: часами простаивала она у окна, наблюдая за тем, как солнце целует ледяную макушку – ему ведь все равно, кого целовать, солнцу, – и представляла себя одиноким обломком глыбы, затерявшейся в океане. Что именно, впрочем, с ней произошло, Жесткая Девочка забыла – лишь одно воспоминание не отпускало, лишь оно одно не давало полностью насладиться покоем и безмятежностью ослепительно белых чертогов… А чтобы избавиться хотя бы на какое-то время от непрошенных мыслей, Жесткая Девочка открывала сияющий ларчик и со слезами на глазах доставала оттуда волшебные иглы. Стоило вставить одну под ноготь – и сердечная боль отпускала: главное – вводить иглу в центр и ни о чем не думать…”
Я прожила в холодном – ледяном? мертвом? – доме деда с бабкой на Преображенке около пятнадцати лет: когда mama сделала окончательный выбор между мной и клавесином, когда я поняла, что Инструмент значит для Нее гораздо больше какой-то девчонки, я закрылась окончательно – долгие годы никто не мог выманить меня из раковины так называемой внутренней эмиграции (да, собственно, никто особо и не стремился), явившейся на тот момент времени единственным спасением от нелюбви. Иногда mama, впрочем, напоминала о Себе – афишами, редкими пригласительными, звонками в четыре утра под шофе: “Крысик, не спишь?” – Она называла меня К р ы с и к, да. Чаще всего на концертах звучал, разумеется, Ее обожаемый le grand Couperin – я, кажется, наизусть выучила тогда “Тростники” и “Бабочек”, “Сборщиц винограда” и “Испанку”… Она была очень артистична, mama, и очень элегантна – всегда, даже в периоды депрессий, не устававшая повторять: “Чем мне хуже, тем лучше я должна выглядеть” – не потому ли, казалось мне, маска приросла к Ее лицу, а сердце совсем онемело? (лишь позже я пойму, что только так и можно, только так). Ее концертные платья по сей день остаются для меня образцом стиля, верхом совершенства – или насчет совершенства все-таки тогда казалось?.. Не знаю, не знаю… помню лишь полные залы, скучные (всегда не мои! чужие!! мне же не на что!!!) цветы и треклятые аплодисменты… Она часто снилась мне после этих выступлений, одетая по французской моде семнадцатого века – о, корсет, о, пышные юбки, о, широкий распашной роб (дворянка, конечно!) да парчовые туфельки на долгом изогнутом каблуке!.. Или: высокий стоячий воротник на каркасе, буфированные рукава, башмачки с заостренным носом из цветной кожи… Или… Или… Тогда-то я и начала рисовать: на любом клочке бумаги моментально появлялись платья, носить которые полагалось лишь избранным; так история костюма, вошедшая через врата боли в мое сердце, стала “делом жизни” – много позже я выучилась на модельера… да что там, я даже успела преподнести mame платье: такого не было у самой Снежной королевы! За это я полгода мыла полы в одной цирюльне: есть ли что-нибудь красивей муара, парчи и кружев?..
“От боли можно было легко потерять сознание, но что оставалось делать? Нужно забыть, просто забыть и м я, повторяла Жесткая Девочка. Иглы входили под ногти если не легко, то, по крайней мере, уже без особых усилий – и даже обмороки случались все реже. Ничего не было – да ничего и не могло быть: чудо любви уснуло: а может, и умерло, кто знает?”
Я всегда немного терялась, перед тем как нажать на кнопку – пальцы жгло! – звонка. Ее звонка. Ведь Ей, mame, всегда было некогда – Она либо спешила на репетицию, либо “только вернулась”. “…мелодика итальянского стиля соединяется с французской манерой, вот и всё! – открыв дверь, Она кивнула мне, продолжая говорить в трубку. – А “Les Ordres” 1717-го ставлю в ближайшую программу…”
Я не знала, как вести себя с Ней – рыжеволосой колдуньей с фиолетовыми (линзы) глазами, по ошибке, возможно, назвавшейся mamoi; быть может, думала я порой, это действительно “сбой программы” и где-то живет мама? Отец меня как-то не занимал – я его, собственно, тоже. По словам бабки, не привыкшей церемониться, он относился “к категории приматов, рассматривающих самку исключительно как приспособление для слития спермы”, и лишь животный страх mami избавил Ее uterus от кюретки для выскабливания – так, собственно, родилась я.
“А знаешь, – mama резко кладет трубку и тем же самым голосом, очень ровным и сдержанным, произносит, – когда я еще училась в консе, мы со скрипачкой решили гадать на Святки – суженый-ряженый, вся эта чушь… А январь под Рождество… ух! Лёд один. Пальцы к перчаткам чуть не примерзли, пока до Малой Грузинской добрались: иногородние-то из общаги их по домам разъехались, скрипачка одна в комнате осталась – ей до “ямала” ее дорого лететь очень было… Ну вот, все, как надо – и даже ключ с зеркальцем под подушкой для сна-то вещего… заговор какой-то специальный в полночь, чтоб “суженый” проявился, прочитали… Бред, конечно – а кто в двадцать хоть раз не бредил? Свечи в зеркальном коридоре, в который смотреть надо, не отрываясь, отражаются… Как вчера! “Гадай, гадай, девица, в коей руке былица, – она на миг запнулась, – …былица достанется, жизнь пойдет, покатится, попригожей срядится, молодцу достанешься, выживешь, состаришься…” – из учебника по народному творчеству, кстати, да… И что-то мне тогда так тоскливо стало! Мало того, тоскливо – страшно, тошно, ужас! В такие моменты и ноты забудешь, и имя… А за окном вьюга, каждый шорох за нечисть принимаешь… а потом она, “нечисть” эта, так в зеркало и лезет! Правда. Смотрю – глазам не верю: вместо суженого-ряженого, черт бы его подрал, одни рыла свиные мерещатся… ясные такие, отчетливые. Живые… Я как закричу! А потом как зареву… А ведь, как ни крути… – mama смотрела сквозь меня, – так все и вышло. Ни одного лица за всю жизнь. Рожи одни. Рыла свиные. Это только кажется: люди. Если б не музыка…” – я ненавидела Ее Станок. Французских клавесинистов. Le grand Couperin. Едва ли это приходило Ей в голову. Я простила, конечно, простила. “Мама, почему ты молчишь?”
“Снежная королева хохотала: ни одной фейке с крылышками не устоять против ее вечной мерзлоты! А то, что мальчишка сбежал… так когда это было! К тому же сказочника давно нет, да и какая, в сущности, разница? Сердце девчонки превратилось в иней – ничего, еще немного, каких-нибудь несколько зим, и из нее, пожалуй, получится ценный экземпляр!”
– Давай-ка, пошевеливайся, – приказала я шлюхе, и та, проворно выскользнув из лифта, проскочила в квартиру. Я включила свет и начала разглядывать ее: крупные пухлые губы, темные миндалевидные глаза, смуглая кожа… Она привычно – причем абсолютно не эстетично – начала раздеваться, а я, достав с полки “Камасутру”, прочла: “При посещении мужчин гетеры получают наслаждение и, согласно обычаю, средства существования”. Интересно, получают ли гетеры наслаждение при посещении женщин?
Закурив трубку, я села в кресло и стала наблюдать за ее квазиподростковыми (масочка) движениями: это было, в общем, абсолютно неэротично, хотя, так скажем, и несколько непривычно для меня. Шлюха же, кажется, не догадывалась, зачем я позвала ее, и ближе к полуночи, когда я расставляла зеркала и свечи, заскулила:
– Чего тебе надо? Чего хочешь? Трахнуть? Трахай! В душу только не лезь, – но мне-то как раз нужна была душа, м а т е р и а л, глина: вагина – своего рода моветон.
– Приготовься к допросу, – сказала я.
– Чо? К какому допросу? – взвизгнула шлюха.
– Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Вычислить тебя не составило особого труда. Гадай, гадай, девица…
…она как-то скисла, скрючилась: мне даже стало жаль ее на миг – но лишь на миг: я понимала, что от шлюхи можно ожидать чего угодно.
– Но я не виновата! Не виновата ни в чем! И вообще…
– А кто рыла свиные в зеркальном коридоре показывал? Не ты? Как ты могла лишить человека – любви? Как допустила, что женщина, по сути, долгое время даже ребенка не считала своим? Музыка, мужчины, мужчины, музыка – вот и все, что ты сделала “для нее”, но зачем? Ни один “возлюбленный” не смог – да и не стремился – дать ей то, чего она жаждала, без чего задыхалась… Ни один концерт, пусть и блистательный, не сделал ее счастливой… Странно разве, когда потом произошло именно то, что произошло? А помнишь, как она села в машинку? Помнишь тойотку цвета кофе с молоком? Работающий двигатель, закрытые окна… Ты можешь назвать это окисью углерода, а можешь – угарным газом; можешь даже уточнить концентрацию карбоксигемоглобина в крови и отметить розовато-красную окраску трупных пятен… С шестого на седьмое.
Шлюха попятилась. “Что ты делаешь мама? Чем кончится сказка?..”
“Раз в столетие Снежная королева устраивает представление – дергает замерзших кукол за серебряные нити, а тролль “снимает” их отражения в очередном кривом зеркале: когда зеркало разбивается и осколок попадает в человека, он начинает думать лишь о себе, и ни о ком больше (точь-в-точь, как у Андерсена), а потом окончательно замерзает. Тогда-то он и становится по-настоящему королевской игрушкой: сквозь его фарфоровую кожу просвечивает сердце; видно, как бежит по венам и артериям кровь… раз в сто лет Снежная королева дозволяет себе подобные шалости”.
Резкое сдавливание пальцев вызвало переломы рожков подъязычной кости и щитовидного хряща. Она успокоилась, перестав дергаться, ровно через четыре минуты: следы, оставшиеся на шее (в основном слева), представляли собой небольшие ссадины так называемой полулунной формы. Моя бабка наверняка знала: если их разрезать, будут видны кровоизлияния. Она отметила бы также повреждения в затылочной области, кровоподтеки и, конечно, перелом ребра – кажется, я слишком сильно прижала шлюху к полу.
“Мама! Мамочка!..” – тут и сказке абзац.
Я открыл глаза: солнце, чересчур яркое для зимы, хотело выманить меня из кровати, пытаясь пробиться сквозь жалюзи. “Меня нет дома, солнце”, – с вами говорит автоответчик… Какой непонятный, однако, сон… Я зажмурился, пытаясь восстановить в памяти наиболее интересные эпизоды. Странная женщина, очень странная! И – ощущение, будто я знаю ее. Будто она и я – что-то с л и п ш е е с я, сросшееся: не слишком приятное ощущение, надо сказать. Бесовщина! Как будто эта женщина – я, вот оно что… А мог бы я, как она, убить шлюху? Удавить голыми руками? На Рождество? Да что там убить – хотя бы “снять”? Снять шлюху на Рождество, а потом… Какая тема! Сюжетец. К счастью, я не литератор. Эта публичка в большинстве своем, дабы не совершить ничего подобного, только и делает, что гробит персонажей. Взять того же Бунина: за каждый углом, кустом, поцелуем – смерть! А Фёдор Михалыч? А граф? А?.. Представляю, скольких бы они укокошили, если б таким вот образом не самовыразились! Интересно, что Она думает об этом? Думает ли Она об этом? Кто – Она?.. То, что эта женщина существует, сомнений, впрочем, не вызывало. Более того: я знал, шкурой чуял, Она – близко.
По Остоженке сновали люди в предвкушении свободных (если э т о можно, конечно, назвать свободой) дней. Напрасно, впрочем, им жаловали столько пустоты – мы не Европа: ни одного трезвого на улице. Мне, разумеется, нет до этого никакого дела. За скобками: есть ли мне до чего-тодело?.. Я недавно переехал в этот район (Кропоткинская, предмет “социальной зависти” – уж и определеньице сварганили – пролов): слишком долго не решался оставить Элю, слишком долго боялся, что она натворит дел, расхлебывать которые придется, опять же, мне: а кому еще? Наш брак – именно то словечко – давным-давно загнулся: семь лет – не шутки. Как пишут романисты, “их совместная жизнь стала совершенно невыносимой” – только, возможно, не каждый из них в состоянии отличить – и тем более описать – “действительно невыносимое” от “по-настоящему страшного”. И дело даже не в алкоголе – если б Эля пила, по крайней мере, тихо… если б не истерила… не истерила до пены у рта… если б не била посуду, не швыряла с балкона книги (мои книги!)… если б не требовала, скажем, смотреть на пару телевизор (“это сближает”) – пусть не часто, но все же… да мало ли! Всё в прошлом. Тело – не панацея. Нам, возможно, следовало разбежаться после первой же стычки: с момента знакомства не прошло тогда и пары недель… Но чуда не произошло – она переехала ко мне. Так я, ослепленный, – а кто не ослеплялся хоть раз? не путал интерес, привязанность и влечение с тем, что называют тем самым словом, которое теперь, спустя годы, я даже не решаюсь произнести? – забыл о главном.
Она раскрывалась постепенно – и часто не с лучшей стороны: нюанс за нюансом “раздевали” ее, обнажая изрядно преувеличенную иллюзорность “женской силы”. С Элей было сложно, невероятно сложно, однако я не мог, не хотел, не готов был расстаться – как и она. Стоило ей обнять меня, стоило лишь извиниться, как я “отходил”, причем достаточно быстро – по крайней мере, первые года два: тогда мы еще мирились в постели… что не мешало ей, впрочем, наутро собирать вещи. Поначалу я останавливал. Приводил доводы. Произносил то самое слово, которого не существует больше на карте мира, унавоженного духовными испражнениями двуногих приматов. Эля действительно была дорога мне, но… в том-то все и дело, что одиночество вдвоем – не просто избитая фраза. Одиночество вдвоем есть прежде всего страх полного, тотального одиночества, страх подтверждения собственного краха и несостоятельности, концентрированная ущербность – оно-то и заставляет людей терпеть друг друга годами. Привычка вторична и отчасти иллюзорна: вы привыкли жить с кем-то – привыкнете и без него, вопрос времени… Возможно, в д в о е м комфортнее, возможно, вы даже неплохо ладите и кое в чем “совпадаете”. По всей вероятности, вы нередко смотрите одни и те же фильмы, слушаете одну и ту же музыку… но только ли общие интересы (вот он, целлофанированный хлебец глянца!) держат вас? Только ли секс, который с годами уже и не секс даже, а что-то тривиальное, вроде чистки зубов?.. Только ли дети, которые никогда – ни-ког-да – не оценят “жертвы предков”, не дают вам расстаться?
Как выяснилось, у нас с Элей фактически не было общих интересов – не было, к счастью, и общих детей: все изначально держалось на каком-то особом совершенно тепле; именно оно склеивало любые трещины, латало пробоины, затягивало нарывы. Но и тепло не всесильно: когда я, полностью осознав разрушительную силу союза, окончательно замкнулся в себе, она начала пить. Сначала “невинно”, даже несколько “игриво”, потом – со знанием дела, тонко, “по-умному”, потом… “Муки ада” – не только блистательный рассказ Акутагавы. Муки ада – знаю точно – это когда ваша жена уходит в запой (у х о д и т с утра), длящийся несколько недель или месяцев, а вы ничего, н и ч е г о не можете с этим поделать, потому как стоите на треклятых принципах “свободы воли” и “неприкосновенности частной жизни”, hats off.
Пила ли она раньше? Да. И, судя по ее обмолвкам, довольно лихо, в студенчестве – впрочем, не до фанатизма: “просто” веселый журфак, “просто” квартирники, “просто” svoboda транслитом. Ну а потом – диплом, вереница “приветов с личным”, тщетные попытки выбраться из замкнутого круга, работка в дрянной газетенке и таком же журнальчике, опустошение: кажется, глянец действительно высосал тогда из нее все живое. Так, лет через пять, от невозможности изменить что-либо, Эля кинулась в спасительные (спасительные только на первый взгляд) волны фриланса – первая слабая попытка освободиться хотя бы от офисного рабства. “Гламурные” статьи для “гламурных” барышень (полное, как она говорила, присутствие стиля именно в силу его отсутствия): за них сносно платили, но и только. Эле было смертельно скучно, однако сменить, так скажем, жанр она не решалась: гонорары “за культуру и искусство”, в которых она хоть что-то смыслила, оказывались смехотворными, социально-политические же темы ее не трогали – да и не смогла бы она на них писать. “Я проститутка, бумажная проститутка. Даже не бумажная, нет… Электронная шлюха! – заводилась она, оторвав голову от ноутбука: в глазах читалось отвращение, смешанное с отчаянием. – Если б ты знал, если б ты только знал, как мне все это осточертело, все их кремы от морщин… Они идиоты, просто кретины – нет, хуже, хуже… и мне некуда, совершенно некуда деться… мне банально нужны деньги… все проблемы у людей из-за денег… Вот скажи: если б тебе не надо было работать, ты был бы счастлив? Был бы?..”
Эля любила вспоминать годы учебы, ностальгировать по “чудесным подругам” и “милым друзьям” – не без намеков на лав-стори. Она часто повторялась, путала порой события и страшно обижалась, когда я говорил: “Детка, мы уже проходили…” Эле казалось, будто нескончаемые дубли (дубли, дубли, дубли!), вытянутые из ее “прошлой жизни”, не напрягают чужое ухо – ок, ок, ради треклятого “сохранения отношений” я готов был выслушивать ее байки и два, и даже три раза, и все же… Пятая, седьмая вариация на тему “а однажды мы…” вызывала не просто раздражение, а ярость: Эля видела мой – сначала скучающий, затем удрученный, а потом уже откровенно злой – взгляд, ходящие желваки и, осекаясь, выпускала коготки: “Ты никогда не любил – если любят, не смотрят на часы, а ты постоянно хочешь меня дозировать… мечтаешь заткнуть… тебе не интересно то, как я жила раньше…” – “Эля, я слышал о вашей поездке на озеро как минимум раз пять!” – “Да какая разница? Ведь это говорю я, я! Ты думаешь, будто сам никогда не повторяешься? Еще как! Но только я, в отличие от тебя, имею такт, и никогда, никогда не позволяю себ…” – “Эля, первый час, мне давно пора работать, а вместо этого я должен выслушивать…” – “Я иду за коньяком”. – “За каким коньяком, Эля?” – “Я не могу так больше! Ты совсем, совсем не понимаешь меня, мне больно и плохо, я несчастна, я очень несчастна с тобой… Ты эгоист, ты просто банальный эгоист, живущий по часам… а я – другая… я не могу дозировать себя, и если отдаюсь, то отдаюсь целиком, без остатка… тебе же не нужно ничего, ничего не нужно…” – “Эля, успокойся”. – “Я иду в магазин”. – “Нет, Эля!..” – “Не трогая меня!” – “Эля, прошу, останься… Ты не права…” – “Убери руки! Убери руки, кому сказала! Я у тебя всегда не права! Убери руки, черт возьми…” – “Эля, хватит пить…” – “Не твое дело, убери руки! Да убери ты руки, блин!” – чаще всего мне не удавалось ее остановить и она, порой заплаканная, шла за очередной бутылкой “Старого Кёнигсберга”: в последние полгода ей достаточно было и двухсот пятидесяти, чтобы оказаться если не “в стельку”, то очень хорошо под шофе – я еще не знал, что это за стадия.
Поначалу я пытался ее уговорить, однако уговоры оказывались столь же бесполезными, сколь мучительными. Часами – из года в год (Часами. Из года в год.) – просиживали мы на кухне, часами – из года в год – любимая некогда женщина вливала в мои уши отраву, часами – из года в год, из года в год – обвиняла, обвиняла, обвиняла… Испорченные выходные и отпуска казались “цветочками”: мощный безостановочный извод, извод ежедневный, приблизил нас к черте, переступать за которую недопустимо. Но, видит Бог, я так и не понял, что именно Эля хотела с к а з а т ь мне, до чего стремилась достучаться, в сотый раз доставая очередную “коллекционную” пластинку: “Ты эгоист! Тебе ничего не нужно, кроме компьютера! Мне надоело видеть твою спину – неужели для этого я выходила замуж? Тебе все равно, где жить – совершенно все равно! Посмотри на эти стены – неужели нельзя сделать ремонт? Хотя бы купить новые шторы? По-моему, ты согласишься спать на раскладушке, только бы не ехать в магазин! А я не могу все делать одна, я выдохлась! Мне нужен уют, мне-е-е-е…” – что я мог ответить на ее слезы, чем утешить? Я был вынужден много, очень много работать, на магазин сил не оставалось; к тому же новая должность съела и те часы, которые раньше считались личными – все чаще я засиживался в дизайн-бюро допоздна, да и, что там говорить, домой (если это слово уместно) не торопился.
А Эля спивалась. Методично, целенаправленно, но, надо сказать, не без доли изящества. Спивалась со вкусом. Наблюдать за этим вменялось мне в обязанности – оставлять ее одну было порой небезопасно: несколько раз она не ночевала дома (“Я заблудилась!” – моя первая и совершенно бесполезная для нее в таком состоянии пощечина), частенько обрывала мобильный, умоляя забрать ее о т т у д а, но адреса о т т у д а не знала, и я, хватаясь за голову, сам уже готов был напиться – не знаю, что бы я сделал, случись с ней что-то… А как-то она, сев не в ту маршрутку, заехала в Химки – я обнаружил ее спустя три часа, хрупкую, замерзшую, жмущуюся к стене огромной “Меги”: “Что ты тут делаешь?” – “Стою…” Ее руки сжимали “Старый Кёнигсберг”, уголки губ болезненно подергивались, а полустеклянные глаза чему-то улыбались – возможно, подумал я, именно такие глаза и были у андерсеновской Девочки со спичками, мечтающей о рождественской ёлке?.. Я с трудом усадил тогда Элю в машину; когда же мы подъезжали к дому, она заявила, что хочет пива (не дать полтинник было равносильно бессонной ночи, а я давно забыл, когда спал последний раз по-человечески). Что ж! Я ждал ее у супермаркета пятнадцать, двадцать пять, тридцать минут… Потом, не выдержав, зашел в винный отдел: Эли не было. Я заглянул в молочный, в кондитерский (уже смешно: Эля покупает ночью йогурты и печенье!) – результат тот же. Обежав весь магазин, но так и не обнаружив ее, я вышел на улицу и закурил. Куда она делась? Вдруг что-то случилось? Сколько можно все это терпеть? Что вообще делать-то?.. После детального, почти профессионального, наверное, “прочесывания” ближайших подворотен (“её местечки” были мне более чем знакомы) я обреченно направился к дому. Лифт не работал: я медленно, очень осторожно поднимался по ступенькам, словно от каждого шага зависела Элина жизнь. Оказавшись наконец на седьмом, я замер, увидев беглянку: она спала, спала стоя, прислонившись лбом к нашей двери. Ненависть – слишком сильное чувство; о ненависти речь не шла – я презирал и одновременно жалел собственную жену, и это-то было хуже всего.
Кажется, саморазрушение, подкрепленное бессознательным желанием отомстить мне, стало целью Эли – я ведь оставался собой, а этого не прощают. Вечерами я все чаще заставал ее, свернувшуюся калачиком, на кухонном диване: с коньяком или “жгучим перчиком”, реже – с вином или мартини. Но, собственно, для получения нужного результата требовалось довольно много мартини, а ее сбережения таяли (я перестал оставлять дома деньги, покупал лишь еду и сигареты), да и новых гонораров по причине запоев не предполагалось (Эля все еще каким-то чудом фрилансила, кропала статейки – и о здоровом образе жизни в том числе). “…перчик” же – дешево и сердито – успешно справлялся “с делом”: требовалось не более двух 0.5 в сутки, этого вполне хватало для отключки. Поначалу я еще пытался переносить Элю на кровать – потом же, после того, как она расцарапала мне лицо, пыл поубавился, и когда она уснула на коврике в прихожей, уже не подошел. Я знал, что и завтрашнее, и послезавтрашнее, и следующее за ними утро начнутся с пива, что потом, возможно, в обед, она позвонит мне и, потягивая коньяк, снова начнет – профессионально, со знанием дела – изводить меня, и изведет буквально минут за пять до такой степени, что какое-то время я не смогу работать. Скорее всего, я выйду за сигаретами, хотя в столе будет целая пачка; скорее всего, решу пройтись – пятнадцать минут жизни без мыслей о женском алкоголизме. Просто пройтись. Кайф.
Но просто пройтись чаще всего не получалось. “Включался” тот самый внутренний монолог, который отравляет существование любого двуного бесконтрольным пережевыванием чего бы то ни было – воспоминаний, планов, событий как важных, так и ничтожных. Преимущественно, увы, ничтожных. Иногда мне удавалось его “онемечить”, но ненадолго: обычно же перед глазами частоколом вставали испорченные уикенды и отпуска, заслоняя даже иллюзорную картинку так называемой “объективной реальности”, – безнадежно испорченные, заразные к а н и к у л ы. Вообще, сама мысль о том, что с женщиной можно о т д ы х а т ь, порядком забавляла. Почти все наши с Элей поездки, за исключением, быть может, двух-трех, были тем самым распоротым равновесием, когда вроде бы еще не падаешь, но уже и не стоишь – то есть, как говорил когда-то наш ротный, “ты уже не еще, но еще не уже”: в промежутке, в каком-то чуждом межклетнике. Самое страшное, когда не знаешь, сколько это продлится: то есть, конечно, можно пересчитать дни до отлета, однако цифры не изменят неизбежности падения, оглушения, инерции возвращения – ночного кошмара, испарины, полной окурков пепельницы.
Закатив в Паттайе (как когда-то в Шарме, Суссе etc.) очередной “концерт”, она просыпалась и, как ни в чем не бывало, спокойно – деловито даже – шла на пляж, будто на работу. Все мои “запреты” на алкоголь и ее обещания (“Завтра ни капли, увидишь!”) летели к черту – даже если Эля не пила при мне, она легко умудрялась надраться в одиночестве или в компании каких-нибудь русиш(впрочем, не обязательно – годились и дойч, и инглиш) туристо. Иногда я думал, сколько еще выдержит ее печень и что делать, если в той обнаружатся д ы р ы? Эля отмахивалась, Эля предлагала выпить и заняться сексом, однако чаще всего до секса не доходило – ополовинив очередную бутылку, она засыпала. В один из таких вечеров я и попробовал тайский: девушку звали Сейпин, ей было, кажется, девятнадцать – я приходил в салон почти ежедневно, до тех самых пор, пока Эля не выболтала мне кое-что о чудесных пальчиках массажистки: что ж, укол ревности – это просто укол ревности… Потом были Мальта, Майорка – etc.: Эля нуждалась лишь в воде и солнце – она не хотела в Европу, которую я так любил, “с ее каменными улицами и лицами”, нет-нет: отель, пальмы, all inclusive… Я соглашался: я думал, будто море излечит ее, однако “лечили” не ее – меня! – самые обыкновенные грабли. Наступая на них в очередной раз, я в конце концов понял, что если долго бить по одному и тому же месту, оно, конечно, теряет чувствительность – однако понял и кое-что еще: чувствительность теряется в любом случае… И если когда-то я испытывал, скажем, нестерпимый стыд за Элю, с трудом держащуюся на ногах (а дело было в Большой Ялте, куда мы поехали, чтобы сэкономить) – местные продавщицы, вышедшие покурить, скаля коронки, смеялись и показывали на нее пальцем, – то теперь, видит Бог, я просто бы этого не заметил.
Иногда, будучи “под мухой”, Эля признавалась мне в том самом чувстве, обозначить которое словом у меня не хватит духу: алкоголь будоражил определенные эмоции, она ностальгировала, чаще всего вспоминая наш первый Таиланд, когда все было действительно настолько хорошо, что дух захватывало – кажется, мы оба не верили в реальность происходящего. В волшебном “здесь и сейчас”, которое теперь, увы, прошлое, мы не учли лишь одного – неизбежности приближения “там и потом”, как-то: замызганную “любовную лодку”, довольно скоро навернувшуюся – как по нотам – “о быт”, рутину, болезненную бессмысленность взаимных уколов, тщетные попытки объяснить вроде бы очевидные – однако совершенно невероятные для другого – вещи… Тихая семейная жизнь медленно, но верно разъедавшая даже потайные кармашки души, приобретала оттенки легкого кошмара. “Ноги моей не будет больше на женщине!” – спошлил я как-то в сердцах, а Эля рассмеялась: “Моей тоже”; уточнять я не стал – в сущности, мне совершенно все равно, с кем она спит (если спит) по пьяни, хоть с кошкой. В тот вечер она перебралась в маленькую комнатку, предоставив в мое распоряжение “залу” (ее словечко). Собственно, мы давно не хотели друг друга, а то, что иногда происходило, оставляло, так скажем, не самое приятное послевкусие. Да, ее тело еще вызывало интерес, да, она была все еще хороша, да, мы, разумеется, “идеальная пара” – однако вот поцелуи уже невозможны, нет, невозможны: вот если с р а з у, вот если глаза закрыть… черт, черт, черт…
Периодически она устраивала погромы: “Я никого не просила меня рожать!” – дом же наш походил в те моменты, наверное, на заброшенный сквот, захваченный беглыми пациентами психбольницы. Иной раз мне и правда хотелось упечь Элю в больничку, но жалость снова одерживала верх, и я опять откладывал решение “до другого раза”, хотя житья совсем не стало. Так называемой альтернативой ее алкогольным психозам стал – о, если б “банальный”! – словесный понос. Безостановочная, плохо структурированная речь, наведенная на мой мозг, будто курок пистолета, вышибала из колеи пусть не сразу, зато четко и мощно. Я поражался, какая сила сосредоточена в этой хрупкой женщине, а может, просто “в самой обыкновенной вампирше” – кажется, тогда я уже не сомневался в их существовании… Эля со знанием дела, высокопрофессионально, качественно выжимала из меня все соки – тогда я еще не умел защищаться, не ставил блоки, думая, будто моя ч е л о в е ч н о с т ь что-то изменит. Я ошибался, причем ошибался жестоко: ч е л о в е ч– н о с т ь была ничем иным, как классической потугой жертвы оправдать палача и, как ни горько в этом признаться, кастинг на роль жертвы прошел именно я… Эля, требуя повышенного внимания, говорила утром, говорила днем, говорила вечером, говорила ночью… да что там говорила! Кричала, бубнила, жестикулировала, повторяла десятки – да что там десятки! сотни! тысячи раз! – одно и то же (Одно и то же. Одно и то же). Она либо причитала и рыдала, либо кружилась по комнатам, истерично смеясь – алкогольная эйфория, впрочем, довольно быстро сходила на нет, и все начиналось сначала: слезы, сопли – причем сопли р е а л ь н ы е, размазанные по щеками и давно не мытым волосам (следить за собой Эля почти перестала – смотреть на ее грязный свитер и залитые вином джинсы было невыносимо; все эти чудеса “полировались”, разумеется, перегаром – едва ли она чистила зубы, а если б даже и чистила, заглушить амбре каким-нибудь “Колгейтом” не удалось бы). Несколько раз я не сдержался: оказывается, бить иных женщин не только не вредно, но и полезно – главное лишь вовремя остановиться и убрать острые и тяжелые предметы. Удар отрезвил ее, но ненадолго, к тому же вызвал ярость: Эля пошла на меня с креслом – так мы лишились одного из зеркал; так я привязал ее к кровати и заткнул рот полотенцем, а потом долго-долго сидел на кухне и, не помню уж, то ли плакал от бессильной злобы изменить что-либо, то ли смеялся… всё когда-нибудь случается в первый раз. В том числе и “скорая”, которую пришлось вызвать: мою благоверную рвало желчью. “Мадам, вам совсем, совсем нельзя пить, вы себя убьете, – качал головой пожилой доктор, ставя ей капельницу. – Сколько вам? Тридцать пять? Моей дочери столько же… так она, знаете, в спортзал ходит… адреналин вышибаю, говорит…” Элю на этих словах стошнило – и тошнило весь день: я исправно менял тазики, поил ее чаем и какой-то отравой наподобие полифепана – жизнь была прекрасна и удивительна. Серо-зеленая, с трясущимися руками, Эля почти не смотрела на меня – она, разумеется, понимала, что виновата, однако в тот момент готова была скорей отрубить себе руку, нежели согласиться со мной: ее максимализм принимал патологические формы.
В общем, надо было куда-то деваться – то есть, конечно, я мог бы ночевать иногда в гостинице, но что толку? Требовалось хирургическое вмешательство, да и бессонные ночи порядком измотали – как-то я чуть не заснул за рулем. К тому же маячил этот их happy new year, а у Эли была идея-фикс (идея-префикс, как она говорила) отметить его “как в детстве, по-домашнему”: меня же не очень-то волновала смена последней цифры в четырехзначном числе – я хотел банального покоя и в глубине души надеялся на чудо: да, на чудо. Волшебство на Рождество. Но чудес не бывает. К тому же Эля начала потихоньку воровать деньги – однажды я обнаружил тысячу, бережно запакованную в мешок для мусора, под помойным ведром, пятьсот – под раковиной, полторы – в ящике со щетками для обуви… Лишившись последней халтуры, она “чистила” теперь мои карманы: нельзя сказать, будто меня это очень огорчило или удивило – я предполагал: именно так и будет. Повертев в руках Элины “клады”, я подошел к дивану. Возможно, я еще пытался “зацепиться”, нащупать некую лазейку в прошлое, в котором, кроме алкоголя, существовали когда-то и мы. Однако увидев, как выпросталась из-под пледа ее нога в рваном зеленом носке, меня передернуло. Смешно, но в этот самый н о с о к и ухнуло тогда всё, словно в унитаз – вся моя нежность, боль и отчаяние, все тщетные попытки что-то объяснить…. В тот же день, дождавшись, когда Эля проспится, я сообщил ей о своем решении: разумеется, я не мог выгнать человека, которому некуда идти – с родителями она давно не ладила. Снять что-то приличное в праздники казалось делом безнадежным, но одна квартирка все-таки подвернулась: Кропоткинская, центр мира, большая половина моей зарплаты: выбора не было – да и в чужой “спальник” не хотелось.
Каждый, переживший подобное “крещение свободой”, поймет без слов, как наслаждался я одиночеством. В этом, пожалуй, был даже некий стиль – а может, так казалось “с голодухи”, не знаю. Я ведь приходил в дом, где н и к о г о не было. В дом, где н и к т о не кричал. И даже не говорил… Не шептал… В дом, где не было не только пьяной женщины, но и – вот оно, с ч а с т ь е – женщины вообще. Я мог делать все, что угодно – и никто, н и к т о – ничего не мог сказать мне. Впервые за много лет.
Вечерами я заваривал улун да заводил старика Армстронга: “Go Down Moses”, “What A Wonderful World”, “Kiss of Fire” (под них и встретил happy new year) возвращали к жизни пусть не сразу, пусть “частями” – медленно, зато верно. Еще была великая Элла и ни на кого не похожая Эби Линкольн: я слушал их долго, очень долго – музыка вытягивала, отсасывая гной через трубочку, вставленную, наверное, в душу: а куда еще вставляют подобные т р у б о ч к и?.. Я садился за компьютер – и никто, никто, никто не смел сказать мне про спину; никто – ничего – ни звука… Я работал обычно часов до двух, реже – трех, читал на ночь Буковски и Миллера, а потом курил в постели, разглядывая лепнину на высоченном потолке, и засыпал: мне нравилась эта квартира, мне безумно нравилась эта квартира, да что там! – мне безумно нравилось то, что я один – один, о д и н – в этой огромной квартире: кажется, я готов был платить за нее еще больше… Институт брака, размышлял я, придуман не иначе как чертом – объяснить даже самому себе столь длительные отношения, превратившиеся в непрерывный, бесперебойный кошмар, было невозможно.
Первые дни даже не хотелось никуда выходить: тратить время, впервые появившееся за много лет “тихой семейной жизни”, представлялось кощунством; к тому же, как оказалось, силы все-таки имеют пределы – да, да, я банально устал, устал дико, устал неимоверно. Всё, чего я хотел, так это покоя. Иногда, конечно, мы созванивались с Элей – ее голос если и вызывал опасения, то какие-то вялые – впрочем, даже если она и пила, мне было уже почти все равно. После разговоров этих я тупо лежал в кресле-качалке, курил и думал лишь о том, что уж теперь-то точно “ноги моей не будет на женщине”. Я намеревался сменить сферу деятельности – если быть точнее, поменять образ жизни (роскошное, конечно, выражение): наемный раб, пусть и называющийся арт-директором, в любом случае остается наемным рабом – мне же давно хотелось иного. И дело не только в независимости, в том числе и финансовой. Я давно понял, что когда-нибудь, возможно, скоро, просто не смогу терпеть над собой кого-либо “сверху” – я-то знал, с в е р х у лишь Бог, и никого больше. Бог – и никого больше: это много или мало?.. Обычно понимание такого рода вещей, простых вещей, происходит, конечно же, в результате “ножевых ран, нанесенных душе”, как однажды выразилась Эля. Не сказать, будто я никогда не увлекался эзотерикой – нет, ровно наоборот, однако это было сухое расстрельное знание: мне же хотелось ощутить его, впустить внутрь; я устало перечитывал Кастанеду – с третьего тома… “А я от дедушки ушел, а я от бабушки ушел!” – катился по мостовой Колобок, не замечая крадущейся лисы.
Я собирался встретить Рождество один. Собственно, “встретить” – не совсем то слово. Я пошел за кагором, скорее, просто так, от нечего делать – спать не хотелось, от компьютера и чтения уже подташнивало, DVD остался у Эли, с друзьями, соберись я в гости, пришлось бы разговаривать (о чем? я судорожно начал перебирать темы, но тут же бросил), а “Прекрасной Дамы”, что и требовалось доказать, не было: не очень-то и хотелось.
Часы показывали одиннадцать. Я окинул взглядом квартиру и уже собрался было уходить, как с полки вдруг что-то упало. Подойдя поближе, я увидел зачитанные “Вечера на хуторе…”. Полистав книгу, я, будто в детстве, загадал строку и страницу – бог его знает, зачем, а потом прочитал: “…поглядите на меня, как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна!” Красавица Оксана, красавица Оксана… – опять баба! Я плюнул, захлопнул книжку и, подняв воротник, вышел на улицу.
Было очень холодно, мела метель; фонари же почему-то не горели, что для этого района – редкость. Я шел за вином, насвистывая что-то из Армстронга – я давно не чувствовал себя таким спокойным: нет-нет, жить с кем-то – это не по моей части, увольте… грезящих же “гнездышком” просьба не беспокоить. Правда, с головой вот творилась какая-то беда: казалось, будто эта самая красотка Оксана со своим дружком-кузнецом вот-вот покажутся на Остоженке, а то и сам Черт с украденным месяцем под мышкой свернет в Первый Зачатьевский. “Ничего, ничего. Просто переутомление. Немудрено после Эльки-то… Прорвемся, старче, не впервой” – так успокаивал я себя до тех пор, пока не услышал – громко и отчетливо: “…поглядите на меня, как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна!” – “Чудная девка!” – нет-нет, я не ослышался. Потерев же глаза, увидел и Вакулу с Оксаной, и – да-да! – самого Чёрта. Он был скорее симпатичен, нежели уродлив, и вызывал улыбку – хотелось гладить его, будто собаку: впрочем, проходившая мимо дама с веревкой на шее и молотком в руках, чье лицо показалось мне знакомым, покачала головой: “Да, черт мой лопнул, не оставив от себя ни стекла, ни спирту” – и, как-то нехорошо рассмеявшись, вбила первый гвоздь в морозный воздух, сотрясаемый криками странных деток. “Колядин, колядин, я у батьки один, по колена кожушок, дайте, дядька, пирожок!” – галдели о н и у перекрестка: детки второй свежести, детки с истекшим сроком годности. Просроченные детки! – я точно знал, их кости сгнили лет двести назад… У того же перекрестка стояла бывшая в употреблении девица и, набирая снег в передник, жалобно подвывала: “Полю, полю белый снег на собачий след, где собачка взлает, там мой суженый живет…” – дурёха! Я отчего-то перекрестился; по счастью, магазин был поблизости… впрочем, “был” не означает “есть”. Подойдя поближе, я увидел довольно странное заведение, напоминающее трактир, из которого доносились звуки бетховенской сонаты.
– Ничего не знаю лучше “Apassionata”, готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди! – прокартавил низкорослый мужичок в кепке, подошедший ко мне со спины, и добавил: – Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы… А вы, молодой человек, что ж в лавку-то не заходите? Разжились бы чем к праздничку… Рождество Христово! Али в Бога не веруете? – он нахмурился; за спиной показались люди в шинелях.
– Отчего ж, – ответил я ему, не совсем понимая, впрочем, снится ли мне все это или нет: однако ощущение, что где-то всё это я уже видел, не отпускало, нет: очередное дежа вю. – Отчего ж не верить!
– Мы, знаете ли, молодой человек, в идеале-то, против всякого насилия над людьми. Однако порой приходится, да. Совсем от рук отбились! Как вот эта дамочка, например. Сняла, видите ли, шлюху, предназначенную Значительному Лицу, да и удавила, – потер руки мужичок.
– То есть… как?.. – всё уже было, мама, всё уже было, было… но почему все-таки Ленин? И почему л а в к а? И когда уже доиграют треклятую “Апассионату”?
– А так: легким движением руки-с, – усмехнулся Ильич.
– Но зачем? Что она ей сделала? – я чувствовал себя (стоит ли уточнять?) полным идиотом.
– Да вы еще, видно, пороху не нюхали! – неприятно захихикал он. – Новенький, понятное дело… Шлюха – это, молодой человек, жизнь (жизнька, жизнёнка – у кого как): извините, конечно, за общую лексику. Одушевленная, хм, абстракция. Вот дамочка ее и удавила: хочет другую жизнь прожить в том же теле, а не положено.
– А что будет… что будет с той женщиной? – сглотнул я.
– Вилами заколят, – равнодушно ответил Ленин и нюхнул табачку.
– Как – вилами? – присвистнул я.
– Как, как… Легко. Вилами на воде и заколют: вон лёд щас каменные бабы растопят…
– Господи… Но это как-то… совсем уж… неэстетично… Неужто… – я долго подбирал слово, – неужто пристрелить нельзя? Чтоб не мучалась?
– Нет, за удавление шлюхи у нас вилы. А мучиться она всё одно будет: душа-то неспокойна.
– Простите, Владимир Ильич, а где это “у нас”?
– Чему вы в школе учились, товарищ арт-директор? У нас – это у нас, в нехорошей квартире. Большая Садовая… Классику читать надо! – достав из-за пазухи карманное издание “Мастера и Маргариты”, Ленин подмигнул мне и скрылся в лавке.
– Директор, директор, да пошел ты в жопу, директор! – пробежавшая мимо Масяня толкнула меня в бок и засмеялась.
Тут-то и началось: Пречистенка, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Сивцев Вражек, Арбат… Не знаю, что за сила гнала меня туда с такой страшной скоростью – быть может, я ехал на самой панночке, кто знает? Понимая, что рождественская бутылочка, за которой понесло Остапа, обходится слишком дорого, я костерил себя на чем свет стоит: “И не сиделось же дураку дома! Нет бы выпить улун и набок, так нет же – подавай ему кагор! Пей теперь вот горилку в шинке – потому как ни Пречистенки, ни Гагаринского, ни Большого Афанасьевского с Сивцевым Вражеком и Арбатом не существует, а если на карте они еще значатся, то отсюда все равно до них не добраться!” Правда, откуда – отсюда, я точно не знал.
Часы между тем показывали без четверти двенадцать, а вилами на воде проткнуть должны были эту дамочку аккурат в полночь. Не сказать, чтоб альтруизм сидел у меня, что называется, в крови. Однако тут что-то меня п о н е с л о. Возможно, это было бессознательной попыткой защитить чужое право выбора (ну да, ну да, свободу воли): ведь если дамочка удавила шлюху, а шлюхой этой была, как сказал Ленин, жизнь (она же жизнька, она же жизнёнка), которую ей хотелось сменить, находясь в прежнем теле… что в этом, сущности, криминального? Абсолютно нормальное желание! Вполне человеческое… Я огляделся: тени т о й Остоженки, ее неявные мерцающие отражения просвечивали сквозь новый для меня пейзаж. Ориентируясь, скорее, по нюху, я побежал к лавке, за которой каменные бабы уже топили лед.
Дробь, казалось, врезалась не только в уши, но и в мозг, и в самое сердце – Ленин, жонглирующий барабанными палочками, улыбался, а дети каменных баб тянули к нему свои грязные потные ладошки: “Иль-ич! Иль-ич!” – скандировали они, по очереди прикладываясь к его руке. Он же, поглаживая бороденку, благодушно кивал, поглядывая то на них, то на танцующую толстуху Сарагину – восемь с половиной часов назад завлит Жирного Журнала вырезал ее из золотого фонда Ф.Ф.
Вскоре привели дамочку: я невольно содрогнулся. Да, это была Она, Она, рыжеволосая бестия из моего сегодняшнего сна – бывает же такое… Я готов был биться об заклад, что знаю если не всё, то очень многое о ее жизни: и про мать, и про мытье полов в цирюльне, и про детей с Оллей, и даже про шлюху… В одной рубашке, босая, она буквально расплющивала меня глазами – видит Бог, я не видел таких ни “до”, ни “после”: впрочем, о том лучше молчать. Мы и молчали, “считывая” зрачки друг друга до тех самых пор, пока Ленин не каркнул:
– Проткнуть! Проткнуть ее вилами на воде! – тогда каменные бабы и потащили Ее к купальне.
Представив, что сейчас Ее не станет, что синие глаза Ее навсегда (страшное, действительно страшное слово) закроются, причем закроются в муках, я заорал что есть силы:
– Стойте! Стойте! – на меня посмотрели, как на сумасшедшего – впрочем, может, так оно уже и было, не знаю. – Вы этого не сделаете!
– Почему, позвольте полюбопытствовать? – неприятно прищурился Ленин.
– Да потому что она – живая, а вы – мертвые! – разгадал я загадку сфинкса не без помощи Алисы Лиддел, помахавшей прямо у меня перед носом колодой карт: в тот же миг купальня взлетела в воздух, а мы оказались на Кропоткинской, у Храма Христа Спасителя.
…часы показывали без пяти двенадцать. Рыжеволосая смеялась и отказывалась назвать имя. Я ничего не понимал – а возможно, не хотел понимать: слишком необычна, слишком неправдоподобна оказывалась эта женщина – психоделический сон, дымка, оранжевая мечта. “Не вздумай втюхаться, кретин! Она же – ведьма, колдунья… или ее вообще нет…” – проснувшись, я обнаружил на подушке длинный волос цвета огня и схватился за голову.
“Вещдок” прожигал пальцы: что это? откуда? Значит, это был не сон? Волшебство на Рождество? Откуда я Ее знаю? Живая ли она? Женщина или… саламандра? Увижу ли я Ее еще раз? Что я знаю о Ней? Что помню? Как Она выглядит? “Нет-нет, это не “любовь с первого”, – включился скучный мозг, – а, скорее, тот самый интерес, который и провоцирует зарождение подобного чувства: любопытство, желание, неизвестность, а также…” – я быстро онемечил его и начал вспоминать детали. Я, конечно же, понимал, что с подобными подробностями (Ленин, просроченные детки, кузнец Вакула и К) мне, пожалуй, легко предложат койку в больничке, где лечат от души. Что ж! И будут, возможно, правы… Выпив немного виски, я решил пройтись, хотя, чего там, выходить на улицу было как-то не по себе. Опасения, впрочем, оказались напрасными: на Остоженке все было ч и с т о; снежинки же, укутывающие балериньими своими телами дома и деревья, казалось, стремились успокоить меня монотонной ритмичностью медитативного своего кружения – они то вальсировали, то переходили на менуэт, то снова вальсировали… Всматриваясь в затейливые фигуры, складывающиеся из комбинаций их перемещений, я вдруг заметил среди всего этого переливающегося великолепия крошечную ярко-оранжевую ящерку и остановился: о, она была настолько явной, что вопрос о “галлюцинации” отпал сам собой – нет-нет, она, конечно, живая; возможно, даже живее меня самого… да что там, живее Ленина! Я попытался дотронуться до нее, однако ящерка тут же свернулась в кольцо и, заискрившись, будто бенгальский огонь, сгорела в секунду. Я протер глаза и потянулся за сигаретой. Да, странности преследовали меня с того самого вещего (а как еще назовешь?) сна, а уж что творилось прошлой ночью, одному Богу известно. Чтобы отвлечься, я зашел в книжный: ноги сами понесли меня к полке с Плинием. Я открыл страницу, как обычно, наугад и, ткнув пальцем в первую попавшуюся строку, прочел: “Саламандра столь холодна, что, ежели хоть прикоснется к пламени, оно тотчас погаснет, словно бы в него положили кусок льда”.
Я старался не вспоминать ту ночь – что толку мучиться? Даже если я восстановлю в памяти всё до мельчайших подробностей, легче от этого едва ли станет. К тому же я не был до конца уверен в том, что всё это мне не привиделось, и лишь “вещдок” – волос цвета огня, – указывал на обратное… не мог же он возникнуть из воздуха? Однако нервировал не только пресловутый “вещдок”, не только. Со мной действительно творилось что-то странное: я постоянно чувствовал на себе дыхание этой женщины – скорее прохладное, нежели теплое, по цвету (да, по цвету) ближе к голубовато-синему, с рыжевато-золотистым отливом в центре… Мало того – казалось, будто теперь я все время держу в руках некий дымящийся лед с запаянным внутри пламенем: возможно, именно из этого материала – льда и огня – и делают женщин-саламандр, кто знает?
…надо ли знать? Бывает, человек буквально сваливается тебе на голову; ты же, разоруженный, не подготовленный к такому повороту событий, слишком поздно надеваешь настоящий защитный шлем. Бумажные латы горят стремительно, сабля из крашеного картона превращается в пепел, деревянная лошадка – в труху, а сам ты… “Полина”, – представилась она, по-мужски пожав руку: мы были в клубе – мой друг заказал этаж по случаю тридцатипятилетия и мини-юбилея своей фирмы – пришлось идти.
Ее лицо (резко очерченные скулы, еле заметная горбинка на носу, родинка), наполовину скрытое под гривой ярко-рыжих волос, показалось знакомым. Надо было, конечно, бежать – я ведь знал, знал, тысячу раз знал, что не имею права еще на одну ошибку. Смертельный трюк с тем самым словом не входил в мои планы – я хотел покоя и только покоя; возможно, я банально устал от жизни, а уж рождественская история и вовсе выбила из колеи. Однако “сбежать” не удалось – дама попросила зажигалку, мы разговорились. Полина явно скучала; на мой вопрос, чем она занимается, усмехнулась: “Швея” – я приподнял бровь и выпустил дым ей в лицо; “швея” расхохоталась, легонько щелкнув меня по носу. Экзотичный маникюр, экстравагантное платье в русском стиле, холщовая сумка и лапти – да, лапти (говорят, модно): ее упаковка действительно сильно отличалась от упаковок собравшихся здесь барышень. “Это ***, известный модельер, ты разве не узнал? Ее часто показывают по каналу…” – однако я не смотрел телевизор и, собственно, не был обязан знать в лицо известных модельеров; я покупал обычные вещи в Zar’e – в сущности, мне было почти все равно, что носить. Мы танцевали, пили, снова танцевали, потом обменялись визитками, и она укатила в дёготь ночи на белом пежо: вот, собственно, всё.
…всё ли? От Рождества до самого Сочельника снилась мне саламандра – каждую ночь приходила она, заглядывала в глаза, будто пытаясь поведать о чем-то важном. Каждое утро находил я на подушке волос цвета огня. Каждый день собирал по кусочкам рассыпанную мозаику снежного своего безумия и все больше привязывался к Полине. А Она ничего не хотела – не хотела или уже не могла: казалось, ее страсть к работе приобретает патологические формы – я сам часто задерживался в офисе, однако о “водоразделе” между своим и “заказным” творчеством никогда не забывал. Полина же ничего не разделяла: в том-то, наверное, и было ее счастье, и, скорее всего, только поэтому она добилась того, чего добилась. Мне нравились ее модели – как-то Полина позвала меня на один из показов. Потом, после всего, уже в машине, я впервые поцеловал ее: она не отстранилась, но не более того. Вторая попытка – через день, в ресторанчике, – окончилась полным провалом. Третья же, у нее дома (Полине приспичило переодеться), завершилась диваном в стиле ар-деко и перевернутой серебряной пепельницей. Так я забыл всё и вся, так опять стал мальчишкой. Нет, мне не нужно было ее тело – точнее, нужно было не только тело. Наверное, я мечтал о невозможной, недостижимой в трехмерности, гармонии. Слиянии души и плоти, разума и чувства… но чудес не бывает, даже на Рождество: не бы-ва-ет. Перед ее ровным “нет” я был тогда беззащитен, совершенно беззащитен.
“Дружба с элементами секса”, переросшая в моем случае, как принято говорить, “во что-то большее”, в основном обжигала и ранила, нежели радовала – в иные дни приходилось взвешивать чуть ли не каждое слово: властная и довольно жесткая, она не терпела возражений, а к чужому мнению мало прислушивалась. Особенно к мужскому: иногда казалось, будто Полина считает нашего брата чем-то вроде “осетрины второй свежести”. Всё это полировалось тем, что периодически она д а в и л а – конечно, невольно, однако виртуальную каменную плиту, прижимающую тебя к асфальту, я чувствовал не раз и не два. Приходилось осекать – тогда в глазах Полины (забуду когда-нибудь, интересно?) появлялись холодные синие искры: бешено, яростно, неприлично, возмутительно красивые. Я л ю б и л ее (точнее, использовал это слово для обозначения проявлений тех “нестандартных” чувств, которые она будоражила во мне) – сам не заметил, как это случилось – и потому многое прощал. Многое, но не всё. Например, тон. Голос. Кажется, она не слышала о таком понятии, как этика отношений – скорее всего, ей было просто некогда над этим задуматься… или не приходило в голову: гонка, безостановочная гонка (чтобы доказать, “стать кем-то”), с ранних лет подпитываемая желанием самоутверждения в материнских глазах, сделала ее в чем-то железной. “Обрезавшись” о нелюбовь в детстве, она привыкла нападать первой – нападать даже в отсутствие какой-либо угрозы: так готовится к прыжку тигрица – и лишь прыгнув понимает, что ее когти впиваются в пустоту… Однако мать давно погибла, а элементарно отдышаться, оглядеться, задуматься и, в конце концов, просто провести отпуск с детьми времени всё не было. Мне казалось, будто Полина никогда и не рожала – настолько не вязалась она с ролью мамочки в, так скажем, хрестоматийном обывательском понимании (я – обыватель?..). Что же касается экс-мужа, то она скупо обмолвилась о нем лишь однажды – разорившийся в одну из “великих чисток” банкир, запятая, лысеющий брюнет, точка.
Ее мобильники разрывались, ежедневник пестрел угрожающими “срочно” и “съемка в десять”, а автоответчик вполне жизнеутверждающе (как выражаются манагеры, позитивно) напоминал о том, что без Полининых моделей этот мир, конечно же, не протянет и дня: когда она спала, если не спала со мной? Постельные экзерсисы, впрочем – будь то экспромты, которые ее, в общем-то, привлекали именно эффектом неожиданности, будь то вполне запланированные поездки за город (она боготворила лес – да, пожалуй, только его и боготворила) – не слишком-то воодушевляли: секс был для Полины чем-то вроде витаминной инъекции, которую прописали, “потому что так надо”. Роскошная, восхитительная, совершенная – действительно роскошная, совершенная, восхитительная, а еще… еще дикая, необъезженная, благоухающая только с о б о й: ледяная? огненная? просто фригидная? хм! “Жар сердца моего, в котором маюсь, // Ей нипочем, хоть мне он сущий ад…” – “Ультрамегагиперсупержесть” – спам, тема письма: отбой.
Полине нравилось это бурление – да, она упивалась властью, своей экзотичной красотой и талантом; да, чисто теоретически она хотела того, что люди (быть может, по ошибке, как всегда, искажая смысл слова) называют любовью… но встретила меня и, увы, не влюбилась. Я представлял интерес в основном как друг, реже – как “сексуальный объект”, amen. Это не было унизительным лишь потому, что она никогда не причиняла боли специально, ни на миг, как она призналась однажды, не забывая о своей: “Знаешь, эта девочка двинула кони. И мама ее. К р ы с и к – мама ведь называла меня Крысик – был лучше, чище… Да что там! – впервые она показывала свои старые фотографии. – Ты прости, прости… Я действительно не умею… любить не умею… ну не дано… такая разновидность уродства…” – синие брызги, саламандра в огненном фейерверке, взрыв, опустошение, отчаянная тишина. Кажется, в тот миг я понял, что значит любить без подмены понятий: никогда ничего не требуйте и не ждите от той, которую.
…Рождество я снова собирался встретить один – только вот кагором предусмотрительно затарился накануне: выходить на Остоженку, памятуя прошлогоднюю историю с саламандрой, не хотелось. Ближе к полуночи раздался звонок: стоит ли говорить, что мне не нужна была ничья компания? На пороге стояла Эля, теребящая в руках какой-то сверток: она выглядела гораздо лучше, чем полгода назад, когда мы последний раз виделись – в глазах появился странный свет, они будто лучились изнутри: что-то новенькое… “На, – сказала она просто, протягивая игрушку. – Я теперь кукол делаю, а ты не знаешь, ничего не знаешь…” – и легонько коснулась моего плеча. Огненная саламандра с синими пуговицами вместо глаз? Дежа вю? Я обнял Элю – как сестру, совсем как сестру.
Индус, который ведет занятия, быстренько меня сканирует. На русском он говорит лучше иных “однокоренных москвичей” – четкая, хорошо поставленная речь даже немного не вяжется с его экзотичной наружностью, но это не меняет дела. Итак, Садовая-Самотечная. Понедельник, среда, пятница – вторник, четверг, суббота: не пропускать, козлёночком станешь! Небольшой зал, в котором свободно размещается человек десять, несвободно – пятнадцать. Коврики – ну да, коврики: я тоже купил. Поза кобры – всё, что я помню из так называемого начального курса. За окном снег. Индус показывает асаны и учит правильно дышать – в общем, выдает тот самый “комплект движений и знаний”, необходимых для выживания городского сумасшедшего, около пятидесяти часов в неделю проводящего в офисе.