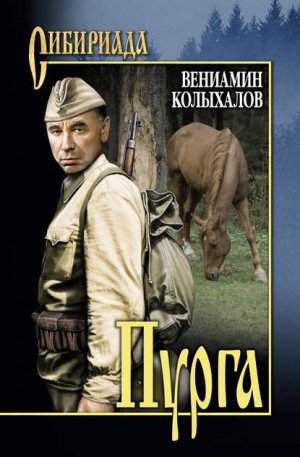
© Колыхалов В. А., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
Книга I. Пурга
1
Ночь была бесконечной. Окошко старой конюшни напротив жеребой Пурги не загоралось матовым свечением зимней зари. Стойла тонули в долгом мраке. Темень прибавляла смелости и нахальства мышам. Из кормушек слышалась их тихая пискотня. С потолка, покрытого узорчатой изморозью, срывалась легковесная навесь, падала на спины коней, на грубые перегородки и длинный скользкий проход, разделяющий надвое лошадиное жилье.
Пурга чувствовала себя плохо, ее знобило. Бесовская вьюга за бревенчатой стеной заставляла сжиматься и часто вздрагивать. Кобыла пробовала ложиться, поджимала к тугому животу ноги, но, ощущая в нем резкие толчки, нехотя расслаблялась в холодных струях протекающего над полом воздуха.
Никак в эту ночь не удавалось удержать тепло в хилом теле. Оно улетучивалось с выдыхаемым паром, с каждым ознобным вздрогом. Встав, принялась доедать сено. В других стойлах тоже слышалось мерное похрустывание. Иногда доносился натужный кашель, раздавались мягкие шлепки об пол и гортанный переговор неспокойных обитателей конюшни.
Ломило ноги, ложбинчатую спину. Натруженная шея постоянно ощущала присутствие хомута, хотя уже две недели не надевали его на кобылу. Две недели не елозила по костлявым бокам шлея, не давила подпруга, не мозолила седелка. Однако всю предназначенную для себя упряжь чувствовала Пурга, как въедливый отпечаток многотрудной лошадиной доли.
Ей не было и трех лет, когда властно и грубо напялили великоватый хомут, впихнули обточенные зубами других лошадей удила. Не хотела их принимать, стискивала челюсти, пыталась укусить конюха, но он дьявольски ловко водворил сталь в непослушный рот. Пурга лягалась, бодала обуздеченной головой, грызла новую оглоблину. Конюх пытался уговорить кобылу тпруканьем, сильными рывками узды – послушания не было. Сбросив плевок в растопыренную ладонь, мужик принялся прививать покорность онемелым кулачищем. Хлестал по храпу с оттягом, с чувством злорадства и безнаказанности. Чем злее наносились удары, тем свирепее делалась молодая мученица. Пурга знала, чего от нее хотят, и вся восставала против готовящейся кабалы. Приходил конец короткой воле, беззаботному житью.
Запрягали ее возле конюховки. Там висели по стенам вожжи, хомуты, чересседельники, лежали выгорбленные войлочные потники под седла для верховой езды. Здесь чинилась колхозная упряжь, шились новые уздечки, делались хомуты. В конюховке стоял невыветриваемый запах дегтя, кожи и лошадиного пота.
Нерастраченную силу уросливой кобылы пытались отдать в услужение вместительным саням с листовой сталью подрезов. Кобыла давно получила твердую рабочую кличку Пурга. Будучи маленькой резвуньей, она слышала ласковые нотки в голосе окружающих людей, позволяла погладить себя, почесать за ушами. По мере взросления лошади исчезала умильность в мужичьих разговорах. Оценивающе заглядывали в зубы, теребили загривок, прогибали спину, ощупывали мышечные узлы. Особых изъянов не находилось. Знатоки предрекали добрые упряжно-тягловые качества. Гадали – будет ли ходить коренником, или пойдет в пристяжные, дышельные. Иные колхозники доказывали: выйдет хорошая беговая лошадка… ничего, что спотыкается по молодости часто, ведь и опытного коня спотычка берет: ноги-то у него четыре, да дорог тыщи, им одно занятие – врасстилку лежать.
Конюха Пурга невзлюбила сразу. Неприязнь к нему передалась с рождения. То, что Дементий Басалаев по тупой эгоистичности принимал за лошадиную дурь, было неуступчивым характером животного. Кобыла откликалась на ласку, бунтовала против злобного насилия. Мужик измахрил не один кнут, лупцуя строптивых, непокорных, не могущих сдвинуть перегруженный воз. Он бил с тем грубым мужичьим сладострастием, которое рождается от сознания полной власти над животным и от тягостного ощущения житейской грузной тоски. Лицо становилось желчно-кирпичным, расширенные глаза взблескивали цветом недавно затвердевшего олова. Некоторые смирные, услужливые коняги из страха побоев послушно заходили в оглобли, но и для них Дементий отыскивал повод шлепнуть по ушам, пнуть коленом при затягивании подпруги, ударить торцом ладони по крутой жиле.
В запойно-праздничные дни при кормежке коней, при уборке стойл, у водопойной проруби был особенно зубаст и мстителен. При колхозниках сдерживался, не ворчал, не разлиновывал пегие, карие, гнедые, соловые спины и бока кусучей плетью. Наедине с табуном отводил душе райский час. Не однажды Басалаева пытались лягнуть, укусить наиболее отчаянные страдалицы, но берег случай и обезьянья увертливость. Раз Пурга вскользь задела копытом по жирной ляжке. Неделю ходил с прихромом, обзаведясь фиолетово-темным с ладонь синяком, который позже обрел противную желтизну.
Лошади не долго пришлось ждать мстительного остервенения. В назидание другим конюх обломал о серую хребтину деревянную лопату. Привязанная к воротному столбу, Пурга металась по истоптанному пятачку денника, выбрасывая из-под широких копыт грязные ошметки. При избиении кобылы испуганно носились по деннику жеребята. Их вызывающе громкий заступнический крик-плач действовал на других животных: всполошенные, они, как в присутствии опасного зверя, били копытами утрамбованный снег, вставали на дыбы и наскакивали друг на друга.
Вечером Дементий сунул Пурге ломоть ржаного хлеба, но кобыла не приняла подачку, кося на конюха прищуренные непримиримые глаза. Басалаев не без опаски схватил ее за ноздри, попробовал раскрыть рот, впихнуть кусок. Он даже просунул клиновидный срез ломтя под верхнюю губу, но неуступчивая лошадь недовольно фыркнула и выплюнула крошки на пол стойла.
– Сожрешь, поганая утроба!
Конюх швырнул хлеб в кормушку на охапку занесенного сена. И после ухода грозного властелина Пурга не притронулась к ломтю. Она хрумстела сеном, стараясь придерживать дыхание, не впускать в себя манящий хлебный дух.
Утром, не обнаружив на прежнем месте каравайную долю, Дементий примирительно хмыкнул: «давно бы так», не зная, что угощением поживились вечно голодные мыши.
Лукавомудрый Басалаев холил и сытно кормил председательского верхового Гнедка. Расчесывал, подстригал густую гриву, чистил гладкое откормленное тело, срезал наросты с копыт. Уздечка и новое скрипучее седло были в узорочье медных бляшек и звездочек. Под ним подпрыгивали, болтались при езде красиво сплетенные кисточки. Сколько раз видел Дементий себя в таком нарядном седельном убранстве… Чем он хуже председателя Тютюнникова? По грамоте побьет его, да, видно, начальству виднее, кого приставить к людям и колхозной земле. Завидев в подслеповатое окошко хомутовки идущего председателя, Басалаев скоренько выходил на улицу к привязанному Гнедку, хватал приготовленную скребницу и усердно начинал расчесывать и без того чистую, прилизанную шерсть. Хитрый лис знал: надо угождать руководителю, почитать его, даже если внутренне не любишь человека, завидуешь его положению. Маскировать чувства научился давно, лесть держал расчехленной, подобострастие проявлял по обстоятельствам. И Гнедку перепадали затрещины, но поддавал всегда с оглядкой по сторонам.
Пургу он относил к разряду колхозной черни. Нечего с ней церемониться. Еще ни одна упрямица, отбывшая положенную волю-вольную, не миновала оглобель и хомута. Не таких усмирял кнутом, ударами сапога. Напрасно Пурга взвивалась на дыбы, крутила горячей головушкой, пытаясь отсрочить уготованную долю. Ее лошадиная сила давно внесена в список, влита в общее колхозное тягло, где числятся также быки, ступающие неторопливой развалочкой. Кобыла не раз встречала их на колхозных дорогах, в поле, в лесу – широкомордых, покорных, с пузырчатой пеной на толстых шершавых губах. Научиться бы у них терпению, бычачьему упорству. С виду ленивые, они метр за метром тянут большую кладь дров на санях, гору мешков на телегах, связку бревен по крутому подъему от Васюгана-реки. Пашут не хуже коней, давно уяснив грубую речь кнута и нарымский матерщинный говор разудалых пахарей, от усердия забывающих выплюнуть потухший, сгоревший до самых губ окурок… Смирись, Пурга, будь такой же тихо-хитрой при своем повелителе, каким бывает он при колхозном председателе. Не будет с тобою цацкаться меднолобый конюх. Не перепадет тебе, как Гнедку, лишняя торба овса, большая, не порционная охапка сена.
Мудрость придет к кобыле позже. Будет сама забредать в оглобельное пространство, реагировать на малейший толчок конюха, помогать просунуться головой в хомут и глядеть на человека боязливо-преданными, понимающими глазами.
Пока же лошадиная сила буйствовала, не подчинялась воле мужика. Из расширенных ноздрей со слизью вытекала кровь: Пурга вгорячах стукнулась о загиб санных полозьев, вырывала узду из рук Дементия. Неуклюжий от ватной одежды конюх еле держался на земле, топоча серыми подшитыми пимами.
– Запорю, зверюга!.. разъетит-т-твою мать!..
Когда избитая, урезоненная бежала по накатанной луговой дороге, чувствуя от удил жгучую резь, то и тут пыталась не подчиняться насильственной власти дергающих вожжей. На раскатах нарочно прижималась к кромке дороги, чтобы сани с возницей стукнулись о спрессованный снежный уступ, за что получала нестерпимые ожоги кнута.
Сперва было нетрудно везти забастриченный воз. С середины пути его тяжесть увеличилась, словно кто дорогой подкладывал лишние пласты сена. Для лучшего упора копыта приходилось ставить врасклин: сделает вмятину острой гранью и сразу же печатает на твердом снегу полный оттиск следа. Хомут, шлея, чересседельник, подпруга, узда с давящими удилами образовали тугой панцирь. Кобыла была закована в него, с каждой верстой ощущая адскую сжимающую силу.
«Так вот она какая наша доля», – размышляла потная кобыла, с трудом переставляя дрожащие ноги. Тугие слежалые пласты сена Басалаев уложил плотно. По виду возок как возок. По тяжести впору откормленному овсом Гнедку – крепконогому жеребцу-шестилетке.
– Тяни! – взбадривал конюх лошадку кнутом и криком. – Всю урось из тебя выколочу… она у тебя с потом выйдет, с г… Хватит, наотдыхалась, сено жрать задарма не будешь. Н-но, падаль, шевелись!
Нарочно поехал к дальним стогам, пробирался по глубокому, рыхлому снегу. Знала бы Пурга, не спалила столько энергии при запряжке. Зачем летела порожняком? Зачем на раскатах выкручивали ее из оглобель окованные подрезами сани? Приходило первое позднее раскаяние…
Прошло время. Пурга готовилась подарить колхозу одноплеменника. Озабоченная предстоящим, мерзла в тесном стойле, вспоминая все нанесенные ей когда-то обиды. Не было на пепельной шкуре местечка, не затронутого кнутами, кулаками и кровососами. Поддавали пятками в бока мальчишки-копновозы. Охаживали гибкими лозинами. Всаживали пальцы в загривок, боясь свалиться с костистой спины. Вырывали из хвоста длинные волосинки на силки для поимки бурундуков и околобережных вертких щурят. Мужики в бражном подгуле потехи ради запускали в ноздри клубы едкого махорочного дыма. Мазали под репицей проскипидаренной тряпицей, привязанной к граблевищу.
Зимой, накрытая попоной метельного снега, надсажается, тащит из лесу перегруженные дровами сани. На них восседает возница, погаркивает, нашлепывает вожжами. От напряжения готовы лопнуть жилы. Не слезет до самой деревни мужик с перехваченных веревками поленниц. Он бережет свои силы, они нужны ему всегда, как плугу лемех, бороне зуб. Никто не вычислил, сколько в одной кобыле мужицких сил, все измеряются на силушку извечную – лошадиную…
В стойле под сенными огрызками шуршали мыши. Они шныряли по кормушкам в надежде поживиться овсом, но колхозным заморенным лошадям его давно не перепадало. Давно миновал тихий церковный праздник Аксиньи-полузимницы. Зима успела прожить свой долгий нарымский век, прихватила полвека весны, но была по-прежнему такой же молодой, ядреной и злой.
Пурга боялась мышей, при возможности давила их широкими трещиноватыми копытами. Погружая храп в осошное сено, громко и зло фыркала, выпуская из ноздрей тугие струи воздуха. Шорох под сеном затихал, но кобыла, зная все уловки четырехлапых нахлебников, ворошила шуршащую осоку оттопыренными губами, не переставая выпускать из вздрагивающих влажных ноздрей терпкий лошадиный дух.
В ее косматую гриву забивались погреться воробьи и синицы. Иногда на бугристом крупе воробушки по забывчивости справляли свои птичьи надобности. По веснам придавались любовным утехам, задорным чириканьем услаждая слух усталой лошади. Пурга радовалась всякому случаю, когда залетные птички выщипывали на гнезда старую шерсть.
Осошное сено покалывало влажные губы. Иногда среди грубых осочин попадались стебельки вязеля и кровохлебки. Разжевав, лошадь не спешила проглотить клейкое месиво, наслаждаясь его вкусом и ароматом, вспоминая вольнотравное житье летом, луга, испятнанные туповерхими копнами и стогами.
Колхозная конюшня была плохенькой, кривостенной. Мох, который не успели растащить птицы, иструхлявел, рассыпался под пальцами порохом. Крыша, крытая досками-драницами, сгорбилась, обомшела. Из слоя наносной ветрами земли торчали метелки лебеды, крапивы и узкостебельных трав. Даже зима, принарядив крышу, присыпав сугробами чуть ли не половину осиновых венцов, не могла скрыть убожества лошадиного жилища. К нему был пригорожен просторный денник – ископыченный, утрамбованный снег был сплошь покрыт темными котяхами. Резко задетые лошадиными ногами, они глухо стукались друг о друга, издавая звук бильярдных шаров.
Изнутри конюшенные бревна одолевал грибок, разъедала липкая плесень. Почти посередине одну из стен подпирала березовая избочина, соединенная сверху самоковочной грубой скобой. Снизу подпорка упиралась в ямку, выдолбленную в полу, коричнево-желтом от конской мочи.
Напротив стойла, где помещалась Пурга, в стене меж бревен зияла щель. Из нее тянуло сквозняком, дуло лошади в правое ухо. Недогадливый конюх не заделывал щелевину, хотя умная Пурга не раз касалась губами его плеча и показывала глазами на отверстие, куда бы неплохо забить клочок пакли или моха. Одним ухом кобыла стала слышать хуже, будто произносимые слова, окрики отдувало быстрым ветром.
Была на исходе холодная апрельская ночь. В выбитую стеклинку узкого оконца конюшни заглядывали крупные чистые звезды. Одну из них – красноватую зорницу – Пурга приметила давно. Звезда не сходила с неба до самой рассветной поры, предвещая новую порцию сена и легкую пробежку на водопой.
Звезда сияла на том же отведенном ей месте, но вздрагивающая телом кобыла не видела сейчас ни ее, ни темно-синего прямоугольника неба. Было страшно и непонятно: что же произошло?! Зарождающееся утро вдруг сменилось непроглядной тьмой. Лошадь широко, до боли раскрыла глаза, но и тогда не увидала ни бревенчатой стены конюшни, ни жердей узкого стойла. С тревожным жалобным ржанием замотала головой, желая избавиться от черной бархатистой пелены, застилающей глаза. Пелена мрака не спадала.
Случалось, кусали летом ядовитые мошки, отемнялось зрение. Но вскоре матовость исчезала. Пурга с прежней четкостью видела траву, отдаленные кусты и колхозный табун.
Однажды была напугана солнечным затмением. Среди ясного дня наступили гнетущие сумерки. По-волчьи выли в деревне собаки, ошалело носились по дворам и улицам куры, елозили на хребтинах всполошенные кони. Взбрыкивая полусогнутыми ногами, поднимали отвислыми гривами дорожную пыль. Под бременем нахлынувшей тайны притихла, насторожилась природа. Люди, задрав головы, смотрели на тусклое светило в закопченные стекла. Пурга била копытами землю, раскатисто ржала, пока солнце вновь не полыхнуло ливнем неостановимого света.
Для Пурги наступило вечное затмение. Так в приречном колхозе «Васюганский пахарь» от непосильных трудов ослепла жеребая кобыла. Она качнулась в одну сторону стойла, в другую, желая убедиться – на месте ли перегородки, отделяющие ее от других лошадей.
Удостоверившись в целостности личной маленькой территории, кобыла издала глубокий протяжный вздох.
Пришел невеселый рассвет. Из полумрака стали выплывать столбы, подпирающие потолок, заиндевелые стены и разномастные спины коней. В конюшне находилась треть колхозных лошадиных сил – больные, охромелые, жеребые, предназначенные для хозяйственных нужд. Остальные кони вместе с быками выполняли изнурительную работу на лесозаготовках, вывозя по дороге-ледянке к сплавной реке гладкобокие бревна. В двух километрах от берега колхозники прореживали густой бор, подсекая лучковыми и двуручными пилами звонкие корабельные сосны.
На ржавых петлях заскрипела дверь. Вошел угрюмый конюх, трубно высморкался, зажимая поочередно ноздри тугой подушкой большого пальца. Мужик был в серых самокатных пимах, втиснутых в старенькие высокобортные калоши, в ватных, настолько залосненных штанах, что они походили на кожаные. На правом рукаве телогрейки была наложена заплата величиной с носовой платок.
Кони торопливо шли в денник к приготовленному сену. Пурга замешкалась в стойле. Дементий зло толкнул ее черенком куцей метлы. Лошадь шарахнулась в проходе, медленно, по памяти побрела к двустворчатой двери. Ночь, отведенная природой, и ночь, уготованная судьбой, слились сегодня в одну долгую непроглядную темень, затмив все: светлый дверной проем, щелястый, пропитанный въедливой мочой пол, мутные окошки конюшни, куда настойчиво вползали плотные неломкие лучи. Из черноты помещения кобыла шагнула в черноту денника, остановилась в нерешительности и обуявшем страхе. Слышала: смачно хрустели сеном лошади, стрекотали сороки. Маленькими шагами несчастная приближалась к брошенному посередине денника сену, вбирая трепещущими ноздрями морозный воздух.
Не попав в узкое пространство между саврасым мерином и гнедой костлявой кобылой, она ткнулась мордой в ляжку кастрированного коня и получила хлесткий удар копытом. В другой раз она отплатила бы нахалу, куснула или лягнула, но теперь жалкая и посрамленная, отпрянула назад, болезненно ощущая тяжесть распертого живота.
– Чего, курва, не жрешь?! – Конюх замахнулся над лошадиным храпом веским кулаком с бугристыми, лопнувшими ногтями. Странно – кобыла не шарахнулась от него, как всегда, а безбоязненно таращила влажные, будто клейкие глаза.
Желая проверить догадку, Басалаев еще несколько раз тыкал наотмашь левым и правым кулаком. Замершая четырехногая сила не реагировала на взмахи рук.
– Вот те на-а! Никак ослепла… – пробубнил испуганно Дементий, раскрывая в удивлении большой рот с плотными грязными зубами.
Он принес из конюховки кнут, встал перед слепой конягой, размахнулся. Но и тогда с тупым равнодушием смотрела на него Пурга, не стронувшись с места, не мотнув испуганно головой.
Конюх подошел вплотную, для пущей достоверности пристально заглянул в фиолетовые пузыри глаз. Когда увидел мокрые дорожки под ними, скопившуюся на донышках влагу, мужик попросил у кобылы прощение за частые побои и нелюбовь к ней.
Дементий щедро насыпал в глубокую кормушку овса и не подпускал к слепой других лошадей.
2
В колхозе гадали – какого жеребенка принесет Пурга: зрячего или слепого. Кладовщик Яков Запрудин даже поспорил с конюхом на бутыль самогонки. Дементий, не выпуская изо рта самокрутки, выбрасывал вместе с едким густым дымом шепелявые слова:
– От слепой слепец родится… двойной убыток хозяйству.
– Убы-ы-ток! – басил Запрудин, унимая мизинцем зуд в правом ухе. – Кто его, убыточек этот, на блюдце колхозу поднес? Ты! – Яков, как пистолетным стволом, тыкал указательным пальцем в крутое басалаевское брюхо. – Гад ты, Демешка, не конюх! Такие матерые возы на кобыле таскал – бастрики лопались. Донял лошадь натугой. Лучше бы тебе шары отемнило.
– Ты, Яков, хай не поднимай! Травы дурной Пурга объелась, потому и слепота наступила.
– Ничего, мы тебя на колхозном собрании попросим горькую траву показать.
Чем больше в словесной перестрелке попадало в Дементия литых матерных пуль, тем сильнее багровела его тесаная шея, чаще подскакивал выпирающий кадык, точно под кожей металась вверх-вниз окатанная галька. От слов до кулаков дело не доходило, но четыре руки месили воздух основательно. Далеко не мирная жестикуляция красноречиво говорила о нешуточной давнишней вражде мужиков.
Запрудин считал конюха колхозным прихлебателем: тайгу под пашню не корчевал, избу себе не построил – готовую купил. Когда-то донимал Басалаев мужиков налогами. Не было у него жалости ни к многодетным семьям, ни к доживающим свой век старцам. До рубля, до каждого литра молока добирался он, угрожая пухлой книжкой квитанций и острым, как шило, химическим карандашом. В оправдание втолковывал мужикам:
– Налог – закон. Не я его состряпал.
– Состряпал не ты, а допекаешь зачем? – наседали колхозники, добиваясь отсрочки платежей, обременительных поставок мяса, масла, шерсти и шкур.
Потирая жирные лоснящиеся щеки, Басалаев стыдил, увещевал, упрекал жителей деревни Большие Броды, используя в выбивании налогов лисью хитрость, нахальство, дерзость и запугивание.
Торопливо жевала овес Пурга, роняя с губ капли клейкой слюны. Сегодня лакомый корм не был вкусен. Сильнее ощущалось покалывание острых овсинок. Требовалось наскоро перемолоть зубами щедрую подачку конюха, насытить брюхо, где умостился в мокром тепле неспокойный жеребенок. Он часто дрыгался в тесной утробе. С каждым днем толчки становились резче, сильнее. Его будущая колхозная земля лежала всего лишь в метре от затекших согнутых ног. До барабанной упругости натянутый живот, словно в люльке, держал и баюкал существо, которое звала земля, ждала появления на свет.
За ночь продолговатая прорубь на Васюгане подернулась нетолстым ледком. Нарымская зима еще не начала бурного отступления, науськивала, особенно по ночам, мороз. Днем солнце незаметно подтачивало ледяные мосты, оплавляло на буграх снега. На пригревах источали слезы радости хрустальные сосульки. На лесных полянах, на пнях и древесных стволах скоро начнут разгораться бурундуковые битвы. Подняв трубой распушенные хвосты, самцы станут вступать в дерзкие схватки за полосатых подруг. Везде будет слышен призывно-любовный поклик неугомонных зверьков.
Лед в водопойной проруби пробивался совковой лопатой. Дементий вычерпал стеклянный скол широким сачком, и пока, отойдя в сторонку, журчал в снег желтой струей, лошади подошли к темной воде, принялись пить с шумным чмокающим прихлебом. Слепая стояла в стороне от табунка, облизывая языком опушенные губы. Конюх, ласково похлопывая по холке, подвел Пургу к краю проруби, отпихнув бесцеремонно игреневого жеребца. Лошадь чуяла близость воды, но не наклоняла голову. Раздалось протяжное посвистывание конюха. Слепая оттопырила губы, копытом потрогала лед перед собой, желая убедиться, где кромка очищенной проруби. Найдя ее, жадно припала к медленно текущей воде. С мясистых губ смывалась овсяная шелуха.
Запоздалое раскаяние Дементия не принесло душе облегчения. Он вспомнил, как истязал кобылу на крутых дорожных подъемах, пытаясь резью кнута влить в лошадь добавную силу для продвижения тяжеленного воза с сеном, большой поклажи мешков, дров, привозимых с дальних делян. Перекашивался от натуги хомут, кренило дугу, врезалась в лошадиное тело сбруя. Обручную твердость приобретала подпруга, сжимающая кобылу до скрипа ребер. Закованная в удила, хомутину, чересседельник, другую ременную амуницию, Пурга ухитрялась отыскать в себе еще треть, бог весть у кого заимствованной, лошадиной силы. Бесконечной лентой мучения тянулся впереди санный путь, ложилась под тележные колеса тугая грязь дорог, простиралось невспаханное поле, усыплял наплывный шум тяжелой сенокосилки. Молчаливая работница не имела права на усталь и бессилие. Но они являлись, обрушивались опустошительным валом. Тогда ни кнут, ни пинки, ни обломанная в гневе о спину палка не могли вразумить обессиленную вконец лошадь. Часто полное изнурение принималось за хитрость и притворство. Приходилось мучительно сносить тупое надругательство возницы, не желающего сбросить с воза ни навильника сена, ни охапку дров.
Судьба не наделила лошадь-смиренницу большой силой. Другие кони могли вымчать кошевку или сани на крутой угор, тащить ладный воз сена, без задышки нести седока на несколько километров. Пурга не могла удивить ни крепостью ног, ни мощью фигуры, ни тягловой силой. Искусный шорник дед Платон, занимающийся по старости лет и болезни всякой домодельщиной, осматривая неказистую кобылу, говорил:
– Бывают и от тяти разные дитяти. Конь коню – тоже рознь. Иной на работах вмиг истлевает, вся силенка с испариной выходит. Другой и вял и сух, но за троих тащит.
Для вспашки личного огорода дед Платон старался взять Пургу. Он никогда не изнурял ее, отваливая лемехом тонкие пласты унавоженной земли. Редко приходилось покрикивать: «в борозду!» – работница шла хоть и тихо, но ровнехонько, не выходя из прорезанной неглубокой дорожки. Когда прицепляли борону, на смирную кобылу взбирался шустрый внук Платона – Захарка, предварительно скормив ей посоленный ломоть хлеба. Вдавливая в мякиш крупитчатую соль, Захарка искоса наблюдал за нетерпеливой Пургой: она тянулась оттопыренными губами к куску, теребила бахромчатый рукав сильно изношенного пиджака.
– Да погоди ты! – ласково отмахивался юный бороновальщик, показывая в улыбке щербатые зубы.
Захарка подавал на ладони нашпигованный солью ломоть и сразу подставлял под лошадиную морду подол ситцевой рубашки, не позволяя ни одной крошке упасть на черные пласты.
Зигзагообразно тащилась по огороду тяжелая борона, зубья рыхлили землю. Сильными вздохами паренек вбирал в себя ее сладковато-бражный дух.
Запуганная бранчливым, скорым на расправу конюхом, Пурга была предельно внимательна к каждому подергиванию поводьев. От деда Платона, от Захарки она не слышала резких понуканий, никогда не испытывала ожогов прута или бича. Она давно выделила Захарку из всего колхозного люда за ласковость, доброту и снисходительное отношение. Была жеребенком, подпускала к себе, позволяя чесать за ушами, в паху, запускать пальцы в густую гривенку, прихлопывать ладошкой скопище гнуса на шее, возле глаз. Захарка безбоязненно пролазил под животом жеребенка, играл с ним на какой-нибудь прогретой солнцем лужайке, бодал его на траве, прижимая острые трубчатые уши.
Став взрослой лошадью, Пурга не изменила своей привязанности к пареньку. Никто, кроме него, так охотно и тщательно не вычесывал во время линек старую шерсть. Приятное, щекочущее прикосновение скребницы заставляло кобылу тихо всхрапывать от удовольствия, словно она особым лошадиным мурлыканьем благодарила за важную услугу, платила за труд нехитрой песней.
Узнав от отца, Якова Запрудина, что любимица ослепла по вине конюха, Захар кусками льда высадил три оконных стекла в басалаевской избе. Когда с крыльца громыхнул среди ночи ружейный выстрел, мститель отлеживался за плотным сугробом, нанесенным вровень с огородными кольями. На всякий случай он прихватил с собой чугунный кругляш, снятый с печной конфорки. Захар горел мальчишеским гневом. Дойдет дело до схватки, – размышлял он на снегу, – пробью конюху башку чугуниной. Таяла, мокрела под горячей щекой снежная корка.
Качнулся у избы желтоватый свет фонаря: «летучая мышь» осветила сперва полупустую раму, заметалась низко над землей. Хозяин искал следы. Возле него крутился сын-старшак Никитка, держа наперевес двустволку. Захар скривил в ухмылке губы, прошептал:
– Дураки! Мои наброды ищут. Буду я вам вблизи хлестать стекла. Чай, на школьных соревнованиях всех дальше кидаю гранату.
Сказал и пополз по гладкому насту к тропе.
Тихо шагнув в избяное тепло, полуночник сбросил валенки у дверей.
– Что долго на двор ходишь?! – спросила мать, разбуженная выстрелом.
– Живот… скрутило…
– В какой стороне стреляли?
– В низовской. Наверно, у Чеботаревых. К ним лиса повадилась в стайку лазить, двух кур утащила. Поди, подкараулили.
3
Ломались санные дороги. С хрустом лопались на солнцебойных пригревах глянцевитые сугробы. Из-под них выныривали лопотливые ручейки. Ослепленные густым светом, натыкались на пригнутую прошлогоднюю траву, сухие стволики репейника и комки волглой земли.
По проторенным природой путям шла холодная весна тысяча девятьсот сорок первого года. Там, где с крутых яров прыгали в снежные завалы ребятишки, теперь резво сигали мутные потоки, сгоняя со склонов до обрезной черты реки разжиженную глину.
Оттаивали макушки муравейников. По насту, делая первые пробные вылазки, ползли еще полусонные муравьи, часто останавливаясь и трогая друг друга усиками.
В деревне Большие Броды для ребят было три особенно притягательных места: кузница, конный двор и мельница. Захара Запрудина влекло к себе все конюшенное хозяйство: пропитанная запахами дегтя и кож конюховка, длинное помещение для лошадей, пригороженный к нему просторный денник. Часто, присев на толстую жердину изгороди, мальчик завороженно наблюдал за конями. В многоногом разношерстном табуне царила интересная жизнь. Заботливо опекались жеребята. Наказывались ретивые нахалы и задиры. Чесали друг друга зубами и храпами. Лизали валуны соли. Дрались и мирились. Смеялись тем особенным лошадиным смехом, который можно принять за угрозу вцепиться в соперника оскаленными на всю длину резцами. Лохматые, короткошерстные, большегривые, худые, плотнотелые – все покоряли Захара интересной табунной жизнью. Каких мастей тут только не было! От мелового до войлочного цвета, от песочного до кирпичного, от пепельного до землистого. Мальчик жалел жеребят-изморышей, в ненасытном рвении терзающих таких же худых, плоскобоких матерей. Несильными ударами коленей матки отстраняли надоедливых сосунят. Они, встряхнув головами, с еще большей настырностью лезли под отвислые животы.
Однажды Захар впервые дотронулся до теплого храпика саврасого жеребенка. Тихонько, боясь вспугнуть, погладил его. Резвоногий неожиданно фыркнул почти в самое лицо мальчишки, обдав мелкими каплями слюны. Принимая это за доверительную игру, Захарка громко рассмеялся и погрозил запачканным чернилами пальцем.
Конюха невзлюбил сразу. Завидев его, соскакивал с изгороди, прятался за конюшню. Сюда доносились матерки, испуганное ржание и топот лошадей по деннику.
Как-то на улице к кладовщику Запрудину подошел конюх. Взяв его за медную пуговицу зеленого бушлата, предложил:
– Отпускай, Яков, своего парня ко мне в ученики. Все равно день-деньской на конюшне пропадает.
– Чему ты его можешь научить?! – Запрудин дерзко посмотрел в быстролетные басалаевские глаза. – Матеркам? Жестокости к лошадям? Зернокрадству? Не-ет! Упаси бог от такого учителя. Ты свою душу черту по найму отдал.
– Черту ли, богу – живу не тужу.
– Ну и живи. И отхлынь от сына.
Захар тайком от отца стал помогать конюху. Чистил стойла. Разносил по кормушкам сено. Взяв скребницу, обихаживал коней до ломоты своих хватких рук.
С Дементием почти не разговаривал.
– Молчи, немтыренок, да дело делай, – с ехидцей бубнил мужик, радуясь усердию Захара.
Никита, басалаевский старшак, тоже льнул к лошадям. Характер он имел горячий, срывистый. Без конца дерзил отцу, вырывал из его губ недокуренную самокрутку.
– Добалуешься, чертенок! Когда-нибудь сселю нос с рожи!
– Из чего дым выпускать стану?! – хохотал в лицо отцу смельчак, выдавливая из крупных ноздрей густые струи.
Упитанный, крепкощекий Никита не раз нарочно задевал плечом Захара, наступал на ноги, стукал черенком вил. Недолго парень скрепя сердце терпел издевки. Однажды, схватив забияку за грудки, стукнул его спиной о стену конюшни. У Никиты зашлось дыхание. Драка не завязалась: вошел Дементий, послал Захара съездить за овсом.
Отец, забросив на сани мешок, упрекнул:
– Нанялся, что ли, к конюху?! – Поняв опрометчивость вопроса, извинительным тоном добавил: – Впрочем, помогай, учись. Турнут Басалая с должности – его место займешь.
Никак не хотелось верить Захару в то, что Пурга ослепла.
– Может, временно… может, пройдет, – успокаивал он себя и страдалицу, поглаживая ложбинку под ее нижней губой.
Он заглядывал в слезящиеся глаза лошади, видел в них свою крошечную голову. Оттиск был упрятан в самую глубину зеркальных холмиков, словно вплавлен в них. Не хотел Захар пробовать на вкус горечь правды. Не желал верить, что задумчиво-пристальный взгляд Пурги перехвачен сейчас плотной тьмой. Эта молчаливо-коварная разлучница стеной стала между ними, напрочь отсекла весь нехитрый мир видений, поглотила ископыченную землю денника, жердяную изгородь, облитое солнцем небо.
Захар тихонько вытащил из-за пазухи кусок калача, поднес к левому глазу кобылы, к правому. Она не отреагировала на проверку ни отраженной в глазах радостью, ни поворотом головы. Почуяв хлебный запах, расширила и прижала ноздри. Скармливая теплую дольку мягкого пористого калача, паренек стиснутыми зубами, полным наклоном головы к груди пытался заглушить в себе неостановимо бегущие надрывные звуки. Не удалось. Они выплеснулись наружу, спугнув с долбленой кормушки стайку резвокрылых воробьев. Не перехваченные губами слезы картечинами бились о руку, о поджаристую корочку сдобы. Захар крепко обхватил голову несчастной лошади и, пока она дожевывала калач, терся щеками, носом, подбородком о ее серый, с желтоватой подпалинкой лоб.
Ведя за уздечку на водопой одну, без табуна слепую Пургу, Захар размышлял о ее дальнейшей судьбе. Принесет скоро жеребенка и что же – на забой? Не-е-т. Председатель не позволит. Защитим ее. В колхозе мало лошадей… Под суд надо конюха отдать. Говорит: трава виновата. От ядовитого веха не слепота – смерть наступает. Сам видел – подыхала на лугу колхозная корова, съевшая зеленую отраву. Высачивалась из открытого рта, пузырилась желто-зеленая пена, выпирало из орбит просящие о помощи глаза. Луг оглашался смертельным ревом. Приходилось жмуриться и затыкать уши.
– Вот и поводырь у ослепшей нашелся, – нежным, воркующим голоском говорил дед Платон, встречая внука у конюшни.
– Дедушка, неужели убьют ее?
– Колхозному правлению решать. Лошадка смирная, безотказная. Жалко такой подсобы лишаться.
Старик неуклюже переступил с ноги на ногу. Подошел вплотную, пытливо посмотрел внуку в глаза.
– Стекла у конюха ты выхлестал?
Захарка хотел в этот миг проглотить скопившуюся слюну, но она застряла на полпути в окаменевшей гортани. Прозорливый дед метко нацелил блекло-карие магнитики глаз. Невозможно было увильнуть от ответа, солгать, провести умудренного жизнью человека. Никого не посвящал в свою тайну юноша – ни дружка Ваську Тютюнникова, председательского сына, ни его сестру Вареньку. Сказать деду «нет», и все кончено. Никто не видел. Никто не сможет указать на него пальцем.
– Не пытайся врать, – окончательно разрушил сомнения Платон. – У лжи все равно нос наружу торчать будет. Говори.
– А чё Басалай над лошадями изгаляется?! Я сперва хотел в трубу его избы полбутылки пороха на веревочке опустить. Печку пожалел… и порох тоже.
– Во, мудрец! Во, мудрец! – Платон захлопал ладонями по отвислым штанам. – А если бы ружейный заряд решето из твоей задницы сделал? Ведь Дементий холостыми патронами не палит. У него картечных хватает. Картечь-то не рубленная из гвоздей – заводская.
– Обошлось.
– По-ранешному вздуть бы тебя надо, да ты уже лавку перерос. Запомни, Захарушка: на всякую месть отместье имеется. Зло – семя шибко сорное. Вам, молодым, иная сила дана – словами и поступками оживлять правду, гасить злобу. Вчера твоя душа взгомонилась – окно вышиб, завтра избу вздумаешь спалить.
– За Пургу отомстить хотелось, – виновато, тихоголосо изрек внук, поглаживая покатость над верхней губой лошади.
Долго держались в тайговниках дороги-ледянки, но и они не могли устоять под натиском ручьев, творящих многочисленные проточины. Все обрушительнее была сила прибывающего тепла и света. Хлюпала под полозьями саней снежная жижа. Скользили копыта быков и лошадей на оплавленных льдистых буграх. С трудом передвигались по изломанной колее груженные соснами сани. За ними скрипуче ползли короткополозные подсанки, стачивая подрезами без того истоньшенную, криво ползущую к Васюгану дорогу.
Понуро тащились по ледянке покорные сухожилые быки. От их упрямой, в раскачку походки скрипели громоздкие березовые ярма. На пологих длинных подъемах быки останавливались передохнуть. Слышались частые хриплые вздохи. Дрожали вспененные подушки губ.
Оставалось вывезти из урмана последние полтораста кубометров древесины и дожидаться часа, когда сплавщики пустят бревна по извивам темноводной реки.
На делянах дожигали кучи соснового обрубья. Под хвойным пологом растекались горьковатые дымы. Книгу жизни каждого дерева время писало волнистыми годовыми кольцами. Они явственно читались на желтых срезах пней. Сосняки здесь были многосемейные, росли неугнетенно: кольцевые дорожки бежали от центра довольно ровными полнокругими линиями.
Опустеет скоро второй урман. Уйдут на короткий отдых люди, быки и кони. Оставив теплые лежанки потайных берлог, разбредутся вялые от многомесячной спячки медведи. Какой-нибудь набредет на таежный барак, будет принюхиваться к углам, чесаться об открытую банную дверь. Кровеня язык, станет вылизывать консервные банки и теребить увесистыми лапами клочья оброненного сена.
В середине апреля двинулись из тайги в Большие Броды обозы со скарбом, с дровами, с клепкой, заготовками для топорищ, граблей и вил. Ни одни сани не тащились порожняком. В трех вместительных, плетенных из ивовых прутьев коробах везли чурочку для газогенераторного трактора. Его обещали колхозу второй год, вот и готовили впрок «корма» для стального савраски. В складе у Якова Запрудина вырос чуть ли не под потолок чурочный террикон. Некому было пока скармливать высушенные, гулко стукающиеся друг о друга баклушки. Район говорил: ждите. У страны колхозов тьма и каждый желает обзавестись колесной конягой.
Чурочку сушили в бараке над печкой почти до полного удаления влаги. С прогнутых вольерных сеток днем и ночью доносилось легкое потрескивание: лопались от сушки древесные волокна.
Боясь, что колхоз, получив трактор, останется без тракториста, председатель Тютюнников выписал из Томска справочники, пособия по газогенераторам. Сморенный лесными работами колхозный люд, сопя и всхрапывая, засыпал на барачных нарах. Василий Сергеевич брал тогда керосиновую лампу-семилинейку, уходил в баню. Полок, пропитанный запахом березовых и пихтовых веников, служил ему широкой партой. Далеко за полночь, намертво сваленный усталостью, успев только дунуть в горловину лампового стекла, быстро погружался в пучину сна. И возникали перед ним прекрасные картины обманного сновидения: целая вереница пашущих тракторов. Земля простиралась черной жирной равниной до самого горизонта. Тракторы шли в зыбучем мареве, и над бесконечно бегущими пластами великого поля вспархивало огромное скопище грачей и скворцов…
Даже не наметанным глазом можно было сразу отличить в табуне коней-тягловиков, прибывших с лесозаготовок. Какой бы не была колхозная разноработица, оставленным при конном дворе лошадям больше перепадало часов отдыха. Зимние ночи они коротали в стойлах. В тайге конюшню заменял крытый досками сарай, огороженный неошкуренным горбыльником. На крышу набрасывали несколько навильников сена. Сенные валки тянулись вместо завалинок понизу лошадиного обиталища. Каждогодние заготовки прямослойной сосны для авиационной промышленности выматывали людей и животных. Это была тяжелая, запланированная васюганским земледельцам страда. Она начиналась с первыми белыми мухами и заканчивалась за две-три недели до посевной. Лесная кампания по продолжительности побивала все полевые и луговые работы. Кони, успевшие откормиться за лето и осень на даровых харчах лугов, вертались из тайги поджарыми, как гончие, попусту пробегавшие весь день за зайцами. Метелочные хвосты лошадей, сцепленные и укороченные неотлипчивым семенем репейника, в тайге дополнительно склеивались от смолы стволов, задеваемых при трелевке и отвозке бревен по ледово-снежной дороге.
Возвращение из тайги омрачилось для председателя печальным известием об ослепшей кобыле. Прежде чем сообщить плохую весть, счетовод Гаврилин с минуту открякивался в кулак, заводил под потолок глаза, избегал вопрошающего взгляда Тютюнникова, точно сам был повинен в случившейся беде. Он оставался за председателя и теперь должен дать отчет о всех пробуксовках механизма невеликой артели.
– Выговор меня не пугает, не полиняю от него. Лошадь жалко… забить придется, как думаешь? – Василий Сергеевич машинально покачивал по столу ладонью пресс-папье: маленькая деревянная качалка была покрыта снизу толстым слоем промокательной бумаги, успевшей впитать черно-синий ядовитый цвет.
Гаврилин пальцем ткнул вверх дужку очков, поскреб переносье.
– Принесет Пурга жеребенка, выкормит его, там видно будет. Может, и слепая сгодится в хозяйстве. Захар Запрудин от нее ни на шаг.
– Конюх что говорит?
На траву сваливает. Водится, дескать, по мочажинникам шелковистая тонкостебельная трава, конским слепуном называется. Поела несколько раз и вот…
– Ела летом, ослепла весной. Не вяжется что-то.
– Врет Басалаев. – Счетовод поднес Василию Сергеевичу стопку бумаг, где требовалась только его, председательская подпись. – Старики такой травы не знают. Дементию слукавить, что высморкаться. Турни его с конюхов.
Тютюнников обмакивал широкое перо в чернильницу, подписывал документы. Счетовод прихлопывал подпись мягким пузцом пресс-папье.
– В тайге совсем разучился ручку держать. Не подпись – лисий след.
– Сойдет. Не на сотенных фамилию ставишь.
– Гнать, говоришь, конюха надо?
– С треском.
– В районном земельном отделе басалаевский родственник затесался.
– Ничего. Правление решит – и райзо не крякнет. Не велика шишка. Переводи его смело в разнорабочие. Сейчас самое время седло из-под него выбить.
– Может, и впрямь трава повинна?
Счетовод сдернул очки, шумно, как после выпитого стакана вина, дохнул на стеклышки, протер их полой суконной гимнастерки с большими накладными карманами.
– Свалим на траву – молву дурную наживем, Василь Сергеич. И от слов крапивный зуд по телу пойти может. Лично меня словесная чесотка не устраивает…
Вода настойчиво отторгала от берега посинелый лед. По продолговатым лывинам заберегов влажный порывистый ветер гонял мелкую рябь. Предледоломная пора редко проходила без сильных ветробоев, поднимающих в воздух ярный песок. Весенним неостановимым набатом гудели матерые хвойные колокола.
На берегу Васюгана дед Платон смолил широкодонную лодку. В котле клокотала, всплескивалась густыми каплями смола. Из-под черного брюха посудины вместе с пеплом вырывалось тонкое ломаное пламя. Оно с гулом обволакивало чугунный бок и походило на багровый лепесток диковинного цветка.
Загородив плоской спиной котел от ветра, Платон погружал привязанную к палке паклю в аспидную гущу. Подождав, пока сбежит с такого большущего помазка смола, быстро подносил его к лодочному пазу, затирая трещины, щели, ямки возле гвоздей.
Набежные с реки ветры ударялись о береговую кручу, кудлатили сухую траву у кромки яра, трепали обнаженные корни мать-и-мачехи. Платон широким носком чирка набросал на огонь песку, приглушил жар.
Старик не принадлежал к породе скородумов, говорящих наспех первые пришедшие на ум слова. Он неторопливо укладывал их в памяти, как дровяное колотье в поленницу – торец к торцу. Так же плотненько ложились и мысли, приходящие за тягучей повседневностью дел. Чем больше жизнь урывала у тихого времени дней для земного существования, тем сильнее хотелось отдалить неминучий час прощания со всем, что много лет вторгалось в душу, сердце, глаза, радовало, бодрило и угнетало. Ни о райских кущах, ни о чертовщине ада не размышлял Платон. Детство, отрочество, зрелость были повергнуты наземь, как повергаются наземь косой созрелые травы. За первый укос кем-то снято детство. За второй и третий подкошены другие годы. Подступила старость, бродит нищенкой, вымаливая дни и недели для праведных трудов. Иных и не было у Платона Запрудина. Огрубели мастеровитые руки. Кривыми рытвинами расползлись по шее, лицу морщины, улетучилась былая сила. До сих пор осталась неутоленной одна жажда жизни. Отпустят тебе скоро последний глоток из чистоструйного родника и не дадут даже капельной добавки…
Черны, липучи сегодня мысли в голове, точно густая смолушка в котле. Лодка представляется Платону большой домовиной.
– Тьфу! – сплевывает старик, задирает голову и глядит на самое надъярье.
Там стоит Захарка, размахивает руками, что-то кричит деду. Ветер рвет, членит слова. Долетает – «ёёно…вии…раа». Внук подпрыгивает, машет кепчонкой, резким выбросом вскидывает руки. Платон догадывается: не беда пригнала парня на берег. В короткую затишь гудящих порывов долетает ликующее:
– Дееда, жеребеенок виидиит! Урраа!
– Слава те господи! – крестится неверующий Платон. – Пурга зрячего принесла.
Разом отхлынули, улетучились свинцовые мысли. Над полураздетым Васюганом, его изломистыми берегами, плоскоберегой заречиной ворохами подсиненной марли лежала дымка. Потопленные этой недвижной синевой тальники, санные наследи с вытаянными котяхами, клочья оброненного с возов сена составляли общую картину весеннего утра. В человеке продолжала жить возвращенная радость.
Захара подмывало сигануть с яра на песчаную осыпь. Он понесся прыжками к спуску, разбрызгивая мутную воду лужиц и ручьев.
– В котел не угоди! – крикнул Платон подлетающему внуку.
Через несколько минут, выложив важную новость, Захар стал помогать деду досмаливать лодку.
Сейчас особенно пытливо, изучающе смотрел старик на помощника, ревностно отыскивая в лице внука черты, хотя бы отдаленно схожие со своими. Ничего не находя, злился, сам не зная на кого. Отцовского и материнского было много в цвете серовато-синих глаз, небольшой приплюснутости носа, скуластом подбородке, чуть раздвоенном ямочкой. От отца достались порывистость движений тонких рук, пунцовые пухлые губы, округлость нешироких, но крепких плеч.
Совсем упустил из вида Платон, что Захаркин характер – волевой, необидчивый, неотступный – точный слепок с его, стариковского характера. Такими качествами наградил сына. Они же, словно по родственному завещанию, перешли к послушному, исполнительному внуку. Старик, как бесценной находке, обрадовался пришедшей мысли: время может стереть с лица схожие с кем-то черты, изменить походку, обесцветить глаза. Но сгусток переданной воли, решительность поступков, вложенное в руки трудолюбие, болезненно-острое отношение к правде не поддадутся разрушению, перейдут в наследство правнукам… «Значит, мое будет жить в них… Значит, мне удалось заложить в сыне и внуке что-то неподдающееся тлену, не уходящее на погост вместе со мной».
Смола капала на чирки, на измятую куртку, сшитую из шинельного сукна. Погруженный в раздумья Платон не замечал прилипчивые кляксы.
4
Пурга ожеребилась под утро на теплой сенной подстилке.
В первые минуты появления на свет жеребенок потягивался, разминал затекшее в утробе тело. Из ноздрей вместе с лопающимися пузырями курился легкий парок. Одолела зевота. Он жадно хватал терпкий воздух конюшни, показывая ровные молочные зубы.
Пурга вылизывала покатый лобик возле прищуренных глаз, гладкошерстную ложбинку за челюстью, гуттаперчево-податливую округлость над ноздрями. Усталая и счастливая, чистила и чистила языком клейкую шерсть.
Из двух красноватых, с прожилками сосков, близко поднесенных к открытому рту жеребенка, выжались нетугие струйки, обрызгали язык, откляченные губешки с мелкой порослью волосков. Малыш поперхнулся, издал всхлипывающий звук, принялся слизывать густоватое молоко. Потом боднул мордашкой в пах, жадно, с чмоканьем припал к соску, роняя с губ плотные капли.
Слепая мать лежала на влажной подстилке, тяжело и мучительно вздымая крутым боком. Не раз жеребенок пытался встать на ноги. Пурга придерживала его головой и продолжала заботливо вылизывать покрытую слизью шерсть.
– Растелилась, корова! – буркнул утром конюх, пытаясь смятой мешковиной протереть досуха жеребенка.
Мать, каким-то чутьем угадав его намерение, показала плотные зубы.
– Ишь ты! Заступница серая!
Дементий медленно подводил к глазам рожденыша прокуренные, сложенные в фигу пальцы. Жеребенок так же медленно отстранял от него симпатичную мордашку.
– Видишь, шельмец! То-то!
Вспомнив о проспоренной самогонке, щелкнул малыша по мягкому уху и полез за кисетом.
Если сначала мать не позволяла сосунку подняться на ноги, то теперь, накормив его, сама подталкивала под живот, легонько покусывала суставы, передвигала по сену.
Солнце светило вволюшку. Мутные продолговатые оконца конюшни не могли сдержать стремительного напора. Световой столб упирался в пухлый живот жеребенка. Уловив его тепло и ласковость, он с новой решимостью сделал попытку посмотреть – откуда начинается затейливый мир света. На длинных шатких ногах поднялась новоявленная сила колхоза. Скользкие копытца ощутили что-то твердое под собой. Пол конюшни стал уползать. Сосунок попытался удержать его дрожащими ногами, испуганно глядя на большую добрую мать. Когда малыш шумно грохнулся на колени, слепая вздрогнула и вытянула голову.
Свет из окошка манил и тревожил. В зыбких упрямых лучах купалась сенная пыль.
Собравшись с духом, жеребенок резво вскочил на кривые ноги. Заскользил, зашатался, но не упал, удерживая в раскачке худое, неуклюжее тело. Весь безудержный свет весеннего дня достался ему в награду. Он зажмурился от обилия белого огня.
Снова подошел к стойлу конюх, довольно хмыкнул, закурил. Жеребенок глядел на человека с подозрительным любопытством. Маленький хвост делал первые неуверенные колебания, но когда ниже крупа села разбуженная теплом муха, волосяная метелка резко прихлопнула ее.
С высоты своего жеребеночного роста человек показался не таким громадным, каким виделся вначале. Чтобы еще уменьшить конюха, сосунок задрал голову насколько мог.
Не торопясь, валко поднялась мать, шумно стряхнула с себя прилипшее сено. Он удивился огромности стоящего рядом родного существа, невольно прихлынул к теплому покатому боку. Губы сами собой отыскали под жилистым брюхом набухшие сосцы. Моментально забылся крутоплечий конюх с аршинной самокруткой, золотой ливень света и что-то живое, сбитое первым ударом мягкого хвоста.
Вывели в денник. Прибавилось страха и любопытства. В глазах запестрело от обилия разномастных, разновозрастных коней. Рыжие, соловые, гнедые, карие, пегие. Белогривые, черноногие, худые, сытые, однолетки, стригуны. Стояли понуро заморенные клячи. Были чересчур бойкие упитанные жеребцы, проказлизо ведущие себя кобылы. Лизали валуны соли. Грызли осиновую жердину пригона, обнажая источенные плоские зубы. Долбили копытами вязкую холодную землю. Фыркали, ржали, лягались, чесали ощеренными зубами шеи и спины. Игрений жеребец пытался опрокинуть широким храпом пустую колоду. Рудо-желтый мерин жадно дожевывал клочок сена. Молодая нахальная кобылка бесцеремонно вырвала осошный пай, уменьшающийся с каждым жевком. Мерин не отбил последний корм. Стоял понуро, уставив отрешенный взгляд на выведенную из конюшни серую кобылу с пугливым сосунком.
Грязнобокое, худоспинное царство кровных собратьев поразило жеребенка. Он притирался к материнскому боку, мешая ступать по деннику ровным, спокойным шагом. Мать легонько отбивала его задом, он настойчиво прилипал к ней, сливая мягкую шерстку с серой грубоватой шерстью. С минуту почти весь табун вопросительно и удивленно оглядывал новичка, путающегося под ногами настороженной кобылы.
Бледно-соломенный жеребец подошел к ней неторопливо, лизнул шею, а над жеребенком издал веселое короткое фырканье. Странно, но малыш даже не вздрогнул, не шарахнулся в сторону. Наоборот, смело уставился на близко подошедшего великана, не отторгнутого матерью, и даже пытался показывать зубы, отчего нарочито медленно оттопырил надутые губешки. Жеребец снова издал над ним победное фырканье. Дважды посрамленный малыш боднул головой в бок насмешника и сильно зашиб хрящеватый храпик о выпирающее ребро.
Проходили майские дни. Лошади паслись на молодой сочной траве, жадно обрезая ее до корней. Жеребенок проявлял назойливость и требовательность в добывании материнского молока. Увлекшись, он порой до боли прикусывал сосцы, получал сильный шлепок хвоста или легкий удар согнутого колена.
Чем упитаннее становился жеребенок, тем легче и увереннее чувствовал себя на земле, точно у него вместе с округлым сытеньким брюшком отрастали крепкие крылья. Летал, не ощущая под собой разбитой тележными колесами дороги, изумрудных лужаек и полей: там землю резали плуги, расчесывали бороны. Туда скоро должны были лечь прибереженные, проверенные на всхожесть семена.
Нехватка в колхозе лошадей принудила и слепую Пургу включиться в посевную кампанию. Председатель вызвал в контору конюха.
– Ты колхозной беде ворота отворил… погоди, погоди траву винить. Ветеринар говорит: нет в практике животноводства случая, чтобы слепота от корма наступала… Говорят, у тебя в земельном отделе туз завелся?
– Есть туз, да не знаю какой масти, – с гордецой ответил конюх, поерзывая на широкой устойчивой табуретке.
– Не радуйся: любую масть козырь прихлопнет. Он сейчас в моих руках. Без особого труда вину твою докажу.
Басалаев пугливо передернул плечами, стиснул зубы, промолчал.
– До особого распоряжения останешься пока в конюхах. В посевную займешься подвозкой семян на Пурге. Поводырем у лошади будешь. Води под уздцы и не смей даже пальцем трогать. Пусть слепая будет для тебя вечным укором.
Подошло время сева. В честь важного дела сменили на конторе слегка обесцвеченный флаг, развешали лозунги. Деревня обрела торжественно-праздничный вид.
Дементий набросил на Пургу старую узду, с привычным злорадством впихнул в рот звякнувшие удила, с окриком завел в оглобли. Настороженно и диковато смотрел на мужика жеребенок: что же он вытворяет с матерью?! Зачем эти длинные палки вдоль боков? К чему какой-то круг на шее, подшитый изнутри лоснящимся войлоком? Дуга, вожжи, телега, чересседельник – все было ново и незнакомо для прыгунка. Пока Дементий, отплевываясь табачной слюной, запрягал слепую работницу, жеребенок недоуменно носился вокруг телеги: она слилась с матерью в одно целое, безобразное существо. Он еще не знал, что четыре круглых ноги этого существа не способны сделать и шагу без четырех прямых ног его охомутанной матери.
– Отвыкла, стерва! – гаркнул мужик, подтягивая подпругу. – Нажрала требуху, дырку нужную не поймаешь.
Блесткий язычок пряжки наконец вошел в продольное расширенное отверстие широкого ремня. Конюх для острастки ткнул кулаком в темное яблоко возле лопатки. Жеребенок издал визгливое ржание, словно удар сильного кулака пришелся по нему.
– Чё, запёрдыш, жалко небось?! Погоди, и тебе перепадет скоро.
Басалаев взял Пургу под уздцы, дернул. Телега покатилась по деревенской подсохшей улице. Серенький шел возле левой оглобли, натыкался на гладкое дерево, отскакивал от него, как от огня. «Не перетянуть ли чертенка кнутом, – подумал конюх. Решил: мал еще, не созрел для побоев».
Подъехали к просторному амбару, где хранилось семенное зерно. Открылась широкая, почти квадратная дверь, показался узкогрудый кладовщик, упрекнул:
– Рано кобылу захомутал. Дал бы еще денька три отдохнуть, вот какого славного сорванца принесла.
– На себе, что ли, семена возить?!
– Мало ли коней?
– Коней-то не мало – оголодки одни. К сенокосу только отъедятся.
– Личную кобылу пожалел бы.
– О единоличном говорить нечего! Давно чирей свели… Отпускай семена.
Пока Дементий, кряхтя и охая, таскал плотные кули, сосунок жалостливо смотрел в потускневшие глаза матери. Она мотала головой, сдавленной хомутом.
Конюх укладывал мешки поперек тележных грядок, успевая бросать в рот высыпавшиеся зернинки.
– Будя! Ехай! – сказал кладовщик, когда Дементий сбросил с плеча пятый куль.
– Толкуй мне! – огрызнулся конюх. – Отпускай еще три мешка. Кобыла дважды не ослепнет. Пусть дитя смотрит, глаза занозит, посколь мать груза таскает. Мне две ходки делать не с руки. После обеда дров надо домой привезти.
– Нет в тебе жалости к лошадям…
– Жалость я с киселем выхлебал, – ехидно напирал на свое Басалаев. – Вы меня много жалели, когда я налоговым инспектором служил. Всех чертей и собак на меня навешали. Разве я поборы придумал? Придешь требовать деньги в государственную казну – вы рот нараспашку. Я еще душеньку-то свою как следоват не отогрел. Если и облобызаю какого конька-супротивца кнутом – шерсть с него не облезет… Чирки за зиму и те ссыхаются, еле дегтем по весне расправишь. Людишки душу мою сушили не один год… Вот за тобой, Запрудин, должок есть – пуд мяса недопоставил.
– Сдохла же свинья.
– Ложь в пороках давно ходит…
Запрудин никак не мог поймать летучий взгляд мужика, посмотреть в щелки бесстыжих глаз. Хорошо научился конюх ослеп лять их на время, напускать туманчик: все предметы и лица тогда кажутся сдвоенными, расплывчатыми. В такие минуты умышленного невидения Дементию легче приходили в голову нужные слова. По надобности он мог уколоть собеседника взглядом, пригвоздить двумя отточенными шильями. Тяжелым, страшным был всепроникающий взгляд бывшего стража по налогам. Такой взгляд выворачивал карманы, открывал крышки полупустых сундуков, шнырял по хлевам, устремлялся в подполья. Бралась на учет каждая выращенная на огороде репа, каждая копна сена, каждый килограмм муки в сусеках у колхозников.
Чудом избежав раскулачивания, Басалаев был пригрет в районе дальним родственничком-начальничком. Грамотный, умножающий в уме двухзначные цифры, умеющий шустро перебрасывать костяшки на счетах, он был скоренько замечен финорганами. Его посылали в организованные колхозы проводить ревизию инвентаря, скота, производить вычисление приблизительной урожайности хлебов и корнеплодов. Подобострастно выполняя возложенные на него обязанности, присматривался к колхозникам, изучал их материальную обеспеченность, интересовался излишками хлеба, мяса, яиц. Наученный горьким опытом жизни нарымский крестьянин не спешил раскрывать перед каждым встречным-поперечным стайки и амбары. Басалаев обладал льстивой силой внушения, отменным нюхом и непреклонным желанием знать все обо всех. Его холодной стали глаза бесцеремонно срывали с мужиков покровы немудрящих тайн. Испепеляюще проникали в глубь доверчивых сердец, страшили разъедающей неостановимой силой. Дементий при посещении какой-нибудь избы не забывал сделать должное внушение хозяину:
– Иконке-то место в красном углу нашлось… нет, чтобы портрет вождя ныне здравствующего повесить. Все норовите бога во спасители призвать. Что он дал колхозу – землю? ситец? хлебушко?
Говорил спокойно, нравоучительно, вежливо, наблюдая за лицом человека, какое действие оказывают внушаемые слова. Голос тихий, вкрадчивый, с небольшим присвистом, словно на манок собеседника подзывает. Чугунная грубота в голосе появится значительно позже, когда пошатнется под ним почва, когда не спасут знание счетной науки, опыт провидца-инспектора, обезоруживающе-властный взгляд, вызывающий у крестьян сердцебиение и страх.
С потертым вместительным портфелем метался Басалаев по деревням отводком огнистой молнии. Утром его могли видеть в колхозе «Бедняк». Считал возле кузницы отремонтированные бороны. В обед он уже в соседнем хозяйстве «Майское утро» учитывал народившихся поросят. Вечером обмеривал саженью личные огороды колхозников в деревне Большие Броды. В кожаной сизо-черной куртке, в галифе из толстого голубого сукна, в длиннополой шляпе с низкой тульей, в хромовых сапогах, вдетых в глянцевые галоши, инспектор выглядел начальственно строго и внушительно. Его робели старики и дети, не говоря о степенных мужиках, обложенных тяжкой данью «подворно», «поамбарно», «поогородно». Иной колхозник, начав говорить с инспектором нормальным просительно-певучим языком, вскоре принимался заикаться, картавить, в запальчивости не договаривая, обкусывая слова. Зная о быстролетности, внезапности появления, неуступчивости Басалаева, о нем говорили в деревнях: «Бешеному псу сорок верст – не крюк».
Нет, не поймать кладовщику Запрудину ртутноподвижное выражение хитромудрых глаз. Он быстро подходит к конюху, ловит его за руки, затягивающие слабую вязку мешка, повторяет:
– Сдохла же, говорю, свинья. Бумага была. Свидетели беде есть. Какое на дохлятину обложение может быть?
– Заступался валенок за пим, да сопрел скоренько.
– Ты в инспекторах отточил язычок, острее косы стал. Не один год хайло на чужое добро разевал. Все знают – лишку драл с мужиков, оттого и турнули. Подцепи-ка на безмен свою совесть, взвесь… то-то…
Серенького не касалась перепалка мужиков. Он уткнулся в шею матери и дышал на нее теплой струйкой.
Конюх все же забросил на телегу еще куль. Звучно хлопнул вожжами. Лопатки Пурги напряглись, вздулись, колеса сдвинулись с места.
Неширокая улица делила деревню на два неровных порядка. Не у всех изб были палисадники, ворота, тротуары. Некоторые избенки своей хилостью напоминали больной расшатанный зуб среди крепких здоровых собратьев. Двумя волнами шли тесовые, редко железные крыши. Над крышами, сараями вздымались скворечники. Голосистые птицы, не уставая, славили новый день новой весны.
Поля начинались почти сразу за деревней. Серенький жадно втягивал запахи свежевспаханной земли. Местами пласты не успели проборонить. Они лежали широкими всплесками. Солнце торопливо выпаривало дорогую для полей влагу. От трещиноватых пластов курилось живое марево, точно кто высверливал из земли еле различимые столбики воздуха.
На пахоте Пурга сильно убавила шаг. Дементий наотмашь перетянул ее ременным кнутом. Кобыла нервно дернула головой, напряглась. Подался назад перекошенный хомут, заскрипела некрашеная дуга.
Хлесткий щелк туго свитого кнута заставил жеребенка вздрогнуть, подпрыгнуть. Он ненавистно посмотрел на возчика. Помимо простой лошадиной строптивости мужик уловил зарождающуюся ненависть к себе. Природный инстинкт подсказал Серенькому: лучше бежать рядом с матерью возле левого бока – по нему почти не гуляет плеть, вложенная в руку краснорожего мужика.
Жалость к матери начала просыпаться в жеребенке с момента, когда конюх грубо завел ее между березовых оглобель, напялил хомут, впихнул брякучие удила. Покорная Пурга пожевала их немного, поудобнее устраивая во рту. Связанная волей человека, она ничему не противилась, униженно наклоняла голову, переступала с ноги на ногу. Такое тихое услужливое поведение вызывало в Сереньком досаду. Пирамидка мешков на телеге, грубые окрики, частые высвисты кнута, натуга, с какой мать тащила груз, – вызывали обиду и раздражение. Думалось: «Почему мать не лягнет мужика? Не цапнет крикуна за плечо крепкими зубами?» К первому проявлению жалости примешивалась ревность: малыш почти не сводил с матери влюбленных глаз, а та лишь несколько раз повернула к нему голову. Недовольный таким слабым вниманием жеребенок забегал вперед, маячил, напоминая: вот же я, вот… никуда не убегу… мне нравится быть рядом…
Колеса утопали в рыхлой земле. Лошадь чувствовала сильную резь подпруги и давящий войлок напружиненного хомута.
– Шевелись, кляча!
И раньше Пурга не отличалась стеснительностью, устраивала от перегрузки задорную канонаду. Теперь началась такая пальба, что даже Серенький навострил уши, бестолково уставился на потную работницу. С концов удил на уголки дрожащих губ выбивалась пузырчатая пена. Лоснились влагой тяжело вздымающиеся бока. Скрипели гужи, оглобли, наклоненная дуга. Туго натянулся чересседельный ремень. Земля хватала колеса тяжелыми широкими ладонями отваленных пластов.
Услышав непрерывную кобылью стрельбу, Басалаев бросил вожжи на тяжелые мешки, отстал от телеги.
– Душная, тварь! Отожралась в стойле!
Серенький пригарцовывал слева от хомута, приятно ощущая утопающими копытцами нутряное тепло подсыхающей земли. На вольном просторе колхозного поля его неожиданно обуяло озорство. Забегая вперед матери, он резко стегнул ее хвостом по морде, помчался вскачь по полю. Землю проборонили, сняли с ее груди тяжесть литых пластов. Она задышала спокойнее, всплескивая волнышки живучего марева. Месяца через три здесь заиграет золотая зыбь. Ветер станет гонять непокорные валы между березово-осиновых перелесков. В огнистой глуби хлебов станут скрываться неторопливые перепелки, заманно призывать проезжих и прохожих ко сну, будто есть у колхозников в такое время лишний час для отдыха.
Сосунок-резвунок так разбежался от телеги, что остановился только неподалеку от полевого стана. Встал как вкопанный, уставился с любопытством на людей, зачмокал губами. Оглянулся на мать-мытарку и залился неокрепшим, похожим на хохот ржанием.
– Здравствуй, златоглазик! – весело поздоровалась девушка в простеньком платье из цветастого ситца. Ни старые кирзовые сапоги с дыркой на голенище, ни поношенная, заштопанная на рукавах кофта, ни мятая выгоревшая косынка не могли затмить юной прелести лица, стройной фигуры. Глаза сияли непотухающей улыбкой. Каждая веснушка на прямом носу, на крутых крепких щеках излучала по яркому лучику.
Жеребенок, прищурясь от бьющего в глаза солнца, настороженно смотрел на девушку, протягивающую к нему руку ладонью вверх.
– Тпсё! Тпсё! – подзывала она упрямца.
Это была Варя, дочка колхозного председателя Тютюнникова. Отец поставил ее звеньевой на севе, отвечающей за работу сеялок и подвозку семян.
Неподалеку от стана, заметив длинную, слегка сгорбленную фигуру председателя, конюх стал подталкивать сзади телегу. Старался вовсю. На красноватой шее вспучились жилы. Лицо от прихлынувшей крови сделалось отечно-багровым. Дементий хотел заслужить председательскую похвалу, но, подъехав, услышал упрек:
– Ушлый мужик, а сообразить не мог: с дороги к сеялкам повернуть бы надо. Триста метров лишку лошадь сделала…
Басалаев притворно внимательно слушал устный выговор, счищая кнутовищем с сапог прилипшую землю. Когда-то он вот так же назидательно отчитывал мужиков, находя в начальственной власти, в заискивающем взгляде крестьян много приятных минут. Тютюнников тогда работал полеводом. Его бригада вела раскорчевку на буревале. Двухдневный ураган в километре от Больших Бродов наделал широкие прокосы в тайге. Даже чертям не сподобиться на такое буйство. Сейчас на тех полях получали богатый хлеб.
Первая встреча с Василием Тютюнниковым произошла возле конного двора. Он стоял с мужиками, разговаривал о предстоящем сенокосе. Басалаев подошел в тот момент, когда бригадир отрывал на закрутку клочок от газетной книжицы. На сгибах бумага рвалась легко, с тихим шуршанием. Василий расшнуровал кисет, сунул щепоть за табачком самосадом. Послюнил край газетного прямоугольничка, не замечая, что на нем портрет военного с трубкой. Насыпал ровненьким валочком табак, стал скручивать цигарку.
– Не надо вождя на раскурку пускать, – приказным тоном вразумил Басалаев и ткнул пальцем в полуготовую папироску.
– Чего? – не понял бригадир.
– Сталина курить собираешься, вот чего. Он к народу не для того поставлен вождем, чтобы каждый слюной брызгал и сжигал с махрой. – Басалаев одернул зеленый френч с глубокими накладными карманами, оглядел толпу. – Прочитал хоть эту газету бригаде? Обстановку в мировом масштабе знаешь?
Растерянный полевод хлопал глазами, смотрел то на надменное лицо инспектора, то на скрученный клишированный портрет. Со сгиба на Тютюнникова было нацелено, как живое, немного прищуренное зоркое око. Бригадир поспешно прикрыл его концом пальца в никотиновой пропитке.
– Смотреть надо, товарищ Тюнников, – инспектор умышленно сократил в фамилии второе «тю», – что в руках держишь… Этак мы и по туалетам разнесем дорогой нам образ… Учти и сделай вывод…
Пахари зашикали на нежданного законника. Под одобрительное заступничество бригадир засмолил папиросу. С каждой новой затяжкой Василию приходилось пропихивать дым в глотку. Впервые он не ощутил удовольствия от курения.
Не мог предположить налоговщик, что Тютюнникова выдвинут в Больших Бродах в председатели. Не переехал бы он в эту деревню, где ему дали должность учетчика. Учитывать он любил и умел. Доказывая: цифры любят правду, он тем не менее ухитрился обвести вокруг пальца прежнего председателя-простофилю. В результате цифровых маневров, благодаря недюжинному опыту и привычной изворотливости, он «оприходовал» для личного хозяйства трех колхозных ягнят, мешок отборной ржи, дюжину сосновых плах на перестилку пола в избе. Попавшись, вымолил отпущение грехов. Его приставили к лошадям.
5
За председателем, кладовщиком Запрудиным конюх вел постоянную слежку. О искуренном портрете донес одному знакомцу в НКВД, однако не получил от него ни одобрения, ни упрека за пустячный случай. Но в тяжелом молчании острым чутьем-нюхом уловил лаконичные, жесткие слова: «слушай, смотри, доноси».
Конюх, очищая сапоги кнутовищем, не огрызнулся на председателя. Но раскованным поведением подчеркивал: «Плевать мне на твои замечания. Привез семена – будь доволен. Прогнать кобылу лишних полверсты – экая беда?»
Председатель собрал на ладонь с телеги просыпанные за тряскую дорогу зерна. Он не раз пересыпал их с руки на руку в амбаре зимой и в предпосевную пору, ожидая трудного, но желанного часа сева. На шершавой ладони лежало будущее их небольшого колхоза. Всхолмленные участки полей успели засеять выборочно. К массовому севу приступали сегодня. Еще утром председатель привез на самое большое поле деда Платона, отца кладовщика Запрудина. Старый севарь, сгорбленный от годов, от плужных наклонов, от лукошка, из которого многие весны поливал зерном парную землицу, прежде чем ступить на поле, троекратно помолился солнцу, небу и суглинистой кормилице: от нее исходил здоровый ржаной дух. Ступал по бороньбе осторожно, уважительно, выискивая из-под ладоночного козырька нужную делянку.
Тихоречный, раздумчивый Платон предсказывал погоду по кривому еловому сучку, прибитому к венцу на солнечной стороне, по жесткой пояснице: она напоминала о себе за денек до непогодья. Перед ненастьем у старика ломило грудь, ноги, постукивало в висках. Старый барометр в председательском кабинете-закутке допускал простительную погрешность. Платон мог почти безошибочно предсказать осадки.
Перед севом его приглашали «разнюхать землю». По-видимому, Тютюнников больше уважал старую традицию, чем прислушивался к советам предельно сосредоточенного вещуна. Погружая ладонь в рыхлый суглинок, дедушка держал ее там с минуту, проверял «дых земли». Оставшиеся на ладонях комочки подносил близко к слезящимся глазам, с прищуром разглядывая их, принюхивался, растирал в пальцах, пробовал на язык. Никогда не сплевывал перемешанную с землей слюну. Выжимал все изо рта на тыльную сторону ладони, вытирал о штаны. Долго ходил по дремотному полю, поглядывал на подошвы чирков, проверяя землицу на «льнучесть». Потом изрекал спокойно-таинственным голосом: «Сподобил господь – поспела».
Иногда, не уверенный в «спелости» земли, пророчески замечал: «Не неволь семена, Василь Сергеич, погодь денька два, дай лишней сыри выйти».
Председателю хочется внять дедовскому совету, да район каждый раз посылает на сев уполномоченного, который нудит свое: «Старик наговорит – слушай его. Ему бы еще три века чирком поле проверять. Начинай сев. “Красный пахарь” уже два дня сводку в район передает».
Василий Сергеевич размышляет: «Пусть хоть что утверждает Платон – сев начну сегодня, вот сейчас». Видя решимость в председательском взоре, настороженных перед тяжкой работой лошадей, Платон, скоренько проверив землю на «спелость», дал благословенное «добро». По резвому мареву, сыпучести комков и жаркому дыханию поля дедок определил: землица слегка перестояла, но не стал перед торжественной минутой огорчать председателя, хмуролицего представителя райкома, который на три стариковских поклона полю буркнул: «Попа с кадилом только не хватает».
Развернутым фронтом, поднимая легкую пыль, двинулись к перелеску шесть сеялок. В святой момент Василий Сергеевич сам чуть не поднес пальцы ко лбу. Дышлины медленно движущихся сеялок смотрелись орудийными стволами. Тютюнников наблюдал за колхозной «артиллерией». Подошедший срок хлебной страды горячил кровь. Хотелось побежать за дочерью, бодро вышагивающей за первой сеялкой. Так же нагибаться, проверять заделку семян, их равномерное медленное течение из конусообразных бункеров. Но надо было ехать на поля поздней раскорчевки, чтобы и там дать короткую властную команду: «Пора!»
Чуть поодаль от Вариной сеялки двигался запряженный парой гнедых коней агрегат Захара Запрудина. Платон горделиво наблюдал за внуком, за подпрыгивающей сеялкой. Правая рука дедушки машинально ходила возле бедра и груди, словно он хватал семена из подвешенного лукошка, рассевал их по ожившему полю. Шевелились корявые, с наростами на сгибах пальцы. Покачивались согнутые плечи. Юркие, еще не выплеснувшие синеву глаза, хмельно обозревали спокойную землю, упорных лошадей, стайки скворцов и ворон на засеянных участках.
В просторной навыпуск рубахе, в легких, с брезентовыми голяшками сапогах Захар, полный важности и значительности совершаемого дела, вышагивал легким важным шагом. За ним наблюдали и дед, и обрадованное севом солнце, и Варя, и сеятели, идущие сзади. Захару хотелось выделить, задержать на себе Варин взгляд. Изредка он ловил ее мимолетные улыбки. Тогда расплывалась перед ним земля и тихо пелось под шуршание колес сеялки.
Варя была на год старше Захара. Молодыми людьми владело странное томительное чувство: пугаясь оставаться вдвоем, они тяготились одиночества. Тускнели часы и минуты, когда Захар не видел девушку. Предрасположенный к мечтательности, он распалял душу прелестью неожиданных свиданий, еще не догадываясь о страшном подвохе, который обречет его при встречах на долгое тягостное молчание.
Не отпущенный председателем за дровами конюх поехал к амбару, чтобы подвезти еще семян. Пурга, названная так не за силу и резвость, за тускловато-сугробный цвет даже пустую телегу тащила медленно, натужно. Возница не понукал ее, не опоясывал кнутом. Куда спешить, если сорвалась поездка за дровами.
Жеребенок все чаще отлучался от матери, проявляя в вольном беге резвость и прыть. Частые отлучки доставляли Пурге беспокойство. Разносилось тревожно-подзывное ржание. Сперва Серенький спешил на взволнованный зов. Подбежав к матери, старался коснуться лопатки, головы, приветливо махнуть распушенным хвостом.
В придорожных канавах и ложбинках блестела вода. Ярко-зеркальная поверхность приманивала жеребенка. Подлетев к луже, вместе с солнцем заглядывал в нее. Поймав отражение, крутил головой, пытаясь отыскать вторую маленькую лошадку. В новом мире земли, в приволье открытых километров его забавляло все. По рассеянности он однажды забежал с правой стороны телеги и напоролся на резкий удар сапога. Басалаев не хотел бить, нога сама примагнитилась к самодовольному шельмецу. Жеребенок отпрянул в сторону, мослатые ноги дважды лягнули воздух.
– Бес! Соплей перешибить можно, он копыта показывает… доставит мне мороки.
Молча загрузил мешки с семенами. Молча отвез к сеялкам, повернув к ним с дороги.
Сеяли дотемна, пока наступающая ночь не сделала коней одной масти. Распрягая, Захар дружелюбно похлопал гнедых по шее, ощутив под ладонью совсем мокрую шерсть. Лошадям дали отдохнуть, напоили, накормили овсом. Отвели к займищу, спутали. С большого закустаренного болота потянуло сыростью. Звезды успели достигнуть полной яркости, сверкали их алмазные грани.
В Больших Бродах запоздало прокричал петух, быстро оборвав самое длинное третье колено.
Спутанная Пурга передвигалась маленькими шажками. Лишь изредка, опершись на задние ноги, поднимала передние, делая небольшой скачок. Жеребенка забавлял такой способ передвижения. Жидконогий, он мял копытцами молодую травку, ни на шаг не отходя от матери. Дневное тепло, чрезмерная резвость утомили Серенького. Пурга не ложилась на холодную землю, торопливо щипала траву. Зимнее существование истощило ее тело, постоянно хотелось есть. Она знала – упрямцу не хватает молока. Он дерзко становился на пути матери, стукался головой в ее упругую шею, торкался в живот, терзая онемевшие сосцы.
Данный конюхом овес только растравил аппетит. Не полную мерку всыпал он Пурге, утаил пригоршни три. Известно, какая пригоршня у мужика, когда он радеет себе. В такой момент две басалаевские лапищи растягивались, словно резиновые. Ухитрялся и меж пальцев удержать зерно, не ощущая боль от острых овсинок, что шипами впивались в мякоть грабастых рук.
Когда ходил Дементий в начальниках – грудь колесом держал. Да, видно, сломалась ось, повыпали спицы. Заметнее обозначилась крутая горбинка спины. Тяжелые заграбистые руки были по-прежнему сильно разогнуты, будто он собрался бить кого-то наотмашь, бить без пощады и сожаления.
Если его глаза в редких сивых ресницах наблюдали за человеком, за тяжелым ползунком на амбарных весах, они расширялись, вбирали светотени, были изучающе-вдумчивыми и выразительными. Когда на Дементия кто-то смотрел в упор или ждал ответа на неприятный для мужика вопрос, глаза по-кошачьи сужались, смаргивали и челночно бегали. Басалаев не торопил момент вызревания мысли. Пальцы теребили уздечку, застегивали металлическую пуговицу на бушлате, крытом грубым сукном, чесали литой, защетининный подбородок. Мужик по лоскуточкам выкраивал время для ответа. Иногда же почти без пауз так быстро чеканил слова, точно осыпал собеседника с ног до головы сухими бобами.
В нем не было живучей угодливости. Наоборот, все говорило в конюхе: я не ровня мужику, во мне есть то, чего не заиметь вам за годы и годы вашего пахарского житья.
– Сермяжники тощебрюхие! – ворчал при жене и детях на колхозников Дементий. – Повернула страна дышло на артельные хозяйства – возрадовались. Чему?! Драли с вас, единоличников, подати. Теперь с коллективного двора дерут. С колхоза легче разом недоимку взять, чем подворно ходить. Шибко-то и брать нечего. Выгребут все зерно из склада, как пасечник медок из улья, кукарекайте, колхознички, как хотите зимушку живите… Одумаетесь, да поздновато будет…
Смелые речи высказывал только дома. Жене, сынкам настрого приказал: язык не распускать. Нынче каждый слушок пушком летает.
Басалаевские глаза и рот при людях были пропитаны затаенным молчанием. Глаза ведь тоже могут с головой выдать. Взгляд взгляду – рознь. Можно овцой посмотреть, можно волком зыркнуть. Без буковок прочтешь по глазам, чем душа жива, каким штабельком мыслишки уложены.
Учил сыновей: я в малолетстве тяте никогда не перечил. Для меня его полслова приказом были.
У матушки рос мальчонок подлизой, при случае объедал младшего братеньку. Вытаскивает мать из русской печи противень с пышущими творожными или ягодными шаньгами – Демешка тут как тут. Старается младшенького Луканьку боком в сторону оттереть, кулак показывает. Мучную пыльцу с подбородка сотрет, ухват, сковородник услужливо подаст. Полученную шаньгу съест по-волчоночьи быстро, почти не прожевывая. Успеет и от Луканькиного подношения отломить лакомый кусочек. Разделывает мать на холодец после долгой варки свиные, говяжьи ноги – старшак ни на секунду от стола не отходит. Хватает из рук матушки горячую клейкую кость, набрасывается на нее. Скусывает оставшиеся кусочки мяса, волокнистых хрящей, азартно выбивает о скамейку костные мозги, захлебисто высасывает их из трубчатых гладких мослов. Обглоданную кость отдает Луканьке, уверяя, что с нее еще можно погрызть мяса и шилом доковыряться до засевших внутри мозгов.
Все бабки – маленькие свиные и крупные говяжьи – Демешка забирал себе. Обгладывал, обсасывал до блеска. После зубной шлифовки расставлял бабки по полу, отбирал крепко стоящие. Кособокие относил к точилу, заставлял Луканьку крутить ручку, выравнивал основание. Тут же, на макушке точила, проверял бабки на устойчивость: пробовал сбить их щелчком, дул на костяшки. Удостоверившись, что стоят крепко, многозначительно говорил братцу: «Годятся для кона».
В игре Демешка готов рассыпаться от азарта. Нервничал, если бабка-литок валила замертво его костяных крепышей. Смеялся, подпрыгивал при удаче, не забывая незаметно стянуть с кона нескольких молодцов, что еще недавно скрипели в ногах ревматических бычков и крутоспинных свиней.
Луканька утонул восьмилетним. Умея плохо плавать, перебредал широкий ручей у устья. Сбило течением, потащило в протоку. Демешка, идя следом, не успел ойкнуть, как скрылась в струях пепельная головенка братеньки и лопнули над местом беды три больших пузыря. Демеша нырнул, широко под водой раскрыл глаза. Выносимый из ручья песок с илом мешал что-либо разглядеть даже вблизи. Растекались взмученные потоки и где-то в одном из них беспомощно бултыхался последние секунды жизни послушный Луканька.
Запоздало вспомнил старший брат про утопленников, про их мертвую хватку, заторопился на берег. Долго и неотвязчиво колотила дрожь испуга. Не догадался закричать, позвать на помощь. Исступленно смотрел на молчаливое злое устье ручья, судорожно сжимал и разжимал грязные кулачки.
Домой прибрел понурым вместе со стадом коров и овец, которые ходили вольнопасом по травянистым чистинкам.
– Что с тобой, сынок? На тебе лица нет. – Мать пытливо посмотрела на Демешу.
– Змея чуть не укусила.
– Луканя где?
– Поди, придет скоро. Он с ребятами ходил стрижей ловить.
Луканька не появлялся. Посланный матерью «скричать» Демеша оглашенно звал младшего. Обливаясь слезами, кричал полоумно за поскотиной, у припольной дороги, страшась появляться возле злосчастного ручья.
Утопленника вытащили неводом на другой день. Увидев раздутое, багрово-синее тельце, пиявку, успевшую заползти в ухо, Демеша припадочно забился на берегу, ударяясь лбом в мокрый песок, царапая себе грудь и плечи.
До пятнадцати лет не раскрывал жгучую тайну, терпеливо и мучительно носил в сердце тяжкий груз, пока случайно не проговорился отцу на покосе.
Послушного, угодливого сынка отец не бил. Сообразительный Демеша к одиннадцати годкам ловко отщелкивал на счетах килограммы, литры, рубли, сливая их в одну статью семейного дохода. Отец не мог нарадоваться, видя сосредоточенный, углуб ленный взгляд парнишки, непостижимо быстро освоившего счетоводческую науку. Он умел производить на счетах только вычитание и сложение. Но и этой выучки было вполне достаточно, потому что делить свое басалаевское добро отец ни с кем не собирался, а умножать можно было простым прибавлением одних костяшек к другим. Много раз отец пытался проверить Демешкину бухгалтерию, выходило всегда все точнехонько. Ни одна цифра не могла обидеться на того, кто произвел ее на свет божий, вписал в учетную амбарную книгу, проткнутую у корешков шилом и окольцованную двойной дратвой.
Тугая хозяйственная струнка звенела в мальчике постоянно. Иногда строго упрекал отца:
– Тятя, почему ты топор под дождем оставил?.. Зачем сегодня корове лишний навильник сена дал?.. Много вара на дратву тратишь – весь на пальцах остается… Давай купим нового петуха, нашего куры не любят…
– Молодец, сынок, – похвалит, бывало, отец. – Настоящим хозяином растешь. Сколотим капиталец – сам черт не будет страшен. Не зря торговые люди капитал истинником зовут. Правильное имя дали. Вернее, истиннее денег ничего нет. Не играй в жалейку, старайся копейку с копейкой сбить. Ленивые и от господа упрек получили. Лень-то ласковой матушкой прикинется, после голодуха мачехой закричит. Не ленись, сынок. Будут досветки твои – сусек не опустеет. Солнце одних лодырей будит. А ты встань раненько, да сам прихвати его спящим.
– Я-то прихвачу, – серьезно отвечал Демеша и ласково терся о суконную тятькину штанину.
Повзрослев, обихаживая свою землю, изматывая силенку на личном дворе, Дементий часто прихватывал солнышко спящим. Работник любил носить просторные рубахи, сшитые из ткани-суровья. Измокреет от пота груботканая одежина, высохнет, можно колоколом поставить ее на лавку. Захочешь сжать – похрустывает от тельной соли. Быстрее всего ткань протиралась на лопатках и плечах. Поворочает вилами, намахается топором, походит за конным плугом – без огня горит рубаха, заплат новых просит.
Крепко запомнил Дементий внушение отца: кто рано встает, тому не бог дает – руки. Они – спасители жизни. Нет большего позора, чем разора по лености, по мотовству. Богатство – власти сродни.
На личном подворье горела у Басалаева душа, на колхозном тлела.
– Много тягла, а бедность кругом, – упрекнул он как-то председателя колхоза. – Трудодень опять грошовый будет.
– Смотри, с голоду не опухни! – с еле скрытым озлоблением ответил Тютюнников, пристально разглядывая холеное сытое лицо колхозничка. – Смотришь на колхоз, как на сироту. Помогать ему надо, силы отдавать. Ты пинком норовишь заехать в артельное дело.
…Бродила по деревне полоумная побирушка Фросюшка. Сухорукая, сгорбленная, остроплечая женщина почти всегда была одета в фуфайчонку, длиннополую юбку, сшитую из бумазеи. Хлябали на ее худеньких ногах растоптанные чирки: собранные в складки голенища шевелились мехами затасканной гармошки. Фросюшка, по-уличному Подайте Ниточку, никогда нигде не лечилась, в колхозе работала от случая к случаю. Помогала людям подворно – побелить избу, окучить картошку, вымыть к празднику полы дресвой. Редко просила у людей съестное. Ей и так перепадали остатки от обеда, горстка муки, связка луковиц, иногда и целый хлебушко. Уставив на кого-нибудь детски-простодушное, прыщавое лицо, Фросюшка блеющим голоском просила:
– Подайте ниточку.
Она в прямом смысле собирала с миру по нитке, по лоскуточку. Соединяла их в маленькие половички-коврики. В ее осевшей набок избенке их было множество – нитяных, лоскутных, сыромятных.
Если в конюховке не было Дементия, Фросюшка долго, неотрывно смотрела на пучки тонко нарезанных сыромятных ремешков, не решаясь без спроса даже прикоснуться к ним. Все нитяное, матерчатое, вязаное, сотканное, сшитое привораживало побирушку. Она могла подолгу ласкать, как котенка, мохнатую шерстяную варежку, перебирать в сухих пальцах поданный клубочек запутанных разноцветных ниток.
У Басалаева была особенная привязанность к этой женщине. Он видел в ней страдающую божью матерь. Отсыпал ей в сумку овса, давал куски жмыха, приносил из дома сальца, постоянно ссужал нитками, веревочками, сыромятными ленточками, обрезками кожи.
Посинелыми губами Фросюшка тихо-тихо шептала что-то в знак благодарности. Непонятный таинственный шепот больше всего завораживал конюха. Казалось, убогая женщина переговаривается с кем-то находящимся рядом. По разумению Дементия, это должен быть один из архангелов божьих. Ведь они всегда терпимы, благосклонны к калекам, старицам, таким вот блаженненьким, как тощегрудая, охраняемая богом Фросюшка.
– За доброту да воздастся, – приговаривал Басалаев, подавая своей любимице хлебную краюшку, несколько пригоршней гороха.
Он с нетерпением ждал гипнотического шепота. Когда тот начинался, стремился уловить в нем слова, но напрасно. То ослабевающий, то нарастающий благодарственный монолог походил на бульбуканье, клекот косача на токовище. С тонких губ словно срывались одни междометия.
– Ефросиньюшка, что ты говоришь? – несколько раз ласково спрашивал конюх.
Женщина сразу строжела лицом, скоренько покидала конюховку.
И несмотря на это, не было в Больших Бродах человека, к кому Басалаев испытывал истинное христиански-дружеское расположение и доверие, как межеумка Подайте Ниточку. Он нутром чуял: Фросюшка та отдушина, тот желобок, по которому можно спускать житейские прегрешения. Общение с побирушкой, скромные подаяния очищали совесть Дементия, успокаивали душу.
Принимая подачки от конюха, Фросюшка старалась не смотреть на него. Может, ее отпугивал взгляд линючих глаз, настораживала постоянная приговорка: «За доброту да воздастся». Принимая из рук мужика кусок хлеба, молчаливая женщина пугливо сжималась и глядела неотрывно в чумазый дырчатый пол конюховки.
Ее просторная – с торбу – сумка редко пустовала. Вместе с хлебом, картофелинами, головками чеснока и лука лежали поданные обмылки, клубочки пряжи, разная тряпичная обрезь. Фросюшку охотно зазывали к себе сердобольные старушки. У кого отогреется на русской печке, где просто посидит на лавке, повздыхает. Разговаривала тихим умильным голоском. Накопленную в уголках слюну ловко вытирала пальцами или промокала концом серенького платка.
Гадала на потрепанных картах. На них червонного валета нельзя было отличить от пиковой дамы. Тузы давно обесцветились, потому что Фросюшка любила тыкать в них пальцами и заговорщески произносить единственную фразу: «Через него тебе, матушка, счастье выпадет». Боясь насмешек, мужикам не гадала. Бабы с неоскорбительной ухмылкой разрешали побирушке разбросить карты, тем более что по ним всегда выходило счастье.
Ее сумка, пропитанная хлебным духом, привлекала собак и овец. Фросюшка отщипывала им по кусочку, гладила животных. Они доверчиво тыкались в подол широкой юбки. Иногда с прискоком подбежит игривый жеребенок – угостит и его. Держит ладонь до тех пор, пока теплые мягкие губы не соберут все крошки.
Какая из зим засыпала порошей ее память? В детстве была резвуньей, пробовала на вкус разные травки. Отведала, наверное, дурман-травы или кто-то напугал нешуточно, когда ходила в ночь под Ивана Купалу искать в лесу заветный жаркий цветок папоротника…
Петухи торопили утреннюю зарю. Заря торопила крестьян.
Отсеялись. Земля, вобравшая теперь тайну будущего урожая, несла на себе бремя ответственности и нелегких забот.
6
– Какую лошадь возьмешь пахать огород?
– Пургу, – не задумываясь ответил председателю Яков Запрудин.
– Да… но ведь она…
– Ничего, Василий Сергеевич, кобыла слепая – сила зрячая. Коням судьба дала вожжи да удила. Для них они, как третий лошадиный глаз. Пообвыкнет – нюхом будет чуять путь-дорогу. Натаскаем ее на пахоте огородов, колхозные поля плужить станет. Она уже команды моего сына понимает: влево, вправо, вперед, назад. И жеребенок-шельмец, умник великий! Бежит впереди матери, концом хвоста ее храпа касается, дорогу указывает.
– Неужели догадался, что мать слепая?
– Наверняка. Остановится, начинает облизывать ей глаза. Таким ржанием-плачем заливается – душу выворачивает.
Запрудинский большой огород упирался в мелкий кустарник. За ним начиналась деревенская поскотина. Поодаль тянулись березнячки, кусты бузины, шиповника, боярки и заросли метельчатой таволги. Ровные березки успели посрубить на бастрики, оглобли, топорища, оставив кривостволые, чахлые и старые деревья. С них брали дань вениками, берестой на растопку.
Заведя Пургу в огород, Захар провел ее из конца в конец без плуга: пусть узнает границы, места разворотов. Он взял горсть волглой земли, поднес к лошадиным ноздрям.
– Помнишь?!
Пурга прижала ноздри, шумно выдохнула теплую струю воздуха. С ладони скатилось несколько комочков земли.
– Ну вот и узнала! – обрадованно вскрикнул пахарь, поверив в крепкую память слепой лошади. – Да и как не узнать – тебе каждый огород в деревне знаком. Этот тем более.
Отец стоял за баней, слушая нежноголосый монолог сына.
Плуг за зиму потерял зеркальность. По лемеху крупными конопатинами разбежались пятна легкой ржавчины. Яков подтянул ключом болт предплужника, широким драчевым напильником сточил заусеницы с землерезной грани.
Нетерпеливый жеребенок носился по слежалой земле огорода, распугивая суетливых кур.
Поплевав на ладони, кивнув солнышку, Яков налег на плужные ручки. Захар держал Пургу под уздцы. После короткого отцовского – «трогай!» – причмокнул губами, повел слепую прокладывать первую борозду. Все шагали неторопливо. Главный отвальный рез надо было сделать ровным, да и лошадь требовала привычки. Она с напряжением переставляла ноги. Опустив голову, принюхивалась к подсыхающей, щедро унавоженной земле.
Поводырь шел слева, успевая одобрительно поглаживать лошадь по лоснящейся шее. Уши работницы ходили взад-вперед, вбирая малейшие шумы, майскую разноголосицу птиц и деревни, слова пахарей, произносимые не окриком – доверительным голосом просьбы.
Сделали три полных круга. Ведя Пургу по плотному срезу борозды, Захар на миг-другой закрывал глаза и сразу ощущал одеревенелость непослушных ног, перинную мягкость окружающей темноты. Он-то мог в любую секунду превратить ночь в день, выпустить из засады солнце, вдоволь насладиться его ласковым светом. Каково Пурге – затворнице в вечный пещерный мрак?! Холодным током озноба пронзило Захара от этой мысли.
Отец не успевал вытирать со лба, щек обильный пот. Это был уже пресный пот труда, соли вышли на первых десятках борозд, проложенных от стены бани до крепкой изгороди длинного огорода.
С гарцующим прискоком жеребенок-резвунок утаптывал мягкую пахоту. Пробегая мимо матери, успевал ткнуться мордашкой в бок, задеть резвым хвостом. Приготовленную борону Захар развернул зубьями к осиновым венцам баньки из опасения, что непоседливый жеребенок может на них напороться.
Из жирных пластов выползали кольчатые черви. Зоркие куры следили за их появлением. Слегка тряхнув в воздухе, жадно проглатывали с торопливой оглядкой на бесцеремонного петуха: он при случае вырывал добычу из клюва какой-нибудь удачливой хохлатки.
У калитки, ведущей в огород, стоял Платон. Со светлой стариковской улыбкой наблюдал за красивым разбегом ровных борозд. Возле стайки сноха Ксения сооружала из навоза высокую грядку под огурцы. Рядом копошились дочурки. Большенькая Маруся неотлучно находилась при проказнице Стешеньке. Она еще не перестала косолапить и шепелявить слова.
Платон держал в руках недотесанное топорище, давая понять всему запрудинскому семейству: и он не бездельничает в щедрый майский день. Разве помнит старик, сколько он распустил на такие вот борозды полей и огородов. Без счета они, эти земные полотнины. Он с одинаковым усердием пахал свою и колхозную землю, ведь ни та ни другая земля не терпит раздвоенности, половинчатой любви к себе. На всякую ложь она отвечает молчанием хилых колосьев.
День светился и переливался гибкими струями марева. Сегодня многие в Больших Бродах пахали, боронили огороды. С усадеб доносились повелительные команды: «В борозду!», «Н-но пошла!», «Тпру!». Несколько раз убирал Захар с уздечки руку. Пурга замедляла шаги, продолжая идти верным несбивчивым ходом. Отваленная, повернутая брюшком к солнцу полоска земли служила для передней правой ноги лошади ориентиром. Переступая в борозде, она задевала кромку пласта, ссыпая с него черные комья. Может быть, Пурга быстро обрела особое внутреннее зрение, помогающее различать в море сплошной черноты некрутые волны подсыхающих борозд, изгородь из тонкомерного осинника, резвоногого жеребенка, поминутно подбегающего к матери? Возможно, все ранее виденное, запечатленное в памяти, сейчас мерцающим светом вспыхивало и выплывало из мрака?
На поворотах чутко реагировала на малейшее подергивание вожжей. Пахарь прямил их не резко, словно посылал от рук по кожаным ремням короткие весточки.
Подчиняясь требованию проголодавшегося жеребенка, Яков останавливал лошадь. Умиленно смотрели отец с сыном на чмокающего сосунка. Широко расставив ноги, он усердно помахивал взблескивающим на солнце хвостом.
– Хороший доильщик! – Яков слегка щелкнул жеребенка по тугому брюшку.
Захару становилось не по себе при виде постоянно мокрых глаз Пурги.
– Отец, что она все плачет и плачет?
– Не только, сынок, люди горе переносят.
– Хорошо ли мы поступаем, работая на слепой?
– Иначе пристрелят. Выкормит жеребенка – и каюк. Мы ее только работой спасем.
– Уши навострила. Понимает наш разговор.
– Понима-а-ет… умная…
Подцепив борону, Захар до вечера рыхлил землю. Пурга шла в поводу легко. Никто со стороны не подумал бы, что она слепая…
Небеса, напитанные дневным светом, долго не подпускали к себе звездную россыпь. Зимой над Васюганом ночи падают на землю шустрыми воронихами. Быстро прячутся под черными крыльями болота урманы, засыпанная снегом деревня. Незаметно синеющие снега оборачиваются чернотой – глубокой и молчаливо пугающей. Две бездны открываются миру: идущая ввысь, куда совершили восхождение звезды, и вспученная у ног непроглядь.
Даже по майским ночам витает дух зимы, ищет потерянные владения. Их упрятал вглуби раздобревший Васюган, сокрыли от глаз моховые топи.
Холодное предночье. Не хочет сегодня тосковать гармошка на яру, где собираются деревенские вечерки. Задышливо бегают меха, басы торопливо выбалтывают что-то озорное и зажигательно-смелое. На миг обрывается огненный вихрь звуков и тут же оживает в бешеном взлете.
Трещит беседка над крутояром: парни и девахи сидят в приятной тесноте. Удальцы посмелее держат своих подруг на коленях, обхватив за теплые талии, касаясь ненароком гуттаперчево-тугих грудей. Кое-кому за подвиги перепадают затрещины. Лузгают подсолнуховые семечки. Ядрят кедровые орехи, ухарски выстреливая языком скорлупу.
Приковылявшая на вечерку бабушка Серафима наводит на внучку Вареньку то одно подслеповатое око, то другое. Бросит с ладони в почти беззубый рот плоское тыквенное семечко, мусолит его, мусолит, да так и выплюнет, не справившись с ним.
Старуха сидит на принесенной из дома табуретке, опершись на сухой посошок. Руки у Серафимы длинны, худы, имеют цвет сосновой коры. Спать бы надо давно Серафиме, отшептав заученные молитвы, да внучка-молодуха пригляда требует. Кличет ее кровь на гармошковые звуки, на яр, в шумоту вечерок. И так и сяк отговаривала от них Варюшу, но разве оставишь, запакуешь юность в четырех избяных стенах?
Не подходит Варя близко к гармонисту Захару, боится запылать пожаром налитых щек. Рядом Никитка Басалаев, как звездочет, задрал башку к небу, а сам режет взглядом картинно подбоченившуюся Варю, облизывается, точно хорек, сожравший курицу. Не он один вскипает кровью при виде ядреной златоустой девчонки. Как бы терпеливо ни искали чужие глаза изъяны, некрасивости на ее опрысканном веснушками лице, плавно текучей фигуре – они не находились. Девушка казалась сошедшей с гончарного круга, на котором великий мастер, долго лаская пальцами податливую глину, вложил в нее всю красоту и завершенность форм. Обряди Варюшу в лохмотья, они сошли бы на ней за ниспадающие складки шелка.
Истинная красота не нуждается в подсветке улыбки, но, озаренная ею, обретает колдовскую силу приворотного зелья.
Воспитанная в старозаветной строгости, Серафима рьяно оберегала рисковое девичество внучки. Молодость – сухой порох. Не знаешь, кто и когда поднесет спичку. Займется мгновенным огнем, растает дымкой неухороненная честь. Пеняй тогда на судьбу, допустившую горькую промашку. Можно бы Варюшку оставить под братнин пригляд, да где этот шалопай Васька уследит за сестрицей.
Заветы старины тверды и незыблемы. Всю жизнь выцеживает Серафима мудрость из церковных брюхастых книг. Разбуди среди глухой полночи, скажет, на каких страницах уложены столбцами притчи Соломоновы, где собраны в церковнославянскую вязь слов учения Марка и Луки. Шельмуют книги бесчестие. Призывают к посту, сохранению в чистоте и святости людской плоти. Отрешится старокнижница от земной юдоли, успев помолиться благодарно за то, что ее сподобили принять светлую кару на исходе отпущенных дней.
Задремала над посохом правдолюбица. Вскинула напуганные нежданной дремой узкие глаза, видит – простыл Варин след, гармошка в другие руки вложена. Тихие басы разносят над яром усыпляющую колыбельную мелодию. Течет она сладким изморным наплывом, заставляет покачиваться легкую голову на сухих старушечьих плечах.
– Усыпили, окаянные! – сокрушенно вышептывает Серафима, ерзая на тонконогой табуретке. – Погоди, задам я тебе встрепку! – грозит она кому-то в темноту вскинутым посохом.
Старухе хочется крикнуть в наступившую ночь: «Варька, вертайся домой!» Холодит стыд. Да и куда направишь сейчас свой хриплый отчаянный глас?
На беседке остались две парочки и ангелоподобный гармонист – Иванка, отпрыск счетовода Гаврилина. После пробуждения Серафимы он всколыхнул гармошковую душу разбойным гвалтом басов. Сигнал Захару и Варе: проснулась разведчица, засобиралась домой.
Редко взблеснет на речной излуке сильная по весне вода: звезда ли скатилась пологим катом, задела отсветом погибшего луча? Булькнул ли в струи последний слиток давно угасшей зари?..
Деревню Большие Броды возвели мужики на престол земли с помощью топоров и огня. Почти каждое сельбище по Васюгану пропитано дымом огнищ. Брали на пожег деревья, пни, глубоко пустившие корневые отвилки. Удобряли золой нешевеленную землицу, удивляясь по осени тому, какая крупная картошка притаилась в первородных гнездах. Посека за посекой, костер за костром. Отливали свечами янтарно-стволые сосны. Каждая новая росчесть сводила на убыль прибрежный лес – защитную броню любой речки. Мужичье, хватившее тяжкой острожной сибирщины, крупнобородые раскольники, ищущие спасения от лютой царской гоньбы, переселенцы из тесных земель находили в нарымском краю желанный приют: селились в широкостенные избы, в которых любая лиственничная матица с крюком для зыбки могла при случае удержать многопудовый колокол.
В далекое время ярный берег был несыпуч, крепок от корней всякой древесной разнопородицы, кустарников и трав. Сперва начало лысеть подгорье. Вода слизывала осыпную землю, отколупывала от яра глыбу за глыбой. Донной силой хотя и спокойный Васюган протачивал лазейки под самой подошвой крути. Вслед за первыми небольшими оползнями последовали многотонные, со страшными шумными сколами земли. Васюган отторгал у суши незаконную территорию, ошеломлял внезапностью обвалов, последовательностью молчаливой мести.
Платону Запрудину с сыном пришлось первым убирать избу от оврага: за несколько многоводных весен он пошел в смелый надвиг на деревню, угрожая домам, баням и огородам.
Помеченные зарубками венцы разобрали, поставили на новые стояки, просмоленные, обернутые берестой от гнили. Через три года перетащили баню, стайку, оставив только на произвол судьбы туалет, сделанный из прямослойных колотых досок.
Не раз Ксения стыдила мужиков, просила выкопать новую яму, перенести туалет.
– Подожди, Платон, – пугала сноха, – рухнет яр, панталоны не успеешь поддернуть. Так вместе с килой и загремишь.
– Она не гремучая, – отшучивался старик.
Овраг распахивался все шире. Перетопленная из сугробов снеговица неслась по дну дивным нахлывом, водопадно гудела на крутых уступах. Теперь поток заметно обессилел. Захар и Варюша остановились у кромки оврага, прислушиваясь к лопотанию воды. Темнота была не столько густой, чтобы не различать овражные стесы.
Захар умел сделать разговорчивой гармошку, но разговориться самому в присутствии Вари было невыносимо трудно. В его голове теснились невысказанные ласковые слова, готовые вот-вот сорваться с языка, но молчаливая злодейка-робость перехватывала их у самых губ. Долгие паузы молчания заполнялись веселым щебетанием Вари. Она успевала выболтать секреты подружек, попенять на глупую слежку богомольной Серафимы, наговориться о вышивках, погоде и приготовлении ягодных сиропов. Слова сыпались изо рта, точно дробь-бекасинник из порванного мешочка. Захар был благодарен такому спасительному неумолку. Вскоре сам, захваченный задорными рассказами, смеялся, вышучивал, делился впечатлениями дня. Много говорил о слепой Пурге.
В их возрасте опасными становились молчание, протяжные вздохи. Варюша первой поняла значение спасительной словесной трескотни. Старалась избегать похожих на ожог прикосновений пальцев Захара. Пока не догадываясь о тайном сговоре сердец, ревниво перехватывала мимолетно брошенные на гармониста взгляды подружек. Страшилась мыслей о соперницах. Наделенная безгрешным эгоизмом юности, хотела неразделенной власти над робеющим пареньком. Однажды царственным, зовущим за собой поворотом головы увела его с вечерки. Вверив гармонь Ивану Гаврилину, лунатично побрел за дивной колдуньей. Облитая лунной глазурью, она мелькала среди березовых стволов. Потом деревья куда-то надежно упрятали ее, растворили в безмолвии леса. Умолкла у яра гармошка. Явственно слышалось поблизости падение капель березового сока. Напрасно Захар выдыхал из горячего горла ее имя – Варя не вышла. Бродил по полянам, искал обманщицу за кустами, деревьями. Высоко, словно за звездами, ухал и, кажется, насмехался полуночник-филин.
Стыдно было одному возвращаться к беседке. Там по-прежнему подбадривала кого-то гармонь. Чувствуя изнуренность от пережитого волнения, шагал Захар по тропинке домой, нисколько не сердясь на затеряху.
Не сказал Варе упречного слова на другой день, увидев ее идущей к колодцу. Вышагивала красивой, мягко пружинящей походкой. Чуть подплясывали под дужками пустые ведра. Встретился, поздоровался, разминулся. С какой-то необъяснимой виноватостью отвел глаза. Снова томительной хворью отозвалась в парне вчерашняя грусть-тоска. Оказывается, сон не отвел ее за пределы юной души. Значит, было короткое обманное исцеление, если при новой мимолетной встрече с девушкой сердце обуял горячий страх.
Через два дня пекли картошку за водяной мельницей. Погуживал в кронах ветер. Тускнело от ряби зеркало глубокого омута. Прислушиваясь к лопотанию огня, Захар пошевелил палкой сушняк в костре. Варя отцовским охотничьим ножом резала хлеб. Раскладывала на белой тряпице морковные пирожки, соленые пупырчатые огурцы, сало. Стоял дивный воскресный день. Точно радуясь мощному сплошному слиянию солнца и неба, весело погромыхивали в отдалении безустальные жернова.
– Захар, расскажи о Пурге. Чему ты ее научил?
– Пока немногому. На мой свист идет. Повороты по голосу выполняет. Скажу: стой, как вкопанная замирает. Она страсть какая умная. Долго я голову ломал, какую работу слепой придумать, чтобы на колхоз трудилась и в поводыре не нуждалась.
– Придумал?
– Ага. Но пока секрет.
– Заха-а-рушка, скажи, не проболтаюсь.
Варя с милой наивностью посмотрела на паренька. Отказать было невозможно.
– Помнишь, твой отец говорил на собрании, что со временем колхоз наладит свое небольшое кирпичное производство? Так вот, лучшего глиномеса, чем Пурга, не найти. Выкопаем для нее кольцевую траншею, и ходи она по ней хоть весь день, уминай глину.
– Скажу папе, пусть начисляет тебе за прекрасную идею сто трудодней.
– Запрашивай тысячу. – Захар расплылся в щедрой улыбке. Присутствие Вари, жар костра выкраснили его тугие щеки до цвета раскаленных поковок. – Кирпича надо много, – продолжал Захар, – на фермах старенькие печи. В конюховке тоже развалюха. В избах мой дедушка может глинобитные делать… Пургу надо спасать трудом, – рассуждал по-отцовски Запрудин младший. – Ей никак нельзя безработной оставаться.
– Это так, – поддакнула Варя, выкатывая из огня прутом картошину. Подбрасывая ее с ладони на ладонь, слегка остудив, отколупнула податливую кожуру. – Испеклась, можно пировать.
Для пира хорошо сгодилась простая крестьянская снедь, запиваемая квасом.
– Захар, правда, твой дедушка в плену у немцев был?
– Правда. Рассказывает про германскую войну – и страшно, и интересно. Он побег совершил.
– Пытали его?
– Какой-то деревянной вертушкой руки выкручивали.
– Изверги!
– …Сколько, спрашивают, орудий в роте? Платон дурачком прикинулся. В роте, говорит, в моем было всего тридцать два зуба, да офицер на первом допросе сразу четыре вышиб…
– Ну-ка, Захарка, крутни мне руку.
– Да что ты, Варя?! Зачем?!
– Крути! Кому говорят!
– Не буду.
Насупилась, недовольно посмотрела на парня. Тем же прутом, которым доставала картошку, отделила от груды раскаленных углей два крупных.
– Берем их в руки одновременно, – заговорила Варя тоном приказа. – Не ронять, пока не сойдет краснота. Чур, не трусить. Раз. Два. Три.
Понял Захар: не простое сумасбродство движет сейчас упрямой девчонкой. Ее горячее воображение нарисовало картину дедушкиной пытки.
От прикосновения к кускам огня пылали ладони. Из глаз выжимались слезы. Варюша прогоняла с лица испуг, напустив на него натянутую, чуть перекошенную болью улыбку. По мере угасания углей загорались на руках ожоги. Желанным испытанием была для Захара предложенная игра. Что там уголь! Готов подбросить руками весь костер, вытерпеть и не такие ужалы огня. Ему хотелось подниматься, не падать в глазах Вари.
Угли, напитанные недавно жаром, заметно потемнели, оставляя на ладонях следы сажи.
– Мы ведь сможем вытерпеть, как дедушка, правда? – Варюша бросила остывший уголь в костер.
Захар согласно кивнул головой, нежно взял ее покрытые волдырями руки, принялся студить их сбивчивым порывистым дыханием.
– Опусти в воду – пройдет боль.
– Русалка схватит.
Набравшись храбрости, парень спросил:
– Ты чего меня недавно обманула? Вызвала с вечерки и деру домой задала?
– А вот и не задала. Плохо искал… Зачем ты за мной, как бурундук на манок, пошел? Поманит другая – тоже гармошку забудешь?!
– За другой не пойду. – Слова сорвались комом снега с горы.
Варюша отдернула руки. Оттопырила губы, уставилась на растерянного паренька.
От мельницы доносился монотонный шум падающей воды и усыпляющий говор жерновов. У берега омута шныряли водомерки, передвигаясь резкими толчками тонюсеньких ножек.
Друзья молча жевали картошку, присыпая солью, просеянной сквозь двойную марлю. На разломленный морковный пирог заполз муравей. Захар стряхнул его в траву, и тот утонул в своих огромных зеленых джунглях.
7
После бурной полноводицы входили в берега озера, протоки. Изумрудным краешком показался левый низинный берег Васюгана. Охмеленная водопольем река тащила мимо Больших Бродов пущенный в россыпь лес. В ловушках-запанях сосны перехватят, погрузят с помощью лебедок на лесовозные баржи.
Выходили мужики на ветродуйное место. Приставив к глазам козырьками мозолистые ладони, глядели на свой артельный зимний труд. Его сейчас итожила живая река. Вызолоченные солнцем бревна торопились, толкали друг друга. Их кружило на водобое. Некоторые сосны перехватывались потопленными кустами. Сплавщики на шустрых двухвесельных лодках караулили задремавшую древесину, шпыняли ее под бока острозубыми баграми, выталкивали на быстрину.
Тютюнников стоял около куривших колхозников, тоже с интересом рассматривая широкополотную картину массового сплава. Лес шел почти впритык к берегам. Под ним, нисколько не обессилев от груза, ступала враскачку крепкоспинная река.
– Не сосны – струны! – восхищенно промолвил председатель, одергивая подол когда-то зеленой гимнастерки, разгоняя к спине складки под широким кожаным ремнем.
Гордо выпятив грудь, он принимал тихий парад сплавляемой древесины. Яков Запрудин, сделав две последние сильные затяжки, потушил окурок о голенище чирка, ссыпал оставшиеся табачины в глубокий шелковый кисет.
– Да, Василь Сергеич, – вздохнул кладовщик, – сосны и впрямь струны, да не на колхозную балалайку натянут их. Так и выходит: в нашем бору не нам деревья поют.
– Стране поют, – не теряя приподнятого настроения, успокоил председатель. – Авиация – орлиные крылья Родины. Гордись, Запрудин: на оборону робим. Для авиационной промышленности постарались. Гляди, каких красавиц природа откатала – одна к одной.
– Ладный лесок, – поддержал Платон, щурясь от нахлыва прямых лучей. – Ты, Яша, не тужи, что Васюган его на просторье уносит. Где надо – поймают. Куда надо отправят. Есть дела мужицкого ума, есть заботы высокие, государственные. Вишь, чё фашисты вытворяют! Наплавили пушек и танков, думают теперь, что им сам черт – брат. Попирают земли чужие, поруху творят… Мы живем не у Христа за пазухой – у тайги, без леса не останемся.
– Нашим пильщикам хватит работенки, – вставил Василий Сергеевич. – Не успеют на доски и плахи распустить прошлогодние сосновые бревна.
– Брус будем пилить? – поинтересовался Яков.
– Обязательно. Строить предстоит много.
– О кирпичном деле не забыл?
– Забуду – молодежь напомнит. Твой Захар успел живую глиномешалку найти – Пургу. Молодчина! Глину надо сильно промешивать, кирпич хилым не будет. Заходил в райцентре на заводик, не понравилась продукция: много пустот, трещин. Об колено ломается. А ведь цену за сотню кирпичей лупят приличную. Мы на своем кирпиче много рублей сбережем.
Дед Платон открыл редкозубый рот, держал его наизготовке, собираясь перехватить паузу в разговоре.
– Супротив старинного наш кирпич – пшиковый.
– Какой, какой? – переспросил председатель.
– Пшиковый. Верно говорю. Складешь из него печь – пшик, и прогорит быстро. Особенно по дымоходам его огонь ест… Помню, в германскую дело было. Стояли мы биваком в церкви русской. Раненых требовалось перевязать. Силов новых набраться. Иконостас золотом горел, лампадки у икон зажжены. Чистота, блеск, благолепие. Мы хоть и солдаты, грубый по войне народец, но не курили, не матюкались в храме. Спертость живота до улицы удерживали. Думали: падет грех на душу, коли богохульство под церковным куполом допустим… По моему стариковскому разумению – лучше раз пощупать, чем пять раз увидать. Хожу вокруг церкви, кладкой каменной любуюсь. И ногтем попробую кирпичину, и шилом – носил всегда с собой в походном ранце дратву, большую самодельную иглу и шило, – раз даже штыком ткнул стенку. На кирпиче царапина осталась, конец штыка долго пришлось затачивать… Мастеровой люд был на Руси!
– Он и теперь не вывелся, – сказал Яков и полез за кисетом.
– Смоли пореже, – упрекнул отец, потирая ноющую поясницу. – В заядлого табашника превратился.
Недолго стояли на яру мужики. Упрямая молчаливая работа реки заставила их задуматься о своих, оставленных на время делах.
Захар и Васек Тютюнников размечали глиномесную траншею. По договоренности с председателем ее решили копать неподалеку от конюшни. Вбили кол, привязали к нему тонкую веревку. Ко второму ее концу прикрепили заостренный колышек. Простой циркуль был готов. Прочертили сперва малый круг. Удлинив веревку на метр, обозначили внешнюю границу будущей траншеи.
Согнувшись, идя по кругу, Захар вспарывал колышком крепкую дернину. Васек штыковой лопатой вырезал разметочную канавку.
– Пургу как заводить будем?
– По лестнице, – дробным смехом зашелся дружок. – Неужели, Васька, не догадываешься?
– Не-а.
– Сделаем отводной пологий прокоп. Вот тебе вход и выход. Чтобы голова у лошади не закружилась, через каждые полчаса будем менять направление.
– Башка! Инженер! – восхитился Васек, пораженный простым техническим решением и предусмотрительностью напарника.
– Это не все. Я вчера чертежик дедушке сделал. Он сказал, что пресс получится. Будем формовать и одновременно уплотнять глину. Платон рассказывал мне о томском купце-богаче Кухтерине. Заводской кирпич для своей стройки он проверял так: швырнет с четвертого этажа на булыжную мостовую, не раскололся – хорош. Можно подрядчикам поставлять. Вот бы нам такой прочности добиться.
Утро следующего дня выдалось туманным. Задевая скворечники и коньки крыш, нависала дымчато-белая, медленно текущая пелена.
– Черти! Нашли где копать! – ворчал конюх, заводя в оглобли телеги игреневого мерина.
На работающих парней смотрел с нескрываемым озлоблением. Вчера пробовал отговорить председателя.
– Василий Сергеевич, разве другого места не нашлось для траншеи?
– Чем это плохо? Глина рядом. Старый сарай под сушилку оборудуем, установим там пресс.
– Лошади ноги поломают… слепая кобыла оступится…
– Не печалься, хлопцы огородят раскопы. Лучше бы раньше о Пурге заботился, не насиловал чрезмерным грузом. Ты, говорят, по районным инстанциям ходишь, грех замаливаешь? Запомни, самая высокая инстанция – совесть. Перед ней надо ответ держать.
Дементий напряг скулы, промолчал. Можно было острым словцом отбрить председателя, но конюх разумел – лучшей самозащитой для него теперь молчание: это золото мужику давалось нелегко. Он долго промывал в голове породу дерзких слов. Часто самообладание брало верх.
Земля из-под лопат летела черная, сыпучая. Попадалось много всякой ползающей живности, любящей селиться на конных дворах: гусениц, червей, крутоспинных навозных жуков с переливчатым светом крыльев. Побывавший в лошадиной утробе, выброшенный с пометом непереваренный овес произрастал тут дикоросом вместе с настырной коноплей и живучей крапивой. К изгороди денника жался широколистый лопушник. Под ним в жаркие дни отсиживались разморенные курицы. Вырезая заступом дернину, Захар холмиком складывал ее по внешнему кругу траншеи. Васёк копал, изредка проверяя метровой рейкой глубину выбранной земли.
– Ты делай не прямой срез. Старайся сводить его на конус: осыпи не будет.
– Добро!
Басалаев стоял в деннике возле неторопливо жующей Пурги. Громко, чтобы слышали землекопы, говорил:
– Камеру тюремную тебе готовят. Как заводная по ней будешь ходить.
Ваське не терпелось огрызнуться, острым словцом отбрить конюха. Чего разошелся, Демешка?! Мы честно трудодни зарабатываем, чтобы дома, за столами, каждой хлебной краюшке не стыдно было в глаза смотреть.
– Не связывайся! – шепнул друг, громким свистом отманивая лошадь от конюха. Пурга медленно пошла на голос, остановилась у изгороди. Захар сорвал пучок молодой травы, протянул к губам слепой.
– Хлебца нет. Весь утром скормил.
– Не сюсюкай с кобылой, не девка тебе! – Басалаев резко дернул за гриву.
– Привык руки распускать! Гнать тебя надо от коней метлой поганой!
– Замолчи, сопляк!
Подскочил с лопатой Васёк, стал в драчливую позу.
– Чё молчи?! – обрушился он. – Жаль, что ни одна лошадь башку тебе копытом не проломила…
Для конюха и парней изгородь служила баррикадой. По ту сторону стоял озлобленный жизнью человек. По эту – наделенные отвагой и волей ребята. Не они затеяли спор, не им отвечать. Сегодня чем-то явно озабоченный Дементий вел себя нервозно, подолгу торчал у конюшни.
– Ну не гад ли?! – не унимался Васек, продолжая прерванную работу. – Первый на рожон полез.
– Сознаться тебе, Васёк? Окна в басалаевской избе я вышиб.
– Герой-одиночка! Давно стал от друга тайничать? Зря меня не позвал. Мы бы вдвоем ого-го сколько стекла надробили!
Через три дня работа подходила к концу. Оставалось прокопать со стороны конюшни вход для лошади. Неотступные комары роем кружились над парнями. Кусали потные шеи и лица, залезали и заползали под мокрые от пота рубахи. От обилия гнуса черные кучерявые волосы Васьки казались посыпанными шевелящимся пеплом. Некоторые комары успевали до одури насосаться крови, еле-еле отлипали от тела. Не сумев подняться с грузной ношей, падали неподалеку в траву.
Захар с силой налегал ногой на уступчик штыковой лопаты, отбрасывая большие комья земли. Неожиданно острие стукнулось о что-то каменно-твердое. Сразу мелькнула мысль о кладе, закопанном деревенским богатеем Пахомовым, сбежавшим из Больших Бродов вскоре после революции. С лихорадочной быстротой откопали большой сверток. Еще не развернув пропитанную чем-то клейким рогожину, по глухому бряканью стали догадались: там оружие. За всю жизнь Васька Тютюнников не раскрывал так широко карие проницательные глаза, как при виде двух короткоствольных обрезов.
– Вот так кла-а-ад! – присвистнул Захар, пробуя отвести тугой затвор обреза.
– Сгодятся для самодеятельности. Стыдно – деревянными винтовками пользуемся.
– Знаешь, Васёк, они не для сцены были предназначены. Покажем твоему отцу.
– Кто-то из раскулаченных затырил. Факт! Место хорошее: овраг близко. Откопал – скрылся… Где же патроны?
– Для патронов, наверное, посуше место нашлось.
– Может, рядом закопаны?
Поиски ничего не дали, хотя пришлось выкопать большую яму.
Вечером, узнав о находке, Василий Сергеевич строго-настрого приказал хранить тайну.
– То, что обрезы столько лет молчали, забив свои пасти смазкой, говорит, ребятки, о многом. Сейчас, конечно, трудно дознаться – чьи пташки в рогожку залетели. Сообщу в район. Пришлют следователя… Вы молодцы. Быстро с траншеей справились. Каждому по пять трудодней обеспечено. Время до сенокоса есть, можно глину подвозить, первую замеску делать.
– Дедушка пресс мастерит, – польщенный похвалой председателя, сообщил Захар.
– Заходил к нему. Стружкой осыпан, как Черномор пеной морской. Дал ему кузнеца на помощь. Несколько деталей надо отковать по твоему чертежу. Ты раньше, Захар, нигде не видел такой пресс?
– Он мне приснился… только формы вместо глины тестом заполняли и в огромную русскую печь для выпечки вталкивали. Крышку для уплотнения глины пришлось самому домысливать. Пурга будет крутить винтовое воротило. Кирпич-сырец начнет выползать из форм. Мы его тонко гитарной струной подрежем.
– Кулибин! – Васёк, не скрывая восторга, похлопал друга по плечу.
– Зато ты у меня недорослем растешь.
– Па-па…
– Вот тебе и па-па! В книгах мудрость поколений хранится, тебе читать их лень. В нашем роду увальней не было. Придут в колхоз трактора – кого на них посажу? кому доверю?..
Год назад, копая яму для коновязного столба, дедушка Платон наткнулся на плотную липкую глину. Поддев лопатой большой комок, запеленал в лист лопуха, принес домой. С горящими глазами алхимика положил глину в чугунную ступку, плеснул туда воды. Уминая массу тяжелым пестом, заглядывая в нутро чавкающей ступки, приговаривал с захлебистой радостью:
– Вот так этак! Вот так-так! Масло – не глина.
Отформованный кирпич сушил и обжигал в русской печке. Подвесив на дратве, старик подставил к изделию глуховатое сморщенное ухо, стукнул фунтовой гирькой: остался доволен гулким звуком.
Прежде чем передать в руки председателя, Платон смачно понюхал кирпич, изрек:
– Доходом пахнет. Ладь производство.
Место под коновязь перенесли.
Захар на глинище раскопал широкую яму, везде под слоем крепкого дерна заступ упирался в тугую цепкую массу.
С телеги Васёк скидывал глину в траншею. За неторопливым Захаром лошадь шла легко и спокойно, добродушно тыкаясь храпом в правое плечо.
Слепая по-прежнему вздрагивала при появлении конюха. Когда он вел ее за узду, она пугливо трясла и мотала головой.
– Умное животное за версту зверя чует, – объяснил подобное поведение дедушка Платон.
Он посоветовал внуку взять для замеса глины не васюганскую торфянистую воду, а чистую, колодезную. Говорил убежденно: кирпич будет прочнее, без пустот и трещин.
По боковому прокопу слепую завели в траншею. Насыпанная ровным слоем глина успела нагреться, под копытами крошились комки. Захар несколько раз провел Пургу по кругу, сказал ласково и повелительно:
– Н-но, милая, меси!
Поняв, что от нее хотят, она пошла по траншее без помощи человека и понуканий. Постепенно мелкий, чуть сбивчивый шаг переходил в крупный, уверенный. Впереди тянулась бесконечная круговая дорога, без выбоин, узловатых корневищ и бугров. Жеребенок попытался войти за матерью в прокопанный отвал траншеи, его отпугнули. Отбежал за земляной вал и несколько кругов с легким прискоком сопровождал работницу.
Васек собрался плеснуть под копыта лошади ведро воды, остановил друг.
– Этак мы нашего глиномеса без ног оставим. Вода ледяная, пусть греется. Я Пургу для пробы завел, надо же привыкнуть. Мы водой будем бочку с вечера наполнять. Соображаешь зачем?
– Не башка у тебя, Захар – сельсовет.
– Придется тебя председателем приставить к ней.
Васька заголил испачканную глиной рубашку, щелкнул над пупом.
– Пузо маленькое, не по мне должность.
Васюган лежал под хмарной заволочью. С реки наносило вечерней прохладой. Смутно проступали очертания левого, низинного берега.
Пришел Платон, в старом ведре развел дымокур. От тлеющих гнилушек потянуло терпким дымком.
– Комарное будет летечко, – предсказал старик. – Мокроты кругом много.
Он окурил дымокурными струями Пургу. Серенький резвун сам приблизился к голубому потоку, заводил ноздрями.
– Привыкай, красавчик, к цыганским духам. – Платон поставил ведро на землю, затяжно вздохнул. – Воли отпущено тебе три годочка, трудни колхозной – без меры. Матери не век вековать, нагуливай силу, крепи жилы.
Старик долго, оценивающе смотрел в нутро глинодельни, провожая взглядом шагающую без поводыря лошадь.
– Толковитые вы, хлопцы! – похвалил работников.
– Мы такие! – раскрыл в улыбке рот Васёк и поперхнулся попавшим в горло комаром.
Чавкала под широкими копытами сдобренная водой глина. Платон присел на траву возле дымокура.
– Знавал я на войне мастера-кирпичника. Он и печекладом был. Курской земли мужичок. Крепенький такой, ладный весь из себя. Что из деревни солдатик, я сразу приметил: он винтовочный штык на манер косы затачивал. Сидим, бывало, в окопе, от холода зубогоном занимаемся. Везде одновзводец мой окопную землю на пощуп брал. Разминает, нюхает, подносит к близоруким глазам. Спрашиваю: «Что, Гаврилушка, годится ли на кирпич?» – «Нет, – отвечает, – склей не тот». Носил он вместе с медным крестиком на шее ладанку. Хранилась в ней щепотка печной перегорелой глины. Иногда поверья людские живучее веры оказываются: заговоренная, мол, она матушкой родной. От погибели должна хранить, от плененья вражьего… Убит был Гаврила в небольшой перестрелке. Пули-то дуры, да умных секут. Хоть золотишко рассыпное зашей в ладанку, не будет спасения, коли на роду судьба закорючину поставила. Смерть, ребятки, да жена богом суждена…
Кружит и кружит по вязкому месиву усердная лошадка. Резкими встряхами головы отгоняет наседающих комаров. Проходя сквозь дымную полосу, замедляет шаги.
Слушать дедушку Захар привык не перебивая. После рассказа стоял в задумчивости, дорисовывал картину наступления бойцов. Виделись оставленные ими сырые окопы.
Васёк сменил направление Пурги. Попив из ведра, равномерно расплескивал воду, оседающую в лошадиных наступах.
Платон рассуждал тихо:
– Нашел председатель наказание конюху: заставил водить слепую. Плевое наказание. Его твердокаменную совесть этим не прошибешь… Из жил ты вся состоишь, Пурга. Сохранился ли в тебе хоть кусок мяса? От седелки загорбок полысел. Шишки на ногах от натуги. У тебя и кровь-то, наверное, наполовину с потом… Сколько ты плетей за короткий век отведала?! Да все с правого бока бита, все с правого. Мужик наш артельный ежели с похмелья, на нужду да на бабу зол – скор на расправу.
Захар предложил другу:
– Васька, крикни Пурге: стой! Послушается тебя?
– Сто-о-ой! – Кобыла от блажного голоса вздрогнула, сильнее зашлепала по глине. – Хитрый, Захар, приучил к себе.
– По-медвежьи рявкнул и хочешь лошадь остопорить?! – упрекнул Платон. – Надо не громко, властно приказывать. Можно, внук, я попробую?
– Останавливай. Все равно пора.
Старик поднялся с травы, открякался в кулак. Лошадь поравнялась с ним. Платон вытянул по-солдатски руки по швам и, проходя вдоль траншеи, требовательно приказал не то кобыле, не то себе: «Стой!»
Слепая шевельнула правым ухом, продолжая размеренную ходьбу.
Внук улыбнулся. Васька расхохотался лешачьим смехом.
– Н-да-а! – огорченно вздохнул Платон.
Захар без труда, коротким выдохом нужного слова прекратил кружение усталой лошади.
– Откуда в тебя, Захарка, кровь цыганская подмешалась? Вырастишь, внук, в конокрады не уйди.
Завели Пургу в реку, смыли глину с ног. У воды, под береговой крутью, темнота была плотнее: совсем не различались на ярном срезе гнезда ласточек-береговушек…
Время сливало ночи и дни в глубокий темный омут. Он начинался сразу над головой лошади, уходил в жуткую, непромеренную пучину. Невозможно было примириться с неожиданным исчезновением света, появлением непроходящего мрака. Пурга ждала возвращения былой жизни, наполненной рассветами, видом травы, привычных дорог, небольшого колхозного табуна. О смене дня и ночи догадывалась по птичьему неумолку, по воле, данной для пастьбы, по пригреву встающего над урманом солнца. Петушиные крики, исчезновение росы на травах, гудение шмелей, усиленные атаки гнуса, говорок молота в колхозной кузнице – все служило для определения размытых границ времени.
Знала сейчас Пурга – наступила ночь. Из деревни доносился редкий перелай собак. Заполошно фубукнул филин. Серенький задрал голову, прислушался к слетевшему со звезд звуку. Раз, напуганный прыгнувшей под ноги жабой, жеребенок шарахнулся к матери, ударив ее костистым задом. Шумно втянув ноздрями сырой воздух, желая убедиться – нет ли поблизости зверя, – кобыла не учуяла иного запаха, кроме сладковатого, долетающего от густого смородинника и смоляного, источающего недавно охвоёнными лиственницами.
Торопливо пощипывая короткую траву, вспоминала сегодняшний день, бесконечно бегущую вязкую дорогу, прикосновение рук Захара. Малоподвижное существование за последние недели вливало в тело, особенно в ноги, свинцовую онемелость. Услышав новое для себя слово «меси», приступив к необычной работе, Пурга вскоре ощутила пользу от долгого движения по нескончаемому круговому пути. Она любила пробежки на водопой, веселый бег скачью с ночного под лихое взвизгиванье юного седока. От скорости расплывалось очертание дороги, густела масса травы по сторонам. Чуть поодаль с бодрым высвистом бежал ветер, пузырил рубашки счастливых наездников, заслуживших право влететь в деревню на крепких, отдох нувших за ночь крыльях… Слепота подрезала крылья Пурге. Не опереться на них, не взмахнуть над медовыми травами…
Ей опять захотелось ступить на удачно придуманную дорогу, будто залитую холодной осенней грязью. Месить и месить эту хватающую за копыта грязь. И когда после второй переклички петухов, слепую ввели в земной выкоп, она, не дожидаясь команды, разминая затекшие ноги, заторопилась вдоль неровных траншейных срезов.
8
Деревня Большие Броды тихо вознеслась над сплавной рекой: в яроводье она бесшабашно транжирила буйную силушку. Обрывистый берег Васюгана – в стрижиных проточинах, в неглубоких и глубоких оврагах, прорезанных водой-талицей. После многоснежных зим напористые ручьи просекали по яру конусные вымоины: срезы покрывались низкостелющимся подъярником – мать-и-мачехой, рано оживающей на солнцепёчных местах. Не успеет весна обесснежить землю – по всей панораме откоса дружно и торопливо распускаются желтые с плотными тычинками цветы. К ночи они боязливо сморщиваются, сохраняя тепло и жизнь. Поймав золотыми окулярчиками первые утренние лучи, оживают в покорном, трепетном порыве. Их дружный массовый расплод превращал яр в самотканое полотно.
За нешироким Васюганом по низинному берегу тянулся густой подростовый осинник вперемежку с кривоствольным черемушником и раскидистым боярышником. Крепкие и острые шипы боярки иногда использовали вместо патефонных иголок.
В июне зацветала обильная в этих местах черемуха и даже ветер пропитывался сладковатым запахом.
На луговом, затопляемом в большую воду пространстве, разбрелись многочисленные озерушки и петлястые ручьи. Тянулись коварно-топкие болота с окнами неизмеренных трясин, покрытых пленчатой ржавью. Оттуда с глухим бульканьем вырывались изредка большие пузыри. В этих синеватых циклопьих глазах отражалось на миг-другой нарымское небо, его пугающая высь. Пузыри лопались, осыпая брызгами прыгучих водомерок.
Топь пространных болот незаметно переходила в невысокий кочкарник. Среди него начинали проглядываться тропинки покосников, охотников и рыбаков.
Лугов, болот и тайги было вокруг Больших Бродов столько же, сколько неба над деревней. С весны до поздней осени слышался здесь неугомонный переклик уток, кукушек, гусей, косачей на токовищах, малых птах, куликов-плакальщиков, семенящих на ходульных ножках по илистым береговым отлогостям. На коньки крыш, скворечники, на близко стоящие возле деревни кедры садились глухари, взирая на бродящих коров, лежащих возле заплотов расчумазых свиней, на редких прохожих. Бессрочный призыв колхозной страды делал деревню летом почти пустой. Покосники жили в балаганах за Васюганом, заранее переправив туда на вместительных четырех-шестигребных неводниках сенокосилки, конные грабли, продукты, лошадей. В широкодонных, толстобортных лодках они стояли смирно, предвкушая сытую жизнь на обильных травах.
Таких поселений, как Большие Броды, было много на тайговой изворотливой реке. В семи лесных – на глазок – верстах стояло несколько изб староверов. Тайга в той сторонушке была такой же дремучей, как матерые кудлатые бороды мужиков, занимающихся сбором орехов, грибов, ягоды, выжигающих древесный уголь для нарымских кузниц. Не жили они без охоты и рыбалки. По избам лесных отшельников хранились иконы древнего письма, в богатых чеканных окладах, сияющих нетускнеющей позолотой. Литые массивные распятья, начищенные бронзовые подсвечники, мерцающие лампадки с кружевными сетчато-ажурными металлическими наголовниками, полупудовые церковные книги с золотым тиснением на толстой коричневой коже, с рисунчатыми, мягко защелкивающимися застежками. Личная, боящаяся мирских рук и губ посуда, утварь – все было пропитано там духом древнего обрядничества, прилипчивой веры христолюбивых старозаконников.
Приверженцы невозвратимой старины жили обособленным мирком, были молчаливо угрюмы и недоверчивы к властям. Тяжелые тайны думы делали их буреломные лица замкнутыми и отчужденными. На берегу малоподвижной Пельсы – дальней родственницы Васюгана – колхозники построили барак, баню по-черному: копоть одолела не только ее нутро. Махристая сажа покрывала снаружи мох между бревен, верхние венцы и узкую на скрипучих петлях дверь. В предбаннике валялись обтрепанные веники, клочки моха, пихтовые лапки – на них любили стоять разгоряченные паром кубатурники – так назвали колхозников-лесорубов, прореживающих второй урман.
Сначала староверы жили в деревне, воздвигнутой на яру, и она будто бы называлась Большие Бороды. Неизвестно кто умыкнул из слова букву, проредил его. В двадцатые годы бороды подались выше по Пельсе. Деревня незаметно превратилась в Большие Броды, хотя ни люди, ни скот не могли перебрести реку даже в межень.
Рубленная «в лапу» изба Дементия Басалаева стояла на самом конце левого порядка. Дальше начиналось сухое болото с приземистыми сосенками, мелколиственными березами и частым кустарником, покрытом, как вуалью, паучьими тенетами. Стволики сосен были уродливо-кривы, походили на охвоенные коленчатые валы. Ухоженное подворье под сплошной непромокаемой крышей, длинные поленницы дров с козырьками тесовых навесов, стоящие по углам заготовки для вил, граблей, лопат, высокое крашеное крыльцо – все говорило в пользу радивого хозяина. На гвоздях, деревянных штырях, зубьях от бороны висели уздечки, вожжи, обручи, связки толстых и тонких веревок: копновозных, бастричных, сетевых. Чернели мотки заготовленной дратвы. Полотна лучковых пил, стамески, ножовки, разнокалиберные центровки поблескивали от смазки. Все здесь было на своем, отведенном заранее месте. Если бы исчезла вдруг с гвоздя массивная киянка с дырочкой на ручке, то пустующий гвоздь глядел бы на вас с немым непрощающим укором. Вошедший сюда хозяин мог бы сразу узреть: чего-то недостает на полотне желтеющей сосновой стены, исчез какой-то мазок с завершенной картины, рожденной хозяйским трудом и рвением.
К тридцать седьмому году поутихли разговоры о колхозах. Артельные хозяйства стали такой же очевидностью, как всполошенный золотой звон солнца, разливающийся широко над сонными урманами. Колхозы будили землю новыми большими раскорчевками.
Басалаев попробовал пойти в откол от колхозной жизни – не вышло. Много надежд возлагал на инспекторский портфель, да недолго покормили бумаги. Стоило ли в четырнадцатом году умножать на грифельной доске трехзначные цифры, учиться письму и закону божьему, чтобы теперь конюшить, слушать председательские окрики?!
За обучение тятя платил учителю два пуда муки. Понятливый Демешка быстро овладел тайной чисел. Не просто вызубрил таблицу умножения. Он понимал силу цифрового наслоения и слития. Под кусочком мела разбухали столбцы. Эти, как на опаре поднимавшиеся величины пудов муки, головок сахара, мешков овса, литров молока приводили одиннадцатилетнего парнишонка в возбужденно-радостное состояние. Выводил в тетрадке задачу: «У купца в амбаре было сто семьдесят восемь мешков пшеницы…» Воображение рисовало вместительный купеческий амбар, горы зерна, из которого богач получит на мельнице баснословное количество пудов белой, измельченной в пыль муки. Его тятька весь исскрипелся в упреках, что тратит за учебу сына два пуда муки, а тут в задачнике их тысячи. И не только муки – листового железа, рыбы, говядины, соли, чая и пряников. Тут и всевозможные ткани, кафтаны, сапоги, телеги, бутыли вина. И виделась мальчику своя лавка, где всего вдоволь. Приходят нарядные дамы, источающие запах дорогих духов, приводят красивых дочек, пухлощеких сынков… товар расходится хорошо… торг идет бойкий… у лавочника куча ассигнаций, свой счет в банке…
«Демешка, ворон ловишь?!» – строжится учитель. Пустить в ход линейку не решается – ученик способный, отец не из бедных мужиков.
Из четырех «на выучке» мальчишек, трех нанятый учитель причисляет в разряд оболтусов. Сидят, выпучив глаза, словно и ими хотят услышать. На лицах написаны муки тугодумства и бестолковости.
На перемене Демешка незаметно от товарищей виляющей собачьей походкой приближается к молодому, узкобородому человеку, шепчет подобострастно: «Господин учитель, Гераська вам фигу показывал, когда вы на доске задачку писали». Учителю, не терпящему фискальства, хочется прочесть ябеднику нравоучение, но он ограничивается хмыканьем и коротким: «Ладно… ступай…» На следующем уроке по Гераськиному лбу и затылку дважды прошлась увесистая указка учителя.
Не вышел купец из Басалаева. Не получился инспектор по налогам, даже учетчик. Нет своей лавки с товарами, но кладовая, два сундука, комод не пусты.
Свой двор – крепость. Тут каждая щепка, отлетевшая от бревна – твоя. Хочешь сожги, хочешь выброси. Размышлял Басалаев: «Колхозы – недолгие жильцы на белом свете… покряхтит партия с ними да отступится, как от нэпа… сколько неразберихи натворили, сколько гнезд крестьянских порушили…»
В Больших Бродах комсомольская ячейка состояла из шести человек. Басалаев воспрепятствовал своим сыновьям вступать в нее, строго отчитав Никиту и Олега: «Не были в пионерах и в эту дьявольщину не пущу… лясы точить на собраниях – время сжигать попусту».
Мужикам говорил другое: «Гоню своих щенков в комсомол – упрямятся. Несговорчивые черти растут». За два дня до праздников вывешивал над крепкими воротами добрый лоскут кумача, втолковывал прохожим колхозникам: «Советская власть нам всласть. Без нее до сих пор бы нас богач по сопаткам бил».
На людях не высказывал затаенных мыслей. Был осторожен в выборе собеседника и тем для разговора. Трудно было понять и раскусить его двоедушие. Проявляя недоверие к колхозу, работая спустя рукава, конюх не забывал подвезти себе в первую очередь дров, вспахать, проборонить огород, взять «взаимообразно» тележную ось, чересседельник. Председатель колхоза однажды устыдил:
– Ты, Дементий, пользуешься колхозным не взаимообразно – взаимобезобразно. После пахоты огорода плуг почему не вернул?
– Так он у меня смазанный стоит. У тебя бы ржавел возле кузницы.
«У тебя», «у меня» обидели Василия Сергеевича.
– Знаешь, Басалаев, одни земные соки питают колхозные поля и твой огород. Ты нашему колхозному строю напересечку бежишь. Не пытайся – сомнем. Коней как содержишь?! У нас пока нет трактора, но будет. Все лошадиные силы – в нашей конюшне. Береги их. У тебя и у меня одно хозяйство. Кроме моего и твоего брюха есть еще страна, ждущая от нас зерно и мясо, молоко и овощи.
Слушает Дементий председателя вполуха. В глазах вспыхивает злорадство: «Пока трактор дождешься – дважды сгорбатишься. На трудодни что даешь? Весь хлебец трудоденный тараканья упряжка вывезет…»
Вспоминает конюх гулянку, на которой кладовщик Яков Запрудин под парами самогонки пел с хрипловатым подвывом:
«Побегут, побегут из колхозов не только коровы. Очухаются мужики, поймут, какие хомуты натянули на их глупые головы, не возрадуются… Дед Платон ватные штаны называет килогрейкой. Килу на личной пашне нажил, при колхозе сыну в наследство передаст… Надо бы о запрудинской частушке сказать кому следует…»
В сороковом году кладовщика Якова Запрудина по доносу Дементия обвинили в умышленном поджоге скирды снопов. Припомнили антиколхозные частушки. Исчез он быстро, как брошенный камень в реку. Захара – сына врага народа – исключили из комсомола. Терзалась семья Запрудиных неизвестностью о Якове. Его сына мучило страшное положение исключенного из комсомола. Разве мог тятя поджечь скирду хлеба? Он, сметающий со стола каждую крошку, знал истинную цену колоску, взращенному на раскорчеванной земле. Не было за Большими Бродами ни одной росчисти, не окропленной потом отца. Он хорошо умел расправляться на огнище с цепкими пнями. Березовая вага рвала кожу на ладонях, трещала рубаха, пропитанная солью и дымом. Мужики, завидуя игривой силе, говорили: «На тебе, Яша, и кольчуга от натуги лопнет…»
В колхоз входил без печали на сердце: артельно да брательно что не жить. Тайги кругом вволю. Под тайгой-то землица, не океан кипучий. Где топор да пила, где огонь подсобит. Вырывали сотки из лесной глуши. Слыханное ли дело – спалить хлеб, призвать в соучастники злодейства варварскую силу огня?! Есть, конечно, вина Запрудина – не усторожил свезенные снопы. Послал в охранение школьников, те убежали на берег Васюгана. Разожгли костер, пекли картошку. Председатель колхоза защищал кладовщика, называл его активистом, ярым врагом большебродских богатеев, на которых и ему, Якову Запрудину, пришлось гнуть спину, исполнять изнурительную тяготу батрачной работы по найму. Богатею чужой силы не жаль. У работников пусть хоть пупы развязываются, костолом по телу идет – ему наплевать. Падал от усталости в прокосах Яша. Еле таскал ноги по борозде. Бывало, обопрется всем телом на широкие ручки плуга, повиснет на них – и сытая кулацкая лошадь тащит измотанного трудом работника. За такие невинные проделки в зубы получал от хозяина и ужим при расчете. Вот те бы, пропитанные своим потом суслоны, Яков Запрудин в отместку мог спалить. Слишком жирной и ненавистной была рожа его работодателя. Кормил солониной. Рассчитывал – мякины подсыпал в зерно.
Говорят: хлеб на корню – не хлеб. Нет, неверно. Он становится хлебом с нетерпеливых зерен, просыпавшихся золотым дождем в волглую землю. С робкой зелени всходов. С налива колосьев. Он всегда хлеб. Даже если не попал в мешках на склад, кладовщик вместе с председателем, агрономом, колхозниками несет за него ответственность в поле, на току, независимо как расфасован он после жнитва – поснопно, посуслонно или поскирдно.
Захар, выкладывая комсомольский билет, не склонял виновато голову. Обвинение отца было недоказуемо. Сын верил в его правоту.
Их было в комсомоле шестеро. Ровно столько, сколько имело каждое звенышко медового сота. Уход Захара размыкал цепь в этом важном звене. Парня выставили на позор. Отдавая билет, Запрудин-младший дрожащим голосом сказал:
– Я сейчас чувствую себя бойцом, у которого отнимают винтовку.
Первой мыслью было пойти и вверить молодую жизнь Васюгану. Он промолчит, не выдаст тайну… Мать ли спросит реку, Варя ли – не раскроет уста. Наученные водой берега тоже будут немы…
Долго ходил по краю обрыва. Мысли плавали в туманном заволочье… Откуда-то взялся прыгучий воробышек, уселся поодаль и принялся быстро-быстро чистить клювик. Перья торчали на воробье в разные стороны. Видно, недавно дрался из-за зернышка или хлебной крошки. Вид у взъерошенной птички был бойцовский. Захар подумал: она не выпустила победы из лапок. Геройский вид терпеливой сибирской птахи, для которой любая застреха – дворец, заставил изменить течение взмученных бедами мыслей. Семья осталась без главного кормильца – отца, значит, надо жить и работать вдвойне. Надо помогать больной матери воспитывать, поднимать на ноги сестренок. Малы еще, проказницы. Поставишь их рядом, они, как ступенечки крыльцовые.
За Васюганом открывался знакомый с детства луговой простор. Чем дальше убегала равнинная земля, тем сильнее обволакивала ее синева, размывая ломаную сопредельную грань. Захар жмурился: прятал небесно-земное видение в себе. Открыв глаза, выпускал его в огромную, неохватную взором даль. Сегодня степенный Васюган, низинное левобережье, все дымчатое заречье в наплывах кустов и редкого топольника предстали как будто внове. Страдающая душа, прозревая, начинала различать оттенки природы. Захар запечатлевал в памяти ее переменчивый лик. Вода уже не могла заманить в свою беспросветную глубь. Она утратила власть над разумным сердцем.
Неслышно подошла Варя, положила руку на плечо. В этом переменчивом мире Захар был не одинок. Долго не начинали разговор. Смотрели на блики отдаленных озер, на стайки перелетающих уток. В чьем-то дворе заливисто горланил петух, долго и чисто выводя последнее распевное колено.
– В деревне никто кроме конюха не верит во вредительство твоего отца. Верно говорят: посей семя лжи, не жди ржи. Беду пожнешь. Какой черт послал нам в деревню басалаевскую семейку? Ты не отчаивайся – кривда без правды не живет. Когда-нибудь вернут билет, извинятся…
Долго говорили о колхозе, о будущем деревни.
По «делу» Якова Запрудина было проведено скоротечное следствие. Подтвердил: частушки, действительно, пел о плачущей корове, хватившей колхозной житухи. Ну и что?! Люди и то ревели, вступая в колхоз. Как вступили да принялись выколачивать трудодни, пахать на коровах, изматывать на работах быков и лошадей, – животные взвыли. Жадные до земли большебродские мужики сильно потеснили тайгу, раскорчевали много в надежде получить трактор. Страна пока не могла обеспечить живой сталью тысячи недавно рожденных колхозов… Можно ли за какие-то частушки лишать свободы?!
9
Когда арестованный не явился в деревню спустя месяц, Басалаев потер руки и злорадно прошептал: «Зацепило». Да, крюк-донос сработал на диво бессрывно. Скоро радость содеянного улетучилась. Всплыла тревога: рано или поздно все будет узнано. Не посвященная в тайну жена нашла перемену в облике мужа. Увидев на лбу, возле глаз червячки морщин, заметив на лице крупные бледно-бескровные пятна, спросила:
– Дементий, не болезнь ли сухотка прицепилась к тебе?
Знала бы Августина, какая окаянная сухотка опаляла его сердце. В голове не прекращалась сутолочь пугливых мыслей, вызывая тупую боль и нервозность. Пытался отделаться от них разговорами с женой, сыновьями, брался за домашние дела, но какие-то живучие, плодливые пиявки расползались по мозговым извилинам, отравляли существование.
Ловил тяжелые укорные взгляды колхозников. Постоянный неотступный конвой сопровождал конюха всюду – на улице, у конюховки, в магазине, на артельной сходке. Мерещилось, что и кони знают о ядовитой наговорщине, о страшной пропасти, через которую перешагнул их присмотрщик.
Супротив бурного течения мыслей выставлял шаткий частокол оправдательных доводов: поделом тебе, Запрудин… этак каждый будет против колхозного строя частушки распевать… погостюй на тюремных перинах, там найдется время подумать о спаленном хлебе… Басалаев так вжился в роль «очевидного свидетеля» поджога, что начинал верить вымыслу.
Осень сорокового года долго не переходила в зиму. Зайцы успели сменить наряд, пугливо хоронились за коряжником, зарывались в омертвелую листву. Выгнанные на чистину, опрометью носились от собак по опасному чернотропью. Конюх со старшим сыном Никитой шли с ружьями мимопольной дорогой. Она огибала овсянище и густые березняки. Захар возвращался с удачной охоты: связанный за лапы заяц покачивался возле бедра.
– Не нашего ли косого подбил? – ухмыльно спросил Дементий, не уступая дороги, покрытой палым листом.
– Походи за своим. Может, выследишь…
Парень шагал размашисто, напролом, не желая сворачивать с сухой узины, пролегшей меж колесных следов. Прошел вплотную с конюхом. Задев друг друга, брякнули ружейные стволы. Гневно произнесенные Захаром слова, короткий удар вороненой стали о сталь, бесшумный залп наполненных ненавистью глаз, вызывающая лихость парня вышибли из головы приготовленную реплику. Дементию хотелось надерзить, расхохотаться в лицо встреченного охотника, но он только через несколько шагов пробубнил вполголоса: «Запрудинский выродок!.. Ты у меня попляшешь…» И вдруг подумал, точно ожегся о раскаленную плиту: «А ведь он за отца мстить будет. Из комсомола выперли, новой злобы подлили… ничего, при надобности рога обломаю такому мстителю…» В ушах отчетливо слышался глухой удар скрещенных стволов.
Никита молча курил, ловко перемещая самокрутку из угла в угол мясистых вывернутых губ. Впервые отец прихватил его с папироской, когда Никита учился в пятом классе. Дементий заметил: убывает самосад из кисета. Прихватил сына – отсыпал в ладонь искрошенное зелье.
«Ну и как это называется?» – желая устыдить воришку, спросил отец. Руки заученнными движениями расстегивали широкий ремень с тяжелой медной пряжкой.
«Так называется, тятя: от много немножко – не кража, а дележка». Сказал, ухмыльнулся, положил на кровать отполовиненный кисет и в дверь.
Два раза отлупцевал сына. Он стал курить в открытую. В шестом классе подходил к отцу вразвалочку, просил требовательно:
«Дай-ка табачку, мой кончился».
Отец насупленно протягивал кисет. Жена ворчала: «Еще один смолильщик в избе объявился. Никитке кулаком по зубам надо. Уступчивый тятенька козью ножку в зубы сует».
«Пусть на виду курит, чем на сеновале. Обронит искру ненароком – спалит все к чертям. Тогда и зубы не понадобятся – на полку их можно положить…»
Никита никак не мог приучить к курению младшего брата. Он совал Олегу папироску в рот, окуривал едким дымом, подсыпал табачную пыльцу в овсяную кашу. Олег в отместку топтал грядки с табаком. Их в огороде стало три вместо двух, предназначенных главе семейства.
Докурив, Никита потушил окурок о ружейную ложу.
– Не будет нам удачи, отец. Без зайцев вернемся.
– Почему?
– Поп или черт встретятся в пути – вертайся.
– До полного черта ему далеко. – Басалаев оглянулся на Захара. – Так… чертенок по мелким поручениям. Пьески ему играть, с дочкой председательской щупаться. Ты бы попробовал охмурить Варьку.
– Ее охмуришь! Заладила свое: почему в ячейку не вливаешься? Говорю ей вежливенько: Варвара Васильевна, я признаю только сетевые ячейки: в них хоть рыба путается…
– Смотри в оба! Они тебя могут в свою липкую сеть запутать. И в словах будь поосторожней. Сам знаешь, какое время: у забора – уши, у калитки – глаза. Варька – девка-воструха. Напичкана лозунгами, как апрельская дорога талой водой.
– Если бы мы в единоличниках жили, лучше было бы?
– Лучше и вольнее. Сейчас каждому столбу честь отдавать надо. Приличный капитал – истинник – сам по себе шишка. Общая земля, сынок, обезличена. Мужицкий пот – не лучшее удобрение для нее. Что такое колхоз? Огромная упряжка. В ней разномастные лошади – сильные, слабые, горячие. Одна бежит рысцой, другая трусцой. Тютюнников у них за коренника. Хотя райкомовская плеть перепадает по его шее больше, воз-то движется шатко и валко. Посулов сначала много было: трактора получите, машины придут. Пока у нас один гараж – конюшня. Я – механик по копытам… Эх, дали бы мне полновластие! Поручили учредить налоги с мужиков да не совали бы нос разные финорганы. А лучше, Никитушка, было бы все по-старому. Какой класс – кулачество? Высший класс! До колхоза мы масло невпроед ели. По бочке солонины готовили на лето. Бедняк в переводе на человеческий язык – лодырь. Середняк полулодырь. Кулак – истинный работник земли. Давно чуял, куда партия вожжину тянет. Знал – не даст разжиться крестьянину, приберет к ногтю зажиточных. Не усердствовал сильно на пашне, потому и крылышки не подрезали в тридцатом. Об этом, Никита, молчок. Считай, что пробой на губах и замочек навешен фунтовый.
– Зачем в колхоз вошли? В город могли податься. С твоим умом, отец, люди портфели толстые имеют.
– Земля – самый надежный портфель. У начальника будь портфельчик из простой или крокодиловой кожи – отобрать могут в любой момент. Начальник – та же пешка. Я больше в поддавки играть не хочу. Мужику земля властью навечно дадена. Поживем – увидим: пустят ли колхозы глубокие корни. Возможно, крестьяне останутся при своих интересах – при личных десятинах. На четыре-то басалаевских души ухватим землицы порядком. Займемся скотоводством. Луга тут, сам знаешь, густотравные. Заведем сенокосилки, конные грабли. Начнем разживаться. Хлеб здесь труден, пот проливать надо. Зато травушка саморосом прет, успевай только стричь васюганскую овцу. Наладим торговлю мясом. Окорока коптить будем, колбасу делать. Меня этому искусству обучил немец, живущий под Томском. Рыбу мы коптим осиновыми, таловыми гнилушками. Сало, мяско черемуховый дымок любят. Коптильню большую сделаем… Как сейчас ее вижу. Заходим с тобой, а на крючьях окорока висят, колбасы. Купим крепкую лодку, мотор-шестисилку. Начнем к Оби ходить, пароходным командам товар наш мясной сбывать. До Томска добираться далеко. Ближе покупателей сыщем. Главное – марку торговую не уронить. «Басалаев и сыновья». Звучит?
– Зву-у-чит…
– То-то. В инспекторах мне горько жилось. Ездил, лаялся с мужичьем. Вразумлял твердолобых аккуратно налоги платить. Пропади она пропадом песья должность. Пусть у этой конуры другой посидит. Конюшить тоже нелегко. Но здесь я царь-бог, правлю основными рабочими силами. Надо сенца подвезти, дровишек подбросить, огород вспахать, проборонить – лишний раз не ломаю шапку перед Тютюнниковым. Ты, Никитушка, не дерзи Варьке-то. Сегодня печать колхозная у отца, завтра может к дочке перейти. Всегда старайся поступать предусмотрительно, с оглядкой. Осторожность ни зверю, ни человеку не мешает. С начальством простачка из себя разыгрывай. Мол, ум у меня короткий. Молчание – замочек золотой, не всяк отмычку подберет. Сказанные слова – шкура, снятая с мыслей. Не дай ободрать себя.
Давно собирался предостеречь: перестань верховодить уличной ватагой. Убьют кого в драке – главарю отвечать. Не хочу ни сына, ни работника лишаться. Разве вышибить вам дух из комсомольцев и безбожников? За несуществующего Христа вы готовы кольями головы расколотить. Глупцы! Наместники бога на земле – большевики. Вот кому служить надо. Служить тонко, с понятием. Нам не политикой – землей надо заниматься. Делать ставку на землю – значит играть беспроигрышно… Дед твой дурак был – за белых головушку сложил. Мы по его милости в подозрительных ходим. Это про нас, Басалаевых, частушку в клубе пели:
Белым был отец мой, а тень оставил черную. Когда работает молотилка – нечего башку в барабан совать. Отец сунул – в полову ушел. Неужто не мог допетрить, что красные их размякинят, развеют белых по белу свету?!
– Отец, нам в школе директор говорил: колхозы – сила необоримая. Я так смекаю – навсегда они…
– Смекалистый больно! – грубо прервал Дементий. – Колхоз – многопружинный капкан. Ослабнет когда-нибудь пружина, заржавеет. Директору школьному что? Не сеет, не пашет. Тычет указкой в глобус, реки, страны показывает. Сегодня он за колхозы ратует. Завтра призовут развивать хуторские хозяйства, единоличные – за них проголосует. Всегда, Никита, смекай по-отцовски. Плохому не научу. Русский мужик в указчиках никогда не нуждался. Над землей небо владычит. Оно и крестьянином правит. Доброе даст нужный дождь. Злое засухой опалит. Ему карать, ему миловать.
Дорога давно сузилась, пошла петлять по мелколесью. Влажная жухлая листва прилипала к чиркам, смазанным пахучим паровым дегтем. Никита вполслуха внимал отцовским поучениям, всматриваясь в пежины отдаленных опушек, куда убежала их рыжая, резвоногая лайка. Часто сын сомневался в правоте отца, за что-то озлобленного на жизнь, на колхозные порядки. Дементий стал ворчлив, покрикивал на жену, цыкал на сыновей, припечатывал сапог толстозадым свиньям. Раньше Никита брал на веру каждое отцовское слово. Повзрослев, все осторожнее и отчужденнее воспринимал его кликушество, высказываемые обиды, рожденные подозрения. Басалаев-старший жил на положении человека, которому судьба насулила много, подала мизерное счастье, отобрала удачу.
Перегонял точеные кругляшки на счетах, бубнил цифры, осыпая перхоть из склоненной головы на пухлую амбарную книгу. Сыновья и жена Августина старались соблюдать полнейшую тишину. Стукнет нечаянно хозяйка печной дверцей, нападет кашель на простудливого Олега, домашний счетовод бабахнет кулаком по столу: деревянные бублики разбегаются в беспорядке по гнутым, блестящим дужкам. Дементий приподнимает счеты. Крутым наклоном сгоняет гремучую арифметику в правый ряд.
– Не дом – ад кромешный! Цифру с цифрой сбить не дадут. Для кого стараюсь?! Для кого пекусь?! Черти доморощенные!
Августина кивком головы выпроваживает младшего сына на улицу. Связываться с мужем в такую минуту опасно. Молчание – защита надежная, проверенная.
В дороге Никита тоже пользуется материнской тактикой – отмалчивается при грубых замечаниях отца.
Второй час бродят по перелескам, по краям полей – ни рябчиков, ни зайцев. Лайка не подает голоса, бегает где-то по своим собачьим тропам. Хозяин кормит ее плохо, она поджара, с вечно голодными, гноящимися глазами. Никита думает о ней верно: найдет зайца, не выгонит его к охотникам. Настигнет и сожрет косого с шерстью неостановимо-жадно и быстро, по-волчьи заглатывая большие куски парного мяса.
Лес поздней осени безнадежно печален и строг. Дожди и ветры сбили не все листья. Испуганное трепетание оставленных листьев особенно бросается в глаза на фоне переплетения оголенных веток. По светло-зеленым стволам осин бегают неяркие солнечные пятна. По стволам ползают полусонные муравьи, усталые от бессрочной работы. Никита замечает их. Отец на такие тонкости не обращает внимания. Он охватывает лес разом. Глаза высматривают только белый цвет зайца среди обилия потускнелых красок.
Охотники разошлись в разные стороны. Никита стал углубляться в тайгу. Отец отправился краем опушки, по мягкой отаве. Лайка выбежала на Никиту из-за мохнатой ели. Сначала оторопела от неожиданности, но тут же бесстыже-презрительно уставилась на парня, не забывая, однако, помахивать тугим калачом хвоста. Красивая узкая мордашка хитрой лайки была в кровяных пятнах. Охотник долго не ломал голову – знал, чем полакомилась худобокая Дайна.
– Иди-ка сюда, красавица!
Виновато-почтительно завиляла хвостом и задом. Сделала несколько шагов на длинных ногах и легла брюхом на брусничник.
– Иди-иди, не бойся. Благодари своего собачьего бога, что не на отца нарвалась: он бы тебе разгладил ребра. Дайна, ко мне! – Никита хлопнул по твердой голяшке чирка.
Виновница поползла на согнутых лапах, поскуливая и запоздало очищая мордочку о мох и примятую траву. Остановилась в двух шагах, уставилась на Никиту больными глазами. Покорный хвост сшибал с брусничника переспелые ягодины.
– И не стыдно?!
«Стыдно, – сказали добрые собачьи глаза. – Но я ничего не могла с собой поделать. Голод оказался сильнее моего песьего долга… Я обнаружила косого в густом осиннике. Прежде чем подумала, что его полагается выгнать к вам на поляну, задушила добычу и дала волю зубам. Заяц попался молодой. Я так и не поняла – были ли у него кости… Конечно, ты можешь сейчас меня избить, как это делает твой гадкий отец… бей, стерплю. На сытое брюхо битье легче переносится…»
Молодой охотник подошел к лайке, приподнял на ладони виновато опущенную мордашку. Дайна вся приготовилась к побоям – плотно прижала уши, почти совсем закрыла глаза, уцепилась лапами в мох. С ноздрей, с сургучного носа успела слизнуть кровь, но бурое околоносье было еще в сырых красных пятнах. Из левой ноздрины торчали прилипшие заячьи шерстинки. Никита поплевал на ладонь, стер явные улики. Пощупал живот – не сильно тугой. Его с голодухи мог выправить глухарь или ягненок, но не какой-то зазевавшийся в осиннике зайчишка.
Быстро смекнув – выволочки не будет, – Дайна вскочила, запрыгала обрадованно. Никита разговаривал с ней:
– Конечно, по чернотропу тебе трудно выслеживать зайцев. Подожди, скоро зима выбелит лес и поля. Каждый следок на снегу отпечатывается. От нас им тогда не уйти. У зайца тепла шуба и сшита надежно, не меняет ее, модник, каждый год. От морозов она все равно не спасает: пробежками греется косой, стежит белые пуховики. По стежкам и сыщем. Правда, Дайна?
– Гав, – согласилась лайка.
Шли по направлению к деревне. Вдалеке, за полосой припольных кустов виднелись шестины со скворечниками, трубы и скосы серых крыш. На поле Дайна усердно раскапывала норы, жадно внюхиваясь в мягкую землю под колкой стерней. Дожидаясь отца, Никита, не теряя времени, собирал колоски. Сшитая матерью сумка из домотканины висела на боку. Она служила ягдташем для дичи. Иногда приходилось собирать в нее выкопанные коренья, целебные травы, кедровые шишки-опадыши или уцелевшие от жатвы колоски. Их попадалось мало: птицы, полевые мыши, кроты тоже не зевали. Хлеб в Больших Бродах убирали чисто, с крестьянским усердием и аккуратностью. Ему не давали переспеть на корню. Не передерживали в суслонах. Не позволяли зерну пойти в осып раньше того дня, когда о нем позаботится молотилка. Перевозя хлеб на сноповозках, стелили меж высоких тележных грядок холстины. Снопы укладывались срезами наружу, поэтому полевые дороги, ведущие к овину, не усыпались зерном на радость прожорливой птичьей братии.
Редко оставались на стеблях колосья. В низко опущенных головках будто чувствовалась виноватость за пахаря, бросившего их на произвол судьбы. Никита торопливо срывал пружинящие в ладони колоски, приятно ощущая выпуклость многочисленных зерновых гнезд. Зернинки из них вышелушивались легко. Стоило покатать в ладонях золотой пенальчик, подуть на россыпь, провеять ее – можно засыпать в рот. Маленькая мельница не только перемелет тугие зерна, она приготовит вкусную жидкую кашицу. Никита медлит глотать ее, наслаждаясь разбухшей ароматной массой. Вот ее уже полный рот, она начинает пузыриться на губах. Пора. По горлу прокатывается медовый ручеек. Аппетит раздразнился. Рука невольно опускается в сумку: извлекаются, обмолачиваются другие колоски…
Дайна завистливо смотрит на человека, ужевывающего пшеничные зерна. Громко чихает, прочищая забитые землей ноздри.
– Будь здорова, сударыня! – Никита щурит в улыбке отцовские всевидящие глаза.
Два раза спасал парень сударыню от смерти. Отец собирался пристрелить ее на рукавицы-мохнашки, выдвигая веские доводы о лености и бестолковости Дайны.
– Жратву на нее зря переводим… Пока белка на нос не сядет – не учует.
– Молодая сука, подрастет, опыту наберется, – заступался сын и уводил лайку за баню, в дикий конопляник, подальше от глаз грозного отца.
Защищал Никита и многострадальную Пургу. Увидит ее взмыленной от гоньбы, чрезмерно перегруженных саней, телег, не выдержит:
– На тебя бы, тятя, столько взвалить…
– Заткнись! Не позволю отцу перечить!
– Смотри – омослатилась кобыла, – не смущался оскорбленный старшак. – Тебе лень лишний раз за дровами съездить, давай я ходку сделаю.
– По сопатке захотел? Живо получишь!
– У меня тоже два кулака на сдачу есть…
Лет с двенадцати стал твердохарактерный Никита перечить отцу. Получал затрещины, но после каждой смотрел зверенышем на Дементия. Часто занесенная над сыном рука ослабно опускалась, не исполнив задуманного приговора. В такие минуты мать молилась про себя: «Слава те, господи, защита растет».
Младший сынок против куражливого отца не выступал. Видя его преданно-испуганные глаза, Дементий срывал на мальчонке злость:
– На кой хрен мне такой тихоня?! Ну, ткни тятьку в рыло, ткни! С Никитки бери пример. Гляди – озверился на меня.
– Подойди, я ткну! – обещал старшак.
Встревала мать:
– Не смей так с отцом разговаривать! Моду взяли лаяться каждый день.
В иные минуты Августина проявляла неожиданную решительность, могла образумить разбуянившегося мужа. Схватив серп, поднимала над раскосмаченной головой. Осветленная короткой храбростью, блажила:
– Подойдешь – башку отсеку!
– Ведьма! – бросал напоследок Дементий, тараща глаза и быстро трезвея.
Никита насобирал полсумки колосков; на краю поля показался отец. Дайна не побежала навстречу. Взглянула и продолжила раскоп норы.
Отец был злой.
– Пущу на мохнашки лентяйку! За два часа не найти зайца?!
– Они сейчас хитры и осторожны. Днем отлеживаются, прячутся.
– Ты, сынок, молодец. Зря времени не теряешь. На каравай колосьев собрал. Мать лишний раз сусек в покое оставит.
Редкая похвала отца окрыляла парня.
С некоторых пор Басалаев стал держать двустволку не в горнице, на лосиных рогах – в спаленке, над прибитой к стене клеенкой. Ружье было заряжено картечью. Ночами мужик часто просыпался, вставал с постели, курил, заглядывал в дегтярную темень окна. Луны и звезд не было. На улице набатно гудел сырой ветер. Чудилось хозяину – кто-то осторожно ходит у завалинки… вот-вот вспыхнет трепетный огонек, взъерошит яростное жаркое пламя.
Рано поутру выходил за ворота, в огород. Не обнаружив следов возле окон, направлялся к стожку сена, очесанного граблями. Присматривался к голой земле, вздыхал.
Долго стояло в тот год тягостное предзимье. По замерзшим комьям грязи громыхали телеги. Кони разбивали копыта. Все ждали мягкого санного пути…
Председатель колхоза добился повторного расследования «дела» кладовщика Запрудина. Якова освободили после ледостава. В заречье по Васюгану успели накатать санями крепкую дорогу. Она побратала два берега до новых весенних водин.
Захара восстановили в комсомоле тихо, без извинений.
10
Через три двора от конторы мужики доделывали колодезный сруб. Рядом лежал окованный с торцов березовый ворот, насаженный на толстый металлический прут. Изогнутый буквой Г для ручки, прут был пока шершав от ржавчины. Скоро его отшлифуют руки и варежки. К этому колодцу потянутся люди с низовской стороны деревни. Да и верховские будут похаживать. Их сруб обветшал. Вода, особенно в субботние, банные дни, вычерпывается быстро. Бадейка захватывает взмученную, как бражная гуща, воду, годную только для поливки огородов.
Место для нового колодца нашел Платон. После третьих, особенно оглашенных, петухов выходил «пытать росу». Давно услыхал от кого-то: мудрые колодезники отыскивали водяные жилы по обильной росе. «Роса подземную воду выдаст», – говорил Платон председателю. Ходил по деревне, смотрел «скрозь землю». Росные капли везде лежали литые, крупные. Тяжелили траву, листья лопушника и крапивы. Отыщи, попробуй, по этой прозрачной картечи, где упрятана жила. Где он, коренной росный след? Иногда трава подсказывала отгадку: где вода залегает неглубоко, там травушка гуще, зеленее. Трудно теперь в Больших Бродах, разделенных на огороды, подворья, заставленных банями, хлевушками, амбарами, избами, найти нужное место для колодца. Ходил старик по переулкам, осматривал траву-подзаборницу – не выдавала молчаливая роса подземной тайны.
С вечера опрокидывал в разных местах сковородки, противни, алюминиевые чашки. Утречком по дыханию земли определял степень отпотелости. Для распознания жилы «по мокру матерьяла» раскладывал даже лоскутья сукна, обрезки овчины. Однажды положил рукавицы, сшитые из собачьей шкуры. Почти новые лохмашки утащили псы или кто-то другой. Деревенский провидец перестал оставлять собачину «для опыту».
Колодец выкопали глубокий. Вода в нем была кристально-чиста и вкусна.
После ареста сына Платон терзался неведением о его судьбе. Ходил по двору, по избе снулый, тяжело, неуклюже переставляя ноги, обутые в глубокие тупоносые калоши. Знал – безвинно страдает Яков. Людская несправедливость угнетала еще сильнее. Прибавляла сердцу горечи, лицу морщин. Сноха Ксения, крутобедрая красивая женщина, с крестьянским молчаливым упорством управлялась по хозяйству, ездила с доярками за Васюган к колхозному стаду. Ее неотступно преследовал надрывный кашель. Выжимал из глаз слезы, наполнял голову тупой непроходящей болью. Даже настой корней болотного аира мало помогал от терзаемого недуга.
Нередко перевозить молоко из-за реки помогал Захар. Перетаскивал с матерью тяжелые фляги. Устанавливал в просторной лодке. После исчезновения Якова мать стала особенно раздражительной. Не переносила криков, дверного стука, скрипа уключин. Поэтому сын смачивал водой выработанные ложбинки на гребях и березовые залосненные колышки, вделанные в дощатые борта просмоленной дедушкой вместительной лодки.
Платон, видя удрученное состояние внука, успокаивал:
– Чует сердце: вернут власти Яшу. Запрудинская порода никогда Отечеству во вред не жила. Мой старший брат отличился в русско-японскую кампанию. И на турок Запрудины ходили. Два Георгиевских креста на наш род досталось. Их за просто так не давали… Ничего, Захарушка, перебедуем. Жизнь умеет накрепко узлы завязывать – ты развязывать учись…
И верно: развязала судьба узелок. Вернулся Яков к оставленной земле. Платон заставил старушку-жену отшептать тридцать три молитвы – по возрасту Христа.
В третью декаду июня сорок первого года Платон переехал с доярками за Васюган посмотреть – подтянулись ли травы на сенокосных угодьях, скоро ли можно начинать страду. Прошедшей весной долгое время тешилась, разгуливала по лугам матерая вода. Напотчевали Васюган талые снега, грузная Пельса, многочисленные ручьи. Летела река – неуемная, дикосилая, натыкалась сослепу на осокори, давила густое тальниковье. Утиными перышками плыли по хваткой воде коряжины, бревна. Крутило в сильных водоворотах луговой сор, слежалое сено, клочья желтовато-белой пористой пены.
У мельницы, на сухой гриве, припасали мужики мешки с песком, сваи, хворост, топоры и пилы. Залатают одну брешь, кто-то воде приказывает: новую режь. Так и стерегли плотину весь паводок, пропускали взмученную воду в нужном месте. В водополье сорок первого года плотину прорвало. Старики не помнили такой лютой воды.
Ковылял Платон по сырым лугам, печально осматривал хилые травы. Не было в них темно-зеленого сочного налива. Ветер легко клонил жидкие пряди. В деревне Запрудин говорил утвердительно мужикам:
– Раньше середины июля покосничать не начнем.
Сильным прострелом обнесло в тот день у старика поясницу. Холодило ноги и грудь. Давно перестала спасать от телесной стужи грелка. Немного выручали полок, парок да березовые веники. Их азартно обколачивал Платон о костлявое тело. Не дожидаясь с обеденной дойки сноху, сам затопил баню.
Часто парил дедушку Захар. Старался не попадать веником по глубокому пулевому шраму на правом плече.
– Ты, Захарка, везде лупцуй, – покряхтывая просил старик. – Вся стынь собирается там, где Вильгельмова пуля гнездышко себе свила.
Платон подкладывал в печурку дровишки, когда в баню влетел напуганный внук.
– Деда! Война!!
Хотел старик ругнуться на Захарку, сказать: «чего брешешь!» Но по бледному лицу, растерянному виду, по сказанным словам, от которых пахнуло горькой правдой, на мгновение замер с березовым полешком в руке.
Из печки выпал крупный уголь. Старик машинально взял его в пальцы, медленно бросил в квадратный зев. Он не ощутил ожога, хотя на пальцах вспухли волдыри. Сообщение опалило сердце. Внутренний огонь, пламя обретенной боли были сильнее, чувствительнее для него, чем жжение пальцев. Огонь страшного известия заглушил, поборол, пересилил. Растекся по телу нестерпимым жаром: от него вдруг сделалось тепло даже пояснице и вечно холодным ногам.
– С кем? – сухим хриповатым голосом спросил Платон.
– Германия напала. У конторы народ собрался. Митинг будет.
– Опять Германия!.. Сука неуемная… а договор о ненападении что – псу под хвост?!
– Как думаешь, дедушка, долго она продлится? Ведь ты бил немца.
– Трудно сказать. Они для войны ушлые. Ничем не брезговали. Свинцом нас давили, душили газами… Видишь ли, Захар, русского солдата надо месяца три злить, после его ничем не удержишь. Так полагаю – до зимы кончится заваруха.
После митинга, после знойной парной Платон сделал на нижнем венце бани зарубку топором: первый день войны. Зарубка легла почти посередине осинового бревна. Катились по русской земле неостановимые дни военного невзгодья. Затески топора успели добежать до правого угла, понадвинуться вплотную к левому. Раз начав, Платон не хотел бросать календарь большой беды. На втором венце старик отсчитывал продолжающееся бедствие понедельно. Пришла зима. Занесла снегом дедову лютую арифметику. Теперь он поднимал топор над пятым венцом раз в месяц. Озлобленно, молчаливо всаживал лезвие в сухое звонкое бревно, сплевывал в посеревший у предбанника снег.
Не думал, не гадал старый вояка, что ему придется вести отсчет войны на года.
Июль-сенозарник проходил в перебранке частых громов. Сыпались теплые дожди. Они нужны были грибам, огородам, хлебам и травам.
Давно ли луга за Васюганом зеленели глянцевито-изумрудным пушком перинно-мягкой травы? В спешке жить и расти они, казалось, как по подпоркам, взбирались по струям частых дождей, обвивая их с цепкостью хмеля.
Кони были сыты и резвы. Спасаясь от гнуса, забредали в воду, подолгу смотрели на большебродский яр, на снующих стрижей.
Нахлынула жара. От обильных испарений воздух сделался густым и пахучим. Его напористые струи текли над лугами, озерами, кустами, все млело в земных потоках. Месяц-грозник обошелся без ярых нарымских гроз, убивающих людей и животных, расщепляющих матерые деревья, как нож лучину.
Пурга и бледно-соломенный жеребчик, запряженные в сенокосилку, двигались на редкость споро. Над ними носились неотступные пауты. Садились, до крови прожигали кожу. Им помогали проворные полосатые слепни. Отыскивали на теле уязвимые места, впивались мертвой хваткой. Летающего, сидящего и ползающего гнуса было такое множество, что Захару, ведущему слепую под уздцы, лоснящаяся шкура Пурги представлялась не беловатой – войлочной. Ушлые кровососы, отточившие жала на беспомощных животных, знали все незащищенные места, где не достанет их верткий, ни секунды не отдыхающий хвост. Они облепляли глаза. Заползали за уши и в ушные раковины. Просекали кожу под лопатками, на животе. Лошадям просто нельзя было ходить медленно, чтобы окончательно не отдаться на волю живых шильев. Быстролетные вампиры жаждали крови и только крови, чтобы потом, в тиши топких болот выплодить миллионы себе подобных существ, передать им отчаянность, беспримерное нахальство и прыть.
Хвост Пурги хлестко охаживал постоянно вздрагивающие бока. До самой репицы он являл собой грозное оружие, но поле обстрела было невеликим. В радиусе оборотов гибкого пропеллера тело оставалось сравнительно чистым от кровососов. Зато на шее, храпе, вымени, на отдаленных от хвоста местах их сидело и ползало многое множество.
Сенокосчику Ваське легче: на голове большой клочок мелкоячейной сети, пропитанный дегтем. Кончик носа просовывается в ячейку защитной сетки. Наиболее нахальные комары умудряются и его укусить.
Захар отказался от дегтярной сетки: дурманит голову.
– Чертовы бекасы! – ругается он на комаров и делает остановку.
Пора кормить жеребенка. Серенький с нетерпением лезет к матери, пробегает близко от сенокосилки. Ребята боятся одного: не угодил бы под машинный нож. Искусанный гнусом жеребенок вприскочку носится по травам, по ежистой стерне. Нет в его укорном взгляде прежней веселости. Удушливая жара, однообразный стрекот сенокосилки, сжирающие живьем крылатые разбойники доводят его до исступления. Часто ложится на землю, елозит боками, хребтом по травяным срезам, унимая зуд, давя прожорливых тварей. Вскочив, опрометью несется по кошенине, оглашая луг окрепшим ржанием.
Увидав остановленную, распряженную на время Пургу, он с наслаждением опускает голову под гладкий, натужно дышащий живот. Комары и пауты облепили вымя. Прежде чем коснуться губами сосков, Серенький беспощадно давит их храпом, не забывая одновременно чесать его. От ударов по вымени мать испытывает боль, но терпеливо сносит ее. Захар достает из сумки бутылку с дегтем, смазывает у лошадей сильно разъеденные гнусом места.
Никита Басалаев косит без остановок. Отец выделил ему крепких каурых жеребцов не без умысла: на них сынок больше свалит травы. Захару совсем неохота уступать гордому парню. Он бросает беспокойные взгляды на Серенького – когда же отлепится от вымени.
И снова монотонно стрекочет сенокосилка. На металлическом седле косилки парни сидят попеременно. В начале сенокосной страды седло было покрыто тонкой пленкой ржавчины. Теперь вышаркалось штанами, стало лосниться. Оно в крупных дырках и напоминает разрезанное голенище серого валенка, из которого выбили кругляшки на пыжи.
Взять в работницы Пургу Захару предложил отец.
– Угробит конюх кобылу. Спаси ее, сынок. В твоих руках лошади умны и послушны. В нас, Запрудиных, что-то от цыган есть.
Киластый Платон тяжело заерзал на табуретке.
– Скажешь тоже, Яков, – от цыган. Мы – русичи. Лошадь всегда считалась у нас членом семьи. Баба заболеет, не так жаль берет…
Заводя за ухо седую прядь, Зиновия, бабушка Захара, перебила:
– Возьмет тебя жаль! Ты к охромелой кобыле нашей напроведку по сто раз выходил, меня забывал. Тут брюхо на нос ползет, а он: терпи, раз ремесло такое заимела. Даже припугивал: роди только девку – в лукошко и за окошко… Испугалась – Яшеньку принесла…
Косит Захар, думает о скором обеде. На стане увидит бригадную повариху Варю. Впереди – ровный, наполовину выкошенный луг. Длинные валки обдувает, подсушивает ветер. Он перегоняет кипенно-белые облака: по глянцу склоняющихся трав ходят их неторопкие бледные тени. Постукивает дергач сенокосилки. Скрежещет, подрезает низко траву сверкающее полотно с треугольничками острых ножей. Тот же дремотный шум в ушах. Тот же неослабевающий зной полдня. Те же полчища гнуса.
Лошади стали ходить сбойно, ступать мелкими, не рабочими шагами. Серенький тычется в шею матери, становится поперек ее хода. Захар догадывается: жалеет усталую работницу, хочет разжалобить косарей.
– Глупыш! Мы бы рады остановиться, да Никита обойдет нас по норме.
Давно хочется есть. Периодами острота голода пропадает. Начинает мучать жажда: острая, иссушающая язык, нёбо, горло. Трудно теперь понять, что же хочется организму в первую очередь – еды или воды. Прокос за прокосом. Валок за валком. Уже не хочется ни есть, ни пить. Зудит от укусов тело. Мокрую рубаху просекают пауты. Гибкие хоботки комаров выискивают в прелой ткани лазейки, уходят в них с головой.
В ящике сенокосилки побрякивают напильники, гаечные ключи, молоток. Лоб и затылок напекло. Захару кажется, что в них отдаются мерные глухие удары… О чем бы веселом подумать? Косец вспоминает рассказ отца. Потешно он застольничал с Платоном. Дед Захара слыл мужиком твердосердечным, с крутым, «откосным» характером. Свиреп был на кулак, жаден на брюхо. Не любил за столом подавать ложкой сигнал к вылавливанию мяса. Первый поддевал деревяшкой кусок говядины или свинины и приговорочку вворачивал: «Бог сцепил – бог расцепит». Рот загодя открыт во всю ширь. Жернова наготове. Видит Яков перемалывающий кусок волокнистой говядинки, сам запускает ложку в чугун. Бродит она по стенкам, по дну. В неуверенной руке ложка трясется, мясо убегает. Платон молча лягает сына под столом, попадает в колено.
Много раз терпел Яша пинки, подзатыльники, удары ложкой по лбу. Жаловался матери: «Чё тятька объедает нас? Работаю не меньше его. Мне надо мясом силы подкреплять. Он натрескается, нам – одонки…» – «Не перечь ему, Яшенька. Отец есть отец. Выше власти дома нет».
Однажды, застольничая, провожал Яков печальным взглядом уплывающий в отцовский рот кусок мяса. Разозленный сын запустил пальцы в шевелюру Платона.
– Бог сцепил – бог расцепит, – повторял он с ехидной отвагой отцовскую приговорочку.
Отчетливо представляет Захар картину схватки. Неслыханная дерзость – поднять на отца руку. Но и Платон хорош! Себе – мясо, другим – гущу квасную. Говорят, он и сливки спивал втихаря. На хорька сваливал. Хорош хорек!..
Над косарями, лошадьми проносятся стрекозы. Даже Серенький начинает догадываться о пользе прозрачнокрылых истребителей гнуса.
У балагана на осиновой жердине развевается флаг, поднятый в начале страды. Басалаев говорил по такому случаю:
– Знаешь, Василий Сергеевич, в этой красной материи какая-то дьявольская сила имеется. Особенно теперь, в военное время. Гляжу на флаг, и кровь огнится… мобилизующая мощь в этом огне… он тебе лишнюю бригаду косарей заменит…
Говорит конюх бойко, громко, точно стену словами конопатит. Давно не верит Тютюнников тягомотным речам скользкого мужика. Нет согревающего тепла в словах. Они жестки, отпугивающи. Не костяной ли язык их произносит?
Неподалеку от входа-лаза в балаган расположился на березовом чурбаке Платон, отбивает косу. В другой чурбак вбита наковаленка. По ее бойку медленно ползет острие литовки. Уверенный перестук молотка не надоедлив для поварихи Вареньки. Суетясь у артельного котла, она почти не слышит долбежных ударов. Варя называет старика ласково – Платоша. Ведь Захар – его внук. Отбойщик кос увлечен важной работой. Комары впиваются в шею, лицо – он спокоен, невозмутим. Даже не отгоняет их. Для музыкальности Платоша сдваивает молоточные удары, делая небольшую паузу между слитыми «тук-тук». Молоток-клепец играет на литовке длинную гамму. Пробует отбойщик лезвие подушечкой большого пальца, остается доволен: бритвенно-остра.
В отдалении на окоренной снизу березе тоже что-то кует кукушка. Схожи по наигранности песни птицы и молотка. Варя пробует на вкус суп с домашней лапшой, вслушивается в «ку-ку» и в «тук-тук», произносит:
– Спелись!
Сивенькая бороденка Платоши впроредь. На ее неглубоком дне можно разглядеть красные прыщи. Дед медлителен, важен, услужлив. Аппетит с годами не пропал у него. Зубы «с переулками», но остры и крепки. Глаза зорко-въедливы. Если бы не проклятая гиря в отвислых штанах. Несколько раз грыжу уменьшала бабка Анфея из староверческого затаежья, но свести «привесок» на нет лекарства и нашептывания не могли.
У Платоши походка кавалериста, долго сидящего в седле. Сутул, косолап. На лице морщины жгутами. Граблевидные руки уверенно держат топор, тесло, литовку, выстригающую в высокой траве чистую проплешину. Про него говорят: чужой век заедает. Старик безобидно отшучивается: «Свой еще не дохрумкал».
Варе старается угодить, помочь. За водой скосолапит к озеру. Картошку начистит. К обеду у него наготове своя ложка. Торчит из-за голенища ее широкий лоб, если боднет им да сцепит «по-божьи» кусман мяса из артельной посудины – расцепки не будет. Председатель заметил как-то:
– Платон, надо замерить кубатуру твоей ложки-единоличницы.
Перед обедом старик выпивает полкружки травяного взвара. На посинелых губах остаются густые капли. Горячая похлебка разлита по глубоким чашкам. Сбитые паром комары падают в них. Кто вычерпывает, кто отдувает «дичь» к бортам. Басалаев лукаво наблюдает за шевелящимся кадыком Платона, заглядывает в рыбацкий котелок, откуда торчат разваренные стебли «пользительных» трав.
– От чего снадобье, Платон?
– От смерти, – буркнул старик и отвернулся от конюха.
Противен старшему Запрудину назойливый мужик. Не хочется разговаривать с доносчиком, пускаться в объяснения. Сыну и внуку приказал: не вздумайте душу выворачивать на изнанку перед Демешкой. Он гадюку за пазухой держит.
Конюх помешивает, студит ложкой суп-лапшевник. Обиден ему дерзкий ответ Платона.
– Хитер, дед! Зелье от смерти отыскал. От такой кумы не спасешься. Ты еще первые лапти в своей Курской губернии добивал, она знала – где настигнет тебя. На вороных от нее не удерешь. Не то, что с твоим довеском.
– Возьми его себе – даром отдам.
– Якову оставь. В сохранности будет.
– Ел бы ты суп, Налог! Лапша расползется.
Смирный Платон редко прибегал к басалаевскому прозвищу. Сегодня сам вынудил. Раз так – получай словесную оплеуху… О смерти заговорил. Я-то верой-правдой земле служил. Повоевал за Рассеюшку, покормил окопных вшей, наполучал офицерских затрещин… Умереть не боюсь. Сподобит господь – тихо, по-христиански уйду… приму смертоньку… давно на стреме, жду ее… отбиваю сегодня косу, думаю: не ей ли, костлявой, готовлю в руки вложить?..
Захару и Никите не терпится вмешаться в спор. Одному поддержать сторону деда, другому – отца. Никитке тоже хочется уесть Платона. Юркие глазенки вонзились в его нарывчатое лицо. На красном лбу испарина. Набрякла, прокатилась капля пота. Сорвалась в чашку, где желтоватыми пистонами разбежались тяжелые капли жира.
Услышав едкое – Налог, Басалаев осекся, опустил голову. Сыну жаль посрамленного отца. Так бы вцепился в скудную бороденку киластого косоправщика. Никита перехватывает осуждающий взгляд Захара, видит зажатую намертво, остановленную возле рта ложку. Не торопится глотать хлёбово. Вдруг сию минуту потребуется язык для словесного отражения.
С минуту на стане слышен стукоток деревяшек о чашки. Раздается размеренное чавканье, кашляние, сопение. Едят с жорким аппетитом проголодавшихся работников. Такой аппетит рождается в поле, в лугах, вообще – на свежем воздухе. Варю хвалят не потому, что она дочь председателя. Похвала поварихе не льстивая, честная.
Лошадей тянет к дымку.
Председатель предложил сенокосчикам менять коней через три часа работы. Таким способом можно достичь большей производительности. У Басалаевых даже после трехчасового кошения лошади взмылены, измотаны, запалены. Спины, бока в бичевых исхлестах. Под седелками натертости. На удилах с пеной капли крови. За полторы нормы – двойное начисление трудодней. Басалаевские сенокосилки летают по лугам. Такие вальщики травы и металл до пота доведут. Яков пытался усовестить конюха:
– Не на чертях ведь косишь. Куда гонишь так?! Не знал, что и таким способом колхозу можно вредить.
Ухом не повел Басалаев, сплюнул в траву.
Запрудин подбежал, остановил коней.
– Отхлынь! – взвизгнул Дементий, занося руку с бичом. Резко ударил по лошадиной спине. Хотел снова занести руку, плеть зацепилась за дышло.
Обрадованные остановкой кони подняли головы. Из ноздрей шел горячий пар. Одна струя ударялась в тылицу правой руки Якова, колебала светлые шерстинки.
– Уйди, Запрудин! Уйди от греха! – истерично кричал Басалаев.
– Распрягай! – упорствовал кладовщик. Он потянул за сыромятную супонь, стягивающую клещевину хомута, тот желанно раздался в стороны.
Конюху, разгневанному самоуправством Запрудина, казалось, что дергач сенокосилки переместился в него: ходит ходуном в груди, ворошит сердце. Еле сдержался. Еле пережег гнев. Крепко сжал кнутовище, взмахнул рукой, но она, точно надломленная, повисла вдоль бедра.
Дементий соскочил с седла сенокосилки, хотел отпихнуть мужика-заступника. Увидав расслабленный хомут, ослабил и волю.
– Коси сам… твою мать!.. Еще секунда – и окропил бы тебя…
– Откуда в тебе столько зла? Если не по чину конюшня – оставь ее. Колхоз оставь. Без тебя его создали. Без тебя поднимем.
– Поднимала нашелся! Раненько тебя органы выпустили. Выкрутился.
– С тобой расчет впереди. За все ответишь: за подлость, за клевету… Тебя опасно на войну брать – за табачную понюшку Родину продашь.
11
Хорошуха Варенька смотрела на обедающих взором расцветающей юности. Лицо – бутон – налито искрометной улыбкой. Огонь костра и солнца разрумянил пухлые щеки, прямой, немного расширенный у ноздрей нос с порошинками веселых веснушек. Головки роз на ее тесном ситцевом платье крупные, с лепестками, готовыми вот-вот отпасть. Осыпана она бледно-красными розами с плеч до колен.
Смотрит Василий Сергеевич на хлопотунью дочку, недоумевает: когда успела вымахать! Давно ли тлел уголек в зыбке, а нынче – смотри ты: разгорелся целый костерок…
Росла Варенька неуросливой, смышленой. С семи лет дралась с мальчишками. Не хватало силенки в руках – пускала в ход зубы, острые коленки. От защиты на удивление скоро переходила в нападение. Вцепится в обидчика сухим осенним репьем, висит на нем и головенкой стукает, ногами лягает, локотками волтузит. На Вареньке даже веснушки обретали колючесть ежа. Мальчишки вскоре стали бояться неспустиху, искать с ней дружбы. Природа допустила просчет, сотворив ее девчонкой.
Не раз дралась она с Захаркой – рисковым парнишкой. Он чаще других обзывал ее «рыжей». Веснушки Варенька не считала бедой: есть так есть. Не сама их налепила. По носу, подбородку с ямочкой, щекам они разбежались резвыми табунками. Наверно, сюда переселялся на дневное время весь Млечный Путь. Мальчишки обычно издали кричали ей: «рыжая». Дистанция соблюдалась почтительная. Обзовут и пустятся наутек. В зависимости от настроения девчонка бежала за ними или для острастки показывала кулак. Захарка из всей уличной мальчишни был самым дерзким и нахальным.
Потом между ними установился долгий, прочный мир. Теперь Захарке приходилось драться с большебродской ребятней за честь длинноногой девчонки. Один край растянутой деревни – по направлению бега Васюгана – назывался низовским, другой – верховским. Колхозная контора стояла почти посередине Больших Бродов и служила водоразделом двух воюющих групп. Низовские выходили на уличные бои под предводительством Захара. Верховских сперва булгачил сын начальника лесоучастка Гошка Чеботарев. Приезд семьи Басалаевых внес поправку: выборным главарем вместо Гошки стал Никита. Власть перешла не в миг – после долгой драки на яру.
Затеял драку Никита. Вожак верховских назвал приезжего задавалой из-за начищенных хромовых сапог, в которых паренек вышел на берег покрасоваться. Вокруг дерущихся собрались все верховские. С долговязым сынком начальника лесоучастка один на один мог выходить только Захар. Гошка был старше его на два года, но быстро терял в схватке силу.
Напуганные страшным шумом драчунов, вылетели из гнезд стрижи, оставив недавно оперившихся птенцов. Если они, затаясь, сидели в глубине длинных норок, то двуногие птенцы в драчливом азарте взмахивали руками, как крыльями. Волтузили друг друга нешуточно. Вокруг них кружком стояла толпа, подбадривая заводилу-Гошку. Кулаки дерущихся попадали в скулы, в глазницы, поддых, в бока. По смазливой рожице Никиты размазалась сукровица, глаза блестели застывшими слезами.
Драка шла близко от обрыва. Боясь сорваться, ребята вели близкий, не разбежный бой. Гошка пытался потихоньку удаляться от кромки яра. Никита нарочно подталкивал его к обрезной черте, цепко ухватившись за грудки: трещала сатиновая рубашка. Вдруг он присел, набычил стриженную наголо башку и резким ударом в подбородок чуть не сбил Гошку с ног. Прием был злой, недозволенный, ранее не применяемый большебродскими ребятишками. Многие пытались вступиться за своего испытанного вожака. Поняв это, Никита окатил их кипятком озверелых глаз, осадил волевым взглядом.
От неожиданного удара «на калган» Гоша прикусил язык. Во рту стало горячо и солко от крови. Хотел крикнуть: «Братва! Лупцуй гада!» Но боевого зова не последовало. Стоял в коротком раздумье: продолжать драку или кончить ее. Напуганный хищным приемом, чувствуя жгучую боль скулы, размышлял: «Вдруг приезжий знает другие выпады… сволочь, к яру тащит… спихнет, пожалуй…» Обида, ненависть, боязнь, стыд перед толпой мальчишек перемешались в голове. Она гудела, кружилась массивным жерновом.
– У нас так не дерутся, – произнес достойно Гоша, чеканя каждое слово.
– Научу! – ехидно бросил Никита.
– Сапоги хромовые сними, обсерешь ненароком.
– Ты вычистишь.
– Чё-ё?!
И снова закипела драка. Гошка старался плевками угодить на блестящий хром. У пареньков чесались руки. Они прыгали по дерновине яра, судейски выкрикивая:
– Гош, дай, дай ему!..
– Угоди промеж глаз!..
– Долбани коленкой по…, раз он тебя башкой в санки!..
Всех гипнотизировала смелость новичка. Не смелость схватки – насмотрелись всяких побоищ – охватывала жуткая, щемящая оторопь от близости обрыва. Приезжий дрался в двух шагах от него, ни разу не оглянувшись на ломаную кромку земли, что козырьком нависла над стрижиными гнездами, над степенно-медлительным Васюганом…
Красиво смотрелась река с крутовысья. Отшлифованная за века темноватая сталь текла в зеленых извивах берегов плавно и величаво. Некуда было торопиться Васюгану: в его подчинении находилась вечность. Ревностно следя за гнездами, за многоствольной песчаной крутью, суетились ласточки-береговушки.
С разлома льда до крупных белых мух Васюган был для взрослых и ребят театром и кино, бесплатным приложением к тягучей, одноликой жизни. Выходили на берег семьями, ватагами, поодиночке. Ковыляли серебробородые старцы, семенили сухолицые бабушки. Для остроты зрения запихивали непослушными пальцами в ноздри измельченный в муку табак. Иную старушку-вековицу так начинали забивать чихи, что она была готова переломиться над своим залосненным посохом. Остановится лицом к яру, вскинет угольник сморщенного подбородка, ухватит протабаченной ноздрей весенний луч и опустит в страдальческом броске головенку. Прочихается, поднимет для взмолки ко лбу согнутые пальцы, заметит: «Ноздрит весенний табачок».
Подходит бабушка Серафима к берегу, видит Васюган таким же спокойным и сильным, как в пору своей дальноверстной молодости. В какую топь ухнули годики?! Кто подпилил ствол жизни, готовый вот-вот рухнуть и сгнить на огороженном погосте?! Не вчера ли плескался над Васюганом разливистый девчоночий смех? Жизнь перемахнула одним броском отведенный путь. Кто приневолил тебя, Серафимушка, сухо и натужно кашлять, прикрывая провалившийся рот от бойкого сквозняка… Проскочили зимы и лета. Изопрела память. Иссушило тело, хоть тетиву натягивай от головы до ног.
Вон собралось стайкой шумливое мальчуганье: пустила жизнь гибкие отводки. Они прикипят к могучему вечному стволу древа жизни. Вовек не нарушится единство непреложного закона…
Невесть сколько длилась бы еще драка, не появись Варина бабка. Она двигалась медленно и важно, отрывая посох от земли, грозя драчунам. Вмиг рассыпалась ватага.
За Варю приходилось лупить Захарке и низовских и верховских. С годами конторская изба с высоким порогом утратила пограничную значимость. Все мальчишечье воинство перемешалось, перессорилось, нарушая условное географическое деление. Происходили потасовки иного рода. Отпрыски бедняков восставали против «кулацкого отродья». Пионеры дрались с «безгалстучными». Религиозно настроенная молодежь хваталась за колья, шла стенкой на комсомольцев.