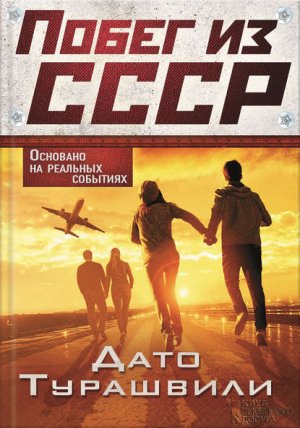
Те синие дни и солнце из детства…
Последние слова Антонио Мачадо
Предисловие
Я не думал, что когда-нибудь опубликую эту книгу, потому что наивно полагал, что после распада Союза советское прошлое Грузии останется лишь горьким воспоминанием. Но, оказывается, прошлому свойственно возвращаться, особенно когда мы сами никак не можем с ним расстаться.
Мы распрощались только с тем временем, но не с мышлением страны, которую называли империей зла и в которой добро встречалось так редко. В сверхдержаве, которая первой покорила космос, не смогли сшить джинсы… Что может быть добрее и безобиднее джинсов? В Советском Союзе действительно не освоили их пошива, чему нашли самый невероятный выход: джинсы попросту запретили.
Вожделенные, как и свобода, запрещенные джинсы оказались слаще запретного плода, и советские люди стремились обрести их любым, даже не совсем законным путем. Среди джинсов, ввезенных из разных стран, иногда даже можно было найти настоящие! В то время в Грузии многие считали, что настоящие джинсы (да и вообще все настоящее) обязательно должны были быть американскими, ведь советская пропаганда яростнее всего боролась именно с Соединенными Штатами. Идеология Москвы (с особым рвением) противостояла американским ценностям (в том числе и джинсам), и советские люди наивно полагали, что там, где джинсы, – там и счастье.
А там, где не было джинсов, не было и понятия собственности как основы независимости – свободным можно было стать, только сойдя в могилу. Вернее, твоя личная свобода лишь тогда не беспокоила советскую власть, когда ты уже покоился в земле, и поэтому, в отличие от других видов собственности, могилы не отбирали. Советские атеисты прекрасно знали, что рано или поздно они тоже будут преданы земле, и проявляли к ней лояльность, более того, они почитали усопших так же, как и все остальные люди.
Может, существовала и другая причина, но факт остается фактом – могильная земля была единственной формой собственности, которую советская власть отдавала народу без сожаления, с этого и началась деградация советских грузин. Тогда, в советский период, даже вкус у грузин изменился, и люди утратили чувство меры: раз единственным, что составляет их собственность, были могилы, они стали создавать надгробия, каких никогда прежде не было. До того грузинские могилы были просты до гениальности, но в советской Грузии изменилось отношение не только к могилам, но и к самой смерти: так на могилах появились мраморные скамейки, столы и даже мотоциклы и автомобили. И хотя эти автомобили владельцы при жизни оформляли на чужое имя, советский грузин точно знал, что, в отличие от всего остального, могильная земля будет его неотъемлемой собственностью, на которую никто и никогда уже не посягнет. Поэтому за ней ухаживали, украшали (каждый по своему разумению), обустраивая ту единственную собственность, которой владели. Это было время, когда запрещалось «самовольное строительство»: даже простую стену никто не мог сложить – ни в своем доме, ни во дворе. Но на кладбище советская власть ничему не препятствовала: на могиле можно было хоть дворец возвести, никто и слова бы не сказал, потому что эта земля была землей освобождения, и могила была единственным местом в советской Грузии, на которую не распространялась советская власть.
У власти тоже были грузины. Они (тогда) больше любили мертвых, чем живых, почитали их больше, чем живых, но для того, чтобы человеку была гарантирована собственная могила, все же существовало одно советское правило – надо было умереть своей смертью. Если убивали они (для этого в Советском Союзе обычно прибегали к расстрелам), то нечего было на это и надеяться: по их логике, расстреляному могилы не полагалось, лишь грузинская земля, в которой тебя обязательно бы похоронили, но могилы как таковой не было бы. Соединился бы ты с грузинской землей где-нибудь подальше от города, швырнули бы тебя в вырытую яму так, чтобы никто этого не видел (даже случайно) и никогда не узнал бы, что на этом поле, под этой травой, покоятся сотни расстрелянных. И даже те, кто рыл эту яму (не могилу, просто яму), уже на следующий день не смогли бы найти и узнать место, куда сбросили тебя накануне ночью. Но иногда так же невозможно понять человека, как невозможно понять Вселенную, столь же огромную, как то поле, где спустя двадцать лет один из могильщиков все же нашел свою жертву.
Он не был убийцей, он был просто могильщиком – если бы он был убийцей, то не запоминал бы, а сразу забыл бы это место. А он точно запомнил ту траву, под которой должен был покоиться Гега Кобахидзе. Голоса травы Трумена Капоте никогда не помогут найти вырытую двадцать лет назад могилу, и никогда ни один из могильщиков Шекспира или Галактиона не стал бы никого оплакивать. Впрочем, он и не плакал, он просто рыл могилу, рыл той холодной ноябрьской ночью и при свете луны запоминал тайну, которую через пятнадцать лет шепотом поведал матери Геги Кобахидзе. Мать Геги, Нателла Мачавариани, которой за эти годы уже не раз шепотом клялись, что точно знают, где сейчас ее сын, сразу поняла, что вот этот человек действительно что-то знает.
Он просто не мог не знать – у него не было лица, вообще не было, не было из-за того, что он видел. Его лицо было скрыто отражениями воспринятой им боли и удивления, и Нателла Мачавариани догадалась, что и сам этот человек уже мертв, давно уже мертв, и поэтому он действительно может знать истории других мертвецов. На протяжении многих лет в поисках сына она следовала за всеми, даже за теми, кого считала специально подосланными. Следовала и за теми, кто требовал вознаграждения за информацию, а потом бесследно исчезал с московского или ленинградского вокзалов.
А оттуда путь в северные, сибирские, лагеря лишь начинался.
Трудно поверить в смерть при жизни, тем более в смерть сына, потому что смерти сына просто не существует, особенно когда эту смерть от тебя скрывают и официальный ответ под таким же запретом, как и официальная мечта. Но надежда не может быть официальной, надежда – одна, она твоя, и ею можно жить. С этой надеждой можно искать своего приговоренного к смерти сына, которого, оказывается (а вдруг?), не расстреляли и который отбывает пожизненное где-то в Сибири, в очень отдаленном лагере, но он все же жив.
И на протяжении всех тех долгих лет всегда появлялись люди, которые уверяли, что видели Гегу (или кого-то, похожего на него) в России, в каком-нибудь лагере особого режима, видели живым. И родители искали – искали не потому, что не догадывались, что в этом грёбаном, бескрайнем и безадресном Советском Союзе невозможно найти расстрелянного сына, а для того, чтобы не потерять надежду.
А когда и надежда умерла, появился могильщик.
Под конец родители поняли, что лучше знать правду, даже самую страшную, знать, где их дети, – даже если они мертвы. И когда могильщик пришел, Нателла Мачавариани сразу догадалась, что этот человек что-то знает, знает больше, чем те, кто приходил к ней с нашептываниями. Она почувствовала, что именно этот человек будет могильщиком их надежд.
Их было немного, шли они скрытно: несмотря на то что секретаря тогдашнего ЦК уже называли Президентом (Гиорги вместо Эдуарда), на самом деле это был именно он – тот, который лучше всех знал, кто и когда был убит, но все же хранил молчание.
Шли тихо, было холодно, но женщин не пугали ни холод, ни сырая земля, которую они копали бы вместе с мужчинами, если бы те не отказались от их помощи. Шел дождь, иногда он прекращался, но земля давно уже превратилась в вязкое месиво, и вплоть до самого последнего момента на том бесконечном поле слышалось учащенное мужское дыхание.
Женщины не боялись, но Нателла Мачавариани все же была поражена точностью могильщика и старалась запомнить его лицо, но это было невозможно, ведь у могильщика действительно не было лица. Поле же и вправду было бесконечным – бескрайнее кладбище, где под покровом ночи хоронили вынесенные из города трупы. Людей, которых десятилетиями расстреливала советская власть, хоронили безымянно, без гроба, без могилы. Грузины называют гроб «сасахле» – дворец, – для того чтобы смерть казалась легче, но тех, кого расстреливала советская власть, хоронили без гробов. Поэтому даже сам могильщик удивился, когда послышался звук удара холодной лопаты (наконец-то!) по гробу, и только тогда он вспомнил, что этот был исключением – его опустили в яму в гробу, и теперь уже могильщик более уверенно повторил ту фразу, из-за которой все они сейчас были здесь. Он точно знал место, где был погребен Гега Кобахидзе.
Гроб был металлическим, а не деревянным (как положено), и при этом звуке Мише Кобахидзе стало плохо. Так плохо, что женщины решили дать ему воды, но воду не нашли, и жилья поблизости не было. Более того – вдруг никто не смог вспомнить, откуда, с какой стороны они пришли и где дорога, по которой они сюда добирались. Когда они шли из Тбилиси, все, не сговариваясь, старались запомнить дорогу, но как только раздался этот звук, дорога исчезла, и они оказались в незнакомом городе, в городе, который, как оказалось, существовал здесь же, совсем рядом с Тбилиси, с 1921 года. Это был подземный город. Сверху его скрывали полевые цветы, а внизу он таил новейшую историю Тбилиси и Грузии. Это поле скрывало историю Грузии XX века – в это подземное царство чаще всего попадали прямо из подвалов. Здесь покоились те, кому советская власть при жизни не подала бы воды, а мертвым вода уже не нужна. Поэтому никто не догадался (и сейчас не помнят), откуда, когда Мише Кобахидзе стало плохо, могильщик принес воду (жилья-то поблизости не было!), и всего несколько секунд оставалось до того момента, как поднимут крышку гроба. Они все же пропустили этот момент, хотя, кто знает, сколько раз представляли себе эту последнюю секунду родители Геги Кобахидзе. Гроб вскрыли остальные. Натия Мегрелишвили сразу же опознала покойника, но это был не Гега.
Но до того, как нашли гроб, в дождливую ночь 1999 года, когда на огромном, привольно раскинувшемся поле, где ничего не указывало на то, что здесь вообще кто-нибудь может быть похоронен, несколько человек с напряженными, взволнованными лицами копали землю, тот человек со странным лицом, в ответ на молчание Нателлы Мачавариани, громко сказал:
– Это то место, я точно помню.
– Уже пятнадцать лет прошло, – сказал кто-то.
– Здесь могила Геги, я помню точно.
Мужчины молча продолжили копать, и в тишине до тех пор слышалось их учащенное дыхание, пока одна из лопат не ударилась о гроб. При этом звуке все замерли, но лишь на секунду, и продолжили копать, потом подняли гроб наверх и поставили на край свежевырытой яма.
Когда мужчины подняли крышку, женщина быстро повернулась и стала ждать их реакции. Мужчины же озадаченно смотрели на труп, который после стольких лет опознать было сложно. И тогда Натиа Мегрелишвили, хотя и тихо, но уверенно сказала:
– Это не Гега.
Эка Чихладзе и представить не могла, что ей когда-либо придется вновь увидеть Сосо Церетели, на котором и через пятнадцать лет все еще были те джинсы, которые она запомнила с их последней встречи за несколько дней до угона самолета…
Тина
А пятнадцать лет назад, 18 ноября 1983 года, в открытой двери неудачно угнанного и приземлившегося в аэропорту Тбилиси самолета, в ожидании страшного финала, стояла молодая женщина с лимонкой в руках, и на ее лицо капал дождь.
Как раз для того, чтобы ускорить неизбежный финал, и стояла Тина с гранатой у входа в самолет – для того чтобы власти наконец решились сделать то, что собирались. Мучения людей в самолете затянулись настолько, что они только и мечтали, чтобы все поскорее закончилось: и те, кто наблюдал за событиями снаружи, и те, кто сидел внутри. Хотя в этом изрешеченном пулями самолете сидели не все – среди пассажиров и членов экипажа были погибшие, тела некоторых из них так и остались лежать у выхода из салона. Там были и раненые – тишину салона разрывали их стоны, а кто-то шепотом умолял Тину не взрывать гранату. Тина долго не отвечала, но потом все же ответила, скорее для себя и как бы со странным сожалением:
– Успокойтесь, она не настоящая.
Но и после этого на лице женщины, что просила, так же как и на лицах остальных, все еще оставался ужас, а Тина искала взглядом самое главное и дорогое лицо. Нашла, но лишь на секунду заглянула в глаза Геги.
Их взгляды встретились всего на одну секунду, потому что именно в этот момент расположившийся над их головами спецназ начал штурм, и салон наполнился белым дымом…
Она с самого детства была красавицей, нравилась мальчикам – всюду, куда бы она ни шла, они старались произвести на нее впечатление: в школе, на рисовании, на английском.
Но когда она выросла, все это начало ее раздражать: Тине казалось, что ее красота интересует парней гораздо больше, чем ее творчество, которое она считала более интересным, чем свою внешность.
Тина думала, что ее душа гораздо интересней, глубже, чем ее внешняя красота, но парни этого не замечали. Возможно, как раз из-за этого она так никого и не полюбила до знакомства с Гегой.
Тина уже была студенткой Академии художеств, когда Гега где-то случайно увидел ее рисунок и разузнал номер телефона автора. У автора того рисунка оказался такой голос, что, казалось, ее обладательница поверила бы всему, что бы ни сказал ей Гега, а Гега сказал, что ему очень понравился рисунок, он хотел бы познакомиться с автором, но хочет сразу сказать Тине, что он инвалид. Гега потом долго не мог понять, почему он тогда так зло пошутил, но ответ Тины его просто ошеломил:
– Не важно, что вы инвалид, для меня в человеке главное – его духовное здоровье.
Девушка, у которой был такой детский голос, скорее походила на ангела, чем на студентку Тбилисской Академии художеств, и Гега сразу повесил трубку. Скорее всего, от растерянности и неожиданности – такого ответа он действительно не ожидал. Гега даже не думал, что современная тбилисская девушка может оказаться такой, и жалел, очень жалел, о своей глупой шутке, хотя старался оправдать себя тем, что так и не сказал Тине, кем он был на самом деле. А Гега был очень молодым, всего двадцатидвухлетним актером, на его счету уже было несколько успешных ролей в кинофильмах, и его фамилию в Грузии знали все, кто любил кино. Как талантливый актер и просто красивый парень, Гега был очень популярен в Тбилиси того времени, особенно среди молоденьких девушек. А вот этого Гега как раз и не хотел. Он не хотел использовать свою популярность, поэтому и выдумал, что он – инвалид и не может передвигаться без коляски. Гега подумал еще немного, и решил, что теперь отступать будет только хуже, и снова набрал номер Тины.
– Слушаю, – раздался тот же детский голос, по которому Гега уже успел соскучиться, хотя девушка с этим голосом вновь заставила его растеряться, и от неловкости он раскашлялся. Гегу считали самым талантливым из молодых актеров, но сейчас ему роль явно не давалась. Вдруг ему стало стыдно за то, что он усомнился в своем профессионализме.
– Это опять я, – робко произнес наконец Гега и кашлянул еще раз.
– Куда вы пропали? – искренне удивилась Тина.
– Никуда, просто разъединилось.
– Что вы сказали?
– Когда?
– До того как разъединилось.
– Сказал, что я инвалид и передвигаюсь в коляске.
– Не страшно, если вы не против, я могу прийти к вам домой и принести свои рисунки.
– Нет, что вы, не хочу вас беспокоить, к тому же…
– Что к тому же?
– Я и так почти все время дома и предпочел бы встретиться где-нибудь, вы меня понимаете?
– Конечно. Я вас прекрасно понимаю. Мне просто не хотелось вас беспокоить, а вышло наоборот.
– Где вы скажете, там и встретимся.
– Я приду туда, где вам будет удобней.
– Лучше я вас встречу у Академии, после лекций.
– А как вы меня узнаете?
– Вы сами легко меня узнаете – не думаю, что еще у кого-нибудь, похожего на меня, будет свидание перед Академией.
– Я же сказала, что прекрасно понимаю ваше состояние…
– Но, наверное, все же неприятно, что после лекций такую красивую девушку, как вы, встретит инвалид в коляске с колесиками…
– Такую красивую, как я? Вы что, знаете, как я выгляжу?
– Не знаю, но какой бы вы ни были, подруги, наверное, все же удивятся, увидев перед Академией вашего поклонника-инвалида.
– Моя жизнь – это мое личное дело.
– Завтра?
– Что завтра?
– Можно я приду завтра?
– Завтра лекции у нас заканчиваются в три.
– Я подойду к трем, буду стоять, вернее, сидеть у памятника.
– Как только лекции закончатся, я выйду.
– Тогда до завтра.
– Наверное, я вас уже утомила?
– Нет, что вы…
Гега действительно не устал, но он не хотел, вернее, не мог продолжать разговор и, попрощавшись с Тиной, повесил трубку. Потом, улыбнувшись то ли от удовольствия, то ли от радости, обнаружил, что в этом городе, оказывается, живут и совсем другие девушки. Может, их очень немного, может, одна только Тина, но все же…
Гега понял и то, что Тину нельзя обманывать, что это действительно была совершенно неуместная шутка, а Тина была похожа на человека, обидеть которого Гега хотел меньше всего. И поэтому всю ночь, слушая любимые диски, он думал. И посреди ночи решил, что на следующий день пойдет в Академию художеств, встретится с Тиной, все ей объяснит и обязательно извинится. Решение было принято, но до утра Гега так и не заснул: он думал о том странном детском голосе, который был у Тины – девушки, так не похожей на других…
Днем он зашел к Дато. Дато Микаберидзе был другом Геги, и у него была куртка, настоящий «вранглер», которая Геге очень нравилась. Но он никогда не говорил об этом другу, потому что, будучи по натуре очень добрым, Дато тут же снял бы с себя эту куртку и подарил ее Геге. Он действительно был добрым, и не потому, что его отец работал в министерстве (по линии «Интуриста») и не пожалел бы джинсов для любимого сына.
Нет, не поэтому.
Просто Дато был очень добрым парнем, вот и все.
В то утро Гега решил одолжить у Дато эту вранглеровскую куртку, на один день, точнее, на полдня – встретился бы с Тиной, извинился, а вечером вернул бы куртку хозяину.
Он громко позвал Дато с улицы, но в окно выглянул Важа – младший брат Дато. Важу прозвали Простак, и он, как и старший брат, был отличным парнем. Гега приветственно поднял руку:
– Как ты?
– Ничего.
– Не в школе?
– Сгорела.
– Когда?
– Сегодня утром. И сейчас еще горит.
– Ва!.. А где твой брат?
– Не знаю. Когда я проснулся, его уже не было дома.
– Тебя, наверное, пожарные сирены разбудили…
Оба громко, от души, рассмеялись. Потом Гега снова поднял руку, прощаясь с Простаком. Он уже повернулся, но Важа не отставал:
– Ты что-нибудь хотел?
– Ничего, потом зайду.
– Скажи.
– Ничего особенного, вранглеровскую куртку на один день хотел позаимствовать.
– Подожди.
Простак исчез, а через несколько секунд он уже стоял на улице перед Гегой с джинсовой курткой в руках.
– Бери, Дато все время ходит в ней, а сегодня как раз оставил. Везет тебе.
– Не надо, пусть у вас будет, потом возьму.
– Бери, на самом деле она моя. Папа привез ее мне, но она оказалась велика. Дато ее временно носит. Потом все равно мне достанется. Это настоящий «вранглер». Не сносится, и ничего такого…
Гега улыбнулся и протянул Простаку руку.
– Сегодня же верну.
– Когда хочешь, тогда и верни, все равно она мне большая. А хочешь, носи, пока я не вырасту.
Теперь уже громко смеялся Гега.
– А Дато?
– Дато в монастырь уходит, в монахи, зачем ему джинсы…
И Важа тоже рассмеялся, а Гега вспомнил, что в каком-то монастыре у Дато действительно был друг монах и он в последнее время часто к нему ездил. Пару раз он обещал взять с собой и Гегу, но пока это были только обещания. Правда, сейчас Геге было некогда думать об этом, он поблагодарил Важу и по-тбилисски его обнял.
Тбилиси был столицей Грузии вот уже тысячу пятьсот лет, и, как во всех столицах, в нем случалось столько же хорошего, сколько и плохого. Но для Геги ничего не могло быть хуже того, что на Земеле, еще до того как он свернул на подъем к Академии, его остановили трое, с ножами, и потребовали снять одолженную для свидания джинсовую куртку. Тогда по Земелю еще прогуливались тбилисцы, поэтому было немного странно, что когда какой-то тип сказал Геге – братан, дело есть, на минутку, и увлек его к подъезду, среди прохожих не оказалось никого из знакомых. Но для самого Геги гораздо более странным было то, что, когда в том подъезде обозначились еще два столь же счастливых типа, он ничуть не испугался. Наоборот – улыбнулся и очень спокойно сказал:
– Зря стараетесь, не снимете!..
Гега был актером, правда, всего двадцати двух лет, но уже хорошим актером, и в том подъезде он очень спокойно произнес эту фразу. Произнес, как глубоко уверенный в себе человек, и больше всего это спокойствие удивило самого Гегу. Удивило, поскольку он-то никогда не претендовал на геройство – он прекрасно знал, что в Тбилиси того времени нередко снимали джинсы с прохожих. И так же, как другие, не раз думал о том, как сам он поступит в таком случае. Гега был уверен, что не стоит рисковать жизнью из-за брюк или куртки, он никогда не был сторонником бездумного героизма там, где в этом просто не было необходимости. И в другом месте, в другое время, он без слов, с улыбкой, уступил. Но в тот день Гега повел себя иначе, наверное, потому, что джинсовая куртка была чужой. А может, потому, что шел на свидание, на первое свидание с девушкой, которую не знал, но у которой был такой красивый голос…
Тина Петвиашвили и Гега Кобахидзе
Ножи были только у двоих, и до того, как убежать, оба успели ранить Гегу. Тогда в Тбилиси, даже во время драк, удары ножом в основном наносились в ногу или в зад, но Гегу ударили не только в ногу, но и в живот, может потому, что, сами того не осознавая, хотели порезать ту самую куртку, которую так и не смогли с него снять.
Когда Гега вышел на улицу, он смог сделать всего несколько шагов, истекая кровью, упал и потерял сознание. Свалился там же, прямо на тротуаре.
Он пришел в себя в больничной палате. У изголовья кровати плакала мать и осторожно, очень осторожно и нежно гладила его руку.
– Где Тина? – спросил Гега, посмотрев на мать.
– Кто такая Тина? – спросила Нателла и утерла удивленные мокрые глаза.
– Не знаю, я ее тоже не знаю, – произнес через некоторое время Гега и улыбнулся.
Это была чистая правда, Гега действительно не знал Тину, после лекций долго стоявшую перед Академией художеств, там, куда должен был прийти парень в инвалидной коляске. Но на встречу с Тиной так никто и не пришел. Ну как пришел бы на свидание Гега, если как раз в это время ему в больнице делали операцию и только через несколько дней он смог позвонить Тине.
– Извините за то, что я не пришел и не позвонил, я и сейчас еще в больнице.
– Здорово.
– Что здорово?
– Извините, нехорошо вышло, я совсем другое хотела сказать. Здорово то, что у вас уважительная причина и поэтому вы в тот день не пришли.
– Как только меня выпишут, мы сразу встретимся.
– Знаете, если вы не против, я могу навестить вас в больнице, принести фрукты или, если скажете, что-нибудь другое – то, что вы любите и что вас порадует…
– Не надо, сюда не приходите, меня скоро выпишут, и я сам вас повидаю, до свидания…
– Желаю скорейшего выздоровления…
Гега пролежал в больнице еще несколько дней, где его, как героя, навещали друзья и знакомые, и весь Тбилиси знал, что с Геги так и не смогли снять джинсы, но сам Гега упрямо шутил – не подождали, а то я бы отдал…
Этой упрямой шуткой он хотел сказать, что вовсе не был героем, и потом (через год), в тбилисской Ортачальской тюрьме, в камере смертников, Гега часто вспоминал эти дни в больнице, когда из него пытались сделать героя, а он хотел оставаться обычным человеком.
В больнице его долго не задержали, хотя он пока еще не мог ходить – по мнению врачей, это было всего лишь делом времени. На второй же день после операции братья Ивериели, учившиеся на медицинском друзья Геги, где-то достали и прикатили ему инвалидную коляску. По вечерам, когда, устав от похвал, он наконец оставался один, Гега катил в конец коридора, туда, где на розовой стене висел черный телефон, и звонил Тине.
С Тиной он встретился на второй день после выписки, прикатил в Академию в инвалидной коляске, без которой пока действительно не мог передвигаться, но Тина не простила ему ложь и целую неделю не разговаривала с ним. Он звонил ей каждый день, Тина трубку брала, и не отвечала. Гега пытался объяснить ей все, что мог, – Тина не отвечала, но, будучи хорошо воспитанным человеком, трубку не вешала и слушала Гегу. Но не отвечала ему.
Гега объяснял Тине то, чего не мог объяснить самому себе. Действительно, как можно было объяснить ту шутку, у которой не было иного объяснения, чем ирония судьбы? В том, что на первое свидание с Тиной Геге действительно пришлось отправиться в инвалидной коляске, возможно, действительно проявилась ирония судьбы. Хотя вскоре (где-то через неделю) он вернул коляску, и братья Ивериели отвезли ее в ту же больницу, откуда и взяли. Вранглеровскую куртку (мать тщательно отстирала кровь и любовно ее зашила) Дато так и не взял обратно, и, конечно, он пообещал Геге новые джинсы.
А Гега не хотел ничего, кроме Тины, он ни о чем не думал, кроме Тины. Только о Тине – самой красивой девушке на всей земле…
Отец Сосо
Он был известным профессором, одним из лучших умов своего времени, но то было советское время, и у него были свои законы. В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века профессоров и ученых уже не расстреливали, но их вынуждали сотрудничать с советской властью. Большинство сотрудничало, ведь без этого никто никогда и не смог бы выехать за границу, ни на одну научную конференцию. Сотрудничество с властью, на первый взгляд, не было чем-то особенным, иногда за загранкомандировки с них ничего и не требовали, но это только на первый взгляд. В действительности же у них отбирали главное – право иметь и высказывать собственное мнение, право публично заявлять о своих политических взглядах, и при необходимости (а на самом деле всегда) они должны были быть сторонниками власти. Так оно и было: большинство советских ученых вместе с советским правительством покорно создавали одну большую советскую ложь. Конечно, бывали и исключения – те, кто не хотел от правительства никаких привилегий, ни квартир, ни автомобилей, (или правительство не желало их поощрять) – но их было мало. Сидели такие ученые по кухням своих хрущевок, там и работали, там же пили, и только там, на кухне, ругали советский режим. Правда, несколько человек (среди них и ученые) сидели по тюрьмам (а не на кухнях), но это уже были диссиденты…
Отец Сосо был одним из лучших, прославленных ученых советской Грузии – академик, к которому с особым почтением относился и сам Первый секретарь ЦК (фактический правитель) Грузии. Сосо как раз это и не нравилось – не нравилась близость и теплые отношения, которые были у его отца с властью: для антисоветски и либерально настроенной тбилисской молодежи того времени Эдуард Шеварднадзе, как карьерист-большевик, был личностью абсолютно неприемлемой. Чтобы выдвинуться в советской иерархии, не требовалось особого ума или образования, нужно было нечто иное – именно то, чем обладал (например) Шеварднадзе, который с чисто провинциальным упорством успешно продвигался от прекрасной гурийской деревушки к вершине прекрасной советской карьеры. Уже в начале шестидесятых (в борьбе с тбилисскими конкурентами) он стал в Грузии первым лицом и вскоре, без особого труда, завоевал симпатии местной советской интеллигенции. Хотя это было, скорее, заслугой самой грузинской интеллигенции, а не Первого Секретаря, поскольку на протяжении десятилетий (вместе с моралью) падали и ее мыслительные способности. Когда, идя к власти, Шеварднадзе начал аресты подпольных дельцов, грузинские интеллигенты искренне радовались, думая, что задержание Отара Лазишвили и было настоящей борьбой с коррупцией. Они не знали, что гонимый, вынужденный действовать подпольно, частный предприниматель в действительности и есть та самая основа, на которую опирается государственная экономика всех нормальных стран. Подпольные дельцы советского периода были людьми смелыми, и только они и могли составить средний слой общества – хребет нормального государства.
Обманывать старших всегда легче, чем детей. Когда отцы обманулись, дети догадались, что Шеварднадзе – это страшный человек, ведь среди арестованных был и его друг, которого вскоре расстреляли. Друг в Грузии всегда значил намного больше, чем товарищ (и не только из-за Руставели). Так грузинская молодежь того времени поняла, что новый Секретарь ЦК проливал кровь не зря – он наметил себе еще более высокую цель (кто знает, может, очень давно, еще с самого детства), и этой целью была Москва. Москве всегда нравились только те грузины, которые относились к своим с особой подозрительностью, и Сосо и его друзьям очень скоро стали совершенно ясны истинные намерения Шеварднадзе. Они возненавидели Шеварднадзе, и особенно Сосо, у которого из-за него осложнились взаимоотношения с собственным отцом. Ведь Сосо никак не мог поверить, что такому доброму человеку, как его отец, ученому, необходимо сотрудничать с такой злой властью. (Между прочим, Сосо, в отличие от большинства советских людей, вовсе не считал, что проблема в конкретном правителе, а не в советской системе правления.)
Сосо был студентом Академии художеств и хотел, закончив ее, стать материально независимым и отделиться от родителей. Он считал, что все это давно уже не походит на нормальную семью. С отцом Сосо не разговаривал, почти не общался и с матерью, неустанно старавшейся сберечь домашний покой – а это было совсем нелегко из-за Сосо, осуждавшего собственного отца.
Он не разговаривал с отцом и только отвечал на его вопросы, а когда перед отъездом на научный семинар в Америку тот спросил сына, что ему привезти, Сосо лишь улыбнулся.
– Ничего, – сказал он очень спокойно, но отец, обожавший своего единственного сына с первых дней его жизни, сейчас действительно заслуживал сострадания. Поэтому Сосо добавил еще два обязательных слова: – Большое спасибо…
Отец ничего не сказал своему единственному сыну. Он знал, что надо было привезти, ведь у него были студенты, а тогда мечтой любого молодого грузина были настоящие американские джинсы. И ради сына он впервые решил быть храбрым и решительным и, как только всевидящий спутник, сотрудник КГБ, хоть немного ослабит бдительность, купить Сосо в Америке настоящие джинсы, несмотря на то что он боялся, очень боялся…
Больше всего он боялся неизвестности, так как не знал, что последует за ввозом джинсов в советскую Грузию: может, и не будет никаких сложностей из-за этого неосторожного шага. Но могли наказать, и наказать очень строго – объявить выговор (с занесением в личное дело) или сместить с должности директора Института и исключить из партии. Об этом говорили бы по телевидению, а в прессе вполне могло появиться анонимное письмо о том, как, не устояв против западных соблазнов, советский академик поддался на провокацию капиталистов и купил сыну американские джинсы. В письме был бы и вывод. Набирая воображаемые очки, его вполне мог зачитать в конце передачи и диктор «…вот как ответил грузинский ученый на заботу советского правительства – променял интересы государства на дешевые капиталистические штаны».
Когда он (втайне от остальных членов делегации) покупал в Америке джинсы, ему слышался голос как раз того теледиктора, но он все равно был счастлив, ведь впервые в жизни сделал свободный выбор и принял политическое решение. Джинсы оказались совсем не такими дешевыми, как он думал. Возможно, и из-за того, что отправлявшимся за границу ученым и деятелям культуры правительство обменивало лишь незначительные суммы, а их иностранные гонорары полностью доставались властям. Но главной все же была сама покупка, потому что на обратном пути его ждала советская граница, которую, ради сына, он должен был пересечь вместе с джинсами. Проходя в аэропорту пограничный контроль, академик уже слышал голоса сразу нескольких теледикторов, на секунду мелькнула мысль самому достать из багажа джинсовые брюки и сдать их, но, собрав последние силы, он протер вспотевшие ладони (у него впервые в жизни вспотели руки)…
Когда прозвучал вопрос русского таможенника – не везет ли он что-либо запрещенное, грузинскому ученому захотелось заплакать, но на его открытый паспорт бесшумно капнула не слеза, а пот, и отец Сосо улыбнулся.
– Жарко, – сказал он, достал из кармана платок и протер лоб…
Таможенник не заметил, что на паспорт капнул пот, и повторил свой вопрос.
– Ничего, – вначале неуверенно, а затем уже более убедительно ответил академик, – ничего запрещенного.
Таможенник так испытывающе смотрел на прославленного ученого, что тому вспомнились его студенты и экзамены.
– Проверим? – И он посмотрел на чемодан. На ответ сил не было, и отец Сосо лишь кивнул, единственное, о чем он сейчас думал, были лежавшие в кармане таблетки от сердца, но лекарство надо было положить под язык так, чтобы таможенник этого не заметил. Это было нелегко, и начавшаяся у сердца, а потом охватившая все тело боль не прекращалась.
Когда он открыл глаза, все уже закончилось. Женщина в белом халате держала его запястье и с сожалением качала головой:
– Очень долгий путь проделали, переутомились, а чего вы ждали, не в обиду будь сказано, уже не мальчик, впредь должны избегать длительных путешествий.
Его багаж так и не открыли, ни в аэропорту, ни потом, и, только приехав домой, он распаковал свой чемодан, где, нетронутые, лежали купленные в Америке джинсы.
Он не знал, что же произошло в действительности, открывали или нет его багаж в аэропорту? Может быть, и джинсы видели, но не удивились и не возмутились, чего так боялся грузинский ученый, не знавший точно о том, что сейчас происходит в Советском Союзе, хотя точно знал, что происходило в Вавилоне несколько тысячелетий назад. Он и сейчас жил там – в Месопотамии Гильгамеша, вместе с древними шумерами.
О происшествии в аэропорту он ничего не рассказал ни жене, ни сыну и молча, с гордостью, протянул Сосо привезенные из Америки «настоящие» джинсы. Сосо улыбнулся, поблагодарил. Нетрудно было догадаться, как перенервничал, переходя советскую границу, отец.
Сосо давно уже повзрослел, но его мать была грузинской матерью – она попросила сына примерить джинсы и показаться, но сын лишь улыбнулся, поцеловал мать и заперся в своей комнате.
Всю ночь он рисовал и слушал «Лед Зеппелин». И лишь иногда поглядывал на перекинутые через спинку стула новенькие джинсы, переводя взгляд на висящий на стене плакат Мика Джаггера. Несколько раз, устав, устраивал перекур. Удовольствие от курения в такие минуты было совершенно особым. Джинсы Сосо так и не надел, он их даже не примерил. Когда Сосо лег, уже светало. И вскоре он уснул.
Утром, не позавтракав, Сосо подхватил под мышку джинсы и направился к Иракли Костава.
Иракли, друг Сосо, был сыном известного грузинского диссидента Мераба Костава. Мераб Костава – человек, которого ничто не могло сломить, – вот уже четвертый год отбывал наказание за антисоветскую деятельность в каком-то далеком сибирском лагере. Сосо точно знал, что отец Иракли не только не привезет сыну американские джинсы (как бы ему этого ни хотелось), но и в Грузию еще долго не вернется. Поэтому Сосо, недолго думая, наспех умылся и поспешил к другу.
Иракли тоже всю ночь не спал – он сочинял стихи и теперь, спросонок, долго протирал глаза, не веря, что эти «настоящие джинсы» теперь уже его. А когда поверил и понял, что именно ему дарят, улыбнулся, обнял Сосо и тихо, но очень убедительно сказал:
– Я не могу их взять.
Сосо знал, что так оно и будет (из-за самолюбия Иракли), поэтому заранее подготовил ответ:
– Если не возьмешь, я их порву.
– Это настоящие джинсы? – спросил Иракли и рассмеялся.
– Настоящие, американские, – в голосе Сосо послышалась обида.
– Значит, не порвешь, настоящие джинсы не рвутся.
– Тогда сожгу!
– Настоящие джинсы не горят и даже воду не пропускают, – смеясь, продолжил Иракли, и Сосо тоже рассмеялся.
Подаренные другом джинсы Иракли Костава проносил почти год, на улице взрослые провожали их взглядом, а малыши подходили поближе, чтобы лучше рассмотреть. За день до своего самоубийства, выстирав, он вернул их хозяину, а, увидев удивление на лице Сосо, все объяснил единственной фразой:
– Я очень устал, и они мне уже надоели.
Сказал и извинился.
Сосо подумал, что друг говорил о подаренных джинсах, но когда на следующий день он узнал о самоубийстве, то догадался обо всем. Вначале Сосо решил, что Иракли их всех переиграл, но потом вверх взяла злость на самого себя за то, что он ничего не почувствовал, не догадался, хотя бы накануне. И Сосо разрыдался, как ребенок.
После похорон Иракли Сосо нарисовал на правой штанине этих джинсов солнце, надел и стал их носить. Так и не снял, до самой смерти.
В них его и похоронили, втайне от всех, и по этим джинсам через пятнадцать лет Натия Мегрелишвили опознала его труп…
Гега
Отец Геги тоже был известным человеком – кинорежиссер, который совсем молодым снял удивительные фильмы и (в шестидесятые годы) стал одним из первых грузин, получивших приз на престижном международном кинофестивале. Уже тогда, совсем молодым, он был настоящим художником, мастером, истинной страстью которого был творческий процесс, а не призы и награды. Поэтому-то, в отличие от многих грузинских режиссеров старшего поколения, отец Геги не захотел вступать в ряды поддерживавшей режим советской интеллигенции, он решил жить только киноискусством. А поскольку коммунистов не устраивало, что в Советской Грузии живет непокорный режиссер (советская власть не могла допустить подобного прецедента), то проблему решили очень просто – отцу Геги запретили снимать фильмы. Конечно, официально никаких постановлений в ЦК не принимали, но неофициально ему объяснили, что возможности снимать у него не будет. Руководство советской Грузии прекрасно знало конформистский характер грузинской интеллигенции, и на этот раз оно тоже делало ставку на ее слабость, но отец Геги оказался волевым человеком – он научился плотничать и начал стелить полы, как простой рабочий. Бо́льшую часть тогдашнего грузинского общества, уже одуревшего и деградировавшего, считавшую физический труд неприличным, позорным занятием, возмутила принципиальность талантливого режиссера. Они сразу возненавидели это исключение из правил – человека, так не похожего на остальных. Человека, который пожертвовал собственным творчеством, но отказался принимать участие в совместной большой лжи, отказался выслуживаться и лестью добиваться благоволения правительства и Коммунистической партии.
Отец Геги был глубоко убежден, что неприличным и позорным было как раз то, что делали грузинские советские интеллигенты, а не простой труд – плотничье ремесло и настилка полов. Тогда не только весь Тбилиси, но и вся Грузия обсуждала эту странную (для них) форму протеста – вернее, спорила, спорили даже те, кто никогда не видел его фильмов, – но главным было то, что никто не знал, действительно ли отец Геги стелет полы. Может, это была легенда или просто история, сочиненная теми, кто страстно хотел, чтобы в Грузии, среди тех, кого тогда называли интеллигентами, нашелся хоть один человек, способный на настоящий протест против советской сласти.
Отец Геги оказался стойким человеком, он ничего не уступил, хотя никто точно не знал и того, действительно ли он, в знак протеста, забрал из советской школы своих детей, в том числе и Гегу, но тогда в Тбилиси об этом говорили больше, чем о русско-афганской войне.
Единственное, что все знали точно, потому что видели это, и чего действительно никто не оспаривал, был талант Геги. Из-за этого таланта и удачно сыгранных ролей в свой новый фильм на главную роль его пригласил Тенгиз Абуладзе, но в жизни Геги появился человек, ставший для него главным фильмом. Это была Тина – девятнадцатилетняя красавица-художница, в которую Гега без памяти влюбился. Их знакомство было странным, а отношения начались с ссоры. Но когда Тина помирилась с Гегой, то и она почувствовала и поняла, что в ее жизни он не был случайным человеком, – и тогда наступил день их настоящего первого свидания. Тине хотелось, чтобы в этом городе и во всем этом мире не было никого, кроме них, хотелось, чтобы их было только двое. И они встретились на проспекте Руставели на рассвете. Проспект был абсолютно пуст, и удивленный Гега даже слегка сердился на Тину за ее странное упрямство, ведь ему так хотелось спать (он еще никогда не вставал так рано), а Тина, наоборот, выглядела очень довольной. Сидела рядом с Гегой на длинной скамье со спинкой и с улыбкой наблюдала за единственным дворником, который с длинной метлой в руках неспешно продвигался по Руставели. Подметал он бесшумно, но шорох осенних листьев все же нарушал царившее кругом безмолвие. Но он не мог нарушить утренний покой, который почувствовал и Гега. Он посмотрел на Тину. А Тина, склонив голову, тихо, как будто боясь разбудить весь город, прошептала:
– В этом городе сейчас нас только двое: ты и я, и больше никого.
– Нас тут трое, – с улыбкой ответил Гега и посмотрел на дворника, но Тина, не обратив внимания на его шутку, опять прошептала:
– В этом городе и во всем мире только двое…
Гега вспомнил французский фильм «Двое в городе», который шел тогда во всех кинотеатрах Тбилиси, но не стал шутить. Гега даже не улыбнулся – он догадался, что, подшучивая, легко может потерять эту девушку. Поэтому всерьез задумался и, так, чтобы услышала Тина, переспросил:
– Только двое?
– Только двое: ты и я. Хочешь?
– Хочу.
– Можешь?
– Могу.
– Можешь завтра утром зайти за мной еще раньше?
– Еще раньше? Раньше этого еще темно…
– Встретимся до рассвета и поднимемся на Мтацминду.
– Пешком?
– Да… Посмотрим на восход солнца. Хочешь?
– Хочу, – робко сказал Гега, хотя точно знал, что не испытывал никакого желания подниматься пешком на Мтацминду и любоваться восходом.
По улице проехала первая утренняя машина. Удивленный водитель долго не отводил глаз от парочки, спозаранку устроившейся на скамейке.
– Пошли, – позвала Тина и встала.
Днем Гегу разбудил Дато. Мать Геги очень обрадовалась его приходу, Гега спал уже почти целый день, а вечером ему надо было идти в театр. (Грузинской матери и тогда было очень тяжело прерывать сон сына.)
– Он ушел на рассвете, вернулся, выпил чай и до сих пор еще спит, – с улыбкой рассказывала Нателла. Мать не сомневалась, что сын влюбился. Она с шумом распахнула перед Дато дверь его комнаты.
Дато зааплодировал, демонстративно громко, и когда Нателла вышла из комнаты, улыбаясь, спросил только что проснувшегося друга:
– Влюбился?
– Кто тебе сказал?
– «Голос Америки» передал, – весело отшутился Дато, протянув руку к висящему на стене американскому флагу.
– Я и завтра должен встать пораньше.
– Твоя мать сказала, что сегодня ты поднялся с рассветом…
– А завтра надо встать еще раньше. До рассвета надо успеть подняться на Мтацминду.
– Хотите взглянуть на могилу Кеке?
– Хотим посмотреть восход солнца.
– Никогда не думал о том, где в Тбилиси всходит солнце.
– А на небо в Тбилиси ты когда-нибудь смотрел?
– Наверное.
– Ты помнишь, когда последний раз смотрел на небо?
– Нет…
– Это главный минус городов – неба не видно…
Удивленный Дато подошел к окну, посмотрел вверх, присмотрелся к небу и с улыбкой спросил у Геги:
– Это она сказала?
– Я сам догадался. – Гега улыбнулся в ответ и тоже подошел к окну.
– Отсюда и вправду не видно неба.
– Это потому, что здание перед нами выше нашего.
– А что делать тому, кто живет в Нью-Йорке?
– Жил бы в Нью-Йорке, на небо вообще не глядел бы.
– Пока ты не выбрался в Нью-Йорк, может, хоть раз съездишь в монастырь, в субботу, и Сосо поедет. Хоть небо увидишь, если ты так без него скучаешь. Великолепное место.
– Я же сказал, куда иду завтра. В следующее воскресенье…
Оба на несколько секунд умолкли, но потом Дато снова нарушил молчание и сменил тему разговора:
– В какой стороне милиция?
– В той, со стороны двора. Если бы и эта комната туда выходила, ночью вообще было бы не заснуть.
– Почему?
– Обычно по ночам людей избивают. Там такое слышно, что те, у кого окна спален выходят во двор, квартиры попродавали и переехали.
– Что значит избивают?
– Пытают.
– Кого?
– Преступников. Невинных людей у нас не сажают…
Лицо Дато стало таким серьезным и возмущенным, что Гега, не окончив фразы, улыбнулся другу:
– Шучу я, шучу, не волнуйся.
– Знаю, что шутишь.
– Но попадать в милицию все же не советую, – сказал Гега и крикнул матери: – Мы пошли!
Нателла вышла из комнаты, попрощалась с Дато и поправила на Геге воротник пиджака. Гега, как всегда перед уходом из дому, поцеловал мать. Нателла заперла дверь и, как обычно, выглянула в окно посмотреть на выходящего из подъезда сына. Гега знал, что в это время мать всегда смотрит на него из окна, поэтому он и сейчас, даже не оглянувшись, в знак прощания, как обычно, весело поднял левую ногу…
Гега Кобахидзе
Когда Гега посмотрел на окно Тины на третьем этаже, было еще темно, на секунду в освещенном окне мелькнул девичий силуэт. Потом свет погас, Гега достал сигарету, прикурил. С лестницы донесся звук быстрых шагов. Выходя из подъезда, Тина улыбнулась Геге и поблагодарила.
– За что спасибо? – искренне удивился Гега.
– Что проснулся. Нелегко встать так рано, – ответила Тина и, улыбаясь, пошла по тротуару.
– Смотря почему, вернее, ради кого, – ответил Гега, хотя и сам прекрасно знал, что такое раннее пробуждение действительно стоило ему немалых усилий и действительно далось очень и очень нелегко.
Тина ничего не ответила и снова улыбнулась Геге. Она как будто оберегала ночную тишину, и когда они вышли на вымощенную камнем старую тбилисскую улицу, тишину эту нарушал лишь звук их шагов. Подъем был длинным. Гега был уверен, что устанет, но он так и не почувствовал усталости, и когда они смотрели сверху на город, который еще спит, даже принесенная рассветом ночная прохлада казалась приятной.
А солнце неспешно, очень медленно, выплыло на тбилисское небо. Геге захотелось поблагодарить Тину за то, что он сейчас был здесь, но из-за царящей кругом тишины у Тины было такое счастливое лицо, что Гега понял – сейчас молчание ценней любых слов. Это молчание Гега нарушил лишь на обратном пути, когда они уже спускались с Мтацминды:
– На заход тоже отсюда надо смотреть?
– Заход отсюда не виден.
– А что будем делать?
– Надо поехать на море.
– Сейчас на море?
– Сейчас на море хорошо. Осеннее море…
– Никого не будет?
– Только ты, я и море. Хочешь?
– Хочу, – сказал Гега и робко коснулся правой рукой пальцев Тины.
Утро уже вступило в свои права, и по улицам двигались люди. Девочки в форме, что шли в школу, долго провожали взглядом такую красивую пару. Правда, они не знали, что Гега и Тина были самой красивой парой в мире оттого, что этим утром их пальцы впервые соприкоснулись…
Монах
– Хотел уважить вас, до самого конца довезти, но выше подняться не смогу, машину тоже жалко, – сказал водитель и выключил двигатель.
Ребята вылезли и выгрузили рюкзаки.
– Далеко отсюда? – спросил Сосо и посмотрел вверх, на вершину горы.
– За час дойдем. Если идти быстро, можно и меньше, чем за час, – ответил Дато.
– Тогда давайте отпустим этого человека. Снег свежий, он и вправду лишь зря будет машину мучить, – сказал Паата.
– Если бы у меня были цепи, я бы вас довез, но без цепей машина вверх не поднимется, это точно, машина советская…
У водителя явно отлегло от сердца, когда ребята так легко согласились. Он с радостью взял деньги у Дато, который, спеша, стал подниматься по заснеженному склону. Все потянулись за ним, но помедленней, а Сосо даже несколько раз останавливался и внимательно вглядывался в необычайно красивое заснеженное ущелье.
– Садись и рисуй себе на здоровье, – с улыбкой сказал ему Кахабер, удивляясь раннему снегу.
– Действительно, здесь очень рано выпал снег, – согласился с ним Сосо, и больше они не разговаривали. Они знали, что, когда поднимаешься по заснеженному склону, больше всего утомляет именно разговор.
Вскоре показался монастырь. Он был так красив на фоне белых гор, что все остановились. Сосо даже улыбнулся и произнес свою любимую фразу:
– Все же самый лучший художник…
– Кто? – спросил Паата, но Сосо промолчал и лишь махнул рукой в сторону монастыря. Там у входа рядом с маленькой девочкой, стоял облаченный в анафору монах и разглядывал гостей.
Потом монах и девочка стали спускаться по дороге и встретили ребят. Хозяин в знак приветствия по-монашески обнял Дато и братьев, а Сосо он пожал руку.
– Это Сосо, наш друг, художник, я рассказывал о нем. Говорил, что он хочет подняться, – объяснил монаху Дато, и все скинули рюкзаки.
– Да благословит вас Господь, – произнес монах, обращаясь, главным образом, к Сосо.
Он попытался было забрать и перекинуть через плечо его рюкзак, но идти оставалось совсем немного, и Сосо отказался от помощи – он сам донес рюкзак до монастыря, убеленный снегом двор которого был удивительно красив. В монастыре осталось всего несколько маленьких келий и трапезная, чуть побольше. Здесь, выгрузив продукты, ребята начали готовить еду.
Перед тем как приступить к трапезе, монах прочел «Отче наш» и перекрестился. Ребята последовали его примеру. Самой усердной была маленькая Эка, которая молилась вместе с отцом, потом, довольная, посмотрела на него, радуясь похвале. Во время трапезы она вела себя как взрослая хозяйка и так ухаживала за гостями, что ребята несколько раз даже улыбнулись. Отец был счастлив и очень доволен своей маленькой хозяйкой, время от времени он хвалил ее, а она с огромной любовью поцеловала дорогого отца, который был так важен для этих ребят, что это сразу бросалось в глаза.
Тишину во время трапезы нарушил Дато. Он произнес вслух то, о чем, похоже, думали и остальные:
– Как рано здесь выпал снег, а в Тбилиси все еще теплая осень.
– Такая у нас страна, – ответил отец Тевдоре, – маленькая, но удивительная. Здесь уже лежит снег, а на море, наверное, еще купаются. Господь дал этой маленькой стране все, но люди здесь утратили чувство благодати, даже самого Господа забыли.
– Почему? – неожиданно прервал его Сосо. – Несмотря на то что им запрещают ходить в церковь, люди в этой стране все же помнят Бога. И если у этой страны плохое правительство, это не вина народа.
– Правительство тоже состоит из людей. – Теперь уже монах прервал Сосо. – Правительство – часть того же народа, который вы сейчас хвалите.
– Я никого не хвалю, просто защищаю тех, у которых нет права выбора, и, следовательно, они не в ответе за тех, кто в правительстве. Народ лишили этого права, и нельзя с него требовать ответа за то, что творится в нашей стране. – Теперь Сосо говорил уже не так спокойно.
Он посмотрел на ребят. Они были гораздо спокойнее – они знали, что Сосо любит спор, но не ссоры: он никогда не обижал противника и всегда старался обосновать свою позицию.
– Вы полагаете, что если у этой страны будет избранная народом власть, а не назначенное Кремлем правительство, как сейчас, она будет менее атеистичной и не такой плохой? – очень спокойно спросил у Сосо отец Тевдоре и наполнил вином его пустой стакан.
Спокойствие монаха оказалось заразительным, неожиданно Сосо тоже успокоился, улыбнулся и с улыбкой же произнес:
– Будет или плохим или хорошим, но если правительство выберет сам народ, то он за него и отвечает, а не какой-нибудь мертвый или живой вождь. А может случиться и наоборот – это избранное правительство станет преследовать не верующих, как сейчас, а атеистов.
– Даже представить не могу такую Грузию, – вмешался Дато.
– Это вовсе не сложно, и те люди, которые сейчас ходят на парады, всей массой двинутся в церковь и креститься будут повсюду, где только ни увидят церковь…
– И что в этом плохого? – спросил у Сосо Паата, очень удивившись.
– Напоказ и неискренне плохо ходить и на парады, и в церковь.
– Наверное, в церковь все же лучше, – заметил брат Пааты и посмотрел на отца Тевдоре.
Монах ответил всем сразу, но объяснял он, чем же лучше ходить в церковь, чем быть атеистом, в основном для Сосо:
– Если человек, идет в церковь, пусть даже напоказ, это все же лучше. Там, в церкви, у него будет больше времени подумать о Боге и Истине, подумать о Любви, которой так всем не хватает.
– Коллективные раздумья всегда заканчиваются ненавистью, а не любовью, – вновь прервал монаха Сосо, но отец Тевдоре не рассердился и так же спокойно продолжил:
– Коллективное мышление всегда порождает режимы, а не свободу, и это верно, но свой путь к свободе ты можешь начать в церкви.
– А потом идти в одиночестве, как вы? – опять прервал монаха Сосо, и отец Тевдоре ответил гостю только через несколько секунд.
– Я предпочитаю искать свою свободу здесь, вдали от города. Здесь меньше шума и много времени для мыслей о Боге.
– И сколько времени вы собираетесь здесь пробыть? – Дато всех опередил и спросил отца Тевдоре о том, что больше всего интересовало и его друзей.
– Через год мне исполнится тридцать три, и я хотел бы быть здесь, если до тех пор мне не запретят.
– Кто?
– Приходили уже, три дня назад, но пока ничего не запретили, посмотрели книги и ушли.
– А когда запретят?
– Когда решат, что даже само мое пребывание здесь для них опасно.
– Чем?
– У страха глаза велики, а неверующий человек очень труслив.
Монах улыбнулся и указал ребятам на то, как рядом с отцом, прямо на столе, спит маленькая Эка.
– Устала, – сказал Паата и поднял Эку на руки.
– Думаю, вас я тоже утомил, – сказал отец Тевдоре и встал.
Остальные тоже поднялись, поблагодарили.
– Завтра вы должны увезти Эку. Начинаются занятия в школе, я приеду в конце недели и увижусь с вами в Тбилиси, – говорил отец Тевдоре уже вышедшему во двор монастыря Дато.
– Мы принесли продуктов на неделю, – ответил Дато и посмотрел на усыпанное звездами небо.
– Мне хватит, без проблем, главное, что вы принесли мед.
– Вы любите мед? – спросил у монаха Сосо.
– Сюда приходит олень, я его прикармливаю.
– Как? – искренне удивился Дато, и отец Тевдоре с улыбкой ответил.
– С руки.
– А я думал, что олени любят соль и кислое, а не сладкое, – сказал Сосо.
– Я тоже так думал. Может, остальные и любят соль, но вот этот олень любит мед – я наливаю на ладонь, а он слизывает.
– Какая ясная ночь, – выйдя во двор, сказал Паата и посмотрел на небо.
– Наверное, вот такое звездное небо Кант увидел, потому и удивился.
– Хочу у вас что-то спросить, – неожиданно сказал монаху Сосо.
– Пожалуйста, – ответил отец Тевдоре, – но не надо на «вы».
– Хорошо, – согласился Сосо. – А если тебе запретят здесь находиться, куда ты пойдешь?
– Пойду в другой монастырь.
– А если в другой не пустят?
– Тогда – в другую страну, и там найду свою частицу покоя, – с улыбкой ответил отец Тевдоре.
Сосо, тоже улыбаясь, переспросил:
– А если не выпустят в другую страну?
– Сбегу, – ответил монах, уже смеясь, а потом оглядел остальных. – А теперь, с вашего разрешения, я сбегу спать, утром рано вставать, да и Эка там одна, если проснется – испугается.
– Мне кажется, Эка никогда ничего не испугается, – со смехом возразил Дато и вместе с остальными попрощался с отцом Тевдоре.
Оставшись в монастырском дворе одни, ребята долго молчали и тихо курили. Потом Кахабер нарушил молчание, спросив Сосо:
– Ну что скажешь?
– О чем?
– Он согласится?
– Не знаю, не думаю. Пока ему ничего говорить не будем, – ответил Сосо и быстро сменил тему: – Что говорил Кант, что его удивляло?
– Звездное небо надо мной и мораль во мне, – сказал кто-то, и ребята снова посмотрели на небо, сплошь усыпанное огромными блестящими звездами. А луна была такой непривычно белой.
– Остановите кого-нибудь на дороге. А если нет, в три проедет тбилисский автобус, – сказал утром, обращаясь ко всем одновременно, отец Тевдоре и обнял всех по очереди.
Потом он много раз поцеловал свою маленькую Эку и, когда они уже спускались, издали, еще раз всех перекрестил. Уже с дороги маленькая Эка еще несколько раз помахала рукой оставшемуся стоять у монастырских ворот любимому отцу и послала еще несколько воздушных поцелуев человеку, которого любила больше всех на свете…
В тот же вечер снежную монастырскую тишину сменил ужасный шум, который ждал Сосо в доме его друга – здесь отмечали день рождения хозяина. Отмечали особыми, большими, бокалами и поэтому гости давно уже были навеселе. И хотя пьяней всех был сам тамада, он все еще требовал наполнять канци (рога) и внимания, но, кроме Сосо, его уже никто не слушал. Девушки танцевали, Сосо хотелось пить, а не слушать тамаду, как того хотелось тамаде, в который уже раз благодарившего Сосо за внимание. А Сосо не только был пьян, он устал, и, когда ему окончательно надоело без конца слушать тосты, он по-дружески попросил тамаду:
– Давай-ка, выпей…
Тамада поднес ко рту канци, но отставил и вздохнул.
– Не могу, мать его, – откровенно признался он, сел, уронил голову на тарелку и сладко уснул.
Сосо улыбнулся, забрал у тамады из рук канци, заглянул в него, выдохнул и стал пить. К нему с улыбкой подошел Гега, обнял, молча отобрал канци и вылил в стакан остававшееся в нем вино.
– Чего тебе? – спросил Сосо и жестом попросил дать ему сигарету.
– Дело у меня, покурим на балконе.
Сосо было лень, но он все же вышел с Гегой и с удовольствием закурил. Из комнаты доносился шум танцев, и Гега прикрыл дверь.
– Видел? – спросил он Сосо и тоже закурил.
– Кого?
– Отца Тевдоре.
– Монаха?
– Да.
– Да, видел.
– И что?
– Что «что»?
– Говорили?
– Да, говорили.
– О чем?
– О Канте.
– Ты о Канте говорить ездил?
– Завтра расскажу…
– Знаю я твое похмелье, завтра ты будешь полумертвый.
– Завтра седьмое ноября, в этот день все порядочные люди, так же как и я, должны быть полумертвыми.
– Почему?
– Чтобы этот день пропустить.
– Ты поэтому столько выпил?
– Я и не вспомнил, да и пить не собирался. Просто когда шел сюда, видел, как вывешивали красные флаги.
– Где?
– Повсюду.
– Пошли домой, мы с Тиной тебя проводим.
– Я еще выпью.
– Не надо. Если ты еще выпьешь, то можешь весь ноябрь пропустить…
Сосо улыбнулся, и Гега догадался, что друг согласен идти домой.
Спускаясь по лестнице, они болтали, но ноги у Сосо заплетались. Тина и Гега с двух сторон подхватили его под руки, и Сосо со смехом спросил:
– Я такой пьяный?
Но все же он обнял обоих и почувствовал, что счастлив. А еще что очень рад за своего влюбленного друга. Потом ребята остановили такси, и Сосо без устали болтал до самого дома, а, выходя из машины, обнял водителя и серьезно спросил:
– Что-нибудь передать таксистам Нью-Йорка?
В ответ водитель улыбнулся:
– Передавай привет…
– Я сам поднимусь, – заявил перед своим подъездом Сосо, поблагодарив Тину и Гегу.
– Мы собираемся на море на недельку, – сказал Гега.
– Сейчас? Не замерзнете? – удивился Сосо.
– Вместе не замерзнем, – ответил Гега и обнял Тину.
– Вы очень красивые для этого правительства, будьте осторожны, – сказал Сосо.
– Что?
– Вы очень красивые для советской власти, – повторил Сосо и стал подниматься по лестнице.
Тина и Гега не стали останавливать такси. Они шли пешком, а по обеим сторонам улицы, на высоких столбах, и вправду развевались красные советские флаги. Было уже поздно, и влюбленные молча шли по пустынной улице. Гега вдруг остановился и с улыбкой посмотрел на красный флаг. Тина сразу же догадалась, что он задумал. Она тоже улыбнулась, а Гега быстро залез на один из столбов, чтобы сорвать флаг. Он ухватился за флаг, потянул, сначала легко, и, когда уже собрался повторить, неожиданно под столбом остановился трехглазый милицейский мотоцикл. Ни Тина, ни Гега так и не поняли, откуда на пустынной улице так быстро и так беззвучно возник милицейский патруль. То ли от страха, то ли от растерянности оба словно онемели.
– А ну слезай! – крикнул усатый, что сидел за рулем, и выключил двигатель.
Второй был толстым, настолько толстым, что Тина даже подумала, как же этот толстяк помещается на сиденье, но тут же промелькнуло, что сейчас совсем не время размышлять об этом. Для большей убедительности усатый даже указал Геге пальцем, что тому следует спуститься, а Толстый достал откуда-то банку соленых огурцов и с оглушительным хрустом надкусил огурчик. Гега слез, натянуто улыбнулся безмолвной Тине и посмотрел на Усатого. А Усатый внимательнее вгляделся в Гегу и начальственно спросил:
– Ты что там наверху делал?
– Флаг целовал, начальник, – ответил Гега, которому вдруг показалось, что с этими людьми можно и подурачиться.
– Издеваешься? – строго спросил Усатый и посмотрел на коллегу.
Толстый все еще хрустел огурцом, но при этом, пытаясь что-то вспомнить, не сводил глаз с Геги и вдруг вскричал:
– Ты, парень, случайно не артист? Я тебя в кино видел – ты там жениться хочешь, а братья не разрешают. Это же ты?!
– Да, – кивнул Толстому Гега, – это я, артист.
– Ага, и я такой был. Хотел жениться, а старший брат не позволял, говорил, что раньше он должен. Если бы я его тогда послушал, до сих пор и был бы холостым. – Толстяк опять откусил соленый огурец и взглянул на Усатого. – Отпустим его, хороший парень…
Заводя мотоцикл, усач оглядел Тину, потом посмотрел наверх – на красный флаг, а затем так, чтобы слышал Гега, громко произнес:
– Не шути, сынок, с этим флагом, они такое не любят, не пощадят…
– Спасибо, – сказала Тина.
Но милиционеры ее не слышали – их мотоцикл был уже далеко, и на пустынной улице раздавался лишь шум советского двигателя…
Гия
– Подержи немного, – устало сказала мужу Манана и передала Гие ребенка, который плакал уже целый час.
Манана прикрыла дверь спальни и присела на кухонный стул. Она собралась было закурить, но передумала – сын заплакал громче, и Манана вернулась в комнату.
Его звали Гиорги, но все называли его Гией, и сейчас у него был настолько озабоченный вид, что в другое время жена обязательно бы улыбнулась. Но не сейчас: от усталости у нее так болели руки, что не было сил даже улыбаться.
– Давай, – сказала она, снова забирая сына у Гии.
– А мне что сделать? – робко спросил тот у жены, но в ответ Манана сказала именно то, чего он ожидал.
– Ничего.
Это был скорее голос уставшей женщины, чем рассерженной жены, но Гия все же вышел в кухню, открыл форточку и прикурил сигарету. Он курил быстро и нервно: как и всех молодых отцов, детский плач сводил его с ума, и это несмотря на то, что характер у Гии был спокойный, он многое мог стерпеть.
Он докурил, потом открыл холодильник. Холодильник был пуст, и Гия сердито захлопнул дверцу, почувствовав, что чуть не выругался. Но вдруг он успокоился, и на лице даже появилось некое подобие улыбки.
Гия тихо подошел к двери в спальню. Оттуда больше не доносился детский плач, он осторожно откинул висевшую на двери занавеску – мать и ребенок спали.
Гия снова закурил, но уже радостно, снова открыл форточку. Теперь он курил уже медленно и с удовольствием, не бросил, как обычно, окурок наружу, но потушил его водой из-под крана. Потом очень осторожно открыл крышку мусорного ведра и выбросил окурок в ведро. Снова открыл пустой холодильник и снова его закрыл.
– Удивлен, что пустой? – спросила жена, и Гия быстро повернулся.
– Я думал, ты спишь, – сказал он Манане и присел на стул.
– Я спала, но ребенку надо еду приготовить.
– А может, у него опять ушко болит?
– Может быть.
– А того лекарства больше нет?
– Нет, и у соседей уже просить не могу.
– Завтра куплю.
– На что?
– Куплю.
– Опять в долг?
– Куплю.
– Его же достать невозможно.
– У Чашки куплю.
– У Чашки очень дорого.
– Куплю.
– Выпьем чаю. А что насчет работы?
– Завтра будет ответ.
– Примут?
– Наверное.
– Тебя же никуда не берут, почему ты на этих надеешься?
– Они не знают, что у меня судимость.
– А если бы и знали? Тебя же официально оправдали, и в деле лежит подтверждение реабилитации.
– А его обычно никто не читает.
– А ты, конечно же, не говоришь, чтобы документы дочитали до конца.
– Конечно.
– Тебе гордость и самолюбие не позволяют.
– Не могу просить.
– Тогда почему же ты на них надеешься?
– А я все лишнее из документов вынул, а потом уже сдал в отдел кадров.
Муж и жена рассмеялись, но тут же вспомнили о с таким трудом успокоенном ребенке, и оба одновременно прикрыли рты руками.
– Давай я тебе быстро картошки нажарю, – сказала Манана. – Еще немного есть, мне не лень.
– Я не голоден, – ответил Гия, прикурил от газовой горелки и снова открыл запертую форточку.
Рано утром он вышел из дому.
Гия осмотрел сверток у себя под мышкой и сел в троллейбус, шедший в сторону площади Ленина. От площади он пешком спустился по улице Леселидзе и свернул к синагоге. Перед синагогой стояло несколько евреев, вот у них Гия и спросил, не видели ли они Чашку. Появление незнакомого человека насторожило евреев. До этого у Гии никогда не было никаких дел к Чашке. Он его даже не видел, но, как и все тбилисцы, знал, что Чашка торгует импортными и дефицитными лекарствами. И хотя Гия не знал, как выглядит Чашка, но догадался, что сейчас Чашка стоит здесь, среди этих евреев, и Гия, не таясь, открыто объяснил причину своего появления:
– Лекарство мне нужно, для ребенка…
Чашка тоже, благодаря генетической интуиции и большому опыту, догадался, что этот человек – на самом деле его клиент, а не агент из КГБ или ОБХСС.
– Пошли, – позвал он Гию, приглашая зайти на первый этаж стоявшего рядом дома.
Чашка открыл какой-то блокнот и предложил клиенту сесть. Гиорги попытался было рассмотреть комнату, просто из любопытства, но у Чашки не было на это времени:
– Какое лекарство тебе нужно? – спросил он Гию и заглянул в раскрытый блокнот.
– От боли в ушах, немецкое, для ребенка, три ночи уже не спит, соседка дала нам болгарское, но оно закончилось.
– Эх, болгарское и не помогает вовсе, тебе нужно или немецкое, или австрийское, – прервал его Чашка, профессионально раскинув руки.
– Есть? – спросил Гия и так разволновался в ожидании ответа, что собрался было закурить.
– Вообще-то это лекарство – большая редкость, да и дорогое очень, – начал Чашка, но теперь уже Гия его прервал.
– Не дороже же этого?! – сказал он, кладя на стол свой сверток, и поспешно развернул, демонстрируя Чашке его содержимое – новенькие американские джинсы, удивившие даже Чашку. Вначале он сам долго их разглядывал, а потом позвал со двора Моше.
Войдя, Моше сразу, без слов, понял, в чем дело, и тщательно осмотрел товар, потом, довольный, посмотрел на Гиорги и сказал так, чтобы слышал Чашка:
– Клянусь детьми, настоящие «левисы». Мы рядом с синагогой, Бог не даст соврать, – снова посмотрел на Гию и с деловым видом произнес: – На них клиентов полно, если оставляешь, цену назови.
– Лекарство мне нужно для ребенка, поэтому и продаю джинсы. Я в ценах вообще не разбираюсь, первый раз что-то продаю, – ответил Гия.
Чашка и Моше переглянулись. Чашка повернулся, достал из шкафа лекарство и протянул Гие:
– Деньги оттуда возьму, за остатком зайди завтра, возьмешь у Моше.
Гия ничего не ответил, положил лекарство в карман и попрощался с обоими.
Он знал, конечно, что ему и здесь откажут, но все же зашел в исследовательский институт, где ему сегодня должны были дать официальный ответ. В отделе кадров, как он и ожидал, Гие принесли извинения:
– Ваш вопрос рассмотрели, но вакансий нет и, наверное, в этом году уже не будет. Принесите документы через год, может, тогда…
– Через год я буду уже далеко, – ответил Гия женщине с ярко-алыми, густо напомаженными губами и вежливо забрал документы.
Он сунул бумаги под мышку и, как только вышел на улицу, тут же прикурил сигарету. Перешел улицу, потом ненадолго приостановился на мосту, спокойно выкинул документы в Куру и продолжил свой путь. Спросил у какого-то прохожего, который час, и сел в троллейбус. Он должен был повидать братьев и знал, что в это время оба будут дома, – было время обеда, а братья всегда обедали вместе со всей семьей.
Дверь открыл Паата и пригласил гостя в большую столовую. Есть почему-то не хотелось, но отцу братьев отказать Гия не смог – так он оказался за столом. Отец во время обеда читал газету, на которой особым крупным шрифтом было написано «Правда». В действительности у этой газеты с правдой не было ничего общего, и старший сын, с улыбкой, сказал отцу:
– Если бы в этой газете писали правду, она бы не стоила пять копеек.
– В советских газетах я читаю только зарубежные новости, – сняв очки, тоже с улыбкой, ответил сыну Важа.
Темур Чихладзе (отец Тевдоре)
– А советские новости тебя не интересуют?
– Советские новости мне «Голос Америки» сообщает, – все так же улыбаясь, ответил Важа, и все рассмеялись. – Так проще узнать правду…
Какое-то время никто не пытался нарушить тишину. Наконец хозяин дома, обращаясь к детям, спросил:
– А выпить мы гостю не предложим? А то потом скажет, что угощали всухую.
– Спасибо, но я спешу, – отозвался Гия и посмотрел на братьев.
– Если спешишь, выпьем по-быстрому, разве это не от нас зависит?!
– Мне уже пора, – сказал Гия, встал и снова посмотрел на братьев, – я к ребятам ненадолго заглянул.
– Ну что за молодежь, – с улыбкой сказал Важа, – хорошо хоть не в Америке живете, здесь-то не продается, а то вместо вина пили бы, наверное, кока-колу.
Он махнул рукой и встал. Гия еще раз поблагодарил хозяина и уединился с братьями в их комнате.
– Я уже готов, сегодня даже свои документы в реку бросил. – Гия сказал это спокойно, но очень убедительно и стал ждать реакции ребят.
– Ты, верно, Куру имеешь в виду? – пошутил Кахабер, а Паата очень серьезно спросил:
– Паспорт оставил?
– Оставил. А вы что сделали?
– А что мы должны были сделать?
– Вы же должны были того монаха навестить.
– Навестили.
– И что?
– Мы пока ему ничего не сказали. Через несколько дней он приедет, тогда и скажем.
– А он согласится?
– Еще не знаем.
– Надо уговорить. Монах нам очень нужен. Он оружие в самолет должен пронести.
– Знаем. Нас всех обыщут.
– Когда мы летом летали в Москву, этим же рейсом летел какой-то священник. Мы специально следили – его вообще не обыскивали, относились с особым почтением, подчеркнуто, чтобы все это видели…
– Знаю. Сейчас им так удобнее, вот поэтому нам очень нужен тот монах. Я твердо решил: при любом варианте – еду. Здесь у меня никогда работы не будет, это уже точно.
– У меня работа-то будет, и что с того? Семнадцатый год учусь, а дадут мне в месяц сто двадцать рублей, еще и вычитать будут.
– Я пошел, – прервал Паату Гия и встал.
Попрощался с обоими, достал сигареты:
– Покурю, когда выйду.
– В конце недели мы узнаем ответ монаха и сообщим.
– Жду.
Вскинув в прощальном жесте руку, Гия еще раз попрощался с братьями и ушел.
Дверь ему открыла жена, и он сначала поцеловал ее в щеку, а потом достал из кармана детское лекарство. С довольным видом Гия протянул лекарство Манане и сел на стул:
– Ну, как он?
– Спит.
– Завтра у меня и деньги будут.
– Тебя с такой радостью взяли на работу, что первую зарплату завтра же и выдадут?…
Гия улыбнулся.
– Мне отказали.
– Документы забрал?
Гия кивнул.
– Дай, спрячу. Может, когда и пригодятся.
– Куда спрячешь?
– Под твои «левисы».
Гия пытливо вгляделся в ее лицо: он старался угадать, знает ли уже Манана, какая судьба постигла его джинсы. Но, не заметив ничего подозрительного, ответил:
– Нет у меня документов.
– А где они?
– Наверное, уже в Баку.
Теперь улыбнулась Манана:
– Если ты бросил их в реку, то твои документы еще даже до Рустави не доплыли. Если передумаешь, там и должен их ловить.
– Не передумаю. Все решено.
– А с нами что будет?
– Ради вас и уезжаю, вы тоже здесь не останетесь. Вначале мне самому надо отсюда выбраться, а потом, конечно, и вас вывезти…
– А как?
– Пока не знаю.
– Но ты уже окончательно решил с отъездом?
– Окончательно.
– Наверное, в новых «левисах» и поедешь.
Манана не улыбалась, но эта шутка все же очень рассердила Гиорги, и он поднялся. Достал сигарету, прикурил, потом погасил и, уходя, в сердцах громко хлопнул входной дверью, забыв, что ребенок спит.
Уже потом, 18 ноября 1983 года, в том самом неудачно угнанном самолете, получив несколько пуль, одна из которых была смертельной, в последнюю секунду своей жизни, Гия все же вспомнил тот день, когда показал маленькому Гиорги звезды на лунном небе и сказал – если соскучишься, найди эту звездочку и помаши мне рукой…
Море
Море было таким спокойным, что казалось неподвижным. Неподвижное Черное море. Таким оно бывает осенью, незадолго до самых ветреных бурных зимних дней. Солнце перед заходом становилось огромным, красным и красивым.
Обычно Тина и Гега наблюдали за заходом с балкона. Оттуда как на ладони просматривалась вся прибрежная полоса, тщательно контролируемая русскими пограничниками, вооруженными автоматами. Ведь совсем близко, уже через две деревни, начиналась Турция. Приближаться к границе, даже на несколько километров, конечно, было запрещено. Тина и Гега сняли комнату в доме, который стоял наверху, на самой вершине горы, и у которого был прекрасный балкон. Дом принадлежал лазам. Как и все лазы, хозяева часто готовили вкусную черноморскую рыбу и нередко приглашали на обед или ужин и Тину с Гегой. Гости очень сблизились с хозяевами, но английским Гега продолжал заниматься все же скрытно – он не хотел, чтобы его усердие и прилежание вызвало подозрения у семьи, живущей так близко к границе. Поэтому и было немного комичным это тайное изучение новых слов: по ночам, шепотом, вместе с Тиной, которая вознаграждала его поцелуями за правильный ответ.
Накануне отъезда они снова прогулялись по набережной, решив посмотреть на закат с берега и только потом вернуться в дом.
Стояла осень, было холодно, но холод еще не пронизывал до костей. Тину согревала близость Геги, которую она постоянно ощущала, особенно когда Гега, сидя рядом, слушал плеск волн и ждал заката.
Море было спокойным, а солнце огромным и красным.
Гега обнял Тину и поцеловал ее в щеку. Тина положила голову ему на плечо и снова почувствовала, что во всем мире у нее нет никого ближе Геги.
– А человек может переплыть море?
– Если захочет, человек все может.
– Я тебя не теоретически спрашиваю. На самом деле он может переплыть это море?
– По ширине?
– Да, до Турции.
– Может. У нас в киностудии был один режиссер или оператор, по фамилии Александрия, так вот он переплыл.
– Переплыл Черное море?
– Да, отсюда до Турции.
– Как?
– Потихоньку.
– Скажи правду.
– Правда переплыл.
– Как?
– Тренировался и переплыл.
– Все море?
– Когда доплыл до Турции, его подняли на корабль.
– Значит, до конца все же не доплыл.
– А где он сейчас?
– В Америке…
Потом они молча сидели на морском берегу, среди белых камешков, и поэтому их удивило, что они не заметили, как к ним подошли вооруженные автоматами пограничники. Вначале у Тины и Геги потребовали документы, потом им объяснили, что своим аморальным поведением они нарушают общественный порядок. Встав, Тина удивленно огляделась – хотела убедиться, был ли этот пустынный берег и в самом деле местом общественных встреч. Но еще больше ее удивило, что, как оказалось, класть голову на плечо любимому считается аморальным поведением.
Тина была удивлена, а Гега сердит – он чувствовал себя униженным. Тина испугалась, что он может что-нибудь ответить вооруженным людям, она взглядом попросила его ничего не говорить пограничникам. Гега от злости закусил губу, но все-таки, не проронив ни слова, послушно последовал за Тиной к дому и долго молчал…
Гега молчал. Он неподвижно лежал, и Тина до тех пор осторожно, как ребенка, гладила его по голове, пока он не нарушил молчание:
– Вот поэтому я и не хочу здесь жить…
– Армия и полиция всюду грубые, властные.
– Но любовь нигде не запрещена.
– В свободных странах, может, и не запрещена.
– Я тоже хочу жить в свободной стране, а ты не хочешь?
– Я хочу быть с тобой.
– А свобода тебе не нужна?
– Вместе с тобой я везде свободна.
– Если уеду, поедешь со мной?
– Я не смогу переплыть море.
– Я тоже не смогу… Так хорошо я плавать не умею.
– А что ты собираешься сделать?
– Перелететь.
– А летать ты умеешь лучше?
– Ты же ангел, главное – чтобы твои крылья смогли поднять нас обоих.
– Я серьезно спрашиваю, что ты собираешься делать?
– Я тоже серьезно говорю, что ты ангел.
– Скажи правду.
– Я и вправду улечу, но вместе с тобой…
Тина встала, открыла окно и посмотрела на море. Черное море действительно было черным.
Дато вместе с братьями внимательно слушали отца Тевдоре. Его комната производила впечатление комнаты беззаботного молодого человека, но монах очень спокойно беседовал на очень простые, но по тому времени очень важные темы.
– На следующий день после вашего отъезда меня опять навестили.
– Что им было нужно?
– Наверное, хотели узнать, что за дело привело вас ко мне.
– И что ты ответил?
– А то и сказал, о чем мы тогда говорили.
– О чем говорили?
– О Боге, Добре и Любви.
– Они этого боятся?
– Больше всего они боятся именно этого, но вслух не признаются, и публично с церковью не воюют. Даже наоборот – поменяли стратегию, со священниками и монахами обращаются с подчеркнутым почтением, так, чтобы все это видели, а КГБ тайно за каждым следит.
– И что ты будешь делать?
– То же, что и всегда. Препятствия лишь укрепляют меня в вере, так начинался и путь первых христиан. Испытания пестуют веру…
– Ты – монах и уже сделал свой выбор.
– Человек всегда и везде должен делать выбор, и не важно, светский ли он человек, или духовное лицо. Все равно должен сделать выбор между добром и злом, светом и тьмой, рабством и свободой…
– Мы тоже сделали свой выбор, – сказал Кахабер.
Он вначале посмотрел на друзей, потом на монаха и повторил эту фразу.
– Какой выбор? – спросил отец Тевдоре всех сразу.
Ребята еще раз переглянулись, как бы колеблясь, и после этой паузы Паата, посмотрев в глаза отцу Тевдоре, очень спокойно сказал:
– Мы уезжаем.
– Как?
– Самолетом.
– Как?
– Сядем в Турции на американской военной базе, а там уже они сами о нас позаботятся.
– Как?
– Как о литовцах, помнишь, в прошлом году, их в Америке приняли как героев?
– Литовцам просто повезло.
– И нам повезет, слегка припугнем пилотов, они и свернут.
– А чем вы их припугнете?
– Пригрозим оружием…
– А как вы оружие в самолет пронесете, ведь всех тщательно обыскивают?
– Кроме священников и монахов, – ответил Дато и вместе с ребятами стал ждать реакции отца Тевдоре.
Монах догадался, о чем его просят, и поэтому спросил:
– А если будут жертвы?
– Жертв не будет.
– А если?
– Не будет.
– Исключено?
– Исключать ничего нельзя.
– Значит, могут быть.
– Только теоретически.
– Поэтому и теоретически не стоит…
– Что не стоит?
– Ценой жизни даже одного человека ничего не стоит начинать – какая бы то ни было свобода не стоит жизни человеческой, ни одна цель ее не стоит. Жизнь каждого человека принадлежит только Богу, и только Бог решает, когда человеку умереть…
– Но мы не собираемся никого убивать, – прервал его Паата и сердито посмотрел на Дато. – Оружие нужно только для того, чтобы припугнуть пилотов, и все.
– Жертвы обычно следуют за страхом, а пилотам никто и не позволит посадить самолет в Турции.
– Но литовцы же смогли? – опять прервал его Паата.
– Вот поэтому вы уже не сможете их заставить. Русские не повторят ошибки…
Братья встали, молча взяли свои куртки и, не прощаясь, ушли. В комнате остались только Дато и монах. После длительной паузы, улыбаясь, отец Тевдоре произнес:
– Наверно, подумали, что я испугался…
Гиорги встретился с Сосо на улице, в самом людном месте, и сразу же сказал:
– Священник не согласился.
– Знаю.
– Остался только один вариант.
– Какой?
– Оружие в самолет должна занести та девушка, возлюбленная Геги.
– А как?
– На животе, как беременная жена.
– Она еще не жена.
– Поэтому он вначале женится, а сразу после свадьбы и отправимся.
– А он согласится?
– Не знаю, но ты должен ему сказать, и так сказать, чтобы он согласился.
– Гега понятно, а Тина?
– Ее зовут Тина?
– Да, Тина.
– Тину уговорит Гега. Другого пути нет. Времени мало, – уже уходя, сказал напоследок Гиорги.
Сосо какое-то время еще постоял, потом перешел через улицу и ушел в другую сторону.
– А снег уже сошел? – нарушив царившую в монастырском дворе тишину, удивленно спросил Дато у отца Тевдоре.
– Солнце осеннее, но все же это солнце. Через неделю опять снег пойдет.
– Как здесь спокойно.
– Здесь покой, а человеку покой нужнее, чем спокойствие.
– Ты позвал меня ради этого покоя?
– Нет. Почему ты не привез Гегу?
– У него – то съемки, сказал, что обязательно приедет на той неделе.
– Я хотел, чтобы Гега сегодня тоже был здесь, хотел вам обоим сказать.
– Что сказать?
– Знаю, что вы уже решили уехать.
– Пока еще ничего не решено.
– Я потому тебе это говорю, что знаю – если Гега решится, ты тоже с ним пойдешь.
– Они пока еще ничего не решили, я же сказал.
– А я тебе говорю, что чувствую. Гега потому сюда и не идет, что уже все решено.
– Говорю же, нет.
– Ты можешь ничего мне не говорить. Я не потому хотел тебя повидать, наоборот – хотел сказать то же, что и другим, но они чужие, и у них нет того, чем больше других одарил тебя Господь.
– И чем это?
– Благоразумием. Может, на других языках и нет такого точного слова. Слова, обозначающего, что действия человека определяются одновременно и разумом, и душой.
– Ты же знаешь, что сейчас не я решаю.
– Поэтому и говорю тебе: если ты откажешься и не пойдешь с ними, они задумаются над тем, что человеческая жизнь все же дороже любой великой идеи.
– Жертв не будет. Ты же веришь мне, знаешь, что я никогда никого не убью. Лучше я сам стану жертвой, чем кто-то другой. Это так.
– Вы не убьете, но они убьют. Своих же пассажиров убьют, невинных людей, и…
– А обвинят нас?
– Конечно, вас, но хуже этого будет то, что отвечать за убитых ими людей действительно придется вам…
– Почему нам?
– Потому что их убьют из-за вас.
– Жертв не будет.
– Будут! Вы плохо знаете людей, которым собирается нанести такую пощечину. Гега, видимо, думает, что там его ждет очередной спектакль или фильм, в котором он должен сыграть определенную роль.
– Если сбежит несколько человек, от такой империи разве убудет?…
– Для них ничего не значат ни сотни, ни тысячи, люди вообще не имеют значения…
– Тем более.
– Но они не выносят чужих спектаклей. Они любят только собственные постановки и не простят оскорбления.
– Мы никого оскорблять не собираемся.
– Вы не представляете, насколько злыми становятся гордецы, когда дорываются до власти.
– Эта власть ничего не смогла сделать с угнавшими самолет литовцами и отпустила их.
– Вот поэтому советская власть и не повторит этой ошибки. Вас они не выпустят!..
– Мы пока еще ничего не решили.
– Но потом будет уже поздно решать. Поэтому мне и надо видеть Гегу. Он, наверное, думает, что отступать уже стыдно, а я хочу, чтобы он знал, что мысли о Боге гораздо важнее, чем мнение тех, кто хочет его использовать…
– Если Гега сам не захочет, его никто не сможет ни использовать, ни заставить сделать что-нибудь, чего он сам не хочет.
– Поэтому я и хочу видеть Гегу, пока еще не поздно. Я подожду его здесь и скажу, все скажу. Передай, что я его жду…
– Передам.
– Каждый день жду.
– Передам.
Когда Дато стал спускаться по склону и уже отошел на приличное расстояние от монастыря, он еще раз обернулся. Посмотрел туда, где его друг-монах неподвижно стоял у входа. Подняв руку, еще раз попрощался с ним. Потом повернулся, продолжил путь и ушел. Ушел…
Свадьба
Эта свадьба была похожа на традиционную грузинскую свадьбу, но в то же самое время и не была похожа. Все как будто было так, как и должно было быть, но можно было заметить, что некоторые гости ждут чего-то непривычного, особенного, и это ожидание их тревожит. Хотя остальные, для которых это было всего лишь бракосочетание счастливой молодой пары, конечно, веселились, а некоторые из них даже самозабвенно отрывались.
Невеста, у которой уже наметился выдававший беременность животик, похоже, устала, но мать Геги, с чисто материнской интуицией, что-то почувствовала. Она точно не знала, что происходит, но явно чувствовала налет какой-то грусти, сопровождавший все это веселье, танцы и песни.
Особенно странным показалось Нателле поведение одного гостя, которого она не знала и с которым Гега, так и не сумев уговорить его войти в ресторан, долго и очень эмоционально беседовал у входа. О чем был разговор, Нателла не слышала, но она чувствовала, что сын спорит с этим человеком и что-то пытается ему объяснить, а незнакомец не соглашается с женихом. Затем гость ушел так же, как и пришел, – не заходя в ресторан.
Матери Геги показалось, что незнакомец, который явно был старше ее сына (это был Гиорги), до того как уйти, даже погрозил пальцем Геге, стоявшему понуря голову. Вернувшись в ресторан, сын уже ни разу не улыбнулся. Ни тогда, ни потом Нателла так и не узнала, действительно ли так все и было или ей только померещилось.
Единственное, что она хорошо запомнила, это заботы о гостях. Гостей было довольно много. Как хозяйка, Нателла старалась никого не забыть, всем уделить внимание, и поэтому ей было не до сына. Но все же она старалась держать его в поле своего зрения: всю свадьбу мать искала Гегу глазами, особенно после того, как внесли голубей.
Тогда в Грузии была такая традиция – на свадьбу символически приносили пару голубей и дарили новобрачным, но потом, уже после всего случившегося, никто не смог вспомнить, откуда на этой свадьбе взялись голуби. Может, это была чья-то шутка, ради которой их и принесли на свадьбу Геги и Тины, ведь после того как голубей выпустили, в зале действительно раздался смех и поднялось веселье. Но неожиданно произошло то, чего никто не ожидал: один из парящих под потолком голубей камнем рухнул на пол, и в гробовой тишине кто-то со страхом, но внятно произнес:
– Один умер.
Гости испуганно и удивленно переглядывались, кое-кто украдкой смотрел на Гегу и Тину. Эту страшную тишину нарушил Гега: он заказал музыкантам песню, и свадьба продолжилась.
Свадьба продолжилась, но все ощущали, что произошло нечто очень непривычное и совершенно особое. Единственным человеком, который чувствовал, что главные события еще впереди, была мать Геги. Вот поэтому Нателла искала, все время искала, хотя бы взглядом, искала в толпе гостей своего сына. Тот к концу этого застолья то ли от усталости, то ли от выпитого вина грустно сидел рядом с Иракли Чарквиани.
Гега обнимал Иракли и что-то ему шептал. Тот улыбался. Но Нателле казалось, что за этой улыбкой скрывается что-то очень серьезное, и еще ей показалось, что Гега просто-напросто прощается с Иракли. Как бы то ни было, Гега вовсе не был похож на тех расчувствовавшихся от выпитого вина грузин, которые любят в такие моменты многословно говорить друзьям о своей любви к ним. Но так как Нателла не знала, что же в действительности происходило на свадьбе ее сына, то все свои подозрения она сочла проявлением повышенной материнской любознательности.
Поэтому когда Гега прощался с Дато Евгенидзе, Нателла даже не обратила внимания на ту пачку сигарет, которую Гега подарил Дато, лишь потом она вспомнила их диалог. Эта была изготовленная в Турции пачка американского «Кемела» – большая редкость в Тбилиси того времени, и Евгенидзе не хотел брать подарок.
– Возьми, пусть будет тебе от меня на память, – сказал другу Гега, кладя пачку в карман Дато.
– Не хочу, у меня есть, – ответил Евгенидзе, вынимая из кармана «Кемел».
– На память дарю, – повторил Гега с таким выражением, что Дато улыбнулся и посмотрел на сигареты. На пачке четко просматривалась надпись «Туркиш».
– Я думал, они американские, – сказал он Геге, вынимая из пачки сигарету.
– Американские, но сделаны в Турции, из самсунского табака…
– Знаю, в Самсуне расположена американская база, это недалеко от Батуми, но по ту сторону границы…
– Пусть останется тебе от меня на память, – прервал его Гега, который, хотя и старался это скрыть, явно немного смутился. Он постарался сдержаться и в последний раз обнял Дато Евгенидзе…
Когда гости наконец разошлись, было уже очень поздно, уставший персонал ресторана с грохотом убирал остатки застолья. Стол жениха и невесты стоял отдельно, на возвышении, и в опустевшем зале за столом сидели лишь двое – Тина и Гега. Они остались вдвоем после шумной свадьбы, и в наступившей тишине Гега все же шепотом беседовал с Тиной, которая была такой красивой.
– Утром уже уедем.
– Знаю.
– Осталось всего несколько часов.
– Знаю.
– Ты должна решить. Сюда мы не вернемся.
– Я уже решила.
– Я о другом.
– Я все решила.
Церемония бракосочетания Темура Чихладзе и Гулико Эристави
– Но ты же не хотела.
– Я и сейчас не хочу, но лечу.
– Почему?
– Что почему? Почему не хочу? Или почему лечу?
– Не хочешь, но летишь.
– Не хочу, но лечу вместе с тобой.
– А почему не хочешь?
– То, что вы задумали, ничем нельзя оправдать.
– Почему?
– Тому, из-за чего могут пострадать люди, оправданий нет…
– Жертв не будет, оружие мы берем только для того, чтобы припугнуть пилотов…
– Там, где оружие, всегда бывают жертвы, а люди, которые могут погибнуть, ничего дурного нам не сделали.
– Мы летим маленьким самолетом, кроме нас там будет всего несколько пассажиров…
– Даже если это будет всего один человек, он ни в чем не повинный пассажир…
– Если ты боишься, лучше сразу скажи – мы все отменим.
– Я не боюсь.
– А я думаю, что все же немного боишься.
– Не боюсь – ни лететь не боюсь, ни смерти не боюсь. Я даже того не боюсь, что ты собираешься мне сказать, но все никак не скажешь.
– Ты о чем?
– О том, что это я должна занести в самолет оружие…
Тина положила руку на увеличившийся живот и с любовью, очень нежно, погладила будущего ребенка. Гега долго молчал, но потом все же спросил Тину:
– А все же почему ты ничего не боишься?
– Потому что я не боюсь любви…
Утром Гега был очень весел, и Нателла подумала, что сына не столько радует само свадебное путешествие, сколько поездка в любимый Батуми, где его ждало море поздней осени и покой, так не похожий на тбилисский шум и бурное свадебное застолье.
Единственным, что удивило Нателлу, было странное прощание – уходя из дому, Гега всегда ее целовал, а потом, уже выйдя на улицу, не оглядываясь, в знак прощания обычно еще и поднимал ногу – специально, чтобы это видела мать, которая всегда провожала единственного сына, глядя ему вслед из окна.
В то утро Нателла, как и всегда, смотрела в окно, но Гега так и не сделал привычного прощального жеста – ноги он не поднял, не оглянулся. Ушел. И ушел…
В аэропорту, как обычно, толпились люди, но в общей суматохе все же выделялась красивая пара, вместе с которой отправлялись в свадебное путешествие и несколько друзей. В то время такое случалось часто и поэтому никого не удивляло. Но самих пассажиров очень удивило, что рейс на Батуми в то утро почему-то выполнял большой самолет, который потом должен был следовать в Ленинград. Обычно между Тбилиси и Батуми курсировал маленький самолет. Это стало известно, только когда объявили посадку.
Такая замена возмутила нескольких ожидавших отлета пассажиров, по их лицам можно было заметить, что они колеблются. Однако потом, решив, что это простое совпадение, они все же прошли регистрацию вместе со всеми остальными. Единственной, кто не прошел стандартной процедуры досмотра, была беременная Тина. Проходить спецконтроль в ее состоянии из-за излучения было уже нежелательно. Поэтому, хотя и без особого восторга, служащие аэропорта все же пошли навстречу просьбе Геги и даже официально поздравили новобрачных от имени администрации. Потом кто-то откупорил бутылку шампанского, и усерднее всего на шампанское подналегли те, кого мучило похмелье. Они несколько раз подряд так горячо поздравили новобрачных, что чуть не опоздали на посадку. Наконец все заняли свои места в салоне, а стюардесса разъяснила правила безопасности невнимательным грузинским пассажирам, которые, как правило, никогда не слушают подобных разъяснений.
Самолет взлетел.
Но до этого, до взлета, случилось одно незапланированное происшествие. Вылет задержали – один из пассажиров, пьяный до невменяемости, стал совершенно неуправляем, экипаж вызвал милицию, которая и вывела из самолета пятьдесят девятого пассажира.
Тот пьяный пятьдесят девятый не знал, что вскоре после взлета ему начнут завидовать все оставшиеся пятьдесят восемь пассажиров, ведь в тот момент, когда самолет поднялся над облаками, он оказался единственным, кто не сидел в салоне…
Была середина дня, но Нателла спала. Всю ночь она прибирала в доме, а утром, проводив сына и невестку в свадебное путешествие, начала мыть тарелки. От усталости она едва стояла на ногах, ей очень хотелось спать, и Нателла отложила мытье посуды. Она решила немного вздремнуть и прикорнула в кресле, тут же в галерее. У грузин это называют «обмануть глаза». Даже потом Нателла так и не могла сказать с уверенностью, спала ли она или просто сидела, прикрыв глаза, когда кто-то очень осторожно постучал в окно. Окно было рядом, и первое, о чем вспомнила Нателла, это страх.
Вначале она просто испугалась того, что за окном стоял одетый, как монах, бородатый мужчина с зелеными, очень выразительными глазами.
– Здравствуйте, – сказал монах и извинился за беспокойство.
– Здравствуйте, – ответила Нателла, не догадываясь, какое дело могло к ней быть у этого монаха или священника.
– Гега здесь живет? – спросил незнакомец, и женщину немного успокоило то, что он назвал ее сына по имени.
– Да.
– Если он дома, позовите его на минутку.
– Геги нет, они сегодня уехали.
– Куда?
– В свадебное путешествие.
– Вы, наверное, мать Геги.
– Да.
– А куда они уехали?
– В Батуми.
– На чем?
– Извините, но вы кто?
– Я духовный наставник Геги.
– Не знала, что у моего сына есть наставник.
– Этого не знал и сам Гега.
– Извините, но я не понимаю.
– Я наставник его друзей, а Гегу ждал.
– Где ждали?
– У себя в монастыре, каждый день его ждал, а когда он не появился, я спустился сам.
– Он, наверное, сегодня позвонит. Передать ему что-нибудь?
– На чем они уехали?
– На самолете.
– Уже улетели?
– Да, уже в воздухе. – Нателла инстинктивно посмотрела на настенные часы. – Уже почти целый час.
– Остальные тоже с ними улетели?
– Да, ребята тоже полетели.
– И мне следовало лететь, опоздал…
– А они знали, что вы тоже полетите?
– Нет. Я и сам не знал.
– Простите, но я вас не понимаю…
– Я их духовный наставник и сейчас должен был быть вместе с ними в том самолете.
– А вы не можете к ним присоединиться позже?
– Я не знал, что они улетают сегодня.
– Но вы хотели полететь вместе с ними?
– Я вообще не хотел лететь. И не хотел, чтобы они летели.
– Простите еще раз, но я вас совсем не понимаю.
– А я не понимаю, почему они так поторопились…
Женщина ничего не сказала монаху, хотя так и не поняла, что хотел сказать этот человек. Она только сейчас обратила внимание, что столько времени общается с гостем через окно, а на дворе прохладно.
– Заходите в дом, – пригласила Нателла.
Монах улыбнулся.
– Спасибо, но я пойду. Поздно. Все уже поздно…
– Что передать Геге, когда он позвонит?
– Откуда?
– Из Батуми, – сказала Нателла, почувствовав раздражение.
– Если позвонит, передайте, что я молюсь за них и всегда буду за них молиться…
Монах повернулся. Потом оглянулся, попрощался и ушел.
Нателла только сейчас задумалась над тем, почему монах постучал в окно, а не в дверь, и, не найдя объяснения, стала вспоминать его слова. Она никак не могла собраться с мыслями и поэтому перезвонила нескольким друзьям Геги. Может, они что-нибудь знают? Позвонила домой тем, кто полетел с Гегой и Тиной, но всюду получила одинаковый ответ – из Батуми пока еще никто не звонил. Это могло значить только то, что самолет все еще в воздухе.
А потом Нателла крепко заснула. Она очень устала. Сон был глубоким, и она спала до самого вечера. Спала до тех пор, пока ее не разбудили…
Самолет
Это назвали угоном, но на самом деле это было больше похоже на самоубийство отчаявшихся людей.
Похитители были одеты совершенно обычно – так, как тогда одевались молодые люди «поколения джинс», и только у Гии Табидзе из-под костюма виднелся галстук, а в руках он держал глобус. В руках Гия держал еще и Библию, которую уже потом, в самолете, отдал Геге Кобахидзе. А глобус потом пропал, но родилась версия, что оружие в самолет пронесли как раз в том глобусе. Хотя это и не было правдой: в действительности оружие пронесла в сумке подруга Тины Петвиашвили, но сама она об этом не знала.
Гия Табидзе увозил с родины только грузинскую Библию и глобус, а жене он оставил удивительное письмо для сына, в котором учил маленького Гиорги находить ту звездочку, которая напомнила бы ему об отце.
Вначале рейс задержался из-за непогоды, потом один из пассажиров, по фамилии Галогре, так напился, что пришлось вызывать милицию.
А попытка угона запоздала из-за того, что Каха Ивериели не умел пользоваться оружием. Когда до Батуми, по официальной версии, оставалось совсем немного, пилоты получили информацию о резком ухудшении погодных условий, и самолет изменил курс. По одной из версий, именно это показалось угонщикам подозрительным, и они начали действовать. Хотя по той же официальной версии, по данным «черного ящика», инструкции пилотам передавали не диспетчеры с земли, а какие-то вояки, что указывает на предыдущую версию.
В самолете находилось пятьдесят восемь пассажиров, но среди них был один, у которого не было в Батуми никаких дел, хотя он летел вместе со всеми остальными как раз в Батуми. Его делом, так же как и делом других сотрудников КГБ, сопровождавших другие рейсы, как раз и было просто сидеть в самолете. Во всем советском авиапространстве не было ни одного рейса и ни одного самолета, который бы не сопровождал хотя бы один сотрудник КГБ, летевший как обычный пассажир. Это знал любой советский гражданин. Об этом знали и друзья Геги, которые летели вместе с Тиной и Гегой в свадебное путешествие. Их истинной целью был угон этого самолета, и они были уверены, что, прежде всего надо вычислить того кагебешника, который сопровождал их самолет. Они считали, что для того, чтобы легче было заставить экипаж пересечь турецкую границу и посадить самолет на одной из американских военных баз, обязательно надо вначале устранить кагебешника. Правда, они не знали, кто из пятидесяти восьми пассажиров был сотрудником КГБ, и все их версии оставались только предположениями. Их решение больше всего напоминало детскую игру, в которой малыши ищут и находят шпионов по одежде. Именно по этому принципу они и решили, что сидевший в первом ряду мужчина средних лет в синем плаще и есть тот самый кагебешник, который сопровождает этот рейс от Комитета госбезопасности. Правда, Гега все же спросил – может, это не он, но у большинства заговорщиков было иное мнение. Вначале кто-то один привел «незыблемый» аргумент, а потом его повторили и остальные:
– Точно он, по роже видно!
– Да, похож, но, может, все-таки просто пассажир? – высказал особое мнение Гега, но безрезультатно.
– Если это не он, найди другого и покажи мне, а мы уже за ним присмотрим, – посоветовал Геге старший из братьев, переглянулся с младшим и от души расхохотался.
– И где же я должен его искать? – теперь уже откровенно удивился Гега.
– Здесь, в самолете, – сказал Гиорги, но без улыбки.
Геге стало ясно, что выбор уже сделан.
Младший из братьев опередил старшего: он встал и пошел в сторону передней части салона с бутылкой шампанского в руках, по пути вылил оставшуюся в бутылке жидкость. Когда он приблизился к первому ряду, то совершенно неожиданно для всех ударил выбранного пассажира бутылкой по голове. Так началась попытка угона.
Лишь намного позже, когда все уже закончилось, выяснилось, что угонщики ошиблись и тот мужчина среднего возраста, который от удара бутылкой сразу же лишился чувств, был обыкновенным пассажиром, а не сотрудником КГБ. Допустивший эту ошибку Паата Ивериели сам же и перевязывал потом пострадавшего Соломония. Но это уже не имело значения – потеряв сознание, пассажир с разбитой головой лежал в своем кресле, а сидящая рядом женщина громко, на весь самолет, кричала от изумления и ужаса.
Удивительно, но поднявшийся шум и крик не помешали угонщикам. По-видимому, как раз этого они ожидали, энергично приступив к осуществлению своего плана.
Как только младший брат с бутылкой шампанского в руке поднялся, остальные сразу же заняли свои места. Первым, кто с оружием в руках оказался в кабине пилотов, был Гиорги, за ним следовал и старший из братьев – Кахабер. Но Гиорги не успел сказать экипажу ни слова о требованиях угонщиков – тут же, при входе в кабину, он был убит на месте каким-то вооруженным человеком, неожиданно, без предупреждения выстрелившим в него. Этот человек в гражданской одежде сидел лицом к входу и спиной к небу, его оружие было нацелено на дверь, и сам факт его присутствия в кабине пилотов оказался полной неожиданностью для угонщиков. Они изучили план того маленького самолета, который собирались угнать, но в последний момент самолет заменили. Решив, что если кто-то выдал их КГБ или если их намерения уже стали иным путем известны советской власти, то это покажется еще более подозрительным, угонщики не стали менять свои планы.
В кабине того маленького самолета, кроме пилотов, никто бы не поместился. Тем более там невозможно было устроиться незаметно, а этого вооруженного человека, даже уже войдя в кабину пилотов, ни Гиорги, ни Кахабер увидеть не смогли.
Гиорги был мертв, и у угонщиков уже не оставалось времени думать о допущенных ошибках. Стало понятно, что сейчас вообще было не время размышлять – тот человек уже стрелял из кабины пилотов прямо по салону. В салоне, под выстрелами, сидели, пригнувшись, более пятидесяти человек, среди них были и угонщики, но откуда знать пуле, кто из людей в салоне виновен, а кто нет? Думать об этом, по-видимому, не было времени и у того странного человека. Он ранил Каху и еще одного пассажира. Стюардесса, возможно чисто инстинктивно, попыталась закрыть дверь в кабину пилотов, хотя из-за первой жертвы, недвижно лежащей в проходе, сделать это было нелегко. А может, закрывая дверь, стюардесса хотела помешать угонщикам проникнуть к пилотам. (Позже Гасоян, открывший огонь из кабины пилотов, захлопнул эту дверь перед носом той самой стюардессы, которая помогла ему сдвинуть труп Гии Табидзе.) Несмотря на всеобщую панику и такое трагически неудачное начало, угонщики все же попытались довести задуманное до конца. Впрочем, им теперь уже и не оставалось ничего другого.
Остальные были вооружены, а стоявший в проходе между креслами Гега держал лимонку. Граната была не настоящей, но о том, что это имитация, знал только Гиорги, а он был убит.
Гега угрожал взорвать гранату, если экипаж не повернет самолет в сторону Турции. Но с земли уже был получен приказ ни в коем случае не выполнять требований угонщиков. Пытаясь дезорганизовать угон, пилоты сымитировали падение самолета. И это тоже было совершенно лишним, ведь угонщики и так уже действовали хаотично. Больше всего это искусственное падение навредило все тем же ни в чем не повинным пассажирам. Снижение было вертикальным и настолько неожиданным, что пассажиры просто повыпадали из кресел. Раздались испуганные крики, крики боли, но страшнее всего было то, что пилоты повторили этот маневр несколько раз подряд.
Впрочем, когда наступило относительное спокойствие, угонщики вновь повторили свои требования, и даже в более категоричной форме, чем раньше, – происходящее превратило их в обреченных шахидов. Чтобы выиграть время и хотя бы ненадолго их успокоить, пилоты вынуждены были лгать. Они говорили Сосо, что топливо рассчитано только до Батуми и самолет просто не дотянет до любого из турецких аэропортов. Конечно, и ему, и всем остальным это показалось подозрительным, но угонщики вынуждены были поверить. Теперь они собирались пополнить запас топлива в аэропорту Сухуми. Сухуми был ближе всего к Батуми, и это был лучший выход в той ситуации, но у пилотов был приказ вернуться в Тбилиси. В тбилисском аэропорту угонщиков уже ждала вооруженная воинская часть, база которой находилась там же, в столице. Пилоты совершили воздушный маневр для того, чтобы угонщики поверили, что самолет действительно взял курс на Сухуми, но и это было лишним, ведь никто из них не разбирался в воздушных маршрутах. Они так и не узнали, действительно ли по обеим сторонам их самолет сопровождают военные самолеты – на тот случай, если они все же свернут в сторону Турции. Если такой эскорт действительно появился в небе над Батуми, то в первую оередь для того, чтобы повлиять на пилотов. Те должны были в точности выполнить полученный из Тбилиси приказ, в противном случае близ турецкой границы их бы просто сбили.
Угонщики догадались об истинном маршруте лишь тогда, когда показалась земля, определились контуры и самолет пошел на посадку. Вот тогда Дато и решил, что все кончено, что оправдываться нет ни смысла, ни желания. И Дато покончил с собой. Как только убедился, что самолет приземлился в аэропорту Тбилиси.
Дато покончил жизнь самоубийством, и звук этого выстрела нарушил временно установившуюся в салоне тишину: сидевшие поблизости инстинктивно начали кричать, но никто из них не мог даже представить себе весь тот ужас, который ждал их впереди.
Как только самолет остановился, его окружили несколько десятков военных, вооруженных автоматами. Без какого-либо предупреждения или ультиматума они открыли огонь по самолету, в котором находилось более пятидесяти пассажиров.
Даже сейчас неизвестно, кто отдал приказ, из-за которого пролилось столько крови – и это тогда, когда пассажиры уже считали себя почти спасенными. Представить, что случилось после того, как несколько десятков советских солдат расстреляли самолет автоматными очередями, очень трудно.
Когда наконец этот ад прекратился, в самолете раздавались лишь стоны раненых, от шока и удивления оставшиеся невредимыми просто оцепенели.
Сосо молчал потому, что был ранен в горло и не мог говорить, но он прекрасно видел, как после посадки самолета стюардессы открыли люки и взглядом попросили у него разрешения выйти, на что Сосо кивнул, давая согласие. Они думали, что это был единственный путь к спасению, но как только девушки спустились, по ним открыли огонь. Ирина Химич, случайно оставшаяся в живых, оказалась настолько порядочным человеком, что ее так и не смогли заставить изменить показания. И она рассказала о том, что видела и в чем убедилась лично: советские солдаты стреляли не только в любого человека – пассажира или члена экипажа, – выпрыгивающего из самолета, но и в тех, кто еще оставался в салоне.
В надежде прервать расстрел угонщики призывали пассажиров класть безоружные руки на иллюминаторы. Но в результате, как выяснилось потом, пассажиры получили пулевые ранения в пальцы рук.
Самым бодрым после посадки самолета в тбилисском аэропорту оказался Паата, который пытался подбодрить и остальных. Возможно, на него повлияло то, что раненый брат нуждался в помощи и умолял застрелить его.
Как только спецназ начал штурм самолета, об этом же попросил Паату и Сосо Церетели. Паата и сам был ранен, но всего лишь в ногу и, по-видимому, довольно легко, раз у него все же была возможность и силы столько двигаться.
Судя по показаниям, Паате Ивериели ногу перевязали сами пассажиры, а одна пожилая женщина даже оторвала подол своего платья, чтобы наложить ему жгут. Так или иначе, но фактом остается то, что больше всех по самолету почти до самого конца передвигался Паата, и он же больше всех кричал, особенно тогда, когда в пассажиров стреляли снаружи. «Мы знаем, что нас убивают за свободу, но вы тут при чем…»
Паата Ивериели не только кричал, он громко всех ругал и вел себя в самолете довольно агрессивно. В своих показаниях он объяснил такое поведение тем, что, если бы пассажиры не испугались угонщиков, то расквитались бы с Паатой и его друзьями еще до появления спецназа. Агрессивность нужна была Паате и для воздействия на власть – надо было убедить всех в том, что угонщики были настоящими бандитами, а не студентами-романтиками. Позднее именно поэтому он вполголоса советовался с оставшимися пассажирами о том, как лучше поступить и есть ли у них шанс остаться в живых, если они сдадутся властям.
Возможно, в отличие от остальных, Паата все же думал, что еще не все кончено, что следует потребовать топливо, освободить самолет от погибших и раненых и лететь в Турцию. Они так и поступили, и как только представители властей приблизились к изрешеченному самолету и начались переговоры, угонщики предъявили им ультиматум. Но со стороны властей переговоры были лишь уловкой, средством потянуть время. Конечно, они даже и не думали выполнять эти требования. Властям надо было выиграть время – из России должно было успеть прибыть спецподразделение, обычно проводившее операции против вооруженных террористов. И до тех пор и вели переговоры, теперь пытаясь использовать и родителей угонщиков.
Родителей даже привезли в аэропорт, но потом почему-то передумали и решили, что эта сбившаяся с пути истинного молодежь скорее послушается Первого секретаря ЦК, чем собственных родителей. Первый секретарь «по-отечески» призвал их сложить оружие и сдаться властям.
По одной из распространенных версий, именно это обращение и оказалось судьбоносным для Сосо. Он, стоя в открытых дверях самолета, собрал последние силы и в ответ выматерил Первого секретаря ЦК. Говорят, что именно из-за этого оскорбления уже потом, когда все закончилось, к раненому Сосо не подпустили ни одного врача – за несколько часов он истек кровью и скончался. Сосо Церетели говорил: «Как только попаду в Америку, зайду в белой чохе к Рейгану и расскажу ему обо всем, что здесь творится, обо всем…»
А пока в самолете истекали кровью другие. Несмотря на категорическое требование угонщиков, «скорые» раненых не вывозили. Угонщики видели в этом демонстрацию бездушия и искренне удивлялись, почему советские власти не жалеют своих невинных граждан.
Расчет властей был точен и жесток, но он был другим – власти полагали, что чем больше в самолете будет раненых, тем лучше: стоны, паника и агония помешают угонщикам мыслить логично.
Но несмотря на то что операция по штурму началась лишь через двенадцать часов после посадки, угонщикам все равно было не до размышлений и логики. Несложно представить, что творилось в самолете на протяжении этих двенадцати часов, но некоторые все же пытались успокаивать остальных, кто-то, возможно с согласия угонщиков, даже сумел выпрыгнуть из самолета. Угонщики позволили покинуть самолет двум подругам Тины и предложили Геге и Тине выйти из игры, хотя это уже была не игра. Однако атрибут игры в самолете действительно присутствовал, хотя позже, в суде, он так и не был упомянут – один из угонщиков был вооружен нунчаку. Грузинские коммунисты справедливо решили, что эта деталь свидетельствует о наивности угонщиков.
Власти Советской Грузии планировали вызвать всеобщее отвращение к угонщикам самолета, пробудить в обществе агрессивные настроения и отвращение, а у нунчаку был такой детский имидж, что это могло снизить планируемый накал отщественного негодования. Уже на судебном процессе для того, чтобы вызвать отвращение к угонщикам, даже было сказано, что они, якобы, искали среди пассажирок женщин с детьми, чтобы, отрезав малышам уши, съесть их на глазах у матерей. Сейчас это звучит наивно, но на переговоры с властями угонщики посылали пассажиров. Когда те не возвращались, угонщики все же верили, что это недоразумение, и посылали все новых и новых парламентеров…
Гия Табидзе
Хотя, быть может, и не верили. Просто у них не было другого выхода. Они выпустили из самолета одного из братьев и пригрозили, что в случае невозвращения они убьют второго, оставшегося в самолете. Но, так и не дождавшись возвращения этого пассажира, угонщики все же вынуждены были поверить в обман.
Единственным, кто вел переговоры с угонщиками – конечно, только для того, чтобы выиграть время, – был сотрудник аэропорта, или какого другого ведомства, который говорил им вещи смехотворные, но угонщики все же верили ему. Верили, например, что Турция отказалась принимать этот самолет, хотя согласился Иран, правда, для этого необходимо пополнить топливные баки. Угонщики же соглашались лететь только в Израиль, а техперсонал должен был подняться в самолет для заливки топлива в одних трусах.
Власти, по многим причинам, затягивали переговоры, все это время шел дождь, а на крыше самолета, ожидая приказ начать штурм, лежали прибывшие из России бойцы спецподразделения. Их беспокоили холод и сырость, они нетерпеливо ждали приказа начальства начать операцию, но приказ задерживался. Он поступил только после того, как в открытом люке самолета появилась Тинико с лимонкой в руках, и начальство решило, что именно эта женщина с гранатой в руке и есть реальная опасность. Хотя до этого и другие угонщики, поодиночке или все вместе, уже делали то же самое.
Понятно и то, что потом, после завершения операции, когда все уже было кончено, никто так и не вспомнил этого момента – Тина с лимонкой в руках стоит у входа в самолет. Может, в надежде поскорей прекратить этот ад, Тина просто вообразила эту сцену – для того, чтобы все это закончилось, Тинико, потеряв терпение, попросила у Геги лимонку.
– Она не настоящая, – сказал Гега, но улыбнуться не смог, у него уже не было сил улыбаться.
– Знаю, – ответила Тина, поцеловала Гегу, взяла у него лимонку и двинулась в сторону открытой двери.
Операция завершилась через семь минут после начала штурма: вначале в самолет пустили какой-то газ, а потом просто выволокли наружу и угонщиков, и пассажиров.
Когда арестованных вели по тому зданию аэропорта, где находились представители власти и генералы КГБ, один из высокопоставленных чинов пнул Сосо ногой.
Сосо упал. Так, чтобы это видел Первый Секретарь, чинуша пнул его еще раз: он был уверен, что как раз сейчас ему выпал прекрасный шанс выслужиться и угодить Шеварднадзе, и не хотел его упускать.
В Тбилиси все еще шел дождь, стояла поздняя осень, и в столице Грузии уже знали, что грузинские студенты не смогли угнать самолет…
Свидание
Тбилиси и Грузия разделились. Некоторых это искренне возмутило. Никто точно не знал деталей, и власти при помощи прессы и телевидения срочно начали формировать желаемое общественное мнение. Уже тогда в Грузии были сильны антисоветские настроения, и часть населения защищала и даже оправдывала угонщиков. Поэтому полностью контролировавшее масс-медиа правительство решило создать им имидж монстров и бандитов еще до того, как началось следствие. Кроме телеагитации, власти прибегли и к испытанному большевистскому способу, давно уже ставшему привычным, – повсеместно проводились собрания, на которых трудящиеся осуждали угонщиков и принимали резолюции с требованием сурово покарать бандитов и предателей. Именно это и было главной целью – ответственным за предстоящий кровавый приговор должен был стать сам народ, а не правительство. Тогда еще никто даже не представлял, до какой степени суровым по отношению к молодым людям может оказаться советский суд, хотя часть общества уже знала, что советская власть никого не щадит, и угонщиков, в назидание другим, ждет суровая кара.
Конечно, для этого вовсе не надо было собирать неопровержимые улики – главным для советского суда было решение правительства, а не факты и аргументы, но над некоторыми вопросами подумать все же пришлось. Например, в ЦК долго думали, кого объявить главарем террористической банды и на кого возложить эту ответственность. Рассматривалось несколько вариантов, среди них и были родители угонщиков, но, в конце концов, сделали оптимальный для властей выбор. Через две недели после неудачной попытки угона самолета по обвинению в руководстве бандой арестовали монаха Тевдоре. Его даже не было на борту того злосчастного самолета, но для следствия и для властей это было не важно. Главным для правительства Грузии было то, что на суде предводителем банды назовут монаха, духовное лицо. Так грузинской молодежи и обществу в целом продемонстрируют, чем заканчивается интерес к вопросам религии.
Со дня неудачной попытки угона монах Тевдоре в одиночестве горячо молился за погибших в самолете. Молился он и за спасшихся, и когда вопрос о его аресте был решен, он не стал скрываться и так, в молитве преклонив колени, встретил в убеленном снегом монастыре сотрудников милиции и КГБ.
– Вы арестованы! – сказали монаху, который при этих словах лишь улыбнулся.
Один из сотрудников КГБ решил, что эта улыбка оскорбительна для советской власти и так, чтобы слышали остальные, грубо одернул монаха.
– Чего ржешь?!
Отец Тевдоре ничего не ответил молодому и чересчур усердному кагебешнику, он лишь протянул правую руку в сторону кельи:
– Там у меня книги и личные вещи, я их возьму.
– Тебе они не понадобятся, – ответил теперь уже другой сотрудник.
Когда его выводили с монастырского двора, монах вспомнил Дато, вернее, тот день, когда в последний раз видел друга, покончившего с собой и сейчас больше других нуждавшегося в его молитвах…
Монаха, который знал, что нельзя выдавать тайну исповеди, сразу отвезли на допрос прямо в тюрьму КГБ, но комната, в которой его ждал следователь, располагалась очень низко и далеко. Поэтому отца Тевдоре так долго вели по подземному коридору, что, войдя в комнату, монах уже почувствовал усталость. Подумал он и о том, что человек, сразу предложивший ему присесть, следователем не является. Первая его фраза тоже не походила на допрос.
– Наверное, сильнее, чем других, эти выродки обидели все же тебя…
– Простите, но я вас не понимаю.
– И я не понимаю, как можно было отстранить от дела главаря.
– Я не был их главарем, я их духовный наставник…
– Какая разница, духовный наставник, или личный священник, главарем банды все назвали тебя…
– Удивительно.
– А меня, думаешь, не удивляет, что главаря от дела отстранили?
– Простите, но я вас действительно не понимаю.
– Говорю же, я не понимаю, что это за понты – кинуть главаря. Человек старался, подготовил все на отлично, а как дошло до дела, эти выродки решили лететь без тебя…
– Я никуда и не собирался лететь.
– Какое это имеет значение, они должны были хотя бы сказать. В конце концов, главарем и мозгом банды был ты.
– Я монах.
– И я о том же, вот ты монах, а кинули тебя, как ребенка. Вот хотя бы за это ты и должен строго с них спросить…
– Не знаю, о чем это вы.
– О том, что должен потребовать ответа с них, брат. А то выглядит, что они и по-мужски и по-всякому перед тобой прокололись.
– Я же уже сказал: я никуда не собирался. Они это хорошо знали, почему же должны были говорить, когда и куда собирались?…
– Когда идешь на расстрельное дело, надо же хотя бы субординацию соблюдать!
– Чей расстрел вы имеете в виду?
– Всех, кого следует расстрелять.
– Они же никого не убили.
– Половину самолета прикончили, столько невинных людей погибло…
– Но они же никого не убили.
– А тех людей кто убил? Я что-ли?
– Я этого не говорил. Но вы наверняка знаете, что в пассажиров стреляли не они.
– Что ты за монах такой? Людей на серьезное дело послал, так надо было хотя бы спросить, что они сделали.
– Я никого никуда не посылал, я был категорически против, я и сейчас против любого насилия…
– Угон самолета у тебя в монастыре планировали, у нас много подтверждающих документов.
– Немыслимо.
– Мы тоже считали немыслимым, чтобы вы такое планировали, причем в монастыре. Может, ты еще скажешь, что они к тебе и не приходили вовсе?
– Я и не пытаюсь отрицать, они действительно часто приходили ко мне в монастырь…
– Ну и зачем они приходили так далеко, разве в Тбилиси мало церквей?…
– По воле Господа и в Тбилиси много храмов, но им нужен был духовный наставник, так же как и любому из нас…
– Наставник – это тот, кто планирует угон самолета?
– Наставник – это человек, который помогает другим в поисках истины.
– Хорошую же истину ты помог им найти. Наверное, перед расстрелом только тебя и будут вспоминать…
– Они же не убивали пассажиров! Не было еще ни суда, ни приговора, а вы…
– Приговор они сами себе уже вынесли. Знаешь когда? Когда поднимались по трапу самолета, уже тогда.
– Меня в том самолете вообще не было.
– Какое это имеет значение? Ты их наставил и отпустил, а они тебя кинули и даже не сказали, когда летят.
– Я не собирался лететь.
– Это лишь отягощает твою вину. Значит, сам ты не хотел, но других послал на бойню.
– Я никого никуда не посылал.
– Не знаю, все на тебя указывают, как на главаря банды.
– Не верю.
– Мы тоже не верили, что монах может планировать угон самолета, но вот ты же здесь!
– Вы хотите обвинить меня в предводительстве бандой?
– Мы хотим, чтобы монах признал, какое вредное влияние может оказать церковь на молодежь. Мы не собираемся терять нашу молодежь…
– Но если мы их все равно потеряем, если их судьба уже решена, и их все равно расстреляют, зачем же мое признание?
– А дело в том, ты вот кажешься человеком умным, мог бы и сам сообразить: если все на себя возьмешь, их могут и не расстрелять. Тебе сколько лет?
– Сегодня исполнилось тридцать три…
Неожиданно следователь встал, и, что было еще более неожиданным для заключенного, расцеловал отца Тевдоре и поздравил его с днем рождения:
– Разве так не лучше? Подумай, брат, подумай, не маленький уже…
Монах тоже встал и тот же конвоир, который час назад привел его в эту адскую комнату, отвел монаха в камеру.
В Москве все же не доверяли грузинским следователям и направили в Тбилиси специальную комиссию изучить дело угонщиков. В Кремле полагали, что грузинские коммунисты могут пожалеть грузинских студентов, и дело будет вестись не объективно. Но в Москве ошибались – они не знали, что грузинские власти вынесут угонщикам самолета даже более суровый приговор, чем этого хотели в Москве. Ведь это лучший способ доказать Кремлю насколько верноподданной являлась Грузия.
Русские ошибались, они все же послали в Тбилиси специальную следственную комиссию, а тогда любая комиссия, приехавшая из Москвы, в Грузии приобретала сразу статус высших лиц. И грузины встречали их так, как это любили русские. А русские любили грузинскую кухню, грузинское вино и грузинский коньяк, и грузинские хозяева не желали осрамиться. И не осрамились, по их меркам. Грузия испокон века славилась своим гостеприимством, тем более сейчас ничего не пожалели для высоких гостей. И пока русские были способны держаться на ногах, грузины поили их и поили, а потом, когда гости валились с ног, хозяева укладывали спать уставших членов специальной комиссии.
Поэтому не стоит удивляться тому, что однажды Гега обнаружил на столе у следователя несколько бутылок боржоми. Гегу удивило, что теперь его допрашивали двое: один прежний, уже знакомый, следователь-грузин и один новый, русский, у которого голова настолько отяжелела с похмелья, что было сомнительно, что ему мог помочь боржоми. Русские очень любили боржоми, как и все грузинское, и этот русский тоже одну за другой опустошал бутылки с газированной водой и прилежно похрустывал кислыми огурцами. Следователь-грузин, улыбаясь, по-дружески предложил боржоми и Геге, а когда тот отказался, предложил перейти прямо к делу.
– Да, слушаю, – сказал Гега, которому, конечно, процесс допроса не доставлял удовольствия, но когда его водили на допрос, он радовался: каждый раз Гега надеялся увидеть если не Тину, то кого-нибудь другого из своих друзей, пусть даже случайно столкнувшись где-нибудь в коридоре.
Следствие продолжалось девять месяцев, и на протяжении этих девяти месяцев угонщиков самолета почти каждый день водили на допросы, но никто из них ни разу, конечно, так и не встретился с другими, как об этом мечтал Гега.
Было всего лишь одно исключение, единственный случай, и как раз в то день, когда в комнате для допросов Гегу вместо одного, поджидало двое следователей. До того как его завели в комнату, так же как это делал по уставу любой конвоир, у Геги потребовали встать лицом к стене. Геге не надо было даже напоминать – он уже столько раз ходил на допрос, что, перед тем как войти в комнату следователя, инстинктивно заложил руки за спину и встал ближе к стене, повернувшись к ней лицом.
И неожиданно на этой стене, чуть выше головы, он увидел текст той английской песни, которую чаще всего слушали Гега и Тина, когда еще были вместе. На стене по-английски было написано всего два слова из той песни – «wish you».
Гега не помнил, были ли эти слова из названия песни, или это был ее рефрен, но он точно помнил, что эта фраза действительно из той самой песни. Она была спешно написана на стене такими маленькими буквами, что Гега принял единственное возможное решение. Решение было простым – если автором надписи действительно была Тина, то Гега должен был приписать к этой фразе конец, там же, на стене, а потом ждать ответ. От радости Гега разволновался. В тот день он даже не понимал, о чем с ним беседуют, он думал лишь о том, как украсть лежавшую на столе следователя ручку, которая была нужна ему, как никогда.
Гега сидел в комнате следователя, но его мысли все еще оставались у той стены в коридоре, и в первый раз после ареста он ощутил счастье или что-то похожее на счастье.
Даже следователь-грузин заметил это странное волнение подследственного и удивленно сказал Геге:
– Сегодня ты выглядишь каким-то радостным.
– Радостным?
– Ну, если и не радостным, то хотя бы довольным.
– И чем это я должен быть доволен?
– Вот и я удивляюсь.
– Наверное, вам показалось.
– Нам никогда ничего не кажется. Это тебе показалось, что в том самолете снимают кино, а ты там – в главной роли с лимонкой в руках…
– Я уже сказал, что искренне сожалею о случившемся, а граната была ненастоящей…
– Что, вы столько народу игрушечным оружием уложили?
– Мы никого не убивали.
– Они, выходит, все покончили самоубийством?
– Самоубийством покончил только Дато.
– Мы уже об этом беседовали, и, думаю, ты должен был кое о чем подумать.
– О чем?
– Ты должен был решить, кто был главарем вашей банды.
– Не было у нас главаря, я это сразу сказал.
– У всех бандитских группировок есть главари.
– У нас не было.
– Понимаю, тебе не хочется быть предателем, но для суда ты обязательно должен кого-нибудь назвать.
– Кого назвать?
– Главаря. Двое из вас мертвы, ты можешь назвать одного из них.
– Но это же ложь!
– Мертвые не узнают.
– Но я же буду знать, что это ложь. Не было у нас главаря.
– А кем же был тот монах?
– Монахом.
– Монахом или главарем банды?
– Если бы он был главарем, то сидел бы в том самолете.
– Да, это у вас плохо получилось, по-дружески говорю. Человек во всем вам помог, а вы его кинули. Кинуть главаря… Такого я еще не слышал.
– Монах ничего не знал.
– Это ты можешь ему сказать, – следователь-грузин имел в виду следователя-русского, хотя пальцем на него и не указал, – но зачем так говорить со мной? Я же с тобой по-дружески, вот и ты должен меня понять. Так не бывает, брат: человек вас наставил, а потом даже не сел в самолет. Почему за это только вы должны отвечать?!
– Монах ни о чем не знал, – повторил Гега, но так равнодушно, что стало ясно, что ему все равно, верит ли ему этот молодой грузинский следователь.
Душа и мысли Геги снова были у той стены, около входной двери, где были написаны два английских слова.
– Я для тебя говорю, подумай, – еще раз напутствовал заключенного молодой следователь и встал с места.
Заключенный очень обрадовался тому, что сегодняшний допрос закончился так быстро, потому что единственная ручка, которая могла связать Гегу и Тину, была уже у Геги.
Выходя из комнаты следователя, когда конвоир снова приказал повернуться лицом к стене, Гега успел спрятанной в рукаве ручкой приписать под текстом, там, где ему мерещился знак Тины, два слова – «were here…».
Возвращаясь в камеру в сопровождении охранника, Гега шел по длинному коридору и думал о том дне, когда его опять вызовут на допрос. Он хотел снова увидеть надпись на стене, надеялся, что появилось новое слово, если та фраза действительно была написана Тиной.
В ту ночь Гега был счастлив, вернее, он был в ожидании большого счастья и не мог заснуть, как и раньше, но теперь уже от радостного ожидания.
Уже на рассвете, когда он решил не думать о Тине и попытаться уснуть, он вспомнил своего следователя, но от этого стало лишь хуже – он никак не мог понять, почему ему заменили следователя, и, вообще, как могли доверить серьезное дело такому молодому и неопытному следователю. Может, это сделали специально? Чтобы следователь, почти ровесник заключенного, легче нашел с Гегой общий язык и быстрей его расколол? Но Геге нечего было сказать следователю – все действительно случилось именно так, как случилось. В ту ночь Гега думал и о том, что, возможно, в советской империи все действительно очень плохо работает, в том числе и следствие. Заснул он лишь на рассвете…
Братья
Фамилия у них была измененная, но произошло это по ошибке, в действительности грузины испокон века были Ибериели, а не Ивериели. Виной этой подмены стали новогреческий и русский языки. Но с делом это не связано. Больше всего среди заключенных страдал Паата, который вообще не отвечал на вопросы следователя, а если и отвечал, то парой слов, и очень общо. Паата чудом спасся от смерти: когда его вели по трапу, сотрудники КГБ открыли огонь, и спасла его скорость спецназовцев. Одетые в бронежилеты бойцы собственными телами прикрыли Пату – для них это было делом престижа, ведь они вели уже арестованного бандита в наручниках.
Паата Ивериели и в камере часто думал о том смертном приговоре, который власти, без суда и следствия, вынесли ему еще в аэропорту, а он попросту спасся от расстрела прямо на трапе самолета. Паата подозревал, что его хотели убить потому, что приняли за Каху – единственного оставшегося в живых из тех, кто с оружием в руках вошел в кабину пилотов и кто может знать нежелательную для властей правду. Думал Паата и о том, что обозленные кагебешники могли пытаться убить его там же, на трапе, ведь выпущенные из самолета пассажиры именно его описали как самого активного злоумышленника. Могла существовать и иная причина, но факт оставался фактом – уже в арестованного, безоружного Пату Ивериели, когда его выводили по трапу из самолета, стреляло несколько человек.
Если бы Паата точно знал, что его убивали из-за брата, может, он не переживал бы из-за тех пуль – братья безумно любили друг друга. Они даже отложили срок угона самолета и вообще бегства из Советского Союза на один год, потому что старший – Каха Ивериели, – категорически отказался покидать Союз без младшего, Пааты.
В отличие от Геги, с самого начала Паату допрашивал немолодой, опытный и известный следователь. Кто знает, в который уже раз он записывал совершенно ничего не значившие ответы.
Но в тот день, когда у Пааты совершенно неожиданно начались боли в животе, на допросе его встретил совсем другой, молодой следователь, который с очень доброжелательной улыбкой обратился к Паате и даже предложил ему сигарету.
Паата молча прикурил, молчание нарушил сам следователь.
– Мы из одного района.
– Я вас не помню.
– И не можешь помнить, вы с братом в Москве учились, а я во Владивостоке.
– Может, мы вместе в детсад ходили, – широко улыбнулся Паата.
– Мы из одного района, действительно могли в один и тот же садик ходить, я помню, в моей группе были какие-то братья.
– Я в садик не ходил, не любил суп с луком.
– А твой брат?
– Он тоже не ходил, пюре не любил.
– Я его видел, но про пюре он не говорил.
– И часто видите моего брата?
– Когда хочу. Если по делу нужно.
– Как он?
– Для арестанта неплохо: я на него обычно обращаю больше внимания. Ведь мы из одного района, ты же понимаешь.
– Он тоже в этом здании?
– Говорю же, с ним все в порядке.
В действительности Паата сам не знал, в каком здании находился, но подозревал, что до суда его поместили в тюрьму КГБ вместе с другими политзаключенными, а это здание находилось на проспекте Руставели, за старой почтой. Снаружи ничего не было заметно: при коммунистах камеры располагались не в здании, а в подземных лабиринтах.
Соседнее здание почты-телеграфа красивым фасадом выходило прямо на проспект, и когда Паата проходил мимо, он всегда останавливался у стены, на которой все еще были видны следы пуль: несмотря на то, что после 9 марта 1956 года прошло уже столько лет. Именно здесь расстреляли безоружных грузинских студентов.
– Когда ты его еще увидишь? – спросил Паата следователя, хотя и не надеялся на правдивый ответ.
– Хочешь что-нибудь передать?
– А передашь?
– Что хочешь, то и передам.
– Скажи, что со мной все в порядке, больше ничего.
– Ничего?
– Ничего.
– Не стесняйся, если хочешь что-нибудь сказать, я передам. Все скажу, что поручишь.
– Больше ничего, я же сказал.
– Если хочешь что-нибудь сказать брату до суда, или предупредить… Ну ты понимаешь, о чем я. По-дружески советую, брат.
– Передай то, что я сказал, больше ничего.
– Смотрите, чтобы так не получилось, что на суде один скажет одно, другой – другое. Для вас же лучше, сам понимаешь.
– Что нового может сказать кто-то на суде? О том, что было, и так все знают, а больше ничего и не было.
– Все так думали, но сейчас выяснилось, что вашим главарем был какой-то монах…
– Какой монах?
– Отец Тевдоре.
– Кто это выдумал?
– Он сам признал.
– Под пыткой?
– Тебе не стыдно? И какой смысл в пытках? Нам скажет, а на суде потом откажется. Нас так не устраивает.
– И как же он мог признаться, его даже в самолете не было и он ничего не знал?
– Нас это тоже удивляет, сильно удивляет. А знаешь, что еще меня удивляет? Я это уже по-дружески тебе говорю. Вот как это он сам остался в монастыре, а вас послал на бойню?
– Он ничего про самолет не знал.
– Потому что вы ему не сказали.
– А если б и сказали, он все равно был бы против.
– Не знаю, не знаю. Теперь он совсем другое говорит.
– Что говорит?
– Говорит, что был организатором. Кто ж такое дело напрасно на себя брать будет?
– Врет.
– Почему?
– Хочет нас спасти.
– Значит, он действительно был организатором.
– Монах с нашим делом не связан, и в самолете его вообще не было.
– Он-то говорит, что сам все запланировал, но…
– Что «но»?
– Если бы кто-нибудь, хотя бы один, подтвердил это на суде…
– Не найдете вы такого – этот монах вообще был против угона самолета.
– Ты же говорил, что он ничего не знал…
– Я тебе потому это говорю, что мы из одного района, и я хочу вам помочь. Я же хочу спокойно ходить по нашему району, дети у меня там растут…
– Монах ни при чем, и я ничем не могу вам помочь.
– Себе помоги, нам помогать никто тебя и не просит.
– Я пойду.
– Иди и подумай, я – тут, если надо, помогу. Близкие мы, это мой долг… Если что понадобится, не стесняйся.
– А что может мне понадобиться?
– Не знаю, мы же мужчины: печали, боль, тысячи забот. Я иногда так устаю, что трудно что-нибудь не принять – работа, дом, нервотрепки, тысячи проблем. Про меня никто не скажет, что я наркоман, но иногда без этого не получается.
– Мне не нужно.
– Знаю, но врач сказал, что у тебя какие-то боли. Вот и я подумал, что могу что-нибудь тебе достать вместо болеутоляющего.
– Ничего мне не надо.
– Как хочешь. Я тебе, как друг, предложил.
– Не нужно.
Паата привстал, улыбнулся, и следователь позвал конвоира. Когда его выводили из комнаты, следователь еще что-то говорил, но Паата его не слушал, он думал о мучавшей его боли. Какие-то странные боли начались у него сразу после вчерашнего обеда – если то, чем их кормили, можно было называть обедом. Но Паата думал о другом. Он думал о том, откуда мог знать о его болях следователь, если сам Паата никому ничего не говорил.
Вернувшись в камеру, он решил потребовать доктора, у которого, конечно же, не оказалось болеутоляющего, тем более от этой боли…
Когда Геге сказали, что его снова ведут на допрос, он готовился с такой радостью, что удивил охранника. По коридору он шел очень быстро, даже получил от конвоира несколько замечаний. Но сейчас Гега думал только о стене у входа в комнату следователя, где ожидал найти ответ Тины, и когда ему велели там остановиться, сердце Геги забилось так же часто, как и тогда, на их первом свидании.
Рядом с написанными им несколько дней назад двумя английскими словами, теперь мелкими буквами, но вполне разборчиво было уже приписано начало той строфы из «Витязя в тигровой шкуре», которую однажды прочла ему Тина, – «В башне я». И Гега в ответ спешно приписал продолжение «сижу высокой».
И хотя они были узниками не в высокой крепости, а в подземельях КГБ, сейчас для Геги это не имело значения. Ни сейчас, ни потом, неизвестно на котором по счету допросе, он вообще не слушал уже не раз сменившихся следователей. На этот раз это был уже пожилой. Точнее, он не мог их слушать. Гега думал о той ночи, когда на море Тина достала с полки хозяев «Витязя в тигровой шкуре».
Они лежали очень близко от окна, откуда было видно море, а луна была такой большой и светлой, что им даже не пришлось зажигать свет, чтобы читать книгу.
Это была идея Тины:
– Я закрою глаза, открою наугад «Витязя» и прочту то, что сразу попадется на глаза. А потом и ты закрой глаза, положи руку и прочти.
И в комнате следователя Гега точно вспомнил, что тогда Тине сразу же попалась именно эта строфа: «В башне я сижу высокой…».
Но следователь никак не мог понять, почему у заключенного, которого ожидал самый страшный, смертный приговор, такое счастливое выражение лица. Не знал он и того, что в жизни Геги это был самый счастливый день – в этот день Гега убедился, что Тина жива, что с ней все в порядке и, главное, она не одна. Их было двое: Тина и еще не родившийся малыш, который вместе с Тиной жил в тбилисской тюрьме КГБ. Гега не знал точно, в какой камере жили его жена и еще не родившийся ребенок, но главным для него было то, что они живы. И в комнате следователя он думал только о том, чтобы поскорее закончился допрос и когда его снова поставят у той стены, он успел бы написать еще два слова: «наш ребенок», «привет малышу» или «береги ребенка»…
Сосо Церетели, Дато Микаберидзе, Гия Табидзе
Думал Гега и о том, как ласкала Тина еще не родившегося ребенка, как трогала прекрасными пальцами свой живот, где уже жил новый человек…
А следователь решил, что раз арестант в таком хорошем настроении, то лучшего момента для того, чтобы сказать главное, не следует и ждать. У следователя в действительности и не было никаких желаний, но было задание, которое надо было выполнить, поэтому он прямо сказал Геге:
– На суде вы должны подтвердить, что угоном самолета руководил тот монах.
– Почему?
– Потому что он и был организатором угона.
– Я уже объяснил следствию, что это абсурд: не может человек руководить тем, категорическим противником чего был и остался.
– Следствие и так все знает. То, что он был организатором, уже доказано фактами и подтверждено твердыми аргументами. И монах утверждает, что сам всем руководил.
– А что вы тогда от меня хотите?
– Для суда важно, чтобы кто-нибудь из вас подтвердил это.
– Почему я? Я его вообще не знал.
– Для нас это не имеет значения. Главное, чтобы кто-нибудь из вас подтвердил, что именно монах был организатором, а вам это сделать легче всего.
– Почему мне?
– Потому что ваша жена ждет ребенка, а по советским законам нельзя сажать беременных женщин.
– Никогда закон не соблюдали. Что ж теперь о нем вспомнили?
– Мы всегда соблюдаем закон, и сейчас тоже.
– Значит, мою жену освободят?
– Террористов мы не освобождаем!
– Что вы хотите сказать?
– Я, по-моему, все ясно сказал. Но вы и сами должны понимать, что судьба вашего будущего ребенка зависит как раз от того, какие вы дадите показания в суде…
– Если я не скажу того, что вы хотите, что тогда будет?
– Ничего, сынок, воля твоя, я по-отечески советую подтвердить, что тот монах был организатором и…
– А если не подтвержу, что произойдет?
– Сказал же уже, ничего не произойдет. И так докажут, что тот монах был главарем вашей бандитской группировки, но твои показания были бы для нас дополнительной помощью.
– А если я вам не помогу?
– Тогда и мы тебе не поможем. То, что в тюрьме беременной женщине нужен особый уход, думаю, ты и сам понимать должен.
– Но с ними же все в порядке?
– Пока да, но вы же знаете, какие условия в тюрьме. Каждую минуту может случиться что-нибудь такое, что…
– Что моя жена может потерять ребенка?
– Я этого не говорил, но вы должны знать, что террористку, угонщицу самолета, из тюрьмы никто не выпустит.
– Но ребенок же ни в чем не виноват, он еще даже не родился!
– Вот я тебе и говорю, сынок: их судьба и будущее зависят от тебя.
– Если у моей жены и ребенка все будет хорошо, я скажу все, что понадобится следствию и суду.
– Ты сообразительный парень, и почему из-за этого подонка монаха должны погибнуть столько людей?!
Обрадованный следователь сказал еще несколько фраз, но Гега не слушал, сейчас он думал только о той стене, на которой должен был успеть написать два слова. Он успел, и написал не два, а три слова:
«береги нашего малыша…»
Но, вернувшись в камеру, он размышлял уже о следователе, которому даст именно те показания, которые от него требовали, и этим спасет своего ребенка. Сейчас для него главным было рождение маленького человека, который должен был родиться до суда. Потом Гега сказал бы правду, во время суда он рассказал бы все, только правду, иначе поступить он не мог. Он не мог подтвердить того, что от него требовали, – ведь это была ложь, и монах не был виновен, он даже не сидел в самолете. Поэтому Гега сказал бы только правду, но – после того как с громким криком в одной из камер тбилисской тюрьмы КГБ появится на свет его ребенок. Он родится, как рождаются все малыши, когда их легкие впервые наполняются воздухом, и они еще не знают, что это всего лишь первая боль.
Гега тоже не знал, что те, кто выносил приговор, были гораздо более жестокими, чем он мог себе представить. Впрочем, представить, каким окажется этот первый приговор, никто не мог, даже в той жестокой стране…
Приговор
Первый приговор вынесли еще до суда и в ту же ночь привели в исполнение – всего через несколько дней после того, как убедились, что Гега не сможет дать на суде нужных показаний.
Намного важнее, чем показания Геги, для них была проблема беременной Тины. Осуждение беременной женщины вызвало бы в обществе волну сострадания, а допустить сочувствие к угонщикам самолета советская власть, естественно, не могла. В ЦК подумали и о том, что если ребенок родится до суда, это создаст властям новую проблему. Поэтому решение приняли быстро и в ту же ночь привели в исполнение первый, страшный, приговор.
Тину будить не стали. Им было все равно, проснется ли беременная заключенная, ей и так должны были сделать укол снотворного. Поэтому когда Тина проснулась, люди в белых халатах, не обращая внимания на ее вопрошающие, полные ужаса глаза, быстро, хладнокровно, холодными руками сделали заключенной укол в вену. Тина сразу догадалась, что они сейчас здесь, чтобы свершить то зло, мысль о котором уже не раз приходила ей в голову. Но каждый раз она укоряла себя за то, что плохо думает о людях.
Но они не были людьми. Это были обыкновенные хладнокровные убийцы, сердца и души которых совершенно не трогали обреченные крики Тины и мольба не убивать младенца, который пока даже не успел родиться. Тина боролась до конца, до последней секунды, пока не потеряла сознание. Пока она еще могла, Тина умоляла каждого из тех, кто в ту ночь был в ее камере, и всех их вместе не убивать ее ребенка. Но лекарство, которое ей вкололи, как только вошли в камеру, было сильнодействующим препаратом. Убийцы несколько раз даже удивленно переглянулись, не понимая, как может эта молодая женщина сопротивляться так долго. В конце концов глаза Тины все же закрылись. Обессилевшая и побежденная, она уснула и уже ничего не видела, не чувствовала, как из ее тела извлекали плод, которому было уже несколько месяцев.
Единственное, что связывало ее с этим миром, была слеза, вернее, слезы, текущие по лицу, Тина плакала, спала глубоким сном и все же плакала…
Наверное, во всем мире не было заключенного, которого бы так радовал вызов на допрос, как Гегу. Гега обнаружил, что он ходит на свидания: он шел на допрос, как на свидание, и та стена, на которой он обычно читал Тинины слова, была для него самым дорогим местом на земле.
Но в тот день на стене не оказалось новых слов, и Гега подумал, что Тину не приводили на допрос, или что она просто не успела написать ни одного слова, и в тот день он оставил на стене для Тины только вопрос – «как малыш?».
Но и через несколько дней, когда Гегу снова вызвали на допрос и до того, как ввести в комнату следователя, поставили лицом к стене, на которой он рассчитывал увидеть ответ, от Тины ничего не было.
Гега опять подумал, что этому могло быть много причин, в том числе и самая простая – например, теперь Тину водят на допрос в другую комнату, и поэтому она не отвечает мужу на нацарапанные на стене письма. Но все же Гега почувствовал странную слабость в коленях, виски у него повлажнели.
Когда его ввели в комнату следователя, Гега попросил воды и стал думать о том, как узнать, что же произошло в действительности, но так ничего и не смог придумать. Тогда он решил прямо спросить о Тине у следователя. Он не верил в искренность этого пожилого человека, но и ничего не терял.
Гега выпил воду, постарался успокоиться и довольно спокойно спросил следователя о том, что его интересовало больше всего на свете:
– Как Тина?
– С вашей женой все хорошо.
– Вы и ее следователь?
– Вашу жену допрашивают мои коллеги.
– А откуда вы знаете, что с ней все в порядке?
– Говорю то, что знаю.
– У вас есть дети?
– У меня хорошие дети.
– В отличие от нас? Вы когда-нибудь писали письма любимой?
– Кажется, здесь я задаю вопросы.
– Рано или поздно и вам придется ответить.
– Ты это мне говоришь?
– Вам всем.
– Угрожаешь?
– Не я, но другие обязательно призовут к ответу.
– За что?
– За все.
– Сначала вы будете держать ответ за то, что сделали. Пожертвовали жизнью стольких человек, и не считает себя виновными.
– Я никого не убивал, но все же считаю себя виновным.
– И в чем это выражается?
– Я же говорил, что скажу все, что надо, если с моей женой и ребенком все будет хорошо. Показания против того монаха я уже дал.
– А я уже говорил, что угонщицу, террористку, даже если она беременна, никто не выпустит.
– Я этого и не просил. Я потому согласился дать нужные вам показания, чтобы родился мой ребенок, чтобы хотя бы он остался, если меня приговорят к расстрелу.
– Не бойся, к расстрелу не приговорят. Если ты все признаешь, расстрела не бойся.
– Я не боюсь ни расстрела, ни смерти.
– А чего ты боишься?
– Я боюсь за своего ребенка, боюсь, чтобы его не убили…
– Он еще не родился, как же его можно убить?
– Но он же родится, а рожденному в тюрьме нужен особый уход и забота.
– Ну, ты же понимаешь, что тюремные условия не лучшие для беременной женщины.
– Но вы же обещали, и я дал показания. Написал все, что вы хотели.
– Очень хорошо, что написал.
– А если я на суде изменю показания?
– Для суда это не имеет значения. Главное – те показания, которые ты уже дал следствию. По советским законам это так.
– Как?
– Сначала надо было выучить законы, а потом уже угонять самолет…
– А мой ребенок?
– Я же объяснил, что террористку, даже беременную, домой отпустить не можем.
– Но она же может родить тут, в тюрьме.
– Может, но…
– Но что?
– Но я же сказал и уже несколько раз повторил, что тюрьма – не место для беременных. Я нее в любой момент может случиться выкидыш. Если твоя жена хотела родить ребенка, она должна была остаться дома…
Следователь еще что-то говорил Геге, но Гега уже не слушал. Сильным ударом кулака он свалил пожилого на пол, и, не давая подняться, прыгнул сверху, обеими руками обхватил его горло, пытаясь задушить этого человека:
– Твою мать! Ты же обещал позаботиться о ребенке! Всех вас! Убийцы!..
Позже, в камере, когда Гега открыл глаза и утер кровь, он так и не смог вспомнить или понять, откуда так быстро появились в комнате следователя те, кто избивал Гегу, сначала кулаками, а потом уже ногами, и били до тех пор, пока Гега не потерял сознание.
Когда он пришел в себя в залитой кровью камере, он почувствовал во рту вкус собственной крови и попытался сплюнуть, но это оказалось совсем не просто, впрочем, как и пошевелиться. У Геги болело все – болело все тело, и он помнил фразу следователя:
– Не по лицу, бейте ниже!
Гега помнил и то, что его очень удивила активность этого следователя, который хрипел и еле дышал всего лишь на несколько минут раньше.
Но это была лишь абсурдная секунда, неожиданная идея-фикс. Единственное, о чем действительно мечтал Гега, – чтобы весь этот ужас поскорей закончился. Но этот ужас продолжался до тех пор, пока они не устали – те, кому просто доставляло удовольствие избивать заключенного…
После того дня Гегу на допросы не водили по одной простой причине – до суда им уже не нужны были его показания. Гега с нетерпением ждал судебного процесса, где он должен будет увидеть Тину, он и ждал, и боялся этой встречи. Боялся той правды, которую мог узнать, – увидеть, что Тина уже не беременна. Ведь пока он окончательно не убедится, надежда еще была, маленькая, но все же надежда.
Суда он ждал и по другой причине – он увидел бы мать, о которой ничего не знал со дня угона. Если бы сумел, он бы объяснил ей все, сказал бы, что не собирался ее бросать, что он уезжал и думал, что потом заберет из этой страшной страны и мать.
Еще он хотел увидеть друзей, которые сидели вместе с ним в самолете, и о которых он ничего не знал со дня ареста.
Думал он и о тех друзьях, которых не было самолете. Он подозревал, что их тоже изводят допросами, и был прав.
На допросы вызывали и других, но больше всех следствие заинтересовал Иракли Чарквиани, который был близким другом Геги и должен был больше других знать об угоне самолета. Прибывший из Москвы следователь сначала думал, что Гега не предложил Иракли лететь вместе с ними потому, что дед Иракли, Кандид Чарквиани, – бывший секретарь ЦК. Но после первого же допроса понял, что причина была совсем в другом: этот странный парень с самого начала удивил русского следователя тем, что отвечал на вопросы только по-грузински.
На допросах Иракли был очень спокоен, и сотрудник грузинского КГБ переводил его ответы русскому следователю. Грузинский кагебешник был искренне удивлен, что внук Кандида Чарквиани не владеет русским языком, но русский следователь сразу же догадался, что Иракли Чарквиани прекрасно владел не только русским языком, в отличие от переводчика, но и другими языками.
Догадался русский следователь и о том, что, беседуя с этим странным юношей, он говорил с новым поколением грузин, которые, в отличие от своих родителей, не стали послушными, не стали конформистами и примиренцами. Поэтому русского следователя не удивили явно антисоветские интонации в ответах Ираклии: наоборот, они лишь подстегнули его желание установить, почему Иракли Чарквиани не летел в том самолете. Допрашивая ближайшего друга Геги, он прямо спросил его о том, что интересовало его больше всего:
– Почему вам не предложили лететь вместе с ними?
– Кто?
– Хотя бы Гега, он же был вашим ближайшим другом?
– Почему был, он и сейчас мой ближайший друг.
– Простите, нехорошо получилось. Надеюсь, вы не подумаете ничего такого, чего я не хотел сказать.
– А что вы хотели сказать?
– А то, что я действительно не понимаю, почему Гега вам ничего не сказал? Он же вас хорошо знал. Простите, хорошо знает.
– Потому ничего и не сказал, что хорошо меня знает.
– Хотите, чтобы я поверил, что вам так нравится Советский Союз, что вы его не предадите?
– Кажется, за время беседы с вами я ни разу не высказывал симпатии к советской власти… Но я и не диссидент и не хочу им быть.
– Меня интересует, по какому принципу подбирались угонщики, и почему среди них не оказалось вас, ближайшего друга Геги.
– Я же уже сказал – Гега знал, что я откажусь.
– Почему вам не хотелось улететь?
– Улететь я хотел всегда, и сейчас хочу, и я обязательно улечу, но не на самолете.
Русский следователь какое-то время молчал, обдумывая ответ Иракли, но так и не догадался, что же хотел сказать этот молодой грузин. Поэтому последний вопрос он задал Иракли только для того, чтобы прервать неловкое молчание:
– А если не сможете улететь?
– Тогда переплыву море.
– Что переплывете?
– Море.
– Как?
– С песней.
– Шутите?
– Не шучу.
– В протокол допроса так и записать?
– Да.
– И все же как записать?
– Дословно.
– А все же?
– Я переплыву море…
В тот день у вернувшегося с допроса Иракли Чарквиани впервые возникло подозрение, что Гегу и остальных угонщиков, наверное, приговорят к расстрелу. И он поделился своим подозрением с друзьями – теми, кто был и друзьями Геги.
Не только друзья Геги, но и весь Тбилиси, да что там Тбилиси, вся Грузия, думала, что к смерти угонщиков не приговорят.
Мотивация была вполне логичной – угонщики не были убийцами, поэтому со стороны властей расстрел стал бы чрезмерной жестокостью. И друзья тоже встретили предположение Иракли с недоверием, но сам Иракли хотел больше знать о будущем приговоре, и он воспользовался советским прошлым своей семьи. Узнал, кто будет судьей, которому предстоит на будущем процессе вынести приговор, и нашел его сына. Сына судьи он встретил около университета, после лекций, и прямо спросил о том, что хотел узнать. Тот пообещал все разузнать, конечно, если получится. «Но я сомневаюсь», – все же сказал он Иракли на прощание.
В тот же вечер сын спросил отца, правда ли, что он будет судьей на процессе угонщиков. А в ответ услышал очень строго и даже агрессивно заданный вопрос:
– Кто тебе сказал?
– Сказали.
– Кто?
– Какое это имеет значение?
– Огромное!
– А все же?
– Это почти государственная тайна, и до самого процесса никто не должен знать, кто будет судьей.
– Какое государство, такая же и тайна. Все уже знают, что тебя собираются назначить судьей.
– Кто тебе сказал?
– Какая разница, в университете сказали… Об этом все уже знают.
– Университет всегда был антисоветским гнездом.
– Значит, в гнезде уже знают.
– Эта тема не кажется мне подходящей для шуток.
– А я и не шучу, меня серьезно интересует то, что случится.
– Что значит, что случится?
– Что случится на судебном процессе.
– Я не обязан отвечать, да и не хочу, тем более что заранее никто не знает, что случится на судебном процессе.
– Я не о деталях спрашиваю, меня интересует приговор.
– Приговора тоже никто заранее не знает, и на этот вопрос тебе никто не ответит.
– Ты можешь дать простой ответ на простой вопрос?
– Какой?
– Скажи да или нет.
– Что тебя интересует?
– Их приговорят к расстрелу или нет?
– Не знаю, но за угон самолета бандитов и террористов осудят так, как они того заслуживают.
– Это расстрел?
– Справедливо.
– Значит, расстреляют?
– Я же сказал, что не знаю…
Сын понял, что отец ничего ему не скажет. Понял и то, что приговор угонщикам самолета вынесут на суде, если уже не вынесли.
Как только сын вышел из комнаты, отец-судья набрал телефонный номер:
– Здравствуйте, батоно Владимир. Да, это я, когда вы сможете соединить меня с Первым?… Да, срочно… Да, подожду.
Судья повесил трубку, но не сдвинулся с места и не сводил глаз с аппарата. Он ждал телефонного звонка и лишь указательным пальцем отер со лба каплю пота.
Как только телефонный звонок раздался, судья снял трубку и тут же встал.
– Слушаю, здравствуйте…
Прокашлялся и продолжил:
– Хотел доложить, что информация о моем назначении уже просочилась. Откуда знаю? Сына подослали узнать приговор, будет расстрел или нет… Что я ответил? То, чему нас всегда учили вы и партия… Что советские законы гуманные, но что любой преступник должен нести ответ за свое преступление и что предателей родины, государство покарает так, как они того заслуживают… Алло, алло…
Судья долго еще стоял с прижатой к уху черной трубкой, хотя его уже не слушали.
Судью, конечно, заменили.
Эка-Ука
Книга – это одно, а кино – другое. В действительности монаха Тевдоре арестовали у него дома.
На рассвете 2 февраля 1984 года начался обыск, и, пока он продолжался, отец и дочь, обнявшись, сидели рядом, потом отец попрощался с дочерью так, что Эка не испугалась. Монах Тевдоре встал так смело, что надеть на него наручники не решились, и лишь последовали за самым свободным человеком.
Через несколько дней после ареста монаха к нему в дом опять пришли с обыском. В доме была только Эка, которая удивленно смотрела на каких-то мужчин, которые тщательно обыскивали дом. Она не испугалась, Эка просто никак не могла догадаться, что еще могут искать эти неулыбчивые люди. Несмотря на то что она пока еще была маленькой, Эка не боялась, ведь ее уже не называли Эка-Ука, как тогда, когда она была совсем крохой и ее водил гулять Сосо Церетели. Эка любила друзей отца, но отец-хиппи был для нее настоящим чудом – единственный монах на земле, который носил джинсы и которого она безумно любила.
А в тот день она неподвижно стояла и ждала ухода непрошеных гостей, Эка вспомнила отцовскую шапку с надписью «one way». Она, наверное, так бы и стояла, не двигаясь, если бы один из этих людей не открыл тот шкаф, в котором Эка прятала стихи отца. Эти стихи отец писал специально для нее, когда Эка была младше – была еще такой маленькой, что перед сном просила рассказывать сказки. И отец рассказывал своей дочке перед сном какую-нибудь сказку, но иногда Эка просила почитать ей стихи, и отец сочинял стихи, сочинял, пока Эка не подросла. А когда Эка выросла, научилась писать и пошла в школу, она крупно, тщательно и аккуратно записала стихи отца как раз в ту большую тетрадь, которую сейчас открыл этот человек. Потом он закрыл тетрадь, снова ее открыл и обратился с вопросом к начальству:
– А с этим что делать?
– Что это?
– Стихи.
– Чьи?
– Не знаю.
– Прочти и догадаешься. Хотя нет, ты не догадаешься, забери!
Тот человек все же заглянул в тетрадь, даже собрался прочесть, но вдруг его сильно укусили в запястье, и он выронил тетрадь. Маленькая Эка быстро подняла упавшую на пол тетрадь, прижала к груди, попятилась к стене.
Тот человек вначале удивленно посмотрел на свою укушенную руку, а потом на Эку.
– Твой террорист-отец! – процедил сквозь зубы и двинулся в сторону ребенка, но начальник сразу догадался, что отбирать тетрадь у Эки нельзя. Он остановил подчиненного и спокойно спросил:
– Там только стихи?
– Не знаю, я видел только стихи, наверное, она написала.
– Догадался по содержанию?
– Содержания я не знаю, а вот почерк похож на детский.
– Закончили? – крикнул начальник остальным.
Не дожидаясь ответа, он взмахом руки позвал их и вышел из дома. Все последовали за ним.
Эка быстро подошла к окну, откинула занавеску и выглянула. Чужие люди садились в машину, и она еще немного постояла у окна. Когда машина свернула за угол, Эка окончательно убедилась, что непрошеные гости уехали. Теперь Эка открыла тот ящик, где лежала другая, нотная тетрадь. Откуда было знать непрошеным гостям, что монах, в доме которого искали оружие, сочинял музыку. Эка-Ука запоминала ее, а потом записывала нотами то, что запоминала на слух.
Она завернула вместе эту нотную тетрадь и стихи, перевязала пакет, взяла лопату и вышла на задний двор. Вначале девочка огляделась по сторонам и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, стала копать землю. Яма, которую она выкопала, была небольшой, но в ней вполне уместились и музыка, и поэзия.
Советская власть оказалась более жестокой, чем о ней думали, а пропаганда настолько неправдоподобной, что после ареста отца рядом с Экой за парту никто не садился. Она одна, как дочь врага, сидела на школьной парте и старалась не озлобиться. После вынесения судебного приговора четырнадцатилетняя девочка написала письмо Первому секретарю ЦК с просьбой помиловать отца. Но когда поняла, что никогда не получит ответ, начала искать его сама. Она искала его всюду, где только мог, как она думала, находиться ее осужденный на смерть отец, о котором говорили, что его все же не расстреляли, что его, абсолютно невиновного, держат где-то в Сибири, на Урале или на Дальнем Востоке.
Современным грузинским тинэйджерам, наверное, трудно поверить, что их ровесница на протяжении нескольких лет искала любимого отца в отдаленных лагерях одна-одинешенька, ведь и ее мать тоже была заключенной, хотя Эка и не знала, за что.
Не только молодым грузинам, даже людям старшего поколения, и не только теперь, сложно поверить в то, что смогла сделать Эка Чихладзе. Но для тех, кто любит, нет ничего невозможного. Она очень сильно любила отца, без которого ее жизнь вообще теряла всякий смысл, и в том письме она так и написала.
Каха Ивериели, Паата Ивериели
В письме было также написано, что Эка не знает, почему расстались ее родители, но знает, как они познакомились во дворе Старой киностудии.
Тогда монах Тевдоре еще был Темуром Чихладзе – очень образованным зеленоглазым парнем, который нравился девушкам, но Темур Чихладзе полюбил именно ее – ту девушку, которая после свадьбы подарила ему Эку-Уку.
Темур Чихладзе снимался в грузинском художественном фильме, который назывался «Смерть филателиста», съемки проходили в Сарпе. В трехстах метрах начиналась Турция, но, если какой-либо живший в Сарпе лаз хотел навестить близких родственников в соседней деревне, он должен был проехать тысячи километров. Вначале надо было, после многомесячных проверок, поехать в Москву, а потом, если ему разрешат ехать в Турцию, то из Москвы добраться до Стамбула, и уже оттуда, по черноморскому побережью – до того самого дома, который прекрасно виден с его собственного балкона. Но каждый лаз, с первых дней рождения в Советском Союзе, отлично знал, что путь рядовым советским гражданам в капиталистическую Турцию заказан – поэтому они лишь махали в знак приветствия своим родственникам и соседям, которые остались по ту сторону границы.
Как только Теймураз Чихладзе приехал в Сарп, он нашел самого опытного из рыбаков и вскоре подружился с человеком, обычно выходившим на лодке в море по ночам, когда ярко светила луна, а море было спокойным.
Съемки растянулись, даже советские пограничники привыкли к поселившимся в деревне «киношникам». В ту ночь, когда Темур Чихладзе взял у своего нового друга лодку, они ничего не заподозрили. Они и не могли ничего заподозрить, ведь все было таким обычным и давно знакомым, а эта лодка почти каждую ночь выходила в море, и сами пограничники нередко с удовольствием лакомились черноморской барабулькой.
Больше всех удивлен, наверное, был сам Теймураз, который вначале греб неспешно, спокойно, и был готов в любую минуту с леской в руке встретить любого советского пограничника, который мог заподозрить, что на этой маленькой рыбацкой лодке Темур Чихладзе собрается бежать из Советского Союза.
Лодка медленно скользила по волнам, и когда до рассвета оставалось уже совсем немного, Темур Чихладзе понял, что надо решать – или действительно бежать, или вернуться к красавице-любимой.
Никто не знал, как далеко отпустили бы советские пограничники красивого зеленоглазого юношу, который все же вернулся обратно – на берегу его ждала будущая мать Эки-Уки.
Уже потом, через много лет, когда суд вынес монаху Тевдоре Чихладзе смертный приговор, он обратился к советской власти Грузии с последней просьбой: разрешить ему перед казнью свидание с единственной дочерью – Екатериной Чихладзе, и, хотя он и не был ни в чем виноват, ему отказали даже в предсмертной просьбе.
После ареста он так не увидел больше Эку-Уку.
А еще через много лет Эка Чихладзе написала книгу, посвятив ее своему отцу – человеку, который еще во времена ее детства предсказал распад Советского Союза и никогда ни от кого этого не скрывал.
Эка опубликовала уникальные, до того неизвестные материалы об угоне самолета из «Дела расстрелянных», где все детально описано. Ее предположение о том, что угонщиков выдали еще до угона, выглядит достаточно логичным и обоснованным. Факты свидетельствуют о том, что власти знали о возможном угоне, но допустили развитие событий до конца специально: им нужно было, чтобы состоялся судебный процесс.
Члены семей и близкие расстрелянных знают, кто был тем человеком, от которого власти могли получить информацию о готовящемся угоне, но никто не называет его по имени, как это принято в Грузии. Например тогда, когда подразумевают змею, обычно говорят «безымянная».
Накануне судебного процесса монаха в последний раз вызвали на допрос. На нем присутствовало несколько следователей и чиновников высокого ранга – они хотели точно знать, что скажет монах на суде и хотели окончательно убедиться в том, что все пройдет именно так, как и было задумано. Поэтому когда монах снова подтвердил, что ради спасения остальных возьмет все на себя, довольные следователи посмотрели на начальство. Один из них на всякий случай все же прокашлялся и обратился к монаху:
– Вы должны быть готовы ко всему.
– Я готов.
– Кажется, вы меня плохо поняли.
– Я готов на все, чтобы их спасти.
– На все?
– Да, на все, мне уже тридцать три.
– Мы здесь не для того, чтобы обсуждать ваш возраст. Нас интересуют несколько деталей, и мы хотим их уточнить.
– Я вас слушаю.
– На суде вы призна́ете, что руководили бандитской группировкой, которая хотела угнать самолет?
– На суде я признаю, что был и остаюсь духовным наставником тех, кто пытался угнать самолет. Поэтому основная ответственность на мне.
– Вы готовы подтвердить на суде свою роль как главаря и в том случае, если будете знать, что вас ждет самый суровый приговор?
– Я готов ко всему, если буду знать, что спасаю жизни других.
– Тогда я вам прямо скажу, что в таком случае вас могут приговорить к расстрелу. Вы не боитесь?
– Нет.
– Почему?
– Потому, что я – духовное лицо и меня охраняет моя церковь, а их от смерти защитить некому.
– Значит, вы потому берете на себя ответственность, что у вас все же остается надежда спастись?
– Нет, я этого не говорил: защитить и спасти меня не сможет никто, а спасти их могу только я, и только так.
– Насколько убедительным будет ваш поступок для общества?
– Какого общества?
– Для колеблющейся части нашего общества. Правда, на суде никто не будет стараться установить истину, но у наших противников все же могут возникнуть вопросы.
– Какие именно вопросы?
– Например, почему тот, кто все спланировал, то есть вы, не сел в самолет?
– Вот поэтому только я и заслуживаю расстрела. Поскольку я их обманул – послал на гибель других, подбил молодежь, а сам укрылся в монастыре.
– Эту фразу вы повторите и на суде?
– Если приговорят к расстрелу только меня и если такими показаниями я смогу спасти их жизни, я призна́ю все, что вы сочтете необходимым.
– Кажется, просчитали все детали, но все же как будто остаются какие-то вопросы.
– У меня тоже есть вопрос.
– Слушаю.
– Хочу знать, каким будет их приговор?
– Это зависит от вас. Ведь они могут и отрицать то, что вы руководили угоном самолета.
– Вероятно, так и будет.
– А как вы поступите в таком случае? Что скажете в суде?
– Скажу, что они не сказали мне точно, когда летят, и сели в другой самолет.
– Солжете?
– Я никогда не лгу и то, что говорю, все это правда.
– Об этом не волнуйтесь, нас меньше всего интересует правда. Главное, чтобы вы сказали то, что нужно для дела. Ложь ради интересов государства проступком не является.
– Но я действительно чувствую себя виновным, ведь я был их духовным наставником и должен понести ответственность.
– И об этом не беспокойтесь. Ответственность понести придется, и полностью.
– Я же сказал, что взамен на спасение их жизней готов ко всему.
– И мы уже сказали, что приговор зависит от ваших показаний.
– Я все скажу так, как вы хотите, но только они должны жить, они еще очень молоды и им еще надо жить…
В голосе монаха послышались подступившие к глазам, но сдерживаемые слезы, однако его последних слов никто не слышал – следователи уже выходили из комнаты, а когда из комнаты вышел и последний начальник, монах поднял голову.
– Надо возвращаться в камеру, – сказал охранник, и монах встал.
Когда они шли по длинному полутемному коридору, охранник тихо, как бы извиняясь, шепотом сказал монаху:
– Пока я прочел только половину, я медленно читаю…
– Это такая книга, ее надо читать не спеша.
– На той неделе верну.
– Можешь не возвращать.
– Она не нужна вам?
– Эта книга нужна всем.
– Значит, вам тоже нужна.
– У меня есть другая.
– Спасибо, батюшка.
– Господа благодари.
– Я вам тоже хочу что-то сказать.
– Говори.
– Таким радостным вы еще ни разу не выходили с допроса.
– Не радостным, а довольным. Радости здесь не существует.
– Вообще не существует?
– Настоящая радость не здесь.
– А где?
– В мире ином.
– Где?
– Когда дочитаешь эту книгу до конца, ты все поймешь.
– Я уже сейчас хочу кое-что понять.
– Что именно?
– Причину. Отчего вы так довольны?
– Скоро состоится суд, и все закончится.
– Так как вы хотите?
– Главное, что закончится…
Процесс
Это называлось судебным процессом, но настоящего суда, как и правосудия, не существовало. Существовал только процесс, который назначили через девять месяцев после начала следствия, и большинство свидетелей даже не были допрошены. По советским законам ограничений срока следствия вообще не существовало, поэтому было ясно, что власти очень спешат вынести приговор угонщикам самолета.
Судебный процесс начался первого августа, когда Тбилиси обычно покидали даже те, кому некуда было уезжать. В начале августа в Тбилиси стоит такая жара, что даже те, кто спасается от зноя на пригородных дачах, обычно устремляются в Западную Грузию, к морю.
Власти хотели, чтобы суд закончился быстро и без огласки, чтобы на процессе присутствовали только родители, а Тбилиси по возможности максимально обезлюдел, чтобы никто, словом или как-нибудь иначе, не опротестовал судебный процесс, который в действительности был лишь плохо поставленным спектаклем.
Большинство из находившихся в зале суда были сотрудниками КГБ, присутствовать на суде разрешили только родителям обвиняемых, и больше никому – в том числе и бывшим пассажирам того самолета. Из пассажиров отобрали только тех, кто, по их мнению, мог бы дать показания, полностью удовлетворяющие власти. Несмотря на это, ни один из свидетелей не мог указать на кого-либо из обвиняемых как на убийцу, и через несколько дней назначили дату вынесения приговора.
Ночью, накануне этого дня, в КГБ вызвали свидетеля, сын которого находился в заключении. Это был человек почтенного возраста, которого давно уже сломил не столько возраст, сколько печали, ведь его единственный сын уже не первый год отбывал наказание за автоаварию.
Он был напуган и так нервничал, что ему дали воды, но успокоить не смогли до тех пор, пока не сказали причину вызова в КГБ. Хотя то, что ему сказали, вероятно, было самым худшим, старик догадался об этом только на второй день, уже во время суда. А там, в комнате начальника, он лишь кивал людям в галстуках и, конечно, совсем не думал о том, как в такую жару могут не беспокоить этих людей галстуки, плотно охватившие их шеи.
Разговор со стариком начали издалека:
– Ваш сын уже пятый год в тюрьме.
– Да.
– Вам, наверное, трудно приходится.
– Да.
– Наверное, хотите, чтобы его поскорей выпустили.
– Да.
– Вы, наверное, знаете, что иногда некоторым заключенным сокращают срок и выпускают на волю?
– Да.
– Наверное, соскучились по сыну.
– Да.
– Наверно, знаете и то, что досрочно отпускают заключенных за примерное поведение?
– Да.
– Или их родителей.
– Да.
– Если их родители ведут себя примерно.
– Да.
– Вот вы, например, Вы можете помочь государству для того, чтобы ваш сын получил досрочное освобождение.
– Да.
– Надеюсь, вы хотите помочь сыну.
– Да.
– Но не знаете как.
– Да.
– Да – знаете или да – не знаете?
– Да.
– Что да?
Пожилой мужчина вначале выпил воды, потом попросил еще, выпил еще один стакан и только после этого произнес, наверное, самое длинное предложение:
– Моя жена писала заявления о помиловании, и сейчас все еще пишет. Все говорили, что это была вина погибшего, перебегал в таком месте, но…
– И ничего?
– Ничего. Пятый год сидит.
– Вот мы и говорим, что сейчас вы можете помочь сыну.
– Что вы говорите… У нас столько денег за это попросили, я бы дом продал, но не хватает…
– Ну, что вы. Сейчас разговор не о деньгах, а о помощи государству, а взамен государство помилует вашего сына.
– И чем же я могу помочь такому огромному государству, чтоб моего мальчика из тюрьмы выпустили? Что я такого могу, я человек простой…
– Как раз вы и можете, и как раз потому, что вы простой, трудящийся и порядочный человек. Ваши слова на завтрашнем суде будут иметь решающее значение.
– Что вы говорите? Что я должен сказать?
– То, что знаете, что тогда в том самолете видели, это и скажите.
– Да что я мог там видеть? Я все время на полу пролежал и…
– Что людей убили, видели?
– Погибших видел, конечно.
– Ну и?
– А потом мне стало плохо. С тех пор, считай, так в себя и не пришел, жена все по врачам таскает, но лучше пока так и не стало.
– Вот этим и поможете. Завтра на суде все это расскажете для того, чтобы виновных наказали по заслугам. А то почему ваш невиновный сын должен сидеть в тюрьме, а эти бандиты жить как герои?
– Я тоже все время думаю, что никто никогда не говорил плохо о моем сыне, и следователь все время говорил, что его вины не было…
– Вот ваш сын и вернется домой, а бандитов и террористов необходимо примерно наказать! А ваш сын должен вернуться к семье.
– Если вы это сделаете… А то он ни меня в живых уже не застанет, ни мать, извелись мы совсем в ожидании…
– Ну вот, если завтра ты и на суде про этих убийц так складно расскажешь, то и сын твой завтра-послезавтра уже дома будет.
– Отчего не рассказать, что и как оно было… Все подробно скажу.
– Лица тех, кто в людей стрелял, хорошо помнишь?
– Как я мог запомнить тех, кто снаружи стрелял?
– Про них забудь. Ты тех узнать должен, кто самолет угонял и людей загубил.
– А как мне их узнать? Я же на полу все время лежал.
– Узнать их несложно, все там перед тобой сидеть будут. Когда судья спросит, они ли это были, кивнешь и подтвердишь. Лица тех, кто самолет угонял, помнишь?
– Разве их забудешь?
– Вот они-то и людей поубивали, должны за это ответ понести.
– Ну, наверное, вам лучше знать, что это они убили…
– Следствие уже все установило. Но хорошо будет, если такой честный человек, как вы, который сидел в самолете, подтвердит выводы следствия. Этим вы и государству поможете, и своему сыну.
Тот начальник, который, похоже, был по чину старше других, проводил старика и довез его до дома тбилисских родственников на служебной машине с шофером.
– Завтра мы на вас надеемся, – уважительно попрощался начальник КГБ, крепко пожимая руку нужному свидетелю.
Последний день суда, день вынесения приговора, назначили на тринадцатое августа. В тот день в Тбилиси стояла поистине невыносимая жара. Власти хотели как можно скорее завершить процесс, несмотря на то что многие детали дела все еще были совершенно неясны.
В течение тех тринадцати дней обвиняемые взглядом в зале суда искали родителей и близких, Нателла все так же, взглядом спросила Гегу, не беспокоит ли того что-нибудь, – матери казалось, что у сына что-то болит. Гега таким же образом дал понять матери, что с ним все в порядке. Нателла была уверена, что в тюрьме что-то произошло, хотя ничего об этом не знала – но она была матерью, которая всегда чувствует сыновью боль. Гега знал, что мать переживает за ту боль, которая его действительно мучила, но с первого же дня суда он старался быть веселым и улыбаться как раз для того, чтобы эту боль скрыть. Гега был отличным актером и легко убедил присутствовавших в том, что на протяжении всего процесса был совершенно беззаботен. Точнее, он вел себя так, чтобы произвести впечатление беззаботного человека на всех, и в первую очередь на мать, но как раз ее он и не смог обмануть. В действительности Геге было сложно играть эту роль – Тина не была беременна. Он в первый же день увидел это, но еще оставалась крошечная надежда на то, что живота нет потому, что она уже стала матерью. В первый же день Гега долго прилежно вглядывался в живот Тины, и Тина догадалась, что он ждет от нее ответа. Она осторожно, совсем незаметно, отрицательно качнула головой, и Гега понял, что все кончено.
В суде, во время перерывов, на протяжении тех тринадцати дней до вынесения приговора Гега мог задать Тине прямой вопрос. Мог узнать, что произошло, когда и как, но он испугался той правды, которую мог услышать от жены. Суд закончился, но Гега так ничего и не спросил у Тины о своем ребенке. Он решил, что сейчас для него надежда важнее правды.
Последний день суда, день вынесения приговора, начался показаниями монаха, который обратился к судьям и ко всем присутствующим:
– Я был и остаюсь духовным наставником этих людей, поэтому вся ответственность за то, что они сделали, лежит на мне. Они еще очень молоды и могут исправить допущенные ошибки, еще могут принести пользу обществу и нашей стране, поэтому я прошу, проявите к ним милосердие. Подумайте о том, что уже достаточно жертв и смертей, которые последовали за их проступком, и если обязательно нужна смерть кого-то из виновных, то главный виновник – это я. Пусть мое наказание будет достаточным для спасения этих молодых людей…
Судья грубо прервал его речь, а кто-то из зала зло пошутил: «А если тебя не расстреляют, что сделаешь?» В действительности это не был вопрос, но отец Тевдоре смиренно ответил любознательному анониму:
– Дома у меня есть старая карта Грузии, на которой обозначены почти все деревни и церкви, я буду ходить по этим деревням и молиться.
Когда монах сел, в зале еще долго стояла гробовая тишина: он первым произнес на процессе слово «смерть». Эту тишину прервал судья, срочно вызвав того пожилого свидетеля, с которым душевно побеседовали прошлой ночью в здании КГБ.
Судья уважительно обратился к свидетелю и попросил рассказать все, что он помнил, и тот искренне начал:
– Плохое это было дело, очень плохое. Тогда я тоже лежал здесь, в Тбилиси, в больнице, а когда почувствовал себя немного лучше, поспешил домой. До сих пор сержусь на жену за то, что она уперлась, лети, мол, самолетом, в автобус не садись, так будет лучше для твоего здоровья, а то в моем возрасте не до самолетов. Я ей сказал, приеду поездом, там не так трясет, как в автобусе, а она – нет, самолетом лучше, может, к последним мандаринам успеешь, все уже собрали, а у нас и те погниют, что еще остались. Знаете же женщин, как вобьют себе в голову…
– Пожалуйста, говорите по делу.
– По делу скажу, все, что я здесь слышал, – правда. Вот этого священника я не помню, остальных в том самолете помню, их разве забудешь, там такое творилось, врагу не пожелаешь…
– Значит, вы подтверждаете, что эти обвиняемые именно те, кто пытался угнать самолет?
– Я же сказал, начальник, что этих в самолете хорошо помню, а вот священника не припоминаю.
– Значит, подтверждаете, что, кроме упомянутого вами обвиняемого, всех остальных сидящих на скамье подсудимых вы хорошо помните как террористов?
– Этих всех помню, а священника не припоминаю. Борода-то у одного их друга была, но его здесь нет, и еще… у того борода была светлая, а у этого черная, и он на того не похож, тот был другой…
– Я не спрашиваю о других, мы говорим о тех, кто сейчас перед вами, и о предъявленных им обвинениях. Вы подтверждаете, что именно эти террористы пытались угнать самолет, пассажиром которого вы были?
– Это были они, начальник, врать не буду.
– Подтверждаете, что за их попыткой вооруженного угона самолета последовали жертвы?
– Конечно, жертвы были, даже погибшие были, раненые и ушибленные, как начал самолет падать, людей так пораскидало, что…
– Вы можете конкретно указать, кто из обвиняемых был вооружен, и из какого именно оружия угонщики стреляли в пассажиров?
– Что у них было, я не знаю, начальник, я крестьянин, не разбираюсь в таком. Но когда мы сели, в нас солдаты стреляли, так у тех у всех автоматы были…
– Вы подтверждаете, что обвиняемые были вооружены?
– Эти? Конечно, разве без оружия угоняют самолеты…
– Конкретней. Вы можете сказать, за чьим конкретно выстрелом последовала смерть или телесное повреждение, то есть ранение, кого-либо из пассажиров?
– Как же сказать? Стрельбы было много, я все время на полу лежал и, пока стрельба не закончилась, головы не поднимал.
– А когда стрельба прекратилась и вы встали, наверное, увидели вооруженных людей, которые сейчас сидят перед вами.
– Я сел, но встать не смог – мне было очень плохо, и во рту так пересохло…
– Наверное, увидели кого-нибудь из них с оружием в руках?
– Да, начальник, вот этого видел, хорошо помню. Это был он, потому что я его по телевизору видел, а как то кино называлось, не помню…
– Оружие помните? Какое оружие было у террориста?
– Бомба у него была, начальник, в одной руке, но не такая, вот про войну, что в кино, нет, круглая была бомба, в одной руке…
– А во второй?
– Во второй? Сказать, начальник?
– Скажите, вы все должны рассказать. Все, что знаете и помните, вы здесь как раз для этого, рассказывайте.
– Не знаю, начальник, что говорить, как бы делу не навредить.
– Суду для выяснения дела важны все детали.
– Значит, сказать, начальник?
– Да, расскажите суду, что было во второй руке у этого обвиняемого?
– Стакан.
– Какой стакан?
– Обычный стакан, кому было плохо, так он им воду приносил.
От этого совершенно неожиданного ответа судья ненадолго растерялся и поэтому со следующим вопросом обратился к свидетелю со значительным опозданием:
– А потом?
– Потом он и мне принес воды, и я немного пришел в себя.
– А потом?
– Что потом, начальник, их смерть грехом будет…
У старика свидетеля вначале задрожал голос, по щеке скатилась слеза, а потом он, не сдерживаясь, громко разрыдался…
Судья объявил перерыв.
Финал
После перерыва старика свидетеля в зале, конечно, уже не было.
Несмотря ни на что, даже на то, что слово «смерть» уже второй раз прозвучало в тот день, жестокость приговора удивила не только обвиняемых и их родителей, но и присутствовавших в зале сотрудников КГБ. Приговор, который зачитал судья, был совершенно неожиданным для всех: Тину приговорили к четырнадцати годам заключения, всех остальных – к расстрелу.
Сразу после объявления приговора обвиняемых вывели из зала. Гега взглядом искал мать, а она видела лишь спину сына, которого куда-то вели. Она надеялась, что не на расстрел, ведь поверить в это было невозможно. Никто не хотел верить, что Гегу и его друзей расстреляют, еще оставался последний шанс на спасение – помилование, которое власть иногда даровала осужденным на смертную казнь.
Сейчас необходимо было письмо, подписанное самыми авторитетными людьми Грузии, обращение к властям с просьбой сохранить жизнь сбившимся с пути молодым людям. В письме, которое составили несколько человек, как раз так и было написано, но только их подписей было недостаточно, и по всей Грузии стали искать известных и авторитетных грузин.
Большинство из них в это время, в середине августа, отдыхали на Черном море, в основном в Абхазии, и их находили прямо на пляжах. Друзья Геги и просто добровольцы разыскивали представителей грузинской интеллигенции по всему побережью и там же, у моря, на солнце, шепотом беседовали с загорающими. Отдохнувшая грузинская интеллигенция по разным причинам подписывала просьбу о помиловании угонщиков самолета: кто-то из любви к Геге, искренне, кто-то – чтобы не отстать от других, а кому-то, чтобы придать смелости, намекнули, что идея письма исходит от властей.
Гега Кобахидзе, Иракли Чарквиани, Гиоргий Мирзашвили
Просьбу о помиловании должны были отправить или отвезти в Москву: грузины искренне и наивно верили, что решение о расстреле принимала Москва, а власти Грузии лишь выполняли приказ. В действительности же все было наоборот, и, когда грузинские власти обнаружили, что просьбу о помиловании подписывают ученые, режиссеры и актеры, всегда сотрудничавшие с советской властью и считавшиеся вполне лояльными, они не только возмутились, но и вознегодовали. Причиной возмущения грузинских коммунистов была вполне ожидаемая негативная реакция Кремля на то, что грузинская интеллигенция, как оказалось, смело и открыто защищает антисоветские элементы. Это означало, что грузинские власти плохо работат со своей интеллигенцией, и вообще плохо работают. Причиной возмущения секретарей ЦК Грузии стало то, что грузинские интеллигенты, те самые, кому правительство раздавало дома, дачи и машины, без согласования с властями подписали просьбу о помиловании, тем самым, предавая Коммунистическую партию и лично Первого секретаря.
Приговор вынесли тринадцатого августа, а телепередачу под названием «Бандиты» выпустили в эфир через десять дней, двадцать третьего. Десять дней ушло на монтаж материалов. Кадры старались подобрать так, чтобы у зрителей не оставалось сомнений в том, что речь действительно идет о бандитах, циничных убийцах, террористах, которые действительно ничего иного, кроме расстрела, и не заслужили. Десять дней обсуждали детали, которые надо было отобрать для грузинских телезрителей, но и среди них все же остались спорные моменты. Например, была деталь, касавшаяся Пааты Ивериели, который до начала штурма самолета подарил красивой пассажирке по имени Катрина свой пробитый пулей паспорт со словами «мне он больше не понадобится», и власти всерьез думали о том, чтобы использовать против него женщин. По ходу следствия, если можно так назвать процесс, нашли нескольких женщин, с которыми у Пааты Ивериели в разное время были романы – нашли для того, чтобы они на суде охарактеризовали Паату как сексуального монстра. Они должны были сказать, что братья Ивериели стремились в Америку не для того, чтобы открыть собственную медицинскую клинику, как они сами утверждали, а потому, что ожидали встретить там таких же, как и они, распущенных женщин, поскольку за годы учебы в Москве так и не смогли полностью удовлетворить свои сексуальные потребности. Потом кто-то высказал опасение, что это может подействовать на общество противоположным образом, и развитие подобной версии на суде сочли нежелательным.
Но зато была деталь, которую, в отличие от предыдущей, все же оставили для суда и несколько раз, как серьезное обвинение, повторили, что обвиняемые всю ночь не выпускали пассажиров в туалет. Хотя на самом деле, пока снаружи обстреливали самолет из автоматов, угонщики не только запрещали пассажирам, но и сами не двигались в сторону туалета. На этом процессе вообще опустили деталь, которая, тем не менее, говорила очень о многом: в самом начале, когда они стали встречаться в Цхнетах и на Львовской улице, речь чаще всего шла о газовых баллончиках. Они слышали, что существуют маленькие карманные газовые баллончики, которые, по их плану, надо было всем приобрести. Приставив эти баллончики к лицу пилотов, угонщики заставили бы тех изменить маршрут. Там же, в Цхнетах, они даже составили письмо, в котором выставляли свои требования пилотам и призывали их подумать о пассажирах и стюардессах.
В конце концов, передачу смонтировали так, что несколько интеллигентов сами отказались от своей подписи под просьбой о помиловании, а всех остальных вызвали в ЦК, заставляя угрозами сделать то же самое. Многих же не только принудили отказаться от своих подписей, но и заставили написать объяснение с извинениями за ошибку, которую они совершили по отношению к Компартии и правительству. Правда, нашлись и такие, которые поступились своими привилегиями, но не отказались от поставленных подписей и до конца не изменили своего мнения о том, что Гегу и его друзей необходимо помиловать. Было ясно, что расстрел уже предрешен, и в Москве совершенно напрасно ждали просьбу грузинской общественности о помиловании угонщиков самолета.
А в Грузии народ воспринял решение правительства как неоправданную жестокость – и о жестокости Шеварднадзе стали слагать легенды. Тогда это была единственная возможность отомстить ему: повсюду рассказывали историю о том, как Шеварднадзе вызвал к себе в кабинет отца братьев Кахабера и Пааты Ивериели для беседы о сыновьях, осужденных на казнь. Никто не знал, насколько достоверным было то, о чем рассказывали в народе, но, как правило, такие «народные истории» точно выражают его настрой.
Отца Пааты и Кахабера, известного грузинского врача и ученого, которого Шеварднадзе знал лично, естественно, на второй же день после ареста сыновей освободили от занимаемой должности, а через три недели после окончания суда вызвали к Первому секретарю.
Важа, конечно, догадался, о чем, вернее, о ком, он будет беседовать с Шеварднадзе, и специально пошел в джинсах в ЦК Грузии, туда, где решалась судьба его сыновей.
Собственных джинсов у него не было, но в комнате сыновей Важа нашел джинсы одного из них. Хотя это и было нелегко – ведь комнату уже столько раз обыскивали и переворачивали, что под конец в ней уже перестали наводить порядок: не было никакого смысла, опять пришли бы и снова все перерыли. Поэтому Важе долго пришлось искать джинсовые брюки, еще хранившие запах его сыновей. Надев их перед зеркалом, он отправился в ЦК.
В ЦК, когда ему выписывали пропуск, сотрудники, независимо от ранга, удивленно оглядывали человека, который шел на встречу с Шеварднадзе – это был первый случай, когда вызванный в ЦК человек явился в джинсах.
Сидевший наклонив голову Шеварднадзе даже не услышал обращенного к нему приветствия – вначале он увидел брюки и когда, все еще не поднимая головы, предложил гостю сесть, внимательно вгляделся в его джинсы. Сердито вглядывался и, наверное, думал, что это был отцовский протест против уже вынесенного сыновьям смертного приговора. Поэтому и беседу он начал так, как начал.
– Наверное, догадываешься, почему вызвал.
– Не знаю. Знаю только, что разговор, скорее всего, пойдет о моих сыновьях.
– Значит, знаешь.
– Слушаю.
– Это я тебя слушаю.
– Мне нечего вам сказать.
– Но, наверное, есть о чем попросить.
– Что вы имеете в виду?
– Конечно, твоих сыновей.
– О моих сыновьях ничего просить не могу.
– Почему, в наше милосердие не веришь?
– Не имею права просить оставить жизнь только своим сыновьям, другие виновны не больше них.
– Значит, просишь о том, чтобы всем изменили приговор?
– Если вызвали для этого, то об этом и прошу. Одних только моих сыновей не могу просить спасти – тогда я буду не прав перед теми родителями, кто лично не знаком с вами и не может попасть сюда, чтобы спасти своих детей…
– Но у других другая ситуация.
– Сейчас все мы в одинаковой ситуации.
– Такой приговор сразу двум сыновьям еще не выносили. Другие потеряют по одному ребенку, а ты обоих, если их не помилуют…
– Кто должен помиловать?
– Москва.
– Шанс есть?
– Мы делаем все, что от нас зависит. Но очень часто решения принимаются так, что нас не спрашивают, если бы решал я, то, ты же знаешь…
– Знаю, – сказал Важа, несмотря на то что в действительности не знал, что сделал бы этот человек, если бы замена приговора зависела от него, и на какое-то время оба замолчали. Важа не сказал Шеварднадзе правду потому, что пока еще была надежда спасти сыновей.
Молчание снова нарушил Шеварднадзе:
– На смягчение приговора всем шанс невелик, но я все-таки смогу спасти одного из твоих сыновей. Мы столько лет знакомы, и ты до сих пор ни разу ни о чем меня не просил.
– Я и этого не просил.
– Поэтому-то я и хочу спасти хотя бы одного из братьев, я уже говорил с Москвой об этом…
– Как?
– Тому, кто больше заслуживает смягчения приговора, наверное, и заменят…
Важа встал на ноги и собрался что-то сказать, но неожиданно у него пересохло в горле, и он не смог вымолвить ни слова. Шеварднадзе решил, что тот хотел поблагодарить Секретаря ЦК и показал рукой, мол, не стоит благодарности. Важа снова попытался что-то сказать, но безрезультатно, и медленно двинулся в сторону двери. Когда он открыл дверь, Секретарь ЦК встал, приблизился к нему и почти шепотом, по-дружески спросил:
– Ты кого бы предпочел?
Важа почувствовал, что, если Шеварднадзе сейчас скажет ему что-нибудь еще, он может скончаться на месте, и он намеренно громко захлопнул дверь. Хлопнул дверью и ушел.
Понятно, зачем это придумали, но автор рассказа остался неизвестен.
После вынесения приговора Тину, как заключенную, уже осужденную, должны были перевести в женскую колонию, а остальных – в камеры смертников, располагавшиеся в подземельях древней Ортачальской тюрьмы. Им оставалась всего одна ночь в тюрьме КГБ, и монах попросил того самого охранника, которому тайно подарил Евангелие от Иоанна, выполнить его последнюю просьбу.
– Завтра меня уже не увидишь, переводят.
– Знаю.
– К смертникам.
– Знаю.
– Расстрела буду ждать.
– Знаю.
– Последнее желание ведь всем исполняют?
– Скажите, я постараюсь.
– Знаешь, где сидит Гега?
– Знаю.
– А Тина?
– Ее камеру тоже знаю.
– Можешь сделать так, чтобы они увидели друг друга?
– Этой ночью?
– Это последняя ночь, больше они уже никогда не увидятся. Это и есть моя последняя просьба.
– Женский этаж не мой, а без ключей я туда не попаду.
– Любовь отпирает все двери…
– А когда мы поговорим о той книге, батюшка?
– Когда ты откроешь первую дверь любви, после этого. Это здесь же, на верхнем этаже…
– Еще много таких дверей меня ждет?
– Много, но некоторые открыть будет легче.
– Первая дверь всегда самая сложная, ведь так, батюшка?
– Давно хочу тебя спросить, как ты попал сюда на работу, и все время забываю. Все время удивляюсь, и все равно забываю…
– Об этом, батюшка, я расскажу, когда вернусь.
Охранник посмотрел на часы, потом улыбнулся монаху и спокойно, очень спокойно сказал:
– Я сейчас прямо и поднимусь, думаю, время подходящее.
– Время всегда одинаковое, – сказал монах, скорее самому себе, и перекрестил уходящего охранника.
При свете висящей в коридоре лампочки охранник снова посмотрел на часы и ускорил шаг. Он быстро прошел коридор и завернул направо, поднялся по лестнице и с шумом положил на стол перед своим спящим начальником Евангелие от Иоанна.
– Что это?
– Книга.
– Я вижу, что книга.
– У заключенного отобрал.
– Разве им помогут молитвы? Мой дед был дьяконом, и что? И ничего, он все время молился в церкви, а сейчас во дворе той самой церкви и лежит, в конце нашей деревни… Хоть бы до моего возмужания дожил, а так в городе он всего два раза побывал…
– Начальник, я хочу ключи от верхнего общего, надо заключенного ввести, у него желудок расстроен, а нижний засорился, и мастера до утра не будет.
– Какого заключенного?
– Фамилию не помню, за консервное дело сидит.
– Твой заключенный?
– Мой.
– Чем же таким вы их накормили?
– Своими же консервами.
Начальник от души расхохотался и вытащил ключи из ящика стола.
– Поскорей пусть справит, уже ночь, ты же знаешь, по правилам запрещено.
– Но если с ним что-нибудь случится, с нас же и спросят, только хуже получится.
– Ты что-то в последнее время очень поумнел, на мое место метишь? Командовать захотел?
Теперь уже рассмеялся охранник, но не так сердечно, как его начальник, и пошел дальше. Он прошел в самый конец коридора, потом поднялся на верхний этаж. Свернул влево и стал пересчитывать камеры. Остановился у седьмой камеры слева, вначале оглянулся на полутемный коридор, потом постучал ключом в дверь. Ответа ждать не стал и отпер замок. Гега стоял, и охранник тихо, еле слышно, произнес:
– Выходи скорей.
– Что случилось?
– Меня монах попросил.
Гега и охранник быстро прошли коридор и повернули направо. Потом поднялись по лестнице, охрана верхнего этажа удивленно спросила, куда посреди ночи ведут заключенного.
– В девятнадцатой его жена, на пять минут, потом поведу обратно.
– Ты знаешь, что тебе за это будет?
– Если они сейчас не повидаются, то больше уже никогда не увидятся. Его сегодня к расстрелу приговорили, завтра в Губернскую переводят.
– Его камера освобождается, вот туда тебя и определят.
– Ты мне ключи не давал, я их насильно отобрал. Если потребуют объяснений, так и напиши.
Охранник вырвал из рук дежурного по этажу ключи от камер и вместе с Гегой углубился в коридор. Гораздо больше, чем дежурный по этажу, был удивлен Гега, который прошептал охраннику:
– А я так ни разу и не пошел к монаху.
– Когда?
– До ареста, он все время меня ждал…
– То-то и оно, – сказал охранник и остановился у девятнадцатой камеры. Осторожно постучал, приоткрыл дверь и впустил Гегу в камеру.
Тина, босая, в одной белой рубашке, сидела на стоявшей прямо напротив двери койке. Койка была у стены с окном, на окне виднелись решетки, но за ними, снаружи, была еще одна стена, построенная из давно потерявших свой цвет кирпичей.
Тина сидела босая и ничего не говорила, а только слушала сидевшего рядом с ней Гегу, осторожно, очень осторожно, поглаживавшего Тинины пальцы:
– Не думай об этом… Моего деда тоже приговорили к расстрелу, но он спасся. Я ношу его имя. Когда его должны были расстрелять, ему тоже было двадцать три, и он по-мегрельски сказал Берия, что не боится смерти, а поговорит с ним потом, когда и тот тоже там окажется. Ночью его вывели из Метехской тюрьмы и поставили спиной к Куре, мой дед попросил не стрелять ему в спину, хочу, мол, смотреть смерти в глаза. Они прицелились, выстрелили и специально, по приказу Берия, промахнулись. Оказывается, потом мой дед только о том и говорил, что Берия поступил с ним хуже, чем если бы просто убил… Он и сейчас жив, ты же его помнишь, на нашей свадьбе он все время целовал тебя в лоб и плакал… И меня не расстреляют, не бойся, обязательно что-нибудь произойдет, и меня не расстреляют…
В дверь очень вежливо постучали, и Гега встал.
– Иду, – сказал Гега очень тихо и снова сел, крепко, очень крепко сжал правой рукой пальцы Тины, без которых так соскучился, и заплакал так, как когда-то в детстве, когда во дворе позади дома нашел мертвую птичку.
Выходя из камеры, Гега, пока охранник запирал дверь, еще раз посмотрел на Тину, которая сидела на койке. Такой он ее и запомнил – сидящей на тюремной койке, босой, с мокрыми от слез глазами…
Отлет
Несмотря ни на что, в Грузии все же верили, что угонщиков не расстреляют. Некоторым так хотелось, чтобы этого не случилось, что они сами же и придумывали разные версии, самой распространенной среди которых была версия Сибири. Говорили, что приговоренных смертников не расстреливают, а посылают на бессрочные работы в Сибирь, на секретные советские объекты, так, мол, будет и с угонщиками. В действительности же советская власть их расстреливала, но версия Сибири была плодом фантазии тех людей, которые даже виновных не считали заслуживающими смерти. Приговоренных к смерти расстреливали, но в исполнение приговор приводился далеко не сразу: руководство любой республики должно было дождаться официального подтверждения из Москвы. Как правило, этот процесс сильно затягивался, иногда даже на несколько лет. Поэтому до сих пор трудно поверить и совершенно непонятно, почему по отношению к угонщикам самолета проявили такую поспешность – их расстреляли через полтора месяца после вынесения приговора, третьего октября. Хотя, быть может, и наоборот: более чем понятно, почему так усердно старались не медлить власти советской Грузии.
Официально ничего не объявляли, родителям и членам семьи ни тогда, ни потом ничего не сообщили, но информация о расстреле Геги и его друзей все же просочилась. Поскольку альтернативных источников информации в условиях советской власти попросту не существовало, грузины узнавали новости, и все то, что советское правительство тщательно скрывало от своего народа, только по западным радиоканалам. Третьего октября – в тот же день, как приговор был приведен в исполнение, – «Голос Америки» передал и эту скорбную информацию, но большинство все же не поверило, что Гега уже мертв, ведь надежда никогда не умирает.
Но дедушка Геги, тот самый, чье имя он носил и который в таком же возрасте во времена Берия чудом спасся от расстрела, скончался в тот же день, третьего октября…
Камеры смертников располагались в подземельях Ортачальской тюрьмы, в самых нижних помещениях старой, так называемой Губернской части здания, откуда осужденных выводили на казнь в специальную комнату, расположенную на том же этаже. Но на этом этаже сидели не только осужденные на смерть – тюрьма знала, кто где сидит, знала, кого выводили или приводили. Тем более те, кто сидел в камерах этажом выше, знали об осужденных на казнь все. Как раз наверху, в одной из камер над этажом смертников, отбывал тогда наказание один из известных криминальных авторитетов – Дима Лорткипанидзе. Он родился в Париже, в семье политэмигрантов-грузин, и его антисоветские взгляды вовсе не были случайными. А рядом с его камерой оказались, до того как им вынесут приговор и переведут в женскую колонию, несколько заключенных женщин, арестованных за торговлю, и эти женщины обычно по вечерам пели. Об их пении Дима Лорткипанидзе узнал от надзирателя, которые как-то пожаловался: «И что это за любовь к пению на них нашла? Мне потом начальство замечания делает…» Дима узнал и подробно расспросил о тюремных певуньях. Надзиратель пожал плечами – кто-то из этих женщин бухгалтер, кто-то продавщица магазина, и я, мол, тоже удивляюсь, что они так хорошо поют. Тогда заключенный Дима Лорткипанидзе придвинулся к надзирателю еще ближе и тихо спросил:
– А если эти женщины будут петь громче, внизу их услышат?
– Где внизу?
– У смертников.
– В закрытых камерах не услышат.
– А в коридоре?
– Если женщины будут петь очень громко, наверное, в нижнем коридоре будет слышно.
– Наверное или точно?
– Наверное.
– Тогда слушай. Мы тебя отблагодарим, если выполнишь маленькую просьбу.
– Если за это с работы не снимут…
– У тебя и вправду такая работа, что жаль терять… Но все же слушай внимательно.
– Слушаю.
– Внизу, у смертников, сидит Гега, актер.
– Знаю, за самолет, другие тоже там.
– Другим помочь не сможем. Эта помощь Геге больше других нужна, ему то ли двадцать два, то ли двадцать три, молодой совсем.
– Знаю, я и в кино его видел.
– Так ты и кино любишь… Вот и скажи, когда Гегу на расстрел выведут, ты об этом как скоро узнаешь?
– Сразу же и узнаю, на том этаже надзирателем мой двоюродный брат.
– Двоюродный или троюродный?
– Близкий, двоюродный.
– Тогда как только его соберутся выводить, я тут же должен об этом узнать.
– Не делай такого, за что меня с работы выгонят, у меня дети маленькие, двое, если скажешь, что планируешь…
– Ничего такого.
– Не губи меня.
– Говорю же, ничего такого.
– А все же?
– Когда Гегу соберутся выводить, скажешь женщинам, чтобы они начали петь, и пусть поют погромче, как можно громче. Скажешь женщинам, что это моя просьба, что надо подбодрить Гегу, и то скажи, что его на расстрел ведут.
Удивленный надзиратель стоял и слушал этого странного заключенного – таких он никогда не встречал, ни здесь, ни в других тюрьмах, где работал раньше…
Их всех расстреляли в один и тот же день, но постарались сделать так, чтобы не было огласки. В трех случаях это получилось относительно легко – монаха и братьев специально вывели из камер днем, когда внимание тюрьмы слабеет, а под конец открыли дверь той камеры, где сидел Гега.
Но Гега стоял и, хотя он не знал, куда его ведут, не знал, что в конце коридора есть комната, где его ждет приговор, он все еще верил, что этого не случится. Когда Гега шел по коридору, откуда-то издалека, откуда-то сверху, до него донеслось пение, но Гега подумал, что это ему мерещится, и даже слегка улыбнулся. А этажом выше женщины-заключенные действительно пели, они стояли очень близко к форточке запертой камеры и, плача, громко пели. В отличие от Геги, их голоса хорошо слышал Дима Лорткипанидзе, который громко стучал окровавленным кулаком по двери своей камеры и кричал на всю тюрьму.
На крик Димы сразу же отреагировали и другие заключенные – уже через несколько секунд все заключенные Ортачальской тюрьмы знали, что внизу, в подвале, ведут человека на расстрел. А еще через несколько секунд все этажи, вместе, срывая голос, выкрикивали имя Геги, и, когда Гега подошел к концу своего последнего коридора, вся тюрьма уже так гудела, что сопровождавшие Гегу надзиратели возмущенно переглянулись. Может, всему виной спешка, или в советской империи действительно что-то загнивало, но как только Гегу ввели в комнату, где его уже ждал палач, тот, не медля, как и следовало по уставу, выстрелил в смертника сзади, но оружие дало осечку. Для профессионального убийцы это было такой неожиданностью, что он растерялся и занервничал. А Гега обернулся и сказал, с неизвестно откуда взявшимся спокойствием:
– Раньше вы хоть убивать могли, а теперь и этого не можете.
Убийца выстрелил во второй раз, и все закончилось…
Официально о приведении приговора в исполнение родителям осужденных не сообщали, но у советской власти были и более циничные и жестокие правила. Через несколько дней после третьего октября семьи осужденных получили квитанции, по которым оплатили стоимость пуль, потраченных на расстрел их детей. Каждая пуля стоила три рубля, но матери Геги пришлось заплатить шесть рублей – и за ту первую пулю, которая то ли не вылетела, когда оружие дало осечку, а может, и вылетела, но палач просто промахнулся. Хотя поверить в это сложно – они редко промахивались, и не только с такого близкого расстояния, но и издалека. Такой уж была история советской империи. Тем, кто лично присутствовал на расстрелах, к каждой зарплате дополнительно начисляли четырнадцать рублей. Несложно понять, какова была цена жизни, если смерть оценивалась в четырнадцать рублей.
Они не были героями, и то, что они сделали, на любом языке называется преступлением.
Поэтому:
Ни родители, или члены их семей, ни друзья или близкие никогда не говорили, что Гега и его друзья не были виновны и не должны были ответить за то, что сделали.
Угон самолета – преступление всюду, тем более если он приводит к жертвам, и виновные должны быть наказаны.
Но:
расстрел тех, кто никого не убил, – такое же преступление, как и угон самолета, а может, и хуже.
Тем более:
станет преступлением расстрел человека, который вообще не сидел в том самолете. Видимо, проявленная правительством по отношению к монаху особая жестокость совершенно изменила сознание охранника, который до расстрела был его надзирателем в тбилисской тюрьме КГБ. Он бросил работу и навсегда ушел в тот самый монастырь, где так любил уединяться расстрелянный монах. А в деревне, откуда как на ладони была видна ведущая в монастырь заснеженная дорога, по которой поднимался бывший охранник, в тот же день родилась легенда, что монаха не убили, что не послали все же на расстрел невинного человека.
В Грузии многие и сейчас верят, что угонщики самолета еще живы, что они далеко, очень далеко от этого мира, полного зла. Они так хотели улететь, что действительно улетели…