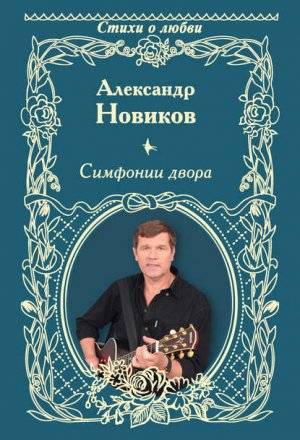
СТРАНА ВСЕОБЩЕГО ВРАНЬЯ
А ЦЕРКОВКА УБОГА
А церковка убога, и потому в ней склад.
Товарищ кладовщик с хозяйским чувством
Хранит на алтаре эмаль и бустилат,
А в ризнице – фосфат и ящик с дустом.
Поглаживает счеты и косточки кладет,
Пропихивает дебет через кредит.
Архангелы трубят, и Страшный Суд грядет,
Коль ревизор по зову их приедет.
Распластаны недвижно святые на стенах,
Прошитые стальными костылями –
Товарищ кладовщик не смыслит в именах,
Поскольку не оценены рублями.
В закрещенные окна лишь сунься,
ангелок! –
Стрела твоя ему – быку иголка!
Товарищ кладовщик – ВДОАМовский
стрелок,
На то ему и дадена двустволка.
Здесь отпускает он, как грех, чего кому:
Лопаты, ведра, краски, стекловату…
Приходят на поклон сюда теперь к нему,
И крестит он десницей или матом.
Со звонниц облетели давно колокола –
За них агитплакат звонит ударный.
Товарищ кладовщик с пасхального стола
Вкушает и без звона регулярно.
Не ладановый дух пускает «Беломор».
Марию-деву мухи обходили.
Здесь не колхозный склад – здесь Русской
Веры морг
«Товарищи» для нужд соорудили.
Ограде проржавелой по грудь чертополох.
Ветшает все (как только терпит кладка!).
Но пращуры мудры: предвидели, что Бог
Вернется, как бы ни было здесь гадко.
А нынче куполам град хлещет по щекам,
На маковках ни крестика, ни шпиля.
Покуда время здесь сидеть кладовщикам,
Нести тебе свой тяжкий крест, Россия!
Толпиться на поклон и славить подлецов,
Рожденных и взлелеянных тобою.
У высохших икон заплакано лицо.
И слух истерзан барабанным боем.
1988 год
АЙ, ПО СТЕНОЧКЕ
Ай, по стеночке по красной звезды зыркают,
бледны,
И крылами воронье сучит и пляшет.
Расстреляйте нас, подрясных, у Кремлевской,
у стены,
Да не с вашей стороны, а с нашей.
Расстреляйте, суки, в глотки жжены
Да в лады.
Расстреляйте нас, блаженных,
За предчувствие беды!
Оглашенных, обряженных и запинанных
под дых.
Я и сам такой, поди. Мне скопом – краше.
Расстреляйте нас, блаженных, не схваченных
в поводы,
Что не с вашей стороны, что не с нашей.
Смилуйтеся, суки –
Чтоб не в брюхо, а в кадык!
Расстреляйте нас за муки,
За предчувствие беды!
Ах, что же, Господи, мы всуе поминаем все
себя?
Всем воздастся нам прилюдно. Даст Бог –
с ними.
Но мы лопатками к кремлевской встанем
горько, но любя.
Расстреляйте нас – не ради, а – во имя.
Расстреляйте, суки! Да и – в пепел.
Да и – в дым.
Расстреляйте Ор, и Лепет,
И Предчувствие Беды.
1998 год
АХ, ВОЙНА
А войну войной никто не называл,
Окромя солдатиков.
А тыловой мордастый генерал
Слал все интендантиков
Документики сшивать –
Листики пролистывать.
Ах, война – родная мать –
Воровать да списывать.
Да тех солдатиков сложить
В цинк по обе стороны,
Да о потерях доложить –
Мол, не склевали вороны!
А им, солдатикам, весной
В землю так не хочется…
Ах, война – карга с косой,
Сука да наводчица.
А им в ушаночке – звезда
С лапами поблюсклыми.
Да им до Страшного Суда
Оставаться – русскими.
Что ж друг друга мы опять
Пожирали поедом?
Ах, война, ядрена мать –
Барыга с магиндовидом.
А теперь-то им куда
С ремесла заплечного?
Чай, во лбу-то их звезда
Не шестиконечная.
Им теперь что белена,
Что розочки с иголками…
Ах, кремлевочка-война –
Вахтеры с треуголками.
Им теперь весным-весна,
Как невеста в копоти,
Та, что в лодке без весла
Кружит в вечном омуте,
И швыряет в рот песок,
И стирает мелями…
Ах, война – юнца висок.
Теплый. Да простреленный.
1999 год
БОЖЬИ КОРОВКИ
Мы ходим все под Богом.
Ползком или парим.
То вдруг упремся рогом,
А то перегорим.
И боги наши ловко
Нас доят и стригут.
Мы – божии коровки,
Удобный рабский труд.
Мы божии коровки,
Мы панцирем красны,
Мы в серые коробки
Навек поселены.
И что не всех убоже,
Довольны мы, эх-ма!
И потому мы – божьи.
И потому нас – тьма.
Жизнь соткана на пяльцах,
Воздушна и легка.
Вот мы взлетаем с пальца,
Что тычет в облака.
Умильно корчим рожи
Над млеком облаков,
Ведь мы коровки – божьи,
Мы доимся легко.
Эх, жизнь наша – рулетка!
Свое не проглядим!
Нас в небе ждет котлетка –
Вот там и поедим.
Нас в небе ждут обновки.
Вперед! Вперед! Вперед!
Мы божии коровки –
Удобный райский скот.
Объявят небо – ложью,
Иль все сгорит в огне,
На все нам – воля божья.
А бог наш – на земле.
Нам холодно, нам душно,
Мы тянемся к богам,
Покорны и послушны
Их фетровым рогам.
А боги так похожи
По платью и уму.
Вот потому мы – божьи.
И вечны потому.
1984 год
«Бывшие комсомольцы – в порядке…»
Бывшие комсомольцы – в порядке.
Бывшие коммунисты – в шоколаде.
Все так же коллективом – на блядки.
Вот только поменялись бляди.
Ай, бляди – как прежде – красавицы.
Двуствольные да двужильные.
Все так же на… бросаются.
А коммунисты – жабы плешивые.
Ах, за что я так люблю блядей –
У них-то все по-честному.
А у коммунистов, бля, меж грудей
Нынче распятье крестное.
Жгучие педерасты – в артистах.
Нудные графоманы – в поэтах.
Которые, бля, при коммунистах
Как мухи были в котлетах.
А нынче, глотку выдрав,
Певица России с Европою
Поет перед хором пидоров,
А коммунисты, бля, хлопают.
А бляди – как курица с яйцом –
Все так же – по баням и голые,
Ведь у коммунистов с человеческим
лицом
В банях любовь двуполая.
По щучьему повеленью:
Не будет стоять – поставят,
Скажут волшебное слово – «Ленин», –
И у коммуниста, бля, встанет.
1991–1992 годы
В ОБЕТОВАННОЙ СТРАНЕ
В обетованной стране
Встретились мы – одногодки.
Ах, не видались, поди, уже тридевять
лет!
И подливает он мне
Из принесенной мной водки.
Все у него хорошо.
Все, что искал, он нашел.
Все хорошо. Только Родины нет.
А ночь – будто омут в реке.
И стынет луна на удавке.
И говорит он в хмелю: «Я назавтра
возьму пистолет…»,
А завтра он впрямь с ним в руке,
Только на бензозаправке.
Все у него хорошо.
Все, что искал, он нашел.
Все хорошо. Только Родины нет.
И иноземка-жена
Над переводом хохочет.
И я ей пою прямо в бюст – как
подпивший корнет.
Но вдруг исчезает она –
Ей хочется в дансинги ночью.
Все у него хорошо.
Все, что искал, он нашел.
Все хорошо. Только Родины нет.
Ударим в гитару потом.
Трясьмя затрясутся стаканы.
С блатными куплетами выйдет гремучая смесь.
И грудь осеняя крестом,
Он вдруг разрыдается спьяну,
Что все у него хорошо…
Что все, что искал, он нашел.
Что все хорошо. Только Родина –
это не здесь.
1999 год
ВОЙНУШКА
Брось пилотку, пусть проверят,
Может, запах их проймет,
Может, запаху поверят,
Что война – она не мед.
Что на посохе солдатик
С перестреленной судьбой
Награжден не к круглой дате,
А за выигранный бой.
Кто войну не тихой сапой
Прослонялся по тылам,
Знает: горький этот запах
Приживляется к телам.
Только вряд ли это здесь им
Втешешь, бледного бледней –
Победителем в собесе
Выйти во сто крат трудней.
Здесь ори, хоть заорись им –
«Нет инструкции такой,
Чтобы сразу, без комиссий,
Коль с простреленной судьбой!..»
Не привыкли здесь на веру,
Позакрылись на запор
Эти души – «бэтээры»,
Не пробойные в упор.
А в пилотке, за подкладкой
Ухмыльнулся Дух Войны.
А на посохах ребятки –
За бумажкой вдоль стены.
А бумажка – на полушку –
Не расщедрятся, не жди,
Поигравшие в войнушку
В детство впавшие вожди.
1989 год
ВСЕ ДВИЖЕМСЯ
Все движемся – устроен мир на том.
Настал черед, и я с Восточной съехал.
В дорогу песен хулиганских том
Собрал мне двор с эпиграфом:
«К успеху».
Держал меня в горсти
Всесильный Дух Дворовый.
Уехал. Двор, прости.
Нить жизни – шнур суровый.
Прописан все ж припевочкой,
Что на ветер в трубу,
Где поцелуй твой, девочка,
Еще печет губу.
Где нож – не для побоища,
Где пуля спит, не воюща,
Где старый друг живой еще
С отметиной на лбу.
Все движемся. Уже до третьей тыщи –
шаг.
За столько лет – впервые.
И как велела певчая душа,
Пою свои куплеты дворовые.
И верю, не придут
И не отнимут строчки.
И в ночь не уведут
К тюремной одиночке.
Христос и тот за заповедь
Прощать до стольких раз,
Готов и нынче залпом пить
За милосердных нас.
За то, что жили – маялись,
Кручинились и славились,
За то, чтобы покаялись,
Не завтра, а сейчас.
Все движемся. До святости икон
Дойти б умом. А не как есть –
ногами.
Чтоб бег начав со стремени верхом,
Не кончить тараканьими бегами.
Из всех на свете стрел
По мне – Амура стрелы.
Ах, как бы я хотел
Лишь ими пичкать тело.
И бунтовать, и струны рвать
За все, что в сердце грел.
И все на свете согревать
Во имя этих стрел.
И чтоб в глазах той девочки
Так и остаться неучем.
А остальное – мелочи.
Так, видно, Бог хотел.
1999 год
«Вы простите меня, Очеретин…»
Вадиму Очеретину, Члену Союза писателей СССР, в ответ на его рецензию от 04.05.84 на мои стихи, с которой и начинается мое уголовное дело № 1078
Вы простите меня, Очеретин,
Я и сам, если честно, не рад –
Не попал в довоенные дети,
Не родился полвека назад.
Не катался в вагонах по свету
Под кликушества псевдослепых,
Не выклянчивал словом монету,
Не писал прозаический жмых.
Не менял ни имен, ни фамилий –
Повсеместно свою оглашал.
Вы умней оказались – сменили.
А вот я, дуралей, оплошал.
Не послушался в детстве папашу
И не внял поученьям хлыста –
Вот и выпал на голову вашу,
Как когда-то Родыгин с моста!
Видно, вправду есть Бахус на свете,
И слывет покровителем он –
Ай, Евгений, как точно приметил:
«Пьянке нужен лирический фон!»
Ну, а вам не завидую жутко –
Труд сизифов – писать и писать.
Про серьезное – это не шутка,
Даже если из пальца сосать.
О, Создатель! Великий Создатель,
Что ж ты псевдослепых схоронил?
Мне один псевдозрячий писатель
Так чудесно про них говорил.
Говорил, что «фольклорным фонтаном»
Окатили и дали испить –
Так с тех пор прикипел к шарлатанам,
Что доселе не в силах забыть.
И когда ему, дескать, в обузу
Созерцать на Пегасов табун,
Он свою малохольную Музу
Тащит к ним подлечить на горбу.
А меня вы простите за серость,
За убогий словарный запас,
За мою беспардонную смелость
Поучать в выражениях вас.
Я читал ваш пронзительный опус
И спешу в заключенье сказать:
Слово «шмон» –
по-тюремному – «обыск»,
И «обыскивать» – значит «шмонать».
Впрочем, нет, не учился я впору,
Не наполнил познаньем сумы.
Вы – знаток воровского фольклора.
Я прошу: поделитесь взаймы!
Вам завидует вся альма-матер
Наших славных уральских певцов:
Вы и критик, и врач-психиатр,
И историк, в конце-то концов.
Вы знаток диссиденства, искусства,
Даже сексопатолог слегка.
Выражаю вам лучшие чувства:
Жаль, что вы до сих пор не зека.
А за сим остаюсь неизменно –
«Полузековский полупиит».
Прав Есенин: мы все в мире тленны –
Как я рад, что нас это роднит.
1985 год
ГОД ЗМЕИ
Это ж надо, покромсало
Скольких враз вождей,
Всех Змея перекусала,
Кто был поважней.
Кто ловчей и мафиозней,
И т. д., т. п.,
Кто жадней и одиозней,
И главней в КП.
Год Змеи – такая штука –
Испокон веков
Жалит Мудрая Гадюка
Всяческих царьков.
Звон в ушах, как сто монисто –
Телетайп орет:
Покусал, бля, коммунистов
Аспид в этот год!
Целовались, миловались,
К счастью мир вели,
Ан, гляди, проворовались,
Лишку нагребли.
И змеюка, верно – аспид –
Ведь не ленится! –
Закусала прямо насмерть
Верных ленинцев!
1989 год
ДОСТИЖЕНИЯ
Еще не все исчерпано и выпито.
Призывы есть. Есть глашатай-горлан.
Ещё бы чуть – и он при жизни вылит
был
В гранитно-бронзо-гипсовый болван.
Застыло время бюстов, околевшее.
И новому отсчет дают ростки.
Болото сохнет. Воют, воют лешие –
Чем суше, тем им муторней с тоски!
Колхоз – завоеванье несомненное.
ГУЛАГ – его родной и кровный брат.
Нет ничего на свете неразменного,
Нет никого, кто б не был виноват.
Разменян царь с детьми и окружением.
Разменяны расейския умы.
Разменян бог. Все это – «достижения» –
Какие недогадливые мы.
Ни повода врагам для упования
У стенки – кибернетика – в расход!
Генетика в петле – «завоевание».
По трупам к звездам – новый марш –
поход.
Картин и книг потрава и сожжение,
Психушек живодерский инсулин –
Все это, безусловно, «достижения».
А мы считали – комом первый блин.
Бесштанная в закорках театралия –
Спектакль между жалами штыков.
Все поданы звонки, так не пора ли нам
Очухаться от зелия хлопков?
Жизнь движется – спиралево движение,
А значит, повторится тот момент:
Призывы. Горлопаны. Достижения.
Расход. Завоевание. Размен.
Не обезглавела ты, Русь – обезголовела,
В покорности застывшая слепой.
И сила твоя, исконно воловья,
И дух, и честь, и все в тебе – толпой.
1987 год
КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ
Поделились и люто, и наспех,
И – в пучину без дна.
В поле поровну белых и красных,
А Россия – одна.
Шашки наголо, шпоры – с размаху,
Чья, выходит, права?
Покатилась крестами на плаху
Золоченая голова.
А с небес над простертым телом
Ангел черный на гуслях, чу:
«Не желаю быть красным,
не желаю быть белым.
Россиянином, просто, хочу».
Разлетелись улыбки в осколки
И собрались в оскал.
В поле красные, белые волки –
Злоба, боль и тоска.
Белой кости стена в эполетах.
Краснозвездая серость-стена.
Только кровь одинаковым цветом.
Да Россия – одна.
А с небес над простертым телом
Ангел черный на гуслях, чу:
«Не желаю быть красным,
не желаю быть белым.
Россиянином, просто, хочу».
Слезы в нас раскаяния едки
И безмерна вина.
Два венца у гусарской рулетки,
А Россия – одна.
Мы носить не желаем в петлицах
Крови цвет, цвет бинта.
Огради впредь, Всевышний, делиться
На цвета, на цвета.
Нам с небес уже громогласно
Ангел мечется, голосит:
«Нет, не белый я!.. Нет,
не красный!..
Россиянин я, аз еси…»
1986 год
КРАСНЫЙ РОДЖЕР
По высокой волне галс за галсом
Только прямо, вперед без конца,
Плыл пиратский корабль с красным
парусом,
С «красным Роджером» аж в три лица.
– Где вы взяли такие-то рожи? –
Вопрошали при встрече суда.
– А это наш, – говорят, – родный
«Роджер»,
Подплывайте скорее сюда!
И кой-кто швартовался у борта,
Не предчувствуя близкой беды.
И на «Роджере» первая морда
Ухмылялась под шерсть бороды.
А вторая, с бородкой пожиже,
В оба глаза мигала: пора!
Мол, я сверху все донизу вижу,
Что касаемо части нутра.
Ну а третья, с бородкой невзрачной,
Подбородок на кости сложа,
Завопила: «Даешь абордачный!..» –
С вострым серпом заместо ножа.
И задравши у паруса фалды,
По берцовой зажавши в руке,
При посредстве серпа и кувалды
Разжигала страстя в моряке.
Как там было все, знать мы не можем,
Но видали и мы кой-чаво,
Как молились на тот «красно-рожер»
И в кровя окунали яво.
А потом предавалися танцам
С неумеренной тягой к вину.
И прозвались «Летучим Голдранцем»,
И поплыли тихонько ко дну.
Плыл пиратский корабль галс за галсом
С «красным Роджером» аж в три лица.
По высокой волне с красным парусом.
Только прямо. Вперед. Без конца.
1986 год
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ
Сыплются звездочки, сыплются бантики,
Сыплются грамоты – пестрые фантики.
И повсеместно, и сплошь
Льет металлический дождь.
Копится белыми, желтыми тучами
И проливает медали по случаю
Дат, юбилеев, торжеств.
Или как дружеский жест.
Катятся премии, титулы катятся,
Лепят на грудь, на пупы и на
задницы –
Льется избыточность чувств
Прямо в прижизненный бюст.
Тень самозванца в пристяжку
с министрами
Бряцает, словно цыганка монистами,
Благоговейно дрожит:
Чем бы еще ублажить?
Двери дубовые, блеклы и малы вы –
Хочется дверь из породы сандаловой,
Где под ладошечный хлоп
Грудь подставляет холоп.
Где заправляет мадам Нумизматика
И тормошит старика-маразматика:
Тесно уже на груди,
Надо б расширить мундир!
Трескают лацканы, рвутся нагрудники,
И надрываются копи и рудники
В бравурном кличе: «Даешь
На металлический дождь!..»
Что это? Дождь? Или давнее бедствие?
Кто, наконец, приведет в соответствие
И прекратит чехарду,
И наградит по труду?
Я в этот дождь не попал. Я под зонтиком
Криком кричал от бесстыдства экзотики.
И не медали ко мне –
Груды летели камней.
1985 год
МЫ – ПРУЖИНА ПОД МЫШЦАМИ ВЛАСТИ
Мы – пружина под мышцами власти.
Но чтоб мы не взорвались, как тол,
Наши мысли кастрирует Мастер –
Многоопытный, знающий толк.
Многократно испытанный метод,
Соль политики всех упырей:
На негнущихся – черная мета,
От свинца до ярма лагерей.
Серп сечет. Тупорылый бьет молот.
В паровозном «ура!» и «да здра…!»,
Как куранты, отлаженный Молох
Жрет и чавкает части нутра.
Вправо шаг или влево – измена!
Палец дернет курок, и – хана!
Только прямо, вперед, неизменно.
Шагом марш, дорогая страна!
Вождь твой классовый тягой воловьей
Прет нас в светлое, телом трехжил.
Это знамя не блекнет – эй, крови!
Если нет, оботрите ножи.
Весь бивак оглашен и очерчен.
Опоясан, утянут в забор.
Если ад – все отныне здесь черти.
Если рай – несчастливых за борт.
И покуда в колючей ограде
Мы – и вольные – те же зека,
Здесь кастрируют сто демократий,
Как обычно, начав с языка.
1986 год
НА СМЕРТЬ А. Д. САХАРОВА
Все так и было. Кричало быдло,
В собачьей стойке изготовясь.
Над головой трясло и выло,
Порвать готово седую Совесть.
Вопила баба. И портупеи
Сползали с пуз ему на горло.
Собралась стая. Да не успели.
Ушел он. Тихо, светло и гордо.
Скорбь академий. И даже – Тауэр.
По всем столицам – известье глухо.
И лишь в России на общий траур
Не набралося – не глоток – духа.
Не одолело людское вече
Людишек мелких, на власть реченных.
Не докричалось. Ушел навечно
Великий Политзаключенный.
1990 год
О НАЗВАНЬЯХ ГОРОДОВ
Чудно так, что городов
Больше, чем правителей.
Смотришь: чуть только – «готов!» –
Тут как тут славители.
Например: была ты – Тверь
С архи-древне-глиняной,
Ан преставился теперь,
И быть тебе – Калининым.
За примером не бежим –
Тьма примеров тьмущая.
Может, кто и заслужил
По такому случаю.
Но по мне, хоть ты герой,
По всем меркам вымерен –
Город выстрадай, построй,
А потом уж – именем.
Брежневка… Устиновка…
Ворошиловка…
И без «ка» живут пока. Ждут
пинка.
Дико так, что в городах
Улицы столетние
Тихо канули в веках
Или ходят сплетнями.
Как там сказано у нас:
«Мир до основания…»?
Нам разрушить – плюнуть раз.
И – лепи названия.
Брежневка… Устиновка…
Ворошиловка…
И без «ка» живут пока. Ждут
пинка.
А на улицах – дома
С арками-порталами.
Коль велик был – жизнь сама
Ждет с инициалами.
Но коль бюст себе сваял,
В лучший мир не прибранный –
Скоро вывеска твоя
Взвоет всеми фибрами.
Брежневка… Устиновка…
Ворошиловка…
И без «ка» живут пока. Ждут
пинка.
Лики мутные икон
И тюрьма старинная
Звали город испокон
Катей-Катериною.
Имя стерли, вымели
Катьку слабополую,
И пошли, пошли, пошли
Слабые на голову.
Брежневка… Устиновка…
Ворошиловка…
И без «ка» живут пока. Ждут
пинка.
Всех припомнить не берусь
Городов и званий я.
И, пожалуй, только Русь
Может дать названия.
Самозванцев же – сорвать,
Вслед на разный лад свища.
И отныне называть
Ими только кладбища.
Сталинское… Брежневское…
Ворошиловское…
Там, где похоронено лучшее
людское.
1984 год
ПИСЬМО К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ
Товарищ Генеральный секретарь!
Еще витает дух почивших в бозе.
По правую от вас еще – главарь,
По левую, чуть сзади – мафиози.
Очки сверкают за спиной у вас,
Не круглые, но все-таки зловещи,
Готовые в два счета, хоть сейчас,
Как только им хоть чуточку проблещет.
Ветви поздно выряживать
почками –
Это древо прогнило в корню.
Зря пытаетесь язвы – цветочками,
Поливая три раза на дню.
Я помню прозорливейших отцов,
С историей играющих, как с сучкой.
И каждый начинал в конце концов
Не здесь, так там опутывать колючкой.
Как мог он ошибиться и сглупить?
Он завещал нам верить этим шляпам.
Как страшно, что могло бы так не быть
И подыхать пришлось мне с тем же
кляпом.
Пересылки, остроги и лобники
Есть на выбор любых величин.
Все мы в этой стране уголовники,
Всех судить нас за то, что молчим!
Я думаю, коль я еще живу.
Вдвойне, когда меня на рифы тащит.
Я далеко глядеть вас не прошу,
Но я прошу: оглядывайтесь чаще.
Благой порыв дать волю всем парам
Не означает скорый выход в море.
Я вас прошу не строить дальше храм,
Где кость на кость на кровяном растворе.
Бросьте в печь оловянным
солдатиком,
Если в чем-то не прав я насчет:
Волю дать мужикам бородатеньким,
Остальное само нарастет.
Где совесть не в чести и не у дел,
Ждет роба или пуля менестреля.
Я тоже, разумеется, сидел,
Спасибо, не повешен, не расстрелян.
Но большего поставить на алтарь,
На жертвенник кровавый я бессилен.
Товарищ Генеральный секретарь,
Во имя Бога, Бога и России!
На струне перетянутой держится
И вопит Вам со всех колокольнь
Несказанная боль Самодержца
И анафемы Тихона боль!
1984 год
ПОВЕЗЛО ЖЕ
Повезло же, скажу я, Вольфганг Амадею
Моцарту –
Хоть до срока ушел, но вознесся и много
успел.
Разорвали б сегодня его, как крапленую
сальную карту,
Лишь за то, что он «Мурку» играть
не умел.
Повезло и Ван Гогу, от роду не знавшему
слуха.
Отжила вместе с ним его пьяная стая
химер.
Оторвали б ему и второе, и первое ухо
Лишь за то, что «Подсолнухи» выписал
в малый размер.
И Джордано костер показался бы мерой
лояльной,
И за то, что он «вертится мир наш» сказал,
Пропихнули б ему кой-куда разогретый
паяльник –
Он обратное б в этот же миг доказал.
Вот и мне повезло: я умею и кистью,
и «Мурку»,
И что вертится мир, я могу говорить
или петь.
И пока не восстал во плоти мавзолеевый
урка,
Как мне хочется тоже хоть малость пожить
и успеть.
1997 год
ПОПРОШАЙКА
Мир играет в цифры, в буквы,
В званья, в должность или в чин.
Мир играет даже в куклы
Всех цветов и величин.
Кукол разных-всяких шайка
Ходит-бродит по земле.
А я кукла-попрошайка,
Я живу себе в Кремле.
Я протягиваю ручку –
Научилась – будь здоров! –
Выпрошать себе получку
У заморских спонсоров.
А попробуй, помешай-ка –
Полыхнет огнем земля!
Я ведь кукла-попрошайка
Из могучего Кремля.
Все могу я быстро, ловко –
Кто с такими пропадет?
Только дочь моя, воровка,
Все добро мое крадет.
Вот и ходят разговоры
И плодятся за спиной,
Что за мной все куклы-воры,
Как за каменной стеной.
Ну да черт с ним. Пусть воруют.
Не мешали бы просить.
И живут себе – пируют
На земле, как в небеси.
А попробуй, помешай-ка –
Вмиг огрею булавой!
Я ведь кукла-попрошайка
С гордо поднятой главой.
Но постарела я, опухла,
И мерещится под век,
Будто я совсем не кукла,
А почти что человек.
Будто я и не просила.
Будто я и не крала.
Всю одежду я сносила,
Остальное пропила.
Так подайте ж на заплаты,
На прикрытье наготы!
Пожалейте, супостаты,
У последней, у черты!
Я б, быть может, не просила,
На чужое заря пасть,
Просто в матушке России
Больше нечего украсть.
1999 год
ПОРОСЯЧИЙ РАЙ
Время брыкается – да идет,
Уминая, как Молох, нас.
А в Кремле, вишь, опять идиот.
Ах, впрочем, в первый ли это раз.
Сабля-меч из папье-маше,
Треуголку скроив в треух,
Он мирянам свербит в душе
И гоняет дворцовых мух.
Господи, Боже мой, Боже мой,
Рубится в пух и прах.
Бьется, как конь стреноженный,
Ветер в его вихрах.
Время мается да орет,
Все на свете крестьми крестя.
Вишь, сундук?.. А вокруг ворье.
Здесь, в России, оно в гостях.
На заморских фамилий рой
Все поделено на паях.
А в Кремле, вишь, опять герой
Рубит шашками в «чапая».
Господи, боже мой, боже мой,
Хоть ты в иерихон сыграй.
Про рай с поросячьими
рожами –
Про Поросячий Рай.
Время морщится, да свистит,
Да над каждой хрипит верстой.
А в Кремле, вишь, опять трансвестит,
Политический, не простой.
Что осталось ему? Дожить.
Веет холодом от корон.
Но над скипетром он дрожит
И вцепляется с хрустом в трон.
Господи, Боже мой, Боже мой,
Пошли нам прозренья для:
Что ж они так похожи,
Как все кирпичи Кремля?
1999 год
ПОСВЯЩАТЕЛЯМ
Который раз таранят слух мне
Три фразы, сбитые в панно:
«Не гаснет свет…», «свеча не тухнет…»,
«Высоцкому посвящено…»
Дежурно-скорбные туманы:
«Ах, как велик…», «ах, был гоним…»
И бьют поклоны графоманы –
Гнусней не видел пантомим.
Беда вдвойне, что в хоре этом,
Не дань отдав – отдав концы,
Вполне приличные поэты,
Вполне приличные певцы.
Так сука мартовская щенит –
Где миг застал, там опрастал.
Не нужно ваших посвящений.
При жизни надо – жил до ста б.
А не юродливо во скорби
На посвященьях в рай ползти –
Вас время завтра вырвет с корнем,
А он останется расти.
Кто б вам Евангелие листнули –
Две строчки надо б знать всего:
«Не поминайте имя всуе
Господне…» Это про него.
1988 год
ПРИМАДОННА
«Примадонна» рыжей гривой гонит бриз,
Сучит ляжками.
А вприпрыжку с ней неистовый нарцисс
Под блестяшками.
А еще кордебалет, а на лобках –
Бирки с ценами.
И на махах все летят, как на пинках,
По-над сценою.
И фонтаны световые кверху дном
Бьют, как мочатся.
И глазеет городской Великий Гном –
Просто хочется.
Расстелили над озимыми брезент,
Мнут-кобенятся.
Вот вам, матушка Россия, и презент.
С возрожденьицем!
А у девочки глазастой
Бьют ресницы, бьют, как ласты.
И плывет она глазами
По соленой по воде,
Где нарядами из тины
Щеголяют арлекины,
И кудахтают фрейлины
В позолоченной узде.
И затянутый в гипюре, стар и гнил,
Весь – в приказчика,
С головой дырявой истовый дебил
Прет из ящика.
Зимней вишни наглотался – не пропал
Босоногонький.
Что ж ты, матушка Россия? Это бал.
Хоть убогонький.
А у девочки глазастой
Бьют ресницы, бьют, как ласты.
И плывет она глазами
По соленой по воде,
Где нарядами из тины
Щеголяют арлекины,
И кудахтают фрейлины
В позолоченной узде.
Мне витрины городские – зеркала.
В них не молятся.
И душа моя – ан тоже из стекла –
Пни – расколется.
Но порежется с осколков целый мир,
Сладкий-лакомый.
Что ж ты, матушка Россия, этот пир –
С вурдалаками?
А у девочки глазастой
Бьют ресницы, бьют, как ласты.
И плывет она глазами
По соленой по воде,
Где нарядами из тины
Щеголяют арлекины,
И кудахтают фрейлины
В позолоченной узде.
1998 год
ПРО ВОДКУ
Все вытерпит мужик исконно русский –
Проматерится, разве что, вполглотки,
Коль нет обуток или нет закуски,
Но не потерпит, если нету водки.
Что врать – мы все корнями от сохи.
Чьи глубже только, чьи помельче.
Но все мы над стаканом – мужики.
Нам всем стакан бывает, как бубенчик.
Известно с самой древности, что пьет
Запойней всех мужик бесштанный самый.
И напоказ стакан последний бьет,
И поминает непристойно маму.
Здесь горечь вековая и тоска
Замешаны на ухарстве лубочном –
Нам антиалкогольного броска
Так просто не осилить, это точно.
Любых страстей, любых примеров тьма
Не в силах сбить простейшую из истин:
Мужик запойный пашет задарма,
Отдав за водку все свои корысти.
А споенный, когда уж не до дум,
Он виноват и совестлив по-русски.
И пашет триста с лишним дней в году
С надеждой, верой и любовью.
Без закуски.
1999 год
ПРОРВА
А на изгородь туман пригвожден-прибит,
Подолом метет пол.
К слову слово в ряд – аж в глазах рябит
Из высоких хитрых слов частокол.
За плетенем – темень-тень утопила двор,
Хоть бы лучик где, что ль.
В дом полушку хоть – да на воре вор.
Рыщет по двору голь – на голь.
Что за прорва! Ни покрова и ни крова
нам.
Вдоль забора – кругом, кругом голова.
По России раз-раз-разворованной –
Ать-два, ать-два, ать-два!..
Из печи огонь торчит, воет, лижется,
Хищным оборотнем – в свет.
Красной тряпкой из трубы с красной
книжицей –
Да хоть бы света луч с того – ан нет!
Почернеет на глазах, как задушен.
Ненасытен. Стоголов.
Гольной голи в разворованные души
Сыплет пеплом выгоревших слов.
Нищих – прорва. Ни покрова и ни крова
нам.
Вдоль забора – кругом, кругом голова.
По России раз-раз-разворованной –
Ать-два, ать-два, ать-два!..
Эй, огня! Свечам господним не до нас,
поди.
В топку брошенный лик
Не согрел теплом своим – так нас,
господи! –
Вот и скалимся на угли.
1990 год
СОБАЧИЙ ВАЛЬС
Мне приснился кошмар. Но не ведьмы,
и не вурдалаки.
Я подушку кусал, одеяло во сне чуть
не сгрыз.
Мне приснилось, что все мы отныне –
собаки.
То ли высшая воля свершилась, а то ли
каприз.
И теперь наш собрат всякой масти, от белой
до черной,
Поливает углы и легко переходит на лай,
И живем мы теперь в образцовой большой
живодерне,
Как туземцы, которых увидел Миклухо
Маклай.
По породе и жизнь: беспородный – считай,
неудачник.
С родословной – похлебка с костями
и спать в нумера.
А которые просто собаки – тех в общий
собачник.
Раз, два, три… Раз, два, три… Раз, два, три…
На троих конура.
Разделились на догов-бульдогов. И мелочь
живая.
Кроме белых болонок к себе никого
не пустив,
В окруженье легавых московская
сторожевая
С доберманами, глядь, уплетает мясцо
без кости.
И совет кобелей (и такой был – а как же
иначе!)
Огласил: «В мыловарню, кто тявкнет
не в такт и не в тон!
А кто нюхать горазд – то не ваше, мол,
дело собачье.
Ваше дело – служи. И почаще, почаще
хвостом!».
Я во сне был большой и горластой дворовой
собакой
И облаял за это холеных дворцовых борзых.
И когда началась в подворотне неравная
драка,
Кобелина легавый мне сбоку ударил под дых.
Укусила меня ниже пояса злобная шавка,
В тон завыл по-шакальи трясучий карманный
терьер.
Изодрали в клочки – из меня никогда
не получится шапка,
Оттого, может быть, и заперли в отдельный
вольер.
Заблажили, завыли: «Сбесился!..
Сбесился!.. Сбесился!
Порешайте скорей с этим диким
не нашенским псом!
В самый строгий ошейник его, чтобы сам
удавился!»
Я хотел уже было. Да вовремя кончился сон.
1986 год
СТЕНКА
Вот и снова на потребе
Всё, от кистеня до петли.
И кликуши, как один – в стаи.
Вот опять в свинцовом небе
Алюминиевые журавли,
А мундиры и поля – крестами.
То ни маневрами не кличут,
ни войной.
То за красной, за набыченной
стеной
Пьют, воруют, лаются!
А Россия, как подстилка
(не жена),
И заложена, и перепродана,
Перед стенкой мается.
И опять у трона с ложкой
Весь антихристовый род –
Поживиться, пожидовиться,
пожамкать.
Об Царь-пушку точат рожки,
Чтоб Царь-колокол – в расход! –
Не в своей стране, поди, не жалко.
Как проказа, как холера, как
чума.
И Россия через то – хромым –
хрома –
Мрет, дерется, кается!
И война одна – как мать родна.
Кровку пьет, да все не видит дна.
Да пред стенкой мается.
Отрыдают бабы в землю
Под салютные хлопки
И затянут на душе пояс.
И солдатик, что не внемлет,
Вознесется в ангелки
И прольет на Русь слезу-горесть.
А за стенкой на зачумленных
балах
Помянут, да и запляшут
на столах –
Сожрут, споют, сбратаются!
А Россия с голодухи вся бледна,
Присно крестному знамению
верна,
Перед стенкой смается.
1999 год
СТРАНА ВСЕОБЩЕГО ВРАНЬЯ
Уже не врут, не лгут, не брешут,
А льют помои через темечко страны.
Уже не мнут, не бьют, не режут,
А норовят тишком пальнуть из-за спины.
А в телевизоре одни и те же рожи –
Вижжат, басят и буратинят голоса.
И все похожи. И все похоже
На попугайно-канареечный базар.
Уже не йдут, не прут, не скачут.
Уже вертляво и стремительно ползут.
Не огорчаются, не охают, не плачут,
А всё терзаются и всё нутро грызут.
А в телевизоре смешно, как
в зоопарке –
И так же пахнет, и такая же неволь.
Да депутатишки, что мертвому
припарки –
Играют доктором прописанную роль.
Уже не квакают, не хрюкают, не квохчут.
Уже вороны перешли на волчий вой.
Не осаждают, не сминают и не топчут –
Уже вбивают в землю прямо с головой.
А в телевизоре цветные педерасты
Вопят и скачут, да и водят хоровод –
Беззубы, стрижены, гривасты
и вихрасты –
И кто кого из них – сам черт не разберет!
Уже не чествуют, не здравят
и не славят.
Уже развешивают тихо ордена.
Не назначают, не снимают и не ставят,
А поднимают и вдевают в стремена.
Уже давным-давно не пахнет
россиянством,
И не поймешь теперь, где гусь,
а где свинья.
И всем присвоено еще одно гражданство:
Я – гражданин Страны Всеобщего
Вранья.
2000 год
ДАЖЕ СВОД ТЮРЬМЫ СТАРИННОЙ
БАБОЧКА В ЗАПРЕТКЕ
Бабочка летает в запретке –
Что ей от весны не балдеть.
А мне еще две пятилетки
На бабочек в запретке глядеть.
В синем небе, как в сковородке,
Жарится солнца блин.
Мы с ней по первой ходке
Жить на земле пришли.
Ах, как она летает,
Мысли заплетает,
И на сердце тает лед.
А мне под вечер в клетку,
Но только шаг в запретку,
И меня, как бабочку – в лет!
Письма, что слетались когда-то,
Бродят вдоль по краю земли.
Крылья их изломаны-смяты,
Или на свече обожгли.
А строчки, что в клетках петляли
И так не хотели в огонь,
Спеты мне с небес журавлями
Под ветровую гармонь.
Ах, как они кричали,
Меня не привечали,
Их простыл-растаял след.
И в запретке только
Бабочкина полька,
А жизнь моя была – и нет.
Завтра прилетят на подмогу
Птицы, грозы, тучи и пух.
Две пятилетки – не много,
Если сосчитаешь до двух.
Обвыкнется и приживется –
Я здесь не навсегда.
И с неба однажды сорвется
Прямо в запретку звезда.
Ах, где она летает,
Бродит-обитает,
Где на землю упадет?
Прямо с неба в клетку,
Но только б не в запретку –
Ведь ее, как бабочку – в лет!
2001 год
ГАРМОНИСТ
Гармонист рванул меха, а голос хриплый
Близко к сердцу полоснул, как наждаком.
И слова к мотиву сразу как прилипли,
До живого доставая прямиком.
Замычали из-под левой кнопки басом,
Полетела из-под правой вверх свирель.
Гармонист, уж не в ударе ли ты часом,
Или вспомнил свой семнадцатый апрель?
Поиграй еще, еще,
Разойдись на все плечо.
Не на «браво», не на «бис»
Поиграй мне, гармонист.
Сквозь морщины видно – парень
синеглазый
И в кулачном, и в любви бывал мастак.
А еще, как на ладони, вижу разом
Голубых апрелей долгий «четвертак».
Оттого-то ноги в пляс совсем не тянет –
Тянет руки за кисетами вразброд.
И слезой горит гармони черный глянец,
И табачный дым меха ее дерет.
Поиграй еще, еще,
Разойдись на все плечо.
Не на «браво», не на «бис»
Поиграй мне, гармонист.
Из-под Волги, из-под Курска до Берлина,
До победы из окопа да в окоп.
У своих висел на мушке – морщил спину.
У врагов плясал на мушке – морщил лоб!
Треск вагонный, стук прикладный, лай
собачий –
Все смешалось в перелатанных мехах.
Гармонист поет, хрипит, как будто плачет –
А то ли хромка плачет, стиснута в руках?
Поиграй еще, еще,
Разойдись на все плечо.
Не на «браво», не на «бис»
Поиграй мне, гармонист.
1985 год
ЖЕНСКИЙ ЭТАП
Прочифиренные воровки,
Каких уже не кличут «телками»,
В толпе с растратчицами робкими
Пестрят, как бабочки под стеклами.
Фарца, валютчицы, наводчицы –
Разбитых пар и судеб месиво.
Статья… фамилия… имя… отчество…
А-ну, этап, к вагону! весело!
Студентки есть и есть красавицы.
Есть малолетки – дым романтики:
Жизнь, бля, конфетами бросается,
А долетают только фантики.
Этап. Нет слова горче, желчнее.
Всё – в мат. Всё – без предупреждения.
А-ну, конвойный, падшей женщине
Хоть ты-то сделай снисхождение.
«По трое в ряд! Сцепиться за руки!..»,
Побитым пешкам в дамки – без понту.
Судьба впустую мечет зарики,
Дотла проигранная деспоту.
В блатные горькие гекзаметры
Этапы женские прописаны.
Вагон пошел… А время – замертво,
В 37-й как будто выслано.
Где всё вот так, от цен до ругани.
Плюют, как семечками, шкварками.
Бульваром под руки – подругами,
Этапом за руки – товарками.
Всё по закону, быстро, просто так,
По трое в ряд, к вагону! весело!..
Идет этап из 90-го.
Разбитых пар и судеб месиво.
1986 год
ЖУРАВЛИ НАД ЛАГЕРЕМ
Журавли в который раз
Над землей состроят клин,
Лето, выжженное в дым,
Оставляя позади.
В небо голову задрав,
Я машу вам не один –
Мы так свято верим в вас
И вслед всем лагерем глядим.
Журавли в который раз
В сером небе станут в строй
И поманят за собой,
Да не вырваться никак.
И покатится из глаз
Дождь холодный и сырой,
И отчалит вдаль косяк,
Окликая грешных нас.
Журавли над лагерем –
В сердце острый клин.
Журавли над лагерем –
Ангелы земли.
Журавли над лагерем –
Радостная весть.
Птицы-бедолаги, вы
Не садитесь здесь.
Жизнь моя средь бела дня
Подпирала небосвод
И отмеренные дни
Собирала в долгий клин.
Но с вами грешного меня
Разделяет только год,
А с любимой – верной ли? –
Разделяет не один.
Журавли над лагерем –
В сердце острый клин.
Журавли над лагерем –
Ангелы земли.
Журавли над лагерем –
Радостная весть.
Птицы-бедолаги, вы
Не садитесь здесь.
2000 год
ЗАПИСКИ
Она мне писала не письма –
Записки в конвертах смешных.
И осень мне поступью лисьей
Носила, как золото, их.
Семь строк без ошибки-помарки,
Кружавых, как вальс на балу.
И клеила мне вместо марки
Помадный большой поцелуй.
Ах, записки, запи-записочки
От девчонки – от кисочки.
Ах, журавлик бумажный, какой
ты смешной!
Ах, записки, запи-записочки
От девчонки – от кисочки.
Я закрою глаза – и он снова
кружит надо мной.
Линейки косые, как дождик,
В них строчки размыть не смогли.
Летает журавлик, как может,
С ладони ее до земли.
И что-то еще между строчек
Не может мне в голос прочесть,
Но хочет из неба, так хочет
Мне бросить хорошую весть.
Ах, записки, запи-записочки
От девчонки – от кисочки.
Ах, журавлик бумажный, какой
ты смешной!
Ах, записки, запи-записочки
От девчонки – от кисочки.
Я закрою глаза – и он снова
кружит надо мной.
1997 год
КАТОРЖАНСКИЕ БАЙКИ
Каторжанские байки.
Пойдут – только за душу тронь.
Как искра на фуфайке:
Подуй – превратится в огонь.
Ничего не напорчу.
Уколет, но не перевру.
Расскажу – переморщусь,
А значит, еще поживу.
Каторжанские байки.
В электричке хрипит инвалид.
Как по карточке-пайке
Та гармошка болит и болит.
Христа ради не дали,
Так хоть гляньте глазком:
На фуфайке медали –
Разве можно ползком?
Папиросный дым колкий,
Портсигар-гроб – поминки по нем.
Родословных наколки:
От души получилось – синё.
Беспризорник-культяпка
Воробьем, как на шухер – на дверь.
Это что же, твой папка?
Да, слабо распознать вас теперь.
Наваждение сучье!
Горло лопнет гармонье сейчас.
Я сыграл бы вам лучше,
Да такое играется раз.
– Чай, бредешь не в Клондайке!
Опупел, пассажиров будить!..
Каторжанские байки.
Остановка. Пора выходить.
1997 год
МЕДСЕСТРИЧКА
Медсестричка – украшенье лазарета –
Пела песенки, иголками звеня.
А моя, казалось, – всё.
А моя, казалось, – спета.
И она одна лишь верила в меня.
И не хворь меня терзала, и не рана.
Не проросшее на памяти былье.
Не тюремная тоска.
Не пропитая охрана.
А глаза большие добрые ее.
Завтра лето. Впрочем, то же, что и осень.
Моет крышу лазаретного дворца.
Мне до первого птенца
дотянуть хотелось очень,
Что, бескрылые, горланят без конца.
И не повести мне в душу, не рассказы,
И не байки про чужое и свое.
Не гитарные лады,
не приметы и не сглазы,
А глаза большие добрые ее.
Отлетает в небе пух – на синем белый.
Помету его в оконцах, как малец.
Мне на утро ни одна
никогда еще не пела.
Мне за всех отпел и вылетел птенец.
Завтра лето, завтра гулкая карета
Хлопнет дверью и меня уволочет.
Медсестричка, ангел мой,
украшенье лазарета,
Спой мне песенку свою через плечо.
1996 год
НОЧЬ НАВЫЛЕТ
Ночь навылет звездой протаранена,
И юродствует выпь.
Вот она, бела света окраина –
Топь, в какую часть света не выйдь.
Безворотки тенями сутулыми,
По цепи кашель-хрип.
То земля желваками над скулами,
То вода сапогами навсхлип.
Небо. Нет, шкура волчья, облезлая –
Ляг – раздавит свинцом.
Все мы здесь – босиком вдоль
по лезвию,
Оболочки с живым холодцом.
Это здесь след проклятия вечного
Вбит, распластан, распят.
Боль Руси, шрам искусства заплечного,
Вот он, здесь – от макушки до пят.
Охраняют столетние вороны
В землю вогнанных здесь.
Номерные кресты на две стороны,
Цифры – судьбы, забитые в жесть.
Сколько ж их, пооблепленных каркалом,
Из болот проросло,
Отхромало и кровью отхаркало
Перед тем, как на палку – числом?
Из шеренги понурых, остриженных –
Вот и я, безворотка мала.
На кострищах болотных,
повыжженных –
Недотлевшая угли-зола.
И глаза. Это все, что из облика
Мне к улыбке былой.
Остальное дымит и, как облако,
Улетает мертвецкой золой.
В этом рубище, впрямь, на преступника,
Как две капли, похож.
Мне, как всем, нет иного заступника –
Мат площадный, да кнопочный нож.
И в бараке с повадками лисьими
Сон мой – каторжник-вор –
Совершает побеги за письмами
Далеко за колючий забор.
В долгий путь, что не верстами мерится,
Как зловонная топь –
То погаснет, то снова засветится –
Через ночь, через душу – навзлобь.
Беспримерный в своей испоконности,
И охота блажить:
Нет на свете страшнее законности,
Чем законность святая – дожить!
1986 год
ОБО МНЕ И СЛОЖАТ ПЕСНЮ
Обо мне и сложат песню,
Скажем, например,
Так уж точно околесню
На блатной манер.
Два притопа, три прихлопа,
Три аккорда в ряд –
Под такие вся Европа
Пляшет, говорят.
Да припутают при этом
Девок и тюрьму –
Раз уж был блатным поэтом,
Подставляй суму.
Ярлыков-то в жизни разных
Я переносил,
Не досталось только красных.
И за то – мерси.
Не кричал – глаза навыкат:
– Родина моя!.. –
А любить ее привык, вот,
Мудро, как змея.
В пустобрешной голосильне
Брезговал дерзать.
Я лечил ее посильно,
Как больную мать.
А за это «опекуны»,
Сев на сундуки,
Рвали мне лекарства-струны
И – на Соловки.
Ну, да я душой пошире,
Я прощаю их –
Помнят пусть о дебошире,
«Осквернявшем стих».
И когда из бронзы-стали
Их повалят род,
Выше всяких пьедесталей
Станет эшафот,
На котором я не в камне
Выбит-изваян,
Расплодился, нет числа мне,
Вечный, как Боян.
А вокруг, мне ниже пупа
Ихни бюсты-вши.
Мать-История не глупа,
Так и порешит.
1984 год
ОЖЕРЕЛЬЯ МАГАДАНА
Пробил час. К утру объявят глашатаи
всенародно –
С опозданием на полвека – лучше все ж,
чем никогда! –
«Арестованная память, ты свободна.
Ты свободна!»
Грусть валторновая, вздрогни и всплакни,
как в день суда.
Стой. Ни шагу в одиночку, ни по тропам,
ни по шпалам.
Нашу пуганую совесть захвати и поводи
В край, где время уминало кости
Беломорканала,
Где на картах и планшетах обрываются
пути.
В пятна белые земли,
В заколюченные страны,
Где слоняются туманы,
Словно трупы на мели.
В пятна белые земли –
Ожерелья Магадана,
В край Великого Обмана
Под созвездием Петли.
Это муторно, но должно: приговор
за приговором –
С опозданьем на полвека – приведенный
отменять.
Похороненная вера, сдунь бумажек лживых
горы –
Их на страже век бумажный продолжает
охранять.
В них – как снег полки на муштре – топчут
лист бумажный буквы,
Выбивая каблуками бирки, клейма,
ярлыки.
А кораблики надежды в них беспомощны
и утлы,
Их кружит и тащит, тащит по волнам Колым –
реки.
В пятна белые земли,
В заколюченные страны,
Где слоняются туманы,
Словно трупы на мели.
В пятна белые земли –
Ожерелья Магадана,
В край Великого Обмана
Под созвездием Петли.
1986 год
ОСВОБОДИЛСЯ
– Хватит сидеть в тюрьме, выходи! –
Проговорил мне начальник так
ласково, –
Джина и то отпустил Алладин,
А что не вернешься в бутыль – верю
на слово.
И вот он, шумит, вокзал, вот вагон,
Только окошечки не зарешечены.
Только садиться не надо бегом
И проводница годится мне в дочери.
Вот этот город. А ты кто такой?
Как вороные сюда тебя вынесли?
Можешь деревья трогать рукой –
Их не узнаешь, они уже выросли.
А за деревьями дом. А в нем она.
На пианино бренчит, и – небеса в душе.
Может, засветятся окна с темна,
Может, одна и все также не замужем.
Пару шагов во двор – вот и дружки.
Истосковались, поди, а толку ли?
Ни рылом, ни нюхом – тюремной
тоски,
А разрисованы все наколками.
Каждый второй постарел, поседел,
А остальные толстеют от лени.
И хоть никто из них не сидел,
Ботают лучше меня, да по фене.
Значит, ударим в лады – в них ведь
бьют.
И все заискрится бокалами пенными.
И спляшут они, и подпоют
С голыми, голыми, голыми стенами.
А напоследок еще вина –
Озеленить на душе проталины.
И позвонить. А трубку возьмет она.
И скажет в сердцах: «Не туда попали
вы».
Освободился, освободился –
Воля упала с неба в суму.
Словно влюбился, снова влюбился.
Только в кого, не пойму.
2002 год
ПОЛУДУРОК
Скорый поезд черной сажей
Мажет небо, возит урок.
«Ах-ха-ха!..», – им бодро машет
Привокзальный полудурок.
Он блаженный, он свободный,
Машет бодро грязной лапой –
«Ах-ха-ха-ха!…», – непригодный
Для суда и для этапа.
И меня когда-то так же
Решеченная карета
По бумажке с черной сажей
Впопыхах везла из лета.
По бумажке-приговору,
Огоньки в окне свечные.
Ах-ха-ха! Бежать бы в пору,
Да собаки не ручные.
И меня ждала в постели,
Кудри белые просыпав,
Но колеса вдоль свистели,
Одурев от недосыпа.
И, казалось, в сон сквозь сажу
Кудри белые как ватман, –
Ах-ха-ха! – войдут и скажут:
«Выходи, тебе обратно».
Но тонули в сером утре,
Где рассвет совсем не розов,
И желтели эти кудри
На нечесаных березах.
Сквозь вокзала закоптелость
Полудурка взгляд кристальный.
Ах-ха-ха! Как мне хотелось
Поменяться с ним местами
1998 год
САМОСТРЕЛ
Вчера на самострел пошел вышкарь –
Не выдержал мороза мальчик с юга.
За пулей вслед пороховая гарь
Влетела в кость ему быстрей испуга.
Ах, как бы грел его тулуп,
Постой он в зековской телажке,
Да чтоб с утра не масло и не суп,
А черпачок перловой кашки.
С беспомощностью мамина сынка
Он дернул спуск, не видевший на юге,
Как пашут, чтоб не вымерзнуть, зека.
Как на морозе трескаются люди.
Ему полгода отстоять –
И улетай щеглом из клетки.
Ему, ведь, – жить. Нам – выживать.
Ему – года. Нам – пятилетки.
Без часового вышка – просто блеф.
Придет другой. Тот в рай добудет
пропуск.
Замерзнет он – в запретку кинет грев,
Покличет: – эй!.. – пальнет и съедет
в отпуск.
Обмоют лычку землячки.
– Пока я жив, учитесь жить, салаги.
………………………………………………….
Под вышкой грев. Голодные зрачки.
И кто-нибудь пойдет. На то и – лагерь.
1989 год
СЕРЫЕ ЦВЕТЫ
Нет ничего печальней воркотни
Продрогших сизарей тюремных
На крышах, на подворьях западни,
Когда встречают день в заботах бренных.
Нет ничего печальнее глядеть,
Как прыгают над хлебной коркой.
И долбят, долбят клювом эту твердь –
Сухарь казенный, черный и прогорклый.
Нет в мире сиротливее двора
И вечней серых постояльцев,
Носящих серость крыльев и пера
За крохами на грязно-красных пальцах.
Слоняясь по карнизам гулких стен
То вверх, то вниз – и так стократно –
Вам не понять, что дом ваш – это плен.
И чей он плен – вам тоже не понятно.
Летите прочь, чего ж, в конце концов,
Вы медлите, сбиваясь в пары?
И мир потом крадете у птенцов,
Свивая им, о нет, не гнезда – нары!
Как хочется рукой вам помахать.
Летите, вам не надо визы.
А я останусь время коротать,
Слоняясь, как и вы, в одежде сизой.
Нет ничего печальней суеты
Продрогших сизарей тюремных.
На белом снеге – серые цветы.
В насиженных и самых прочных стенах.
1985 год
СОН
На полустанках снег колючий,
Как проволока на ветру.
И от моей свободы ключик
Конвойный прячет в кобуру.
Горят поля и дразнят дымом
Через решетное окно,
И пролетает воля мимо,
Как в злом ускоренном кино.
Давай гудок и, с богом, трогай,
Табачной мутью застилай,
Пусть мне мечтается дорогой
Под стук, под гомон и под лай.
И ночь, как черная могила,
Стучит и ломится в окно.
Приснился сон? Или так было?
Давно, красиво и тепло.
Через плечо змеились волосы
И мне спадали прямо в горсть.
И говорила нежным голосом:
«Ты до утра желанный гость».
Окурков белые скелетики
Задохлись в собственном чаду.
Ты голая, в одном браслетике,
В каком, не помнится, году.
А конь железный бьет копытами
И все не жмет на тормоза.
И снова кажутся забытыми
Твои печальные глаза.
Вагон качается и блазнит,
Ему, как пьяному, точь-в-точь.
Давай себе устроим праздник –
Друг другу сниться в эту ночь.
На полустанках снег колючий,
Как проволока на ветру.
И от моей свободы ключик
Конвойный прячет в кобуру.
Но в этой безнадеге даже
Стучит мне в темя колесо,
Что я вернусь когда-то так же,
Как ты ко мне вернулась в сон.
2000 год
ТИК-ТАК
Посвящается А. Я. Якулову
Просидим за столом до поздна, а в конце
Мы с Великим Маэстро сыграем в концерт.
Не про то, как года утекали водой в решето,
А про то, как мы были зэка ни за что,
ни про что.
Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так…
Как над комодом ходики,
Часы отсчитывали срок
И куковали в такт.
Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так…
А мы считали годики.
И нам тогда их было впрок
Отпущено затак.
Он был просто зэка
И один на весь лагерь скрипач.
Его скрипка срывалась со смеха на плач.
Не с того, что ей в грудь била грусть
от смычка,
А с того, что и скрипка считалась – зэка.
Я был тоже зэка.
И пила – был мой лучший смычок.
А гитара трещала и вешалась мне на плечо.
Не с того, что ей грустно в тюрьме было
день ото дня,
А с того, что сидел он за тридцать годков
до меня.
Просидим за столом до поздна, а в конце
Мы с Великим Маэстро сыграем концерт.
Не про то, как мы встретились и обрелись,
А про то, что такая короткая долгая –
Жизнь.
Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так…
Как над комодом ходики,
Часы отсчитывали срок
И куковали в такт.
Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так…
А мы считали годики.
И нам тогда их было впрок
Отпущено затак.
2002 год
ЭТО НЕ ЛЕТО
Время свое потихоньку берет
Ловкой рукой.
Птицам назавтра опять перелет –
Небо черкнув серой строкой.
Взмоют. Покружат. И вдруг на душе
Как отлегло –
Это мой срок на исходе уже,
И в честь него с неба – тепло.
Но это не лето.
Это тепло, что вчера не убила зима.
Вместо огня, по глотку, пусть достанется
всем.
Это не лето.
И потому лист кружит и кружит без ума,
И не спешит с небом расстаться уже
насовсем.
Письма-заморыши издалека –
Клочья тепла.
Их на костер не отправит рука –
Всё в них и так – в угли дотла.
Их перечесть и вернуться назад –
Мне не суметь.
В каждом из них вместо точки слеза
Колет и жжет, и пытается греть.
Но это не лето.
Это тепло, что вчера не убила зима.
Вместо огня, по глотку, пусть достанется
всем.
Это не лето.
И потому лист кружит и кружит без ума,
И не спешит с небом расстаться уже
насовсем.
1995 год
Я ВЫХЛОПОТАЛ БОЛЬ
Я выхлопотал боль и соль себе на раны –
Железо и бетон – неважная постель,
А кованую дверь не вышибить тараном,
И много ли пройдешь пешком отсель досель.
Натянуты давно в душе как струны нервы,
И шарят пальцы гриф, но корчатся в кулак.
Все утешенье в том, что я уже не первый,
И мачта никогда не вскинет белый флаг.
Всех помню, кто поет и кто угомонились.
И сам еще, хрипя, пытаюсь петь не в тон.
Но карта не идет, хоть козыри сменились,
А жизнь моя и всё – поставлено на кон.
А где-то из двора сирень мне тянет ветку,
И ловит голос мой с магнитофонных лент,
И небу на груди прутом рисует клетку,
А в каждой клетке день из непрожитых лет.
Ах, белая сирень, я все еще мальчишка,
Хотя твой цвет уже крадется по вискам,
Я не вернусь весной, и белая манишка
Твоя пойдет в расход опять по волоскам.
Минуты и часы, и долгие недели
Я вспомню все, как есть, и будет мне не лень,
Я сыну расскажу, за что ж я в самом деле,
А дочке пропою про белую сирень.
А если дотянуть мне сил не хватит лямку,
И духу добежать не хватит до замков,
Прошу тебя, сынок, портрет не ставьте
в рамку –
Я презираю запах туи и венков.
1984 год
Я ВЫШЕЛ ИЗ ЛАГЕРЯ
Я вышел из лагеря голым и босым,
Когда на ветру лист последний дрожал,
И толстый начальник большим
кровососом
Меня со слезой на глазу провожал.
Чтоб я не вернулся сюда никогда –
Он слезы ронял, как из лейки.
Мы с ним провели молодые года –
Он в форме, а я в телогрейке.
Гудело в душе, как в трубе водосточной:
За что отсидел, до сих пор не пойму.
Друзья заплатили, и вот я досрочно
Впервые снаружи смотрю на тюрьму.
И шагу ступить от нее не могу –
Все, кажется, крикнут: «Эй, стой!»
Как будто пред ней до сих пор я в долгу,
Как путник в долгу за постой.
А молодость сроду за деньги не купишь,
Она отгремит, как короткий дуплет.
И толстый начальник, похожий
на кукиш,
Вручал мне на поезд плацкартный билет.
Чтоб я не вернулся, держа на уме
Напомнить ему зло и горько,
Что он до сих пор пребывает в тюрьме
И выйдет он к пенсии только.
1995 год
Я ИМЕЮ ПРАВО
Я имею право драть об этом глотку –
Я таскал свинцовые с гвоздями кирзачи.
На бетоне кутался с башкою в безворотку.
А бывало, что и без нее. И было – хоть
кричи.
Я имею право. Столько лет одной питался
верой.
Подыхал я поминутно от бессилья и обиды.
Присудил себя я к самым высшим мерам:
Подыхая, подыхать, не показывая вида.
И глядело дуло в лоб мне прямо,
И конвойный пьяной тварью смелой
Шмокодявил: «Новик, застрелю тебя –
известным стану».
– Не посмеешь, – говорю. И не посмел он.
И катал остервенело я карандашики –
баланы,
Гитаренку свою квелую в поленьях прятал,
А во сне еще он долго с харей пьяной
Нажимал на спуск который раз кряду.
Сволокли меня. Гитарьи струны вслед мне
выли.
Так по-бабьи, безутешно, как над телом.
Эй, вы, люди, что с гитарами! Где ж вы
были?
Сквозанули, видел я, только следом
засвистело.
Ни строки, ни письмеца, ни махорки пачки
мне.
Да я не ждал. Мне б только знать, что
помните.
О поганого да грешного меня
не запачкайтесь –
С вшами в камере – оно не то, что
в комнате.
Я читал, слыхал и в радио, и в теле
Про лужайки ваши, да костры,
да дифирамбы.
Так случись, что не было б того апреля –
Дули б в прежнюю дуду и были рады.
А теперь Иосифа грызете, Леньку топчете,
Тряпки красные – пинком! – хворь
кумачную.
Молодцы, ребята – вы как я не кончите.
Потому что так, как я, вы не начали.
Слава Богу, не знавали корки черствой
В душегубке на троих поделенной.
Где хрипи: «Попить!», – а в кружке льда
горстка.
Крикнешь: «Дайте кипятку!», – а в ответ:
«Не велено».
И с этапа на этап с заломленными
клешнями –
От стальных браслетов цыпки
на запястьях, –
В том краю, где на болотах – с лешими.
Где от века все поделено на масти.
Я имею право. И деру сегодня связки
Тем, кто строит свои струны в унисон моим.
На болотине, хотя, все подернулося ряской
Над утопшим, перестраданным моим.
Ярлыки, что на помои мне поналяпаны,
Мне не в стыд. Да и не первому носить.
Я имею право. Я плевался кляпами.
Сколько с кровью их по матушке-Руси.
1989 год
Я НЕ БЫВАЛ В МОНАКО
105-я СТАТЬЯ
Кончилась вчера седьмая ходка –
Буду ждать восьмую, как всегда.
А что-то мне совсем не пьется водка,
И табак – какая-то бурда.
И на сердце тоже не спокойно –
Может, мне в натуре завязать?
Может, гражданином стать достойным,
Уголовный кодекс лобызать.
Облобызаю я 105-ю статью
За то, что я не шел по ней ни дня,
А воровскую вечную мою
Оставьте в кодексе на память для меня.
Жизнь моя – она не речка-Волга –
То кандальный звон, то звон монет.
А фраерское счастие – недолго.
А воровского счастья вовсе нет.
И хоть не все срока мои с нолями,
И в реке бурлит еще вода,
Улетают годы журавлями,
Чтобы не вернуться никогда.
2004 год
А ДЕВОЧКЕ ТАК НРАВИТСЯ
Я вырос тут, и все вокруг знакомо мне.
И стало просто дорогим.
И лишь она одна – не по моей вине –
По вечерам слоняется с другим.
Люблю ходить, в карманы руки,
не спеша,
В слепые окна посвистеть.
А ту, которая с другим – но хороша! –
Глазами, и не только, догола раздеть.
А девочке так нравится,
Когда ей вслед уставится
Хороший – не такой, как я!
Хорошим стать не выпало,
Но имя ее выколол –
И девочка осталась – как моя.
Гремел трамвай на рельсах, изводя себя.
В одном вагоне – я, она – в другом.
А с нею он. И я, опять душой скрипя,
Дурные мысли уводил бегом.
Люблю ходить, в карманы руки, не спеша,
По тротуарам тенью плыть.
А ту, которая с другим – но хороша! –
Прижать к себе или скорей забыть.
А девочке так нравится,
Когда ей вслед уставится
Хороший – не такой, как я!
Хорошим стать не выпало,
Но имя ее выколол –
И девочка осталась – как моя.
1995 год
А НА НАРАХ
Печальная мелодия
Со струн катилась, как слеза.
Который год, как в непогоде я –
То снегопады, то гроза.
От случая до случая –
Надежда – писаный портрет –
То исчезает, сердце мучая,
То появляется на свет.
А на нарах, а на нарах,
На гитарах, на гитарах
Нам сыграют про свободу
и любовь.
А на воле, а на воле
Тот мотив, как ветер в поле.
И тюрьма по той гитаре плачет
вновь.
Звенят, как струны голые,
Мне колокольчики-года.
Срываются, как голуби,
И улетают навсегда.
А что еще не выпало,
То ветер, видно, не донес,
Где неба купол выколот
Наколками из звезд.
А на нарах, а на нарах,
На гитарах, на гитарах
Нам сыграют про свободу
и любовь.
А на воле, а на воле
Тот мотив, как ветер в поле.
И тюрьма по той гитаре плачет
вновь.
1997 год
АЙ, МАМА-ДЖАН
На рынке лучше баклажан
Я торговал бы до сих пор.
Ай, мама-мама-мама-джан,
Зачем сюда я сел, как вор.
Я сел сюда не за кинжал,
Не взял чужого ни рубля.
Ай, мама-мама-мама-джан,
Будь проклят этот конопля!
Будь проклят этот анаша –
Какой, в натуре, разговор.
Ай, мама-мама-мама-джан,
Сам не курю я до сих пор.
Вчера Ахмед с тюрьма бежал,
Все у него теперь ништяк.
Ай, мама-мама-мама-джан –
Стоит на вышке наш земляк.
Мне мент-начальник угрожал,
Сказал, меня посадят в БУР.
Ай, мама-мама-мама-джан,
Там держат в клетках всех, как кур.
Я в лазарет три дня лежал,
Три пайки прятал на побег.
Ай, мама-мама-мама-джан,
Поймали суки – выпал снег.
И вот я снова – каторжан,
Мне год добавят или два.
Ай, мама-мама-мама-джан,
Болит, в натуре, голова.
И режет мне сильней ножа,
И давит мне больней петля.
Ай, мама-мама-мама-джан,
Будь проклят этот конопля!
2002 год
БАБУШКА С КОСОЙ
Непутев я с детства был –
Колот был и резан,
Комсомольских активистов
ножичком пугал.
Ах, как девочек любил,
Коль бывал нетрезвым.
Вобщем, очень видным был,
как в глазу фингал.
Дальше было так невмочь –
Сел я очень быстро,
А когда вернусь назад –
знал один лишь бог.
И от радости всю ночь
Пели активисты,
А еще желали мне,
чтоб скорее сдох.
Ах, жизнь моя – тесьма
С черной полосой.
Лучше пусть – тюрьма,
Чем бабушка с косой.
Плакала тюрьма,
А то – смеялася.
А бабушка с косой
За мной гонялася.
Будто высучили мне
На недоброй прялке
Путь, где бродят две старухи –
страшного страшней.
И играл я, как во сне,
С ними в догонялки,
И метался, как чумной,
между двух огней.
На казенные дома
Путались названья –
Год, другой, и вот опять
в новом месте я.
Получилось, что тюрьма –
Вроде, как призванье.
Ну, а бегать от нее –
профессия моя.
2003 год
БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ СВАДЬБА
На безалкогольной чайной свадьбе,
Помню, выдавали мы его.
Помню даже, как сказала сватья:
– Надо бы для горечи… того…
Очень предложением довольный –
Сразу видно, в этом деле хват –
Засветился антиалкогольный
Самый, самый трезвый в мире сват.
– Хватит полчаса для этикету!
Ничего, что пустим по одной!
Комсомольцев меж гостями нету,
Наливай, поехали, за мной!
Хватит тары-бары-растабары –
Завтра, может, свадьбы запретят!
Заливай горилку в самовары –
Пусть чаи гоняют, сколь хотят!
На безалкогольной чайной свадьбе,
Только пропустили по сто грамм,
Тесть сказал: «Покрепче засосать бы», –
Самовару зыркая на кран.
А жених Петруха айкал-ойкал,
Но как только выкрали жену,
После тестя с первым криком:
«Горько!» –
Присосался к этому крану.
И пошло, поехало, поплыло.
Хмель Петруху сразу одолел.
Бабу, что украденная была,
Он два раза с левой пожалел.
А потом, когда уже Петруха
С ней в законный брак вступать пошел,
Шурин зыркнул в скважину: «Там глухо.
Петька дело знает хорошо».
– Васька, ну-к, по клавишам огрей-ка,
Теща хочет «русского» на бис!
Кто желает, может сделать «брейка»
Иль ишшо какой-то «плюрализ».
– Васька, с браги только захворай мне,
Соображай, на свадьбе на какой!
Подымаешь, гад-то, как за здравие,
А лакаешь, как за упокой!
– Ну-ка, свекор, с выходом «цыганку»,
Вроде как и свадьбе ты не рад?
Вроде мы подсунули поганку
За твово беспутного Петра.
Ты упал бы лучше в ноги к свату:
Сколь огреб приданого – спроси!
Вишь, не вылезает из салату –
Радуется: выпил – закуси.
Самовар уже осилил свекор –
Из-за печки «с выходом» не смог.
– Это мой-то сын беспутный Петр!
Ну-ка, живо слазь с яё, сынок!
Выводи сюда ее, Петруха,
Я сейчас вас мигом разведу,
И чтоб в нашей хате ихним духом
Не запахло в нонешнем году!
Да я сейчас про все ее изъяны
Перечислю прямо по пальцам.
А ну-ка, марш отселе, обезьяны,
Походите, змеи, без кольца!
Забирайте с вашей малохольной
Из петровой спальни все, как есть!
Нам не надо – «антиалкогольной»!
Мы свою сыграем, честь по честь!
1989 год
БЕЛОКУРАЯ
Я влюбился в эту девочку не сразу,
Потому, что был игрив не по годам.
А как понял, оторвать не в силах глаза,
Понял, не отдам,
Понял, не отдам.
Никому ее я не отдам.
Но время мечет и тасует злые карты,
И одна из них – «казенный дом – моя.
Мы сидели с ней вдвоем за школьной
партой,
А теперь – скамья.
А теперь – скамья.
Подо мной казенная скамья.
Ах, девочка, прости,
Все б в жизни отдал я
За локон твой в горсти,
Белокурая.
И холодным долгим северным сиянием
Мне светило через ночь ее окно,
Чтобы я на дальнем расстоянье
Понял, все равно,
Понял, все равно,
Я вернусь когда-то все равно.
2004 год
БЕЛЫЙ ПАРОХОДИК
Мы с ней так ждали белый пароходик,
Что режет море вдоль и поперек,
И он уже был к пирсу на подходе,
Когда подали черный «воронок».
Он дал гудок загадочный и зычный,
Поспешностью мне душу беленя,
И капитан с кокардой неприличной
Повез на север с ветерком меня.
А океану-морю
Легко и все равно:
Я паруса отспорю
Или пойду на дно.
А дальше под гитару и голяшку
Сбивал я годовщины-каблуки.
Мне выдали по статусу «тельняшку» –
Да больно уж полоски широки.
Положено по описи. Все точно.
Носи, мол, на здоровье – все твое.
И только вот не выдали на почте
Письмишко просоленое ее.
А океану-морю
Легко и все равно:
Я паруса отспорю
Или пойду на дно.
Хрустел я от досады кулаками.
Заламывалась шапка набекрень.
Друг друга называли земляками –
Из разных городов и деревень.
Внушал себе до тошноты, до слез я,
Что матом поминать судьбу грешно.
И ждал письма. Но почтальон не нес
мне.
А я все ждал и думал – не дошло.
А океану-морю
Легко и все равно:
Я паруса отспорю
Или пойду на дно.
Вгонял в себя узоры черной тушью,
Закалывая все, чем дорожил.
И лишь сильней любил одну и ту ж я,
И, видимо, поэтому дожил.
И в час, когда терпенье на исходе,
Когда толпа бессонниц валит с ног,
Пришло письмишко – белый
пароходик,
Что завтра в аккурат закончен срок.
1986 год
ВАЛЬС ПОД ФАНФАРЫ
Хожу я нервный и смурной –
Куда ни плюнешь – там блатной,
И каждый метит научить
и преподать.
Побольше денег нагрести.
Пошире пальцы развести.
А если что – так век свободы
не видать!
Хожу-брожу – глаза блудят.
Куда ни сунься – там хотят.
И на углу опять хватают за рукав.
А то ли мент, а то ли блядь –
Мне в темноте не разобрать.
Но денег – дать. А то – и кобра,
и удав.
И Зимний взят. И Белый взят.
А в ящик красными грозят.
И сериал. И снова нигеры поют.
Там-там, бум-бум… Бум-бум, там –
там…
Как будто я на пальме там,
И мне тоска по ядовитому копью.
Плевать на «Мерс» и на «Картье»,
Не надо шофера с портье.
Начальник Родины пусть пьет еще
сильней.
Вчера гимнаста снял с креста
И собираюсь на этап,
Чтоб в школу жизни поступить.
До лучших дней.
1996 год
ВАНО, ПРОЧТИ…
Вано, прочти. Ты грамотный? Не знаю.
Сходи к соседу, пусть тебе прочтет.
Скажи, сижу, на зоне срок мотаю.
Увидимся не раньше – через год.
Тюрьма – козел. Я это точно знаю.
У нас в ауле, помнишь, был ишак?
Вот здесь такой начальником канает –
Позорная ментовская душа.
Вчера ходил к дантисту дергать зубы –
Бывает все, я тоже не святой.
Мне так болел, а он, скотина грубый,
Мне вырвал почему-то золотой.
Тебе пишу – жене не выдай только.
Она, наверно, без меня устал?
Я здесь имел одну красивый телка,
Мне этот телка с потрохами сдал.
Когда прочтешь, сходи, проведай Гоги,
Чтоб думал, между прочим, головой.
А то еще ему завинтят роги
И сделают тогда нам «групповой».
Не шли сюда гашиш и даже чачу.
У мне на это аппетит прошел.
Ты замастырь мне лучше передачу –
Побольше сала – будет хорошо.
Я все пишу не ради пропаганда –
Шашлык-машлык здесь много
не найдешь.
Когда вернусь, сварю тебе баланда.
Один-два раз поешь и все поймешь.
А я сижу, не подаваю виду.
И в праздник веселюся от души.
Ты слышишь, брат, я никого не выдал.
Приедь, Вано. А лучше напиши.
Как виноград? Скажи, дорос докуда?
Сейчас, я слышал, рубят на ботву?
Вано, клянусь, в натуре, блядем буду,
Откинусь только, я им пасть порву!
Когда вернусь, поставлю вам статую.
За это будем много выпивать.
Вано, я здесь почти что не блатую.
На волю выйду – буду блатовать!
1996 год
ВАНЯ
В деревне «Наш Ильич»,
Где пьют, только покличь,
Жил Ваня-тракторист –
И строен, и плечист.
На женский пол не слаб,
Да и боялся баб,
И все деньки в году
Сгорал, бля, на труду.
Ваня, Ваня,
ну чего к тебе все бабы пристают?
Ваня, Ваня,
покажи им, пусть попляшут, попоют.
И было у него
Два хоббия всего:
Одно было – гармонь.
Второе, бля – не тронь.
И с этих хоббий двух
Ходил в деревне слух,
Что был у Вани член
Ишшо ниже колен.
Ваня, Ваня,
ну чего к тебе все бабы пристают?
Ваня, Ваня,
покажи им, пусть попляшут, попоют.
Но вот пришла пора –
Армейская муштра.
Пришла пора, как пить –
В солдатики иттить.
Но медосмотр когда
Взглянул ему туда:
– С такою штукой, брат,
Какой с тебя солдат!
Ваня, Ваня,
ну чего к тебе все бабы пристают?
Ваня, Ваня,
покажи им, пусть попляшут, попоют.
И только медсестра,
Красива, не стара,
К поломанной судьбе
Взяла его к себе.
И было, всем в пример,
У них размер в размер.
У них теперь семья.
Такое дело, бля.
2001 год
ВЕНЯ-КОРЕШОК
Играла музыка в саду,
Купались лебеди в пруду,
Улыбки таяли в духах ночной прохлады,
И авто-мото-ямщики
Щипали таксой кошельки,
Пиратов НЭПа доставляя до парадных.
В тот вечер Веня-корешок
Ростовщикам раздал должок
И с умным видом на рулетке делал
ставки –
Он полусонному крупье
В казенном аглицком тряпье
Кричал: «Добавьте по полсотни
для затравки!»
Роняли люстры тусклый свет,
Последний банковский билет
Растаял в Вениных руках пустой
ледышкой,
Как вдруг вошел какой-то тип,
И Веню дернул нервный тик,
И контингент в момент замаялся
отдышкой.
Тот тип был – Лева Михельсон,
Он грел под мышкой «Смит-Вессон»
И мог пулять свинцом слонового
колибра,
Он по природе был артист,
Но играл ни в рамс, ни в вист,
И не лежал душой вообще к азартным
играм.
Он бодро молвил: «Господа!
Прошу вас, слушайте сюда,
Кто будет прятать деньги в туфли
и кальсоны –
Я это с детства не люблю,
Всем оставляю по рублю», –
И почесал за ухом дулом «Смит-Вессона».
Предупредительный крупье
Согнулся в миг: «Прошу, месье.
Прошу учесть, что даже рупь мне будет
лишку –
Я от души готов помочь,
И очень жаль, что время – ночь,
А то бы снял для вас еще свою
сберкнижку».
Тут все почувствовали вдруг,
Что деньги – это злой недуг,
И только Веня рухнул шумно, как
с лабаза,
А заодно смахнул под стол
Десятка два купюр по сто
И напихал за обе щеки до отказа.
За пять минут – каков нахал! –
Всем Лева ручкой помахал
И дверь открыл одним рывком филейной
части.
Как сон растаял нервный стресс,
И нездоровый интерес
Все стали шумно проявлять к набитой
пасти.
У Вени свет в глазах поблек.
– Разинь пошире кошелек! –
Три пары рук сошлись, и вправду стало
шире.
Сорвался крик на тонкий микс,
Как ветром сдуло пару фикс,
И «портмонет» до самых гланд
опустошили.
Поднялся крик, пошел дележ,
Сверкнул над Веней чей-то нож,
И он почувствовал: не время делать
ставки –
Какое дело до грошей,
Когда улыбка – до ушей.
И Веня понял: хорошо, не спрятал
в плавки!
1985 год
ВЕРСТАЧНАЯ ЛИРИКА
С утра вскочу, скривлюсь в зевке
И – марш бегом в столярную!
Успеть сточить на верстаке
Одну строку коварную.
Никак не взять ее пером –
Вечор пришлось помучаться.
Но нынче – дудки! – топором
Хвачу, авось – получится.
А там – в тисы и под резец
По-новому заточенный,
Поскольку – длинный образец,
А нужен – укороченный.
Один резец, потом другой –
Какая стружка пышная!
Гвоздей в нее, загнуть дугой.
Ну, как? Есть что-то лишнее?
Давай стамеску, долото –
Долбить её, сучкастую.
Зачем – перо? Перо – не то!
Оно лишь мажет пастою.
А тут, гляди: запил, овал,
Резьба, заточка с фаскою…
«Гаврила хлебы продавал…» –
Пойду жене похвастаю.
Принес, а баба мне в ответ,
Проклятая изменница:
– И так топить поленьев нет,
Неси, дурак, в поленницу.
1988 год
ВОРОВАТЬ – НЕ НАЖИВАТЬ
Ну когда же все от жизни заберу я –
Все ворую, да ворую, да ворую.
Ах, воровать – не наживать,
Поворуешь и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
Ну когда сердечной раной заживу я?
Украду тогда с небес звезду живую.
Ах, воровать – не наживать,
Поворуешь и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
А той звезде моих карманов было мало –
У меня она еще покой украла.
Ей воровать – не наживать,
Поворует и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
Чем кручиниться, ходить с печальным
взором,
Порешил я жизнь прожить фартовым
вором.
Ах, воровать – не наживать,
Поворуешь и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
А в последний день, что в жизни даст
Господь мне,
Украду ль я свою душу в преисподне?
Ах, воровать – не наживать,
Поворуешь и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
2000 год
ВОРОВКА
В то лето с неба выпала
Большая благодать,
И было мне легко и так приятно.
У ней была причесочка –
«Век воли не видать»,
А юбочка – «роди меня обратно».
А я под «ноль» остриженный, пока,
Военным лазаретом.
А что у ней с наколочкой рука –
Не спрашивал об этом.
Кружили мы, как голуби,
Над крышами судьбы,
И маялись собой от сладкой лени.
Гудели наши головы
От истовой гульбы,
А души – вплоть до белого каленья.
И вот, однажды, спьяну в кабаке
Какой-то сука в ботах
Узрел у ней наколку на руке
И прошептал ей что-то.
И будто кровь отхлынула
В момент с ее лица,
И вниз глаза упали черной птицей.
Я взял его за шиворот
И вынес до крыльца,
И бил, чтоб было проще объясниться.
И вот, когда на нем иссякла спесь,
Мне стало бить неловко,
И я спросил: «Кто она есть?»,
И он сказал: «Воровка».
Тем словом, гад, нарочно он
Мне душу искромсал.
И сердце – как гадюка покусала.
Я бил его за то,
Что он всю правду рассказал,
Но не сказал про то, что – завязала.
И вот, когда вернулся я назад
С лихой и горькой миной,
Лежал один платок ее в слезах,
А в нем: «Прощай, любимый».
А этот сука в ботах
Был, конечно же, ментом,
Из тех, кто нахаляву в месте злачном.
Он срисовал, как с фото,
И нагрянули потом,
И щелкнули браслетами так смачно.
И, окликая прошлое мое,
В этапе женском каждом
Я все искал красивую ее
Среди тюремных граждан.
2004 год
ГАЛЕРКА, ША!
Ах, было время, эта жизнь была – первач,
Мануфактуры запускали под кумач,
А скрипачей уже шугали трубачи.
И Клыч имел тогда наган и хромачи.
А на довесок была слабость у Клыча:
Ходить в кабак и двигать речи сгоряча.
Он полобоймы для вниманья изводил
И агитацию народа проводил.
– Галерка, ша! Я публике скажу,
Кто в этой жизни красный, а кто
белый!
Кого господь для дальшей жизни
сделал,
А кто отжил. Я кончу – покажу.
Внимала влет на дуло глядя сотня глаз,
Что в этой жизни – «элемент», а что есть –
«класс».
Что в этой жизни – «галифе», а что есть –
«фрак».
Что есть – «ладонь», что – «пятерня»,
а что – «кулак».
– Прошу меня за комиссара не принять,
Что мог коммуну на анархию сменять.
Я вас не стану «карло-марксой» заражать,
Что новый мир вам собирается рожать!
Галерка, ша! Я публике скажу,
Что есть для вас – «труба», а что
есть – «скрипка».
А кто в струментах грамотный
не шибко,
Иди сюда, по нотам разложу!
На этом месте он всегда давил крючок.
Но вдруг с мадам одной Клычок поймал
торчок.
Сказал он: «Граждане, лежать бы вам в гробу,
Но ради дамы отменяю я пальбу».
Она сомлела и растаяла, легка.
А по утрянке в коридоре Губчека
Открылась дверь, Клыча пихнули на порог,
И дама спела: «Проходите, демагог».
– Галерка, ша! Я публике скажу,
Где бабий флирт, а где патруль-облава.
И бог не дай, мне подмигнет шалава,
Будь фраер я, на месте уложу!
1988 год
ГЕЙ-ПАРАД
Из журналов несказанного гламура
«Фотошопом» подведены до прекрас
То ли люди, то ли куклы, то ли мурла
Глянцевито зыркают на нас.
Продаются – кто за рупь, а кто –
за сто,
Популярные никто.
А потому что удивительное – рядом,
Потому, что телевизор – как окно,
Потому что шоу-бизнес с гей-парадом
И с гламуром заодно.
Перестало время сыпать оплеухи,
Поменяло поцелуи на плевки,
И кикиморно-стареющие шлюхи
Пишут книги наперегонки.
Продаются – кто за рупь, а кто –
за сто,
Популярные никто.
А потому что удивительное – рядом.
Потому что этот шлюшный книжный
ряд –
Что-то вроде кругового хит-парада –
Алфавита гей-парад.
Перед – в зад. Живот – в плечо.
Как сельди в бочках.
Сотворяют неземные чудеса –
Пришивают к макияжным оболочкам
Буратиньи голоса и словеса.
Продаются – кто за рупь, а кто –
за сто,
Популярные никто.
А потому что удивительное – рядом,
Потому что покупается оно,
Потому что телевизор, с гей-парадом
И шоу-бизнес – заодно.
2007 год
ДЕВОЧКА МНЕ ПИСАЛА
Забуду первый срок едва ли –
Он снится мне во сне.
Когда его давали,
Семнадцать было мне.
И с этим сроком я на пару
Поехал далеко.
И что такое нары,
Усвоил я легко.
А сердце мне грусть,
Сердце мне грусть кусала.
И прыгал во сне под откос я
на всем ходу.
А девочка мне,
Девочка мне писала:
«Куда ты уехал? Зачем ты уехал?
Я жду».
Так год прошел – большой
и серый,
Без птиц и без тепла.
И самой высшей мерой
Разлука мне была.
И наперед немного знать бы:
Кто мне ее вернет?
Но знал я, что до свадьбы
Душа не заживет.
Как тень на голом полустанке,
Я маялся во сне.
И не было цыганки,
Чтоб нагадала мне.
Чтоб хоть на картах в этом мире
Мне выпал точный срок,
Когда в ее квартире
Раздастся мой звонок.
2002 год
ДРУГ МОЙ КОЛЬКА
Друг мой Колька – зуб железный,
С виду легкая рука.
Для науки тип полезный,
А для общества – слегка.
Скажет слово – как отрубит,
Глаз подернет пеленой.
Кольку, ох, как девки любят,
Если спутают со мной!
Мы на снимке как два брата –
Оба в профиль плоховато –
Не попишешь образов.
А мне Колька всех дороже,
Потому что мы похожи
По системе Ломброзо.
Друг мой Колька окаянный –
От горшка все сходит с рук.
Он не курит. И не пьяный –
То ль не хочет, то ль – недуг.
Как пошутит – девки в хохот.
И завьются, как угри.
Только Колька мне про похоть
Ничего не говорит.
Мы на снимке как два брата –
Оба в профиль плоховато –
Не попишешь образов.
А мне Колька всех дороже,
Потому что мы похожи
По системе Ломброзо.
Друг мой Колька – страсть к рулетке.
Он игрок. И я игрок.
Он поставит фишки метко,
Если только я помог.
Третий день, как полоумный,
Ходит он. А я – вдвойне.
Он с ума сойдет от суммы,
Как узнает, сколько – мне.
Мы на снимке как два брата –
Оба в профиль плоховато –
Не попишешь образов.
А мне Колька всех дороже,
Потому что мы похожи
По системе Ломброзо.
Пролетает, ох, как бойко,
Жизнь вокруг. И всадник лих.
И у Кольки тоже койка,
И стол привинчен на двоих.
Нам решетку дождик мочит,
Он поет, а я бренчу.
Он в тюрьме сидеть не хочет.
И я тоже не хочу.
1996 год
КИНО, КИНО
Слабый пол – весь как зараженный
микробом –
Прямо в космы повцепляется вот-вот.
Кинопробы, кинопробы, кинопробы:
Всех попробуют, но кое-кто пройдет.
Интер-Верочка уже есть.
И смотри, какой с нее был сбор!
Людям что, им по глазам – хлесть! –
На постелях верховой спорт.
Победила та, что полом всех слабее.
Но опять же, по параметрам сильней.
Не синеет, не бледнеет, не краснеет –
В общем, все надежды связанные с ней.
И сказал режиссер так:
«Обещаю битву масс у касс.
Мы поставим половой акт.
И, может, даже не один раз».
Сценарист корпит, на пуп пускает
слюни,
Вяжет флирты, вояжи и куражи.
Акт давай! Тогда никто не переплюнет.
Акт давай! Да чтобы от души!
И поменьше разных там дряг –
Это так народ поймет, промеж строк.
Где сомненье – там давай акт.
А где собранье – там давай рок.
Дело сделано. Читаешь – нету мочи.
Можно ночью прямо даже без жены.
И снимать такое надо только в Сочи,
Чтобы были уже все поражены.
Дубль – раз, режиссер – ас:
«Совокупленных прошу млеть.
А, ну-ка, Маня, расчехлись и – фас! –
Получается, гляди-кася, комедь».
Бабки с дедками глазеют: «Неприлично!
Совращает девка внаглую юнца.
И с лица-то вроде все фотогеничны,
А только что-то их снимают не с лица».
Есть у девки, что смотреть, факт.
И у парня, что смотреть, есть.
Но: «Третье действие… Шестой акт…»,
Мать честная, нешто впрямь – шесть?!
Давка, драка, ор с симптомами психоза –
На премьеру прорывается толпа.
Вот что значит точно выбранная поза.
Вот что значат эти слюни до пупа.
Первый приз. Режиссер – маг.
Возвести его тотчас в сан!
Ведь он с искусством совершил акт.
А вот дите уже родил сам.
1986 год
КОЛЫБЕЛЬНАЯ НАЛЕТЧИКА
Спи, спи, милая.
В окна выйду я.
Стучат в пролетах сапоги.
Спи. Ночь выпита.
За мной по пятам
Невозвращенные долги.
За мной гуляет МУР –
И вот почти что выпас.
Дворняга верная меня
Ни в жизнь не выдаст –
С давнишних-давних пор
Мы с ней почти родня –
Один и тот же двор
У ней и у меня.
Спи. Я вымелся.
Пульс весь выбился.
Они у скважины дверной.
Родного родней
Верной парой мне
Шестизарядный вороной.
И коль ворвутся в дом,
Их тут же хватят корчи.
Прости, хорошая, но
Будет сон испорчен.
Я мог бы им, клянусь,
Сквозь дверь устроить бой,
Но ухожу – боюсь
Спугнуть твой сон пальбой.
Спи. Спи, дурочка.
Темень в улочках.
Звезда свинцовая – в картуз.
Горло рвет ЧК:
«Взять налетчика!»
Пришит на мне бубновый туз.
И все же в траур тиснут
Мой портрет нескоро –
Я возвернусь, клянусь вам
Честным словом вора.
Ну, а теперь – спешу.
Не зажигайте свет,
Покорнейше прошу,
Пока простынет след…
1986 год
КОСОЙ
Она стригла ему волосики
И ножницами – чик-чик-чик –
Пырнула в глаз, и стал он косенький –
Хоть стой, хоть падай, хоть кричи!
Свою вину она тогда уже
Сняла, хоть, в общем, неспроста
Пырнула в глаз. И стала замужем.
Заместо Красного Креста.
А после жалила осой:
– Ты искалечил жизнь мою!
Забрали черти чтоб тебя
В машину с красной полосой!
Косой!
Проси покоя – не допросишься.
И угождай – не угодишь.
То, мол, чего все время косишься?
То что, мол, в оба не глядишь?
То камбалой косою выглянул,
То глаз закатишь – как циклоп.
Второй тебе хоть кто бы выклюнул,
Чтоб не выкатывал на лоб!
Ой, поплатилась я красой,
Сгубила молодость мою!
Забрали черти чтоб тебя
В машину с красной полосой!
Косой!
Скандал по поводу по разному –
Какой уж в доме тут – «глава».
Мужчине трудно одноглазому,
Когда у бабы целых два.
От оскорблений невменяемый,
Неполноценным быть устав, –
«Давай-ка, стерва, уравняем мы!» –
Сказал он, ножницы достав.
Я перед господом, босой,
Уж оправдаюсь как-нибудь,
А ты, косая, не забудь:
Не щеголять тебе красой,
Косой!
1990 год
КРАСИВАЯ
Шел я как-то поздней ночью,
А вокруг – хулиганье!
В общем, все, что помню точно –
Заступился за нее.
Но лишка перестарался –
Сам себя не узнаю, –
Как до перышка дорвался –
Сел на черную скамью.
А на скамье сказал: «За все –
спасибо» – я, –
«Вы мне простите мою грусть.
Ведь вы красивая. Ведь вы
красивая.
Я к вам когда-нибудь вернусь».
А потом в фуфайке черной
Гарцевал я по плацу.
Но судьбе моей никчемной
Были слезы не к лицу.
А когда пришло пол-срока
Я черкнул ей на авось,
Что, мол, было бы неплохо
Не идти по жизни врознь.
А в том письме сказал: «За
все – спасибо» – я, –
«Вы мне простите мою грусть.
Ведь вы красивая. Ведь вы
красивая.
Я к вам когда-нибудь вернусь».
За весной промчалось лето,
А за осенью зима.
И осталось без ответа
Три больших моих письма.
Продолжал я их писать бы,
Да прислал мне аноним
Ее снимочек со свадьбы
С этим фраером ночным.
2003 год
ЛАСТЫ
А как у нас по лагерю речка вдоль текла,
А на вольном береге девочка ждала.
Друг мой Колька клеил ласты – целил
на побег,
Да сдали Кольку активисты – восемь
человек.
Ласты да ласты, зря вас клеил я,
Тапки пенопластовыя.
И пошла-поехала жизнь его вразнос,
Двинул ближе к северу он под стук колес.
И в хмелю этапу хвастал: «Шел бы
я в побег,
Каб не сдали активисты – восемь человек».
Ах, сидеть уж больно долго при такой вине.
И нырял он стилем вольным с берега
во сне.
И гулял во сне не раз, как белый человек,
Каб не сдали активисты мазу про побег.
А девушка заплакала и пошла под плач,
А за ней конвойный увязался вскачь.
А она ему: «Патластый, ты не лезь в петлю,
Убери, паскуда, ласты – Кольку я люблю!»
2001 год
ЛЕТЧИК
Он был вор по кличке «Летчик»,
По соседству в доме жил
И, вот так, промежду строчек
Он со мною не дружил,
Угрожал он мне не мало
Из-за девочки одной.
Я б разбил ему хлебало,
Да он очень был блатной!
Хоть я был в годах моложе,
Легкий путь не выбирал,
Воровать умел я тоже
И на «гоп» немного брал,
А он летчик был законно,
Откликался без понтов –
Восемь раз летал с балкона
От хозяев и ментов.
Но, однажды, за стаканом
Мы смогли уразуметь,
Что негоже уркаганам
Из-за бабы спор иметь.
И пошли мы с ним на дело,
В этом пьяном кураже,
Брать одну фатеру смело
На девятом этаже.
Но прогресса достиженье
Шло за нами по пятам –
Пробежало напряженье
По сигнальным проводам,
И случилось злое чудо –
Набежали мусора,
И я понял, что отсюда
Ноги делать нам пора.
При стечении народа
Жизнь поставлена на кон! –
Нам осталось для отхода
Только небо и балкон,
А он медлил все, зараза,
А потом и вовсе встал,
И сказал, что он ни разу,
Бля, с девятых не летал.
А когда сломали двери,
Он и глазом не моргнул.
А я решил: судьбу проверю! –
И с балкона вниз порхнул –
Лишь бы цел был позвоночник,
Остальное нарастет.
Я лечу, гляжу, как «Летчик»
Вниз в браслетиках идет.
В общем, нам теперь дорога,
Что в пять годиков длиной, –
Может дали бы немного,
Да уж очень он блатной.
Ну, а та, из-за которой
Мы рубились сгоряча,
Вышла замуж не за вора.
Говорят – за скрипача.
2004 год
ЛИФТЕРША
Жила в полуподвале
Лифтерша тетя Валя,
А с нею вместе взрослый жил сынок.
Он налегал на кашу
И вымахал с папашу,
И помогал мамаше всем, чем мог.
За то, что папа маму бил вот здесь,
в полуподвале,
Сыночек папу с корешем
живьем четвертовали –
Хороший, в общем, добрый был сынок.
Во время перестроечки
Он спал в тюремной коечке –
Червончик за папашу отбывал.
Но в лифте ездил дядя,
Который мамы ради
Все это дело в урну заховал.
И вот вернулась к Ванечке
проказница-свобода,
А папа был в гробу уже тому
четыре года.
И Ваня снова – шасть! – в полуподвал.
Ах, дело молодецкое,
Ах, выпуклость недетская
Ему явилась в лифте как-то раз.
Прошлась, вихляя бедрами,
И страсть руками бодрыми
Схватила Ваню крепко в тот же час.
И с этой страстью Ванечка
в обнимку ночевали
В холодном, неприветливом
и злом полуподвале,
И понапрасну мучили матрас.
Но жизнь-то – «фифти-фифти»,
И как-то в этом лифте
С ней Ванечка до полночи застрял,
Он делал к ней движенья,
Он делал предложенья,
И этим, безусловно, покорял.
И он признался ей в любви
легко и неформально:
Всего два раза спереди
и один раз нормально –
На чем внимание особо заострял.
И надо здесь сказать бы,
Что дело вышло – к свадьбе,
Пять лет тому, как папа был в гробу.
Ведь мама меж стропила
Тот лифт остановила
И тем решила Ванину судьбу.
И ездит теперь Ванечка
на «Мерсе» да на «Порше» –
Ах, вот что значит вовремя
неспящая лифтерша,
Пусть даже с тремя пядями во лбу.
А папа им завидует в гробу.
2000 год
МНЕ В ДЕТСТВЕ ТАК ХОТЕЛОСЬ ПАПИРОС
Мне в детстве так хотелось папирос,
Но за прилавком злая тетя Зина
Упорно говорила: «Не дорос!» –
И прочь гоняла нас из магазина.
Нам было западло поднять бычок,
А своровать – недоставало духа.
Нас выручал один фронтовичок,
Подслеповатый и тугой на ухо.
Он нам давал, бывало, не одну,
И так волшебно звякали медали,
Что нам хотелось завтра на войну,
Хоть мы в глаза войны-то не видали.
А поиграть в нее, задрав портки,
Не позволяла школьная опека.
И мы клевали у него с руки
За гильзой гильзу горького «Казбека».
Так время шло, сжигая каждый час,
Семнадцать лет настало под гитары.
Он почему-то помнил только нас,
Хоть мы свои носили портсигары.
Он закурить нам больше не давал
И потемну в гитарном горлохвате
Ни поперек, ни в тон не подпевал –
Сидел курил, как будто на подхвате.
Скумекать было нам не по уму,
Спросить бы раз – не надо дважды
в реку –
Чего ж так горько курится ему,
Что поделиться хочется «Казбеком»?
В руках его наколочная синь
Нас ни теперь, ни в детстве не пугала.
Нам ничего не стоило спросить.
Но он молчал. А время убегало.
И как-то раз растяпа почтальон
Случайно синий ящик перепутал,
И все, что должен получить был он,
Попало в руки запросто кому-то.
Потом еще кому-то. И еще.
Казенный бланк и текст без кривотолка,
Что он не враг, что он уже прощен.
К тому печать синее, чем наколка.
Потом попало наконец к нему –
Клочком, как этикетка от товара.
Он кашлял в упоительном дыму,
Скрутив в нее табак из портсигара.
Похрустывали пальцы на руке
Вдали от нашей ветреной ватаги.
Есть прелесть, несомненно, в табаке.
Но больше, видно, все-таки в бумаге.
1997 год
НА ШАРНИРАХ
А на шарнирах я пройду
С папиросочкой во рту,
И пусть узнает меня каждая верста.
Вспомню, как за «будь здоров»
Я за пару фраеров
Отбомбил две пятилетки, как с куста.
А нынче выпал день такой –
Я тюрьме махнул рукой,
А еще куда глаза глядят махнул.
Но глядят они туда,
Где в далекие года
Опекал я синеглазую одну.
И было, и было
Мне сладко с ней одной.
Но смыло, но смыло
Время мутною волной.
А нынче выпал день такой –
Жизнь течет опять рекой, –
Надоело мне сидеть по берегам.
Но синеглазая, как сон,
Уплыла за горизонт,
И пойди найди по водяным кругам.
Но было, но было
Мне сладко с ней одной.
Но смыло, но смыло
Время мутною волной.
Я домой вернусь к утру
И на гитаре подберу,
И под это заунывное старье
Пусть почудится рукам,
И гитаре, и колкам,
Как целую ошалевшую ее.
2004 год
НЕ ПРИЗНАЮСЬ
Не признаюсь я ни маме, ни кентам,
Что я маюсь,
Что тюрьма за мной гуляет по пятам,
Не признаюсь.
Затоскую вдруг, возьму да и напьюсь
До упаду –
Понимаю, одного сейчас боюсь –
Что я сяду.
Но если год и два опять –
Это поправимо.
Если три, четыре, пять –
Жизнь покатит мимо.
Шесть, семь, восемь, девять дать –
Будет трудно справиться.
Ну, а если два по пять –
То прощай, красавица!
Обрывал я на гитаре по струне,
Чтоб не ныла.
И шептал мне будто на ухо во сне
Голос милой:
«Не болтайся ты, как фраер, не крутись
В балагане,
А не то, гляди, покатит твоя жизнь
Кверх ногами».
2004 год
НОЖИК
А как наступит год Свиньи,
Прямо я дрожу –
То посадят, а то ли
Снова выхожу.
А в год Козла и Петуха
Если срок дадут,
Значит, точно, до звонка
Пробавляться тут.
Ах, ты ножик, ты мой ножик
Ты не знаешь одного,
Как наш путь судьба положит –
Не изменишь ничего.
В Обезьяний глупый год,
Прямо смех и грех,
Добавляют от щедрот
Срок мне за побег.
А в год, опутанный Змеей –
Хоть руби башку! –
Знаю, сяду за нее,
За зазнобушку.
Ах, ты ножик, ты мой ножик
Ты не знаешь одного –
Красивее дамских ножек
Не бывает ничего.
А в год Собаки вслед собак
Лает просто тьма.
И в другие годы так –
Что ни год – тюрьма.
Что Дракон мне, а что – Тигр,
Если, бля, не врут,
Завтра, Господи, прости,
Новый срок дадут!
2000 год
О ЖЕНСКОМ АТЛЕТИЗМЕ
Не тронь гантели, Клара,
Тебе еще рожать!
Не надо этим марам
В журналах подражать.
Ты, видимо, забыла,
Что «торс» – не значит – «бюст»,
И что избыток силы
Не есть избыток чувств.
Не надо, Клар, железа
И в три обхвата грудь –
К тебе и так не лезут,
Ты это не забудь,
Что в Древнем Риме бабы,
Хоть с гирей не дружны,
Хоть телом были слабы,
Зато в любви нужны.
А ты забыла это
И превращаешь дом
В отвалы вторчермета,
В сплошной металлолом,
Пуляешь эти ядра,
Метаешь молота –
Ах, Клара, нам не надо
Такая красота.
Соседских-то лелеют
И холят мужики,
И все меня жалеют –
Мне это не с руки.
И сравнивают хмуро,
Чуть только подопьют,
Мою с твоей фигурой –
Того гляди, побьют!
А взять твои подруги –
Таким не крикнешь: «Цыц!»
Надень на них подпруги –
Ну, чисто – жеребцы!
Они-то не за мужем,
Им, по всему видать,
Мужик не больно нужен –
Им с гирей благодать.
Меня же балерины,
Неровен час, прельстят –
Хожу, как на смотрины,
Один в Большой театр.
Там насмотрюсь – убиться!
А как приду домой,
Пощупаю твой бицепс –
И весь как неживой!
Ну, что ты за подруга?
Ну, что за красота?
Тебе быстрей кольчуга
Подходит, чем фата.
Чугунная булава
И прочий инструмент.
Ах, Клара, моя Клава,
Прости за комплимент.
Во сне и то нет сладу,
Кидает в дрожь и пот:
Ко мне, как к спортснаряду,
Любимая идет.
В одиннадцать подходов
Берет меня на грудь…
Не дайте стать уродом,
Спасите, кто-нибудь!
1986 год
ПАРИКМАХЕР
Парикмахер модный очень –
С ним вся звездная Москва.
Клюв у ножниц так заточен –
Чирк! – и спрыгнет голова.
Он закрутит, он забреет,
Он закрасит завитки.
Бабы в кресле розовеют,
Голубеют мужики.
Парикмахер – он полдела,
Вслед за ним идет портной.
Он перед мужского тела
Тонко чувствует спиной.
Он пришьет к штанинам рюшки
Да и вежливо – взашей,
Ведь он – Елдашкин, он –
Вафлюшкин
(не без Зайцевых ушей).
Вслед за этой чудной парой
Выступает режиссер –
Он чувак закалки старой,
Он читал про трех сестер.
И про вешалку в театре,
И про маму-Колыму,
Где «дон Педро» «дона Падре»
Не уступит никому.
А в конце всего такого
Голубой экран ТиВи
Вам покажет голубого
Прямо в розовой крови.
Заикаясь и робея,
Пресса вденет в эполет.
Я один не голубею.
Потому в экране нет.
1995 год
ПЕРСОНА ВНЕ ЗАКОНА Депутатская застольная
Мне десять лет вчера чуть было не впаяли.
Но в этот раз бессилен был закон.
А ну, сисястая, станцуй нам на рояле!
А ну, губастая, подуй нам в саксофон!
И ты, пархатенький, на скрипке
постарайся –
Здесь не Америка, здесь могут
не простить –
Сыграй про Мурку нам, да чтобы в темпе
вальса,
Да со стаканом к нам не вздумай
зачастить.
Ведь я персона вне закона –
Моей стране за то большая честь.
Я как звезда без небосклона:
Закона нет. А я-то есть.
Столица спит. А по столице мчится
Автомобиль с огромным синяком.
Я депутат. Со мной такого не случится,
Чтоб я на нем поехал прямиком.
Пускай другим сирены горлохватят,
И пусть другие прячутся ползком.
А ну, сисястая, присядь к нам на шпагате!
А ну, глазастая, моргни одним глазком!
Ведь я персона вне закона –
Моей стране за то большая честь.
Я как звезда без небосклона:
Закона нет. А я-то есть.
Я депутатом стал за три вагона водки –
Электорат бегом бежал голосовать.
А ну, сисястая, возьми, вот, на колготки!
А ну, губастая, кончайте баловать!
И ты, менток, и эти, в штатском рожи,
Что мне в стакан подходите глядеть,
Я вас узнал! И вы танцуйте тоже,
Когда я вам с эстрады буду петь.
Ведь я персона вне закона –
Моей стране за то большая честь.
Я как звезда без небосклона:
Закона нет. А я-то есть.
1996 год
ПЕСНЬ О ЧЕСТНОМ МЕНТЕ
От этой чудной танцовщицы,
Что стоит денег целый куш,
Мог без ума всю ночь тащиться
Видавший виды «Мулен Руж».
Видавший все на свете Брайтон,
Не шибко падкий до чудес,
Салютовал бы ей «ол-райтом»
И многодолларовым «йес»!
Но это дело было в Сочи,
Что далеко не зарубеж,
Где в ресторане каждый хочет
К ее ногам и даже меж,
Где в кипарисовых аллеях
Макушки щупают луну,
И сатана с вечерним клеем
Наклеит чью-нибудь жену.
И надо ж было так случиться,
Что очутилась она там
Непревзойденной танцовщицей
И в телесах не по годам.
Был стан и нрав ее раскован –
Сравнить бессилен комплимент –
Такой, что даже участковый
Зашелся страстью, хоть и мент.
Ее он в серебро и злато
Мечтал всю доверху одеть,
Но на ментовскую зарплату
Позволить мог одну лишь медь.
Он не имел для встреч квартиры
С медвежьей шкурой на стене
И ненавидел рэкетиров
За это тихо и вдвойне.
Что в этом случае, известно,
Мужчина должен предпринять.
Но он был мент, к тому же честный,
И на мундир не смел пенять.
Он рисовал в себе картины:
Что вдруг маньяк ее «пасет»,
Что вдруг пристанут к ней кретины,
А он увидит – и спасет!
А вдруг она согласна будет
Сейчас же двинуть под венец?
Она ж – кабацкая! В ОРУДе
Узнают только и – конец!
Прощай, участок и карьера,
Зарплата, пенсия и власть.
Подумать, так на какого хера
Такая свадебка сдалась.
А вдруг она на самом деле
Согласна будет – за любовь?
Ой, донесут в политотделе,
Моментом высосут всю кровь!
Там только ждут. Там только рады.
Там только ищут, кто – кого.
А ножки все-таки что надо.
И остальное – ничего.
И в час, когда цикады пеньем
Чаруют мир, как скрипачи,
Порвался трос его терпенья,
И он настиг ее в ночи.
И он сказал: «Прошу придурком
Меня не счесть. Вот документ.
Хотите стать второю Муркой,
Ловить преступный элемент?»
Она сказала: «Ради бога,
Мой государственный амур!
Я с вас возьму не так уж много –
Со скидкой, в общем-то, на МУР…»
И здесь, на самом интересном,
Я чуть вам, братцы, не соврал:
Ведь он был – мент. К тому же
честный.
И он ее арестовал.
1988 год
ПЕСНЯ О ПРОФЕССИИ ДРЕВНЕЙ
А намедни приехал ко мне своячок –
Деревенский, простой, от сохи мужичок.
Прикупить, пригубить, приобуться –
одеться,
Да на баб на живых, городских
наглядеться.
Я в делах позарез, по кадык был,
И от дел своих сбежать не мог никак.
Он в затылке почесал: мол, куды мне?
Я по горлу постучал: мол, в кабак.
И пошел он. Душою и помыслом чист.
Улыбнулся ему на всю сдачу таксист.
За пятерку вошел, за червонец разделся,
А за два фиолетовых так разговелся!
Что оркестр взыграл за десятку
Рок-н-ролл с переходом на гопак.
И ударил Василий вприсядку –
Он был пьяный немножко дурак.
Загудело в нутре у него. От и до.
И почуял Василий в себе Бельмондо.
Замахнул и пошел, как в селе
на смотрины,
Ухватить, чтоб была, эх, не хуже Сабрины!
Но сказали экзотические телки:
– «Катерину», дядя Вася, приготовь.
(Что таить: на селе секс-потемки,
Засвети – просветим за любовь!)
Уронил потолок штукатурку в фонтан.
Заорали ему: «Ты вприсядку – вон там!»
Зазывали его две грудасто-плечистых.
«Рус, давай!», – ободрял пьяный хор
интуристов.
Две девчоночки сквозь фирменные
шмутки
Засветили ему прелести в дыму,
И спросил он их: «Вы, правда,
проститутки?»
И тогда они ответили ему:…!
…………………………………………..
А когда всю посуду собрали в мешок,
Сквозанул из Василия нервный смешок.
Выводили его как угонщика судна.
И вздохнула одна: «Деревенскому
трудно…»
И помчал автоспецмед по столице,
Где маникюром не скальпированный чуть,
Он спросил еще: «Дадите похмелиться?»
И заплакал в протокол: «Домой хочу-у-у…».
Вот вам песня о профессии древней
И о сращивании города с деревнй.
1988 год
ПОЙМАЛИ ВОРА!
Права консьержка. Дробью из бердани
Меня бы гнать задолго до того,
Как я пришел на ваше на свиданье
И долго бил влюбленного его.
Твой кавалер с того балдел –
На фартук новый твой глядел.
А я – с груди и ножек.
Твой кавалер тебе носил
Конфеты или апельсин.
А я – табак и ножик.
Права соседка. Дворник полоротый –
Во всем злодей не меньше моего –
Не углядел, как я через ворота
Взашей погнал влюбленного его.
Твой кавалер пропеть был рад
Тебе в ночи сто серенад –
На скрипке – шит не лыком.
А я восьмеркой на семи –
Враг школы, дома и семьи –
А-ля гоп-стоп со смыком.
Прав дворник был. К шпане и хулиганам
Имеет страсть пай-девочек душа.
И хоть я рос смышленым мальчуганом,
Я в тех делах не смыслил ни шиша.
Твой кавалер из темноты
Кидал в окно твое цветы.
И точно – докидался!
И как-то раз, когда темно,
Я сам себя швырнул в окно
И как-то там остался.
Ах, этой женской логики причуды –
От них одни волненья и беда.
Она меня спросила: «Ты откуда?»,
Хотя спросить бы надо: «Ты куда?»
А кавалер твой выл: «Люблю-ю…»,
Он обещал залезть в петлю –
Так грустно ему было.
А я в ответ ему на вой
Швырнул веревки бельевой.
А ты швырнула мыло.
И света нет. И дворник пьян.
И я, безгрешен, окаян,
Влетел в окно, как ворон.
Судьба играет в поддавки,
И нежных, нежных две руки
Поймали вора!
1989 год
ПОТЕРПЕВШАЯ
Гулял я ночами по Выборгу
И ножичком лихо играл,
И грабил не всех, а по выбору,
И даже не все забирал.
В слезливой балтийской туманности
Я плавал как рыба в воде.
Я был сердобольный до странности.
И это учли на суде.
Сидел я на лавке занозной
И годы считал наперед,
А злой прокуроришка слезно
Просил: меня – только в расход.
Кричал, мне эпитеты вешая,
За все несусветно кляня,
И только одна потерпевшая
Глядела с тоской на меня.
Я вспомнил ее и очкарика,
Который годился в отцы.
Я встретил их возле фонарика
И сразу же взял под уздцы.
Она улыбнулась загадочно,
А этот давай голосить,
И я ей сказал, что припадочным
Нельзя дорогое носить.
Без крови, без травм и без выстрела
Оставил он лишнее мне,
Его пожилого, но быстрого
Я слышал вдали в тишине.
Она ж, удивленная фортелем,
Смутившись в какой-то момент,
Сказала: «Вы все мне испортили.
Хороший сорвался клиент!..»
Курила, от холода охая,
Шубейки крыла запахнув,
Красивая и одинокая –
Такую как бросишь одну?
А дома малец и не топлено,
И угол дрянного дрянней,
И все, что по жизни накоплено,
Одето сегодня на ней.
Платок весь слезами просолится,
Окурок умрет на ветру.
И стало мне горько и совестно,
Как будто чужое беру.
Как будто совсем не кричали здесь,
И я, на другое клоня,
Сказал: «Вы напрасно печалитесь –
Считайте клиентом меня».
Порушил мне воспоминания
В тот миг горлохват – прокурор,
И я пред высоким собранием
Вставаньем почтил приговор.
В браслетах, но носа не вешая,
Стоял – я сидеть не спешу.
Сидела одна потерпевшая,
Шептала: «Я вам напишу…»
1995 год
ПРИСКАЗКА
В темных переулках, где
рассказывали сказки,
И в них очень верила
окрестная шпана,
Жизнь моя помчалася,
как с горочки салазки –
Вовремя не спрыгнул –
и случилась мне хана.
И приснилось мне в дыму
тюремного кошмара,
Будто я вернулся в эту
молодость мою.
А еще приснилась мне
моя гитара,
И с ней, по старой памяти,
я присказку пою.
«А как на улице одной
Жил да был один блатной:
Срок мотать и все – мотать –
Ах, век свободы не видать!
А как на улице одной
Жил да был один блатной.
Он – в тюрьму, и все –
в тюрьму,
А кто блатнее не пойму».
Зря тогда красавица
состроила мне глазки –
Я им не поверил,
как не должен верить вор.
И она осталась навсегда
в далекой сказке,
Там, куда не пустит
заколюченый забор.
Там, где тополя
весной роняют перья,
Где я за ней бегом,
на вдохе их ловлю…
А потом проснусь и
кованою дверью
Наотмашь захлопну
эту молодость мою.
«А как на улице одной
Жил да был один блатной –
Воровал – не воровал,
А потихоньку блатовал.
А как по улице одной
Шел за девушкой блатной,
Он – за ней, и я – за ней, –
А в этом деле я блатней».
А может так случится,
что и эту дверь откроют
И выведут в рубахе
цвета белого белей.
И опять по памяти
прогонят перед строем
Ряженых в парадное
белых тополей.
А дни замрут на стенах,
перечеркнуты крестами,
А в конце – квадратик из
непрожитого дня.
Значит со свободой
поменялись мы местами,
Значит эта присказка будет
про меня.
2004 год
РОЖИ
Я работал музыкантом
В самом шумном кабаке.
И какой-то фраер с бантом,
С толстой денежкой в руке,
Нам сказал, что мы не гожи,
Не оркестр мы, а сброд.
Я ему ударил в рожу,
И мне дали сроку год.
Я сидел, как демон в клетке,
Молодой и полный сил.
И дни, как капли из пипетки,
Я давил, давил, давил.
И мечтал, когда опять я
Заявлюсь к себе в кабак
В виде крестного распятья.
Только вышло все не так.
Все же лагерь, он есть – лагерь.
Объяснять мне не с руки,
Что не все в нем – бедолаги,
Что не все в нем – мужики.
Активисты есть в нем тоже.
И был один такой сексот.
Я ему ударил в рожу,
И мне еще впаяли год.
Был еще менток-начальник –
Нет ни слуха, ни ума.
Он сказал: «Что год не чалить?
Год – курорт, а не тюрьма!»
Он сказал, что чем-то схожий
Я для общества с прыщом.
А я ему ударил в рожу,
И мне добавили еще.
И вот сижу, как демон в клетке,
Табаком себя травлю,
И дни, как капли из пипетки,
Все давлю, давлю, давлю…
И мечтаю, что я в раже
В кабаке глотну фужер.
Ну, когда, когда, когда же
Рожи кончатся уже?
2002 год
РОЗА
Он Розочке пальтишко подавал,
Мотивчик негритянский напевал.
И Роза, гордость нашего квартала,
Ему, кажися, тоже подпевала.
А мы ее спросили: «Ты куда же?»
Она на нас не оглянулась даже.
А этот нас улыбкой ослепил:
Мол, дескать, эту Розу я купил!
Кого купил ты, сука?! Ты знаешь ли о том,
Что бляди – это тоже часть народа?
Ты плавай там, где сухо, крути быстрей
винтом,
Пока тебя не сделали уродом!
Он кое-что кумекал в матерках.
Он Розочке подал не тот рукав.
А Розочка с него за сто зеленых
Не отводила глазонек влюбленных.
А мы ему сказали: «Эта леди
С тобой за сто зеленых не поедет.
За сто зеленых – это просто смех!»
А он сказал: «Я покупаю всех!»
Кого купил ты, сука?! Ты знаешь ли о том –
Жиганская душа не продается!
Нам если надо будет, мы все и так возьмем –
У нас экспроприацией зовется!
Он нервно так резиночку жевал,
Кошмарно это все переживал,
Но стрелочка на часиках вертелась,
И очень-очень Розочку хотелось.
И дрожь его на этом прошибала.
А тут еще вмешался вышибала.
Он слово ему на ухо сказал
И Розе ниже пупа показал:
Кого купил ты, сука?! Ты знаешь ли о том –
У нас и так в стране проблема СПИДа!
А-ну, давай отсюда! А-ну, крути винтом!
А ну-ка, делай быстро ноги, пидор!
1989 год
С КРАСАВИЦЕЙ В ОБНИМКУ
Одевался модно, броско,
Когда был я молодой.
Я носил штаны в полоску,
А полоски были вдоль.
И когда я очень просто
Угодил на долгий срок,
Дали мне штаны в полоску,
А полоска поперек.
Ах, спасибо фотоснимку –
Я на нем во всей красе.
Я с красавицей в обнимку
На песчаной полосе.
Не вернуть – разбейся в доску –
Это время хоть на час,
Где мне светлая полоска
Выпадала через раз.
Где мне белые ботинки
После черненьких штиблет?
Где брюнетки? Где блондинки?
Через раз их больше нет.
Ах, спасибо фотоснимку –
Я на нем во всей красе.
Я с красавицей в обнимку
На песчаной полосе.
1995 год
СВАТОВСТВО ЖИГАНА
Благороднейший папаша,
А я вот что вам скажу:
Нет, я не порчу дочку вашу,
Я просто близко с ней дружу.
И напрасно черной сажей
Вы рисуете беду –
Пускай она сама мне скажет:
«Вам уходить». И я уйду.
Три дня в неделю я хочу, не реже,
Встречаться с ней и щупать ваш уют.
Пока я с ней, вас не зарежут,
Не рэкетируют!
Зря кричите вы, мадамы,
Не гофрируйте лицо –
Я к вам хожу не за приданым,
А чтоб примерить ей кольцо.
Зря сучите вы ногами,
Я здесь не для куражу.
Я к вам хожу не за долгами,
А за взаимностью хожу.
А ваш прием меня безбожно ранит,
Здесь про меня вам на ухо поют.
Но я уйду – и вас ограбят,
И всех снасилуют!
Зря вы прячете за шторой
Ваше милое дитя –
Я не хочу в окно к ней – вором,
Хоть это делаю шутя.
Ну, ответь же, моя прелесть,
Что шептала мне в усы –
А то они здесь мелют ересь
И не туда суют носы.
А ваш прием меня безбожно ранит,
Здесь про меня вам на ухо поют.
Но я уйду – и вас ограбят.
И в подоле вам принесут.
1991 год
СИНИЕ ГЛАЗА
Вы мне повстречались знойным летом,
Задержались миг и – с глаз долой.
Двинул в челюсть мне Амур кастетом
И пырнул под сердце мне стрелой.
Голова висит в стакане,
Не видать вокруг ни зги.
И душа – как на аркане –
Нарезает к вам круги.
Синие глаза, волосы соломой,
Я вам расскажу радостную весть:
Я купил цветы, я стою у дома
И надеюсь, вас я повстречаю здесь.
Лето отгремело жаркой битвой,
Осень зашептала в камыше.
Полоснул Амур по сердцу бритвой
И зажег пожары на душе.
Голова с потухшим взглядом,
В мыслях звон и свистопляс.
Неужели снова сяду,
Так и не увидев вас?
2005 год
СКАЗКА О КОЗЛИКЕ
Жил у бабушки козлик неброский,
Был облезлый, хромал и болел.
Не взгляни на него Кашпировский –
Безусловно, давно б околел.
Но взглянул на него он из теле –
Лишь глаза к переносице свел,
Как почувствовал жжение в теле
И подернулся шерстью козел.
Поглядел дядя Толя суровей,
Меж зрачками сверкнула дуга,
И сейчас же с приливом здоровья
Укрепились козлячьи рога.
Затвердели козлячьи копыта,
Залоснились от жира бока,
И проблеял козлище сердито:
«А подать мне сюда Чумака!»
И сейчас же, как будто с привязи
Посрывались, не чуя удил,
Полетели флюиды на мази,
И поток их козла зарядил.
И без крика, скандала и шума
Улыбнулся светло козелок,
И сказал: «Не мешало бы Джуну.
Собирает пускай узелок».
Эх, чего же тогда не взбесил их
Беспардонный козлиный нахрап?
Залечили его с полной силой
Безо всяких примочек и трав.
И расставшись с телесною мукой
С их гуманной и легкой руки,
Прогнусавил он следом: «А ну-ка,
Подавай человечьи мозги!»
Святый долг – Гиппократова клятва.
По святой простоте, не со зла,
Под мозги человечьи ребята
Зарядили мякину козла.
И запрыгал козел, заторчался,
Поумневший, проблеял: «Ура!»,
Снес ворота и в люди умчался
Навсегда из родного двора.
С той поры он живет – то, что надо!
Мир почуяв мозгой наконец,
Он теперь человечее стадо
Заряжает мозгами овец.
Обучает их разным коленцам
При посредстве заряженных слов.
Обращаюсь ко всем экстрасенсам:
«Никогда не врачуйте козлов!»
1989 год
СЛАВА БОГУ, ЗА ЗАБОРОМ
Слава Богу, за забором
Был не долго я –
Шесть годков промчалось скоро,
Вслед не охая.
Я иду, дымлю сигарой
И плюю в дорогу.
Я откинулся не старый.
Слава богу!
Письма в руки мне носили
Кумы-клоуны.
В них листки в дожди косые
Разлинованы.
Перемараны цензурой –
Зря клялась девчонка та.
В них любовь цензурой-дурой
Перечеркнута.
Лучший лагерный художник
В краски броские
Рисовал портреты-рожи
Все ментовские.
Если б карточка была,
Я б портрет изладил
Той, которая ждала,
В Север глядя.
Ты мне, дядя-вертухай –
Грива сивая –
На прощанье помахай
Справкой-ксивою.
Я пойду, тряхну гитарой –
Баб на свете много.
Я откинулся не старый.
Слава богу!
1997 год
ТАНЦУЙТЕ, ДЕВОЧКИ
А ну-ка, девочки – на то вы и кордебалет –
Станцуйте нам местами выпуклыми хором.
Танцуйте, девочки. Я не был здесь так много
лет –
Ушел на миг всего, а возвратился так нескоро.
Под ваши каблучки и под вагонный перестук
Летела жизнь и набирала обороты.
Танцуйте, девочки. В любой из вас я вижу ту,
Что без моих цветов в чужих цветах искала
что-то.
Не мешайте.
Я хочу запастись наперед.
Не лишайте.
Жизнь и так у нас их отберет.
А ну-ка, девочки – на то вы и кордебалет –
Станцуйте так, чтоб на свече металось
пламя!
Танцуйте, девочки. Пусть вечер будет как
куплет –
Сегодня мы споем, а завтра – то же, но не
с нами.
Как на душе сверчки, скребут смычки мотив
простой.
И я пою. И как хочу, и как умею.
Танцуйте, девочки. Но пусть останется у той
Гитара пыльная с печальным бантиком
на шее.
Не мешайте.
Я хочу запастись наперед.
Не лишайте.
Жизнь и так у нас их отберет.
1994 год
ТРАКТАТ О ДУРАКАХ
Ручку мну до боли в кулаках,
Хочется писать о дураках.
Жил, водился, изводился как
Чистый и непуганый дурак.
Разнесчастна дуракова жизнь –
Умных опиши, хоть запишись.
Дураков – ни-ни! – попробуй тронь,
Дураки, они имеют бронь.
Помню, встарь схлестнутся дураки
И с трибуны чешут языки.
Шпарят без запиночки с листка –
Любо посмотреть на дурака.
А потом ударятся в хлопки –
Очень уважали дураки,–
Бьют в ладоши аж до синяка –
Во мозоль была у дурака!
А захочет кто не по листку –
Главному доложат Дураку.
– Выяснить немедля, кто таков! –
И напустят полудураков.
Подцепить, да чтоб не слез с крючка,
Малого запустят дурачка –
Эти были малые ловки, –
Даром, что считались – дураки.
Выяснили: этот самый фрукт
В стильный наряжается сюртук,
Без «текстильшвейторга»-ярлыка,
Чем, конечно, ранит дурака.
И тотчас большой дурацкий хор:
– «Негодяю мы дадим отпор!
Запретить заморские портки,
Раз не носят это дураки!»
И собранье, выкатив глаза,
Все – стоймя, двумя руками – за!
– Да, пора посбить им каблуки,
Всех – в ремки, и – марш на Соловки!
Да в дорогу надавать пинков –
Дольше будут помнить дураков –
И держать до самого звонка,
Чтобы стал похож на дурака!
В общем, стали численно крепки
И зажили крепко дураки.
Стали даже каждый стар и млад
На свой лад вносить научный вклад.
И пошли несметные труды
О целебных свойствах лебеды,
И корову дергать за соски
Втрое чаще стали дураки.
Но в три раза больше молока
Не текло на душу дурака.
И запил тогда в большой тоске
Алкоголь дурак на дураке.
И пошла их жизнь хромым-хрома,
И пришло к ним горе от ума,
И ученый ихний умный весь
Кликнул: «Братцы, это же болезнь!
Вроде СПИДа или трипака –
Коллективный вирус дурака!
А коли так, дела наши плохи,
Разбегайтесь, братцы-дураки!»
И пошел меж ними сброд и смут,
Притащили дурни свой талмуд,
И искали, где же та строка,
Выяснить, как лечат дурака?
Но в талмудном ихнем том труде
Про «лечить» не сказано нигде.
В нем про «Счастье на вовек веков
Для счастливых равных дураков».
А в конце приписка от руки:
«Надо верить. Если дураки».
1985 год
ЦВЕТОЧКИ
Она цветочки продавала –
Простые радости земли.
А жизнь моя была – букет из серых
дней.
Тянуло, как из поддувала
Меня на подвиги мои,
И повстречались как-то раз глазами
с ней.
В душе шипели будто кобры
Денечки прежние мои,
Я покупал ее цветы и говорил,
Что я в душе разбойник добрый
И что течет в моей крови
Огонь красивей тех цветов, что
подарил.
Ах, эта жизнь – как книга с полки,
В которой вырваны всегда
Страницы глупостей больших и темных
дел.
Их не выводят, как наколки
И не теряют, как года,
И как по-новой не пиши – слова не те.
Я говорил ей это с чувством,
Хоть по долгам не заплатил,
Что жизнь выходит напрямки, и –
хорошо.
И только дождь урчал о грустном,
Когда в него я уходил.
А утром лязгнули замки, и срок пошел.
Я ваше одиночество
Попробую убить,
Мне с вами вечер хочется побыть.
Я отступать бессилен,
Пойдемте обнявшись –
Букета нет красивее, чем жизнь.
2004 год
ЧАСЫ С РУСАЛКОЙ
Шалманом подгребли. Шалманом навалились.
И выволокли так, как волокут в расход.
И часики мои в тот миг остановились.
И время для меня остановило ход.
Постойте, дайте, дайте попрощаться,
Я на свободе не был и трех дней,
Пока колесики на часиках пылятся,
Позвольте с ней,
Позвольте с ней,
Позвольте мне, я попрощаюсь
с ней.
Чтоб злое время не тащилось катафалком,
Гоню быстрей – но стрелочкам видней.
И только хитро ухмыляется русалка,
Когда на ней,
Когда на ней,
Когда все стрелки сходятся на ней.
Ах, часики-котлы –
С русалкой циферблат, –
Им срока моего не изменить.
Две стрелочки-стрелы
Кружатся наугад
И места не найдут, когда звонить.
Русалка та не ведьма и не дура –
Тюремный гений чистой красоты, –
В ее глазах горят огнем понты Амура –
Судьбы моей,
Судьбы моей,
Судьбы моей корявые понты.
2004 год
ЧУЛОЧЕК
Вышел я из метро и пошел
по центральной дороге,
И случайно в толпе уронил
свой большой кошелек.
А как поднял глаза, увидал
эти самые ноги
И я понял, что нету на свете
красивее ног.
Чулочек расписной –
Такой не спрясть ни в жисть,
А я насквозь блатной,
Вчера откинувшись.
Я сказал ей слова, и она
улыбнулась мне мило,
Как должна улыбаться однажды
злодейка-судьба.
И внутри у меня что-то больно
и сладко заныло,
И в мозгах приключилась какая-то,
прямо, стрельба.
Чулочек был на ней –
Глаз прямо не отвесть,
А я блатных блатней,
На пантомимах весь.
И пошел я за ней и глядел, и глядел
ей тайком в полу,
И она повела меня так, как
проводят слепых.
И когда чем-то твердым в парадном
мне дали по кумполу,
Эти милые ножки изящно мне
пнули под дых.
Чулочек был цветной
И фраеров – лишка,
А я, насквозь блатной,
Взял их на перышко.
И сирены вокруг, и огни замигали,
как в цирке.
А потом, как обычно, что даже
рассказывать лень.
Но когда я шагал коридором
знакомой Бутырки,
Вспоминал почему-то лишь этот
сиреневый день.
Чулочек тот смешной,
Что по ноге – плющом.
И я такой блатной –
На 10 лет еще.
2003 год
ШПЛИНТ
Мусолил старую гармошку
Сосед по дому дядя Шплинт,
Щипал на картах понемножку
И на раздачах делал финт.
Сидел, как водится, конечно,
За убеждения, как встарь.
А первый друг его сердечный
Был циклопический кнопарь.
И говорил нам дядя строго:
«Краснеть не хочешь – не виляй.
Не можешь резать – нож
не трогай,
Сидеть не хочешь – не стреляй!»
Но это было б все – цветочки,
Когда бы не дал бог ему
Обворожительнейшей дочки,
И от другого, по всему.
И как-то раз, когда за полночь,
Он нас застукал втихаря,
Зажег огонь, сказал: «Бог
в помощь…», –
И начал резать все подряд.
И говорил нам дядя строго:
«Краснеть не хочешь – не виляй.
Не можешь резать – нож
не трогай,
Сидеть не хочешь – не стреляй!»
И с той поры своим кинжалом
Грозил до Страшного Суда.
Она из дома убежала
И не вернулась никогда.
А дядя сел. И в старой хромке,
Бог весть запроданной кому,
Пылились клавишей обломки
И так скучали по нему.
1995 год
Я НЕ БЫВАЛ В МОНАКО
Я не бывал в Монако –
Хоть было на уме,
И черту на рогах
Я б тоже был не мил.
Зато я был, однако,
На речке-Колыме
И прямо в сапогах
По золоту ходил.
Я не бывал в Монако,
И, может, до седин
Рулетки ни одной
Мне в нем не закружить.
Зато я был, однако,
За медный грош судим,
И послан был страной
У золота пожить.
Я не бывал в Монако,
Лихой забавы для,
Не брал нахрапом кон
И не влезал в долги.
Зато я был, однако,
В краю, где без рубля
По золоту легко
Топочут сапоги.
Я не бывал в Монако
В горячке золотой,
И в самый злой мороз
По нем не горевал.
Зато я был, однако,
Единственным у той,
Чье золото волос
В ладонях согревал.
А золото, а золото на родине
Особой желтизны –
Украдено, и добыто, и пропито,
И вроде как – не из казны.
А золото, а золото на родине –
Осенняя листва.
И матерные, матерные –
золото-слова.
2007 год
Я, ПРАВДА, НЕ БЫЛ ТРУСОМ
Я, правда, не был трусом,
Хоть и бесстрашным не был,
Но я с огромным вкусом,
Разбил немало ебл.
Кто – в хамах, кто – от власти
Из пострадавших будет.
Махну – ебло как хрястнет,
И правда торжествует.
Она всего превыше,
Она – распятий тыща!
С крестом ко власти вышел –
И вот они, еблища.
Вот, мужичонки-трусы,
Они меня осудят.
Пусть в очереди пусто
Их место век не будет.
2009 год
ЯШКА ЦЫГАН
У Яшки Цыгана
Гитара с трещиной была.
Ладами цыкала,
А все же за душу брала.
И по баракам с ним
Бродила тенью вновь и вновь.
Бывало – пальцы в кровь –
Играла нам про волю и любовь.
У Яшки Цыгана
Пятнадцать лет – немалый срок –
Гитара мыкала
И вырывалась из колок,
Плела аккордами
Из дней весенних по венку,
И прочь гнала тоску
Кнутом, кнутом, как лошадь на скаку.
Но как только заиграет, закуражится
над лагерным двором,
Так по скрипочке, по скрипке заскучает,
затоскует всем нутром.
Вот, не выдержит, заноет да и лопнет
перетянута струна –
Где ж ты, скрипочка, ай, скрипка,
и кому теперь играешь ты одна?
Как осень листьями
Швырнула милостыней в нас –
Пришла амнистия,
Как карта в масть, как на заказ.
Но Яшке Цыгану
Срок не скостили ни денька –
Гитарные бока
Ему служить остались до звонка.
И как только заиграет, закуражится
над лагерным двором,
Так по скрипочке, по скрипке заскучает,
затоскует всем нутром.
Вот, не выдержит, заноет да и лопнет
перетянута струна –
Где ж ты, скрипочка, ай, скрипка,
и кому теперь играешь ты одна?
2000 год
РОК-ПОЛИГОН
ВОЗДУШНЫЙ ШАР
Шар висит на тонкой нити,
Вверх лететь готов.
Миг – и вы уже парите
С ним поверх голов.
Шар воздушный легче ветра
И смелей мечты,
Не теряй, прошу, ни метра
Дерзкой высоты.
Время вертит колесо,
И его минуты тают.
Независим, невесом,
Шар летает. Шар летает.
Время вертит колесо
И беспечно дни листает.
Разноцветный детский сон –
Шар летает. Шар летает.
Но время стрелки тихо сдвинет –
Вечер вновь повис.
И воздушный шар остынет
И сорвется вниз.
Он помчит земле навстречу,
Как обычный мяч.
Удержаться в небе нечем –
Воздух не горяч.
1981 год
(«Рок-полигон»)
ИЛЛЮЗИОН
Тушите свет –
Настал для фокуса черед.
Тушите свет –
Обман – мы знаем наперед.
Неуловим
Обман, как глаз не напрягай.
«Неуловим…», –
Лукаво вторит попугай.
Непогрешим
В своей работе без натуг,
И от души –
«Ура» ему за ловкость рук.
Это, это, это и явь, и сон,
Это, это – иллюзион.
Секрет, секрет.
Нас привлекает только он.
Секрет, секрет.
Нет, не обман – иллюзион.
Легка рука –
И шар исчез, как улетел.
Наверняка,
Все вышло так, как он хотел.
Уже давно
Никто не верит в волшебство,
Но все равно,
«Ура» ему за мастерство.
Это, это, это и явь, и сон,
Это, это – иллюзион.
Берет разгон
Мечта в немыслимый полет.
Иллюзион
В минутный плен ее берет.
Обман, обман!
Об этом знает целый свет,
Но мальчуган
Еще раз просит взять билет.
Всего на час
Уносит детскую мечту.
В который раз –
«Ура» ему за красоту!
Это, это, это и явь, и сон,
Это, это – иллюзион.
Иллюзион.
Чего не встретишь наяву,
Иллюзион,
Тебе подвластно одному.
Постой, постой,
Не пожалей пяти минут,
Постой, постой,
Войди и не сочти за труд.
Отсюда ввысь
Берется бешеный разгон.
А где-то жизнь –
Совсем другой иллюзион.
1981 год
(«Рок-полигон»)
МИГ УДАЧИ
Первым быть случалось мне не раз,
Есть немало первых среди нас,
Мне всю жизнь хотелось мчать верхом
И прослыть умелым седоком.
Первый поворот, и вот уже
Чей-то конь упал на вираже –
Значит, все не просто, не легко,
Значит, до победы далеко.
Миг удачи. Миг удачи –
Это только слово.
Проворонишь – не догонишь,
Начинай все снова.
В этой скачке все решает миг,
Я ушел вперед, и кто-то сник,
Бьется сердца пульс – не сосчитать,
До победы мне рукой подать.
Но мелькает всадник за горой –
Я уже не первый, я – второй.
Не достать его уже никак –
У него смелей и шире шаг.
1982 год
(«Рок-полигон»)
МОТОР
Мало, мало быть мотором,
Чтобы двигаться вперед –
Для движения опоры
И колес не достает.
С места тронуть не поможет
Громкий рев и толстый трос.
Ты могуч, нет слов, и все же
Ты бессилен без колес.
Мало, мало быть мотором,
Чтобы ехать, не стоять.
Быть покорным светофорам,
Отставать и догонять.
Знать, что еле-еле дышишь,
На плечах возя комфорт.
Но если ты ничто не движешь,
Для чего ты нам, мотор?
1982 год
(«Рок-полигон»)
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
Глядя, как мыльный надуют
пузырь,
Радуется балбес.
Тело пустое, распертое вширь,
Как излучает блеск.
Радуйся, парень, на дутый успех,
Только не протестуй.
Мыла с водою хватит на всех,
Что там, бери и дуй!
Но посильнее дунешь раз,
Как исчезает блеск из глаз,
Тебе роняя за труды
Клочок воды.
Мыльная пена на каплю воды –
Жалкий объем и вес.
Но созерцая свои труды,
Радуется балбес.
Радуйся, парень, твой шар
впереди,
Ждет ясная даль и ширь.
Как мир, где живешь ты и ищешь
пути –
Мыльный, большой пузырь.
1981 год
(«Рок-полигон»)
СТАРОЕ КИНО
Было в зале шумно и темно,
Крутилось старое кино.
Расстроенный рояль безбожно врал,
И хохотал до слез сидящий зал.
Это было. Было, и – давно,
Когда придумали кино,
И на экран тогда потешить нас
Немая суета перебралась.
Старое кино. Грустно и смешно.
Времени мерцающая нить.
Старое кино, ты обречено
Суетой беспомощной смешить.
Пленка вдоль по роликам неслась
И вдруг отчаянно рвалась –
Актеров и актрис немая жизнь
Рвалась под топот и под свист.
Снова – стоп. Рояль в углу умолк.
Свистели в зале все, кто мог.
Но мысли не пришло хоть одному
За старость все простить ему.
Старое кино. Грустно и смешно.
Времени мерцающая нить.
Старое кино, ты обречено
Суетой беспомощной смешить.
1983 год
(Рок-полигон»)
ЧЕРЕПАХА
Время не жалея, не жалея,
Тащишь на себе тяжелый дом.
Триста лет нисколько не старея,
Ты идешь, идешь, но все ползком.
Медленно, но верно. Верно, верно…
Ноша костяная нелегка.
Ты не будешь первой. Первой, первой…
Но зато дойдешь наверняка.
Черепаха. Не полезешь в гору.
Триста лет живешь зато.
И умрешь не скоро.
Дом, где ты живешь – большой и грубый,
Но зато под крышей гладь да тишь.
Бог тебе не дал рога и зубы,
Но зато исправно ты молчишь.
В воду не пойдешь – а вдруг утонешь?
Гору обогнешь и обойдешь.
Может, никого ты не обгонишь,
Но зато ты всех переживешь.
1981 год
(«Рок-полигон»)
ЖЕНСКИЕ ПЕСНИ
БЕЗ НЕГО
Он лазил в окна мне и забирался в сон,
А на утро уходил, душой ликуя.
В каждом сне на палец мерил мне кольцо,
А в невесты прочили ему другую.
Пропадал неделю, приходил опять –
На виду у всех, но ради этой ночи
Было откровенно наплевать,
Что там говорят и что пророчат.
Без него я не могла ни дня,
Но весь двор, на встречи наши глядя,
Называл безвинную меня,
Безвинную меня – блядью.
Вылетит, как птица, не поймать, не сбить.
Выронит перо – его закружит ветром.
Так хотелось мне одной его любить,
Эхом быть его, пусть даже безответным.
А еще хотелось, чтобы только ночь
Падала, и к нам не приходило утро.
Но звонила полночь, и он рвался прочь,
Исчезая берегом в тумане мутном.
Без него я не могла ни дня,
Но весь двор, на встречи наши глядя,
Называл безвинную меня,
Безвинную меня – блядью.
За руки не словишь. Словом не проймешь.
Вылетит мотив – чужая будто песня.
На губах улыбка. В поцелуях ложь.
Только я не верила во все – хоть тресни!
Не меня в невесты прочили ему –
Горькая молва плыла не зря. А дальше…
Так ему хотелось, видно, самому.
Что же ты наделал, ах ты, глупый мальчик.
Без него я не могла ни дня,
Но весь двор, на встречи наши глядя,
Называл безвинную меня,
Безвинную меня – блядью.
1994 год
БЕЛАЯ ПТИЦА
Белая сказка за окном.
В ней лето осталось далеким сном,
В котором мы рядом с тобою идем.
Мы легкие тени – рука на руке –
Плывем через лето по звездной реке.
Мы только одни. Мы только вдвоем.
Белой, белой, белой птицей
В этот сон хочу пробиться,
Пролететь и раствориться
Вешнею водой.
Белой, белой, белой птицей
На твои упасть ресницы,
Вместе с белым снегом выпасть
На твою ладонь.
Белая сказка выпала нам,
Сладкая белая пелена –
Белая ночь. А в календаре – июнь.
Где оживают цветы не спеша,
Я слышу твой вдох, я слышу твой шаг
И чувствую нежную руку твою.
Белой, белой, белой птицей
В этот сон хочу пробиться,
Пролететь и раствориться
Вешнею водой.
Белой, белой, белой птицей
На твои упасть ресницы,
Вместе с белым снегом выпасть
На твою ладонь.
Белая ночь так коротка,
Как птица, она улетает, легка,
И вот уже сказку рисует зима.
Звезды застыли, как слезы в глазах,
Тени ушли, ничего не сказав,
И нам не вернуться сюда никогда.
Белой, белой, белой птицей
В этот сон хочу пробиться,
Пролететь и раствориться
Вешнею водой.
Белой, белой, белой птицей
На твои упасть ресницы,
Вместе с белым снегом выпасть
На твою ладонь.
2000 год
БЕЛЫЙ ПОДСНЕЖНИК
Ах, как тебе я улыбалась вслед,
В глазах кружились улицы с домами.
И первый твой растрепанный букет
Ко мне тянулся робкими губами.
Еще все лето впереди,
Постой, постой, не уходи.
Нежный-пренежный
Белый подснежник
Молча с ладони глядит на меня.
Нежный-пренежный
Белый подснежник –
Наша любовь с первого дня.
Я так тебя любила и ждала
И каждому звонку неслась навстречу.
Я все твои букеты берегла,
Что ты готов дарить был каждый вечер.
Но подарить любовь не смог,
Как тот цветок. Как тот цветок.
1995 год
БЫЛ ТЫ НЕСПРОСТА
Мне осень не размажет
Ни капли по щекам,
И бедность не укажет
Дороги по рукам.
И новый будет милым,
Но, даже не любя,
Не стану целым миром
Оплакивать тебя.
А новый будет тоже
Строптив и окаян.
Он – на тебя похожий,
А я – как тень моя.
К нему все ближе, ближе,
Все сладится вот-вот.
Но вдруг тебя в нем вижу –
И сердце упадет.
А новый горе мает –
Раз нелюбимый – пусть.
Тебя напоминает
До боли наизусть.
А с ним и эта осень,
Спокойна и желта,
Напоминает очень,
Что был ты неспроста.
А новый не заметит,
Конечно, никогда
В бесчувственном ответе
Мое пустое «да».
Как рухнут с неба в лужу
Пустые облака,
И окольцует душу
Не сердце, а рука.
1994 год
В ВАЛЮТНОМ МАГАЗИНЕ
Вот эта дверь – за ней все дорого.
А я сюда вплыла одна.
Здесь отпускают все без торга,
Но здесь кусается цена.
Здесь все, что в моде и не в моде,
Бери охапкой – не хочу.
Но без мужчин сюда не ходят.
А я одна. И я плачу.
Здесь рядом девочки бойчее
Двух очень толстых привели.
И каждый с видом казначея –
С такого стыдно брать рубли.
Девчонки эти Билли Бонса
Раздели б вмиг под голый бюст.
Ах, слово импортное – «спонсор» –
Не зря оно не сходит с уст.
И каждый думает при этом –
Он получает, что хотел.
За деньги можно зиму – летом.
И много-много разных тел.
А я гляжу на них и трушу:
Вдруг, если много заплачу,
Куплю вот так же чью-то душу
И как собаку приручу.
Я здесь с тобою не бываю
И значусь белым вороньем.
Здесь дарят ценник, не срывая,
А проще – платят за нее.
Букеты, вещи, безделушки –
Хотя, огнем они гори! –
Клади мне, милый, под подушки.
И ничего не говори.
1995 год
ВЧЕРАШНИЙ ДОРОГОЙ
Звонят. Бегу. Опять не он.
А сердце – частыми гудками.
С утра впервые телефон
Стал третьим лишним между нами.
Звонят. Бегу. Опять бегу.
Подруга в гости снова просит.
Что ты придешь, я ей солгу
И брошу трубку на вопросе.
Куда запропастился?
Запутался с другой?
Сегодня снова снился
Вчерашний дорогой.
В углу молчком магнитофон,
На стенке радио не дышит –
Вдруг позвонит сегодня он,
А я случайно не услышу.
Пылится брошенный экран,
Рояль пугается бренчанья.
Больнее всех на свете ран
Твое жестокое молчанье.
Куда запропастился?
Запутался с другой?
Сегодня снова снился
Вчерашний дорогой.
1994 год
ДВЕ ПРОХОЖИЕ
Я вчера с женой твоей
Опять лицом к лицу столкнулась.
Взгляд мой – в пол, ну, а ее –
Глядел так грустно безголос.
Разошлись мы, и, конечно,
Ни одна не обернулась,
Только ветер на глаза
Швырнул обеим прядь волос.
Стыли в слякоти шаги,
И на бульвар листва крошилась.
Я – к себе. Она – к тебе.
И вновь не сказаны слова.
Отказаться от тебя?
Но я прошла и не решилась.
А она не захотела.
И по-своему права.
Разошлись, тобой мы связанные прочно,
Без упрека и без слезной отходной.
Две прохожие, две пленницы
бессонницы полночной.
Ты из них не стоишь ни одной.
1994 год
ДЕВОЧКА С ОБЛОЖКИ
В журнале для мужчин
Ты выбираешь фото,
Где всё, всё, всё
Тебе в нем нравится.
Тебе, тебе, тебе –
Не для кого-то –
Со снимка улыбается
Красавица.
Эта девочка с обложки
Голая, красивая,
Как цветок на тонкой ножке –
Приглядись немного – это я.
В журнале для мужчин
Заложена страница,
Что чаще всех
Тебе встречается.
Тебе, тебе, тебе
Навстречу птицей
Слетает на ладонь
Красавица.
1995 год
КАК В ТАБАКЕРКЕ
Ночь. Прошлая ночь…
В ней, как цветы, оживали огни.
Ночь. Прошлая ночь…
В ней мы с тобой были одни.
Но путают время часы, и сбивается бой.
Первую ночь, первую ночь я не с тобой.
Как в табакерке, в табакерке
Мотив смешной звучит.
Он выползает из-за дверки
И мается в ночи.
Ты не придешь, скорей всего,
И я танцую под него.
Ночь. Прошлая ночь…
В окна стучится ладошкой листа.
Ночь. Прошлая ночь…
Я в ней была и твоя, и не та.
Ветер сдувает со снимка улыбку твою.
Первую ночь, первую ночь я не люблю.
1995 год
КОЖАНАЯ КЕПКА
Кожаная кепка,
Улица стрелой.
Ветер дунул крепко –
С головы долой.
Покатилась крыша
Под ноги ему.
Словом, как все вышло,
Так и не пойму.
Кожаная кепка,
Если даже на душе и в сердце рай,
Кожаная кепка
Упадет – не подбирай.
Старым мудрым липам
Знать бы с их годин –
Был он темным типом,
Хоть собой – блондин.
Завертелось быстро
Жизни колесо.
А любовь как выстрел:
Грохнула – и все.
Кожаная кепка,
Если даже на душе и в сердце рай,
Кожаная кепка
Упадет – не подбирай.
Милая фуражка,
В ней была везде,
А теперь бедняжка
Сохнет на гвозде.
Не давала слова,
Но с некоторых пор
Выбираю новый
Головной убор.
Кожаная кепка,
Если даже на душе и в сердце рай,
Кожаная кепка
Упадет – не подбирай.
1994 год
КОМПЛИМЕНТ
Ты на ходу мне бросил слово –
И мир вокруг опять в цветах.
И я готова слушать снова,
И улыбаться просто так.
«Ах, этот стиль… Ах, это платье…
Все хорошо, как не смотри».
И слов уже, наверное, хватит,
Но говори. Но говори!
Комплимент. Комплимент.
Это что-нибудь, да значит.
Комплимент. Комплимент.
А-ха-ха, какой удачный.
Не улыбнуться невозможно,
Когда навстречу мне идешь.
И произносишь осторожно
Пусть даже маленькую ложь.
Пусть говорят, что все напрасно,
Пустым словам не доверяй.
А мне без слов и так все ясно.
Но повторяй. Но повторяй.
1995 год
ЛАСКОВЫЙ МОЙ
Ну почему в июне ночь вдвое короче дня?
Не упросить повременить рассвет.
Через букет косматый ты целовал меня,
И поцелуй, теплый как ночь, был и – нет.
Ласковый мой.
Не отпускаю тебя в темноте.
Ласковый мой.
Кончится ночь, ты исчезнешь, как тень.
Ласковый мой.
Ну почему в июне короткая ночь бела?
Не разглядеть в небе звезды твоей след.
Тенью к тебе летела, я у тебя была.
Но как роса: только была и – нет.
Ласковый мой.
Не отпускаю тебя в темноте.
Ласковый мой.
Кончится ночь, ты исчезнешь, как тень.
Ласковый мой.
1996 год
ЛОЛИТА
Кукла черноглазая,
Ей сладко на руках –
Подарок твой,
Глаза закроя, тает.
Еще вчера она
Витала в облаках,
Но ты ушел,
И кукла слов не знает.
Кукла говорящая – Лолита –
Под подушкой прячется в ночи.
Все у нас забыто. Все забыто.
И кукла говорящая молчит.
Кукла черноглазая,
Улыбчивая днем,
Во сне тебя
Ругает и ласкает.
Нам надо бы сейчас
Присниться ей вдвоем,
Но в этот сон
Нас кукла не пускает.
1994 год
МАМА, ОН УШЕЛ С ДРУГОЙ
Ровно семь пробило на часах.
Где же ты? Где же ты? –
Я двух встреч не назначаю.
Повернусь, растаю на глазах –
Где же ты? Где же ты?
Опозданий не прощаю.
Мама, он ушел с другой!
Он мне больше не угоден,
Пусть хоть носит на руках.
Мама, он ушел с другой.
Пусть она теперь походит
В этих розовых очках.
Ровно полночь. Я еще не сплю.
Где же ты? Где же ты?
Чей звонок меня разбудит?
Пять часов уже, как не люблю.
Где же ты? Где же ты?
Что же будет, что же будет?
С кем он будет? Как он будет?
Мама, он ушел с другой!
Он мне больше не угоден,
Пусть хоть носит на руках.
Мама, он ушел с другой.
Пусть она теперь походит
В этих розовых очках.
1995 год
МИЛЫЙ МАЛЬЧИК
Мой милый, мой мальчик,
Букет твой завянет,
А жаль. Как жаль.
Трещит телефон,
Он меня не застанет –
Ты мне не мешай.
Я в волны бросаюсь, мне хочется
Просто любви.
А все же цветы со стола не снимаю
Твои.
Мальчик, милый,
На рябинах мерзнут кисти.
Мальчик, милый,
Мой осенний желтый листик.
Ветром мне подброшен,
Милый мой, хороший.
Мой милый, мой мальчик,
Весна не вернется сейчас.
Ударит гроза,
Только дождь не прольется для нас.
Твой белый кораблик
Маячит уже вдалеке,
А все же цветок оживает и пахнет
В руке.
Мальчик, милый,
На рябинах мерзнут кисти.
Мальчик, милый,
Мой осенний желтый листик.
Ветром мне подброшен,
Милый мой, хороший.
1996 год
МОНЕТКА
Нам с тобой не сворожить –
Карты выпадут не так.
Друг без друга нам не жить
И друг с другом нам – никак.
Как нам пережить все это?
Дай же нам ответ, монета.
Монетка брошена
И кружится отчаянно пока.
Про все хорошее
Искрятся и блестят ее бока.
Монетка выпорхнет
И на руке замрет.
А мне не выпадет,
Я знаю наперед.
Милый мой, хороший мой,
Уступи хотя бы раз.
Я с другим, а ты с другой –
Не получится у нас.
Как нам пережить все это?
Дай же нам ответ, монета.
У монеты два лица.
Я – одно. Другое – ты.
Мы взлетаем без конца,
Чтобы рухнуть с высоты.
Как нам пережить все это?
Дай же нам ответ, монета.
Монетка брошена
И кружится отчаянно пока.
Про все хорошее
Искрятся и блестят ее бока.
Монетка выпорхнет
И на руке замрет.
А мне не выпадет,
Я знаю наперед.
1994 год
НАДУВНАЯ БАБА
Баба надувная на витрине –
Жалкое подобие меня.
У кого на этом деле клинит,
Забирай ее и пользуй ты день ото дня.
А если хочешь, забирай их пару.
И тогда люби, хоть залюбись.
Их водить не надо по бульвару,
И в любой момент сказать обоим можно:
«Брысь!»
А я живая, я не надувная,
Мне нелегко от этого вдвойне.
Кого люблю, кого хочу – я знаю,
Но это все так редко совпадает.
И на витрине баба подмигивает мне.
Ночью мостовая голой грудью
Стелется под глазом фонаря.
Кто-то эту бабу раздобудет
И к утру решит, что с нею ночь провел
не зря.
А кому-то просто смеха ради,
Ставшая ни девкой, ни женой,
Снизу, сверху, спереди и сзади –
И при всем при этом оставаясь надувной.
А я живая, я не надувная,
Мне нелегко от этого вдвойне.
Кого люблю, кого хочу – я знаю,
Но это все так редко совпадает.
И на витрине баба подмигивает мне.
1994 год
НЕ ОСТАВЬ МЕНЯ ОДНУ
Мир такой большой и зыбкий,
Морю синему под стать.
Я могу в нем плавать рыбкой,
Я могу над ним летать,
Не теряя высоты,
Если рядом будешь ты.
Сон такой простой и сладкий:
Я – твоя. Но только в нем.
Я вхожу в него с украдкой,
Чтобы с ним расстаться днем.
Не оставь меня одну.
Я пойду, пойду ко дну.
1996 год
НЕ ПОЗОВУ
Не слезы это – капли по стеклу
По окнам барабанят в поздний час.
Погасшие, как свечи на балу,
Бредем с тобой в ночи последний раз.
Ты – мой еще на несколько шагов,
Но кончится вот-вот печальный путь.
Оброним напоследок пару слов,
И больше нам друг друга не вернуть.
В осенней рамке золотой
Все поменяется сейчас.
Я не твоя. И ты не мой.
И вся картина не про нас.
Как под откос покатится трамвай,
Роняя искры в мокрую листву.
И мы с тобой условимся, давай,
Ты не зови. И я не позову.
В осенней рамке золотой
Все поменяется сейчас.
Я не твоя. И ты не мой.
И вся картина не про нас.
1996 год
ПОДСНЕЖНИК
Ты подарил вчера подснежник у метро.
Красивый и простой, как добрая примета.
Он ненадолго мне. Он ненадолго, но
Мне как входной билетик в завтрашнее
лето.
С тобой я в нем еще ни разу не была,
Но переплыть его хочу, к тебе прижавшись.
Подснежником махнув, как перышком
весла,
Надежду и любовь мне на все лето давшим.
Грустный цветок на ладони
Молча глядит на меня.
Он лето уже не догонит
С самого первого дня.
Обронит календарь слезой последний лист.
В нем поровну всего – дней горестных
и нежных.
Но каждый, все равно, был как подснежник
чист
И на ладонях дней был хрупкий, как
подснежник.
Мне осень не тебя листвой наворожит.
Напомнит только чуть и снова в лето сманит.
И потому спешу цветок я уложить
Закладкой в недочитанном романе.
Грустный цветок на ладони
Молча глядит на меня.
Он лето уже не догонит
С самого первого дня.
1995 год
ПРОТЯЖНЫЙ ВАЛЬС
Кружит по ветру в одиночку
Протяжный вальс. Уже не твист.
За нас с тобою ставит точку
Осенний лист. Осенний лист.
Вслед смотрит грустная цветочница,
Цветов не хвалит никому.
Ей будто больше всех не хочется
Нас провожать по одному.
1997 год
РАССТАЕМСЯ
Расстаемся. Ветер вслед кричит нам,
Или это вслед кричала я?
Долгожданный, первый мой мужчина,
Разве я не женщина твоя?
Расстаемся. Значит, так и будет.
Может, показалось? Ерунда?
Я груди твоей дотронусь грудью,
Только не с разбегу, как всегда.
Расстаемся лучшей в мире парой.
В серых лужах – небо кверху дном.
Мокрые московские бульвары
Золото срывают перед сном.
Расстаемся, будто понарошку.
Только ветер знает: навсегда.
Я – звезда горячая в ладошке.
Ты – вдали холодная звезда.
1997 год
СВЕЧА
Я знаю: ты не сужен
И все признанья – в прах,
Как тысячи жемчужин,
Растерянных в морях.
Как утренние звезды –
В мониста на груди, –
Дарить их слишком поздно.
Не сужен. Уходи.
Я как могла, так спела
И грустно и старо,
И кляксами на белом
Расплакалось перо.
Простила все и ночью
Уснула – не буди.
Свеча поставит точку.
Не сужен. Уходи.
Я свечой была
В образах твоих,
Моего тепла
Было на двоих.
Молча и крича,
В яви и в бреду
Я была свеча,
Ты ее задул.
1996 год
ТАНЦУЕТ КРЕОЛКА
Обронит гудок теплоход,
Как вздох, как последнее слово.
А ночь все никак не уснет,
И тени на палубе снова.
Парит над водой и сбивает нас с толка,
На темном причале под сотнями глаз,
Танцует креолка. Танцует креолка.
Танцует. Для нас.
Аккорды летят над водой.
Танцовщица тает и вьется.
И танец то веет бедой,
То счастьем безумным взорвется.
И сердце мое впопыхах, без умолка,
Признанье в любви протанцует сейчас!
Танцует креолка. Танцует креолка.
Танцует. Для нас.
И небо черно, и вода.
И порт переполнен крикливый.
Мы завтра уйдем навсегда
В другое волшебное рио.
Где я потеряю тебя ненадолго,
Чтоб в сон твой ворваться в полуночный
час.
Танцует креолка. Танцует креолка.
Танцует. Для нас.
1995 год
ТЕБЯ КАК ПТИЦУ ОТПУЩУ
Тебя как птицу отпущу без сожаленья,
Лети к другой, тебе с ней будет хорошо.
Все было слишком дорогое развлеченье,
Благодарю за то, что ты ее нашел.
Она не лучше, не красивей, не моложе.
Но хорошо тебе, и бог тебе судья.
Но с ней мы все-таки отчаянно похожи:
Она тебя отпустит так же, как и я.
Последних почестей Любви не отдаем,
Последних горестей Любви не выдаем,
Последних прелестей Любви не продаем.
Она ушла. И вот мы – двое не вдвоем.
2000 год
ТЕБЯ ТЕРЯЮ
Пойдешь за мною вслед –
Я вмиг в толпе растаю.
Слезинку оброню –
Никто не углядит.
Дворовых голубей
Спугну большую стаю,
И хлопнувшая дверь
Тебя опередит.
Я за шагом шаг,
За шагом шаг
Тебя теряю.
Кажется, вот-вот
Сгорит душа,
Но не сгорает.
Кажется, вот-вот
Твоя рука меня вернет.
Я сна не нахожу,
Когда наступит полночь –
Все потому, что сон
Придумала сама.
Но даже в этом сне
Ты девочку не вспомнишь,
Которая тебя
Любила без ума.
Я за шагом шаг,
За шагом шаг
Тебя теряю.
Кажется, вот-вот
Сгорит душа,
Но не сгорает.
Кажется, вот-вот
Твоя рука меня вернет.
1995 год
УЛИЧНЫЙ ХУДОЖНИК
Уличный художник так легко
Написал портрет наш угольком.
В черно-белом цвете набросал
Розовые губы. Синие глаза.
Был понятен только нам одним
И казался теплым и цветным.
Нам одним казалось – навсегда
Бархатное небо. Яркая звезда.
Было словно сон – кого винить?
Надвое портрет не разделить.
И другой такой не написать.
Розовые губы. Синие глаза.
Я тебя любила и не говорила
Это слово больше никому.
Я тебя хотела, я к тебе летела,
И тебе я пела одному.
Не сойдутся больше никогда, не зови,
Наши губы близко,
Звонких дней мониста,
Берега любви.
1996 год
УШЛА С ДРУГИМ
Твоя машина-каракатица
Ко мне под окна катится,
Гудит.
Гудит, а я ее не слушаю.
И свет давно потушенный
Не жди.
Ушла с другим. Ушла былая боль.
Ушла совсем не так. Не как с тобой.
Все это было увлечением
И я не исключением
Была.
Зря окна фарами освечены,
Ведь я сегодня вечером
Ушла.
Ушла с другим. Ушла былая боль.
Ушла совсем не так. Не как с тобой.
1996 год
ЦВЕТОЧНИЦА
В волшебном городе
Цветы – как на парад,
Где стебли гордые
Ложатся на лоток,
Где у цветочницы
Букеты нарасхват,
А ей так хочется
Себе один цветок.
Но от любимого.
Розу – вам. Ландыш – вам.
На ромашке погадайте.
Розу – вам. Ландыш – вам.
И любимому отдайте.
Волшебная звезда
Взойдет когда и где,
Чтоб унести туда,
Где не растает сон?
Где все исполнится
В волшебном городе,
Где я – цветочница.
А ты в меня влюблен.
А ты в меня влюблен…
1995 год
ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ
Белая лилия – хрупкий цветок.
Мраморный профиль на глади точеный.
Если разлюбишь и будешь жесток –
Станет сейчас же он лилией черной.
Если изменишь – не пробуй за ней.
В руки возмешь – загорятся ладони.
Только на миг она станет бледней
И почернеет в руках, и утонет.
В зеркало гляжу или в окно,
Навсегда забыть себе велю.
Черная я, черная лилия давно,
А тебя, как белая, люблю.
В лунном безмолвии не закричу,
Не омрачу тебе цветом веселья.
Лилией черной быть не хочу,
Но превращаюсь в нее, как от зелья.
И на воде в очертанье немом,
Белой, как мел, или черной, как сажа,
Стану тебе самым черным клеймом,
Если меня ты разлюбишь однажды.
В зеркало гляжу или в окно,
Навсегда забыть себе велю.
Черная я, черная лилия давно,
А тебя, как белая, люблю.
1994 год
ШКОЛЬНЫЙ РОМАН
Окончен школьный роман
До дыр зачитанной книжкой,
Но непоставленный крест,
Как перепутье у ног.
Подружка сводит с ума,
И мой вчерашний мальчишка
С букетом наперевес
Ее терзает звонок.
Нет горечи, нет грусти,
Звонок звенит – нет слада.
Она его не пустит –
Так надо.
Окончен школьный роман,
Махнув сиреневой кистью, –
Ее пыльцу на окне
Назавтра смоет дождем.
Погода просит сама
Рассыпать желтые листья,
Под окна бросить их мне –
Давай до них подождем.
Нет горечи, нет грусти,
Звонок звенит – нет слада.
Она его не пустит –
Так надо.
Окончен школьный роман.
Молчком. Ни делом, ни словом.
Где поцелуй напослед?
Где на прощанье рука?
Погасят окна дома,
Но мы не встретимся снова.
Звезда оставила след
И догорела, легка.
Нет горечи, нет грусти,
Звонок звенит – нет слада.
Душа тебя отпустит –
Так надо.
1994 год
ЭТА ОСЕНЬ
В этот вечер даже птицы
Смолкли будто невзначай.
Ты пришел ко мне проститься.
Ну, прощай.
Две улыбки разлетятся,
Как оброненный хрусталь,
И не выйдет посмеяться
Под молчанье птичьих стай.
Только осень свысока
Смотрит серыми глазами.
Мы с тобою все сказали
И прощаемся. Пока.
Горьких слов не испугаться –
В них не боль уже – печаль.
Ты пришел ко мне расстаться.
Ну, прощай.
Мы с тобою так похожи –
Значит, некого винить.
И никто уже не сможет
Нас с тобой соединить.
Только осень свысока
Смотрит серыми глазами.
Мы с тобою все сказали
И прощаемся. Пока…
1995 год
Я ВОЗВРАЩАЮСЬ ПОУТРУ
Я возвращаюсь поутру
В такси прокуренном и тесном
В свою большую конуру,
Где мало мебели и места.
Я забавляла ночь господ.
Я пела им и этой ночью
Я не была ни разу – под…
Ни под одним. Как раньше, впрочем.
Я ночь убила на балу.
Но не влюбилась среди бала.
И проститутка на углу
Меня коллегой посчитала.
Она, довольная судьбой,
Меня в перчатку обхохочет.
Она торгует всей собой.
А я торгую только – Ночью.
Она лиха. Она плоха.
Но взгляд ее острее шила.
И я в обход ее мехам
Бреду, как будто согрешила.
Я возвращаюсь поутру.
Я не курю, я пахну дымом.
А ноты стынут на ветру
Полночной песней о любимом.
1994 год