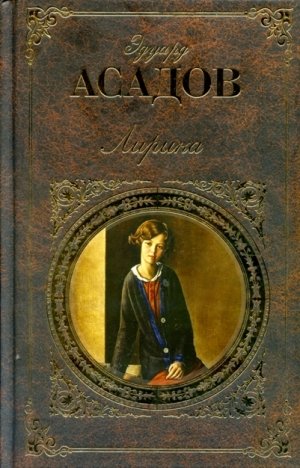
Должен признаться, что когда в прошлые годы мне задавали вопрос, люблю ли я музыку, то поначалу я попросту обижался. Мне казалось, что задать человеку такой вопрос равносильно тому, что спросить у собеседника, как он относится к солнцу, воздуху или хлебу. Больше того, такой вопрос словно бы ставил под сомнение вообще мою принадлежность к человечьему званию. Потом же, приглядевшись попристальней, я убедился, что такие существа тем не менее есть. Пусть их не так уж и много, однако сбрасывать их со счетов все-таки нельзя.
Иногда и некоторые рьяные ревнители музыки начинают сражаться с ними, издеваются, обличают, пригвождают и прочее. А это, по-моему, неправильно. Человек, абсолютно равнодушный к музыке, — это по-своему несчастное существо. Ну, так же как человек, у которого, скажем, нет одного легкого или полностью отсутствуют обоняние и вкус. Мне скажут, что он своего недостатка может не ощущать. Ну не чувствует музыки и не чувствует, а переживаний по этому поводу нет никаких. Может быть, это и так, но все равно он по-своему несчастен, так же как несчастлив человек, который не знает, как пахнет жасмин или сосновый бор, что такое аромат вина или аппетитного жаркого, и рыба для него ничем по вкусу не отличается, ну скажем, от ложки варенья. Одним в этом смысле еще можно помочь, другим — бесполезно и пробовать.
И мне кажется, очень хорошее дело на протяжении многих лет осуществлял композитор Дмитрий Борисович Кабалевский, когда начинал прививать вкус к музыке людям, так сказать, на рассвете их сознательного бытия. Он выступал регулярно на больших аудиториях с рассказами о композиторах, об их творениях, о неповторимой особенности каждого из них и тут же иллюстрировал очень темпераментно на рояле фрагменты из этих произведений. Выступления его имели огромную аудиторию, так как транслировались по радио. Ну и музыкальные лекторы, выступавшие и выступающие перед юными и неюными слушателями на симфонических и даже эстрадных концертах, делают большое и нужное дело.
Есть и еще одна категория людей. Я бы назвал ее «упрощенной». Почему? Да потому, что люди эти воспринимают лишь то, что полегче, что, так сказать, рядом лежит, для чего не надо ни напрягать голову, ни подключать воображение, ни затрачивать нервов. Иными словами, даешь только танцевальную да эстрадную музыку. А остальное — все выдумки чудаков, которые хотят показать себя очень умными, а сами ничего не понимают! Люди эти похожи чем-то на шумливых уличных воробьев, которым толком даже и невдомек, что кроме перелетов с панели на крышу есть еще и заоблачный полет журавлей, с которого видны такие красоты, которые воробьям даже и не снились!
Итак, на вопрос, люблю ли я музыку, я, вероятно, уже ответил. Скажу больше: о любви к музыке, как таковой, я в повседневной своей жизни попросту никогда не думаю, как не думает, скажем, белка о лесах, а дельфин о просторах морей. Это больше, чем любые слова, — это сама жизнь. Отнимите у них то и другое, и они погибнут, а слитые воедино с лесом или морской синевой, они об этом не думают.
Какую музыку я предпочитаю: симфоническую или легкую? Современные песни или песни народные? Я знаю, что на подобные темы люди часто спорят и спорят, порой отчаянно, до ссор и взаимных оскорблений. Да, да, такое иногда случается. Какая музыка лучше? К какой из них стоит относиться с уважением, а к какой нет? На это я лично отвечу так: человек, противопоставляющий симфоническую музыку музыке камерной, или так называемой легкой, или человек, пытающийся утвердить, допустим, современную песню за счет народной или наоборот, напоминает мне непропорционального, почти уродливо развитого человека. Вот есть среди молодежи разных стран такое спортивное течение, которое называется культуризмом. Занятие это к подлинному спорту, по-моему, отношение имеет довольно отдаленное. Люди «накачивают» себе мышцы. Да, да, не занимаются каким-то интересным видом спорта, ну, скажем, плаванием или гимнастикой, а тупо, путем бесконечного повторения какого-то определенного движения «накачивают» себе мышцы, ну, скажем, бицепсы на руках. И порой, глядя на такого геркулеса с могучим торсом, вы даже и подумать не решитесь, что у него, возможно, слабоватое сердце, прокуренные легкие и вообще эти быстро заработанные мышцы, во-первых, не так уже и сильны, а во-вторых — не слишком долговечны, стоит прекратить на время это тупое «накачивание», и такие полубутафорские мышцы тают чуть ли не на глазах. Вот такого-то культуриста и напоминают мне люди, противопоставляющие один музыкальный жанр другому. Это своего рода «музыкальные культуристы».
Человек восхваляет музыку рок или поп-музыку, при этом с презрением отзывается о музыке Верди, Чайковского или Бизе. Серьезно это? Нет, скорее глупо. Пусть будет музыка рок, кантри, твист или еще какая-то иная, но почему так ограничивать себя? Почему очерчивать вокруг своих ног нечто вроде мелового круга, за который ты не желаешь сделать ни шагу? Нет, я вовсе не требую, чтобы люди были всеядными, чтобы они в равной степени любили все. Кто-то может любить симфонии, кто-то любит романсы, кому-то ближе оперетта или эстрадные песни. Пусть будет так. Но почему одно должно вытеснять все остальное? Вот я, например, природу Урала и сибирские леса предпочитаю всем прочим морским или степным пейзажам. Однако было бы, вероятно, просто ограниченностью с моей стороны полностью зачеркивать для себя ласковую, пронизанную солнцем, зеленоватую волну Черноморья или бескрайнюю степь Украины. И ближе мне не тот или иной музыкальный жанр, а та или иная музыка.
Что для меня является критерием подлинной музыки? Мелодия. Без мелодии для меня музыки нет. И когда мне предлагают вместо музыки одни ритмы, я воспринимаю это как отдельные нитки, выдернутые из ткани. Это часть общего, но не само целое. Поп-музыка, где один ритм без мелодии (мне лично демонстрировали именно такую), меня не взволновала. Может быть, есть еще какая-то иная, но то, что слышал я, — это один ритм, пусть порой очень изобретательный, но всего лишь тело без души. Душа же любой музыки, повторяю, мелодия. И если мелодия хороша, если она трогает мою душу, тогда музыка эта мне нравится, я ее помню и готов когда-то снова вернуться к ней. Мелодия должна быть всегда и везде. Какая угодно: простая или сложная, но мелодия, а не какофония звуков. С этой точки зрения я подхожу к любому произведению, будь то симфония или опера, романс или самая простенькая песенка, вплоть до песенки для детей. Пусть в симфонии мелодия трансформируется самым замысловатым образом, пусть там будет не одна, а несколько, даже много мелодических линий, но они там должны быть в любой интерпретации и сочетаниях и под каким угодно замысловатым ракурсом, но мелодия должна быть началом главным, определяющим. Там же, где мелодии нет, где есть лишь музыкальный грохот и ритмический набор музыкальных фиоритур, сердце мое остается к такой музыке равнодушным. Я не знаток музыки, не специалист, я ее любитель. Иначе говоря, я тот, на кого рассчитывал творец, почти всякой музыки. Не на профессионала, не на того, кто играет, а на того, кто слушает. Вот я как раз он и есть.
Какая музыка волнует меня больше всего? Вопрос этот только на первый взгляд кажется простым. Если же вдуматься в него, то он становится для меня громадным и до конца, может быть, почти неразрешимым. Почему? Да потому что очень трудно назвать все то, что волнует меня в безбрежном океане музыки. Задать такой вопрос — это почти то же самое, что спросить: какая река на земном шаре кажется вам самой прекрасной? На одних ты побывал сам, с другими знаком по картинам, фотографиям, кинофильмам да просто по книжным описаниям. Хорошо, пусть даже не я, а человек, который всю свою жизнь только и делал, что занимался путешествиями, возьмется ответить на этот вопрос. Думаю, что и он будет в очень большом затруднении. И все-таки как ни прекрасны все реки на земле, а в памяти вашей начнут постепенно вырисовываться какие-то определенные картины, которые вам, очевидно, запали в душу больше других.
Так, наверное, и с музыкой. Я попробую назвать вам целый ряд имен и произведений, которые мне ближе и дороже всего, но заранее оговорюсь, что это будет лишь часть того, что мне дорого в музыке. Всего я попросту не смогу ни назвать, ни вспомнить. Человек, как я уже сказал, имеет право отдавать предпочтение тому или иному музыкальному жанру, больше того, это естественно. Но принимать одно, полностью отрицая другое, значит, обидеть не музыку, а самого себя. В этом я глубоко убежден. И еще одна мысль: грань между серьезной музыкой и так называемой легкой зачастую очень условна. И многие произведения, по-моему, причисляются к той или иной рубрике самым произвольным образом. Ну вот давайте возьмем для примера три замечательных музыкальных произведения. Три превосходных вальса: Вальс до диез минор Шопена, вальс «Весенние голоса» Штрауса и старинный русский вальс «Грусть». Все три вальса неповторимо хороши, каждый по-своему. Но вальс Шопена относится к жанру камерной классики, это музыка серьезная, вальс Штрауса — это уже классическая легкая музыка. А старинный русский вальс — это музыка, условно говоря, танцевальная, под нее только танцуют. Симфонические оркестры или лауреаты пианисты последний из названных мною вальсов не исполняют. Условность? Да, и еще какая условность!
Какая музыка волнует меня? К чему мне чаще всего хочется прислониться душою? Прежде всего мне хотелось бы поговорить о больших музыкальных полотнах. Хорошую симфоническую музыку я люблю очень. Без нее я просто не мыслю своего существования на земле. Однако симфоний я назову всего несколько. Но это не потому, что симфонии, которые я не упомяну, меня не интересуют, а совсем по иной причине. Вы обращали когда-нибудь внимание на то, как люди слушают музыку? Я неоднократно наблюдал и убедился, что люди это делают, если так можно выразиться, с разной степенью отдачи. Я имею в виду не поведение их в концертном зале, не движения и не мимику. Я говорю о силе сопереживания, о внутреннем напряжении, о нервной «температуре», что ли! Так вот, одни люди слушают музыку более или менее спокойно, сосредоточенно или рассеянно, но спокойно.
Она им, допустим, нравится, они погружаются в нее, как в струи теплого воздуха, и словно бы отдыхают в этом приятном состоянии. Другие же (их значительно меньше) все больше и больше волнуются, включают все свои внутренние резервы, переживают остро, бурно и доверчиво-горячо. В самых же напряженных и сильных местах горят жарким пламенем и сгорают, без всяких преувеличений, почти дотла.
Думаю, что вот к этой-то категории «неистовых слушателей» принадлежу и я. Нервная же система, как запас сил у спринтера, способна отдать страшно много, но на короткую дистанцию. На длинной требуется, вероятно, музыкальный «стайер» с его спокойным размеренным «бегом». Вот почему я так устаю, слушая симфонии. Устаю в самом буквальном смысле. Радуюсь, наслаждаюсь и выматываюсь подчас весь, до конца! Спокойные люди, может быть, в чем-то счастливее меня. Они и гореть не горят и гаснуть не гаснут. Для них, скажем, часовая симфония — простое дело. Им было хорошо, они получили что-то приятное, дорогое, но остались во всем абсолютно целехоньки. Одним словом, «стайеры». Я говорю о них без иронии. Просто констатирую факт, и все. Вот почему мне ближе, а вернее, «безопаснее» более короткие произведения. Сонаты, фортепьянные или скрипичные концерты, арии и т.д.
И все-таки есть такие симфонии, которые я готов слушать, даже сгорая в порошок! Это Пятая и Девятая симфонии Бетховена, Пятая симфония Чайковского, Седьмая Ленинградская симфония Шостаковича и Первая симфония Брамса, которая чем-то неуловимым близка симфониям Бетховена, может быть, грустью, светом и могучестью, что ли. К симфоническим же произведениям я отношу и «Шахерезаду» Римского-Корсакова, и музыку к драме «Эгмонт» Бетховена, и музыку к драме «Пер Гюнт» Эдварда Грига.
Симфонии, которые я только что назвал, являются, по моему глубочайшему убеждению, вершиной красоты человеческого духа. Профессионально о них я говорить не буду. Во-первых, потому что я не музыкант, а во-вторых, потому что о них написано множество объемистых произведений, где все, буквально все, оценено и разложено по полкам. Я так музыку препарировать не умею и, честно говоря, не люблю. Я ее чувствую. Вот все, что я могу для нее сделать. И это, вероятно, то, что дорого любому творцу музыки и вообще любого произведения литературы и искусства.
Когда я слышу Девятую симфонию Бетховена, то сразу же, с первых могучих и страстных звуков я перестаю ощущать время, здание, в котором я нахожусь, на все это время забываю имя дирижера, название оркестра, наконец, соседей по залу или комнате, в зависимости от того, на концерте или по радио я слушаю музыку, и погружаюсь в удивительный мир борьбы и торжества человеческого духа. Разные картины возникают перед моим мысленным взором. Иногда я представляю себе утлый кораблик, отважно пробивающийся сквозь штормовой ветер и огромные валы к далекой и прекрасной гавани. Его швыряет из стороны в сторону, ветер глушит голоса людей, мачта сломана, волны перекатываются через палубу и каюты, холод, тучи, мрак. Но в сердце капитана и его матросов неколебимая вера в победу. Все чаще пробивается солнце, все реже набегают валы, все ближе залитая теплыми и живительными лучами милая гавань с ослепительно-синими водами, с белоснежными взлетами чаек и плачущими от счастья женщинами на теплом граните пирса. Иногда же я вижу человека, который, может быть, выбрался из развалин какого-то дома или вышел из сырой болотистой чаши, где нет ни света, ни свежего воздуха. На руках у него раненый друг, а может быть, ребенок. И вот он взбирается в гору. Ветер валит его с ног, колючие кусты рвут одежду. Он теряет силы, внизу пропасть и мрак, вверху — спасение, люди, жизнь. Он двигается из последних сил, как ему тяжело, как устали руки, как спотыкаются о каждый камушек его разбитые в кровь ноги. Но он верит, что дойдет, ему нельзя иначе, и он идет, идет, идет, побеждая все! И вот он на вершине, где солнце, где те, кто почти перестал верить в его приход, где жизнь, где счастье, где победа. Он стоит под алыми лучами солнца, он показывает малышу весь мир и улыбается устало и радостно, что-то тихо говорит, и горячие слезы катятся по его щекам…
Может быть, это неправильно. Может, слова мои покажутся кому-то даже смешными, но я пишу так, как чувствую. И у меня есть право на свое собственное восприятие. Но это еще не все. Иногда… иногда я вижу спину. Только спину. Широкую, могучую спину и черную гриву волос. Он играет на фортепиано. Играет, не слыша не единого звука. Впрочем, нет, он слышит сильнее, острее, жарче, чем все люди на земле! Вокруг него убогая обстановка. Старенький сюртук сброшен на продавленный диван, рукава рубахи засучены выше локтей. Глаз его я не вижу, но они горят испепеляюще ярким синим огнем. Этот взгляд я чувствую всем своим существом. Человек не просто играет, не просто творит, нет, он сражает зло, он потрясает все мелкое и подлое на земле! Могучая прекрасная музыка раздвигает стены, переливается на улицу, затопляет весь город, всю страну, весь мир! Она торжествует и говорит человеку: «Ты можешь все! Если захочешь, ты в силах стать, красивым, сильным, счастливым! И если не смог победить сегодня, иди все равно вперед, победа ждет, но она приходит только к целеустремленным и сильным! Иди!» Я не целовал руку ни разу ни одному мужчине на земле. А этому человеку поцеловал бы с низким поклоном! Причем подобные ощущения охватывают меня не только при исполнении одной из его симфоний, но и многих и многих других. И когда я слышу его Пятую, и когда звучат потрясающие звуки его увертюры к драме Гете «Эгмонт». Вообще, когда играют Бетховена — моего любимого композитора, я счастлив и чувствую необыкновенный прилив сил!
Пятую симфонию Чайковского воспринимаю я несколько иначе. Для меня это Россия. Голос Родины. Родная земля. Произведение это глубоко патриотичное. Я ощущаю его как лирическое и как гражданское в одно и то же время. Симфония эта может быть понята любым человеком на земле, ибо она проста, прекрасна, благородна и человечна. И в то же самое время это совершенно русское произведение. И вот что еще интересно: 1-я симфония Калинникова, например, тоже глубоко русское произведение. Но они очень разные. Симфонию Калинникова я не назвал в самом начале только по преступной забывчивости. А она находится в числе моих самых дорогих и любимых произведений. И оценена в мире, думается мне, пока еще недостаточно. Хотя симфония эта великолепна. Чем же отличаются друг от друга эти два гениальных произведения? (Нет, я не оговорился, причислив оба эти творения к разряду гениальных. В этом я совершенно убежден.) Симфония Калинникова, как мне кажется, — это русская природа, с ее неповторимыми левитановскими пейзажами, мягкой, задумчивой грустью, далекой, хватающей за сердце песней, щемящей тоской, родниковой прохладой, застенчивой улыбкой девушки и горячей, до слез, благодарностью к народу, родной земле.
Симфония Чайковского тоже самая что ни на есть русская. Но она в отличие от симфонии Калинникова более многопланова, что ли. Это и русская лесная белоствольная красавица, и Александр Невский, и задумчивая печаль, и бурная радость. Это любовь и буря, хрупкая нежность и великая мощь. Когда я слушаю Пятую симфонию Чайковского, то чувствую себя сильным, красивым, умным и вообще способным творить на земле чудеса. Так неповторима и так прекрасна эта симфония. Особенно великолепен ее финал. Не знаю, может быть, я наивен, но мне кажется, что просто трудно найти на свете музыкальные творения, способные подняться выше этого финала! Мажорное звучание медных инструментов, редкостной красоты мелодия, торжественное звучание всего оркестра создают впечатление чего-то могучего, возвышенного и прекрасного. Это гимн жизни. И хоть в ней нет вокальной «Оды к радости», как у Бетховена, но все равно это песня, гимн несокрушимой силе нашей земли, мудрости и доброте нашего народа, гимн правде, справедливости и всему прекрасному на земле! Простите меня за невольную патетику, но иначе я тут просто не могу. Когда я слышу финал Пятой симфонии Чайковского, то вижу гигантский стяг нашей Родины в праздничный день, вскинутый в лучах солнца в ослепительную синеву высоко, высоко над землей!..
Первая симфония Брамса чем-то близка симфонической музыке Бетховена, но не страстным, не бурным, не гневным ее частям, а, если можно так выразиться, ее элегическим интонациям, задумчивым, но глубоким. При этом музыка Брамса остается абсолютно самобытной и неповторимо яркой. Когда я слушаю симфонию Брамса, то на память почему-то сразу приходят строки Пушкина:
В музыке нет ни взрывов смеха, ни слез. Это грустная, прекрасная и светлая музыка. Есть в ней что- то от той же любимой поэтом осени, где тихо и торжественно горят «в багрец и золото одетые леса». Льется музыка, и душу охватывает какая-то тихая грусть. Всего тебя словно бы обнимает мягкий и свежий ветерок. Где-то далеко-далеко, в гаснущем блеске зари, за мягким кружением листопада видятся глаза, печальные и дорогие… Глаза, которых, может быть, уже и нет на земле…
Очень люблю 40-ю симфонию Моцарта. Эта симфония, мне кажется, могла бы оживить даже навеки почившего человека. Так она жизнерадостна, порывиста и взволнованна. Красота мелодии, вера в жизнь, в счастье и во все живое на земле — все слилось в этой крылатой, стремительной, грациозной и солнечной музыке. Слушая ее, я всегда чуточку улыбаюсь радостной и теплой какой-то, приветливой улыбкой. Хорошая музыка порой сильней хорошего вина.
О Седьмой симфонии Шостаковича написано столько литературы, что, какие бы слова я ни сказал о ней, все будет лишь повторением сказанного. Поэтому я не буду давать оценок или пытаться что-то объяснить в этой симфонии. Я скажу только, как воспринимаю этот шедевр. Люди старшего поколения пережили войну. Младшие знают о ней по книгам и кинофильмам. Я пережил на войне едва ли не все горькое, что только может пережить на войне человек. Седьмая симфония была написана зимой 1941/42 года в холодном и голодном, но непобежденном Ленинграде. И в те самые дни, когда в нетопленой с заиндевевшими углами квартире упрямый человек писал свою упрямую музыку, я аккомпанировал тихим звукам его рояля взрывами моих снарядов по врагу в районе Синявино и станции Мга. Мы пробивались к Ленинграду, мы рвались к тем, кто стойко переносил все ужасы блокадной зимы. И когда теперь я слушаю Седьмую Ленинградскую симфонию, я словно бы заново переживаю все, что пережил тогда. И вообще за все военные годы. Впрочем, это не все. За все трудные годы, за все горькие и сложные дни, когда проходишь сквозь беду, побеждая и веря в обязательную победу. В душе моей словно бы сшибаются и бьются насмерть пронзительная, образно-железная музыка, олицетворяющая тупую поступь врага, злобу, фашизм, все жестокое на земле, и светлая, ясная, все нарастающая победоносная музыка правды, света, победы! И я словно бы стараюсь помочь ей, этой светлой музыке, одолеть, заполнить все, открыть синее небо!
Называя ограниченное количество симфоний, я вовсе не думал умалить 3-ю Героическую Бетховена или его Пятую. Нет, эти симфонии оказывают на меня почти то же действие, что и Девятая. Я назвал ее, как, может быть, лучшую, с моей точки зрения, среди равных. Надо еще заметить такое, конечно же, случайное совпадение, что нечетные симфонии Бетховена ближе моему сердцу, чем его четные, хотя, повторяю, градация, может быть, очень условная, ну на какие-то проценты, что ли.
Совершенно особое место в душе моей занимают несколько огромных музыкальных полотен трех разных композиторов: симфоническая сюита Римского-Корсакова «Шахерезада», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского и музыка Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».
Совершенно не похожи между собой творческие манеры этих трех музыкальных гигантов. Различны сюжеты их произведений, различны краски и взгляды на жизнь. Почему же я поставил все эти полотна рядом? Отчего занимают они в душе моей совершенно особое место? Да потому что есть в них и нечто общее, то, что трогает в моем сердце совершенно особые струны. И имя этому чувству: Мечта, Фантазия, Сказка. Как бы ни был превосходен реальный мир, для сказки в нашей душе всегда есть место. Ибо там, где кончаются права у природы, начинаются права сказки. Сказка отсекает зло и концентрирует в себе все самое светлое, совершенное, прекрасное и, что самое, может быть, важное, самое справедливое. Как бы ни любил реальную жизнь человек, без мечты, без фантазии, без нарядной, как райская птица, сказки полнокровно и ярко он жить не может.
«Шахерезада» Римского-Корсакова — это не просто музыкальная иллюстрация к собранию восточных сказок, это вторая, не менее прекрасная музыкальная «Тысяча и одна ночь».
Трудно найти в мировой музыкальной культуре произведение, где с такой поэтической красочностью были бы нарисованы, да, да, именно нарисованы, а не просто сочинены смелой волшебной кистью экзотические картины древнего Востока. Картины настолько поэтичны, настолько красочны и зримы, что кажутся совершенно живыми. Слушаешь музыку, полную изумительных мелодий, пронизанную насквозь восточными ароматами и колоритом Востока, и словно бы смотришь яркий, праздничный и необыкновенный цветной широкоэкранный фильм. Дослушав последнюю ноту, долго еще сидишь в каком-то просветленном, радостном, честное слово, почти «заоблачном» состоянии, не в силах какое-то время вернуться к повседневным делам.
Не менее, наверное, ярка, колоритна и самобытна музыка Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». Не знаю, может быть, я погрешу против общепринятых догм, но при всем своем самом искреннем уважении к автору превосходной драмы «Нора» и многим другим его шедеврам, в данном случае отношение мое к драме «Пер Гюнт» и музыке к ней неравноценно. Музыка Грига кажется мне значительно сильней и выразительнее драмы. Она легко может быть отделена от пьесы и, почти ничего не теряя, может жить своей великолепной, самостоятельной жизнью. Драма же эта без музыки, как лишенное плавучести судно, пойдет ко дну. Возможно, что кто-то со мной не согласится, но думать от этого по-иному я все равно не смогу. За исключением трогательного образа Сольвейг, которая появляется лишь в начале и в конце драмы, да эпизодического образа матери, все живое население пьесы вызывает неприятное чувство. И как ни мудр, может быть, замысел автора, но сам Пер Гюнт, которого Ибсен все-таки хоть и осуждает, но любит, настолько жесток, неблагодарен и грубо бессердечен, что без конца морщишься и не устаешь возмущаться этим олицетворенным бездушием.
Что касается до музыки Грига, то входишь в нее, как в какой-то удивительный, яркий и загадочный сад. Тут все по-норвежски сурово и строго и вместе с тем удивительно, красиво и сказочно. Что в ней прекраснее всего: песня Сольвейг? Картины таинственного царства подземных духов? Бешеная, все убыстряющаяся пляска троллей? А может быть, полный восточной неги, ленивый и прекрасный танец Анитры? Сказать это, без сомнения, так же трудно, как выбрать лучшую из только что срезанного букета роз! Подлинно талантливое всегда имеет свое, неповторимое лицо. Романтически приподнятую, гордую, то могуче-грозную, то журчаще-ласковую музыку Грига можно узнать сразу, с первых же звуков. А услышав однажды — нельзя забыть никогда. Живопись и поэтичность ее иная, чем у Римского-Корсакова, но она так же выпукла, красочна, ароматна и полна своей, не менее удивительной прелести и красоты. Вот пишу эти строки и слышу, как в душе моей медленно, накатываясь какими-то волнами, сменяют друг друга мелодии Эдварда Грига, вот только что затих загадочный танец Анитры, и все отчетливей и громче нарастают нежные звуки серебристой песни Сольвейг…
Балетную музыку Чайковского я ничему не противопоставляю и не сравниваю ни с чем. Это совершенно особое царство, редкостный по красоте и, если так можно сказать, трепетной незащищенности, волшебный мир. Сказка? Да, сказка. Поэтическое многоцветье — безусловно да. Глубина? Выразительность? Свежесть? Да, да, все это, конечно, есть. И тем не менее живет в этой музыке и нечто такое, чему, вероятно, попросту нет на обычном нашем языке и названия. Ну, а если все-таки хоть как-то попытаться об этом сказать, то говорить, вероятно, надо о чуде, сотворенном рукою гения, о волшебном слиянии поэзии, музыки и красоты.
Однажды в июле 1961 года в Одессе я испытал удивительные ощущения. Стояла на редкость тихая, теплая, лунная и ласковая даже для юга черноморская ночь. Ни ветерка, ни шороха листьев. Море дремало, припав бархатисто-влажной щекой к берегу, без всякого движения, без всплеска. И только в загадочных потоках лунного света с оглушительной радостью гремели цикады. Кто-то из моих друзей отдыхающих предложил мне искупаться. Честно говоря, я экстравагантных ощущений не жаждал никогда. И ночными купаниями не соблазнялся, считая, что для этого довольно и дня. Но эта ночь была такой необыкновенной, что я пошел. Пошел и не пожалел. Дневной жар давно остыл, и в воздухе было градусов 16–17, не больше. В море же, как мы потом узнали, было 25. И вот представьте себе на мгновение тихую, усыпанную огромными звездами южную ночь. Янтарные лунные блики на маслянисто-черной воде, густой опьяняющий запах цветов и соленого моря. И могучий симфонический оркестр, состоящий из тысяч лирически настроенных цикад! И вот, спускаясь с деревянных мостков в воду, ты, оставляя позади ступеньку за ступенькой, погружаешься не в море, нет, ни в какую там не в воду, а в нечто удивительно прохладное, теплое, нежное, ну, в общем, такое, о чем ни в сказке сказать, ни пером описать! Нет, я ни капельки не преувеличиваю. Попытки повторить подобные мгновения ни к чему не привели. Ни до, ни после я никогда не испытывал такого поразительно блаженного состояния, когда покачивался в ту ночь еле-еле в этой волшебно-невесомой радости. И чего, видимо, уже никогда не испытаю вновь. Слишком много должно было совпасть для этого блаженного ощущения компонентов. Нет, я не хочу сравнивать ощущения этой ночи с музыкой, но все-таки когда я думаю о балетах Чайковского, то мне невольно вспоминается красота и радость того неповторимого южного чуда. Впрочем, нет, когда я слышу балетную музыку Петра Ильича Чайковского, то ограничить мир своих чувств сравнением с ощущениями удивительной южной ночи значило бы сказать обо всем слишком все-таки мало. Рядом с этой музыкой соседствуют в душе моей произведения другого горячо любимого мной также с детских лет человека — Ганса Христиана Андерсена. И хотя Чайковский писан на иные сказочные сюжеты, вот это сопоставление будет гораздо более полным. Сказки Андерсена зажгли во мне с первых мальчишеских лет любовь ко всему светлому, благородному и прекрасному. Разбудили во мне огромный, яркий и радостно-пестрый фантастический мир. Балетная музыка Чайковского сделала то же самое. Я даже не представляю себе, как бы жил наш мир, если бы в нем не было, я не говорю обо всем творчестве, но хотя бы вот этой невыразимо-прекрасной балетной музыки Петра Ильича. И танец Одетты, и танец маленьких лебедей, свежий и трепетный, как розовая утренняя заря. Почти уже целое столетие порхают по сценам всего мира эти хрустально-чистые, быстрые и прозрачные звуки вместе с белоснежными крохами. А таинственный, полный удивительно тонкой прелести вальс из «Спящей красавицы»? Да что там вальс, весь балет, каждый танец, каждая нота… И венец всей этой балетной музыки — «Щелкунчик». Да, по моему глубочайшему убеждению, «Щелкунчик» — это на сегодняшний день вершина балетной музыки. И если со мной кто- то, может быть, не согласится, я не огорчусь. Ведь от того, что я в этом убежден, никакого вреда нет. Не так ли? А музыку к «Щелкунчику» я могу слушать без конца. Особенно поздно вечером, когда в комнате никого нет, за окном стихает уличный шум, а за шкафом и по углам прячутся молчаливые тени…
Помните этот удивительный, медленный сказочный танец Феи Драже, исполняемый на каком-то загадочно позванивающем инструменте? Если я не ошибаюсь, он называется челеста. А стремительнозадорный танец маленьких арапчат? Так и видишь их веселые черномазые мордашки с полными красными губами и большими вращающимися белками глаз. Они кружатся, смеются, забавно подпрыгивают, словно поддразнивая друг друга, и исчезают так же неожиданно, как и появились. А полный восточной неги, редкий по своей неповторимой красоте Арабский танец? А танец маленьких китайчат? А марш шоколадных солдатиков? А вальс Маши и Щелкунчика? А торжественно прекрасное па-де-де, оно накатывается сверкающими волнами и, упав, словно бы рассыпается на тысячи синих, золотых, алых и изумрудных звуков. Да, я готов слушать эту музыку без конца. Сколько доброго сделала она для меня, сколько хорошего! И я вновь с абсолютной убежденностью говорю: балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» — это вершина мировой балетной музыки.
Из фортепианных концертов прежде всего волнуют меня 1-й и 2-й концерты Рахманинова. Разные по мелодическому строю и по напряженности, они тем не менее, как братья, чем-то неуловимо похожи. Может быть, новаторской и в то же время классической красотой, строгостью музыкальной архитектоники, огромным внутренним напряжением и силой, если хотите, даже какой-то «мускулатурой» музыки. Не знаю, поймут ли меня правильно, но, говоря о «мускулатуре», я хочу подчеркнуть какой-то огромный запас творческих сил, который ощущается в человеке, написавшем эту благородную и сдержанно-страстную музыку. Кажется, что богатырь, творивший ее, боялся к этой упругой всепобеждающей силе добавить еще что-то, чтобы не смести, не опрокинуть зал и его слушателей. Так сильна и прекрасна музыка этих двух рахманиновских концертов. Какой из них мне кажется совершенней? И вот тут я должен сказать интересную вещь: когда я слушаю 1-й концерт для фортепиано с оркестром, то абсолютно убежден, что именно 1-й и есть лучший из рахманиновских концертов. Когда же слушаю 2-й, то ни секунды не сомневаюсь, что ни 1-й, ни 3-й не могут ни в какое сравнение идти вот с этим 2-м. А когда же слушаю снова 1-й, то опять отдаю ему предпочтение. Потому, чтобы не искушать судьбу, скажу, как говорят дети: «Оба лучше!»
1-й фортепианный концерт Чайковского. Его так часто исполняют и так много написано о нем литературы, что без опасения быть банальным вроде бы и неловко признаваться в любви к этому шедевру. Но я, к счастью, думаю не так. Я совершенно свободен от обывательского пижонства, от желания во что бы то ни стало быть странным, особенным, невероятным или еще что-то там в этом роде. Больше того, однажды я услышал интервью, взятое у одного известнейшего музыканта наших дней. Когда корреспондент радио задал ему вопрос, что бы он взял с собой на необитаемый остров, если бы имел право взять только одну-единственную вещь, он ответил: «Я бы взял с собой партитуру Малера».
Это был крупный музыкант. И спорить с ним я не имею права. Может быть, он прав, я не знаю. Но все-таки где-то в самой глубине души (и да пусть я буду прощен знатоками музыки) я ему не очень поверил. Я слушал симфонии Малера. После этих слов был особенно внимателен, но, ей же богу, усомнился, что в действительности музыкант тот предпочел бы его до конца дней своих Баху, Бетховену, Чайковскому, или Шуберту, или Шопену! Впрочем, я говорю лишь свое мнение, и спорить, как вы сами понимаете, тут нельзя. Так вот, называя без опасения быть банальным 1-й концерт Чайковского, я хочу добавить, что мировые шедевры не могут быть любимы единицами, иначе они шедеврами и не будут. И сколько бы людей ни восхищалось прекрасным, ни хуже, ни меньше оно от этого не станет, скорее наоборот. И разве может быть банальным человек, выразивший восхищение собором Василия Блаженного или собором Нотр-Дам-де-Пари? Разве стыдно восхищаться небом, звездами, красотой природы, творениями великих художников и музыкантов? Стесняться этого — то же самое, что стесняться быть умным. В этом я убежден. Вот почему я с огромным удовольствием лишний раз говорю о своей любви к 1-му фортепианному концерту с оркестром Чайковского. Говорю так, потому что всякий раз, слушая его, испытываю огромное чувство радости, ощущаю прилив новых сил и какую-то, может быть, наивную нежность ко всему живому на земле. Ну вот так чувствую я. А какими гордыми, какими красивыми аккордами начинается этот концерт? Ведь с первых же звуков ты сразу же погружаешься в удивительный мир справедливости, солнца и красоты. И так хорошо, что есть этот концерт на земле! Что пройдут года, станут меняться поколения, а он все будет и будет звучать в концертных залах мира.
Что касается оперной музыки, то тут я нахожусь в невероятно затруднительном положении. Какую оперу предпочесть? В нашей мировой оперной классике так много прекрасных произведений, которые не могут меня не волновать, что я не сразу могу ответить. Есть даже такие оперы, которых полностью я не слышал никогда, но вместе с тем лучшие отрывки из них ставлю в один уровень с мировыми образцами классики. Так, например, я, к сожалению, не имел счастья слышать оперу Россини «Сорока-воровка», да и исполнялась ли она у нас полностью когда-нибудь? Однако увертюру к этой опере, то стремительно-порывистую, то могуче-радостную, то задумчивую и печальную, то брызжущую горячими и страстными звуками, считаю достойной любого отдельного разговора. И вообще вещью не меньше целой оперы. И странное дело, хоть написана эта опера на драматический сюжет, увертюра к ней полна оптимизма, веры в жизнь, в справедливость, в красоту человеческой души. Вот что такое удача художника!
Но вернемся к началу нашего разговора. Итак, я должен назвать несколько опер. Назову три, которые ближе всего моему сердцу. Впрочем, нет, три не получается, назову четыре, так будет полней и правильней. Это «Риголетто» Верди, «Кармен» Бизе, «Пиковая дама» Чайковского и «Князь Игорь» Бородина.
Назвал четыре оперы и слышу, как стучатся в мою душу и «Евгений Онегин», и «Аида», и «Севильский цирюльник», и… но регламент есть регламент, и тут я уже ничего не могу поделать. Хотя оперы эти тоже люблю давно горячо и нежно.
Чем волнует меня любое настоящее произведение искусства, в том числе и опера? Монолитом совершенства формы и глубины ее содержания. И перечисленные мною оперы — яркий тому пример. «Риголетто» — это смелый социальный протест, гневный удар бича по сановному самодурству, по развращенности высшего света, по эгоизму и злу. Но это еще не все. В опере, по крайней мере, три плана. Второй — это восхищение чистой, наивной, самоотверженной любовью. Но есть еще и третий план. И он-то волнует меня едва ли не больше всех остальных. Это удар по предательству и жестокому эгоизму. Вспомните, с чего начинается опера? Шут Риголетто в угоду своему высокородному распутному хозяину, чуть ли не заслоняя его собой, прогоняя, глумится над несчастным стариком, у которого герцог обесчестил дочь. Обратите внимание на то, что Риголетто тоже немолод и у него тоже есть горячо любимая дочь. И кому бы, казалось, как не ему, понять и посочувствовать горю несчастного отца? Но Риголетто далек от этих благородных чувств. Он хохочет над стариком и в ответ слышит его проклятье. И проклятье сбывается. Об этом сам с ужасом вспоминает Риголетто в последнем акте. Что говорить, кара, свалившаяся на голову герцогского шута, ужасна, но тяжко и предательство (а иного слова тут и не подберешь), совершенное Риголетто-отцом по отношению к такому же вассалу, как и он сам. Предательство же — порок наиболее ненавистный мне всегда и везде. Гюго есть Гюго, и опера написана на достойный сюжет. Что же касается музыки Джузеппе Верди, то можно без всяких преувеличений сказать, что она гениальна. Она так ярка и изобилует таким количеством великолепных мелодий, что, кажется, любую из арий можно пропеть или просвистеть, снова и снова ощущая могучую силу и поразительное очарование этой музыки. Вспомните песенку Риголетто, ариозо и песенку герцога, квартет из третьего действия, арию Джильды «В храм я вошла случайно» и так далее и так далее. Ну разве не поразительная по красоте музыка? Ну а если к совершенству формы и содержания прибавить еще и совершенство исполнения, то впечатление получается редким. Мне посчастливилось слушать эту оперу с народным артистом республики Бурлаком — Риголетто и народным артистом СССР Козловским — герцогом и, если память мне не изменяет, народной артисткой СССР Барсовой — Джильдой. И было это не то в 1951, не то в 1952 году в Москве. Думаю, что огромного впечатления от этого спектакля хватит мне на всю жизнь.
Что касается «Кармен», то эта опера представляется мне редким по величине и красоте алмазом, поражающим самое взыскательное воображение совершенством всех сторон и всех, даже самых мельчайших граней, выполненных с удивительным талантом, вдохновением и мастерством. Есть ли еще на свете опера, из которой каждое, ну буквально каждое место можно было бы с удовольствием промурлыкать на память, всякий раз заново восхищаясь колоритностью, темпераментом и красотой этой удивительной музыки?! Кажется, что ее огонь ощущаешь даже физически. Если на этом музыкальном солнце и есть пятна, то они различимы, я думаю, лишь в какие-нибудь большие профессиональные бинокли. Чем волнует меня эта опера? Блестящим сочетанием великолепного содержания с гениальной музыкой. Я знаю, что немало людей в этой опере концентрируют свое внимание главным образом на Кармен, на ее горделивом характере и ее так называемой «свободолюбивой душе» и любви, не знающей ни преград, ни цепей, ни рабства. Я на эту оперу смотрю иначе. Для меня опера, точно так же, как и повесть Проспера Мериме, — это гимн не Кармен, а мучительной и сильной любви дона Хозе.
Два слова о повести и содержании оперы. Кармен, как бы она ни восхваляла любовь, не только не любила, но даже отдаленного представления об этом чувстве не имела никогда. Как эгоистичная и увлекающаяся натура, она влюблялась, повторяю, влюблялась, но не любила ни разу в жизни. Краткосрочные бурные страсти не походили на любовь уже одним тем, что ее абсолютно не интересовала судьба тех, кого она отмечала своим вниманием. Разве огорчило ее то обстоятельство, что ради нее Хозе потерял все: честное имя, право ходить с гордо поднятой головой по улицам, да и вообще появляться среди людей. Что он нарушил присягу и стал дезертиром, то есть человеком вне закона. И вот, добившись всего этого и сделав его таким, Кармен, ни секунды не задумавшись, бросает его ради нового увлечения. И то, с какой легкостью и быстротой она это делает, дает нам все основания полагать, что и с новым предметом своих страстей обойдется она примерно так же. Волнует меня, повторяю, как в опере, так и в повести образ Хозе, человека, способного на огромную самоотверженную любовь и готового не только отдать все ради этой всепоглощающей любви, но и постоять за свою честь, отомстить за предательство и неблагодарность. Но так же как и в «Риголетто», есть в этой опере и второй план. Любовь Хозе обречена на трагический финал тем, что куплена она ценой сделок с совестью, ценой вступления на нечестный путь. Вспомните, человек любил, любил горячо и страстно, но не подымался в этой любви к чему-то светлому и прекрасному, а словно бы шагал со ступеньки на ступеньку вниз: от нарушения присяги к дезертирству, от дезертирства к вступлению в шайку жуликов и контрабандистов, а дальше уже и до одной из самых низких ступеней человеческого бытия: согласия бросить даже родину и уехать на любой конец земли по желанию возлюбленной. Такая любовь не может дать глубокому человеку подлинного счастья нигде и никогда. На нечестных путях его нет. Вот так воспринимаю я это произведение. И иной трактовки для меня fie может быть. Музыка? Она великолепно передает все оттенки человеческих чувств. От солнечной радости до трагического финала. Как написана эта опера! Как она написана! Это огромный низвергающийся каскад великолепных мелодий, целая Ниагара потрясающей музыки! Прослушав оперу раз, один только раз, вы уже не забудете этой музыки никогда. Она будет жить в памяти вашей пусть даже всего несколькими кусочками, но всегда, до конца ваших дней, а если вы прослушаете ее дважды или трижды… Да что там говорить, те, кто это сделал, понимают, о чем я пишу, остальным же я от души советую сделать это. Сделайте так, и огромный пылающий бриллиант будет вечно сверкать в вашей груди. Вот так же, как горит он в душе у меня. В любой момент дня и ночи, стоит мне произнести «увертюра к третьему действию «Кармен», — и бравурная страстная музыка заливает все мое существо от макушки до пяток, и я без магнитофона и радио могу слушать эту бессмертную музыку. Я произношу: «Хабанера», — и слышу в переливах знакомой обжигающей музыки дрожащий от сдерживаемой страсти великолепный голос Елены Образцовой. И как только стихает ее голос, я произношу: «Песенка тореадора», — и вот она, эта незабываемая вещь. Вот уже второе столетие гремит и победно шествует по всем лучшим подмосткам мира эта искрометная опера, доставляя огромное эстетическое наслаждение, волнуя и предостерегая: счастье нельзя купить ценой отступничества и унижений. Счастье — удел человека с сильной душой. Женщина, сделав любимого неудачником, сама же потом ему этого не прощает! Уверен, что, сколько будет существовать на земле человечество, столько будет жить этот музыкальный шедевр!
Говорят, что в «Пиковой даме» Чайковского наказывается болезненная страсть к наживе, горячечный авантюризм игрока. Не стану спорить, для кого-то, может быть, это и так. Для меня смысл этой замечательной оперы в другом. Германн не столько жертва погони за золотом, сколько жертва эгоизма и предательства своей души. Помните, в опере графиня обещает ему простить совершенное зло и помочь разбогатеть при условии беречь Лизу и жениться на ней. Обезумевший Германн условия этого не соблюдает, губит любящую его душу и, как следствие собственного злодейства, гибнет сам. Пушкин и Чайковский… Я уже говорил, что когда сливаются воедино творения двух гениев, то результат, как правило, превосходит самые смелые ожидания. Первый признак подлинности шедевра заключается в том, что с ним можно встречаться бесконечное количество раз и всегда с огромной и удивляющей радостью. Вот так я могу сколько угодно перечитывать многие творения Пушкина и Лермонтова, страницы Салтыкова-Щедрина и Гоголя, Чехова и Диккенса, Льва Николаевича Толстого и Байрона, Есенина и Шандора Петефи, Блока и Шолохова и многих других. Сколько раз слушал я «Пиковую даму»? Точно затрудняюсь сказать, но раз восемь или десять наверняка. Слушал и целиком и в отрывках и всякий раз заново удивлялся и заново восхищался красотой, вдохновенностью и силой этой неповторимой музыки. Музыка эта просто-таки как живая, отражает малейшие оттенки души героев. Как наивно и трогательно-сентиментально звучат ариозо героев пасторали под титлом «Искренность пастушки»! Как туманно и чуточку загадочно звучит в ночном сумраке романс старой графини, вспоминающей свою далекую юность, французское мягкое грассирование, свечи, ночной будуар, чепец… И какой тревожной, накатывающейся какими-то нервными волнами становится музыка перед первыми словами Германна. Слушая ее, вы почти физически ощущаете что-то трагически неизбежное, готовое вот-вот совершиться на ваших глазах. И хотя вы читали уже не раз повесть Пушкина и, может быть, слушали уже оперу, ощущение это все равно возникает каждый раз, когда начинает звучать эта зловещая и напряженная музыка.
А сколько горя, страха и надежды в знаменитой арии Лизы, там, в сцене у Канавки! Арию эту пели едва ли не все певицы, обладающие голосом меццо- сопрано. Она звучала и звучит во множестве концертов сборных и сольных и бог весть еще каких, но впечатление от этого не делается меньше, обаяние не исчезает и сила воздействия на нашу душу тоже. А если учесть, что перед этим вы слушали полную невероятного напряжения сцену в казарме, с похоронным пением, свечами и безумными стонами Германна: «Мне страшно, страшно», то впечатление от этой арии становится еще сокрушительней. И как апофеоз всего этого напряжения — счастливая, страстная, с нотками сумасшествия, предсмертная ария Германна: «Сегодня ты, а завтра я. Ловите миг удачи». Музыка этой оперы находится на предельной высоте возможностей человеческого таланта. Двух мнений тут быть не может! И хочу повторить еще раз, оставляет она в душе моей не столько жалость к алкающему злата безумцу, как горькое осуждение духовного предательства, стремление идти к счастью, говоря фигурально, по костям других. Смерть ни в чем не повинной старухи, загубленная и растоптанная жизнь любящей девушки — достаточная тому причина.
Если говорить о произведениях камерных жанров, то здесь так много прекрасной, берущей меня за душу музыки, что, если бы не ограниченность времени, я мог бы говорить о ней бесконечно. И в фортепианной музыке так же, как и в музыке симфонической, прежде всего я называю имя человека, безраздельно царящего в моей душе и, вероятно, во всем мире. Это имя — Людвиг ван Бетховен. Я не стану перечислять все сорок с лишним его сонат, они для меня неравнозначны. Я назову лишь четыре из них, самые, с моей точки зрения, гениальные произведения всех времен и народов. И я убежден, что никакой гиперболизации тут нет. Если же кто-то попытается меня переубедить, то советую попросту пожалеть свои силы, это бесполезно. Повторяю еще и еще раз. Знаменитость любимых мною вещей меня не смущает абсолютно. Белый, как облако, ароматный жасмин или цветущая лилия, величавый Казбек или водопад Виктория, майское утро или радуга над рекой, «Незнакомка» Крамского или «Джоконда» Леонардо да Винчи известны всему миру и восхищают всех. Но разве становится прекрасное от этого хоть чуточку темнее или хуже? Ничуть! Поэтому вне зависимости от резонанса этих сонат в мире я с неколебимым чувством первооткрывательства называю «мои сонаты». Только мои личные и ничьи больше! Так я ощущаю, так верую, и это мое право. Какие сонаты? Восьмая, четырнадцатая, двадцать третья и семнадцатая. У последней мне особенно нравится финал. Но говорить об этих сонатах я буду потом. «Под занавес», что ли. Думаю, что вы разрешите эту дорогую для меня прихоть. Хорошо? Ну вот. Имя, которое мне хочется назвать вслед за именем Бетховена, не нуждается ни в поисках, ни тем более в рекомендациях. Оно уже здесь. Словно большая белая птица в золотисто-розовых лучах солнца кружится оно сейчас над моей головой. Каждое перышко на ней позванивает нежнейшим хрустальным звоном, и удивительная, прозрачной чистоты музыка проникает далеко, в самые глубины моей души. На крыльях ее начертано: «Фридерик Шопен». Француз, рожденный в Польше, он любил польскую землю и ее народ горячо и преданно всю свою жизнь. Находясь вдали от родины и не имея возможности участвовать в восстании 1830 года, он подарил согражданам свой знаменитый «Революционный этюд». Этюд, который стал знаменем революции и, может быть, даже обессмертил ее! Этот этюд волнует меня больше всего в творчестве Шопена. Честное слово, не так уж много в мировой музыке фортепианных произведений, в которых было бы столько страдания, страсти, мужества и гнева! Думаю, что даже в самом придирчиво отобранном ряду «Революционный этюд» Шопена все равно был бы на первом месте! Словно десятибалльными волнами — бурными, страстными и несокрушимыми — врывается к вам в душу эта музыка. Вот именно врывается, другого слова тут не подобрать. Она трепещет, кипит, вздрагивает всеми мельчайшими нервами и, рассыпая тысячи огненных брызг, гневно затопляет все и вся вокруг! Тем не менее не секрет, что в основе своего творчества Шопен лирик. И, может быть, самый лиричный из всех лириков на земле. Вот звучит его замечательный Вальс до диез минор. Под него нельзя танцевать. Его надо слушать. Вообще я открыл в себе одно качество, причем довольно давно: чем прекраснее рассчитанная, может быть, на танец музыка, тем меньше хочется под нее танцевать. Ну словно бы вы совершаете что-то кощунственное. Да и слушать и переживать услышанное это тоже бы мне помешало. Вот точно так же не смог бы я, например, упоенно кружиться под звуки вальса «На сопках Маньчжурии». Или танцевать под звуки Полонеза Огинского, если бы полонез был теперь в моде. Может быть, это я так только чувствую, а может статься, что ощущение это свойственно и другим. И мне это было бы даже приятно. Но вернемся к Вальсу до диез минор. Словно две воздушные волны накатываются попеременно на вас в этой изумительной музыке. Одна — медленная, задумчивая и грустная. Другая — виртуозно-стремительная, солнечная и яркая. Вальс этот напоминает человека, у которого на душе лежит какая-то давняя печаль и который временами вдруг встряхивает головой и пытается заглушить и рассеять ее взрывами бурного, искристого, но короткого веселья. Множество самых разных и причудливых картин появляется перед внутренним взором того, кто слушает этот редкий и незабываемый вальс, и целая гамма чувств посещает тогда его душу!
Очень люблю Балладу Шопена соль минор. Ее светлая прозрачная мелодия словно бы навевает какие-то давние и милые сердцу воспоминания, картины детства — беззаботного, радостного, счастливого. Мягкая, нежная мелодия словно бы завораживает душу, согревая благодарным и нежным теплом.
Вообще о Фридерике Шопене и его музыке я мог бы говорить бесконечно долго, ибо все, что связано с этим человеком и его редкостными творениями, необычайно мне близко и дорого. Его музыка, полная удивительной красоты, мягкости и грусти, будет волновать людей всегда. Знаменитый полонез, искрометные и солнечные мазурки, экспромты, вальсы — это одна из самых дорогих и светлых страниц нашего бытия. Отчего так прекрасна его музыка? Сколько бы мы ни давали этому мудрых объяснений, самым все-таки верным было бы, на мой взгляд, одно: тончайшая и легко травмируемая душа, потрясающий талант и титанический труд, несмотря на критическое здоровье. А почему в музыке его столько печали? На это есть много причин, но самое основное — тоска по далекой и поруганной родине. К ней, и только к ней, вечно рвалось его сердце и куда наконец вернулось, но без хозяина, погребенного на кладбище Парижа.
Когда я впервые услышал Вальс-фантазию Глинки, а случилось это в мои мальчишеские годы, то у меня долгое время было какое-то удивленно-праздничное настроение, словно я только что вернулся с веселого костюмированного бала в парке под звездами. Вдоль усыпанных золотисто-бурым песком дорожек, в темной, глянцевитой листве горели сотни разноцветных причудливых фонариков. Вокруг разгуливали, смеялись и танцевали нарядные феи, рыцари, русалки, арапы и мушкетеры, загадочно улыбалась из-под черной полумаски Царица Ночи в своем черном платье и туфлях, усыпанных крохотными серебряными звездочками, а по сверкающей лунными бликами реке гондольеры катали на пестрых лодочках всех желающих под вспышки огненных фейерверков. Размалеванные неуклюжие клоуны одаривали гостей бесплатно целыми ворохами конфет и пузатыми, запотевшими от холода пачками сливочного и миндального мороженого. В вышине, в черном бархате неба, таинственно мигали звезды и плыла на запад чопорная луна. И над всем этим из неизвестной дали лилась музыка… музыка… музыка… Я запомнил ее почти сразу. Основную мелодию этого вальса я насвистывал и по дороге в школу, и в переменку, и разгадывая какой-нибудь заковыристый кроссворд. И сегодня я слушаю этот крылатый, взволнованный и полный светлой романтики вальс с тем же чувством радостного удивления, как и много лет назад.
И вот теперь снова хочу вернуться к давнему разговору о легкой и серьезной музыке, о музыке классической и музыке эстрадной. Скажите, Вальс-фантазия Глинки — это классическая или эстрадная музыка? К какому разряду отнести этот вальс — к разряду музыки «серьезной» или «легкой»? И, честное слово, вы, наверное, затруднитесь с ответом, ибо разделения эти зачастую очень и очень условны. Гораздо правильнее было бы, наверное, делить ее на хорошую и плохую, на талантливую и ремесленническую, на ту, что волнует сердце, и ту, что оставляет его равнодушным. Впрочем, и тут, конечно, может быть много споров.
Вальс-фантазия, конечно же, не единственное произведение, которое волнует меня в творчестве Глинки. Я люблю и его «Венецианскую ночь», и «Я помню чудное мгновенье», и множество других романсов, не говоря уже о двух его гениальных операх. И тем не менее Вальс-фантазия ну как-то ближе всего, что ли, духу моему, моему какому-то, может быть, романтическому началу. Не знаю. Но это так. Однако, уж коль скоро заговорили мы о романтических струнах человеческой души, то как же не сказать мне о композиторе, чья стройная, песенно-мелодичная и романтически-приподнятая музыка всегда, сколько я себя помню, волновала и окрыляла меня. Не сомневаюсь, что вы, конечно же, поняли, о ком идет речь. Да, это Франц Шуберт. Как всякий подлинно талантливый художник, он неповторим. У него свое восприятие мира, свой почерк, свои музыкальные «ключики» к сердцам людей. И узнать его можно сразу. К его «Серенаде», так же как и к 1-й симфонии Брамса, вполне применимы пушкинские слова: «Мне грустно и легко, печаль моя светла».
Когда слушаешь шубертовскую «Серенаду», то ощущаешь, как словно бы грустная и в то же время светлая волна бросает тебя на свои легкие, воздушные крылья и несет куда-то ввысь над залитой лунным светом рекой и спящими лугами, ввысь, к звездам. И ощущение сладкой печали щемит и щемит твое сердце.
«Музыкальный момент» — тоже романтическая музыка. Но здесь вместо элегической грусти мы ощущаем бьющую через край упругую радость. Под эту живую, маршеобразную музыку хочется шагать и шагать по земле туда, навстречу солнцу и приключениям, где ждет тебя что-то радостное и дорогое. Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что название «Музыкальный момент» или «Фа минор» слишком уж скромны и даже вроде бы суховаты для такого яркого и жизнеутверждающего произведения. Так и хочется дать ему какое-то солнечное, мажорное название.
Изумительна по красоте, строгой печали и возвышенной окрыленности его «Аве Мария». И не религиозные чувства испытываешь, когда слушаешь эту поразительную музыку, а сопричастность к чему-то светлому, высокому и прекрасному, чему нет и, может быть, даже и не надо названия. Особенно волнует душу это произведение в исполнении детских голосов или скрипичных ансамблей. Великолепно звучала эта ария в шестидесятые годы и в исполнении юного итальянского певца Робертино Лоретта.
Всегда и всюду с неизменным удовольствием слушаю фортепианное произведение Шуберта «Ля бемоль мажор». В этом произведении радостные и грустные чувства словно бы перемешаны, как алые и синие нити. Под такую музыку хорошо радоваться, думать, мечтать, вспоминать что-то хорошее и дорогое.
С удовольствием слушаю всегда песни из цикла «Прекрасная мельничиха». Где бы ни услышал я песни этого цикла, я всегда улыбаюсь им, словно старым и добрым друзьям.
Что касается «Неоконченной симфонии», то, восхищаясь ею, жалею, что такой поразительный шедевр не успел завершить его вдохновенный создатель. Впрочем, великое спасибо и ему и друзьям его за то, что произведение это дошло до нас и получило после смерти автора свое второе рождение.
Очень нравится мне «Элегия» соль минор Рахманинова. Я не музыкант и, почему называется это произведение «Соль минор», не знаю. Для меня этот маршеобразный, жизнеутверждающий ритм звучит абсолютно мажорно. Мелодия красивая и, я бы сказал даже, мужественная. Она всегда заражает меня какой-то верой и радостной силой. Вообще Сергей Васильевич Рахманинов, по моему глубокому убеждению, — это музыкант мужества. От него, как я уже писал, так и веет дерзкой и упрямой силой.
Музыкальную картинку «Лебедь» из «Карнавала животных» Сен-Санса немного заэксплуатировали танцоры. Когда-то, с легкой руки, а точнее будет пошутить, «с легкой ноги» знаменитой Анны Павловой произведение это приобрело как бы трагическую окрашенность и стало называться «Умирающий лебедь». Не спорю, хореография — могучая вещь, и талантливая балерина способна придать музыке какой-то новый оттенок. Но вот если слушать это произведение просто как музыку, и только, то никакого трагизма в ней почувствовать нельзя. Напротив, есть в ней что-то невыразимо прекрасное, светлое и величественное. Помните сказку Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок»? Там есть сцена, где этот самый, заклеванный всеми безобразный уродец после произошедших с ним метаморфоз выплывает наконец из зарослей камыша навстречу гордым и прекрасным лебедям, сам еще более величественный и красивый. Он плывет медленно, горделиво, отраженный в зеркале воды, залитый нежно-розовыми лучами солнца. Лебеди медленно приближаются друг к другу, и вся стая низко склоняет головы перед величием и красотой новой птицы… И вот тут, в этот самый момент и должна звучать, по моему убеждению, светлая и торжественная музыка Сен-Санса. Ибо она утверждает светлые устремления, красоту и жизнь!
Что касается альбома Чайковского «Времена года», то я их вовсе не воспринимаю как буквальные пейзажные зарисовки осени, зимы или лета. Это музыка настроений, музыка состояния души. И «У камелька», и «На тройке», и все 12 пьес этого удивительного альбома кажутся мне верхом совершенства. Не знаю, прав я или нет, но, слушая пьесы из этого цикла, я пытался представлять себе картинки июня или января лишь в первое время. И когда у меня ничего путного из этого не вышло, бросил это, я бы сказал «утилитарное» занятие, и стал наслаждаться красотой и своеобразием этих пьес вне связи с временными датами. Я представлял лишь те картины, образы и ассоциативные зарисовки, которые подсказывало мне мое воображение и рождала моя душа. И тогда все встало на свои места. Если название пьесы совпадало с моими ощущениями, оно помогало мне глубже почувствовать авторскую мысль. Если же нет, то я не насиловал себя и не стремился непременно настроить себя на картины осени или зимы. Музыка дает тебе канву, кисти, краски, мысли, чувства и настроения автора, а уже рисовать картину ты должен сам. И чем богаче твое воображение, чем глубже и чувствительнее твоя душа, тем выразительнее, взволнованней и ярче получится у тебя картина. Эмоциональный человек не должен быть пассивным слушателем, радости ему от этого будет мало, он должен быть соучастником, если так можно сказать, «сотворцом» прекрасного, только тогда познает он подлинное эмоциональное счастье.
В минуты светлого и доброго настроения люблю слушать музыку Жоржа Бизе к драме Альфонса Доде «Арлезианка». Особенно нравятся мне яркий и красочный «Марш трех королей» и живая взволнованная «Фарандолла». Здесь, как и во всем своем творчестве, Бизе остается верен себе: яркость красок, свежесть мелодий и целая буря чувств. Я не собираюсь писать какое-то музыкальное исследование, сортировать и как-то особо систематизировать имена, произведения и даты. Поэтому если в разговоре моем окажется некоторый «художественный беспорядок», простите и не очень пеняйте за это на меня.
Есть на свете музыкальные произведения, которые вызывают в душе человека чувство радости, гнева или печали, а бывают и такие, которые могут соответствовать самым разнообразным эмоциям. Они не менее совершенны, чем те, о которых я сказал выше, но духовные нагрузки могут выполнять порой самые разнообразные. Так, по крайней мере, происходит иногда со мной. Назову для примера два очень любимых мною музыкальных шедевра: «Кампанеллу» Паганини и 2-ю рапсодию Листа. Слушать их для меня истинное наслаждение. Общего между ними почти ничего нет. И назвал я их сейчас вместе лишь для примера. Вот так, стоит только по радио зазвучать любому из них, как я, по возможности, бросаю все дела и с упоением слушаю.
Я заметил, что, когда у меня на душе хорошо, чувство радости от звуков этих поразительных вещей возрастает, а когда я грущу, то ощущение печали обостряется, становится почти осязаемым. Словно бы включили какие-то психологические катализаторы. Почему это так, я объяснять досконально не берусь, но, конечно же, во всяком прекрасном творении всегда есть зачатки радости и боли. И в зависимости от того, что у меня на душе, я склоняюсь в ту или иную сторону.
Конечно же, подобные духовные превращения могут происходить не только в момент исполнения 2-й рапсодии или «Кампанеллы», а и во множестве других случаев. Но эти произведения, может быть, в силу того, что красоты и темперамента в них свыше меры, а радости и печали, вероятно, почти поровну, то они и вспомнились мне при таком разговоре прежде всего. Танцующая, легкая и стремительная мелодия «Кампанеллы» рядом со 2-й рапсодией Листа, то торжественно-звучной, то медлительной и плавной, то искрометно-стремительной, кажется мне быстрой, легкокрылою ласточкой, делающей свои грациозные пируэты вокруг гордо закинувшего рога красавца оленя.
«Кампанелла» Паганини в переложении для фортепиано Листом невольно приобретает какие-то неуловимые индивидуальные черты великого венгерского музыканта, роднящие оба названных произведения, что ни в какой степени не умаляет музыки, темперамента и гения Никколо Паганини.
Музыка… музыка… музыка! Господи, сколько же на свете талантливейшей, волнующей меня музыки! Все равно всего, что берет меня за душу, я полностью так и не смогу назвать. Не хватит ни места, ни времени. Взять хотя бы «Болеро» Мориса Равеля. Могу ли я пройти мимо этого уникального произведения? Оно действительно уникально, ничего даже близко похожего ни до, ни после уже не было. Я — слушатель. Поэтому у меня есть право, внимая музыке, взмывать на крыльях собственного воображения так, как я сам захочу и почувствую. Хотя я прекрасно знаю, что это танец. Больше того, мне отлично известно, что написан он автором по просьбе, а вернее, по заказу знаменитой в то время красавицы балерины Иды Рубинштейн, все равно для меня это не балетный танец и не дар композитора великой танцовщице. Слушая это замечательное произведение, я уношусь мыслью куда-то далеко-далеко. Медленная, ритмически повторяющаяся одна и та же назойливая мелодия с постепенным, едва уловимым ускорением. Пронзительно заунывные звуки медных инструментов, явно восточного толка, которые как бы пронзают насквозь этот неотвратимый, размеренно чередующийся ритм. Звуки и доставляют удовольствие, и в то же самое время словно бы обнажают нервы. И я вижу залитую палящим солнцем коричневатую дорогу среди безбрежного моря песков, а по ней и вокруг, насколько хватает глаз, — огромное медленно движущееся древнее или средневековое войско, ну вроде того, которым командовал персидский царь Кир. Сверкают на солнце позолоченные шлемы и боевые колесницы. Гарцуют под всадниками в белых бурнусах горячие тонконогие кони. Медленно покачивают хоботами покрытые причудливыми коврами боевые слоны. Сверкает и звенит оружие, пылают пестротой пышные одежды командиров и старшин. Скрипит под ногами песок, ревут вьючные ослы, ржут кони, звенят мечи и щиты. И вся эта многотысячная масса движется, движется вперед медленно и неотвратимо, как судьба. Зрелище величественное, пугающее и прекрасное.
И пока звучит эта удивительная музыка, стоит предо мной эта экзотическая картина, яркая и незабываемая. Тот, кто хоть однажды услышал это бессмертное «Болеро», думаю, уже не сможет забыть его никогда!
Музыка… музыка… Нет, это не лукавая, не произвольная выдумка человека. Она не пришла к нему «ниоткуда». Ее основы подарила ему природа, прозвучав для него то мелодичным свистом ветра, то торжественным шумом моря, то криком животного, то пением птиц. Особенно пением птиц. Думаю, что главными музыкальными учителями человека были они. И даже теперь, при наличии самых сложнейших симфоний, мы продолжаем с восхищением слушать переливы птичьих голосов. А тогда, на заре нашего бытия, человек, издавший свой первый музыкальный звук, дернув тетиву лука, был очень еще далек от совершенства. И все-таки вершина природы — человек. Он вырос, возмужал. Стал мудрым. Тысячекратно усложнил свои чувства. Вобрал в себя всю увиденную и услышанную красоту мира и, чудесно переплавив ее в своем сердце, создал картины, написал книги, сотворил музыку. Иначе говоря, сын природы, он, высочайшим трудом своих рук, ума и сердца, обрел себе крылья, которые навсегда подняли его над всем живым на земле. И вот о красоте, о совершенстве, о тонкости человеческой души думаю я нередко, слушая одно тончайшее по своей музыкальной архитектонике, полное светлых чувств, мягкой грусти и какого-то, поразительной свежести, аромата, произведение. У этой музыкальной звезды есть название: «Мелодия» Глюка — Крейслера. И в исполнении скрипачей-виртуозов, в особенности Леонида Когана, звучит она с поразительной силой. Иногда люди подолгу спорят о том, что такое подлинная красота, пытаются найти для нее какие-то определенные критерии. Мне кажется, что если таким людям дать, например, послушать «Мелодию» Глюка Крейслера, а затем, допустим, «Сентиментальный вальс» Чайковского, то споры, наверное, прекратятся сами собой. Ибо подлинная красота всегда скажет сама свое яркое и веское слово. И если мы вспомнили «Сентиментальный вальс» Чайковского, то хочется провести тут одну мысль: слово «сентиментальный» ничуть не смущало Петра Ильича. И он назвал этим словом одно из чудеснейших своих творений. Что касается сегодняшних композиторов, то они, я думаю, вряд ли решились бы назвать словом «сентиментальный» какой-либо из своих опусов. Почему? Да потому что в последние десятилетия в наш бурный технически-прогрессивный век слово «сентиментальный» стало чуть ли не синонимом чего-то недостойного, поверхностно-сладкого и чуть ли не обывательского. Короче говоря, словом «сентиментальный» стали называть все слезливое, упрощенное и глупое. Но правильно ли это? Ведь сентиментальность — это чувствительность человеческой души, то есть способность человека остро чувствовать, горячо и доверчиво реагировать на какие-то проявления скорби, счастья, радости и грусти. Если, увидев прекрасный пейзаж или замечательную картину, человек глубоко растрогался, если, услышав о вашей горькой беде, он взволнованно смахнул слезу, если при чтении хорошей книги или прощании с дорогим человеком у него вдруг задрожат губы и увлажнится взгляд — чего же тут плохого? И если это сентиментальность, то дай бог, чтобы побольше и почаще проявлялась она в людях! Максим Горький, например, по таким измерениям был наисентиментальнейшим человеком! Иногда, благодаря какому- то нелепому стечению обстоятельств, с каким-нибудь словом, вещью или каким-то понятием происходят порой самые непредвиденные крены и временные перекосы. Ну вот как, скажем, с гитарой. Сегодня смешно сказать, но ведь совсем еще недавно, в двадцатые, тридцатые и даже сороковые годы, этот прекрасный инструмент, по прихоти каких-то максималистов и ханжей был объявлен чуть ли не атрибутом мещанства. И повесить гитару, да еще не дай бог с бантом, на стенку в хорошем доме казалось просто-напросто верхом неприличия и безвкусицы. И как ни смешно сейчас вспоминать об этом, а ведь все именно так и было. Думаю, что и со словом «сентиментальный» произойдет однажды то же самое. Его отделят от всех позднейших и нелепых наслоений, и оно снова займет в нашем лексиконе абсолютно достойное и уважаемое место! Одно из подтверждений тому — превосходная книга Веры Пановой, которая называется «Сентиментальный роман».
Но вернемся к разговору о музыке. Какие оперные арии ближе всего моему сердцу? Их много. И все, разумеется, я перечислить и назвать не смогу. Напомню лишь некоторые. Прежде всего мне хотелось бы назвать арию Кончака из оперы «Князь Игорь» Бородина. И текст, и прекрасная музыка сливаются тут воедино. Эту арию я считаю одной из лучших в мировом басовом репертуаре. Она великолепна и по виртуозности вокала, и по своей драматургии. Принято считать, что хан Кончак хитростью пытается залучить князя в свои сети. Может быть, хан и лукав, не спорю, но вот в этой арии я не чувствую хитреца. И да простят меня за это строгие музыковеды. Не вижу, не чувствую, и все тут! Ария звучит с такой убеждающей силой, что я, слушая ее, вижу грозного победителя, протягивающего руку дружбы своему гордому и сильному пленнику и разговаривающего с ним как равный с равным. И если такой союз не поднял бы меча ни против половцев, ни против русских, почему бы его нельзя было бы назвать честным и даже достойным? Ведь если учесть эпоху, материальный, моральный и, так сказать, социальный факторы, то разве не все самое дорогое для себя предлагает хан князю Игорю? Что для профессионального воина самое важное и дорогое? Конь и оружие. Не так ли? И если в качестве залога дружбы хан предлагает любого из своих коней, любую из собственных красавиц (повторяю, не будем забывать эпоху) и, может быть, самое главное — старинный меч, завещанный ему дедом и не раз приносивший хану успех в битвах и спасавший ему жизнь. И если это хитрость, то что же тогда благородство?! Повторяю, музыка, яркость этой партии, широта звучания — все высочайшее мастерство и совершенство! Особенно могуче, красиво и густо звучит в этой арии бас, широкой волной все ниже и ниже раскатывающий сотрясающую нервы фразу: «Ужас смерти сеял мой бу-ла-а-а-т!» Эту арию прекрасно исполняли в свое время Михайлов, Пирогов, Рейзен и Петров. Славно поет ее болгарский певец Гяуров. Просто великолепен исполняющий ее Борис Штоколов. Я задержался на этой арии так, может быть, долго оттого, что это одна из самых любимых мною оперных партий.
С удовольствием всегда слушаю арию князя Игоря из той же оперы. Помните знаменитую арию: «О, дайте, дайте мне свободу!» Одной из сильнейших и прекраснейших в мире партий считаю арию Риголетто из второго акта, начинающуюся словами: «Бедный Риголетто!» Арию, исполняемую перед слугами, заслоняющими двери спальни герцога. Это не просто ария, а целый драматический акт, целый крохотный спектакль. От наигранной шутки до страстной униженной мольбы, а затем и до гневных проклятий! И по-настоящему справиться с этой сценой может только большой певец и большой артист. Я слушал двух певцов в этой партии. Один из них произвел на меня, честно говоря, слабоватое впечатление. Это Алексей Иванов. А второй, как я уже писал выше, Андрей Бурлак, потрясал душу мою до такой степени, что некоторое время я не в состоянии был следить за дальнейшими событиями, все еще находясь под могучим впечатлением этого фрагмента. Еще одна из моих любимых оперных арий — это ария Сусанина из последнего действия оперы: «Ты взойди, моя заря»; в этой партии, я убежден, до сих пор никто еще не превзошел Максима Дормидонтовича Михайлова. Это его коронная ария, и тут уже ничего не скажешь и не выразишь, кроме тихого и глубочайшего восхищения.
Знаменитые арии дона Базилио о клевете и Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини слушаю всегда с огромным удовольствием и с веселой улыбкой. Написаны они мастерски, почти гениально и рассчитаны только на больших исполнителей. Артисту с небольшим талантом и мастерством как в той, так и в другой партии просто нечего делать. Базилио замечательно поют Гяуров и Штоколов. Фигаро славно исполнял Александр Огнивцев и, кстати, хорошо поет эстрадный певец Муслим Магомаев. Отлично поют итальянские артисты. Из «Русалки» Даргомыжского больше всего люблю арию мельника из первого действия в исполнении басов, уже мною перечисленных, и арию князя «Невольно к этим грустным берегам» в исполнении Ивана Семеновича Козловского. Впрочем, и не только его. Но Козловский — это один из самых любимых мною лирических теноров. Веселые и озорные застольные арии Галицкого из «Князя Игоря» и Варлаама из «Бориса Годунова», звучащие с чисто русской удалью и широтой, всегда приводят меня в доброе и веселое расположение духа. Ей-богу, в зарубежных операх такой развеселой удали нет!
О превосходных ариях Елецкого и Германна из «Пиковой дамы» я уже говорил выше. Скажу сейчас только, что слушаю их всегда с неизменным наслаждением. Темпераментную, полную сатанинской иронии и сарказма арию Мефистофеля «Люди гибнут за металл» тоже отношу к числу наиболее любимых мною оперных арий.
Из теноровых партий я уже назвал арию князя из «Русалки», добавлю еще арию Ленского — «В вашем доме», песенку и ариозо герцога из «Риголетто», ариозо Вертера «О не буди меня» из оперы Массне «Вертер», ариозо Канио из оперы «Паяцы» Леонкавалло. Не менее знаменитую арию Каварадосси из «Тоски», ариозо Надира из оперы «Искатели жемчуга» «В сияньи лунной ночи тебя я увидал», арию индийского гостя из «Садко» Римского-Корсакова. Да, кстати, к басовым партиям я забыл добавить арию варяжского гостя из той же оперы. Ну и так далее. Отмечу еще арию Левко из оперы «Майская ночь» Лысенко, «Грезы» Роберта Шумана.
Я уже как-то говорил о том, что, несмотря на то что современный мир переполнен, буквально забит до отказа техникой, в том числе и звучащей, музыка «внутренняя», говоря условно, все-таки не имеет ни соперников, ни аналогов. «Инструмент» сей не обладает ни размером, ни весом, ни капризами, свойственными любой звукозаписывающей технике. И он всегда при тебе в любое время года и суток. И для человека, обладающего сносным слухом, он буквально незаменим. Незаменим, вероятно, так же как размышления, фантазия, память.
Уникальную по красоте и самобытности пьесу Шумана «Грезы» я воспроизвожу в своей душе далеко не всегда. Мне для этого нужен какой-то особый, меланхолически-торжественный настрой. Прилив необъяснимой порой грусти и тишина зимнего или осеннего вечера.
Я не сумею ответить на вопрос, почему именно зимнего, а не летнего или, к примеру, весеннего? Не на все вопросы, связанные с настроением души, можно ответить определенно и точно. Вот так и с «Грезами» Шумана. Я слушаю эту пьесу чаще всего в зимние или осенние вечера и, как правило, за городом, в Переделкино. Последние листья спустились с деревьев на землю и стали влажным толстым и многоцветным ковром, в котором мягко утопает нога. Стихают дневные звуки. Вечер заливает стекла сперва сероватой мутью, а затем наполняет их темной синевой. Проворчал высоко в небе улетающий в сторону юга самолет, прощелкала вдали электричка, и наступила удивительная, грустная и задумчивая тишина. Тишина осени, прелых листьев, задумчивости и мягкой грусти.
И тогда вдруг где-то глубоко-глубоко во мне возникают необыкновенно нежные и тихие звуки. Они появляются вначале в виде тончайшей, почти пунктирной мелодии, переходящей затем в трепетный, стройный и единый звук. Звук этот напоминает ласковые порывы ветра, то приближающиеся, то уходящие вдаль. Голоса крепнут, они растут и, поднятые серебряными крыльями скрипок, дрожат где-то высоко-высоко, почти невесомо и призрачно. Мелодия вызывает в душе какое-то щемящее чувство боли и радости. Музыка эта заполняет все пространство вокруг. Она то бело-розовая, то сиренево-голубая. Так я ее вижу. Звуки растут, проходят сквозь сердце и заставляют его как бы становиться звучащим. Звучать и видеть внутренним зрением то светлую картинку из далекого детства, то сказочный пейзаж, то знакомое до слез, дорогое лицо, то иные видения. В музыке много света и в то же время очень много печали. Мне кажется, это песнь о прекрасных и несвершенных надеждах, о чем-то самом лучшем и добром в человеке. К скрипкам и многоголосью хора я добавляю одним мановением души густые и бархатные валторны, и невыразимо сладкая и острая, безграничная печаль заполняет весь мир… Мне хорошо, удивительно хорошо. Нет никаких будничных забот, никакой прозы жизни. Все это рассыпалось, ушло, стало совершенно бессмысленным и ненужным. Хочется, чтобы какая-то близкая, дорогая и добрая рука взяла твою руку и повела с собой… Нет, не в небытие, а в радость, в какой-то ласковый, прекрасный и неведомый мир, хотя бы на час, на одну минуту, на одно мгновение…
Музыка медленно стихает, растворяется в темноте ночи. За окном тихий свист ветра. В комнате мрак и таинственная тишина. Почему таинственная? Потому что ночь всегда таинственней дня. Я сижу почти недвижно в самом углу дивана. Долго еще не хочется подниматься. Сижу, думаю, грежу о многом, что было и чего не будет у меня в этом мире уже никогда. А в груди, еле слышные, еще дрожат и затихают звуки шумановских «Грез».
4 октября 1980 года