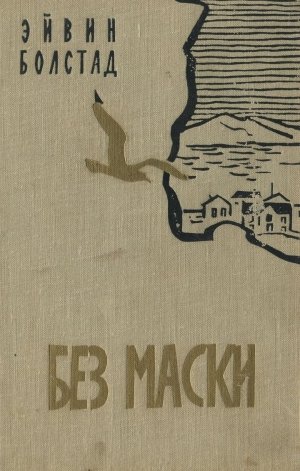
Современные рассказы
Двойник
(Перевод Л. Брауде)
Начальнику почтового отдела Симону Хаммеру, старому служащему фирмы, исполнилось шестьдесят лет. Немало рассказывали о его коммерческих способностях! В действительности же Симон уже в ранней юности затерялся в толпе сыновей, племянников, кузенов и троюродных братцев главы фирмы, а также всевозможных ловцов счастья, более предприимчивых, чем он. И постепенно Симон превратился в инвентарную принадлежность фирмы на ничтожном жалованье. Молодежь изощрялась в остротах по его адресу, убежденная в безответности Хаммера. Этот человек был воплощением спокойствия, никому не удавалось вывести его из равновесия. И у него было еще одно преимущество: он обращался с консулом[1] точно так же, как на военной службе обращаются с безусым новобранцем. Во всем остальном Симон совершенно не выделялся среди служащих огромной фирмы. Но каждую субботу, так же неизбежно, как наступление осени, он становился героем дня. Мистерия под названием «Хаммер» была так же актуальна сегодня, как и двадцать лет тому назад. Дело в том, что каждую субботу Хаммер отправлялся путешествовать.
Консул Люнн, медленно прогуливаясь по почтовому отделу, остановился у конторки Симона Хаммера и спросил:
— Ну, Симон, куда мы держим путь сегодня?
Уполномоченные и конторщики тихонько захихикали.
Симон Хаммер хладнокровно передал пачку писем мальчику, сидевшему у маркировальной машины, что-то записал на лежавшем перед ним листке бумаги, повернулся вполоборота, упершись взглядом прямо в живот консула, откашлялся и сухо ответил:
— Сегодня мы держим путь очень далеко.
— Послушай-ка, Симон, а Симон, — насмешливо сказал консул. Чуткое ухо уловило бы за показной сердечностью его тона изрядную долю раздражения. — Передай привет китайскому императору, если тебе приведется с ним встретиться. — Люнн улыбнулся.
— Слушаюсь! — невозмутимо отозвался Симон и записал поручение на лежавшем перед ним листке бумаги.
Консул ушел.
Симон Хаммер взглянул на часы. Было четверть третьего. Мальчик у маркировальной машины работал изо всех сил, чтобы справиться побыстрее.
Вскоре помещение опустело и Симон Хаммер остался один. Тогда он выпрямился, потянулся и облегченно вздохнул. Дождь хлестал в окно. «Чудесная погода», — подумал Симон и, поднявшись, снял с себя изношенную черную вельветовую куртку, повесил ее в шкаф и натянул синий вязаный жилет. Черный галстук, высокий крахмальный воротничок и широкие белые манжеты придавали ему сходство с учителем, хранителем музея, а то и с крупным чиновником департамента. Впечатление усиливали черный котелок и черный сюртук. Симон Хаммер с некоторым самодовольством оглядел себя в зеркале, подхватил маленький кожаный чемодан (который обошелся ему в половину месячного жалованья, сэкономленного в течение этого времени на обедах), взял трость и прошел в экспедицию. Там оставались еще начальники некоторых отделов; они болтали, покуривая сигареты. Все сразу же замолчали и уставились на Симона, а он вежливо приподнял котелок и, коротко бросив, словно начальник подчиненным: «Приятного времяпрепровождения!» — подчеркнул разницу между ними. Ларсен раздраженно засмеялся и сказал:
— Этот Симон задирает нос каждую субботу! И сам консул так не приподнял бы шляпу.
Кнютсен (запросто называемый «Кнюссен»), затягиваясь сигаретой и выпуская струйки дыма, заявил:
— Я думаю, что этак вот Симон берет реванш за то, что новички, да и мы тоже, всю неделю подтрунивают над ним.
Ларсен, стоявший у окна, позвал остальных:
— Идите-ка сюда, сегодня консул Симон нанял такси! Посмотрите на него, черт возьми! Видали?
В этот момент одна нога Симона еще стояла на подножке. Затем он сел в такси, спокойно, даже величественно, откинулся на спинку сиденья и назвал шофёру адрес. Шофёр приподнял кепку.
Вот так уехал Симон.
Стояла осень. По улицам торопливо шагали люди с пустыми, ничего не выражающими лицами, на которых сохранились лишь слабые отблески летних радостей. Но для Симона жизнь начиналась сначала: ему предстояло пережить долгую осень, долгую зиму, и весну тоже.
Машина остановилась перед табачным магазином. Выйдя из такси, Симон вошел в магазин. Бертельсен, с полупотухшей сигарой во рту, появился в дверях задней комнаты. Узнав покупателя, он услужливо поклонился и поспешно сделал несколько шагов к прилавку.
— Что прикажете сегодня, господин Хаммер? — с новым легким поклоном спросил он.
Симон Хаммер внимательно рассматривал сигары. На улице трещал автомобиль, и Бертельсен, бросив взгляд на шофёра, вновь повернулся к покупателю.
— Дайте мне пачечку сигар из черного табака, пачку сигарет для дам и «Три короны» для меня.
Пока Бертельсен заворачивал покупки, Симон Хаммер, отвернувшись, начал перелистывать журналы и газеты. Он небрежно отобрал небольшую стопку и молча протянул ее Бертельсену. Тот присоединил к ней сверток, подсчитал стоимость покупок и с благодарностью принял деньги.
— Прощайте и счастливого пути! — пожелал Бертельсен.
— Благодарю, — ответил Симон и приподнял котелок характерным для него жестом (сочетание вежливости и некоторого достоинства, не лишенного, однако, сердечности).
Шофёр захлопнул за ним дверцу машины, сел на свое место, и Симон Хаммер покатил дальше. Улицы казались ему сегодня обновленными, люди — совсем другими, словно он попал в чужой город; да и сам он тоже переменился. Автомобиль то и дело кренило на поворотах, шофёр предостерегающе гудел пешеходам, собиравшимся переходить улицу. Симон Хаммер ехал всё дальше и дальше. Но вот наконец машина сделала поворот и остановилась перед трапом. Звуки, которые неслись со всех сторон, оглушили Симона Хаммера: шум лебедок, поднимавших товары и багаж на борт парохода, голоса грузчиков, перекрикивавших друг друга, гудки грузовых машин, то и дело отъезжавших от борта парохода, смех команды, возившейся с грузом, оклики судового офицера, а в порту гудки множества приходивших и уходивших пароходов. Симон Хаммер вышел из машины и поднялся по трапу вместе с шофёром, который, ни на шаг не отставая от своего пассажира, нес его чемодан. Уверенной походкой человека, привычного к путешествиям, вступил Симон на корму парохода, спустился, всё еще в сопровождении шофёра, вниз, быстро миновал коридор и вошел в большой салон, где помощник капитана расположился со своими картами и списками пассажиров. Моряк поспешно вскочил, протянул свою тяжелую, татуированную якорями руку и сердечно поздоровался с Симоном Хаммером.
— Нет, подумать только, какие гости у нас нынче на борту! — воскликнул он. — Добро пожаловать, господин Хаммер, добро пожаловать! Ну, рейс будет удачным!
— Большое спасибо, господин помощник капитана, — сказал Симон Хаммер. — Простите, одну минутку… — Он рассчитался с шофёром, и тот, получив деньги, проворно приложил руку к козырьку и отправился обратно. — Ну вот, с этим делом покончено, — проговорил Симон и выпрямился. — Много пассажиров сегодня?
Помощник капитана заглянул в свои списки и ответил:
— Да нет, всего лишь несколько коммерсантов с фьордов, доктор Лервог и директор школы Санне из Хамнеса. Вы знакомы с ним?
— Конечно, конечно, знаком! — воскликнул Симон, и искренняя радость прозвучала в его голосе. — На редкость приятный человек!
Помощник капитана кивнул, словно в знак согласия (с таким же успехом он мог бы назвать имя любого другого жителя фьордов, и Симон Хаммер отозвался бы точно так же. Он знал их всех и любил их всех. Ведь обычно ему не приходилось сталкиваться с этими людьми так близко, чтобы выйти за пределы любезной обходительности, характерной для всякого нового знакомства).
— Да, вам, вероятно, хотелось бы занять вашу старую каюту? — спросил помощник капитана. По его голосу чувствовалось, что ответ ему заранее известен. Он даже не взглянул на собеседника, перелистал свои бумаги, отыскал пальцем нужную строку, потер подбородок и сморщил нос: — А, я вижу, она занята каким-то коммивояжером, этого еще не хватало…
Помощник капитана схватил резинку, стер уже написанное и отчетливыми буквами вывел: Симон Хаммер. Он поднялся и бросил взгляд в сторону коридора.
— Не очень много пассажиров сегодня, — заявил он и, схватив чемодан Симона, шагнул вперед.
Из чадного камбуза высунулась голова стюарда:
— Добрый день, господин Хаммер, добро пожаловать…
Симон Хаммер взглянул на него через плечо, помощник капитана машинально остановился, вежливо поджидая своего спутника. Симон с достоинством и не без интереса спросил:
— А как поживает маленькая Гюдрун?
— Отлично, — ответил стюард, сияя от радости, — она совершенно здорова и весь день не выпускает из рук куклу, которую вы ей подарили. Жена считает, что от этого она и поправилась.
— Я рад, — сказал Симон, и на губах его мелькнула нежная улыбка. — Мы попробуем отыскать для нее еще что-нибудь. Тогда целебные свойства куклы станут еще сильнее, — шутливо добавил он.
Симон кивнул головой и пошел дальше. Из кают-компании вышла горничная. Она сделала книксен: «Добрый день, господин Хаммер!», а Симон приподнял котелок и улыбнулся в ответ на ее приветствие.
— Ну, здесь, кажется, всё в порядке, — сказал помощник капитана, поставив чемодан на пол и обозрев чистую, аккуратно прибранную каюту.
— Большое спасибо, господин помощник, — поблагодарил Симон Хаммер.
— Если что понадобится, то… — помощник капитана указал пальцем на кнопку звонка, поклонился и ушел.
За последние полчаса с Симоном Хаммером словно что-то произошло. Он больше не сидит в конторе. Он даже незнаком с начальником почтового отдела Симоном, ничего не знает о конторе, не вспоминает о скучных днях недели, когда он только и делает, что меряет расстояние между конторой и своей скромной комнатой, в которой навсегда поселились всевозможные запахи еды. Сегодня он путешествует, сегодня что-то должно произойти. Когда-то он верил: что-то непременно свершится, что-то решающее, что избавит его от этого жалкого существования. Ведь любое чудо может произойти во время путешествия! Но теперь он знает: это вовсе не обязательно. Смысл того, что «случается», состоит не в одном простом событии или цепи простых событий, нет, это — нечто целое: сама жизнь. И сама жизнь обрушивается теперь на Симона Хаммера.
Вскоре он уже стоит на нижней палубе и наблюдает сутолоку на набережной. Дым сигары «Три короны» окутывает его приятным ароматом. Маленький, толстый директор школы Санне выкатывается на палубу со своим потрепанным саквояжем в руках.
— Я нюхом чуял, что вы здесь, — лжет он, сияя от радости и делая вид, будто помощник капитана не сказал ему о пребывании господина Хаммера на борту.
Но Симон знает об этом. Он радуется в десять раз больше, чем Санне, но более сдержан в проявлении чувств. Он приподнимает свой котелок (эта старомодная манера, в которой сочетаются умение подчеркнуть и вежливость, и достоинство, и почтительность, немного смущает директора школы), и Санне быстро перебрасывает зонтик в ту ладонь, которая уже занята сумкой, и приподнимает свою шляпу. Тогда Симон протягивает ему руку.
— Я, право, рад видеть вас, дорогой господин Санне, — произносит Симон своим глубоким и спокойным голосом, — наша встреча предвещает удачное путешествие.
— А куда вы едете на этот раз? — Санне опускает сумку на палубу, вытаскивает свою изогнутую трубку и набивает ее табаком.
— Небольшое семейное дело, — вежливо, но не совсем уверенно отвечает Симон.
Санне больше не задает вопросов. Они вместе обходят палубу и наблюдают за происходящим. Колечки дыма, пушистые и голубоватые, поднимаются из трубки; начальник почтового отдела и директор школы — друзья, какими бывают только пассажиры, — добрые друзья. Вот они стоят и смотрят, как убирают трап; матросы отвязывают канаты, и пароход, красиво отчаливая, отделяется от набережной, медленно поворачивается и дает задний ход. Край мола постепенно исчезает. На берегу, среди множества людей Хаммер видит вдруг одного человека, совсем незнакомого, но ему кажется, что он видит его усталое лицо, видит, как бредет этот человек из дому или домой по исхоженной им взад и вперед дороге, в городе, знакомом ему вдоль и поперек. В этом городе не происходит никаких событий, там всё установлено раз и навсегда и каждому отмерена его нищенская доля. Вот человек сворачивает на боковую улицу, и Хаммер с жалостью провожает взглядом его усталую спину. Он ничего не знает о нем, и возможно, что человек, оставшийся на берегу, — счастливейший из смертных, но Хаммер видит в нем самого себя: того, которого он теперь покидает.
Симон больше уже не Симон. Он — двойник Симона. Он до мозга костей господин Хаммер. Для Санне эта поездка — всего лишь возвращение домой. Для Симона Хаммера — это тоже возвращение домой, но совсем в другом смысле. Вот они стоят вдвоем и рассматривают пароходы, отчаливающие от набережной. Симон Хаммер прекрасно знает каждый из них. Он легко может отличить их друг от друга.
— Пойдемте-ка выпьем чашечку кофе перед обедом! — говорит Хаммер.
Ему вовсе не нужен ответ Санне. Вдвоем входят они в курительный салон. Хаммер нажимает кнопку звонка. Появляется Кристофа с меню в руках. Она расплывается в улыбке и краснеет в ответ на приветствие Хаммера, кивающего ей, как старой знакомой. Хаммер выбирает бутерброд и небрежно пододвигает меню Санне; тот внимательно пробегает глазами перечень бутербродов и в конце концов заказывает самый дешевый. Тогда Хаммер встает и спускается в каюту за своей вместительной дорожной флягой. Содержимое ее (по словам других людей, но не Хаммера) — самый изысканный коньяк. В то время как Хаммер поднимается наверх с этой флягой, помощник капитана стучит в дверь каюты своего начальника, слегка приоткрывает ее и говорит:
— С нами едет сегодня господин Хаммер; не желаете ли, капитан, чтобы я заменил вас на вахте?
А немного погодя плотный капитан Эвенсен уже стоит в курительном салоне и приветствует «господина Хаммера» особым поклоном, предназначенным специально для туристов. А Хаммер в свою очередь поднимается, идет навстречу капитану, чтобы поздороваться с ним за руку и поблагодарить за любезность.
— Стаканчик перед едой, а, господин капитан?
Эвенсен потирает свои огромные лапы и посмеивается.
— Отлично, — говорит он.
Золотистый напиток заполняет стаканы. Санне нюхает его, рассматривает свой стакан на свет. Капитан ждет, чтобы господин Хаммер начал первым.
— За счастливое путешествие! — шутливо провозглашает Хаммер.
Все пьют, присоединяясь к этому тосту.
— Сигару, господин капитан? Господин Санне?
Они откидываются назад, прислоняются к спинкам кресел. Где-то под ними, мерно гудя, работает паровая машина, над их головами чистым и мелодичным звоном дребезжит в лампах стекло. Все трое стали как-то ближе друг другу. Эти стаканы, эта фляга молниеносно сблизили их. Спокойно и непринужденно течет беседа, голубые дымки сигар вьются под потолком. И в довершение всего в дверях, плутовски улыбаясь, неожиданно вырастает доктор Лервог.
— Ну, разве я не чувствовал, что вы здесь, — рычит он. — Недаром у парохода, когда он еще отчаливал, был такой праздничный вид.
И сердце Хаммера переполняется благодарностью и теплом. Кто-кто, а доктор Лервог — незаурядный человек! Он широко известен не только как врач, но и как литературный критик. С ним чувствуешь себя как в большом свете! И до чего же Лервог простой и бесхитростный человек!
Он стискивает руку Хаммера, здороваясь с ним, и с превеликим наслаждением выпивает свой стакан.
— Отличный дорожный напиток, — чистосердечно признаётся доктор.
В салоне появляется и стюард. Он стоит улыбающийся и очень довольный и слушает критические выпады Лервога. Не стоит узнавать, зачем пришел стюард. Он всё равно ничего не скажет. Между ним и капитаном существует какой-то молчаливый сговор. В свою очередь Лервог и Санне смотрят на капитана с прямым вызовом. И когда Эвенсен приглашает их к своему столу, они не скрывают радости. Им предстоит долгая и скучная поездка. А сейчас она превращается в праздник. Никого не удивляет, что капитан не приглашает Хаммера. А самого Симона Хаммера, как и всегда, переполняет сильнейшее чувство радости: так Эвенсен деликатно дает ему понять, что Симон — постоянный гость за столом капитана. Ведь его знакомство с этим обществом имеет уже двадцатилетнюю давность.
Все они выходят из салона. Симон Хаммер, как самый старший, идет впереди. В руках он несет свою флягу. Он знает, что доктор Лервог сердито отодвинет флягу в сторону, но Симона это не смущает.
Не смущает и не задевает. Ведь доктор — человек учтивый и веселый, и, перед тем как по его требованию на столе появляется вино, он, рассматривая винную карту, отпускает многочисленные шутки в адрес стюарда. А тот с улыбкой приглашает гостей попробовать специальное кушанье, которое приказано подать к личному столу капитана. Немногочисленные пассажиры, сидящие за другим столом, не принимают близко к сердцу предпочтение, отдаваемое Хаммеру. Ведь и для них обед превратился в небольшой праздник!
Когда капитан уходит на вахту, трое пассажиров отправляются подремать; стюард, получивший распоряжение разбудить господина Хаммера через «полчасика», спустя некоторое время появляется в дверях каюты с чашкой собственноручно приготовленного им крепкого кофе.
Вдруг Хаммер что-то вспоминает, щелкает пальцами и окликает стюарда.
— Куда же я девал эту вещицу? — произносит он, в недоумении почесывает затылок, сует руку в карман сюртука, поворачивается к чемодану, открывает его и осторожно перебирает содержимое. Наконец находит небольшой пакетик и отдает его стюарду со словами:
— Для маленькой Гюдрун!
— Ах, зачем это? — несколько взволнованно говорит стюард и протягивает Симону Хаммеру руку.
Симон слегка пожимает ему руку, поправляет галстук, а затем учтиво осведомляется у стюарда о жене и детях. Стюард не ждет, чтобы его переспрашивали дважды. Немного погодя Хаммер поднимается на палубу. Холодно и сыро, но, несмотря на это, он всё же прогуливается несколько раз взад и вперед и очень скоро сталкивается с помощником капитана. Его вахта окончилась, но он всё еще не лег спать.
— Отлично, — говорит Хаммер, — я как раз собирался выпить стаканчик горячего грога; промозглая погода, верно?
— Настоящая осень, господин Хаммер, — сердечно отвечает помощник капитана.
Вдвоем они входят в курительный салон. Вскоре на счет Хаммера заносится новая маленькая сумма. Горячий грог ведь стоит недорого. Зато на будущей неделе ему придется соблюдать экономию до самой субботы. Но Симон Хаммер не думает об этом. Кофе и бутерброды стоят несколько дороже, обед тоже не вызывает большой потери для его кармана, а вот билет повлечет за собою уже целую неделю лишений. День за днем сидит Хаммер, нет, его двойник — Симон, в своей конторе, бесцветный, молчаливый, похожий на тень; он довольствуется малым, не курит, не пьет, и всё послеобеденное время просиживает в читальном зале библиотеки. У Симона богатая фантазия, и он может так увлечься книгой, что забывает обо всем.
Как только уходит помощник капитана, появляется доктор Лервог. Он беседует с Хаммером о книгах, о литературе. Стоит прийти Санне, и разговор перескакивает на политику, а когда возвращается капитан — наступает час рассказов: Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Шанхай, Кейптаун. Капитана опять сменяет Лервог, и речь идет уже о Тюильри, соборе Святого Петра, Британском музее, опере, театрах и событиях, которые происходят в больших городах. У Санне тоже своя тема: его поездка на заседание альтинга[2] в Исландию, его работы о колонизации Гренландии, его командировка — для усовершенствования — в русские школы и экскурсия в Вену в те времена, когда этот город занимал первое место по экспериментальным школам.
Но их всех может затмить Симон Хаммер со своей колоссальной памятью, в которой, благодаря ежедневному чтению в течение тридцати лет, запечатлелись подробные карты всех больших городов. Он движется по лабиринтам этих городов с уверенностью, которая кладет конец всем спорам; он знает, где, в каком мосте происходят важные события; ему знаком театр, где жил, работал и создавал свои роли тот или иной актер, известно, какие роли он создал; ему знакомы площади, где великие народные восстания чуть не закончились революцией, а также площади, где происходили государственные перевороты. Но разве он станет говорить об этом? Отнюдь нет! Господин Хаммер — превосходный слушатель. Лишь иногда вставляет он словечко, что-то объясняет или отвечает на вопрос. Вечер слишком короток, и всё-таки ему кажется, будто за этот вечер он переживает целую жизнь: жизнь, которую он мог бы прожить!
Уже поздно ночью прощается Хаммер с Санне, а еще час спустя — с доктором Лервогом. Сам он покидает борт парохода ранним утром, сопровождаемый приветствиями всех вахтенных.
Через несколько часов респектабельный господин поднимается по трапу на борт парохода, идущего в обратный рейс. В коридоре он встречает помощника капитана. Тот останавливается, прикладывает руку к козырьку форменной фуражки и, сияя от радости, восклицает:
— Не может быть, кого я вижу, господин Хаммер!
Господину Симону Хаммеру предоставляют лучшую каюту для отдыха. Капитану сообщают, что Хаммер на борту; встречается там и один-другой пассажир, знакомый с господином Хаммером с прежних времен. Днем они прогуливаются как старые добрые знакомые, которым предстоит совместное возвращение в город.
Новый пароход, новые люди! Но Симон Хаммер знаком с ними с давних пор. Они пили коньяк из его фляги, курили его сигары, он беседовал с ними много ночей напролет. Он любит их всех. Эти люди — пассажиры, как и он сам. Им легко беседовать друг с другом, они ничего не скрывают, не ловят один другого на слове, не хотят показать свое превосходство над собеседником (ведь завтра они всё равно разойдутся в разные стороны), никто не хочет властвовать, все хотят только одного: получить как можно больше удовольствия от этой поездки, приятно провести время, и поэтому они так добры друг к другу, так доброжелательны и болтливы одновременно, так услужливы и любезны; здесь стираются все сословные различия, а все предрассудки неслышно отступают в сторону. О, Симон Хаммер изобрел тип человека — «пассажира», самого лучшего человека из всех людей, он умеет распознавать самые благородные свойства его характера и ума, он в упоении оттого, что попал в такое хорошее общество! Но самое главное — то, что он сам чувствует себя полноценным человеком. Это — открытие, которое он делает во время поездки. Хаммер бережно обращается со своим открытием и составляет маршруты своих поездок с точностью и предусмотрительностью математика. Он пытается найти для себя настоящую жизнь!
В понедельник утром консул задерживается у конторки Симона. Он задает вопрос:
— Ну как, Симон, побывал в Китае, довелось тебе поболтать с императором?
И Симон отвечает ему с холодным спокойствием:
— Я побывал в Китае, и мне довелось поболтать с императором. Он просил передать вам привет!
Без маски
(Перевод Ф. Золотаревской)
— Вот идет бухгалтер, — сказал Петтер, по прозвищу Молния. — А что если я сейчас скажу это вместо него? — спросил он, искусно придавая своему лицу выражение беспомощности.
Веснушки густо покрывали его нос и лоб, доходя почти до пышной рыжей шевелюры.
Тихо шумела маркировальная машина. Фрёкен Холм подавила смешок. Калькулятор энергично пустил в ход свою электрическую счетную машину; она оглушительно затрещала. Рождество или не рождество — он будет как всегда усердно трудиться, пока не окончится рабочий день.
— Заткни глотку, — добродушно сказал Слеттен, обращаясь к Молнии. — Шевелись поживей, а то не справишься до конца работы со всеми конвертами.
— Ладно, только он всё равно произнесет эту фразу, — зашептал Петтер возбужденно. — А вот и он. Ну, нет, сегодня я скажу ее вместо него.
Но бухгалтер опередил Петтера. Он слегка одернул на себе куртку, в изнеможении прикрыл веки, погладил костлявой рукой свою блестящую лысину и устало произнес:
— Господи, Слеттен, как вы можете весь день выносить шум этой дьявольской машины?
Петтер с торжеством огляделся вокруг. Калькулятор обернулся и внушительно заявил:
— Эта машина дает фирме тысячи крон экономии.
— Ну, ну, будем надеяться, что так, — довольно кисло сказал бухгалтер и снова перевел дружелюбный взгляд на Слеттена.
— А сейчас он произнесет другую фразу! — выпалил Петтер.
Бухгалтер обернулся к Молнии и пристально посмотрел на него, но тот сидел как ни в чем не бывало, протягивая фрёкен Холм готовый конверт и делая вид, что углублен в разговор с нею.
Бухгалтер снова обратился к Слеттену:
— Ну, дорогой мой Слеттен, как вы думаете, кончится война на той неделе?
— Само собою, — ответил Слеттен с усмешкой.
— Да, да, — серьезно сказал бухгалтер. — Вы говорите это, начиная с девятого апреля[3], и будете повторять до тех пор, пока война действительно не кончится или пока все мы не отправимся на тот свет.
— Что-нибудь обязательно произойдет, — убежденно ответил Слеттен. — Ведь в мире всегда что-нибудь случается. Разве нет?
— Вы так думаете? — спросил бухгалтер грустно. Он тяжело дышал. — Ну, ладно, сегодня у меня нет времени болтать с вами, Слеттен. Но всё же как-то легче становится, когда послушаешь ваши оптимистические бредни.
Вошел директор. Он совершал свой обычный рождественский обход, и от рукопожатий у него уже одеревенела рука. Все поднялись и выслушали его горячее пожелание веселого рождества и победы союзникам. Последние слова были несколько опасны, но директор мог пойти на этот небольшой риск; зато его популярность среди служащих значительно возрастет. Директор хорошо знал своих подчиненных.
Но тут вмешался бухгалтер:
— Так значит, «Элла» сегодня вечером снимается с якоря? — спросил он.
Директор пожал плечами и бросил на бухгалтера быстрый, недовольный взгляд.
— В трюмах у нее железная руда для немецких сталелитейных заводов, — с горечью произнес бухгалтер.
— Да, это печально, — сказал директор. — Ну, еще раз пожелаю вам всем веселого рождества.
— Этот груз принесет смерть тысячам наших друзей, — сказал бухгалтер.
Он стоял, задумчиво покачивая головой и тяжело дыша.
В семействе Слеттенов рождественский праздник окончился поздно. Дети крепко спали в своих кроватках, прижимая к груди подарки. Часы показывали половину второго.
Эльсе сидела на постели, уставившись в пространство пустым, беспомощным взглядом. Она напряженно улыбнулась, когда Слеттен, одетый, с чемоданчиком в руке, вошел в комнату.
— Ну, веселей, детка, — сказал он шутливо и протянул ей руку.
— Храни тебя бог, Рагнар, — хрипло прошептала она, сжимая его руку так, что ногти впились в его ладонь.
— Спи, дорогая, — сказал он мягко, но решительно. — Ты ведь знаешь: то, что я делаю, это тоже работа. И постарайся не думать об этом, — тихо прибавил он.
Он вздохнул. Как тяжело, что опасность грозит не только тебе, но и твоим близким, даже если они ничего и не подозревают.
Эльсе думала о чем-то своем.
— Я буду спать, Рагнар, — сказала она, собрав всё свое мужество.
— Ну вот и хорошо. — Лицо его посветлело. — До свиданья!
Он бросил взгляд на спящих детей и быстро вышел.
Спустя полчаса двое людей сидели в темном помещении склада, позади небольшой лавчонки на морском побережье. Тусклый синеватый свет карманного фонаря бросал таинственный отблеск на быстро двигающиеся руки. Тихие, отрывистые слова время от времени срывались с губ: «Замедленное действие… девять часов… «липучка»[4]…
Спокойные, застывшие от холода руки работают в полной тьме. Лишь прерывистое дыхание выдает присутствие людей. Работать! Быстрее. Нет, не так!.. Спокойнее… спокойнее!..
— Всё сделано? — шепотом спросил Рагнар.
Слабый синеватый свет еще раз скользнул по лежавшим перед ними предметам.
— Да, — ответил его товарищ.
Они поднялись и начали раздеваться. Обнаженные тела при свете фонаря казались синими. Луч фонаря померк, наткнувшись на черное пятно шерстяных трусов и окончательно растворился в темноте, когда люди натянули темные рубахи.
Заскрипела отодвигаемая дверь склада. С моря потянуло холодом.
— Прекрасно! — шепнул Рагнар. — Море черно, как деготь.
— Брр… ну и холодная, должно быть, вода! — сказал его товарищ, вздрогнув.
Рагнар тихо засмеялся.
— Направление знаешь? Видишь, там силуэт завода?
Товарищ что-то буркнул в ответ, а затем прошептал:
— Ты хоть, по крайней мере, не плыви слишком быстро.
— Договорились! — ответил другу Рагнар, и тот, бросившись вниз, поплыл вдоль деревянных свай.
Рагнар задвинул дверь склада и последовал за ним. Как только он очутился в воде, тело его словно сжало ледяным кольцом. У него перехватило дыхание, он широко раскрыл рот, судорожно ловя воздух. Затем взмахнул руками и поплыл.
Вдали от них по улицам с песнями и гиканьем двигалась ватага пьяных немцев. Время от времени раздавались выстрелы в воздух, и люди в море вздрагивали. Ледяная вода заливала рот. Ноги коченели от холода. Рагнар прибавил ходу, чтобы немного согреться, но вспомнил о своем спутнике и остановился, легкими взмахами рук поддерживая тело на поверхности моря. Он обернулся и взглянул на гору. Ага, так! Всё правильно. Вон расщелина.
Они плыли уже долгое время, и Рагнар начал было думать, не сбились ли они с курса. Но тут перед их глазами замаячила черная стена, да так близко, что от неожиданности они остановились. Они держались на воде, низко наклонив голову. Кругом было тихо. Они слышали, как по палубе расхаживает немецкий часовой. Время от времени он останавливался и принимался отбивать ногами чечётку. Якорная цепь звенела всякий раз, когда судно покачивало на волнах.
Они нырнули под корму.
Теперь вода уже не казалась им холодной. Она была скорее теплой. На судне раздавались хриплые звуки патефона. Кто-то без конца наигрывал «Веселое рождество». На обратном пути Рагнару пришлось плыть вблизи своего спутника, чтобы не потерять его из виду.
После первых четырех-пяти глотков коньяка зубы перестали выбивать дробь.
— Нехорошо, — сказал Рагнар, с трудом подавляя дрожь, — что нам пришлось пустить ко дну судно, принадлежащее фирме.
— Пожалуй, — откликнулся его товарищ и сделал еще один большой глоток.
— С прошедшим вас! — так приветствуют друг друга служащие в конторах наутро после рождественского праздника.
Бухгалтер первый подошел к Слеттену. Но на сей раз этот рыжий шалопай Петтер просчитался, потому что бухгалтер сказал:
— А знаете, Слеттен, нынче-то всё-таки кое-что произошло! «Элла» благополучно лежит на дне фьорда. Не будь я вот уже двадцать лет трезвенником, я пошел бы сейчас и напился до чертиков. Ну так когда же теперь кончится война, Слеттен?
Слеттен залился веселым смехом и, наверное, смеялся бы долго и заразительно, если бы какой-то человек, судя по одежде, рабочий, не ворвался в контору.
— Скорей! — закричал он. — Арестован Томми, и… скорей, парень!
Рагнар вскочил из-за конторки, повернулся к двери, взмахнул рукой и тут же исчез. Бухгалтер стоял, как громом пораженный, и, выпучив глаза, смотрел на дверь. По улице прогрохотал грузовик. Тогда бухгалтер повернулся к калькулятору и сказал:
— Так, значит, это был…
Директор, совершавший свой обычный обход, вошел в контору:
— Что здесь происходит?
Но бухгалтер только молча раскрывал рот, не в силах произнести ни звука. Наконец он облизал пересохшие губы и начал рассказывать всё по порядку.
Рагнар вернулся обратно только к рождеству 1945 года. Он всё время оставался в Норвегии, но к моменту освобождения находился в другом месте. Эльсе ездила к нему на неделю. Ей тоже было о чем порассказать, но они предпочитали не говорить об этом. Кое-что он знал, об остальном — догадывался.
Когда Рагнар стоял на вокзале, обнимая жену, ему казалось, будто он уже вернулся домой. Люди глядели на них с улыбкой и сочувственно кивали. Это зрелище еще не было обычным, хотя за последние полгода его можно было наблюдать довольно часто.
Родные почти ничего не могли выведать от Рагнара о его приключениях. Рассказывал он мало, а о том немногом, о чем пожелал сообщить, было уже давно переговорено. Несколько лет вычеркнуто из жизни. Многое произошло. Многое вспоминается как страшный кошмар. И довольно об этом…
— А! — воскликнул бухгалтер, увидев Рагнара, который в пальто и шляпе стоял перед его конторкой. — Вы были правы, Слеттен, война окончилась ровно через неделю после того как я в течение нескольких лет повторял ваше любимое заклинание: «война окончится на той неделе». Мне так не хватало этой вашей фразы у нас в конторе, что я сам стал ее повторять. Взял, так сказать, на себя вашу обязанность… Не отбил я этим ваш хлеб?
— О нет, нисколько! — смеясь сказал Рагнар и тепло пожал его руку.
— А вы помните, как я сказал: «Этот груз принесет смерть тысячам наших друзей»?
Бухгалтер потряс костлявой рукой перед самым носом Слеттена.
— Помню, — отвечал Рагнар со смехом.
— Я горжусь вами! — воскликнул бухгалтер. — Или, может быть, вам не нравится, что я так говорю?
— Не…ет, — ответил Рагнар с улыбкой, — но только, знаете, это потребовало от нас всех душевных сил. И потом… было так много случаев, когда мы чувствовали себя такими маленькими, растерянными… то есть… это не так легко объяснить… — Вдруг он произнес быстро, словно что-то в нем прорвалось: — Было так много черных дней, когда мы не чувствовали себя… героями… не были на высоте.
Лицо Рагнара сделалось вдруг очень усталым. Бухгалтер испытующе взглянул на него. Затем грустно кивнул головой.
— Я понимаю, Слеттен, — сказал он тихо. — Мы, наверное, и представить себе не можем, как вам было трудно? Ну, а жена ваша, благослови бог ее мужественное сердце, она тоже не поймет?
Рагнар коротко кивнул. Потом снова улыбнулся:
— А что вы скажете о счетной машине?
— Фу, проклятая трещотка! Убей меня бог, я просто не понимаю, как вы можете работать весь день в таком грохоте. Хотя да, ведь вы еще не приступили к работе. Пойдете к директору?
Рагнар кивнул. Его охватило какое-то опасение. Похвалы бухгалтера были приятны ему и в то же время заронили в его душу смутную тревогу. А всё-таки чудесно вернуться снова к размеренной жизни и работе. И, помимо всего, это было ему необходимо. Чудесная неделя, проведенная тогда с Эльсе, не прошла бесследно. Жене приходится теперь распускать складки на платьях. А с финансами у них туго.
Директор поднял глаза от бумаг и взглянул на него:
— Я выяснил, что вы потопили судно, принадлежавшее фирме, не имея на то распоряжений из Англии. Не понимаю, как вы могли взять на себя такую ответственность. Английская разведывательная служба работала прекрасно, и они были осведомлены как о судне, так и о грузе, который был на нем.
Рагнар, побледнев, стоял перед роскошным письменным столом.
— Была война, — ответил он сдержанно. — Если бы на каждый акт диверсии мы ожидали распоряжений из Англии, то они совершалась бы у нас довольно редко. — Рагнар перевел дыхание. — И у дикторов Би-би-си было бы не так уж много материала для передач. А судно ваше, вы знаете, было загружено железной рудой для Германии.
Многое пришлось пережить Рагнару за эти годы. Много раз у него появлялось чувство нереальности всего происходящего. Например, когда по ночам ему приходилось тайно встречать где-нибудь в горах самолеты союзников с боеприпасами и одеждой или когда, после совершённой диверсии, ему нужно было как ни в чем не бывало проходить мимо целой роты «зеленых»[5]. Но ни разу не был он так потрясен, как теперь, когда стоял перед письменным столом директора, человека, в течение последних шести лет произносившего длинные и трогательные речи о героях Сопротивления.
Рагнар отвернулся к окну, освещенному холодным зимним солнцем.
— Вы, вероятно, были и в числе этих таинственных грабителей банков? — внезапно спросил директор.
Рагнар отрицательно покачал головой.
— Вы в этом уверены?
Рагнар выпрямился:
— Я сказал «нет», господин директор. Но я не сомневаюсь, что для их действий были также вполне веские основания.
— Я предполагал, что вы будете рассуждать именно так, — коротко сказал директор. — Хорошо. Ваше место уже давно занято одним способным юношей, который также оказал большие услуги движению Сопротивления. Мы не можем уволить его ради вас. А в том, что совершили в свое время вы, не было никакой необходимости.
— Значит, я не смогу вернуться к работе? — спросил Рагнар.
— К сожалению, нет. — Директор взялся за свои бумаги. — Вы получите прекрасные рекомендации, и… ведь можно служить не только в нашей фирме.
— Боюсь, что я смогу найти только временную работу, — сказал Рагнар с горечью. — А все эти годы, что я прослужил здесь?.. Я люблю свою работу, господин директор.
Много тяжелых часов пришлось пережить Рагнару во время войны: и когда он плыл, чтобы взорвать судно, и когда он услышал, как эсэсовцы истязали в тюрьме Эльсе, и когда он, бросив товарища на произвол судьбы, бежал, чтобы спасти находившиеся при нем ценные документы. Но ни разу не было ему так горько, как сейчас.
— К сожалению, все места у нас заняты, — сказал директор сочувственно. Он взял телефонную трубку, давая понять, что разговор окончен.
Рагнар Слеттен медленно спускался по ступенькам лестницы. Вдруг он остановился и задумчиво уставился в одну точку.
Голос, который за последние полчаса становился всё явственнее и явственнее, шепнул ему: «Ты слишком много знаешь об этой фирме и об этом человеке. Он полагает, что ты будешь всюду рассказывать о нем».
Рагнар покачал головой. Чего-то он здесь не понимал. Ведь директор должен был предположить, что именно теперь-то он и будет рассказывать.
Но тот же внутренний голос подсказал Рагнару мысль, которая раньше никогда не могла прийти в голову: директор хочет обезопасить себя от нападения. На совести его много преступлений, и это может иметь для него роковые последствия. Возможно, слухи о нем уже ходят. И он хочет, чтобы все разоблачающие слухи были сведены к этой истории с Рагнаром. Люди скажут: «О, это Рагнар Слеттен по злобе распускает о нем всякие небылицы».
Рагнар долго стоял на ступеньках лестницы. Затем он вышел на улицу и бросил последний взгляд на здание фирмы. По отделам ходил директор и желал всем доброго рождества. Рагнар Слеттен взглянул на свои старенькие часы и заторопился. Быть может, контора по найму еще открыта.
Тень между ними
(Перевод Л. Брауде)
Анне сидела на грубом деревянном стуле, облокотившись на маленький ветхий столик. Всякий раз, когда она поворачивалась, колени ее натыкались на старомодную кровать, почти соприкасавшуюся со скошенным потолком мансарды.
— Анне, Анне! — позвала ее из кухни мать. — Ты уже легла?
— Нет, — отозвалась Анне, не меняя позы. — Я пишу письмо.
Внизу хлопнула дверь, и опять наступила тишина. Анне вздохнула и снова стала пристально смотреть на стол. Сегодня вечером она останется дома. Анне была абсолютно уверена в этом.
Она окинула взглядом убогую комнатушку. Ящик из-под апельсинов, на нем умывальный таз, кровать, стол, стул, на котором она сидела, комод, унаследованный от тетки Софи, зеркало на стене и висящие под самым потолком пальто и платья. О, у молодого Тевсена всё совсем по-другому. Высокие потолки, просторные комнаты, обставленные шикарной мебелью, ковры на полу. Над диванами, на потолке и по стенам разные там лампы, которые можно зажигать и тушить когда захочешь. Колдовство, да и только! «Не желаете ли сигаретку, фрёкен? Рюмку мадеры? Ну-ка заведи старый граммофон, Рудольф!» («Старый граммофон» был дорогой радиолой, стоившей огромных денег. Чтобы заработать столько денег, Анне нужно было трудиться целый год.)
А еще можно было выйти на широкую застекленную веранду и смотреть оттуда на расстилавшийся внизу город нищеты. Когда Анне случалось там стоять, ей казалось, будто она смотрит сверху какой-то фильм. Она жила словно в сказке. И эта сказка продолжалась, то есть могла бы продолжаться до тех пор, пока молодой Тевсен распоряжался всей квартирой, а его старики родители были за границей, «на водах» или как там это называется.
Анне горько усмехнулась и ударила кулаком по столу. Потом она быстро встала и, забившись в постель, заложив руки под голову, прижалась щекой к жесткой подушке.
А «наверху»?.. (Так называли квартиру Тевсена Анне и ее подруги.) Она стиснула зубы. Невозможно даже представить себе, как там было шикарно! Радиола, мадера, а затем небольшая прогулка. От этого у кого угодно могла закружиться голова. И у нее она закружилась по-настоящему. А теперь она снова медленно возвращалась с неба на землю. После трех месяцев бессонных ночей, проведенных в танцах и в…
Анне зарылась головой в подушку. Она вновь видела их глаза! Она не могла не замечать, какими холодными становились глаза Тевсена и его друзей, когда они смотрели на нее. О, если бы можно было оставаться такой же дурочкой, как Ловисе! Та брала от жизни всё, что могла. Она наслаждалась жизнью. Только бы Ловисе не пришла сегодня вечером! Только бы она не пришла!
А тут еще Сигген вернулся домой с севера, куда он уезжал на заработки. Теперь он получил постоянное место и хозяином его был Тевсен.
— Иди-ка сюда и выпей кофейку, — позвала ее снизу мать.
Анне устало поднялась с кровати, небрежно пригладила волосы, посмотрелась в зеркало, одернула юбку и спустилась на кухню по крутой лестнице.
— Опять дождь, — капризно сказала Анне.
Дождь хлестал в низкое оконце.
— Дождь — это хорошо, — возразил отец и задымил трубкой. — Дождь очищает воздух от холеры и дизентерии и от желтой лихорадки. Да, так говорили мы, бывало, когда ходили в море. Ну и чепуху же пишут нынче в газетах!
— Присаживайся к столу, милая Анне, — сказала мать, наливая ей большую чашку кофе.
Анне села к столу. И вдруг словно наяву увидела молодого Тевсена. Он придвигал кресло к полированному столу красного дерева и галантно предлагал ей сесть. «Не мешает ли лампа? Так лучше?»
Кухня была полтора метра в длину и столько же в ширину. Там помещалась лишь плита, стол и скамья. Места оставалось ровно столько, чтобы пройти мимо сидящих за столом и не задеть их. Когда в комнате не топили печь, в кухне бывало особенно тепло и уютно.
Было еще совсем рано, не больше половины восьмого. Если бы хоть стояла хорошая погода, можно бы еще выйти прогуляться. Но куда? Она медленно выпила свой кофе, до последней крошки съела бутерброды. Сигген!
Анне быстро поднялась и пошла в комнату. Там было холодно и темно. С минуту она постояла у окна, глядя на улицу. В тумане тускло мерцали желтые уличные фонари. Дождь стекал по водосточной трубе. Сигген? Неужто это из-за него она нынче вечером осталась дома? Да, конечно, но дело не только в нем. Виноват во всем ледяной блеск, который она столько раз подмечала в холодных глазах всех этих кавалеров. До чего они бойки на язык и какие порядочные на вид и до чего хорошо одеты!
Анне снова спустилась на кухню и села на скамью, потом поднялась, взяла кофейник, стоявший на плите, и налила себе большую чашку кофе.
Мать сидела и вязала отцу теплые носки.
— Вид-то у тебя неважный, Анне. Стряслось что-нибудь? — Отец потянулся и протяжно зевнул. Он не ждал ответа на свой вопрос.
«Присмотри за граммофоном, старина Тевсен, да налей очаровательной Анне бокал, ей всегда надо немного выпить, чтобы разойтись. Не правда ли, дорогая, хе-хе.?..»
Но всё это было… это было… не то чтобы очень приятным… в этом таилось нечто гораздо более важное: она была желанной гостьей, она обладала властью. Она могла бы вертеть ими и согнуть их, если бы захотела. Но кончилось тем, что согнули ее.
— Черт бы их побрал, — тихо фыркнула Анне.
Она снова поднялась наверх, легла, накрылась периной и потушила свет.
В дверь постучали, и в комнату вошла Ловисе. Следом за ней появилась мать Анне.
— Не сходим ли мы к Хансине, Анне? Она просила заглянуть к ней вечерком.
— Сегодня вечером вы тоже пойдете? — спросила мать. — И что это вы каждый вечер обиваете пороги у Андерсенов?
— У нас всегда находится, о чем поговорить, — смущенно и застенчиво отвечала Ловисе. О, эта Ловисе могла бы обвести вокруг пальца самого господа бога, если бы только захотела!
Анне встала и вытолкнула подругу на крыльцо. Затем обе девушки направились в дровяной сарай.
— Живо одевайся, — шепотом сказала Ловисе. — Вечно ты опаздываешь. Мне пришлось сделать крюк, чтобы зайти за тобой. Сегодня вечером большой праздник с шампанским и всякой всячиной. Приезжает двоюродный брат Тевсена! Ну-ка, поторапливайся.
— Я больше туда не пойду, — решительно сказала Анне. — Я не желаю видеть все эти гнусные морды, эти мерзкие холодные глаза. Если я пойду туда, я убью кого-нибудь.
Ловисе опешила.
— Ты что, рехнулась или у тебя не все дома? — спросила Ловисе. — Мерзкие холодные глаза? Ты что, не влюблена разве по уши в Тевсена?
— Сегодня уж, во всяком случае, нет!
— Но ты ведь, кажется, так втюрилась в него, — сказала Ловисе.
— Может, так оно и казалось со стороны, но теперь — конец. Я всё равно не пойду, даже если ты силком потащишь меня на его виллу. «Виллу!» — усмехнулась Анне.
— Ха-ха! Да, и я тоже иногда говорю, как и ты, а вот всё-таки продолжаю ходить. Ведь молодость бывает только раз! Пошли-ка, Анне, сегодня вечером мы повеселимся на славу!
Анне не шевельнулась.
— Ты ведь не заставишь меня идти одну? — захныкала Ловисе.
— Иди, если тебе хочется, — упрямо ответила Анне.
— Тогда я тоже пойду домой и просижу целый вечер одна… Нет, дудки, этого я не сделаю! А может, ты хоть сегодня вечером пойдешь со мной? Анне, милая, ну будь хорошей, пойдем!
— Ни за что! А можешь ты оказать мне услугу?
— Ясное дело, — сразу оживившись, сказала Ловисе. — И тогда ты пойдешь со мной? Да?
— Сходи к Сиггену и скажи ему, что нынче вечером я сижу дома, в кухне, что у меня много дел. Больше ничего не говори. Ты сделаешь это? — Анне принялась тормошить подругу.
— Ах, вон что, — вырвалось у Ловисе, — вот в чем дело?! Ну да уж ладно, я схожу!
Ловисе фыркнула. А потом сказала:
— Тогда я возьму с собой Хансине… хотя Тевсену она и не нравится, она такая неряха! Ну ладно, ладно! До скорого свиданья! Господи помилуй — вот уж никогда бы не подумала. А ты, Анне, не можешь поговорить с Сиггеном завтра?
— До свиданья, Ловисе! — Анне скользнула за дверь, словно желая спастись бегством.
Ловисе немного постояла, потом состроила гримасу, тряхнула головой и вышла за ворота…
Через час в дверь постучал Сигген.
— Хе-хе, вот и я, Анне, — сказал он и смущенно засмеялся. — Спасибо, что не забыла меня! — Он сунул под мышку кепку и протянул свою огромную лапу Анне.
Девушка оставила скатерть, которую собиралась гладить, и равнодушно пожала ему руку:
— С приездом, Сигген, давненько тебя не было видно!
Она отворила дверь в комнату и крикнула:
— Это Сигген, мама! — И снова принялась гладить.
— А, это ты, дружок Сигген, — сказала мать. Она появилась в дверях и, вытерев передником мокрые красные руки, поздоровалась с ним. — Рада видеть тебя, Сигген!
— Позови-ка сюда Сиггена! — закричал отец. Он уже лежал в постели, и Сигген, красный как рак, смущенно скользнул за дверь.
Немного погодя послышался раскатистый смех отца. Анне прекратила гладить и слегка наморщила лоб, но тут же снова еще усерднее принялась за работу. О, она была страшно зла на Сиггена, которого водила за нос целых три месяца. Она почти ненавидела его. Анне еще сильнее сжала ручку утюга. Из комнаты снова донесся взрыв хохота, на этот раз смеялась и мать. На мгновение Анне прекратила работу и, опершись на утюг, закрыла глаза и сжала зубы. Легкий, но явственный запах паленого заставил ее очнуться.
Теперь они сидели в комнате уже втроем: отец облокотился на высоко взбитые подушки, держа свою вонючую трубку в зубах, мать примостилась на краю постели, положив на колени руки, а на стуле, упершись обоими локтями в колени и втянув голову в плечи, — Сигген. Он что-то говорил и улыбался своей прекрасной улыбкой. Внезапно Анне увидела его крепкие зубы и его богатырские руки рабочего. Вот он поднялся и подошел к печке. Казалось, он занял собою всю комнату. Да, Сигген был красив. Ей никогда не приходилось видеть кого-нибудь красивее его.
Было уже совсем поздно, когда Сигген снова вернулся в кухню. Немного погодя в дверях появилась мать и пожелала ему спокойной ночи.
— Не забудь запереть дверь, Анне, — сказала она, кивнув головой Сиггену, и ушла к себе.
Молодые люди молчали. Анне догладила белье и сложила его в стопку. Теперь ей пришлось повернуться к нему лицом.
— Спасибо, что ты послала за мной, — прошептал Сигген. Он поднялся с места.
Она стояла и пристально глядела ему прямо в глаза.
— Что ты так странно смотришь на меня, Анне? Что случилось? Хочешь, чтоб я ушел?
Анне перевела дух.
— Не уходи, Сигген… Нет, я просто немного устала… Присядь. Тише! Они спят!
— Анне!
— Что?
— Я кое-что смастерил тебе там, на севере. Сказать, что?
— Конечно, скажи…
— Если ты подойдешь поближе. Я не хочу говорить громко!
Она неуверенно придвинулась к нему.
— Что же это? — спросила она, тяжело вздохнув.
— Комод, — сказал Сигген.
Анне поморгала глазами и снова перевела дух. Ей не удалось выразить свою радость так, как ей хотелось бы. Она только всё время сравнивала себя с ним.
— Спасибо тебе, — наконец выдавила она. — Ты очень добр, Сигген!
— Ты и вправду так думаешь? — спросил он, грустно улыбаясь, и почесал в затылке. — Я не знаю, что с тобой творится, но…
— Ничего, — поспешно сказала Анне. Она чувствовала, что боится его потерять, и, всхлипнув, добавила: — Я вот всё думаю о тебе! Этого, по-моему, достаточно!
— Но… никак ты плачешь? Это еще что за новости?
— Это всё оттого, что я так люблю тебя, а ты стоишь тут как дурень и мнешь кепку!
— Кабы только я знал, что это так… — Он прижал ее к себе, поднял на руки, и она обняла его за шею. Он осторожно опустил девушку на пол, потом посадил к себе на колени. Настороженным взглядом она глядела прямо перед собой. Казалось, ее покидала какая-то болезнь. Вдруг Анне испытующе заглянула ему в глаза, — они были голубые и озорные. Выражение их радовало ее.
В кухне надолго воцарилась тишина. В комнате тягостно и брюзгливо тикали старые стенные часы… Наконец раздались два глухих удара.
— Иисусе, — произнес вдруг Сигген, вскочив с места. — Неужто уже так поздно? Тебе ведь, верно, пора ложиться. Тебе же рано вставать в типографию?
— Да, — беззвучно сказала она, — да.
— Тогда я пойду, Анне. — Он замолчал и долго глядел на нее. — Но теперь между нами всё уладилось, не правда ли? Скажи…
Анне несколько раз кивнула головой, хотя на лице ее по-прежнему было какое-то странное выражение. В душе ее будто что-то растворялось, что-то чужое, лишнее и тяжелое. Она чувствовала себя почти освобожденной.
Сигген поднялся, надел кепку и взялся за ручку двери. Тогда она схватила его за руку и потянула за собой. Он слегка удивился, но покорился ей, как послушный ребенок.
Каждый вечер Сигген проводил в кухне. Каждый вечер он непременно должен был зайти в комнату к ее отцу. Мать по-прежнему сидела на краю кровати, но теперь уже Анне садилась рядом с матерью и облокачивалась на спинку кровати.
Такое счастье продолжалось четыре недели. И вдруг всё разом изменилось.
Как-то вечером они гуляли по Фьелльвейен. Погода стояла неважная, и на улице никого не было.
Анне почувствовала: с Сиггеном творится что-то неладное. Она догадывалась, из-за чего. Видно, разговоры о ней дошли и до Сиггена.
Он остановился и перевел дух.
— Я хочу спросить тебя кое о чем, Анне. Это правда, что ты бывала вместе с Ловисе и Хансине наверху у Тевсена, пока его старики жили за границей? Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Да, — ответила Анне. У нее сразу пересохло во рту.
— Тогда я не понимаю, зачем ты послала за мной, Анне? — тихо и грустно вырвалось у него. — Я вовсе не желаю подбирать чужие объедки. Тебе это хорошо известно!
— Нет, нет! — сказала Анне, отпустив его руку. — Я не знаю, что сказать тебе, Сигген. Да и сказать-то мне нечего!
— Так это правда? — закричал Сигген. Он надеялся, что она станет возражать. Он так любил ее, что, если бы она только попыталась отрицать свою вину, он поверил бы ей.
— Я не знаю, как это случилось, — с горечью отвечала Анне. Она не избегала взгляда Сиггена. — Но я так устала от этой кухни, от этих долгих вечеров, от этой плиты, и скамьи, и кофейника! И я так ненавидела мою комнату и мою убогую постель!
— И не стыдно тебе, Анне! — вырвалось у Сиггена. Он стоял, удивленно глядя на нее. — Не стыдно тебе так говорить о своем доме, о своих. Ведь мы принадлежим к рабочей среде и должны гордиться этим. Как ты могла так поступить! Никогда бы не подумал, что ты способна на такое!
— Нет, мне не стыдно, — тихо сказала Анне. — Мне тоже хотелось побывать среди нарядной публики, посмотреть, что делается во всех этих шикарных домах, которые расписывают в газетах, во всех газетах… Да кроме того, они все такие добрые, и Тевсен, и Хаммер, да и другие тоже…
— Дьяволы! — выругался Сигген, потрясая в воздухе богатырским кулаком. Он готов был заплакать. — Больше им тебя не видать!
Анне снова заговорила всё тем же беззвучным голосом:
— Да, я прекрасно понимала, что нужна им только потому, что красивая и… но… но одно время я было думала, что я своя в этом обществе. И потом я не считала, что делаю что-то дурное. Ведь тогда я не была влюблена в тебя, а теперь…
— Когда это ты полюбила меня? — грубо спросил Сигген.
— Это было как-то вечером, когда я услыхала их разговор о Ловисе и Хансине. Они не знали, что я всё слышу. И тогда-то я разглядела по-настоящему их лица, их мерзкие холодные глаза и их презрительные улыбки… И тогда я поняла, что в их глазах я была самой последней девкой…
— Вот тогда и я стал хорош? — перебил ее Сигген.
— Да, тогда ты стал хорош, — прошептала Анне, проведя рукой по лбу, — тут я поняла, как ты мне дорог!
— Сначала ты смотрела сверху вниз на своих собственных родителей, а теперь пытаешься втащить в эту грязь и меня. Никогда бы не подумал, Анне, что ты такая.
— Я и сама этого не думала, — устало сказала Анне. — Я просто жаждала всех этих богатств. Мне нравилось, как у них там красиво, какие они нарядные и как легко тратят деньги. И всё-таки по временам они становились мне так противны, что я готова была убить их.
— Если всё на самом деле так, как ты говоришь, зачем же ты гуляла с этими молодчиками?
— Нам с тобой давно надо было жить вместе, — сказала Анне, — но тогда ты не мог прокормить даже самого себя. И тогда ты ничего мне не говорил. Но ты всё равно хотел, чтобы я была твоей. Да, Сигген, вспомни-ка… Или ты забыл всё, что было между нами? Уж не думаешь ли ты, что путаться с тобой было бы лучше для меня? Не всё ли равно — ты или Тевсен? Или твои товарищи — Гогген или Лаффен?
— Только не Тевсен, этот подлец, только не он, только не кто-нибудь из этих. О… — Сигген рубанул кулаком воздух. — Я и сам не знал, как я любил тебя тогда, — вдруг сказал он.
— И я тоже, Сигген, — отвечала Анне, — но теперь я это знаю!
— Теперь — слишком поздно! Пошли домой!
Они молча направились к ее дому, держась друг от друга на расстоянии. Вдруг Сигген сказал:
— Если бы у меня тогда хватило средств на женитьбу, то этого бы не случилось! Так-то! Проклятье…
— Да, это так, — отвечала Анне тихо, как человек, который успел всё обдумать заранее.
Они остановились возле ее дома. Анне протянула ему руку и спокойно сказала:
— Всего хорошего, Сигген!
Он застыл на месте, держа ее руку в своей, его глаза блуждали, на шее судорожно подрагивал кадык. И вдруг он отрывисто произнес:
— Я пойду с тобой, если ты только хочешь, Анне. Скажи!
Она повернулась и пошла. Он молча последовал за ней. Но им обоим казалось, что между ними идет кто-то третий. И оба они знали: потребуется время, чтобы тень эта растворилась и исчезла. Но она непременно исчезнет. И они знали: эта тень была бы в десять раз незаметней, будь она тенью Гоггена, Лаффена или кого-нибудь из их товарищей-рабочих, живших на той же самой улице.
Трагедия модного писателя
(Перевод Ф. Золотаревской)
Голливуд, 12 марта 1956 г.
Дорогая Рут!
Две недели назад я покончил с работой на ферме. Там было чересчур много кудахтанья. Десять тысяч кур — это уж слишком! Я очень скучаю по тебе.
Теперь — дальше. Мне посчастливилось: с сегодняшнего дня я служу табельщиком в роскошном магазине. Жалованья хватает только на то, чтобы прокормиться. Впрочем, у меня всё впереди. Так утверждают люди, которые живут здесь уже много лет. «Голливуд!» — говоришь ты и всплескиваешь руками. Да, шикарной публики здесь много, этого отрицать нельзя. Знаменитые киногерои пролетают в своих авто, а Элизабет Тейлор, одетая хуже прачки, забегает в магазин за покупками. Скажу тебе по секрету одну вещь: мистер Лоусон, этот всемирно известный сценарист, некогда служил здесь, в нашем магазине. В холле стоит его бронзовый бюст. (Он сделан из гипса.) А что если и мне посчастливится с каким-нибудь сценарием? Или, может быть, всё-таки удастся снова заняться журналистикой? Мистер Лоусон, как видно, счастливчик. Все газеты превозносят его сценарии, кинозвёзды наперебой стремятся завязать с ним дружбу, продюссеры из кожи лезут вон, чтобы заполучить его к себе в студию. И какой же он, должно быть, весельчак! Публика прямо-таки помирает со смеху от его кинокомедий.
Вчера состоялась торжественная премьера фильма. Народу набилось перед кинотеатром точно сельдей в бочке! Всем непременно хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на знаменитостей, которые прибывали в автомобилях, один за другим. Лоусон взобрался на балюстраду и принимал всеобщие изъявления восторга. По слухам, он выходец из Скандинавии — не то норвежец, не то швед, не то датчанин.
Наоравшись до одури (это, знаешь ли, всё-таки заразительно), я отправился смотреть пьесу Стриндберга[6] в третьеразрядный театрик. Сюда обычно приходят студенты и немногие чудаки, которые всё еще интересуются этим «неприбыльным искусством». Говорят, кое-кто просто является сюда выпить, когда в кармане заводятся деньжата.
А вдруг и мне повезет так же, как мистеру Лоусону? Что ты на это скажешь? Пусть даже я и не добьюсь успеха в журналистике — ведь может же так случиться, что я стану знаменитым драматургом. Здесь еще и не такое бывает.
Сейчас вся Америка охвачена лоусоновским психозом. Ты, верно, думаешь, что я тоже подхватил эту заразу? Ну, Рут, мне пора кончать. Надо давать нашим швеям звонок к ленчу. Крепко обнимаю тебя и желаю всего наилучшего.
Твой верный Улав-Хенрик.
Пансион «Понсонби», 3 августа 1952 г.
Сегодня я встретил старину Джонсона. «Хэлло, Лоусон», — сказал он мне. Он был крайне удивлен, узнав, что я служу в магазине. По его мнению, это чертовски оригинально. Он-то не знает, что меня вышвырнули из газеты и что с этой деятельностью покончено раз и навсегда. Я прозрачно намекнул, что собираю здесь материал для будущих произведений. Джонсон прямо-таки позеленел от зависти. Вот уже двадцать лет, как он мечтает освободиться от дел и заняться творчеством — написать книгу, пьесу или сценарий. Правда, он еще не знает, о чем бы стал писать.
— А у тебя, должно быть, уже есть кое-что готовое? — спросил он.
— Да, ты угадал, — бодро ответил я. — Это чертовски оригинальный сценарий. Речь идет о старике ювелире, который не в силах расстаться со своими бриллиантами даже после того, как продает их. По ночам он разыскивает покупателей и ворует драгоценности, не останавливаясь в некоторых случаях и перед убийством.
Джонсон от удивления даже рот разинул.
— Когда закончишь, дай мне посмотреть, — произнес он недовольно.
У Джонсона привычка злиться и ворчать, когда ему кажется, что он напал на что-то интересное. Прежде чем я успел ответить хоть слово, он исчез из виду, оглушив меня на прощанье своим астматическим кашлем. Ох, уж этот Джонсон! Больше я его, наверное, не увижу.
Пансион «Понсонби», 11 августа 1952 г.
Джонсон всё-таки заглянул сегодня ко мне. Брюзжал он еще больше, чем обычно.
— Готов твой сценарий? — спросил он.
— Работа быстро подвигается вперед, — ответил я.
Он сказал:
— Это наверняка какая-нибудь мерзость, но дело в том, что мы теперь дьявольски нуждаемся в мало-мальски приличном материале, а эта история с ювелиром-убийцей как будто подходит. Ну, всего наилучшего. — И Джонсон исчез, проклиная свою астму на чем свет стоит.
Сегодня я начал писать сценарий.
Пансион «Понсонби», 20 августа 1952 г.
А ведь это идея! Теперь я могу поздравить себя с тем, что в свое время проштудировал азы драматургии. Материал обретает форму у меня под руками. Я живу в состоянии какого-то опьянения. Я опьянен творчеством. Это по-настоящему здорово! Это — подлинное искусство! Теперь я покажу всем безжалостным издателям, какое они дурачьё! Вернее, как мало они смыслят в искусстве.
Пансион «Понсонби», 20 сентября 1952 г.
Я закончил сценарий. Это серьезная драма, написанная, можно сказать, кровью сердца. Я смертельно устал. Джонсон в последнее время заходил каждый день, и я давал ему рукопись по частям. Вид у Джонсона всё более и более недовольный, а это значит, что я попал в самую точку.
Пансион «Понсонби», 21 октября 1952 г.
Рукопись принята. О господи, какое это удивительное чувство! О ты, благое провидение, всемогущая судьба, благодарение тебе! Я — художник, писатель. Нет — я поэт. Поэт! Герои мои будут живыми людьми из плоти и крови! Я вдохну в них живую душу! Этим я буду жить. Я буду видеть их, слышать их; слышать о них. Я — самый счастливый человек в мире! Мне самому неловко писать об этом в дневнике, но ведь Джонсон сказал коротко и ясно: «Шеф заинтересован, стало быть — цена твоей рукописи миллион».
Но разве дело в этом? Ведь я… я наконец обрел смысл жизни. Я — самый счастливый человек на земле. Нет, правда! Но об этом я уже писал раньше, а повторяться никогда не следует, даже если пишешь дневник или письмо.
Пансион «Понсонби», 28 октября 1952 г.
Был сегодня на совещании у шефа литературной части. Здесь же присутствовал знаменитый режиссер Хауэл-Экман. Всё происходило примерно так:
— Вот эскизы костюмов, — сказал Экман.
— Ага, — сказал директор, — значит, действие должно происходить весной. Это по части Тедди.
Тут он нажал одну из многочисленных кнопок, и его соединили с кем-то по телефону. «Хелло, на месте ли специалист по весне и лирике?.. Немедленно пошлите Тедди ко мне!»
Молодой человек с восторженным взглядом поспешно вошел в комнату.
— Послушай, Тедди, вот сценарий. Посмотри, нельзя ли немного оживить его весенними мотивчиками. Нет, нет. Тедди, сегодня у нас нет времени для разговоров. Возьми рукопись с собой. Это великолепное произведение, на которое мы возлагаем большие надежды, и у нас сейчас чрезвычайно важная беседа со сценаристом. Ты должен это понять, Тедди! И… никаких вопросов! Привет… Привет…
Молодой человек ушел.
Шеф обратился ко мне:
— Так вот, мистер Лоусон, загляните послезавтра! Был очень рад вас видеть!
Пансион «Понсонби», 4 ноября 1952 г.
Те же действующие лица, что и в прошлый раз.
Шеф. Да, мистер Лоусон, нашему специалисту по весне и лирике пришлось вымарать фигуру любовника в первой части, но у нас ведь есть еще любовник, и ему-то мы дадим развернуться как следует. Зато Тедди создал несколько прелестных сцен: компания неискушенных юношей и девушек отправляется в лодках на прогулку по озеру. Тедди восхищен вашей рукописью и шлет вам наилучшие пожелания. Но, мистер Лоусон, в вашем сценарии имеется и юмористическая линия. Она только подчеркивает драматизм сюжета и придает ему особую пикантность. Не правда ли, Хауэл-Экман?.. Ох, да, я и забыл, ведь он же умер на прошлой неделе. Хм, хм… может быть, тогда Джимми.
Шеф решительно нажал одну из кнопок:
— Пришлите сюда Джимми, только поскорей!
Джимми вошел.
— Послушай, Джимми, здесь есть кое-что для тебя. Надо бы слегка начинить этот сценарий современным жаргоном. Ну, знаешь, несколько модных оборотов речи… Вот и всё, что я хотел сказать. Ты же видишь, у меня важная беседа с автором. Привет… привет… Итак, мистер Лоусон, будьте столь любезны прийти на следующей неделе, я сейчас как раз ожидаю…
Пансион «Понсонби», следующая неделя.
Действующие лица те же.
Шеф. Это будет замечательный фильм, мистер Лоусон. Джимми нашпиговал ваш сценарий целым фейерверком превосходных острот. Он в восхищении от вашей рукописи и шлет вам свои поздравления и наилучшие пожелания. Но Джимми считает, что люди бывают более остроумны осенью, когда сезон только начинается. Поэтому придется художнику создать новые костюмы. Кроме того, нужно будет заменить убийцу авантюристом, меняющим жен, а бриллианты — женщинами. Всё остальное мы сохраним в таком виде, как у вас. Да, кстати, этих двух сестер Джимми превратил в двух братьев. Он считает, что братья всегда говорят более забавные вещи, нежели сёстры. Не правда ли, мистер Лоусон? Кстати, в вашем произведении красной нитью проходит сатирическая тема, которую надо усилить. Это как раз придется по вкусу интеллектуальной части публики.
Попросите мистера Лепса!..
Послушайте, мистер Лепс, просмотрите эту рукопись и — за дело! И перестаньте хоть ненадолго лакать это дешевое виски. Нет, нет, не изводите меня. Ведь вы же видите… Итак, мистер Лоусон…
Следующая неделя.
Шеф. Я должен вас поздравить, мистер Лоусон. Сценарий ваш превосходен! Мистер Лепс шлет вам самые горячие поздравления. Только, видите ли, мы решили заменить отца семейства стареющим скупым дядюшкой. Он влюблен в свою юную племянницу, но у нее слишком холодная натура. Тем самым мы приближаем сценарий к традициям Бернарда Шоу. Мать мы заменим жизнерадостной экономкой, которая восполнит недостаток темперамента у племянницы. Это будет совершенно новый образ. А теперь пригласим сюда Гюльсмеда. Вы, должно быть, его знаете. Это один из самых способных наших сотрудников…
Вот, старина, возьмите этот сценарий, пробегите диалоги и всё в целом. На следующей неделе рукопись должна быть здесь… Нет, нет, неужели вы думаете, у меня есть время учить вас, что надо делать с рукописью? Что? Аванс? Никаких авансов! Вы все, видно, хотите пустить меня по миру. Итак, мистер Лоусон…
Следующая неделя.
Вчера я наконец увидел мой сценарий!..
Биверли Хилз, 10 марта 1953 г.
Вчера состоялась премьера моей жизнерадостной кинокомедии «Фарс в зимнюю ночь». Публика с ума сходила от восторга. И я стал знаменитостью. Я заключил контракт на новый сценарий. Это тоже будет драма. По контракту!..
Биверли Хилз, 12 марта 1956 г.
Вчера состоялась премьера моей девятой кинокомедии, сопровождавшаяся весьма бурной церемонией. Публика бесновалась от восторга, мне пришлось влезть на балюстраду и отвечать на шумные приветствия и овации. Все критики единодушно сравнивают меня с величайшими юмористами Америки. Некоторые даже стали называть меня современным Марком Твеном. Кроличьи фермы, мыловаренные предприятия, фирмы по производству чернил, виски, штопальных ниток, нижнего белья, зубного эликсира — все заключают со мной контракты. Мои секретари улаживают все дела.
Но сегодня я закончил свое настоящее произведение. Я написал пьесу. В течение трех лет я работал над ней каждый день. Всё это время я парил в небесах и низвергался в ад, я страдал, ликовал, вычеркивал, перерабатывал, поправлял, вымарывал целые сцены, писал новые. Я благоговейно падал ниц перед своим безжалостным талантом, который приказывал мне уничтожать многие готовые страницы из-за того, что в них чувствовалась фальшь и не было подлинной жизни. Но всё-таки я написал вещь, которой могу гордиться.
Это нечто новое и оригинальное. Я знаю, что пьеса хороша и вполне может выдержать сравнение с другими современными пьесами, и всё-таки я дрожу, как… но не будем писать образно…
9 часов. В тот же день.
Директор театра «Олимпия» оказался весьма приятным пожилым господином. Он не узнал меня. Для этого случая я надел большие роговые очки и вырядился в одежду садовника.
— Если бы только у меня нашлось время прочесть это, — сказал он извиняющимся тоном. — Да, кстати, вы, надеюсь, понимаете, что о гонораре не может быть и речи, — любезно добавил он.
Во рту у меня пересохло, ноги дрожали. Я не мог вымолвить ни слова. Быть может, он всё-таки прочтет пьесу? Стены маленькой задней комнаты, служившей директору кабинетом, поплыли у меня перед глазами.
— Я посмотрю, что можно будет для вас сделать, — сказал он, немного помолчав. — Идея, правда, не нова, но… э… но, быть может, здесь что-то есть. Загляните через месяц, впрочем — нет, скажем — месяца через полтора… Нет-нет! раньше ничего не выйдет. Мы и так идем вам навстречу. Прощайте, прощайте, и спасибо, что принесли мне почитать вашу рукопись. Осторожнее на лестнице. Эй, послушайте, там не хватает средней ступеньки. Всего доброго, молодой человек!
И вот теперь я, один из самых прославленных людей во всем мире, расхаживаю в нетерпении и жду… жду!.. О, это дьявольское ожидание!
Мой дорогой Улав-Хенрик!
Тысячу раз благодарю за твое милое письмо. Завтра утром я настрочу тебе длинное и подробное послание. А сейчас — царапаю пару слов, прежде чем бежать в контору.
Фильмы в Америке — это одно трюкачество. Но если ты там немного подучишься, а потом приедешь сюда, то станешь настоящим художником.
Вчера я и Мосса были в кино и видели фильм по роману Александра Хьелланна[7], а на прошлой неделе мы смотрели инсценировку Петера Эгге[8]. Вот какие фильмы идут в нашей стране!
А что Америка? Один только бизнес, никакого уважения к искусству.
Тысячу раз обнимаю тебя.
Твоя Рут
P. S. Спешно! Только что звонила Мосса и сказала, что это, наверное, был всё-таки не Хьелланн, потому что, когда она пришла домой и прочитала эту книгу, то там ничего похожего не оказалось. Но ведь на афише стояло «Хьелланн». Это я помню точно. Нужно будет поговорить с Моссой подробнее.
Маленькая женщина
(Перевод Л. Брауде)
Закутывая шею девочки шарфом, она повторяла:
— Запомни хорошенько, что говорит мама. Ты отведешь малютку Ролфа в ясли и, смотри, не задерживайся нигде. Ты не забудешь, Эльсе? Не останавливайся у витрин, не застревай на улице и не болтай с чужими. Помни, ты в ответе за нашего мальчика, Эльсе! Слышишь? Ты за него в ответе!
Эльсе кивнула головой. Она слегка приподняла подбородок, чтобы матери удобнее было завязать шарф. Малютка Ролф стоял рядом и медленно жевал бутерброд с маслом и тертой морковью. До чего же это вкусно!
Повязав шарф и выпрямившись, мать продолжала:
— Когда вернешься домой, ключ будет у Свенсенов. На столике в кухне я оставлю для тебя хлеб и молоко. Обедать будешь вместе со мной, когда я вернусь… Но, Эльсе, ты ведь совсем не слушаешь, что я говорю.
— Нет, слушаю, — бойко ответила Эльсе. А про себя подумала: «Сколько раз можно повторять одно и то же?».
Дети уже собрались выйти за дверь, когда мать добавила:
— Если что понадобится, я буду на складах у Якобсена. Ты не забудешь? Попросишь кого-нибудь позвонить мне по телефону.
Эльсе презрительно фыркнула. Будто она сама не может позвонить по телефону; ведь она учится уже в пятом классе. Вдруг девочка остановилась в дверях, и мать заметила, что на ее гладкий лобик набежали легкие морщины.
— Ну, в чем дело? — спросила мать.
— Склады Якобсена, — медленно ответила Эльсе. — А разве не там стоит этот пароход?
— Какой пароход? — резко и сурово спросила мать. — Кто сказал тебе о пароходе?
— Я слыхала, как об этом говорили вчера на площади и на нашей лестнице. У складов Якобсена стоит большой пароход, и, если только в этот пароход попадет бомба, все дома вокруг могут взлететь на воздух. Потому что он нагружен чем-то таким… Если только они прилетят, — ровным голосом добавила девочка.
Мать закусила губу. Не всегда легко было ответить на вопросы, которые задавала маленькая Эльсе. Девчонка вечно околачивалась возле взрослых на площади или тихонько сидела в уголке, когда к матери приходил кто-нибудь из братьев. Нечего было и думать о том, чтобы заставить ее пойти погулять. Мать пыталась было помешать девочке слушать разговоры взрослых, но безуспешно. Будь что будет! Всё равно она не может защитить ребенка от всех страхов и ужасов, которые ему приходится видеть. Секунду она помедлила с ответом, а потом решила: «Лучше всего разговаривать с Эльсе как со взрослой!» И она сказала:
— Пароход, о котором ты говоришь, разгружают у складов Дрейера; ты ведь знаешь, что это довольно далеко от складов Якобсена, где я нынче работаю. А теперь иди!
Эльсе спросила:
— А отец тоже едет на таком страшном пароходе?
Мать, затаив дыхание, ответила спокойно:
— Я не знаю, Эльсе. Не думаю. Во всяком случае он был на пароходе, который шел в Южную Америку. В тех краях, как ты знаешь, войны нет. Ну, теперь отправляйся, Эльсе, иначе опоздаешь в школу.
Эльсе молча стояла у дверей.
— Ну, а если все дома на набережной рухнут, всё равно склады Якобсена упадут первыми. Они ведь ближе к пароходу, чем наш дом, — задумчиво сказала девочка.
— На всё воля божья, — решительно сказала мать и легонько подтолкнула детей к двери.
Эльсе остановилась на площадке лестницы и сказала, уставившись на передник матери:
— Мам, а мам… А не может бог задержать эти бомбы?
— Ну конечно, может, — ответила мать. Она не знала, что и делать: продолжать разговор или нет.
— Тогда почему же он не задержал бомбу, которая упала на дом Кристиана? — спросила Эльсе.
— Ну, будет тебе спрашивать! Ты можешь опоздать в школу, если не пойдешь сию минуту! И потом бомба всё равно должна куда-нибудь попасть… И не попадает она только потому, что сейчас самолетов над городом не видать. В тот раз самолет залетел сюда по недоразумению, по ошибке, понимаешь?
— Но раз он попал по ошибке, значит, бомба может попасть и в нас, а бог об этом не узнает?
— Не думаю, чтобы в нас попала бомба, — серьезно ответила мать. — Я не думаю этого, Эльсе.
Видно, ответ матери успокоил девочку. Она почувствовала себя гораздо увереннее. В словах матери ощущалась какая-то недоговоренность, но в них теплилась и надежда. Это подсказывал Эльсе ее детский инстинкт. Вокруг не было ничего надежного: шла война. И одно лишь было ясно: бог не в сострянии задержать бомбу. Поэтому слова матери немного утешили девочку.
— Ну, мы побежали, — сказала Эльсе и кивнула матери головой.
Та медленно закрыла дверь.
На улице малютка Ролф, увидев других детей, сразу же запросился к ним. Он и слышать не хотел про ясли.
— Не пойду, — заявил он и начал отчаянно вырывать руку из руки сестры.
Ей пришлось пустить в ход и строгость и ласку. Наконец, с помощью разных обещаний, она уговорила его. Так она делала всегда, чтобы заставить его идти. Иначе дело не обойдется без слёз и на чисто вымытом личике Ролфа появятся серовато-грязные полоски, которые непременно заметит фрёкен из яслей, когда будет принимать мальчика у Эльсе. А девочка хорошо знала, как заботилась мать о том, чтобы ребенок каждое утро являлся в ясли чистеньким и опрятным.
На огромной улице было много народу. Но и витрин там тоже было много. Эльсе всегда любила помечтать, стоя у витрин. По воскресеньям она приходила сюда вместе с подружками и присматривала себе какую-нибудь вещицу, хотя взрослые утверждали, что в витринах ровно ничего интересного нет. Вот уж непонятно, почему они так говорят. Ведь ей никогда не приходилось видеть товаров в витринах больше, чем сейчас. Во всяком случае в них и теперь было всё, что только можно пожелать. И как раз возле одной такой витрины, настоящей сказочной витрины с игрушками и вещицами, о которых можно было только мечтать, она вдруг услыхала страшные слова. Кто-то сказал:
— Мне да не узнать этот звук! Конечно, это они!
Эльсе увидела, что мужчины останавливаются прямо посреди улицы и стоят, закинув головы и глядя вверх. Где-то вдали она услыхала ровное гудение. Оно всё усиливалось и усиливалось. Внезапно в воздухе что-то засвистело и гул самолетов послышался совсем рядом. Он всё нарастал и нарастал, и вдруг прямо над головами людей взревели моторы и в тот же самый миг самолеты взмыли ввысь.
Это были они.
Почти одновременно раздались залпы выстрелов и вой сирен. От этих неприятных воющих звуков кровь стыла в жилах. Девочка боялась этих звуков больше, чем страшного грохота взрывов. Как только смолкал вой сирен, исчезал и страх.
Кто-то сказал:
— Тут не один самолет, вот они… десять… нет, двенадцать… а вот еще два. Пожалуй, лучше всего спрятаться в подъезде.
Не прошло и секунды, как воздух наполнился ревом моторов и грохотом взрывов. Клубы черных облаков появились в чистом прозрачном небе и повисли точно гигантские воздушные шары. Прерывистый вой сирен несся в эфир…
— Они метят в пароход! — воскликнул мальчик. — Они бросают туда бомбы, смотрите…
— В укрытие! — закричал вдруг из подъезда соседнего дома какой-то мужчина, и мальчик, сгорбившись, бросился туда.
Эльсе осталась на улице, у витрины. Вместе с Ролфом она прижалась к стене. Улица сразу опустела. В оконной раме зазвенело стекло. Откуда-то свалился огромный кирпич. Странные барабанящие звуки раздались на крыше напротив, мелкие камешки и песок посыпались из водосточной трубы. Казалось, небо разваливается на куски. Страшный трохот заглушал голос Эльсе, когда она пыталась говорить с малюткой Ролфом. «В укрытие!» Кажется, кто-то сказал, что надо идти в укрытие? Вдруг она заметила, что в окне напротив стоят люди и машут ей руками. У них был такой испуганный вид, что ей стало страшно. Может быть, попытаться перейти улицу? Она сделала шаг вперед. Но пустынная улица ошеломила ее, и она быстро отпрянула назад. Ей чудилось, будто все бомбы, какие только есть на свете, вот-вот упадут на нее. Нет, улицу ей не перейти. Мимо с громким воем промчался автомобиль. Девочка настороженно поглядела ему вслед. «Добраться бы хоть до тех дверей». Еще раз взглянула она на испуганные лица за оконными стеклами. Что-то зазвенело, рассыпавшись по улице, и какой-то длинный, зигзагообразный предмет остался лежать на мостовой, словно живое существо. Девочка не могла оторвать от него глаз. Быстрым движением взяла она на руки Ролфа. В ту же минуту какой-то мужчина с непокрытой головой перебежал улицу и, подхватив детей, бросился с ними к подъезду. Вскоре они были уже в подвале. У стены, подперев руками головы и устремив взгляд прямо перед собой, сидели женщины. Когда грохот слышался совсем близко, они вздрагивали. Засунув руки в карманы, полукругом стояли мужчины. Слегка наклонив головы, они прислушивались к взрывам. Вдруг весь дом задрожал, и один из мужчин, криво усмехнувшись, громко сказал:
— Это совсем недалеко.
Спустя некоторое время тот же голос произнес:
— Это на набережной!
Он называл места попадания бомб, и никто с ним не спорил, хотя все понимали, что говорит он наугад.
— Они метят в пароход, — снова сказал мужчина, а мальчик, сидевший на ящике, подтвердил его слова. Ему уже раз довелось собственными глазами видеть бомбу.
— Ну и штучка, скажу я вам! Огромная, как…
Казалось, что при каждом особенно сильном взрыве лицо мальчика сияло.
— Они метят в пароход, — прошептала Эльсе, внезапно задрожав всем телом. Ведь это был тот самый пароход, который стоял там, у складов… и там… — Мама! — вдруг закричала девочка, и все посмотрели на нее. Малютка Ролф (в его широко открытых глазах застыл немой вопрос) слегка отпрянул назад и заморгал. Эльсе сразу заметила это и тут же услыхала голос матери: «Ты в ответе за нашего мальчика, Эльсе!» Ведь малютка Ролф так тяжело болел! И совсем недавно!
Эльсе хорошо знала, что ему совсем нельзя пугаться. Глаза мальчика следили за тем, как меняется лицо сестры, и он начал успокаиваться. Его плечи слегка подергивались, когда он прижимался к ней, внимательно прислушиваясь к тому, что она ему говорила. Это был обычный разговор взрослого с ребенком. Так всегда разговаривала с Ролфом мать. Но пока девочка ласково уговаривала брата, глаза ее были неподвижно устремлены на стену, словно она ничего не различала перед собой. «Пароход… пароход…» — думала Эльсе. В ту же самую минуту мощный взрыв потряс дом, и куски штукатурки с шумом обрушились на пол. Четверо мужчин быстро присели на корточки, но тут же сконфуженно поднялись и разместились на каких-то ящиках.
— Она разорвалась совсем близко, — хриплым голосом сказал один из них.
Незнакомый мальчик, которого раньше всё это забавляло, теперь забился в уголок.
— Дьявольски плохо жить на этой улице, — решительно заявил один из мужчин. Он вытащил из кармана окурок сигареты, зажег его и несколько раз глубоко затянулся.
Женщины по-прежнему неподвижно сидели у стены. Одна из них непрерывно раскачивалась из стороны в сторону, не произнося ни слова. Какая-то старуха с равнодушным лицом сидела так, словно всё происходящее ни капельки ее не касалось. Она пристально глядела прямо перед собой и что-то медленно жевала.
Лишь только Ролф успокоился, девочку снова забила лихорадка, и она не в состоянии была унять дрожь. Малютка Ролф быстро взглянул на сестру и уже не спускал с нее своих внимательных глаз. Ей некуда было укрыться от его взгляда, но она не в силах была ни улыбнуться, ни согнать выражение страха со своего лица. Она знала, что страх прочно притаился в ее глазах и пугал малыша. Он смотрел на нее, как затравленный зверек. Вдруг его губы уродливо искривились, а руки и ноги задрожали. Первый приступ эпилепсии случился с ним несколько месяцев тому назад. Эльсе бросилась перед мальчиком на колени и прижала его к себе. Ее руки исступленно гладили волосы брата. Эльсе так судорожно прижимала Ролфа к себе, что у него захватило дыхание. Она целовала и ласкала его, она хотела закрыть своим телом больного ребенка, спрятать его в своих объятиях. Девочке чудилось, что руки ее превратились в два больших крыла, которые могут стать надежным убежищем для Ролфа и укрыть его от шума и грохота, доносившихся с улицы… Руки Эльсе без конца гладили ребенка. Было видно, что она борется с собой. Действительно, она старалась думать только о мальчике, а не о пароходе. «Мама!» Ее глубоко запавшие голубые глаза, с большими черными зрачками, казались неестественно расширенными. Большой рот с узкими красными губами был широко открыт, обнажая мелкие белые зубы. Ее лицо искажала гримаса безысходного отчаяния, но голос оставался мягким и звучным, словно сама она была совершенно спокойна… Они метили в пароход… В сознании девочки всё кружилось в каком-то вихре, весь мир рушился…
Старуха, сидевшая в углу, сказала ровным голосом:
— Заберите у нее ребенка, ей с ним не справиться!
Какая-то женщина поднялась с места и, молча взяв у Эльсе малютку Ролфа, посадила его к себе на колени. На какое-то мгновение Эльсе почувствовала, что руки ее опустели. Она оглянулась и увидела, что мальчик в надежных руках. Тогда она углубилась в свои собственные мысли. Теперь она снова могла стать самой собой, быть всего-навсего Эльсе, которая ходила в школу, в пятый класс, и знала, что мама ее сейчас на берегу, у складов Якобсена, где они бомбили пароход. А из-за этого парохода все дома могли взлететь на воздух. Она была Эльсе, которая знала, что с матерью ее могло случиться то же самое, что и с отцом Кристиана, а он…
Девочка медленно опустилась на левое колено и так и осталась стоять, скрючившись и застыв на месте. Голова ее и плечи дрожали, оцепенелый взгляд был устремлен в потолок. Губы то открывались, то закрывались. Вдруг совсем медленно откинулась она назад и вскрикнула. Один лишь единственный раз из груди ее вырвался протяжный и резкий крик.
Но в тот же миг она услыхала вопль малютки Ролфа. Девочка словно преобразилась. В ее взгляде появилась какая-то настороженность, словно она очнулась после тяжелого сна. Она плотно сомкнула губы и машинально протянула вперед руки, а Ролф соскользнул с коленей чужой женщины, бросился в объятия сестры и прижался головой к ее худенькому телу. Мальчик содрогался от рыданий. Один из мужчин направился было к детям, чтобы взять ребенка у Эльсе, но зрелище, которое он увидел, остановило его. Перед ним была девочка со взглядом затравленного зверька. Медленно приходила она в себя, пытаясь овладеть своим голосом и лицом. Хотя ее напускное спокойствие не могло ввести в заблуждение смотревших на нее взрослых, но оно постепенно утешало и успокаивало мальчика. Звук ее ровного тихого голоса был несколько хриплым и удивительно глубоким. Мальчик откинулся назад, чтобы заглянуть в глаза сестры, прочитать в них правду. И, не отрывая взгляда от ребенка, Эльсе переборола себя. Нечеловеческим усилием собрав всё свое мужество, она улыбнулась мальчику и, захлопав в ладоши, сказала:
— Слышишь, как громко звучат эти глупые хлопки, Ролф, слышишь, как бьют в барабаны все эти глупые мальчишки… бом… бом-бом… ха-ха-ха… («Ты в ответе за нашего мальчика, Эльсе…») Слышишь, как все… («Пароход… пароход…») бом-бом… хлоп по носу маленького мальчика… раз-два — бом-бом… все попали куда надо… одна в щечку, одна в лоб, одна в носик, а другая в ротик! («Пароход… пароход… мама…» — звенело у нее в ушах.) Снова бом по носику! — говорила она, играя с мальчиком.
Ролф поднял ручку и, весело смеясь, плотно прижал указательный пальчик к носу сестры.
— Бом, — сказал он. — Бом, — еще раз повторил он.
Люди в погребе, потрясенные, смотрели на эту картину, и удивительный свет зажигался в их взглядах. Они уже словно не слышали гула множества самолетов, не слышали разрывов бомб, падавших на набережную, где-то совсем близко от них. Все были захвачены игрой не на жизнь, а на смерть, которую вела эта девочка с лицом страдающего ребенка и с удивительной выдержкой взрослого человека.
Наконец бомбардировка окончилась. Самолеты улетели. Все подняли головы, прислушиваясь. Раздалось несколько отдаленных выстрелов. Видно, самолеты изменили свой курс. Какой-то мужчина поднялся и шумно вздохнул.
— Они улетели, — сказал он, погладив рукой подбородок.
— Куда ты пойдешь, детка? — спросила старуха и поднялась, с трудом опираясь на палку.
— Мне надо было отвести Ролфа в ясли, — дрожащим голосом произнесла Эльсе, — но… — Она запнулась. Она боялась, что, если скажет этим людям правду, ей помешают. Мысли этих людей были написаны на их лицах. Они обменялись взглядами. Как видно, кто-то из женщин знал Эльсе.
Ролф хныкал, но она тащила его за собой вверх по лестнице. На улице толпился народ. Густой, удушливый дым поднимался к небу. Выйдя из подъезда, она увидела, что горит где-то совсем близко от складов. Наискосок через улицу выстроился кордон полиции. Маленький домик, в котором она жила с матерью и Ролфом, выглядел как-то странно. Он покосился набок. В нем не было ни одного стекла. Дверь висела на петлях и болталась из стороны в сторону. Видно, бомбы не попали всё-таки в пароход. Ведь все остальные дома тоже были целы!
Она медленно обернулась назад, и глаза ее встретились с глазами матери, бежавшей по улице в рабочем комбинезоне.
— Бомба не попала в пароход? — спросила Эльсе. На ее лице застыло какое-то недоуменное выражение. Казалось, ее мучают всё те же неразрешимые вопросы.
— Нет, на этот раз не попала, — дрожащим голосом ответила мать, привлекая к себе детей.
Чемпион
(Перевод Ф. Золотаревской)
Председатель спортивного клуба, встретив на трамвайной остановке адвоката Иверсена, сказал ему:
— Нынешним летом у твоего парня есть шанс стать чемпионом в вольном заплыве на четыреста метров.
Тут подошел трамвай, и они расстались.
Иверсен рассказал об этом разговоре, когда все сидели за обедом. Лейф и Йесси страшно обрадовались, а Йорген слегка покраснел. Фру Иверсен пришла в некоторое замешательство и с любопытством взглянула на своего мальчика, словно видела его впервые. Йорген посмотрел на сидевшего напротив отца и молча кивнул ему. Они понимали друг друга. Когда-то Иверсен тоже был пловцом, но, как он утверждал, недостаточная тренировка и всякие невзгоды помешали ему добиться больших успехов. Тем более обрадовался он, когда обнаружил у Йоргена редкие способности к плаванию. Старший сын, Лейф, не чувствовал призвания к спорту, и вряд ли смог бы достойно выступить в каком-либо спортивном соревновании. Да, Иверсен гордился своим Йоргеном; он чувствовал, что сын его сейчас в отличной форме.
— Ах, этот спорт! — вздохнула фру Иверсен. — Боюсь, мой мальчик, что теперь тебе будет не до серьезных дел.
Вечером сын с отцом сидели в гостиной и обсуждали новые перспективы, открывшиеся перед Йоргеном. Правда, его имя еще совершенно неизвестно в спортивном мире, но тем грандиознее будет сенсация, если он оставит далеко позади всех этих знаменитых самоуверенных пловцов из Осло. Глаза старого Иверсена сверкали, Йорген сжимал кулаки.
Отец говорил не переставая и нервно протирал пенсне. Йорген ни в коем случае не должен упустить этот шанс. Сейчас нужно напрячь все силы и думать только об одном. Ведь ясно, что за нынешний сезон Йорген сделал просто невероятные успехи. Такие случаи бывают довольно часто, но Иверсену не раз приходилось наблюдать, как спортсмены, почив на лаврах, сами задерживают свое дальнейшее развитие. Если Йорген верит своему отцу, то он должен понять, что теперь нужно использовать всю свою энергию и непрестанно совершенствовать свой необыкновенный дар пловца. Ведь именно этим летом в его развитии происходит перелом: он уже стал юношей, но еще не утратил мальчишеской гибкости, и кости его еще податливы. Именно в этом году он окончательно сформируется как пловец. Адвокат Иверсен сильно разгорячился. Йорген сидел, слегка оглушенный потоком его слов, потом кивнул:
— Положись на меня, отец… Я своего добьюсь! — Это звучало, как сыновняя клятва, и отец крепко пожал Йоргену руку.
На следующий день, в бассейне, Йорген тоже почувствовал, что обстановка изменилась. Все окружили его и заговорили разом, перебивая друг друга:
— Гюббен не приедет, он болен; у тебя есть шанс оставить позади себя Пеммера, Якобсена и Свиндала.
Йорген вдруг рассердился, хотя виду не показал. Неужто друзья не понимают, что он может победить кого захочет. Пусть этот чертов Гюббен приезжает! Но в глубине души Йоргену всё-таки не хотелось этого. Ему и так предстояла нелегкая борьба. Председатель клуба решительно сказал:
— Мы исключаем тебя из эстафеты. Правда, ты принес бы нам призовое место; ну да ладно, шут с ним. Ты будешь участвовать только в заплыве на четыреста метров. Стало быть, у тебя остается три недели на тренировку. Этого вполне достаточно.
Сам Йорген всё время молчал. Ему не давали и слова сказать, таскали его с места на место, и повсюду за ним двигалась толпа.
Иверсен-отец с секундомером в руках стоял поодаль, беседуя со старшими спортсменами. Он сообщал всем, что мальчик показывает отличное время. Они только что вернулись с дачи, где адвокат сам тренировал сына. Мальчик делает удивительные успехи! Иверсен сел на своего любимого конька и заговорил о том, что в переходном возрасте, когда кости еще податливы, а мышцы развиваются необычайно быстро, спортсмен может делать чудеса!
Все слушали Иверсена в почтительном молчании. И старик чувствовал, что теперь он наконец стал первым среди спортсменов, к чему безуспешно стремился тридцать лет назад.
Вдруг беседа прервалась, и все оглянулись. Из кабины для переодевания вышел Йорген. Он был высок, строен и широкоплеч. Его бархатистое загорелое тело вовсе не казалось сухопарым. Напротив, скорее он был чуть полноват. Сопровождаемый множеством взглядов, Йорген шел к стартовой колодке. Он чувствовал на себе эти взгляды; ему было неловко и в то же время приятно. Тренер не отставал от него ни на шаг. Они остановились у старта и начали совещаться вполголоса. Неподалеку от них сразу же собралась толпа. Все молча стояли и прислушивались к их разговору, хотя не могли разобрать ни слова. Йорген почувствовал и это. Он скосил глаза в сторону собравшихся спортсменов, но изо всех сил старался не дать им заметить, что их внимание приятно ему. Он понимал: то, что происходит теперь, бесконечно значительнее тех маленьких побед, которые он одерживал в соревнованиях со своими сверстниками. Теперь он возведен в ранг первых спортсменов страны. Он кивал, едва соображая, что ему говорит тренер.
— Ну, прыгай! — сказал тот и слегка отошел в сторону, оберегаясь от водяных брызг. Йорген оттолкнулся от стартовой колодки и, описав в воздухе дугу, прыгнул в бассейн. Затем он вынырнул на поверхность, отряхнул воду с волос и поплыл. Ему предстояло сегодня проплыть четыре двухсотметровки. И хотя он знал, что с дыханием у него всё в порядке, всё же ему нужно было плыть так, чтобы к концу дистанции силы у него неуклонно прибавлялись и чтобы последние двести метров он прошел быстрее, чем первые. Кроме того, ему нужно было всё время менять ритм. Тренер Йоргена когда-то бывал в Париже, и там ему посчастливилось наблюдать тактику знаменитого Тари. Правда, с тех пор прошло много лет, но такие вещи не забываются. Теперь Тренер обучал этой тактике своего воспитанника.
Друзьям из клуба, знакомым, соседям — всем хотелось завладеть вниманием молодого чемпиона. Иорген чувствовал себя в дружбе со всем миром.
Наконец, поздним вечером, он закончил тренировку. Отец беседовал с директором верфи, покуривая дорогую директорскую сигару. По другую сторону от Иверсена стоял преподаватель гимнастики и внимательно слушал объяснения адвоката о тренировке молодых спортсменов, находя много интересного в теории Иверсена, которую тот вынашивал уже много лет.
В школе мальчики толпились вокруг Йоргена, желая вытянуть из него что-либо интересное. Учителя, со своей стороны, также прилагали все усилия к тому, чтобы вытянуть из молодого пловца хоть какие-нибудь знания, но с еще меньшим успехом, чем прежде. Класс чуть не запрыгал от восторга, когда Йорген как следует отбрил учителя, в ответ на его довольно резкую просьбу быть прилежнее на уроках. Мать озабоченно поглядывала на сына. Ей очень хотелось, чтобы он держался подальше от этой шумихи, но в то же время она не меньше Йоргена волновалась, когда думала о приближении решающего дня. Ей необходимо было самой разобраться во всем. Но Иверсен всякий раз ставил ее на место: «В этом деле, мать, ты должна целиком препоручить мальчика мне!»
Что-то омрачало радость матери, но всё-таки лицо ее невольно озарялось гордой улыбкой, когда другие родители говорили о ее сыне.
А в бассейне с каждым днем становилось всё оживленнее. Знаменитые чемпионы, завоевавшие себе славу в других видах спорта, приходили взглянуть на Йоргена. Они не очень-то разбирались в искусстве плавания, но Йорген всё равно был рад познакомиться с ними. В то же время ему часто приходило в голову, что он вполне мог бы обойтись без знакомства со многими из этих болтунов. Они начинали ему надоедать. Столько людей жаждет поговорить с ним! Не может же он разорваться! Он стал избегать назойливых поклонников; иногда он прерывал их на полуслове и уходил, а иногда попросту заявлял, что не желает с ними разговаривать. Далеко не все были ему по душе, и он вовсе не намерен был делать вид, что ему приятно с ними беседовать.
Директор верфи теперь довольно часто удостаивал его беседой, а преподаватель гимнастики непременно стоял тут же и внимательно прислушивался. Йорген всегда бывал окружен толпой поклонников, и в последнее время у него на многое появились свои взгляды, которые он весьма авторитетно высказывал.
— Ты что это делаешь? — спросил он однажды перед сном своего брата Лейфа.
Тот повернул настольную лампу так, чтобы свет падал на рисунок.
— Недурно… — лениво протянул Йорген и повалился на кровать. — Сегодня я чертовски устал, Лейф, — сказал он, потягиваясь так, что пружины под ним заскрипели.
— Кстати, Лейф, — продолжал Йорген, — отец, кажется, обещал купить тебе эту новомодную летнюю шляпу. Они дьявольски дорогие. Но, видишь ли, мне такая шляпа абсолютно необходима к соревнованиям. Понимаешь, эти знаменитые пловцы чертовски шикарно одеваются… А ты ведь можешь обойтись…
— Да, да, конечно, всё в порядке, — ответил Лейф. — Как ты думаешь, понравится этот рисунок редактору?
— Безусловно, — ответил Йорген и сразу же уснул. Во сне он изредка вздрагивал и на его худощавом лице появлялась легкая гримаса.
В последние дни перед соревнованием Йорген каждый день читал в газетах свое имя и видел свои портреты. Дело пахло сенсацией. Ведь лето — мертвый сезон для прессы. И вот газеты стали на всех страницах трубить о своем юном земляке: «Величайшая надежда спорта!», «Мальчик, который будет защищать честь родного города», «Есть ли у Йоргена Иверсена какие-либо шансы?»; «В последние дни Йорген Иверсен показывает баснословное время!», «Сегодня Йорген Иверсен немного простужен, но доктор считает, что тренировку можно продолжать без особого риска»; «Сегодня Иверсен уже совсем здоров!..», «Йорген Иверсен — стройный и крепкий юноша, рост — 1,82, вес в настоящее время 72 килограмма; Иверсен в отличной спортивной форме!»
Руководителем соревнований был назначен владелец фабрики, хотя никто не знал, приходилось ли ему вообще когда-нибудь заниматься спортом. Он, вместе с другими отцами города, ожидал на вокзале многочисленных гостей. Юный Йорген чувствовал себя страшным щеголем в новых узких брюках и модной летней шляпе. Он привлекал всеобщее внимание. Но Йорген уже привык к этому. Его лишь слегка волновала встреча со знаменитыми спортсменами из столицы. Однако, когда они приехали, Йорген был просто очарован ими. Они выскочили из вагона и стали звать его. «Где Йорген?» — хором кричали они, не обращая внимания на протянутые к ним для приветствия руки. Они пробрались к нему, расталкивая окружающих. Столичные пловцы вели себя так бесцеремонно, что невольно разбудили в Йоргене остатки прежней застенчивости. Впрочем, она быстро исчезла, уступив место чувству гордости. И он пожимал чьи-то руки, отвечал на множество вопросов, позволял разглядывать себя, точно какую-то диковину. Знаменитые пловцы сразу же потащили его с собой; и не успели они дойти до выхода из перрона, как Йорген уже чувствовал себя с ними на равной ноге. Они возвысили его до себя, приняли в свою касту, и только теперь он с легким удивлением увидел, какое высокое положение занимают эти прославленные пловцы и с какой непринужденностью они это подчеркивают. И он начал, как мог, подражать им. Город казался таким маленьким перед лицом этих приезжих знаменитостей! Йорген почувствовал стыд. Для них были заказаны номера в самом шикарном отеле, и Йорген, который никогда раньше там не бывал, сияющими глазами оглядывал всё это великолепие. Когда он возвращался домой к обеду, то чувствовал себя так, словно побывал в другом мире. Старая лестница показалась ему узкой и до тошноты знакомой, а прихожая с висящей на крюках одеждой и неизменным запахом кухни — такой убогой и надоевшей! И он снова почувствовал стыд.
Когда он вошел в квартиру, то невольно стал опять сравнивать. Маленькая столовая была так не похожа на огромные светлые залы, длинные коридоры с комнатами по обеим сторонам, салоны с пальмами и каминами. А тот огромный ресторан с белоснежными скатертями, звон вилок, ножей, бокалов, пестрый шум, кельнеры, скользящие от столика к столику, богатые ресторанные завсегдатаи, которые небрежно вытаскивают из бумажника крупные банкноты и швыряют их на поднос… Точно так же поступали и те, которые сидели вместе с Йоргеном. Спортивные знаменитости расплачивались и глазом не моргнув… Да, Йорген попал во дворец, был очарован его роскошью, и теперь никак не мог избавиться от наваждения. Эти хохочущие и непринужденно болтающие пловцы, известные всей Норвегии, и даже за ее пределами, казались ему братьями, отпрысками одной и той же благородной расы. О, что за великолепное чувство, когда тебя повсюду окружают восторженные толпы поклонников и все твои желания исполняются словно по мановению волшебной палочки. А ты ходишь себе, спрятав руки в карманы, и изредка цедишь сквозь зубы одно-два слова. Ты радуешь людей уже тем, что ты есть «ты»! Вот каковы они, эти герои, которые скоро на состязаниях заставят до хрипоты орать своих поклонников. А ведь отголоски этих восторженных криков разносятся далеко-далеко за пределами стадиона, подобно тому, как расходятся круги от брошенного в воду камня. И знаменитым спортсменам останется только лететь на крыльях шумной славы, привлекающей к ним все взоры. Теперь они долгое время могут оставаться «великими», ничего не делая для того, чтобы доказать свое право на это звание.
Задумчиво поглощая обед, Йорген думал о том, какое это, должно быть, блаженство — ленивое упоение своей славой. Но теперь ему приходилось работать более напряженно, чем кому бы то ни было, чтобы попасть в избранный круг этих людей. В этот мир нужно попасть во что бы то ни стало, и Йорген чувствовал, что если он станет чемпионом, то будет на верном пути к этому миру, который околдовал его и сделался целью в его спортивной борьбе…
В воскресенье после полудня бассейн, в котором проводились состязания, был переполнен. Трибуны кишмя кишели народом.
Йорген стоял в своей комнате и делал дыхательные упражнения. Он чувствовал тяжесть в груди. Каждый вздох давался с трудом и причинял боль. Ему никак не удавалось набрать полные легкие воздуха. Тренер быстро взглянул на него. Двое помощников стали растирать ему руки, ноги и грудь. Он выглядел необыкновенно бледным. Никто не произносил ни слова. Вдруг за перегородкой раздались слова:
— Ты вырвешься вперед, Якобсен, а потом ты, Свиндал. Тогда парень, как пить дать, погонится за вами и надорвет силенки. А ты, Пеммер, плыви поспокойнее. Ясно?
Тренер Йоргена приложил палец к губам и поманил всех к выходу. Йорген и массажисты вышли вслед за ним. Последнее, что Йорген услышал, были слова тренера:
— Первые триста метров плыви своим обычным ходом; так, как ты привык. Запомни это, ради самого дьявола… А затем жми вовсю… Но первые триста метров… триста метров… слышишь, Йорген, первые триста…
Эти слова всё еще звучали в его ушах, когда великие пловцы вышли на старт. И тут Йорген почувствовал огромную разницу между ними и собою. Знаменитости держали себя так, словно всё происходящее не имело для них особого значения. По крайней мере, так можно было подумать, судя по их внешнему виду. А сам Йорген чувствовал, что тело его с каждой секундой претерпевает какие-то изменения, словно некие таинственные силы стремятся во что бы то ни стала отнять у него упругость, силу, энергию и даже волю к победе.
Он стиснул зубы и напряженно улыбнулся Пеммеру, который подошел к нему и, обняв за плечи, стал что-то доверительно шептать на ухо. В тот же миг эта сцена была запечатлена фотографами.
«Первые триста метров, первые триста метров…» — звучало в ушах Йоргена, и он вздрогнул, услышав обращенный к нему знакомый голос:
— Помни, Йорген… первые три… помни!
Он неустанно твердил про себя эти слова. На эту тактику, которой обучил его тренер, можно было свалить всю вину в случае неудачи. А он ожидал самого худшего исхода.
Йорген взошел на стартовую колодку. Наступила тишина. Десять тел напряглись, готовые к прыжку. Никто больше не улыбался. Затем послышалась бесстрастная команда стартера: «Пошли!» — и тела пловцов врезались в воду, словно выпущенные из лука стрелы.
Йорген почувствовал, как всё в нем рванулось вперед; ему казалось, что силы его неисчерпаемы и их с избытком хватит на всю дистанцию до самого последнего метра. Но его удерживал этот певучий голос: «Первые триста метров!» Сделав несколько беспокойных взмахов, Йорген установил определенный ритм и замедлил движение. На первом же повороте он испытал необычайное потрясение. Все участники соревнования ушли от него вперед на добрых пять метров. Он даже немного приподнялся в воде, но в ту же минуту услыхал знакомый голос: «Первые триста метров!».
Он оттолкнулся от стенки и продолжал плыть, больше не глядя на других пловцов, хотя его то и дело подмывало броситься за ними вдогонку. Он продолжал беспрестанно повторять: «Первые триста… первые триста…»
На следующем повороте расстояние между ним и остальными пловцами увеличилось еще больше. Но он, стиснув зубы, продолжал бормотать свое заклинание: «Первые триста метров». Он никогда и не подозревал, каких усилий стоит человеку обуздать себя и сдерживать до поры свои силы. Он вспотел от напряжения. Но на двухсотом метре Йорген заметил, что расстояние уменьшается, и внезапно его пронзила новая, еще не испытанная радость — радость выжидания. Он плыл позади всех, как тигр, крадущийся в ночи за своей добычей. Вдруг он почувствовал, что силы его еще совершенно не израсходованы. Но самое замечательное было то, что пловцы впереди ничего об этом не знали. Возможно, и у них тоже оставались про запас силы. Что верно, то верно. Но плыли-то они вслепую. Они гнали изо всех сил, ничего другого им не оставалось. Пловцы не знали ничего о своих соперниках. Было ли это пределом, или у них в запасе какой-нибудь сюрприз? Пожалуй, самое верное — плыть с напряжением всех сил.
Йорген передохнул немного и стал настигать соперников. Теперь нужно было, в буквальном смысле слова, наступать им на пятки. И в ту же минуту настойчивый голос исчез. Всё-таки Йорген справился с собою и не дал вовлечь себя в эту сумасшедшую гонку.
Соперники добились лишь того, что Пеммер плыл медленнее, на безопасном расстоянии от двух других. Он поискал глазами Йоргена, и вдруг обнаружил, что юноша находится где-то далеко позади него. Это раздосадовало Пеммера, сбило его с толку, и он старался не спускать с Йоргена глаз. Кроме того, Якобсен и Свиндал жали изо всех сил и ушли слишком далеко вперед, так что Пеммеру самое время было подумать и о самом себе.
Он бросился догонять их, и вскоре все трое поплыли рядом. При каждом повороте они в недоумении оглядывались на Йоргена. Потом они плюнули на всякую тактику и стали плыть как обычно, вступив в состязание друг с другом.
И тут Йорген начал постепенно ускорять темп.
Вначале те болельщики, который до соревнований восхищались Йоргеном, видя, что их фаворит отстает, сконфуженно приумолкли. Некоторые, совершенно разочаровавшись, стали пускать ему вдогонку всякие шуточки, вроде: «что-то заело», «машина не сработала», «пропеллер не в порядке», и многое другое. Но, когда пловцы пошли на последнюю стометровку, стало ясно: Йорген оставит всех позади.
И тогда над трибунами воцарилась мертвая тишина. Сотни глаз не отрываясь следили за Йоргеном. И вдруг кто-то не выдержал и разразился восторженным воплем. Это послужило сигналом. Поднялась целая буря криков. Прислушиваясь к ней, Йорген поглядел вперед и увидел перед собой ноги Свиндала. На повороте мимо него промелькнул Пеммер, который уже отталкивался от стены.
Наступил решающий момент, Йорген коснулся рукой стены и, перевернувшись словно дельфин, с силой оттолкнулся от нее. Теперь начинается самый напряженный момент, предстоит опаснейшая борьба. Сейчас дорога каждая секунда!
Он стрелою ринулся в воду, вся его сила и энергия передались рукам, и вдруг он резко изменил темп, — борьба началась!
Сквозь глухой шум в ушах он слышал крики, в голове у него стучало, он увидел руки Пеммера совсем близко от своих, заглянул на минуту в его удаляющееся назад лицо, поднял голову, чтобы набрать воздуха в легкие. Затем он снова опустил голову, делая гигантские взмахи, напрягая последние силы, чтобы коснуться стартовой колодки раньше Пеммера. Вода пенилась вокруг них, он задержал дыхание, руки погрузились в воду, ноги подняли целый фонтан брызг. Всё его тело дрожало от необычайного напряжения мышц, легких и сердца, и словно издалека он слышал рев тысячи глоток.
Тут он положил руку на край старта и огляделся. Пеммер, с побагровевшим лицом, тяжело дыша, настигал его. Они вопросительно взглянули друг на друга и обернулись к судье и хронометражистам. Они слышали, как те что-то говорили друг другу, но ничего не могли разобрать. Наконец поднялся главный судья, с бумагами в руках. Он стал читать: «Победителем состязания и чемпионом Норвегии в вольном заплыве на четыреста метров признан…» Что это? Почему пауза? Йоргену казалось, что она длится вечно.
И вот прозвучали слова:
— Йорген Иверсен…
Остальное потонуло в реве, и Пеммер протянул Йоргену руку.
— Что такое? — почти закричал он. — Новый рекорд? Черт возьми! Руку, приятель! Ты обогнал меня… Ах ты…
Они оба засмеялись.
Йорген медленно поплыл к лесенке. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы не расплакаться. Тотчас же фотографы столичной прессы встали перед ним стеной. Отец пожал ему руку. Это мгновение было заснято: «Старый заслуженный пловец со своим сыном».
— Недурно сработано, Йорген, — сказал адвокат Иверсен слегка дрожащим голосом. Он был бледен, лицо его блестело, волосы слиплись от пота.
Какой-то незнакомый человек, вся фигура которого внушала уважение, пожал руку Йоргена и обратился к его отцу:
— Через несколько лет парень будет чемпионом мира!
В сотнях устремленных на него глаз Йорген видел обожание, раболепный восторг, и знал: что бы он теперь ни сделал — глупое, легкомысленное или умное, всё равно, — эти же сотни глаз будут с восторгом смотреть на него, восхищенные улыбки будут сопровождать каждое его слово, только бы он оставался их любимым героем. Здесь, в этом бассейне, сила, энергия, воля подвергались такому нечеловеческому испытанию, что победители покоряли все сердца.
В голосах на трибунах, в громкоговорителе, в словах судей он услышал нечто новое; это новое возвышало его над другими. Он, Йорген, — избранник, чемпион, первый среди людей! И тут ему стало казаться, что стены бассейна раздвинулись и он увидел у своих ног весь мир!
Небылицы старого шкипера
(Перевод Л. Брауде)
В этот рождественский вечер старый Эллерхюсен был в большом ударе, и собравшиеся гости, развесив уши, слушали этого мастера на всякие небылицы. Борода старика воинственно торчала, а пенсне то и дело сваливалось с красного, толстого, веснушчатого носа. Он с такой силой ударял своими огромными кулачищами по столу, что подпрыгивали стаканы.
— Молодым еще парнем ходил я в море вместе с капитаном Балле, — начал свой рассказ Эллерхюсен, и от звуков его могучего голоса зазвенела стеклянная люстра. — Был он дьявольски знаменитый пьяница и гуляка, считавший делом чести моряка никогда не крепить паруса. Но так как он обычно бывал пьян как стелька и не в состоянии был поднять голову, чтобы взглянуть на мачты, команда тихонько подкрадывалась к фок-мачте и тайком крепила паруса. Ко всему прочему, водилась за ним такая непростительная привычка: любил он биться об заклад. Всё равно, на что угодно и с кем угодно! И водилась за этой свиньей еще более скверная привычка: он не выносил проигрыша! Словом, куда ни кинь, капитан Балле был парень что надо!
Однажды стояли мы в Бергене, и он побился об заклад с капитаном Сюдо, что первым придет в Нос-Шилдз, куда оба они как раз держали курс.
Из Вогена мы вышли на всех парусах. С молниеносной быстротой рванулись вперед, оборвав швартовы, чтобы сэкономить несколько секунд. Точно резвые жеребята, миновали мы фьорд у берегов Бергена. Оба корабля были быстроходными клипперами, не раз ставившими рекорды в разных уголках земного шара. И здорово же они были оснащены, черт побери!
Бок о бок миновали мы форт на мысу Сёнре-Кварвен и с такой бешеной скоростью пересекали Ельте-фьорд, что волны то и дело окатывали палубы наших кораблей. Мы шли совсем близко друг от друга, и по запахам из камбузов легко можно было догадаться, что готовят на обед у соседа. И вот здесь в шхерах, Сюдо сел на мель только потому, что ему хотелось выиграть полметра расстояния. С торжествующим «ура!» мы проскользнули мимо него, а Балле с выражением величайшего презрения на физиономии вовсю дудел в боцманский свисток… И вот поплыли мы к югу. Ветер пел в парусах, а солнце золотило горизонт, отражаясь и сверкая в пенистых волнах, которые весело играли, пытаясь взобраться на носовые украшения корабля и разбиваясь о мощные бёдра русалок. Эти русалки были единственным предметом любви команды во время дальних переходов. Всё вокруг было залито солнцем. Мы были в лучезарном настроении, а шкипер подогревал себя вдобавок виски с содовой. Он просидел целый день, придумывая язвительные колкости по адресу одного-единственного лица: капитана Сюдо. Дело кончилось тем, что Балле допился до белых слонов, которые будто бы хотели пробраться на корабль через иллюминаторы. И тогда мы заковали его в кандалы.
Но тут начался шторм. И уж это был, доложу я вам, шторм! Сначала наступила какая-то странная тишина. На юге появилась совсем маленькая тучка. Казалось, будто кто-то гонит ее оттуда на север. Не успели мы опомниться, и уже стало темно, как в мешке. Боже, помилуй нас!
Море и небо слились воедино. Тогда вахтенный вытащил молитвенник и стал молиться о спасении мореплавателей, терпящих бедствие на море.
Со всей ответственностью я заявляю и берусь доказать, что наш шторм был всем штормам шторм. Но — хотите верьте, хотите нет — воля ваша! Снасти выдержали! Казалось, будто шхуна взлетала на воздух. Это вовсе не значит, что она летала по-настоящему. Ни в коем случае! Когда старые морские волки начинают плести подобную околесицу, уж будьте уверены: они-то привирают. Нет, о том, чтобы летать на паруснике, и говорить не приходится. Но я, пожалуй, единственный на всем свете, кто чуть было не испытал это.
Дело в том, что во время шторма появились как раз такие волны, над которыми наука, пустив в ход все свои приборы, и посейчас ломает голову. Сверкая, волны эти поднимались всё выше и выше, а потом внезапно обрушивались вниз.
Ну и зрелище! Шторм! Корабль, где каждый на своем посту, а капитан — в кандалах!
И тут началось такое, от чего сохрани и помилуй боже всякого моряка. Вдруг раздались страшные раскаты грома, и вспышка молнии осветила серебристо-белую тень, выскользнувшую из черного мрака.
«Что это?» — шепнул мне штурман, стоявший на мостике.
А я в это время висел на реях и словно онемел. Видите ли, уже тогда я кое-что предчувствовал. Тень с подветренной стороны исчезла лишь для того, чтобы вынырнуть еще ближе к кораблю. И вот только тогда все поняли, в чем дело. Дубленые лица моряков покрылись смертельной бледностью, потому что рядом с нами на всех парусах шел какой-то корабль. Разрезая волны, он прогудел совсем близко, на расстоянии примерно десяти метров от нашего бугшприта[9]. Дьявольский хохот заглушил шум бури. В это мгновение месяц вырвался из-за туч и нам удалось разглядеть шхуну-призрак. Это был парусник смерти — Летучий Голландец!
С громким криком боцман прыгнул за борт, а за ним, дико воя, ринулся корабельный пес. Рулевой бросил руль и пустил шхуну по воле волн. Оверштаг[10] был поврежден, и шхуна, то и дело грозя перевернуться, болталась, петляла, прыгала и танцевала по волнам во всех направлениях розы ветров, пока не врезалась прямо в Летучего Голландца. И что вы думаете, этот Голландец оказался не чем иным, как старой лоханкой капитана Сюдо. И тут шхуна наша перевернулась.
Команду вышвырнуло в море, но мы изо всех сил старались держаться на поверхности воды, хотя бешеные волны подбрасывали нас чуть не до самого неба. Такие волны страшны были для парусников, а для пароходов они — сущие пустяки. Верно я говорю?
Так мы и болтались в море. Я судорожно вцепился в бугшприт. А тут еще, откуда ни возьмись, вынырнул наш шкипер и спросил, какой такой дьявол пустил шхуну ко дну, пока он спал. Он звенел наручниками и требовал, чтобы их немедленно сняли. В таком виде он, дескать, совершенно не в состоянии снова принять команду над шхуной.
Все мы потеряли уже надежду на спасение и покорно барахтались на волнах, дожидаясь смерти. И вот тогда-то появился капитан Сюдо. При виде его капитан Балле всерьез утратил мужество. С ужасом вспомнил он о заключенном пари. Я хочу сказать — о проигранном пари! Ведь он проиграл! И вот тогда-то я и помешал ему пустить себе пулю в лоб.
Сюдо спас нас, не скрывая своего глубочайшего презрения. Я настолько обессилел, что меня вместе с бугшпритом просто-напросто втащили на палубу, после чего я немедленно потерял сознание.
Когда я очнулся, Сюдо как раз указывал пальцем туда, где наш чудесный корабль потерпел крушение. Его гнусная улыбка и была, верно, той последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения и заставила поставить на карту всё, ради того только, чтобы капитан мой всё же выиграл пари.
«Как же так, выиграть пари без шхуны?» — быть может, спросит кто-нибудь из вас, заподозрив меня в том, что я сижу здесь и плету небылицы. «Да, без шхуны!» — отвечу я и, даже не моргнув, честно и открыто посмотрю вам прямо в глаза. Потому что суровый и пристальный взгляд может иногда быть столь же красноречив, как удар кулака по подбородку.
Пока воображала Сюдо назойливо мучил моего дорогого капитана, я ночи напролет обдумывал свои планы.
Капитан Балле состарился за эти дни. Горе и скорбь были написаны на его открытом, багрово-красном лице.
И вот в один прекрасный день мы оказались, наконец, между молами Нос-Шилдза, подошли к набережной и стали на якорь. Матросы толпились на сходнях, торопясь выйти на берег.
И тут-то Сюдо, эта низкая душонка, и начал свое вероломное нападение.
«Бились мы однажды об заклад…» — сказал он.
«Извините, — холодно и решительно, как всегда в минуту опасности, прервал я его, — но не могу ли я взглянуть на письменное условие этого пари?»
Слегка замешкавшись и окинув меня подозрительным взором, Сюдо вытащил бумагу и протянул ее мне.
Бросив многозначительный взгляд на Сюдо и многообещающий на Балле, я медленно и внятно прочитал следующий отрывок из этого документа: «… и финишем считается линия между молами. Нижеподписавшийся заверяет своей честью и совестью, что его бугшприт пересечет эту линию первым…»
Больше я читать не стал. Но жестом, которому в свое время мог бы позавидовать Эгиль Эйде[11] из Национального театра, я выразительно указал в сторону носа корабля-лоханки Сюдо.
Стояла мертвая тишина, когда оба капитана поднялись, чтобы рассмотреть бугшприт лоханки. Сюдо медленно наливался кровью, а мой капитан звонко шлепнулся на свернутые канаты и заплакал от волнения и выпитого им в тот день скверного виски. Потому что бугшприт нашего корабля был крепко прикреплен к носу лоханки Сюдо, этого жалкого подобия добропорядочной шхуны. Сомнений не было. Наш бугшприт пересек линию между молами на добрых два метра впереди бугшприта Сюдо.
Вот так и случилось, что обыкновенный бугшприт сначала спас мне жизнь, а потом помог капитану Балле выиграть пари. А большего нельзя и требовать от какого-то бугшприта. О благодарности, какую я за это получил от капитана Балле, я расскажу в другой раз.
Сильнейший
(Перевод Ф. Золотаревской)
В доме Асбьёрна Куллинга среди ночи задребезжал телефон. Асбьёрн, сонно пошатываясь, выбрался из постели.
— Да! — раздраженно буркнул он в трубку.
С минуту длилось молчание, а потом кто-то торопливо и прерывисто зашептал:
— Они уже на пути к Кристиану… беги к нему скорее, остались считанные минуты… я стою здесь и…
Еще не совсем очнувшись от сна, Асбьёрн пробормотал:
— Что это за шутки, черт побери? Кто «на пути», куда?.. — В эту минуту он окончательно проснулся и похолодел от страха.
— Проклятье! Да они же, понимаешь, они! Беги скорей!.. Но кто у телефона? Это ты, Ролф? Я не могу…
— Это не Ролф, — хрипло ответил Асбьёрн. — Вы ошиблись номером.
— А, черт! — огорченно и устало сказал кто-то на другом конце провода; потом заговорил быстро и горячо:
— Если вы знаете Кристиана Дагестада, то бегите к нему и передайте то, что я сказал. Поторопитесь, сам я не могу уйти отсюда.
Голос внезапно умолк. Вероятно, прервалась связь, а может быть, человек говорил из будки и время его истекло. Но, скорее всего, ему помешали; наверное, появился кто-нибудь, кому не полагалось слышать этот разговор. Впрочем, всё уже было сказано. Асбьёрн получил тревожную весть и должен был передать ее дальше.
— Я всё слышала, — шепнула Элна. Она стояла рядом с ним, бледная, со сверкающими глазами. Блеск их казался странным на застывшем, ничего не выражающем лице. Асбьёрн чувствовал, что она охвачена ужасом, хотя и старается сохранить мужество.
На улице тихо шелестела под ветром листва деревьев. Но в ушах Асбьёрна этот тихий шелест превращался в монотонный гудящий напев, постепенно заполнивший всё вокруг. Он вдруг почувствовал, что его подхватил какой-то вихрь, который увлекает его за собою, подобно тому как налетевший на мирную деревню циклон увлекает в своих смертоносных объятьях всё, что попадается на пути. Гул и монотонный напев раздавались всё громче и громче, пока он сбрасывал с себя пижаму и ощупью искал рубашку. Пальцы двигались лихорадочно и неуверенно. Запонка выпала у него из рук, он наклонился было, чтобы поднять ее, но почувствовал, что это бессмысленно. Ну зачем ему сейчас запонка? Асбьёрн быстро натянул брюки. Мысли его блуждали, он никак не мог сосредоточиться. В мозгу проносились смутные видения, обрывки картин, но он не в силах был задержать на чем-либо свое внимание. Одно было ясно: он должен переплыть залив! Через несколько минут немцы будут там. Он должен переплыть залив!
Застегивая подтяжки, Асбьёрн сердито ворчал:
— И почему этот парень ошибся номером? Надо же было ему попасть ко мне! Отчего, отчего он не позвонил раньше, когда еще было в запасе время?
Асбьёрн задыхался в безмолвной ярости. Он быстро надел левый ботинок. «Тебе вовсе незачем туда ехать», — сказал вдруг его внутренний голос. «Ничтожество!» — в ту же минуту ответил другой голос. «Об этом ведь никто не знает. (Асбьёрн еще сильнее заторопился, обрывая шнурки на ботинках.) Ты не поедешь. (Он завязал шнурки.) Ты останешься дома. (Он встал и надел пиджак.) Ты не успеешь, это бесполезно, они уже в пути…» На глазах его выступили слёзы ярости. Какая-то неодолимая сила влекла его вперед, но в то же время страх удерживал дома. Нет, он должен действовать! Гул в ушах всё нарастал.
Вдруг появилась Элна. Она остановилась в дверях, широко раскинув руки:
— Ты не поедешь, Асбьёрн. Уже слишком поздно. Я больше не могу… сначала отец, затем Рейдар, а вот теперь — ты… Асбьёрн, разве ты не слышишь, что я говорю? От города всего десять минут езды. Ты не успеешь даже переправиться через залив. Это бесполезно… это безумие!
Асбьёрн знал, что она права, но всё-таки не мог не идти. А время шло, и с каждой уходящей секундой намерение Асбьёрна делалось всё бессмысленнее и безнадежнее. И вдруг в нем произошла резкая перемена. Ярость его нашла выход, он с бранью обрушился на жену. В нем словно что-то прорвалось, он выкрикивал резкие, злые слова, а потом разом смолк, как будто исчерпав раздражение и неприязнь, которые тяжелым грузом лежали на нем всё это время. Виною тому были накопившиеся за годы оккупации ненависть, укоры совести, неуверенность, разочарование. В течение всех этих бесконечных лет оба они влачили дни в страхе и напряжении; надежды одна за другой терпели крах, а поработители одурманивали их пропагандой, унижая, оскорбляя, повергая в нечеловеческий ужас. Простые люди стали всего лишь пешками в игре, их словно бросили в плавильный чан, и им понадобилось напрячь все свои силы, чтобы не утратить человеческий облик.
За несколько коротких мгновений Асбьёрн излил на жену всё, что давно уже накипело у него на душе, и бросился вон из комнаты. Элна испуганно отпрянула назад. Асбьёрн сбежал с лестницы, рывком распахнул дверь и ринулся в темноту. И только теперь он понял, как бессмысленны были его ядовитые слова. Они не имели никакого отношения ко всему происходящему. А слова эти могли разрушить основу, на которой покоилась их совместная жизнь. Они задевали лучшие чувства, которые Асбьёрн и Элна за последнее время до невозможности расточили, отравили, растоптали! А между тем ведь это жена помогла ему сейчас. В минуты его мучительных колебаний она сделала то, что ему было нужнее всего. Именно Элна заставила его принять решение и отправиться в путь, так как ее попытка удержать его уже сама по себе была косвенным обвинением, намеком на его трусость… И всегда она, спокойная и рассудительная, оказывалась сильнее его, всегда она утешала и ободряла…
Асбьёрн бегом одолел последний откос. Со времени звонка незнакомца до того момента, как он стоял в лодке и отвязывал цепь, прошло не более десяти минут. Он вставил вёсла в уключины, оттолкнул лодку и принялся грести с такой силой, что у него заболели мышцы живота.
В последний момент он несколькими сильными взмахами вёсел изменил курс и причалил к пристани. Лодка глубоко врезалась в берег. Он выпрыгнул, наткнулся в темноте на крутой откос, стал карабкаться вверх, а потом снова побежал. Запнувшись о корень дерева, он упал на тропинку, прямо в жидкую грязь, но тут же вскочил и бросился бежать дальше. Сердце колотилось где-то у самого горла. Он задыхался. Во рту появился приторно-сладкий вкус. Его душил кашель, вызывая острые приступы тошноты. Асбьёрн вспомнил, как однажды, участвуя в лыжной эстафете, он спасся от поражения лишь благодаря тому, что свалился в канаву и сломал лыжу. «Спасся?» Да, именно спасся. Тогда он бежал и его не покидало предчувствие, что он не справится, что силы его на исходе. Но теперь ему ни за что нельзя «сломать лыжу»! Он пополз, яростно впиваясь ногтями в землю. Черт возьми! Он преодолеет проклятую трусость! Когда он взбирался на последний холм, ноги его спокойно и уверенно отыскивали опору, в руках, уцепившихся за корни деревьев, не ощущалось ни малейшей дрожи. Внешне движения его были спокойны, но внутри всё дрожало от напряжения.
На вершине холма он увидел дом. От главного входа дорога круто сбегала к бухте, огибая каменистый утес, а затем некоторое время шла вдоль берега и кончалась у длинного деревянного мола. Асбьёрн перепрыгнул через ограду как раз в тот момент, когда к главным воротам с шумом подкатил автомобиль. Асбьёрн на мгновенье оцепенел, а затем поднял с земли острый камень и изо всех сил швырнул в окно. Звон стекла, разлетевшегося на множество осколков, еще стоял в ушах Асбьёрна, когда он, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, побежал навстречу немцам. Он обогнул большой цветочный газон, побежал по дороге, а затем свернул и укрылся за холмами. Возгласы позади него перешли в дикий рев, и, охваченный невероятным чувством торжества, он понял, что преследователи устремились в погоню за ним.
Короткий, отрывистый револьверный лай отдавался в его голове, словно удары стилета. Его мозг с чуткостью сейсмографа воспринимал все впечатления. Он спрыгнул в канаву и притаился. Ему казалось, что в воздухе носится целый осиный рой, — это вокруг него звенели пули. Луч прожектора взмыл высоко вверх, а затем стал медленно двигаться вдоль дороги. Асбьёрн отчетливо видел деревья, озаренные ярким светом. Перед его глазами плясали черные тени. Целый град пуль с мягким цокающим звуком обрушился на стволы деревьев. Асбьёрн, согнувшись, перебежал через дорогу, снова спрыгнул в канаву и помчался к пристани. Пристань была так близко и в то же время так далеко! Это было похоже на кошмарный сон, когда изо всех сил убегаешь от опасности и всё-таки кажется, что не удаляешься от нее ни на шаг. Достигнув деревянного мола, он нырнул в темноту и, сопровождаемый громким всплеском воды, исчез в глубине залива…
Кристиан Дагестад услыхал звон разбитого стекла. Он кубарем скатился с дивана, бросился к окну, открыл его и осторожно вылез, наступив ногою на камень цветочной клумбы. Затем он перешагнул на усыпанную гравием дорожку и шмыгнул в кусты живой изгороди. Перемахнув через забор, он ничком упал на землю. С минуту Кристиан полежал молча, прислушиваясь к топоту множества ног, бежавших по направлению к морю. Затем он прополз в соседний сад, поднялся и побежал что было сил. Он перелезал через какие-то ограды, мчался через поля, лежавшие между курганами. Наконец он пересек проезжую дорогу и скрылся в густом лесу. Ноги его едва касались земли, опасность удесятерила силы. Высоко на склоне поросшей лесом горы он как подкошенный упал на землю, задыхаясь и ловя воздух широко раскрытым ртом. Сердце его билось сильными, неровными толчками. Потом он немного пришел в себя. Спустя два часа он уже входил в спальню товарища.
— Я не знаю, кто это был, — рассказывал Дагестад, — не имею ни малейшего представления. Но этому человеку я обязан жизнью.
— Быть может, и мы тоже… — сурово ответил товарищ.
— Может быть, — сказал Кристиан, подавляя легкую дрожь. — Кто знает, каково ему сейчас приходится.
Спустя минуту он добавил:
— Это произошло совсем близко от меня. Я слышал всплеск воды, когда он прыгнул. Надеюсь, ему удалось скрыться…
Едва, только Асбьёрн всплыл на поверхность, он сразу же увидел нащупывающие лучи карманных фонарей, услыхал злобные выкрики, отрывистые слова команды. Немцы пытались сбить замок у стоявшей на привязи лодки Дагестада.
Когда Асбьёрн снова показался над водой, по нему начали стрелять, и он мгновенно скрылся за возвышавшимся неподалеку утесом.
Добравшись до своей лодки, Асбьёрн влез в нее и, под прикрытием темноты, стал бесшумно пересекать залив в самой узкой его части. Он пристал к берегу, привязал лодку у причала и швырнул вёсла в стоявшую тут же рыбачью избушку.
И тут рядом с ним оказалась Элна. Быстро и уверенно она схватила вёсла и спрятала их на чердаке, между стропилами, прикрыв старым тряпьем.
— Скорее, — шепнула она, — нет, не сюда, не этой дорогой!
Он шел за нею словно лунатик, спотыкаясь и прихрамывая. Вода хлюпала в ботинках. Они миновали небольшой лесок, обогнули холм с беседкой. Вдруг они замерли на месте. По ту сторону залива по каменистой дороге, урча, двигался автомобиль. И вдруг прожектор стал шарить оттуда по воде и по домам, находившимся на этом берегу. Ослепительный луч на мгновение задержался у дороги, ведущей к дому Асбьёрна. Если бы они пошли тем путем, то их наверняка бы обнаружили. Асбьёрн и Элна прибавили шаг; они подошли к дому со стороны черного хода, стараясь держаться в тени, образовавшейся между двумя световыми полосами.
— Идем, — тихо сказала Элна. Ведя его за руку, как малого ребенка, она открыла дверь подвала, и они спустились вниз.
— Раздевайся! Быстро! — Он машинально сорвал с себя одежду и, вздрогнув от холода, стал растирать обнаженные руки и плечи.
— Иди наверх и надень пижаму. На ночном столике есть бензофенил. Возьми три таблетки и поставь бутылочку на место… Иди… Я скоро вернусь!
Он с минуту стоял и смотрел, как она заворачивала его одежду и башмаки.
— Иди же! — повторила она, слегка подталкивая его.
Он бросился вверх по лестнице, осторожно открыл дверь в спальню и вошел. Некоторое время он стоял в задумчивом оцепенении. Потом вспомнил, что она велела ему делать. Он натянул на себя пижаму, схватил с ночного столика бутылочку, быстро проглотил три таблетки и поставил флакон на место. Затем он снова замер, как бы, прислушиваясь к голосу внутри: не нужно ли сделать еще что-нибудь? Потом пробормотал: «Нет, больше ничего», — и залез под перину.
Элна! Зубы у него стучали, он вцепился ими в одеяло. Что с ней? Что случилось? Почему она не идет?
Сердце его заколотилось сильнее; какой-то комок подступил к горлу, и ему пришлось несколько раз глотнуть. В теле появилась чуть заметная легкая дрожь. Бензофенил начал оказывать свое действие. Усталость постепенно проходила, и он чувствовал, как удары сердца становятся всё ровнее и спокойнее. Элна вошла, сняла с себя халат и легла рядом с ним. Она сказала:
— Ты откроешь им, когда они придут. Ты должен выглядеть недовольным, заспанным. А я потом выйду на лестницу.
Они долго лежали молча и смотрели в полутьму спальни. Он облизывал языком губы, пытался произнести ее имя, но это ему не удавалось. Она лежала совсем тихо, задумчиво прищурив глаза. Ее лицо было замкнуто, но спокойно и сосредоточенно.
— Элна! — начал было он, но голос изменил ему.
— Это они, — произнесла Элна, чуть приподняв голову. — Лежи, пусть они немного постучат…
В это мгновение ружейные приклады забарабанили во входную дверь.
— Иди, — шепнула она, — я приду следом за тобой…
Он поднялся с постели, отворил дверь и неверными шагами стал спускаться по лестнице.
В его ушах всё еще звучал голос жены. Асбьёрн притворился сонным и раздосадованным. Он повернул ключ и быстро отворил дверь.
— Кто там? — рявкнул он в темноту и замер, не в силах больше произнести ни слова.
Перед ним стояли три солдата. Не удостоив его ответом, они быстро протиснулись мимо него, направили карманные фонари на пол и стали обшаривать каждую половицу. Вдруг в доме зажегся яркий свет, и Элна, появившись на лестнице, спокойным тоном спросила:
— Кто это пришел, Асбьёрн?
В ответ раздался повелительный голос:
— Погасите свет! Почему нет затемнения?
— О, простите! — испуганно ответила Элна. Погасив свет, она сошла вниз и сбивчиво заговорила о своей непростительной рассеянности: она очень сожалеет…
Один из них прервал Элну:
— Затемнение тут ни при чем. Есть ли другой вход в дом? Ведите нас туда.
Они прошли к черному ходу, и солдаты снова обшарили каждую половицу.
— Вы не слышали, никто не пробегал мимо вашего дома?
— Нет. До нас доносились выстрелы с другой стороны залива, но мы думали, что это маневры, — отвечала Элна. — Мы никогда не будем забывать о затемнении, уверяю вас, мы ведь всегда были так осторожны…
— Знаете, чем вы рискуете, пряча кого-нибудь в своем доме? — снова спросил ее тот же человек, уже несколько миролюбивее. — Никто не заходил сюда за последние десять минут?
— Нет, — ответила Элна, испуганно посмотрев на него. — Нет, насколько нам известно. Но, может быть, вы лучше обыщете дом? Ведь двери были заперты, не правда ли, Асбьёрн?
Асбьёрн молча кивнул.
— Уфф, как здесь холодно!.. Закрой дверь, Асбьёрн. Так вы будете делать обыск?
Асбьёрн с восхищением наблюдал за Элной, которая прекрасно владела собой. Он вопросительно взглянул на солдат.
В это время из соседнего двора донесся крик офицера. Все побежали к нему. Один из солдат перескочил через ограду, затоптав цветы на клумбе. Немцы столпились во дворе, тыча пальцами на песок и указывая руками по направлению к леску. Хриплый мужской голос кричал что-то с другой стороны залива. Дом Кристиана Дагестада был ярко освещен.
Солдаты ушли к автомобилю. Асбьёрн и Элна стояли, прислушиваясь. Затем он осторожно закрыл дверь и повернул ключ в замке. Они поднялись в спальню. Асбьёрн сбросил туфли и лег в постель. Элна стояла выпрямившись, высоко подняв голову. Плотный шелковый халат — свадебный подарок мужа — красиво облегал ее крепкую фигуру. Она медленно сбросила его с себя, глаза ее сияли радостью. Повернувшись к зеркалу, она слегка поправила прическу. Это было привычное, но давно забытое движение, выражавшее радость, покой, уверенность в себе.
Затем Элна спокойно спросила:
— Как ты думаешь, удалось Дагестаду спастись?
И он ответил:
— Да, конечно: ведь когда я убегал от немцев, они думали, что гонятся за Кристианом.
Асбьёрн и Элна поглядели друг другу в глаза, и он медленно сказал:
— Забудь то, что я говорил тебе перед уходом. Всё это неправда.
Она не ответила, и только молча поцеловала его.
Суд постановил
(Перевод Л. Брауде)
Профессор Ванг был известнейшим собирателем автографов в своей стране. Однако ему никак не удавалось сравняться со знаменитостями в этой области за рубежом. С годами он всё меньше и меньше мечтал о славе, часто опаздывал на большие аукционы, а иногда и просто ничего о них не знал. И все диковинные находки проплывали мимо его рук. Не помогало даже то, что Ванг, обладая громадным состоянием, содержал целый штат специальных антикваров-скупщиков.
Но однажды утром город, в котором жил профессор, стал свидетелем великой сенсации. Ванг опубликовал сообщение о том, что он неожиданно приобрел несколько старых документов и писем, совершенно по-новому освещающих отдельные периоды мировой истории.
Со всех концов Европы к нему посыпались письма, в которых редакции научных журналов умоляли его дать интервью.
Приходили узкие конверты с адресами всемирно известных ученых. Когда настало лето, в городе появилось множество странных личностей. Размахивая старыми портпледами и огромными зонтиками, они расспрашивали встречных, как поскорее добраться до виллы Ванга.
Среди сокровищ профессора Ванга имелись письма Анакреона, Сафо, Сократа, Александра Великого, Архимеда, Плиния, Сенеки, Магомета, Карла Великого, Гуго Капета, Жанны д’Арк. Было там даже одно письмо Иуды Искариота и письмо Марии Магдалины к Пилату.
Профессор Ванг мог сообщить о происхождении этих богатств лишь то, что они принадлежали некоему дворянину, гугеноту, который когда-то привез их с собой в сундуке в Норвегию. Часть этих писем была случайно обнаружена в старом поместье округа Квинхеррад. Ванг надеялся, что удастся набрести и на другие сенсационные находки.
И действительно, из старинного сундука гугенота одно за другим появлялись всё новые и новые письма. Профессор Ванг жил словно в угаре. Наконец-то и он сделался героем дня. Он ездил из одного университета в другой, и повсюду его с распростертыми объятиями встречали известнейшие коллекционеры Европы.
Так прошло три года. Ванг тщетно умолял скромного антиквара, доставившего ему эти письма, открыть источник их происхождения, — Клойсен решительно отказывался…
Между тем от знаменитого коллеги из Парижа пришло тревожное письмо, которое произвело на почтенного профессора неожиданное и страшное впечатление.
Целую ночь просидел он наверху в своей библиотеке, подвергая тщательнейшей проверке самой сильной лупой те письма, подписи которых он в свое время специально изучал.
Успокоения ради заглянул он к своему другу, антиквару Клойсену, и один лишь вид этого солидного, преждевременно состарившегося сподвижника в науке придал Вангу уверенность в своей правоте. Имя Клойсена служило гарантией того, что всё было в образцовом порядке. Этот человек в течение тридцати лет вел безупречную жизнь, и его повсюду встречали с величайшей симпатией и дружелюбием.
Месяц спустя грянул гром.
В уничтожающей статье французского антиквара высказывалось сомнение в подлинности сенсационной находки норвежского профессора. Как выяснилось, одно из писем, пересланное Вангом французу, он подверг тщательной обработке. Под золотом букв парижскому антиквару удалось обнаружить берлинскую лазурь[12], изобретение совсем недавнего времени. Бумага представляла собой не что иное, как рифленый[13] форзац, вырванный из старинной книги или документа. В лучшем случае ей было лет сто. А Ванг считал, что письмо — весьма древнего происхождения.
Этот удар поверг профессора Ванга в полную растерянность. Неужели вся его недавно приобретенная коллекция оказалась подделкой? Он слег в постель, а всё дело, с явного одобрения весьма агрессивно настроенной профессорши, взял на себя брат Ванга, генеральный консул. Потратив на подсчеты целый вечер, консул пришел к выводу, что профессор вложил около ста тысяч крон в различные приобретения из Антикварной лавки «добропорядочного» Клойсена.
Разразился грандиозный скандал. Удрученный и подавленный профессор позволил уговорить себя передать дело в руки полиции, но при одном условии: сначала он посоветуется с признанным экспертом в этой области, старшим библиотекарем Мунком.
Мунк, который и раньше недоверчиво относился к находкам Ванга, явился сразу же и вместе с генеральным консулом принялся разбирать письма. Несколько простых проб бумаги подтвердили, что все письма были подделкой.
Пока генеральный консул сыпал проклятия на голову «добропорядочного» антиквара Клойсена, Мунк сидел погруженный в глубокую задумчивость. С юных лет он близко знал Клойсена и с величайшим интересом и симпатией следил за его деятельностью. Мунк был одним из немногих, кто понимал ненасытную жажду знаний, обуревавшую этого человека. Клойсен был осторожным, несколько неуверенным коллекционером, но обладал хорошим вкусом. У него можно было купить прекрасные и ценные вещи; правда, не очень дешево, но зато они всегда стоили заплаченных за них денег. «Такой редкий человек, как Клойсен, — думал Мунк, — коммерсант, который собирал ценности и больше заботился о привлечении приятных клиентов, чем о притоке денег в свою кассу!»
В конце концов Мунку с помощью профессора удалось уговорить консула подождать несколько дней и не заявлять на Клойсена в полицию. Это стоило им больших трудов.
Наутро следующего дня Мунк вошел в скромную антикварную лавку и, коротко поздоровавшись, сказал Клойсену, что хочет побеседовать с ним с глазу на глаз. Побледневший Клойсен распахнул перед ним двери своей конторы.
Мунк сел и, сняв перчатки, немного подождал, пока Клойсен успокоится. Потом он положил на стол пачку писем и тихо сказал:
— Эти письма, господин Клойсен, вы подделали. И… завтра ваше дело будет передано в руки полиции! Нет, сидите смирно… Я говорю вам, садитесь… Я пришел, чтобы выслушать всю эту историю от вас. Могу сказать, что пришел как друг. За всем этим что-то кроется. Я хотел бы знать, что именно.
Клойсен тщетно пытался собраться с мыслями и заговорить, но всякий раз волнение мешало ему. Его бледное лицо судорожно подергивалось. Он подпер голову руками. Плечи его дрожали.
Несколько минут Мунк молча смотрел на антиквара. Затем сказал:
— Послушайте, Клойсен, я не сыщик, но чувствую, что за всей этой историей что-то кроется. Есть, видимо, какие-то обстоятельства, говорящие в вашу пользу. Будьте любезны рассказать мне без утайки, с чего всё это началось. Говорите чистую правду, хотя бы это и затрагивало святая святых вашей гордости. Ну?..
Клойсен поднял голову. Лицо его было искажено до неузнаваемости.
— Я и сам не понимаю, как всё это произошло, — запинаясь начал он. — Последние месяцы я жил словно в аду, да и все эти последние годы были не лучше. Я пытался остановиться, но… я не в силах был разочаровать профессора Ванга, я был словно загипнотизирован его восторгом; каждое удачное письмо переполняло меня безграничной радостью, как будто это и в самом деле была подлинная находка… А потом я снова впадал в глубочайшее отчаяние…
Они молча посидели некоторое время, а затем Клойсен тихо добавил:
— Деньги? Вы не поверите, но в самом начале они не играли никакой роли. А позднее? Позднее я перестал узнавать самого себя. Ведь деньги давали мне возможность приобрести всё, на что раньше у меня не было средств: новую квартиру, книги. И, вам это известно, — возможность общения с людьми, которых я… почти боготворил. О да, позднее деньги, пожалуй, были самым главным. Ведь так всегда бывает с деньгами, когда они достаются нечестным путем.
Мунк спросил:
— С чего всё началось?
— Началось всё с издания Абеляра. Профессор Ванг случайно нашел его у меня с пометками королевы Кристине на полях. Я сам был потрясен тем, что у меня есть такой редкий экземпляр, а я не знаю о его существовании, и я стал искать еще что-нибудь в этом роде. Профессор помогал мне. Ведь он думал, что я хорошо разбираюсь во всех этих делах. А на самом деле я уж запутался в паутине хитрости и лжи. Я думаю, что за короткий срок преуспел в этом гораздо больше, чем за всю свою долгую жизнь.
Однажды я наткнулся на одно письмо, которое перекупил в Копенгагене, заплатив довольно дорого. Я перепродал его за полцены Вангу. Он-то был уверен, что я и заплатил за него ровно столько же. Уже тогда я очень любил ежедневные визиты профессора, а еще больше — беседы с ним. Во время одной из таких бесед он показал мне письмо, на которое явно должен был существовать ответ. Он изложил свои соображения по этому поводу, а я, приложив величайшие усилия, пустил в ход все свои деловые связи, чтобы напасть на след этого письма. Но мои поставщики отвечали, что если подобный ответ имеется вообще (они сомневались в его существовании), то он должен находиться среди остатков знаменитой библиотеки в Туре. Это письмо разыскивали ученые всего мира.
Я рассказал об этом Вангу, и он впал в ажиотаж и начал утверждать, что письмо упоминалось и в более поздние времена; если я хочу убедиться, он покажет мне несколько своих старых каталогов.
Вот тогда-то я и был впервые приглашен в дом Ванга. Я не могу припомнить ни единой книги из его богатой библиотеки, ни единого слова из его ученых речей. Я был потрясен этим респектабельным домом. Простой ужин был для меня священнодействием, а мечта, которую я лелеял вот уже тридцать лет, стала явью. Я был равным среди равных в избраннейшем обществе ученых.
На следующий день я засел в библиотеке. Я вложил всю свою энергию в это дело, и вот однажды утром, дрожа от волнения, я уже мог показать Вангу результат своих трудов. Как он разволновался, как набросился на письмо! Он сразу увидел недостатки, бросающиеся в глаза. А я непринужденно заметил, что ошибки эти — неизбежны. И действительно. Ведь письмо было копией, сделанной совершенно несведущим человеком.
Вдвоем разобрали мы ошибки; профессор Ванг показал мне, как писалась та или иная буква, обратил мое внимание на стиль латинского письма, и даже на те ошибки, которые переписчики в то время считали нормой языка.
Клойсен провел рукой по лбу, потом выпрямился и тихо сказал:
— В конце концов он воссоздал это письмо в таком виде, в каком ему надлежало быть, вплоть до малейших деталей. Письмо это много дней жило во мне, жгло меня. И ведь ничего не стоило воспроизвести его заново ради того, чтобы оправдались надежды профессора. А может… это и было его заветной мечтой, я не знаю; ведь он страдал так же, как и я. Я видел, что он находился в состоянии страшного возбуждения. Я носился с этим письмом, а потом взял и внес в него ряд поправок.
В небольшой конторе надолго воцарилась тишина. Затем Клойсен, вздохнув, закончил:
— Я собирался было избавиться от этого письма, но сенсация, которую оно вызвало бы, и то, что я мог быть теперь на равной ноге со всеми этими учеными, сделали свое. О да! Вероятно, все преступники оправдываются тем, что их вовлекает в мошенничество страстное желание прожить жизнь среди людей, близких им по духу, но превосходящих по положению. Скоро я набил руку в этом деле, а профессор Ванг с такой трогательной доверчивостью восполнял пробелы в моих знаниях, что это до сих пор причиняет мне самую жестокую боль. Он был моим единственным другом!
Мунк сидел и разглядывал Клойсена. Этот человек был совсем не похож на мошенника, и Мунк подумал: «Да, это совсем новая разновидность честолюбцев, но за этой разновидностью не скрывается никаких дурных инстинктов; она просто до крайности несовершенна, ибо ее почва — мечты. Клойсен жил в каком-то пьяном угаре, за который ему придется теперь расплачиваться долгим тюремным заключением!»
— Когда явится полиция? — прошептал Клойсен.
— Не знаю, — отвечал Мунк. — Но во всяком случае она не явится до тех пор, пока я снова не переговорю с вами. До скорого свидания.
Он протянул Клойсену руку и стоял так до тех пор, пока антиквар, широко раскрыв от изумления глаза, не опомнился. Потом Клойсен медленно протянул Мунку руку. Он ровно ничего не понимал. Ведь он был обманщиком, самым подлым мошенником…
Как раз то же самое думал генеральный консул и усиленно внушал это усердно поддакивавшему полицейскому инспектору. Консул всё-таки заявил в полицию. Ведь дело неслыханное! Фру Ванг гневно расхаживала взад и вперед по комнате. У нее была исключительная память. Она вспоминала теперь множество несимпатичных и подозрительных черт у этого господина Клойсена, у этого старьевщика!
За большим столом сидел тощий профессор Ванг и перелистывал свое драгоценное собрание писем. Все они были подделкой! Непонятно! При мысли об этом он ощущал почти смертельную тоску…
Мунк вошел без доклада, и генеральный консул прервал поток своего красноречия. Полицейский инспектор поднялся. Мунк остановился и недовольно посмотрел на него:
— Нет, раз уж вы всё равно пришли, господин полицейский инспектор, будьте любезны остаться, пока я не изложу вам результаты моего розыска!
Генеральный консул возмущенно отмахнулся, но Мунк, даже не взглянув на него, подошел к своему старому другу и положил руку ему на плечо.
— Дорогой Ванг, — сказал он, — я просмотрел твою коллекцию.
Профессор выжидающе смотрел на него.
— Мне очень больно, дорогой друг, но всё-таки я должен тебе сказать, что большинство писем не только подделано, но к тому же изобилует банальными фразами. Уж это непременно бросилось бы тебе в глаза, не будь ты столь ослеплен своими восторгами. Да, я наношу тебе смертельную рану, старый друг, но я знаю, что когда-нибудь ты и сам поймешь. И вот, стоя здесь пред тобой, я думаю: кто же виновник всего этого обмана?
— Кто виновник? — завопил генеральный консул. — Да вы в своем уме?! Извините, господин старший библиотекарь, но мне кажется, что вы превышаете свои полномочия…
— Оставь, дай ему высказаться, — прервал брата профессор и выпрямился на стуле. Выражение его глаз было настороженным. — Что ты имеешь в виду, дорогой Мунк?
— А что можно иметь в виду, когда скромный и честный человек внезапно пускается в мошенничество, нарушает свою упорядоченную жизнь и…
— Боже спаси! — воскликнул консул. — Всем известно, что фразы из сферы высокой психологии хорошо прикрывают всякие мошеннические проделки!..
— Хм, что ж, это следует принять к сведению, — несколько холодно ответил Мунк, — а мне теперь известно, что Клойсен вынужден был принимать плату за свои услуги. Ведь для того, чтобы все уверовали в подлинность писем, за них нужно было запрашивать высокую цену. Но вот перед вами знаменитый ученый, который всеми возможными средствами почти что вовлекает в обман невинного человека. Когда жертва сопротивляется, он всеми возможными средствами, почти насильно, заставляет ее осуществлять его заветнейшее желание. Ведь оно, откровенно говоря, — навязчивая идея Ванга. Навязчивая настолько, что ему не хочется ни думать, ни размышлять, когда у него на глазах рождается мошенничество, рождается, можно сказать, с его бессознательного одобрения и, заметьте, с его помощью. Без помощи ученого это мошенничество никогда бы не свершилось. Неужели вам это не понятно? Ни один из наших признанных знатоков не допустил бы, чтобы его так водили за нос. Он не стал бы просто так, без проверки, глотать все эти нелепости. Профессор же Ванг покупал автографы не задумываясь, постоянно требуя всё новых и новых, он облек доверием одинокого человека, жаждущего дружбы, он превратил Клойсена в подобие ученого мужа, художника. Он дал ему всё то, о чем скромный антиквар думал и мечтал так же горячо и исступленно, как профессор Ванг думал и мечтал о какой-нибудь диковинной находке для своих коллекций. Но этому человеку было нечего предложить, нечего продать и не на что купить. Его единственным достоянием была неподкупная честность. Твое легковерие, дорогой друг, чем оно было в данном случае, как не открытым поощрением? И поощрением чему? Разве ты не знал, что история была написана еще до того, как родились твои автографы? Ведь ты получал их в таком точно виде, в каком хотел. Неужто ты не знал, что все твои открытия были уже давным-давно известны? Ты понимаешь меня, старый друг?
Мунк склонился над старым профессором. Но Ванг, казалось, окаменел. Потом он медленно собрал письма в охапку, подошел с ними к камину, с минуту постоял — и бросил всё в огонь. Яркое пламя охватило письма.
Взбешенный генеральный консул обратился было к полицейскому инспектору, но тот холодно сказал:
— Я бы не хотел участвовать в этом деле, если господин Мунк выступит свидетелем.
Спустя четверть часа в конторе Клойсена зазвонил телефон. Звонил Мунк. Он сообщил антиквару, что ему нечего опасаться. Клойсен поблагодарил его тихим, взволнованным голосом, растрогавшим даже обычно такого сурового библиотекаря.
Но с этого дня дело Клойсена захирело. Да и сам он стал совсем другим. И не то чтобы боязливым или запуганным человеком. Вовсе нет. В нем просто что-то угасло.
Однажды его заставили свернуть с прямого пути, и он не мог найти дорогу назад. Он был уже забыт, когда в газетах появилось объявление о его банкротстве. Вскоре и сам он тоже исчез из города. Никто не знал, куда он девался…
Рождественский вечер Анны
(Перевод Ф. Золотаревской)
Анне минуло семнадцать лет, когда она поступила служанкой в дом тайного советника Лёвендала. Это была ловкая, не по годам смышленая девушка, родом из отдаленной деревушки в южном Удалене[14]. Анну нельзя было назвать красивой, но в жилах ее текла молодая горячая кровь, и у себя в деревне она целые ночи без устали отплясывала на субботних гуляньях, между тем как другие девушки после каждого танца откидывались на перильца моста и жадно вдыхали свежий ветер с долины. Анна с увлечением пела и плясала по субботам, но потом такая жизнь стала казаться ей несколько однообразной, а разговоры у деревенской околицы совсем перестали ее занимать. Даже привычный вид красивой долины стал в конце концов действовать на нее угнетающе, и от этого Анна ощущала какую-то тупую тяжесть в голове.
Она поняла, что должна уехать отсюда во что бы то ни стало. А если уж она принимала какое-нибудь решение, то никто не в силах был ее отговорить. Мать вспоминала свою собственную молодость и молчала. Отец недели две поворчал, а затем принялся мастерить дочери дорожный сундучок, красивее которого никто не видывал в этих краях. Закончив работу, отец разрисовал сундучок розами так, как только он один умел это делать. Некий путешественник, по имени Педер Асбьёрнсен[15], знаток рыбной ловли и любитель народных сказок, непременно хотел купить этот сундучок. Но не тут-то было! Он ему, конечно, не достался. Взамен мать стала потчевать гостя норвежскими сказками и преданиями. Уж этим-то она ему, верно, угодила! Ведь он, этот Педер Асбьёрнсен, был просто помешан на всем норвежском и был даже настолько глуп, что называл себя Петер[16]. А это уж и вовсе не христианское имя, как говорил их пастор. Пастор у них был человек знающий: он не раз ездил в Копенгаген и запросто рассказывал о площади Ратуши, Амалиенборге[17] и о премьере королевского балета, хотя на последней-то уж он наверняка никогда не бывал.
«Плоха та птица, что всё время сидит в своем гнезде», — говорил Педер, знаток рыбной ловли и любитель норвежских сказок.
С пастором Анна была не так уж хорошо знакома, но и то немногое, что она о нем знала, пригодилось ей в городе. Оказалось, что в семействе Лёвендалов царили такие же порядки и рассказывались такие же истории, только на другой лад. Анна скоро поняла, что здесь, в доме Лёвендалов, ее тоже не ждет ничего хорошего, но выбирать в городе было особенно не из чего, если только девушка не хотела попасть на улицу, как тысячи других. Один из видных городских коммерсантов так прямо и сказал девушке продавщице, просившей о небольшой прибавке к жалованью: «Если тебе недостает жалованья у меня в магазине, то ты можешь найти другой выход из положения…»
Анна всё это знала. И молчала. Смех давно уже замер на ее губах. Две кроны в месяц да поношенное платье были ее жалованьем. А тут еще отец в письме просил купить ему бруски для кос. С четырех часов пополудни и до самого вечера время у нее было свободно. Разумеется, за исключением тех дней, когда давались званые обеды, которые были необходимы Лёвендалу для успешного ведения его дел и на которые он охощо тратился. Тогда уж Анна бывала занята круглые сутки, вплоть до следующего вечера. Госпожа слабым голосом уговаривала ее ложиться спать, но Анне приходилось браться за щетки, тряпку и ведро с водой, а в это время из верхних комнат слышались крики Лёвендала: он требовал пива и камфарных капель. После таких обедов хозяин не выходил из уборной, и стоны его, раздававшиеся во всем доме, можно было бы сравнить разве что с хором иерусалимских плакальщиков. Анна, словно кролик, шмыгала взад и вперед по дому с тряпкой и шваброй, убирала блевотину с пола и постелей, очищала от грязи стены. И в благодарность за это ее осыпали градом ругательств, придуманных специально для прислуги целыми поколениями господ.
Могут подумать, что всё это лишало мужества смышленую девушку, когда-то весело отплясывавшую по субботам у деревенской околицы. Возможно, так оно и было, — никто не знал, о чем Анна думала. Но домой она ничего не писала о своих невзгодах. Напротив, просиживая долгими ночами за письмами и исписывая целые горы бумаги, она сообщала родителям, как хорошо ей здесь живется: ей уже два раза прибавляли жалованье, и пусть отец даже не думает возвращать ей деньги за бруски для кос (Анна умолчала о том, что истратила на них все свои сбережения). А когда она приедет домой, то уж не забудет маму, потому что мама… Но тут Анна вспомнила, что хотя мать ее и была лучше всех, но отец тоже был славным человеком, и ей не хотелось его обижать. К тому же он сделал дочери красивый сундучок, за который богач Эйлерт Сюнн предлагал Анне кучу денег.
Анна хорошо знала, что отец и мать живут этими письмами.
Незадолго перед отъездом Анны из дому мать сама рассказала дочери, как однажды, много лет назад, когда в доме нечего было есть и у нее от голода уже начало мутиться в голове, ей пришлось пойти…
«И эти деньги спасли мне жизнь, — рассказывала мать. — Но если бы ты знала, как я потом боялась, потому что (тут мать понизила голос) есть такие французские болезни… их уж потом ни за какие деньги не вылечишь…»
Подруги не раз приглашали Анну погулять в город, Анна была здоровая, крепкая и стройная, как весенняя березка. Конечно, ей часто хотелось пойти. Но у нее была рассудительная голова и одно очень ценное качество: она умела мгновенно взвесить все «за» и «против». До сих пор она была «против». Щёки ее потеряли былую округлость, но зато талия стала более стройной, а походка более легкой.
«Она не в состоянии спрятать свои прелести за броней неприступности», — сказал один художник после нескольких бутылок вина. Это было незадолго до того как хозяин отказал этому художнику от дома за его «бунтарские идеи», а сам стал покупать его картины через третьи руки.
Приближалось рождество, однако у Анны не было ни малейшей надежды доехать на праздник домой, в Удален…
И вот случилось так, что один из весьма влиятельных коммерческих собратов старого Лёвендала по совершенно непонятной причине пригласил всё семейство праздновать рождество у него в доме. О том, что коммерсант этот обанкротился и задумал женить своего сына на второй дочери Лёвендала, стало известно только позднее.
Лёвендал сразу же ухватился за это приглашение обеими руками. Это почти обеспечивало ему доступ на придворный бал, о котором жена его давно мечтала. В порыве великодушия хозяин разрешил Анне ехать на рождество домой и даже снабдил ее деньгами на дорогу. Такое великодушие было тем более похвально, что как раз в это самое время в доме пропала серебряная чайная ложечка, отыскавшаяся лишь через несколько дней. Разрешение хозяина ошеломило Анну. Хотя жилось ей всё хуже, но она писала домой всё больше и больше писем, и в них самыми яркими красками описывала свою жизнь в городе. Она любила яркие краски так же, как ее отец. Ведь он был художником.
И вот она стоит на улице. В руках у нее деревянный сундучок. Она уговорилась ехать домой в санях одного зажиточного крестьянина, которого случайно встретила в городе. Он приезжал сюда на месяц, чтобы вкусить «прелестей жизни». Анна полагала, что ей удастся держать его в пути на расстоянии, а если он начнет приставать к ней, она пустит в ход ногти. Ведь он совсем ослабел от пьянства…
Но еще одна вещь смущала ее: письма к матери!
Правда, она потратила немало часов, чтобы принарядить себя в дорогу. Но… где всё то, что она обещала привезти домой? Подарки! По крайней мере, хороший подарок для матери. В те немногие ночи, когда Анна была свободна от хлопот и ей удавалось лечь в постель, она непрестанно думала о том, как найти выход. От дум у нее кружилась голова. Она не могла приехать домой без осязаемого, видимого доказательства того, что письма ее были правдивыми. Дело тут не в правде, плевать ей на это! Но она не сможет перенести молчаливого, понимающего взгляда матери, которая сразу догадается, как всё обстоит на самом деле. Никакие ласковые уговоры, никакие знаки внимания, никакие слова не смогут залечить рану. А что если бы этот деревенский богатей захотел?.. Если… ох, нет, нет! Только не этот последний выход. Старый извечный выход для всех бедных девушек.
Она шла по городу, неся в руках свой маленький сундучок. Улицы были полны лёвендалов, парами и в одиночку ехавших в санях, нагруженных пакетами. Многие везли с собой на облучке грума, у которого только и было дела, что соскочить у подъезда и открыть дверь, хотя часто ее можно было просто-напросто толкнуть ногой. Витрины были полны рождественских подарков. Анне хотелось рассмотреть их все до единого. И она стала мечтать. Вот этот? Нет, лучше вон тот. А этот как раз подойдет для матери. Нет, нет, вот тут гораздо лучше! И вон там тоже, и там, и там!.. Анна протиснулась вперед. Теперь она была как во сне. Всё окружающее исчезло. Она снова чувствовала себя во власти экстаза, который зародился в ней еще тогда, когда она начала писать матери первые фантастические письма. Она, как и тогда, вовсе не думала о себе. О нет! Только одна мысль зрела в ней постепенно, но с непреодолимой силой: уберечь от горя мать, сделать всё для того, чтобы матери не пришлось смотреть на нее понимающим, печальным взглядом.
Ах, если бы она могла заставить себя пойти на улицу!.. Но это было бы окончательным падением, гибелью…
Казалось, что-то толкнуло ее и вовлекло в магазин. Во всяком случае, это получилось само собой. И вот она, уже ничего не соображая, вошла туда напряженной, деревянной походкой, с глазами, полными отчаяния… В магазине все сразу же обратили на нее внимание. И директор, и его помощник, и продавщицы — все не спускали с нее глаз. О, им знаком этот тип людей! И действительно. Стоя на виду у всех, Анна не отрываясь глядела на одну из шалей, разложенных на прилавке. Шаль эта была далеко не самой красивой. И даже не самой дорогой. Но она сверкала всеми цветами радуги, и для Анны, которая унаследовала от отца любовь к ярким краскам, эта шаль засияла словно солнце во мраке. Девушка сунула ее в свой сундучок, не делая ни малейшей попытки как-нибудь скрыть свой поступок…
Через полчаса здоровенный, изрядно подвыпивший полицейский вывел Анну из магазина. Камера, в которую она попала, была холодной и сырой. Скотину и ту у них в деревне держат в лучшем помещении. Еще бы! Ведь крестьяне поставляют молоко в город для лёвендалов, которые требуют, чтобы за коровами был хороший уход, потому что их дети будут пить молоко от этих коров!
Анна сидела на своем сундучке. Так всё это и должно было кончиться. Теперь мать узнает не только о ее бедности; теперь ее дочь, вдобавок ко всему, попала в тюрьму. Машина правосудия движется пока еще очень медленно. Никому не хочется заниматься неприятными делами в канун Нового года. Нас учили с детства, что в чудесное время рождества все должны быть добры друг к другу. Будем же добры и к мальчику из булочной, и к мальчику из цветочного магазина, и к старому Тобиасу, от которого несет навозом, потому что он дни и ночи проводит в конюшне. Пусть старый Тобиас тоже получит скиллинг и повеселится. Позаботимся о том, чтобы были полны наши кладовые! Будем же добры! Не надо злиться и ворчать. Откроем наши сердца. Будем хоть немного людьми!
Но вор не имеет права на сочувствие. Это было бы непедагогично. И особенно в солидном магазине! Какой вдохновляющий пример для всех других! Не говоря уже о «персонале». А что если все они, вместо того чтобы заниматься первоклассным обслуживанием, сами начнут «заимствовать» вещи, в надежде на сочувствие? Нет, нет и нет!
Для Анны остается только один путь, когда ее выпустят отсюда. Туда, на дно фьорда, где никто уже не сможет ее отыскать. Это решено!..
Улицы были пусты. Из плотно закрытых окон просачивались звуки веселых рождественских песен. Голоса были то звонкие, то хриплые. Слышался радостный смех…
Гадюка жалит самое себя
(Перевод Л. Брауде)
Это случилось пять дней спустя после взрыва, уничтожившего половину оконных стекол в городе, и приблизительно за месяц до грозного воздушного налета. Быстро обогнув большое здание в центре города, коммерсант Хурдевик очутился в рабочем квартале, где как раз закрывали деревянными ставнями витрины магазинов.
Коммерсант Хурдевик (хотя это и трудно представить) был в это утро более раздражен, чем обычно. В сущности, он был всего-навсего комиссионером, но называл себя теперь коммерсантом. Ведь его дело так разрослось за последние годы! Да и людей, которые столь сурово осуждали бы военные прибыли, как Хурдевик, было совсем немного. Мир, в котором приходилось жить, внушал отвращение. Падение нравов коснулось многих слоев населения. Так, по крайней мере, казалось коммерсанту Хурдевику, а он не стеснялся говорить об этом и другу и недругу. Коммерсант Хурдевик не шел на компромисс ни с кем, абсолютно ни с кем.
Но наиболее чувствителен он бывал по утрам. Сильнее всего это проявлялось тогда, когда ему нездоровилось и не на ком было сорвать свою злость. У него была не в порядке печень. Жена Хурдевика, зная об этом, смертельно боялась приступов его болезни. А в это утро печень особенно давала себя знать. Коммерсант Хурдевик внезапно споткнулся о вылетевшие оконные рамы. Он перешагнул через них и снова устремился вперед. Вдруг он приосанился. Густые брови его сдвинулись, а губы сжались. Навстречу Хурдевику шел комиссионер Лассен. В отличие от Хурдевика он по-прежнему оставался всего-навсего комиссионером и у него был довольно потрепанный вид.
Комиссионер Лассен хотел было приветливо пожелать доброго утра человеку, с которым время от времени его связывали деловые отношения, но улыбка на его лице быстро сменилась гримасой удивления. Коммерсант Хурдевик с быстротой молнии промчался мимо него. Он смерил комиссионера Лассена взглядом, выражавшим всё то ледяное презрение, какое только в состоянии был вложить в свой взор такой самоуверенный человек, как Хурдевик. Коммерсант Хурдевик с полным удовлетворением констатировал, что комиссионер Лассен буквально отпрянул назад и застыл на месте, слегка приподняв шляпу. На тротуаре как раз толпилось множество людей, обративших внимание на эту сцену. Некоторые даже обернулись и внимательно посмотрели на Лассена. Багрово-красный и глубоко взволнованный, он сделал несколько неуверенных шагов вперед, а коммерсант Хурдевик с видом победителя прошествовал дальше. Он чувствовал себя так, словно, презрев опасность, оказал посильную помощь фронту.
Комиссионеру же Лассену казалось, что весь город стал свидетелем его позора. У него день тоже начался неважно. Но не потому, что ему досаждала печень или какие-нибудь другие болезни. Слава богу, он здоров как бык. Но дома у них вышел весь хлеб, а кошелек его был довольно тощим. Лассен не в состоянии был купить на черном рынке бутылку водки и выменять ее на хлеб и муку. К тому же маленький Алф заболел бронхитом. В общем, одно к одному! А тут еще эта история с Хурдевиком! Что он мог ему сделать или, вернее, что он сделал ему такого обидного, что Хурдевик не пожелал поздороваться? Но нет дыма без огня, и, видно, какие-то слухи навлекли беду на голову Лассена. Какие именно?.. А быть может, его приняли за кого-то другого? Чья-то месть? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Комиссионер Лассен жил слишком замкнуто в кругу своей маленькой семьи. Правда, он занимался иногда перепиской бумаг, но знали об этом совсем немногие, да и не было в этой работе ничего предосудительного.
Лассен пустился вдогонку за Хурдевиком, обогнал его и, обернувшись к нему, спросил:
— Скажите, Хурдевик, почему вы не пожелали поздороваться со мной?
Хурдевик удивленно взглянул на него. Он не ожидал такого нападения. Но он выпрямился и твердо ответил:
— Я не здороваюсь с такими, как вы. Причина, как я полагаю, вам известна. У меня нет ничего общего с теми, кто открыто появляется в ресторанах вместе с подозрительными личностями, как это делаете вы. Надеюсь, вы понимаете меня?
Хурдевик хотел продолжать свой путь, но комиссионер Лассен настаивал:
— Скажите, на что вы намекаете?
Коммерсант Хурдевик выпрямился и принял величественный вид. Рядом с маленьким Лассеном крупная фигура Хурдевика — чемпиона-лыжника — казалась огромной. Стоило ему дунуть, и Лассен слетел бы с тротуара. Но Хурдевик лишь слегка наклонился и в обычном своем вежливо-ироническом тоне сказал:
— Не будете ли вы столь любезны пропустить меня, господин Лассен?
Хурдевик двинулся дальше, и Лассену против воли пришлось посторониться.
Он стоял и смотрел вслед могучей фигуре удалявшегося коммерсанта, облачённого в отлично сшитое, новое, как с иголочки, черное пальто.
Лассен плотнее зажал под мышкой пустой портфель и поспешно засеменил домой. Ему казалось, будто все люди в городе сразу стали смотреть на него другими глазами. Правда, он всё снова и снова уговаривал самого себя, что все его знакомые — люди достойные, что никакая сплетня не в состоянии затронуть его доброе имя, повредить ему, причинить ему зло, что… Бесполезные утешения, он тихо выругался. Дело было совсем не в этом. Но если теперь ему придется испытующе вглядываться в глаза других людей или увидеть хоть тень сомнения на чьем-нибудь лице… О, ему-то известно, чем грозит подобная история и как она может превратить жизнь в сущий ад. Ведь он видел, как Холма уволили из-за какой-то болтливой конторщицы. А разве не ясно, как день: Асбьёрн стал человеконенавистником из-за постоянных опасений, что люди не доверяют ему…
Лаура сразу же заметила по лицу Лассена: что-то стряслось. Она заставила его рассказать всю историю. Выслушав ее, Лаура коротко сказала:
— Сплетню надо немедленно пресечь, дай-ка я подумаю… — Потом быстро добавила: — Кристен Пойс… иди к нему…
Через полчаса он уже взбирался по крутой лестнице и стучал в ветхую кухонную дверь.
— Кто там? — спросил голос за дверью.
— Это — я… Лассен, — ответил комиссионер, задумчиво поглаживая обросшие щетиной щёки. Кто его знает, сколько понадобится времени, чтобы от слов Кристена Пойса рассеялся страх Лассена.
— А, это ты, дохлая креветка, — сказал Пойс на своем певучем северном диалекте. — Заходи; а я было подумал, что это… гм… Ну, заходи и выпей-ка чашечку настоящего черного кофе, да съешь ломоть хлеба с ржавой селедкой. Масла мы давно не видим.
Пока длился монолог, комиссионер Лассен успел войти в комнату.
— Какие новости? — спросил Пойс из кухни, где он возился с кофейником, чашками и ложками.
— Никаких, — ответил Лассен, — кроме тех, что хлебница пуста, а все старые возможности раздобыть хлеб кончились.
Пойс протяжно свистнул, вытащил свой бумажник, протянул Лассену крупную кредитку и быстро сказал:
— Нет… не отказывайся, возьми, мне прислали немного денег с севера. Всё в порядке.
Пойс стоял и смотрел на Лассена. Что-то с ним неладно!
— Хе, ты ведь знаешь, человеку, которого только что выпустили из тюрьмы, живется не очень-то богато. Но жена сходила на почту за посылкой, а на пристани для меня приготовлен целый ящик малосольной трески. Такому прожоре, как ты, малосольная треска придется по вкусу, верно? Ты ведь кожа да кости. А тебе надо набить чем-нибудь брюхо, чтобы достало сил прокормить ребят да старуху, верно?
Лассен сердито развел руками и хотел что-то сказать, но Пойс перебил его:
— Кстати, ты что, собственно, хотел мне рассказать?
Лассена не надо было переспрашивать дважды. Залпом выпалил он всю историю с Хурдевиком. А напоследок сказал:
— Понимаешь, Кристен, если я не заткну Хурдевику рот, то через несколько дней жизнь моя станет адом. Ты знаешь этого типа: ему непременно нужно рассказывать, ему непременно нужно о чем-нибудь говорить, он любит быть в центре внимания. Ты должен мне помочь. Ты сидел в тюрьме и…
— …И, как пить дать, снова угожу туда, — подхватил Пойс. — За мной, черт возьми, идет слежка. Теперь им уже известно, что ты побывал у меня. Я не имею права объяснить тебе суть дела, но через несколько дней мы с женой исчезнем, а тебе лучше всего поменять шрифт твоей машинки, и чем скорее, тем лучше. Если ты продолжаешь писать… гм… Итак…
Комиссионер Лассен сказал:
— Я не придаю значения всем этим пустякам, черт с ними, но если ты уедешь, то мне ведь не удастся заставить замолчать Хурдевика. Мне кажется, что ты — вне всяких подозрений.
Пойс свистнул, как всегда, когда ему приходила в голову какая-нибудь неожиданная мысль. Потом он решительно сказал:
— Хорошо; если ты так болезненно к этому относишься, я готов сопровождать тебя. Мы отправимся к нему и заставим его сказать, откуда идут эти слухи. Идем!..
Пойс надел синюю рабочую куртку прямо через голову, не расстегивая. Столяра-модельщика Пойса хорошо знали в городе. Он был одним из лучших шахматистов страны, дирижировал хором и был, что называется, мастер на все руки.
Пойс и Лассен быстро шли по улице. Вскоре они уже входили в казавшуюся заброшенной контору Хурдевика, где, как видно, были приостановлены все дела. На самом же деле биржевые спекуляции коммерсанта еще до войны, в период гонки вооружений, приносили в эту контору баснословные прибыли. Не бросил он своих спекуляций и сейчас, хотя, будучи любителем красивых фраз, говорил: «Если нам удастся сохранить то, чем мы владели до девятого апреля, я буду очень рад, а понятие о справедливости сильно возрастет в моих глазах. В противном случае справедливости не существует вообще». Видно, коммерсант Хурдевик был честнейшим в мире человеком.
Однако при виде Кристена Пойса кровь прилила у него к щекам. Он быстро взглянул на расстроенное лицо Лассена. Пойс положил шляпу на письменный стол и прямо приступил к делу:
— Я хочу знать, откуда у вас эти сведения о Лассене, Хурдевик. Я говорю совершенно серьезно. Мы были добрыми друзьями в туристском комитете и в обществе «Охрана лесов», но…
Коммерсант Хурдевик выпрямился:
— Вы что, хотите принудить меня выдать уважаемого и почтенного человека?..
— Вовсе мы этого не хотим, — холодно прервал его Пойс. — Но мы хотим знать источники вашей информации. Только этого мы и хотим.
Хурдевик поперхнулся. Лоб его покрылся испариной, и он неохотно сказал:
— Хорошо; следовательно, я должен выдать своего друга, но… да, так вот. Говорят, что тебя, Лассен, видели в ресторане в обществе гестаповцев. Я не знал, Пойс, что вы — добрый друг Лассена…
— Источники, источники! — нетерпеливо прервал его Пойс. — Нас интересуют только источники, а свои извинения вы сможете принести потом. Итак?
Пойс быстро взглянул на Лассена, и тот с ужасом увидел: во взгляде друга появилось что-то новое. Лассен облизал сухие губы кончиком языка.
То, что простой модельщик осмеливается так разговаривать с ним, было для коммерсанта Хурдевика настоящим унижением. Правда, они были друзьями по спорту и по разным комитетским делам. Но между такого рода дружбой и дружбой в частной жизни с равными людьми существовала огромная разница. Хурдевик разозлился, но заставил себя улыбнуться и ответил:
— Вам следует расспросить обо всем Юнсена, Пойс. Я полагаю, вам известно, что этот человек никогда не станет болтать зря.
И, обратившись к Лассену, добавил:
— Ты понимаешь, Лассен, в такое время самое главное — держаться правильной линии. Ты мне нравился всегда, но… да, итак, прошу прощения.
— Я понимаю, — любезно ответил Лассен.
Но он весь кипел.
Лассен и Пойс пошли дальше, не разговаривая друг с другом. У Пойса был совершенно отсутствующий вид. Теперь ему самому важно было доискаться истины. Лассен уныло плелся позади. Он весь дрожал. Только теперь комиссионер окончательно понял, как может обернуться для него вся эта история в будущем. Ни в коем случае не следует допустить, чтобы через несколько лет о нем спрашивали: «Это не тот, который, по слухам, был связан с гестапо?». Лассен застонал. Пойс быстро взглянул на него. В его глазах появилось ледяное выражение, которое в эти годы встречалось довольно часто в глазах честных людей. Но была в них и неуверенность. Лассен заметил это.
Юнсен вынул трубку изо рта и сухо сказал:
— Нет, на такие вопросы я не отвечаю.
Пойс сказал:
— Но теперь дело касается и меня, а также того, чем мне приходится заниматься. Для нас это очень важно, и мы хотим узнать ваши источники. Это уже не безобидное дело, затрагивающее отдельное лицо, некоего господина Лассена, с которым, должно быть, знакомы вы или Хурдевик. Вам понятно?
Юнсен поднялся со стула. Ему стоило большого труда сохранить достоинство, и он процедил сквозь плотно сжатые губы:
— Черт возьми, Пойс, я не могу припомнить… Да, да, верно — что-то в этом роде я говорил Хурдевику. Меня ведь самого предостерегали, но я считал это чистой сплетней. И не стоит обращать на это внимание, Лассен…
Пойс прервал его:
— Вам придется всё-таки припомнить, Юнсен!
Тут Юнсен разозлился. Что он воображает о себе, этот модельщик, как смеет он являться к нему и допрашивать честного коммерсанта в его собственной конторе? Он покажет ему… Но тут Юнсен прервал свои размышления. Во взгляде Пойса он прочитал нечто, заставившее его понять: дело здесь весьма серьезное. Да вдобавок у этого парня, Пойса, был такой вид, словно он знал: за ним стоит сила. Юнсен откашлялся, вынул трубку изо рта, положил ее на письменный стол и, помолчав, произнес:
— Это Крам рассказал мне, что Лассен ходит по ресторанам с весьма сомнительными людьми.
— Он называл гестапо? — спросил Пойс.
— Я не знаю точно. Послушай-ка, Лассен, я никогда ни единой минуты не думал о тебе, что ты…
— До свидания, Юнсен, — прервал его Пойс и направился к двери.
Оба они ушли, а Юнсен остался на месте, покусывая трубку. Его, Юнсена, унизили в собственной конторе, его… Чертов Хурдевик, этот… Он схватил телефонную трубку…
В конторе Крама царило оживление: у телефонных аппаратов сидело множество молодых дам, ящики на полу стояли открытые, а хлопья мелкой древесной стружки летали в воздухе. Там толпились мужчины в плащах и мальчики рассыльные с квитанционными книжками в руках. Крам без пиджака стоял посреди комнаты.
— Ужасное время, — сказал он, предостерегающе подняв руку, но вдруг смолк, словно вспомнив о том, что позволил заглянуть посетителям в святая святых своей души. Деловое выражение мало-помалу покидало его улыбающуюся физиономию. И он гневно воскликнул:
— Это вам сказал Юнсен?
Он обернулся к Лассену:
— Дорогой Лассен, я никогда ни одной минуты не сомневался, что у тебя всё в порядке! — Его слова дышали теплом и доверием, но Пойс лаконично спросил:
— Кто рассказал вам об этом и что именно?..
Крам повернулся к письменному столу, переставил какую-то безделушку, а потом проницательно взглянул на Пойса. Тот сделал шаг вперед. Никто не проронил ни слова.
— Я и в самом деле не припомню, — ответил Крам, потирая лысину… — В самом деле не помню.
— Вам придется припомнить, — сказал Пойс, не сводя с него глаз.
Искоса взглянув на Лассена, Крам сказал:
— Это был Бархейм. Он говорил, что за ресторанным столиком ты заключаешь грязные, ну, если не грязные, то сомнительные сделки с подозрительными личностями.
— Какие сделки? — коротко спросил Пойс.
— Этого я не припомню, я не придал особого значения словам Бархейма…
— Он называл гестапо?
— Нет, — решительно возразил Крам, — слава богу, этого он не говорил, нет. Сохрани боже, чтобы я так понял. Чего только не наговорят эти мерзавцы!
— Благодарю вас, Крам.
— Вообще-то вы правы, Пойс! У людей очень длинные языки. И, может, самые длинные у тех, о ком обычно все хорошего мнения.
Лассен со странным чувством грусти заметил, что Пойс только теперь с облегчением вздохнул. Даже и он в какой-то миг усомнился в нем… Лассена била дрожь, когда он семенил вслед за Пойсом. Как было бы хорошо, если бы этой истории не было вообще…
Целый час просидели они в конторе Бархейма, пока конторщицы, обзвонив все рестораны, нашли хозяина в клубе. Он пришел, сдержанно поздоровался и сказал:
— Стало быть, у вас важное дело, раз вы послали за мной?
Пойс представился, отрекомендовал Лассена, а затем рассказал, зачем они пришли. Бархейм сидел, удобно откинувшись на спинку стула. Выражение лица Бархейма, как и его предшественников, постепенно менялось: смущение сменилось возмущением и, наконец, откровенным негодованием. Не хватало еще, чтобы люди связывали его имя, имя человека безукоризненно честного, с грязными сплетнями. И вдобавок еще он должен выдать друга… Нет, черт побери! Он злобно посмотрел на Пойса, но быстро опомнился и вежливо сказал:
— У меня нет никаких оснований в чем-либо подозревать вас, господин Лассен. По-моему, не стоит ворошить это дело. Это может его только ухудшить.
— О, теперь мы уже почти добрались до сути, — сухо сказал Пойс.
Бархейм выпрямился. Он переводил свой властный взгляд с одного на другого, как бы раздумывая, и в конце концов весьма неохотно сказал:
— Хорошо, если вам непременно надо узнать правду, то пожалуйста. Хойбакк сказал, что видел вас, господин Лассен (да, я ведь знаю, кто вы такой) в компании с некоей личностью, которая несомненно является сомнительной.
— А Хурдевик тоже говорил об этом? — спросил Пойс.
— Хурдевик? Я с ним незнаком, знаю его только по виду. Но вам, господин Лассен, я хочу сказать, что у вас, вероятно, будет много хлопот, если вы примете слишком близко к сердцу эти пересуды, эту проклятую болтовню, бабьи сплетни…
— Вы правы, Бархейм, — вставил Пойс, — такими бабьими сплетнями занимаются только бабы. Вот так-то, до свидания, тысяча благодарностей.
Бархейм стоял как вкопанный, глядя на дверь. На что он, черт побери, намекал, этот модельщик?
Хойбакк сидел, осторожно разглаживая табачный лист, и тихо ругался. Он покосился на вошедших и собрался заговорить, но Пойс опередил его. Хойбакк удивленно выслушал Пойса, повернулся к Лассену и просто сказал:
— Да, меня предупреждали, что вы ходите с этим миллионером военного времени. Ну, такой — гладко прилизанный! По словам людей, он в высшей степени сомнительная личность. А я собственными глазами видел вас с ним вдвоем в ресторане. Да, я видел вас, черт побери! Мне лично не хотелось бы сидеть за одним столом с таким человеком. Так что от правды не уйдешь, господин Лассен.
Пойс шумно вздохнул. Лассену показалось, что лопнул воздушный шар.
— Как звали этого типа, с которым вы видели Лассена? — спросил он.
— Коммерсант Хурдевик — чрезвычайно скользкий тип, один из опаснейших. По словам людей, он, как видно, спекулирует на бирже. И еще он скупает за бесценок картины, принадлежащие арестованным.
Пойс внезапно повернулся к Лассену и устало сказал:
— Ну вот и всё. Здесь уж Хурдевику придется всё взять на себя.
Ни тот, ни другой даже не улыбнулись. И неизвестно, улыбнулся ли коммерсант Хурдевик, услыхав весь этот рассказ. Но самым важным для всей этой истории были слова Пойса, сказанные на прощание Лассену:
— Знаешь, такие люди — это страшная сила. И она заставляет страдать тысячи маленьких невинных Лассенов. Но мы зажмем эту силу в тиски. Мы будем бороться с ней!
В полночь является привидение
(Перевод Ф. Золотаревской)
Все в округе единодушно утверждали, что Пер Гранбаккен — парень хоть куда! И тем более было обидно, что ему пришлось лишиться отцовской усадьбы. А всё вышло из-за того, что дядюшка Пера слишком уж надежно упрятал завещание и его никак не могли отыскать. Правда, документы были зарегистрированы, но записи в протоколах не сохранилось. Были и другие неувязки, которые еще больше запутывали дело.
И вот усадьба Гранбаккен пошла с молотка. Трое братьев, живущих в Америке, получили свою долю норвежскими кронами, которые были им вовсе ни к чему, а усадьба досталась некоему оригиналу из Осло.
Пер Гранбаккен отправился в Канаду. Одни говорили, что он там разорился вконец, другие — что он содержал небольшую лесопилку в канадских лесах, а третьи утверждали, что он добывал себе пропитание ловлей лососей на Аляске.
Прекрасная усадьба, которую Пер привел было в образцовый порядок, теперь пришла в запустение. Старый Клинбергер распродал скот и всю живность, а в сараях ржавел и портился сельскохозяйственный инвентарь. У старика была куча денег и вдобавок совершенно поразительная экономка. Такого чудища жителям округи никогда еще не доводилось видеть. Росту в ней было добрых два метра без каблуков. У нее были пышные, могучие формы, крошечные ножки и иссиня-черные волосы. А под носом росли усы, которым мог бы позавидовать любой конфирмант. Перед большими праздниками экономка сбривала усы, и тогда она становилась красивой. Речь ее походила на воронье карканье; понять что-либо было невозможно, но обычно она подкрепляла свои слова красноречивыми жестами, так что одно компенсировало другое. Клинбергер называл ее «сеньорита».
Местная знать стала в конце концов удостаивать приветствиями чудаковатого богача. Но в гости к нему никто не являлся, и мало-помалу жители долины вовсе утратили интерес к усадьбе Гранбаккен.
Но тут случилось необыкновенное. В Гранбаккене появилось привидение. Хуанита сама рассказывала об этом в лавочке. При этом она пришла в такое волнение и до того усердно жестикулировала, что даже смахнула с крюка висевшую под потолком связку ведер. Но никто не рассмеялся. Ведь дело-то оказывалось нешуточное! Как только часы начинали бить полночь, привидение стучалось в ворота Гранбаккена, и тут начиналась чертовщина! Хуже всего было то, что привидение взяло себе моду до смерти пугать обитателей усадьбы. Среди ночи вдруг слышался отдаленный хохот, который, казалось, доносился из подвала. Но вдруг… жуткий смех проникал с улицы, через толстые бревенчатые стены дома, и тут же раздавались завывания на чердаке. Однако старый Клинбергер не давал себе труда даже подняться с постели. Однажды, когда привидение хохотало в коридоре у самой его спальни, он тихонько подкрался к дверям, рывком распахнул их, разразился во тьму ответным презрительным хохотом и запустил башмаком в зеркало. После этого он, сердито ворча, лег в кровать и тут же уснул, несмотря на то, что привидение продолжало выть и хохотать в замочную скважину. Что же касается Хуаниты, то она положила на пороге своей комнаты страничку из Священного писания и теперь чувствовала себя в полной безопасности. Но покоя и сна всё равно не было, потому что завывания и оглушительный хохот неслись со всех концов дома. Привидение продолжало бродить по всем закоулкам и хохотать.
Окончив свой рассказ, Хуанита тут же отправилась на телеграф и отослала дочери Клинбергера Сири телеграмму в сто сорок шесть слов.
И вот, через несколько дней, в субботу, из вагона поезда выпорхнула светловолосая красотка с целой кучей чемоданов и бросилась на грудь амазонки из Гранбаккена. Парни разинули рты. Вот это девушка! Они украдкой поглядывали друг на друга. Все предчувствовали, что мирному житью в долине настал конец. Не одна крепкая мужская дружба даст теперь трещину. С этого времени многие юнцы начали чистить зубы, бриться и тайком одеколониться. Некоторые дошли до того, что вздумали аккуратно стричь ногти. А кое-кто стал даже следить за своей прической. Уж это было точно известно.
Соперничество в долине разыгралось вовсю. Сири была цветущая и веселая девушка. Она так лихо кружилась в танце на субботних гуляньях, что у ее кавалеров только ветер свистел в ушах. И к тому же она ни капельки не боялась пьяниц. Однажды некий пришлый задира, которому вздумалось покрасоваться, позволил себе с ней какую-то вольность. И тогда Сири приемом джиу-джитсу во мгновение ока уложила его на пороге двери. Но парень оказался молодцом. Сразу же протрезвев, он поднялся и оглядел Сири с ног до головы. После этого он вытащил из заднего кармана бутылку водки и, вылив содержимое на ступеньки, лестницы, швырнул бутылку в траву. Затем он застегнул куртку на все пуговицы, пригладил волосы и с поклоном подошел к Сири. Он с большой почтительностью кружил Сири в танце, но мало-помалу они пошли всё быстрее и быстрее и наконец заняли весь круг. Вдруг Юн стал наяривать на своем аккордеоне какое-то буйное американское гоп-ца-ца, и Сири, поддразнивая своего партнера, прошлась перед ним в лихой чечётке. Тут парень тоже начал выкидывать всякие коленца. И танец вышел почище голливудского рок-н-ролла. Сири дышала всё прерывистей, а ее партнер расходился всё пуще. Тогда девушка впервые с интересом взглянула на него. И что же она увидела? У него были фальшивые усы! Вероятно, какой-нибудь скрывающийся самогонщик. Но всё-таки он был очень красив. Впрочем, особенно долго ей не пришлось его рассматривать, потому что она выбилась из сил и остановилась. В ту же минуту незнакомый танцор исчез. Погруженная в глубокую задумчивость, Сири шла домой в окружении своих поклонников. Брови ее хмурились. Она даже не слышала, что говорили ей влюбленные кавалеры. Дома ее ожидало привидение, которое становилось всё более нахальным.
В ночь под Новый год некоторые парни предложили Сири покараулить ее дом, чтобы слабые, беззащитные женщины могли хоть немного повеселиться. Сири поблагодарила и приняла их предложение, но с условием, что они помогут ей поймать привидение.
И вот небольшая рота храбрецов явилась во двор усадьбы Гранбаккен, предварительно запасшись подкрепляющими средствами, припрятанными под жилетом и в карманах. Молодцы острили и балагурили наперебой. Но хорохорились они оттого, что их была целая гурьба, а Сири стояла тут же, на лестнице. Вдруг появился старый Клинбергер. Ковыляя, поднялся он на ступеньки, обозрел войско Сири, разразился жутким оглушительным хохотом и ушел, даже не поздоровавшись. После этого кое-кто невольно потянулся к карману, но заставил себя подавить страх, потому что сейчас необходимо было показать себя настоящим мужчиной. Впрочем, они опять пали духом, едва только услышали распоряжения Сири. Один был послан на сеновал, другого отправили в мрачный, темный хлев, где таились всякие ползучие гады. А некоторым достался подвал, походивший, по рассказам Хуаниты, на катакомбы, с урнами и скелетами в нишах, о которых в полночную пору и подумать-то страшно. На долю ученика кузнеца, богатыря Йорна, выпало караулить во втором этаже. В коридорах, в каждой комнате огромного дома сидело по парню. Им был дан строжайший наказ схватить привидение, связать его и доставить к Сири. В награду победителю была обеспечена благодарность молодой хозяйки, а может быть, даже ее сердце.
И вот каждый поплелся на свой пост. Отправлялись они со смехом и прибаутками, но как только остались в одиночестве, их сразу же начали одолевать всякие страхи. Храбрецы вздрагивали при каждом шорохе, при каждом мышином писке или кошачьем мяуканье.
А на дворе в эту ночь стоял лютый мороз. На небе полыхало северное сияние. Стужа с такой силой обрушилась на дом, что каждое бревно жалобно скрипело от холода. Никогда не думали парни, что новогодняя ночь может тянуться так долго.
Еще не было и половины двенадцатого, а Ларс Уле, что сидел в хлеву, уже успел опорожнить свою бутылку. Но это ни капельки не подействовало, — в каждом углу ему мерещились чьи-то шаги и шорох. То же самое было со всеми остальными вояками. Они то и дело чиркали спичками, чтобы взглянуть на часы. Но от мерцающего огонька по стенам начинали плясать тени, и сердце уходило в пятки. Йорн, зажигая спичку, держал перед нею обрывок бумаги.
Наконец время подошло к двенадцати.
В нижней гостиной с глухим урчаньем начали бить старинные стенные часы. И едва только в ночи раздались первые тяжелые удары, все молодцы повскакивали со своих мест. Лapc Уле, прижавшись спиной к стене, испуганно озирался по сторонам.
Казалось, будто весь Гранбаккен в страхе и напряжении прислушивается: откуда раздастся сатанинский хохот? Ларс Уле отыскал где-то старый черенок от лопаты и теперь судорожно сжимал его в руках. Вдруг ему почудилось, что в хлеву кто-то есть. Луна тускло светила в запыленное оконце. Ларс Уле различил в пустом стойле какую-то тень. А потом что-то белое мелькнуло у выхода. Нет, это, должно быть, обман зрения. Но… ведь он ясно слышал медленные шаги… И вдруг над самым его ухом раздался хохот. Он доносился с улицы через разбитое окно, которое Ларс Уле как раз присмотрел себе на тот случай, если ему придется срочно покинуть хлев. Подскочив от неожиданности, Ларс Уле повернулся и с такой силой треснул рукояткой лопаты по кирпичной стене, что сверху на него свалилась конская упряжь с бубенцами, с головы до ног опутав ремнями и веревками. Чем больше он старался высвободиться, тем сильнее запутывался. И всё это время не переставая звенели бубенцы, как будто удалые кони мчали свадебный поезд по гладкому льду. Далеко по всей округе разносился зычный голос Ларса Уле, а в близлежащих домах из каждого окна торчала чья-нибудь голова. В усадьбе соседа из окна комнаты старшей дочери высунулись почему-то даже две головы, что послужило причиной семейной баталии этой же ночью.
Все кавалеры ринулись во двор.
— Поймал его? — что есть мочи вопил насмерть перепуганный Йорн, размахивая топором над головой.
Вслед за ним примчалась вся ватага. Ларс Уле стоял на четвереньках, уткнувшись головой в навоз, и, сражаясь с конской упряжью, орал дурным голосом. Сири навела на парня карманный фонарик и попросила его взять тоном ниже.
В то время как они пытались освободить беднягу от ремня, дикий хохот грянул из гостиной. Сири снова стала командовать, и все, словно перепуганные мыши, бросились к дому. Ларс Уле меж тем задал стрекача. Он несся по улице, всё еще пытаясь сорвать с себя упряжь, а бубенцы оглушительно звенели, возвещая всему живому о его приближении.
Сири, как заправский командир, расставила парней по местам. На этот раз все постарались запастись смертоносным оружием. Йорн сжимал в руках топор и вилы, а в зубах — столовый нож. Еще несколько вил он захватил с собою наверх и положил их перед собой. Вдруг хохот раздался в саду. Финн Уле и Юн-верзила стали потихоньку спускаться из окна. Но не успел Юн-верзила ступить на землю, как получил удар прямо в лицо чем-то мягким и липким. Услышав крик, Финн Уле выпрыгнул вслед за ним и упал прямо на Юна, который, сомлев, растянулся на траве. Сири с револьвером в руке вихрем слетела с лестницы. Из спальни Хуаниты раздавались стоны и жалобный плач. Притихшие кавалеры стояли во дворе. Теперь уж чаша была переполнена. Финн Уле и Юн-верзила такими красками расписали привидение, что оно казалось всем страшнее тролля из Хельдальского леса. Сири ткнулась носом в щеку Юна-верзилы.
— В тебя плеснули кислым молоком, — заявила она убежденно. — Все по местам!
Однако храбрецы, стыдливо понурив головы, один за другим скользнули за ворота. Во дворе остался только Йорн со своим оружием. Он судорожно глотнул воздух, но не двинулся с места.
— Спасибо тебе, Йорн, — ласково сказала Сири. — Ступай наверх, а остальное я возьму на себя. — И громко продолжала: — Я обойду с револьвером вокруг дома и как только услышу шорох или замечу какое-нибудь движение, буду стрелять!
Они вздрогнули, услышав громкий хохот отца Сири из нижней комнаты.
После этого Йорн, еще больше побледнев, отправился наверх, а Сири двинулась вокруг дома, держа наготове револьвер со взведенным курком. Теперь вся эта история не казалась ей такой уж забавной. Обогнув последний угол, Сири пошла, тесно прижимаясь к стене. Из-за этого она споткнулась о выступ веранды и полетела носом в землю, нечаянно нажав курок. Грянул выстрел. Сири вздрогнула и закрыла руками лицо. Оно было всё перемазано кислым молоком. Мокрая швабра, лежавшая около веранды, угодила ей в рот. В эту минуту послышались тяжелые шаги за углом. Какой-то человек гнался за ней по пятам! Сири быстро схватила швабру и, едва только парень показался из-за угла, бросилась на него, размахивая своим оружием. Тогда он изменил курс и одним духом взлетел вверх по лестнице, словно ласточка в погоне за комаром. А богатырь Йорн выпрыгнул из окна второго этажа и побежал по холмам, блея от страха, точно баран.
Как раз в это время в усадьбе соседа по окончании баталии пили за здоровье дочкиного кавалера. Жених держал в одной руке стакан с вином, а другой поддерживал штаны. Подтяжки свисали у него пониже пояса. Когда он услышал, вопли пробегавшего мимо богатыря, рука его, поддерживавшая штаны, от неожиданности разжалась…
А Сири между тем осталась один на один со страшным гранбаккенским привидением. И это вовсе не радовало ее. Когда она, с револьвером в вытянутой руке, поднималась вверх по лестнице, из своей комнаты вышла Хуанита. Старая амазонка дрожала от страха и беспрестанно крестилась. Но настроена она была очень воинственно и сыпала угрозами направо и налево. В руке она держала кочергу. Хуанита, не говоря ни слова, протянула тонкий шнур над верхней ступенькой, чуть повыше пола, и привязала его к перилам. После этого она, приложив палец к губам, бесшумно втащила Сири к себе в комнату. Тут обе женщины застыли в ожидании, крепко сжав кулаки. Прошло несколько долгих минут. Потом они услышали хохот наверху. Кто-то медленно шел по направлению к лестнице. Хуанита так крепко сжала руку Сири, что синяк на коже девушки не проходил недели две. Позднее, указывая на него, некоторые недоверчиво говорили, что дело тут, должно быть, вовсе не в Хуаните!
Привидение прошло мимо комнаты, в которой они сидели. И, тут послышался неимоверный грохот, а затем вопли, стоны, проклятья и ругань.
— Привидение не стало бы ругаться, как извозчик! — закричала Хуанита так громко, что усы у нее задрожали. С этими словами она рванула дверь и бросилась из комнаты. В самом низу лестницы, почти съехав на пол, лежало белое привидение и жалобно вопило.
— Вставай, — закричала Сири, — а не то буду стрелять!
Человек вскочил и попытался было улизнуть. Тогда Сири пальнула в него, и по воплю, раздавшемуся вслед за выстрелом, поняла, что попала в цель. Человек совсем обезумел. Не раздумывая, он бросился в спальню старика Клинбергера и, прихрамывая, подбежал к окну. Но тут старик вскочил с постели.
— Так ты и мне не даешь покоя, хохотун проклятый! — закричал он.
Призрак, лихорадочно отодвигая оконные задвижки, отвечал ему замогильным голосом:
— Я дух Гудлейка-изгнанника, и нет мне покоя в могиле!
— Ну вот сейчас я, черт побери, угощу тебя снотворной пилюлей!
Тут Клинбергер, схватив со столика ночник — старинную фарфоровую вазу, в которую была вмонтирована лампочка, запустил ею в голову Гудлейка. Тот без единого звука рухнул на пол. В это время Сири и Хуанита осторожно вошли в комнату и остановились над распростертым призраком.
— Кровь, — сказала Хуанита, указывая на его голову и руку.
Сири сорвала с человека простыню. Привидение оказалось весьма пригожим парнем. И вдруг Сири признала в нем того самого кавалера с фальшивыми усами, что танцевал с нею в субботу на гулянье. Она принялась усердно хлопотать над ним. Хуанита промывала рану на его голове, а Сири смазывала йодом его ногу. Но парень внезапно пришел в себя и завопил что есть мочи:
— Ай-ай-ай! Убили вы человека, и ладно. Зачем же еще мучить его после смерти?
И вдруг, увидев Сири, разом умолк. Но, видно, он был не из робкого десятка, потому что поднял руку и нежно погладил Сири по щеке. Она отпрянула. Затем снова быстро наклонилась над ним, заглянула ему в глаза и положила руку ему на лоб.
— У тебя жар? — спросила Сири.
— Да, — простонал он и, приподнявшись на локте, поцеловал ее в щеку. Потом опять упал навзничь. — Я брежу!
— Да он просто самозванец, а вовсе не привидение, — сказала Хуанита. — Позвонить ленсману?
— Что это угодило мне в голову? — спросил парень, очнувшись.
— Старая безвкусная ваза, — ответил Клинбергер.
Он зажег сигару, предложил другую привидению и любезно дал ему прикурить.
Парень взглянул на вазу. Из нее торчала какая-то свернутая трубкой бумага. С загоревшимися глазами он протянул руку, взял позолоченные гербовые листы и распрямил их. Потом издал восторженный клич, вскочил на ноги, но тут же повалился обратно, прямо на руки Хуаните. Кровь ручьем потекла из его раны. Сири снова захлопотала вокруг него, а Хуанита, крепко зажав его в своих лапищах, приказала девушке:
— Промой ему как следует рану! А ты, привидение, не ори, будь мужчиной!
— Завещание! — воскликнул Пер Гранбаккен и потерял сознание. Сири торопливо заканчивала перевязку.
А потом они праздновали встречу Нового года. Перу Гранбаккену пришлось рассказать, как он надеялся запугать и прогнать из дома старика и женщин, а потом купить усадьбу за бесценок. В Канаде он трудился до седьмого пота, и ему удалось собрать немного денег.
Он долго пролежал в постели, и Сири ничего не оставалось, как ухаживать за ним. А старый Клинбергер вынужден был без конца слушать рассказы Пера о том, как он отвадил от дома всех кавалеров Сири.
Свадьба состоялась спустя полгода, и первенцу при крещении дали имя Пер Спёк[18] Гранбаккен. Мальчик был красив, как истинное дитя любви. И жители долины со знанием дела заявляли, что в этом нет ничего удивительного!
Одинокие
(Перевод Л. Брауде)
Улица казалась мрачной и пустынной. Женщина медленно приближалась к дому, уже на расстоянии представляя себе, как эта серая каменная громада поглотит ее. И чем ближе она подходила к дому, тем сильнее охватывал ее привычный страх одиночества. Страх перед своей пустой комнатой. Страх перед своим жалким существованием. Страх перед своей бессмысленной жизнью.
Она понимала, что многим живется не лучше, чем ей. Но всё-таки ей казалось, что улица, дом и комната преграждали путь только ей, давали резкий отпор ее жажде жизни и любви. И иногда жизнь казалась ей бессмысленно убогой и бесперспективной, тупиком, из которого нет выхода. Ей казалось, что даже тусклые огни уличных фонарей, даже мокрые камни мостовой, даже одинокие прохожие были ее врагами.
А этот дюжий полицейский, этот человек в мундире! Он спокойно стоял на одном и том же месте, возле уличного фонаря, и казалось, будто его огромная тень навечно застыла на стене дома. О, как ненавидела она его холодный, оценивающий взгляд, его равнодушие! О, как хотелось ей сказать ему, что она была всего-навсего безопасным зверьком, одним из тех, за кем следить не надо. Но больше всего ей хотелось, чтобы он в чем-нибудь заподозрил ее! Тогда, быть может, он зашевелится и его застывшая тень на стене тоже начнет двигаться. Ей хотелось, чтобы он обернулся, сделал ей замечание, даже повел в полицейский участок. Только бы он обратил на нее внимание. Пусть даже он сочтет ее опасной преступницей! Пусть — убийцей! Всё лучше, чем это убогое существование, эти вечные сковородка и чайник, этот вечный, гнетущий ее страх. Страх перед одиночеством из вечера в вечер, когда она сидит за остывшей чашкой чая, слушая дурацкое радио и глядя на пустую кровать.
И это ее одинокое окно! Окно, возле которого она стояла, глядя на улицу в долгие томительные вечера, когда огни города, словно сверкающая паутина, мерцали перед ней, а яркие фары автомобилей озаряли улицы и залитые светом бульвары под сенью деревьев. Ей казалось: она различает темную зелень этих деревьев, вдыхает аромат их дремлющей листвы, упивается роскошью магазинных витрин и слышит звонкий смех.
Всего этого жаждала ее юная душа. Но было в ней и нечто стариковское, и прежде всего — отречение от жизни. Ведь она каждый вечер запрещала себе приближаться к окну! И всё-таки после долгой и мучительной борьбы она снова подходила к нему. Как человек, тайно предающийся пороку, погружалась она в этот недоступный мир мечты, ненавидя его, боясь и горько раскаиваясь в своей слабости.
Столько раз она стояла у своего окна, наблюдая всю эту воображаемую жизнь, что эта жизнь навеки запечатлелась в ее душе! Сколько раз она думала, что и она, как равная среди равных, идет по улице вместе с толпой этих людей, живущих полной жизнью! Сколько раз она всё снова и снова надеялась, что кто-нибудь из них поднимется к ней и уведет ее за собой, навстречу этой жизни, или принесет жизнь с собой в ее одинокую комнатку. Но время шло, и всё оставалось по-старому: та же сковородка, та же одинокая постель, а на потолке вечные отсветы автомобильных фар. Влюбленные медленно проезжали в автомобилях, и это еще сильнее заставляло ее чувствовать свое одиночество. Она была наедине со своими мыслями, бесплодными мыслями, которые никогда не оставляли ее.
Почему она была одинока? Почему? Она понимала, что так же красива и так же достойна любви, как и любая другая женщина. В счастливые минуты она казалась себе лучше многих знакомых ей девушек. Она изучала себя в зеркале: в простом будничном платье или в лучшем выходном (чтобы купить его, она дважды отказывалась от летнего отдыха), а чаще — совсем обнаженной. Больше всего ей нравились ее руки. Хороши были и плечи, такие мягкие и нежные. И крепкие маленькие груди, мягкий округлый живот и пышные бедра, переходившие в длинные, стройные ноги.
И всё же! Одна устрашающая мысль о том, что она может потерять власть над собой, леденила ей кровь, и она больше всего боролась именно с тем, чего так страстно желала. Если бы ее зеркало умело говорить! Если бы ее окно могло рассказать всё то, что она поверяла лишь автомобильным фарам, бросавшим отсветы на ее белый потолок…
Тени! Одни лишь тени, безжизненные, навязчивые и мрачные, отчетливые и проницательные! Как они были схожи с тенью могучего полицейского, стоявшего с таким равнодушным и суровым видом на углу улицы…
Нет, видно, никогда не удастся ей встретить человека, который поможет ей осуществить всё то, о чем она мечтала, глядя на улицу. Никогда, никогда…
В такие минуты она бывала близка к тому, чтобы открыть газовый кран. Да он, кстати, был совсем под рукой. Она могла достать его, протянув левую руку. И она могла погасить лампу, чтобы в комнате воцарилась темнота, лежать, глядя на отсветы, бегающие по потолку, и прислушиваться к шуму улицы. Она не боялась смерти. Но она боялась, что может испугаться ее.
И она говорила самой себе: «Ты вовсе уж не такая храбрая! Ты не знаешь самоё себя!..»
В такие вечера рука ее непроизвольно тянулась к газовому крану. Одно лишь короткое движение, и она будет свободна. Свободна? От чего?..
Но рука, лежавшая на газовом кране, эта прекрасная узкая рука с длинными чуткими пальцами, так и оставалась лежать. И отсветы всё снова и снова двигались по потолку. И снова слышала она звонок в дверь соседней квартиры, и снова совсем близко от нее раздавался женский смех… Этот смех говорил ей о многом. Она не прислушивалась, она не желала прислушиваться, но всё равно этот громкий смех доходил до ее слуха, так же как и до слуха того, кому он был предназначен.
А она была совсем одна в своей маленькой комнатке.
Однажды утром она увидела эту ставшую ей ненавистной женщину, которая так громко смеялась. Женщина вышла из дверей квартиры соседа. Лицо у нее было заспанное, а сама она — вовсе уж не такая нарядная, какой казалась раньше одинокой девушке за стеной. И еще она заметила ее неприбранные волосы. Губы были накрашены некрасиво и, как видно, наспех, но глаза, ее глаза! Как они были красноречивы!
Девушка смотрела, как та, другая, направляется к лифту, и оглядывала ее с головы до ног… «До чего вульгарна», — думала она с чувством какого-то грустного удовлетворения. И всё же… когда потом она снова стояла у окна, ей показалось, что именно с этой женщиной ей следовало бы побеседовать, а быть может и познакомиться поближе…
Но вот в ее жизнь тоже вошла сказка, о какой она мечтала. Она встретила его, одного-единственного на свете человека.
Иногда по вечерам ей случалось выходить из дому. Это бывало, правда, редко, но всё-таки иногда случалось.
Быть может, в этот вечер она была красивее, чем обычно. Трудно сказать. Она в самом деле была красива и чувствовала это. Вечер принадлежал ей. Существовали ли для нее окружающие? Ощущала ли она связь с людьми? Интересовалась ли их жизненными судьбами?
Да, люди интересовали ее.
Как всегда, проходя по улице, она и в этот вечер заглядывала в окна. В чужих комнатах жили незнакомые люди. Там они любили. Там рождались их дети. Там расхаживала хозяйка дома, прыгал шалун, а старая бабушка вязала чулок. Там царил покой семейного очага, покой настоящего счастья.
Вернувшись домой, она вновь подошла к окну. Казалось, душа ее была переполнена до краев. Там, внизу, на стене дома по-прежнему застыла тень — огромная, угрожающая и невозмутимая, как скала. Ей казалось, что тень этой фигуры, закованной в броню мундира, всё растет и растет, поднимается всё выше и выше… И вдруг она поняла, что под маской холодного достоинства может скрываться живая человеческая душа. Ведь и она все эти годы, скрывала свою душу под такой же маской…
Она стояла у окна, и на нее падал свет. Так случилось впервые. Обычно она гасила лампу, когда подходила к окну. Но сегодня она этого не сделала. Поэтому ее силуэт на фоне окна был хорошо виден с улицы.
А полицейский, стоя на своем углу, думал: «Ты одна из тех чертовски счастливых женщин, что живут полной жизнью и радуются своему существованию. Ты — совсем не то, что я — неподвижная фигура в мундире, статуя на углу улицы. Черт бы побрал тебя и таких, как ты!.. О, ты знаешь, что красива, ты знаешь себе цену! Я видел это, когда ты проходила мимо! Как насмешливо смотришь ты на меня! Ты хорошо знаешь, что я стою здесь, возле фонарного столба, как раз в то время, когда ты возвращаешься домой! Ты хорошо знаешь это, ты это подметила, и ты хочешь помучить меня. Ты дьявол в юбке, ты издеваешься над моим одиночеством. Теперь я вижу тебя. Ты стоишь там и смотришь на этот город. Он — твой, и все приключения в этом городе — твои, и вся жизнь, бьющая ключом, — твоя.
Он с ненавистью смотрел на женщину, которую давно любил. Но он считал, что она презирает его.
И вот случилось то, чего не могла предопределить никакая судьба, то, чему не могла помешать никакая сила.
Виновата во всем была оконная рама, которая уже давно болталась на петлях! Тишину ночи внезапно прорезал резкий крик. Рама сорвалась с петель, и девушка едва успела подхватить ее. Тяжелая рама тянула ее вниз. А там, на улице, она смутно различала тени, какие-то большие, похожие на парящих летучих мышей, тени. Она чувствовала, что вот-вот вывалится из окна. И тогда она закричала. А он — он стоял точно вкопанный. Сначала он вовсе не понимал, что происходит, а потом услышал протяжный крик, похожий на крик одинокой чайки над безлюдным морем. Ему приходилось слышать такие крики раньше, когда он еще ходил в море.
И тогда он побежал наверх…
Дверь была открыта настежь, а она, обессиленная, едва удерживала раму в руках. Он схватил ее в объятия. Оконная рама с треском полетела вниз.
Дрожа как осиновый лист, она прижималась к нему. Они не услышали, с каким звоном ударилась о тротуар оконная рама, не услышали доносившихся с улицы криков. Они не шевелились. Они только держали друг друга в объятиях…
Когда сознание снова вернулось к ней и комната снова стала прежней, ее собственной комнатой, она, сама не понимая, что говорит, сказала, словно обращаясь к старому другу:
— Ты ведь меня совсем не знаешь!
Он шепнул ей на ухо:
— Я знаю тебя много-много лет!..
Он говорил и говорил… Его слова медленно, будто кровь, растекались по жилам, проникали в ее душу, и вот снова долгое объятие. Потом руки его разжались… Усталая и счастливая, точно малый ребенок, который прижимается к своему отцу, она пробормотала:
— А рама?
— Она упала на улицу, — ответил он. — Посмотри, вон она лежит внизу, разбитая вдребезги, сломанная, словно наша прежняя ужасная жизнь. Но она никого не убила. Нам повезло.
Они перегнулись через подоконник и посмотрели вниз. Но мерцающие автомобильные фары уже больше не существовали для них. Город был обычным городом, и, когда они отвернулись от него, оба они очутились в своей собственной комнате, — комнате, принадлежавшей им обоим.
Венера и картофель с селедкой
(Перевод Ф. Золотаревской)
По улице Нёрребругаде в Копенгагене шли трое мужчин. Они были до крайности не похожи друг на друга. Человек, шедший посредине, нес под мышкой мольберт. Это был маленький, коренастый крепыш с непомерно широкими плечами, длинными руками и крупным носом. Слева от него шел некий худосочный отпрыск интеллигентного семейства, всем своим обликом напоминавший изнеженное оранжерейное растение. Третий был чуть полноватым, рослым мужчиной в нечищеных ботинках и свисающих гармоникой брюках. Он был писатель.
— Нет, теперь с этим покончено, — сказал Кай, потрясая мольбертом. — Лучше быть добросовестным литографом, чем исписавшимся художником.
Стиг замахал длинными, тонкими руками.
— Чепуха! — закричал он так громко, что на него стали оглядываться прохожие. — Это критики исписались, а не ты. Они слишком долго пробавлялись старыми картинами. В искусстве царит косность, и мы, к сожалению, не скоро еще ее преодолеем!
Стиг говорил тоном маститого знатока живописи. Но тем не менее факт оставался фактом: картины Кая опять не были приняты на выставку. В последние годы их вежливо, но решительно отклоняли.
Сигурд молчал, хотя понимал, какую боль испытывает идущий рядом с ним человек. Он хорошо знал своего друга. Кай был не из тех, кто мог заняться каким-нибудь другим делом и начать жизнь заново. Он принадлежал к числу тех людей, которые скорее предпочтут без громких слов прервать неудавшуюся жизнь, чем постоянно терзаться воспоминаниями о своих былых успехах.
Они свернули в боковую улочку, на которой находилось маленькое кафе. Его посещали главным образом грузчики и шофёры. В витрине на блюде красовалась жареная сельдь. Вокруг нее с жужжанием носились мухи.
Кай заказал хлеб с сыром и селедку с молодым картофелем. Они уселись за шаткий столик и застыли в задумчивом молчании: Сигурд никогда не отличался особой разговорчивостью, а Стиг не мог подыскать тему для беседы. Кай сидел с видом человека, решившегося на что-то страшное. Он был пугающе спокоен.
Кафе было пусто, только за соседним столиком сидело несколько молодых женщин. Они были, как видно, из тех, кого мужчины обычно пренебрежительно называют «девочки». Перед ними стояли пустые чашки из-под кофе. Одна из женщин скручивала сигарету из окурков, найденных в пепельнице. Рядом с нею сидела девушка лет семнадцати. На первый взгляд она не казалась красавицей, но, когда в нее вглядывались повнимательней, в ее облике обнаруживалось нечто волнующее и неуловимо привлекательное. Она сидела неподвижно, а затем слегка шевельнулась, и друзьям почудилось, будто от нее к их столику пробежала электрическая искра. Она переводила свой спокойный взор с одного на другого: с Сигурда на Стига, со Стига на Кая. Наконец глаза ее остановились на Кае. Взгляд ее не был вызывающим, его скорее можно было назвать испытующим, критическим, требовательным.
— Она, кажется, хочет загипнотизировать нас, — беспокойно проговорил Сигурд. — Какие глаза!
Кай сидел, скрестив руки на грязной скатерти. Он поднял голову и посмотрел на девушку из-под густых, нахмуренных бровей.
— Взгляните на нее! — шепнул он. — Это Мария Магдалина. Она живет в грехе, но какая в ней чистота и безмятежность! В ней есть то, что называют вечной женственностью. Она — воплощение бьющей через край жизни.
Он благоговейно вздохнул и отвел взгляд от соседнего столика. Принесли картофель и селедку. Друзья молча принялись за еду и не заметили, как за соседним столиком стало тихо и пусто. Вдруг они услышали глубокий вздох, и кто-то негромко, но явственно, произнес:
— О, как это, должно быть, вкусно — картофель с селедкой…
Три вилки с жирными, аппетитными кусками сельди застыли в воздухе. Прошло несколько секунд, пока этот доверительный шепот достиг их сознания. И уши их запылали от стыда. Эта интонация, этот дрожащий голос были знакомы им еще с тех времен, когда они сами ходили подтянув животы и глотая голодную слюну.
Девушка сидела в одиночестве, раскачиваясь на стуле и сложив на коленях руки. Большие удивленные глаза неотрывно смотрели на занятых едою мужчин. В глазах не было мольбы, но губы дрожали, как крылья бабочки.
Кай слегка повернулся, стул чуть заскрипел под тяжестью его тела, и в следующее мгновение девушка уже сидела за их столом, потирая плечи после медвежьей хватки Кая. Стиг уже возвращался от стойки с еще одним дымящимся блюдом в руках.
— Ешь! — коротко сказал Кай.
Она робко поковыряла вилкой и улыбнулась неуверенной, заученно кокетливой улыбкой. Она старалась держаться вызывающе развязно.
— Ешь, дитя, — сказал Кай. — Не представляйся!
Девушка вздрогнула. И сразу же стала естественной и простой. Время от времени она по-детски вытирала рот тыльной стороной руки.
Насытившиеся и довольные, они принялись за кофе.
Стиг хотел налить ей в чашку немного пунша из своей фляги, но она покачала головой:
— Не надо… Пока еще не надо, — прибавила она. — Ты скульптор? — спросила она Кая.
— Нет, — ответил тот. — Я был художником; он — критик, а вот он — писатель. Как видишь, все бездельники.
— Я так и думала, — сказала она удовлетворенно. — У вас какая-то неприятность, иначе я не стала бы за вами наблюдать. Спасибо за угощение. У меня нет работы, на прошлой неделе меня уволили…
Она вдруг запнулась.
Девушка всё время обращалась к Каю. Она не сводила с него внимательных, оценивающих глаз. Если бы взгляд ее не был так наивен, он мог бы показаться раздражающе-назойливым. Девушка как будто прислушивалась к тому, что происходило в душе Кая, и Кай всё беспокойнее ерзал на стуле. От его непоколебимой самоуверенности не осталось и следа. Сигурд с изумлением заметил, что на висках у Кая показались капли пота.
— Ты знаешь меня? — спросила девушка почти умоляюще. — Не правда ли?
— Ну, конечно же, черт побери! — вырвалось у Кая. — Я знаю тебя очень хорошо, хотя до сегодняшнего дня в глаза тебя не видел.
— А не всё ли равно? — сказала она так, словно они обсуждали какую-то старую проблему, касающуюся их обоих. Вдруг девушка положила сильные, цепкие пальцы на левую руку Кая.
— Можно? — спросила она и, не дожидаясь ответа, чуть отодвинула рукав у левого запястья. В нескольких сантиметрах от кисти темнело родимое пятно с тремя черными волосками. Девушка удовлетворенно улыбнулась, осторожно погладила волоски и надвинула обратно рукав. Пальцы Кая дрожали. Он испуганно отпрянул, когда девушка испытующе посмотрела ему в глаза.
Стиг и Сигурд безмолвно наблюдали за происходящим. У них было такое чувство, будто они и пошевелиться не смеют без разрешения этой удивительной девушки.
Спустя некоторое время они ушли. Девушка продолжала сидеть за столом и с легкой улыбкой глядела им вслед. На улице Кай вдруг вспомнил, что забыл в кафе свои рисунки. Он извинился и поспешил обратно.
Они встретились с Каем только через год…
Однажды поздним вечером Стиг и Сигурд стояли на площади Ратуши. Время близилось к полуночи. Скоро должна была появиться толпа газетчиков с завтрашним выпуском «Политикен».
Вдруг из-за фонаря вынырнула знакомая коренастая фигура. Кай остановился и поздоровался так, будто они расстались только вчера.
— Пошли! — коротко сказал он.
Кай жил в старой части города. Здесь он снимал просторную мансарду в доме, смахивавшем на бывшую конюшню. Кай часто менял жилье.
Она открыла дверь и поздоровалась с ними, как со старыми друзьями. Да, всё ясно. Этого и следовало ожидать. Но теперь уже не нужно было пристально вглядываться в нее, чтобы разглядеть ее изумительную красоту. В сущности, она не была красавицей, но вместе с тем казалась необыкновенно привлекательной. Стиг сразу же стал разглядывать стены. Они были пусты. Ни одной картины. Стиг сердито покачал годовой.
Она вышла из кухни, неся четыре прибора и еду.
— Само собою, ты ожидала нас именно сегодня, — сказал Стиг раздраженно. — Может быть, ты даже знала, что на мне будет желтый галстук?
— Ешь, дитя, — слазала она таким тоном, что Стиг сразу умолк.
Она принесла несколько бутылок вина. Кай говорил главным образом о погоде. Время шло. Стиг вертел в руках фруктовый нож; чувствовалось, что еще немного, и он всадит его в хозяина дома.
Только на рассвете Кай поднялся, выбил из трубки золу и равнодушно сказал:
— Да, я ведь забыл вам кое-что показать.
Кресло Стига покатилось по полу, фруктовый нож со звоном упал на стол. Они пошли вслед за Каем по длинному коридору. И вот они вошли в мастерскую. Все стены были увешаны картинами. Кай стоял молча, покусывая нижнюю губу. Стиг огляделся и застыл с вытянутым лицом. Глаза его медленно переходили с одной картины на другую. Он молча двинулся вдоль стен.
Здесь было тридцать или сорок портретов. И на всех была она. Она, и в то же время не она. Здесь были воплощены тысячи женских судеб, — женщины на вершине счастья, и женщины на краю отчаяния. Женщины гордые и жалкие, чистые и познавшие любовь, юные и зрелые. И хотя сходство с нею было поразительным, трудно было сказать, что именно она послужила моделью для этих женщин, вобравших в себя все оттенки человеческих страстей.
Это была она, и в то же время не она. Мужчины обернулись и стали глядеть на нее, словно только сейчас увидели. Она выросла в их глазах и казалась необыкновенной. Двое мужчин стояли потрясенные, задумчиво глядя перед собой.
Наконец Стиг тряхнул головой.
— М-да… — пробормотал он. Затем положил руку на одну из картин и вопросительно взглянул на Кая.
— Нет, не сейчас еще, — быстро и испуганно сказал Кай. — Пусть они немного побудут со мной. Но когда-нибудь я обязательно должен буду отдать их людям.
Стиг добродушно кивнул.
В том же году на витрине частного художественного магазина был выставлен портрет женщины. Картина была анонимной, но вызвала небывалую сенсацию. Художник назвал ее: «Венера и картофель с селедкой».
Земляки
(Перевод Л. Брауде)
До войны Самюэль Бредал занимал прекрасную должность, помощника кассира фирмы «Сэм и Ко». Должность эта считалась весьма перспективной, хотя оплачивалась не очень высоко. Однако жалованья хватило и на семью, когда Самюэль женился. Он не был светским человеком. Уже в детстве он обладал сильно развитым чувством долга и всегда гораздо больше думал о будущем, чем о настоящем и о том, чтобы наслаждаться сегодняшним днем.
«Благодаря этому он вырос нравственным человеком», — обычно говорила его жена.
«Временами он бывает уж слишком молчалив», — говорили друзья. А старые приятельницы давно объявили, что Самюэль холоден, как рыба. По-видимому, его интерес к прекрасному полу был ничтожно мал. Только жене Бредала было известно кое-что другое. Под оболочкой равнодушия и холодности скрывалась пылкая душа, все богатства которой раскрывались в любви… Жизнь была нелегкой, но всё же прекрасной, и со временем Самюэль превратился в чрезвычайно кроткого человека, который всем нравился.
Но вот пришла война. Немцы оккупировали страну. Новые правители — новые порядки. Потребовались совсем другие человеческие качества, которых не было у Самюэля Бредала. И он очень пал духом в то время. Правда, он сохранил и должность и жалованье, хотя они так мало значили, когда цены всё повышались и повышались. Для него, чиновника на постоянном жалованье, который ничего не подрабатывал на стороне, жизнь с каждым днем становилась всё труднее. Ведь работа его не была связана с созданием каких-либо «жизненных благ», как обычно говорил старый брюзга Симонсен, — в их фирме не производилось ничего, что можно было бы выменять на продукты. Сюда не заглядывали с черного хода рыбаки с корзинками в руках, не останавливали во дворе свою телегу крестьяне, заходившие потом с серьезным видом в экспедицию, не появлялись здесь и женщины, повязанные черными платками, с таинственным видом предлагавшие что-нибудь выменять… Нет, похвастаться служащим фирмы было нечем. В это тяжелое время они чувствовали себя словно выброшенными за борт.
О Самюэле Бредале говорили, что он баловал своего сына сверх всякой меры. Сам же Самюэль не замечал этого. Он съедал меньшую долю хлеба из своего пайка, и пока была хоть малейшая возможность, сын его получал и молоко и масло. Ранни сердито говорила, что ведь Самюэль — их кормилец, что он должен брать с собой в контору хоть какую-нибудь еду и что для нее и мальчика будет в тысячу раз хуже, если заболеет отец. Самюэль Бредал, упрямый, как большинство молчаливых людей, утверждал, что овощной суп — гораздо питательнее, чем она думает; говорят даже, что он такой же крепкий, как мясной бульон. Но Самюэль сильно осунулся, а на щеках у него залегли глубокие морщины.
И вот, когда пошел третий год с тех пор, как в Норвегии был установлен «новый порядок», мальчик принес из школы письмо. «Ролфа необходимо немного подкормить. У него предрасположение к бронхиту», — гласило письмо. Самюэль принял эти слова как обвинение по своему адресу. Он отправился к «фрёкен», чтобы побеседовать с ней. Учительница спокойно выслушала все его вопросы.
Видно, и она заметила, что мальчик последнее время выглядит усталым и кашляет? Не возражает ли фрёкен против того, что Самюэль иногда оставляет Ролфа дома? Не считает ли врач, что здоровью ребенка грозит опасность?
Учительница отвечала:
— Разумеется, ничего серьезного нет. Это лишь предположение врача, запись в лечебной карточке Ролфа, которую мы доводим до вашего сведения. Врач сказал, что мальчик нуждается в усиленном питании. — И с веселой искоркой в глазах она добавила: — Да и вы тоже, Бредал!
— Верно, и я тоже… — вздохнул Бредал, погладив подбородок. — Надеюсь, вы понимаете, что мне не хотелось бы быть навязчивым, что я… — он запнулся. Нет, ему бы следовало помнить, что он не очень красноречив. Он не расспросил и половины того, что ему хотелось бы знать о своем мальчике и о многом другом.
— Конечно, — отвечала она, глядя на него. — Но нам всем приходился считаться с тем, что сейчас не до сентиментов, господин Бредал!
Самюэль Бредал отправился в контору. Мальчик нуждается в усиленном питании, сказал врач… Руки Самюэля Бредала, засунутые в карманы плаща, сжались в кулаки. Он снова ощутил раскаяние и досаду. И еще — горечь. Что на него нашло? Почему он не брал карточку на водку? О чем он думал? Если бы хоть он был настоящим трезвенником! Просто ложно понятое чувство собственного достоинства не позволяло Бредалу делать это. Спиртное стало играть теперь такую роль, что даже трезвенники считали необходимым запастись солидным набором спиртных напитков. Бредал называл это «данью моде». Да и денег лишних у него не было. Но теперь он испытывал раскаяние. Бутылка водки равнялась по тогдашним ценам пяти килограммам сахару; а за вторую бутылку он мог бы получить несколько талонов на хлеб. Когда Самюэль начал подсчитывать, у него просто голова закружилась. За две бутылки водки по карточке Ранни он мог бы получить… О, черт побери, какой он идиот! А на что жил Якобсен, как не на четыре карточки на водку, полученные для себя, для жены, ребенка и служанки, давно ставшей членом его семьи? Сколько же это бутылок? Восемь бутылок в месяц? Восемь бутылок по шестьдесят крон приносили Якобсену четыреста восемьдесят крон в месяц, и они-то и были основным его обменным фондом.
«Мальчик нуждается в усиленном питании». Эти слова заставили Бредала решиться. На следующий день он отпросился на неделю со службы. С тремя сотнями крон в кармане (часть этой суммы ему одолжил тесть) Самюэль отправился пароходом вглубь фьорда. Никогда раньше не приходилось ему так нервничать. Ведь он хорошо знал: в любой торговой сделке его одурачат, а потом он будет исходить бессильной яростью.
Бредал сошел на берег. Много раз причаливал он к этой пристани в детстве. Он хорошо знал большинство усадеб в округе, но в последний раз был здесь много лет тому назад. Владельцам некоторых из этих усадеб ему приходилось оказывать кое-какие услуги, но с тех пор тоже прошло немало времени.
Сиверт уже ждал его на пристани. Он коротко сказал:
— Я получил твое письмо, Самюэль. Добро пожаловать к нам. — Потом он взял чемодан Бредала и забросил его в телегу.
Немного погодя они тронулись в путь. Дорога спускалась вниз, в долину. Здесь царил мир и безмятежный покой. Ни суеты, ни спешки, ни самолетов, с громким гулом пролетающих над самыми крышами. Ничто здесь не напоминало о войне. Самюэлю казалось, что даже воздух здесь чище, и он с наслаждением вдыхал его. Вот где надо было пробыть Ролфу всё лето. Но теперь уже поздно: осень стоит у дверей.
— Да, здесь тихо и хорошо, — спокойно ответил Сиверт, понукая лошадь, которая била копытом и не хотела бежать в нужном направлении. Самюэль заметил, что лошадь была сытая, красивая и гладкая. Его это радовало. Запах конского пота — такой приятный, домашний и надежный — ударил ему в нос. Как будто он приложился щекой к теплой лошадиной морде. Он и сам не знал, откуда нашло на него это старое, давно забытое чувство благополучия. Он не думал, что в его памяти сохранились какие-то старые мальчишеские, впечатления.
— Неважно ты выглядишь, — вдруг заметил Сиверт, быстро взглянув на него, и снова стал понукать лошадь.
— Ты бы посмотрел на других, — сказал Самюэль.
…Пока Сиверт отводил лошадь в конюшню, на крыльце появилась Тюрид. Он увидел, что лицо ее стало очень изможденным. У Тюрид была особая манера прятать руки под передник, а в глазах ее затаилась чуть заметная настороженность. В комнатах появилось много новых прекрасных вещей, — здесь они казались чужими и странными. Тюрид, видно, полюбила всякие безделушки. Она ходила по комнате с тряпкой и вытирала сиденья стульев. Спина ее показалась Самюэлю чрезвычайно выразительной. У него появилось «предчувствие»: здесь до его приезда составили заговор. Молчаливость Сиверта и подчеркнутая учтивость хозяйки, которая не могла быть искренней и за которой, верно, что-то крылось, усилили первое впечатление Бредала. Слабое подозрение, которое зародилось у Самюэля и всё время грызло его, вспыхнуло вдруг, точно молния: он слишком давно уехал из этого прихода и уже не может считаться здесь старым знакомым. А разве он сам этого не чувствовал? А разве он сам не втерся к этим людям под вымышленным предлогом? Разве он не притворился, что приехал к ним как старый друг, и разве не вышло так, что эти люди раскусили его? Самюэль Бредал вовсе не считал, что он приехал просить милостыню, просить помощи. Он остановился у окна, один в огромной комнате, и наконец понял: у них бывало много таких гостей, как он. Быть может, хозяева видели его насквозь уже тогда, когда он переступал порог их комнаты. И что ж тут удивительного?
Жгучее страдание, сменившееся страшной усталостью, захлестнуло его. Он вспомнил вдруг старую индийскую пословицу: «Тот, кто молча просит милостыню, молча и голодает». Если бы он только мог сказать Сиверту: «Помоги мне получить десять килограммов масла и хотя бы три круга козьего сыра, и я никогда больше не вернусь сюда». Или же: «Сколько платят за это другие? Скажи без обиняков, я заплачу даже больше, только бы мне увезти эти продукты домой. Но сделай это поскорее. У меня дома мальчик, и он «нуждается в усиленном питании».
Но высказать всё это Самюэль Бредал не мог. Он чувствовал, как вспотели его ладони, когда он пожимал руку матери Сиверта в ответ на ее тихое «добро пожаловать!». Вообще-то она была очень внимательна и дружелюбна. Самюэль немного пришел в себя, когда понял, что может расквитаться с ними, отплатить за гостеприимство, сообщив городские новости, новости об их родственниках и многое другое.
Самюэль рассказывал. Он не скупился на подробности. Они становились всё более яркими и фантастичными. Всё, что Бредалу приходилось когда-либо слышать, пригодилось ему теперь… Он рассказывал всякие кухонные сплетни, потому что понимал: серьезное здесь никого не интересует…
Сиверт и Тюрид растаяли… Но за ужином Сиверт не забыл поинтересоваться, сколько просят за бутылку водки спекулянты на черном рынке. И Самюэль мог ответить, что цена бутылки перевалила теперь за шестьдесят крон, а в последние дни месяца доходит и до семидесяти. По воскресеньям же, до обеда, когда всем хочется повеселиться, цена водки стремительно возрастает до восьмидесяти, девяноста и даже ста крон. Самюэль рассказывал, делая вид, что и ему не чужды подобные дела, что он знает в них толк. Уважение Сиверта к гостю возрастало по мере того как тот рассказывал. Самюэль это заметил.
— Семьдесят крон за бутылку водки! — сказал Сиверт, восхищенно покачивая головой.
А Самюэль подумал: «Интересно, к кому относится это восхищение? Ко мне ли, который в состоянии купить бутылку водки, или к кому-нибудь другому, который получит за нее такие деньги?».
Нелегко пришлось ему и за ужином. Продолжать хвастливый разговор или нет? Что правильнее? Скажи лишнее — и хозяева поймут, что он привирает. Это подсказывала ему тонкая интуиция, свойственная большинству молчаливых людей. И он сказал:
— О, да это настоящий рождественский ужин! До чего всё вкусно! Я страшно проголодался в дороге.
Он увидел, что избрал правильный путь. Он не сравнивал городскую и деревенскую еду, но дал им понять, что всё, чем он сейчас с удовольствием угощался, представляет для него, горожанина, редкость.
— Ешь, — сказал Сиверт, протянув ему блюдо с бараньими ножками.
— Ну ешь же, Самюэль, — попросила и Тюрид, снова придвигая к нему блюдо… Это было очень приятно.
На столе появилась колбаса, копченое мясо, сыр, масло и хлеб домашней выпечки. По вкусу он напоминал Самюэлю пирожное, пирожное старых добрых дней. Он с жадностью поглощал яства, которых ему так давно не приходилось пробовать.
Перед тем как лечь спать, Самюэль пересчитал деньги. Особого труда это не составляло, — ведь у него было всего триста крон. Он подумал: «Если бы я согласился наняться к хозяину строительной конторы, работавшему на немцев, то сегодня у меня было бы уже небольшое состояние и мне были бы доступны все блага жизни, а главное, продукты. Олсен-то поступил так! Теперь у него вилла, куры и поросята, и всё же его продолжают считать патриотом. Да, на словах-то он настоящий патриот! Брат Олсена стал подрядчиком в строительной конторе, и невозможно даже представить, сколько он зарабатывает, сооружая бараки и крепости! И всюду трубит о своем патриотизме. А по воскресеньям семья его ест и свинину и говядину…»
Помощник кассира Бредал сидел на краю кровати в темной комнате и не мог ничего понять, — неужто он раскаивается, что не нанялся в строительную контору и не послал к черту свою работу? Конечно, нет! Но он очень хорошо знал: когда окончится война, он будет горько раскаиваться из-за того только, что на ум ему взбрели такие мысли. Они, скорее всего, дань времени. Это потому, что война тянется так долго.
Рано утром Самюэль уже был на ногах. Вскоре он карабкался на старые, знакомые склоны. Здесь, на этих зеленых лугах, он еще мальчиком пас коров вместе с Сивертом. На чистом горном воздухе мысли Бредала прояснились, и, когда он спускался вниз, ему казалось, будто он принял освежающий душ. Он очутился у дома на холме, где жил в юности, и немного постоял там. Из квартиры сапожника на крыльцо вышли двое. Один — без пиджака, с красным лицом и жидкими прилизанными волосами. Во рту он держал сигару и был похож с виду на состоятельного коммивояжера. Он откашливался, сплевывал и что-то говорил хриплым голосом. Рядом с ним, с кнутом в одной руке и с фуражкой в другой, стоял Сиверт. Они распрощались, и Сиверт вывел лошадь на дорогу, всё время оглядываясь, словно опасаясь, что кто-нибудь увидит его. Но вот лошадь побежала рысцой.
Самюэль медленно шел следом. Потом он внезапно свернул в сторону и сделал крюк, чтобы войти во двор с противоположной стороны. Каким-то внутренним чутьем он понял: Сиверту не понравилось бы, что Самюэль видел его вместе с жильцом сапожника.
После обеда Самюэль рассказал, какое дело привело его сюда. Лица Сиверта и Тюрид внезапно стали серьезными и озабоченными.
Ну и ужасные настали времена, жаловались они: в работе помочь некому, доходов никаких; нет, заниматься сельским хозяйством и смысла нет. Это равносильно голодной смерти. «Как там, Тюрид, осталось у нас хоть немного масла?» Нет, конечно, он и сам знает, что, к сожалению, нет. Но если Сиверт поищет у других людей, а знакомых у него хватает, то… Нет, эта ужасная война, эта подлая война…
Самюэль сказал:
— Мне нужно десять кило масла, или, скажем, пять кило масла и круг сыра. Всё это мне необходимо, и я заплачу!
Сиверт сморщил нос, а жена его просто отпрянула назад. Оба подумали: «Ну и повадки! Этот человек совсем незнаком с нашими обычаями. Сидит тут и обижает хозяев». На лице Самюэля застыло серьезное выражение. Он снова сказал:
— Я заплачу хорошо!
«Обида за обидой!» Сиверт слегка покраснел, а потом ответил:
— Так уже повелось здесь, в усадьбе, что мы не очень нуждались в деньгах, хотя их у нас и не водилось. Это в городах деньги в такой цене. Мы, слава богу, живем трудами рук своих, так что деньги твои продуктов нам не прибавят.
Он внезапно поднялся. Самюэль густо покраснел. Он понял, что совершенно неправильно приступил к делу, и поспешил извиниться. В комнате надолго воцарилась тишина. Самюэль смотрел на вышивку, висевшую на стене, «Боже, благослови Норвегию», — было выведено там жемчужной вязью.
— Пожалуйста, — сказал Сиверт, пододвинув к Самюэлю чашку кофе. Тот сидел, рассматривая теперь картину Ивара Осена. Рядом с ней висела фотография, на которой были сняты ученики высшей народной школы. В левом углу снимка восседал Сиверт. На другой стене виднелось изображение пяти молодых людей с Сивертом в центре. Двое из них стояли, а двое других сидели… Самюэль почувствовал страшную усталость. Снова неудача! Ведь все прежние попытки, которые он предпринимал во время велосипедных прогулок по воскресным дням, тоже потерпели неудачу. Он знал, что таких, как он, бедняков, рыщущих по дорогам в поисках продуктов, — много. Лишь у богачей всего вдоволь… Самюэль переменил тему разговора.
Только поздно вечером они с Сивертом нашли общий язык…
— Нет, десять кило масла тебе никак не достать, а вот пять, быть может, и найдется, да еще круг сыра весом в четыре кило. Хоть для нас это и трудно, но… Ты понимаешь?
Самюэль сидел точно на иголках, стараясь не испортить дела. Он всё время кивал и поддакивал Сиверту. Они были так довольны друг другом, что, казалось, вот-вот бросятся один другому на шею.
— Это, конечно, недешево, что и говорить, но нам ведь приходится покупать корм для скотины… Мешок муки стоит… Ну, да это всё равно… Я знаю немало людей, которые чего только не выменивают за кусочек масла, но я не из таких счастливцев. Здесь по всей округе ходит народ и скупает масло (голос Сиверта понизился до шепота) по фантастическим ценам. Но я не из таких, ты понимаешь…
Самюэль понимал его и постепенно всё больше и больше поддавался панике. Он вздохнул и схватился за бумажник, но Сиверт зло махнул рукой, и Самюэль быстро засунул бумажник обратно в карман. Ни за какие блага мира он не хотел бы обидеть хозяев. Он снова просчитался, ему снова не хватило «такта». Ему, городскому жителю, который здесь, в деревне, всё делал невпопад.
И вот получилось так, что ему с необыкновенной сердечностью запаковали и масло и сыр. Самюэлю казалось, что в кухне царили отсветы рождественского настроения. Сердце его распирала благодарность. Внезапно все стали необычайно доброжелательны к нему. Лица Сиверта, его матери и Тюрид сияли. Они улыбались так, словно все трудности жизни остались где-то позади. И Самюэлю показалось неудобным снова вытащить бумажник. Здесь, в усадьбе, он сможет получать продукты. Он еще вернется сюда. Его будут ждать, и не так его, как водку. Он это понял и был убежден, что, когда он снова появится здесь, человек, которого он встретил у дверей сапожника, снова пройдет мимо него… И еще Самюэль Бредал прекрасно знал, что он всегда окажется в проигрыше в любой торговой сделке…
Только вечером, когда пароход уже стоял у берега фьорда, Самюэль как бы случайно вытащил бумажник и расплатился с Сивертом. Месячный заработок за несколько килограммов масла и круг сыра! Однако он поблагодарил Сиверта. Ведь масло и сыр были в те времена дороже золота… Кроме того, он чувствовал: Ранни не верит, что ему удастся раздобыть какие-нибудь продукты. Он представил себе ее лицо при виде тяжелого пакета масла, который он выложит на стол. И еще сыр…
Пока пароход медленно отчаливал от пристани, он стоял, облокотившись на перила, и пристально разглядывал долину. А мысли его внезапно вернулись к вышивке на стене, и он невольно подумал с горечью: «Боже, благослови Норвегию…»
Человек возвращается домой
(Перевод Ф. Золотаревской)
Тёрбер Хансен сразу увидел, что письмо, которое ему протянули из окошечка, было от сына. Он быстро сунул письмо в карман и направился к двери. Заезжий гость спросил почтового чиновника:
— Кто этот человек? Он что, всегда бродит в одиночестве?
Тот ответил:
— Ах, этот? Тёрбер с кургана? Когда-то он был конторщиком, а потом переехал из города в усадьбу, которая досталась его жене по наследству. Он собирался завести здесь образцовое хозяйство, хе-хе… Правда, в усадьбе появилось несколько кур и поросят, но дальше дело не пошло. Он человек ничем не примечательный, так что и сказать-то о нем нечего.
Тёрбер быстро шагал по дороге. Сердце его колотилось. Дойдя до первого ручья, он остановился и вскрыл конверт. Развернув письмо, он увидел вложенный в него крупный банкнот. Так он и думал. В письме сын сообщал, что это — часть его выигрыша в лотерее; пусть это будет небольшим подспорьем отцу и матери.
Тёрбер сунул банкнот в бумажник, разорвал письмо и бросил обрывки в ручей. Затем он двинулся дальше.
— Нам ничего не было на почте? — спросила Рагна, опуская на землю вёдра.
— Только газеты, — равнодушно ответил он, и жена сердито хмыкнула. Ну на что это похоже? У мальчика хорошая служба, он молод, ни жены, ни детей, а вот стариков своих совсем забыл.
— Ты должен сегодня же вечером написать ему, Тёрбер. Пробери его хорошенько, пусть он почувствует.
Рагна пошла дальше, не оглядываясь. Тёрбер знал, что она плачет: она была охвачена страшным чувством одиночества и жила в страхе, что сын забудет ее. Старик немного постоял, сжимая кулаки, затем упрямо тряхнул головой. Еще минута колебания — и он отдаст ей деньги. Но уж тогда-то ему придется выложить на стол всё, что он припрятал. И он снова пережил жестокую борьбу с самим собой, которую выдерживал уже не раз, с тех самых пор, когда впервые утаил деньги и оклеветал своего мальчика. Но теперь у него уже скопилась та небольшая сумма, которая ему необходима.
На кухне жена, стуча конфорками, хлопотала у плиты. Послышался треск разгорающихся сучьев. Сделав над собой усилие, старик приказал себе не думать ни о жене, ни о своих колебаниях. У него появилось странное чувство, будто он раздвоился и сейчас в нем одержал верх тот, кто не имел к этому дому никакого отношения и не чувствовал себя в ответе за него.
Он встал и поглядел на скудные пашни через окно с выбитым стеклом. Отверстие было «пока» прикрыто куском картона, и это длилось уже два года. Он чувствовал запах можжевеловой настойки и старой древесины и, казалось, физически ощущал за своей спиной привычную убогую обстановку, голые бревенчатые стены, колченогий стол, покрытый линолеумом, скамью под окном, стулья, висячий шкафчик, а на стене — книжные полки, уставленные кувшинами со сметаной и кислым молоком. Когда-то, давным-давно, он был уверен в том, что полки эти — как бы часть его самого, что их невозможно продать или использовать не по назначению. А теперь оставалась лишь одна полка, тесно уставленная книгами. Она висела на стене, как воспоминание об ином, прекрасном мире, как слабый отблеск его юношеского книголюбия. На ней стояли и школьные задачники. Он, страстный любитель математики, продолжал решать задачки по окончании школы, и даже в те годы, когда ухаживал за Рагной. С тех пор, как они переехали сюда, у него ни разу не нашлось свободной минутки, чтобы заглянуть в книгу или учебник. Но он почему-то не позволял их убирать, хотя всё уже давно перезабыл, а дочь утверждала, что от книг пахнет архивной пылью.
Тридцать лет своей жизни загубил он в этой убогой усадьбе в глухой долине, к которой тщетно старался привыкнуть. Все эти годы он постоянно боролся с гложущей тоской, и всего лишь несколько раз старику довелось ее заглушить. Но после этого в душе оставалась еще большая пустота. Тёрбер почувствовал сердцебиение и удушье, которые в последние годы появлялись у него всё чаще.
Он на минуту облокотился о подоконник. Припадок прошел.
Был чудесный вечер. Туман уже опустился над рекой. Тучные хлеба зеленели вокруг зажиточных усадеб, а в окнах домов сверкали отблески вечернего солнца. Позади них возвышались горы, поросшие густым темнеющим лесом, а высоко над горами сияло небо и влекло куда-то в бесконечные дали.
«Да, здесь красиво, — подумал Тёрбер, — однако мне известна и другая красота, которую я никогда не променял бы на эту». Тоска по той, другой красоте жила в его сердце все эти годы. Но он слышал также голос другого Тёрбера, — того, который прожил в этой усадьбе десятки лет: «С теми деньгами, что ты присвоил, ты мог бы обеспечить Рагну и многое сделать для дома». Он застонал, и пот выступил у него на лбу. Тот же голос нашептывал ему: «Здесь ты на своем месте, у тебя земля, имущество. Ты живешь своей собственной жизнью, и у тебя есть кусок хлеба. Чего же тебе еще?»
…Тёрбер уже давно договорился с Кристианом, что тот возьмет его с собою на станцию, когда станет отвозить туда овощи. Со станции старик собирался написать домой: встретил, мол, друга юности, а тот пригласил его на несколько дней в город. Он высчитал точно: на свои сбережения он сможет пробыть в городе восемнадцать дней.
На следующее утро Кристиан подъехал к дому и стал торопить Рагну и дочь, которые укутывали Тёрбера, точно грудного младенца.
— Не забывай, что ты уже не молод, — говорила Рагна мужу.
Они покатили на станцию, и в тот же день, после обеда, Тёрбер сел в поезд. Он сразу же почувствовал, что начал жить той жизнью, по которой томился столько лет. Поздней ночью он приехал в город и снял комнату в небольшом отеле.
…Еще не пробило семь, а Тёрбер уже на ногах. Он стоит у причалов, наблюдая за судами. Далеко в море виден могучий лайнер. На верфи начинается хлопотливый день. Раздается утренний гудок. Тёрбер давно уже ждет его. И всё вокруг сразу приходит в движение. Старик чувствует себя частицей толпы, этих торопливо бегущих людей, которых сразу же поглощают огромные тяжелые ворота. Когда-то он тоже ходил сюда: приносил отцу кофе. Отец всегда при этом спрашивал, как у него нынче дела в школе. Потом гладил его по щеке и говорил: «Ты далеко пойдешь, мой мальчик!»
Тёрбер расхаживает по пристани. Он старается держаться подальше от тяжелых грузовиков, появляющихся там, где их меньше всего ожидаешь.
Разнообразные звуки сливаются в гул, который как будто надвигается сразу со всех сторон. В голове Тёрбера словно гудит ветер. Но ему это по душе. Маленькие моторные лодки с урчаньем несутся по морю, врезываясь в волну, мягко обнимающую их борта. «Прочь с дороги!» — рычат они. Тёрбер глядит на них с легкой улыбкой.
Надо бы найти какой-нибудь ящик и присесть. Медленно движутся буксиры, таща за собою баржи. На последней барже верхом на рулевой стеньге сидит человек, приблизительно одних лет с Тёрбером, и что-то кричит с баржи на берег; ему отвечают. Этот старик — одно целое с городом, он его неотъемлемая часть. Он не захотел стать всего-навсего престарелым тестем в доме своей дочери, не зажил на покое. Вот он сидит там, раскуривая трубку, и, как видно, вполне доволен жизнью. Тёрбер глядит на него просветленным взглядом. Ему кажется, он видит, как этот старик сидит в воскресенье у себя дома, окруженный детьми и внуками. И даже если зрение его теперь ослабло, а руки утратили прежнюю силу, он всё равно не боится, что его немощная старость отразится на бюджете семьи.
Тёрбер видит, как баржа медленно исчезает в глубине фьорда, и лишь тогда поднимается и бредет в город. На улицах еще не чувствуется большого оживления, но они уже стряхивают с себя сон. Утреннее солнце ярко освещает скамьи в парке; теплые лучи, как любящие руки, мягко ложатся на лицо Тёрбера. Он сидит и прислушивается. Сейчас город проснется. Улицы заполнятся людьми, которые каждый день появляются на них в одно и то же время. Когда-то и он был частью этой толпы, которая каждое утро приводит в движение колесо жизни. На плечах этих людей — весь труд и заботы человечества; но они скромны, среди них нет героев, и у них нет никаких богатств. Гигантской машине жизни они отдают свои мускулы, кровь, тело…
Он сидит с закрытыми глазами и прислушивается к знакомому людскому гулу. Так проходит некоторое время. Затем гул стихает — и на улицах слышен лишь обычный дневной шум.
Тёрбер воображает, что у него сегодня свободный день: ему не нужно идти в контору; он будет долго бродить по городу. Цветочные клумбы в парках напоминают сверкающие драгоценные камни. Усыпанные гравием дорожки гостеприимно стелются под сенью густой листвы деревьев. Он идет по ним, и — странное дело! — здесь он чувствует себя ближе к природе, чем там, в долине, где стоит его дом.
Тёрбер ходит по улицам, прислушиваясь к шуму голосов и топоту шагов. Он бросается в уличный водоворот и бредет без цели. И он чувствует, как тоска, мучившая его так страшно в последние годы, медленно исчезает.
Тёрбер движется словно погруженный в глубокий сон. Каждая улица кажется ему родной, он чувствует себя здесь как дома. Его никто не знает, но он знает всех окружающих и знает всё о них, так как бессчетное количество раз видел все эти картины по ночам, во сне. Всё здесь знакомо ему: каждая дверная задвижка, каждый фонарь, все облезлые стены домов и скрипучие ступеньки лестниц.
А вот и знакомый дом. Здесь ничто не изменилось. То же шаткое крыльцо и предательская яма около ступеней. Он невольно останавливается в раздумье. Действительно ли это было здесь? Да, несомненно. Всё осталось по-прежнему. Тот же гул голосов, смех, крики. Вот хлопает парадная дверь, женщина что-то кричит из окна, детский голос отвечает ей. По улице проезжает телега, хозяйки идут с сумками и бидонами. Здесь, на улице, отголоски тысячи судеб, здесь всегда что-нибудь происходит. Ему чудится, что дома разговаривают с ним, а он им отвечает.
Так он блуждал по городу целый день и снова ощущал себя его частицей. Ему казалось, что здесь легче дышится. Он чуть не расхохотался, вспомнив озабоченное лицо их деревенского врача. Никогда не чувствовал он себя здоровее, чем сейчас.
На углу стояла группа мальчишек. Ему захотелось присоединиться к ним. Двое влюбленных шли вдоль пристани, размахивая купальными костюмами. Время от времени они смотрели друг другу в глаза так, словно кроме них здесь никого не было. Да на них и вправду никто не обращал внимания. Только Тёрбер некоторое время шел за ними, потому что он был так же влюблен, как они. Он догнал их и, словно на диковинную картину, уставился на темноглазую усталую красавицу. Лишь к концу дня он почувствовал голод и отправился в свой прежний ресторан. Здесь тоже почти ничто не изменилось.
Позднее он пошел осматривать новую часть города. Он шел медленно, оглядываясь, и в его памяти вставал город таким, каким он был прежде. Кое-что старик припоминал с трудом, но всё-таки многое ему удалось вспомнить. Квартал за кварталом поднимался город, исчезали пустыри, вырастали огромные бетонные здания, улицы превратились в широкие асфальтированные бульвары. Всё это было построено уже много лет назад, но для Тёрбера родилось только сейчас. Он начал осматривать всё по порядку.
Городской воздух казался ему особенным. Дело было вовсе не в заводском дыме или запахе бензина. Тёрбера покоряло биение напряженного пульса городской жизни. Песнь бетонных громад была так не похожа на песнь одетых лесом гор. Но песнь эта была песнью борьбы. Отражение этой борьбы он читал на лицах людей, которые ехали в переполненных трамваях, выходили погреться на солнышке. В голосе у них звенели песни и смех. Их подвижные лица отражали день и жизнь иначе, не так, как он привык наблюдать это в деревне. И от этого у него становилось тепло на сердце! Так удивительно красивы были эти люди. Они были частью единого целого, частью этого прекрасного города.
Под самый вечер он отправился пригородным поездом в горы, сошел у большого ресторана и занял столик. Он ни с кем не разговаривал, если не считать кельнера, обменявшегося с ним несколькими словами. Но ему казалось, что он близок со всеми, кто заполняет ресторан. Он чувствовал себя частицей этого праздничного сборища. Потом он взглянул вниз, на город, и у него перехватило дыхание. Здесь ему нужно было жить; пусть его даже и ожидали бы невзгоды, но только здесь, здесь! Он сидел и не мог налюбоваться картиной расстилавшегося перед ним города. Контуры тысяч крыш, гладкие шпили красивых церквей, огромные здания, громады заводов, школы, респектабельное здание университета, бульвары, парки, напоминающие цветущие букеты, — всё это было так просто и красиво! В это мгновение Тёрбер не согласился бы променять самое жалкое нищенское ложе здесь, в городе, на самую богатую усадьбу в долине.
Город раскинулся внизу, шумный и живописный. Его дыхание было исполнено удивительных звуков, и казалось, что его застилает дымка вечно горящего жертвенного костра. Мало-помалу шум стихал. Некоторое время с вершины горы всё было видно отчетливо. Но затем серая мгла стала окутывать город; она всё сгущалась. Это продолжалось несколько минут. Наконец где-то зажегся одинокий огонек, за ним — еще один. Потом огни стали быстро загораться один за другим, и вскоре весь город погрузился в море непрерывно движущихся сверкающих блесток…
Кельнер постоял некоторое время, глядя на безмолвного, пристально глядящего вдаль человека. Вдруг он увидел, что голова старика упала на грудь. Кельнер быстро приблизился, положил руку на плечо незнакомца и испуганно отпрянул. Потом наклонился и заглянул в остекленевшие глаза.
Тёрбера похоронили на кладбище, где покоились его родители. Мальчик его приехал издалека и стоял над могилой рядом с матерью.
Но одного они так никогда и не смогли понять: для чего он утаивал деньги, которые присылал сын?
«Ректор еще не пришел!»
(Перевод Л. Брауде)
«Fred, where are you?»[19] — эта фраза знакома каждому школьнику Норвегии. Ее можно найти в учебнике английского языка для начинающих. А учебник этот написан ректором[20] Кнудом Олаи Брекке.
Несомненно, мы преисполнились бы еще большим уважением к Лайену, как называли ректора мы, ученики, если бы знали, что книга его переведена на многие иностранные языки и произвела переворот в области преподавания языка.
Впрочем, Лайена и без того очень уважали. И вовсе не за его ученость. Чего стоила, например, одна его представительная фигура, внушавшая такое почтение! Рослый, очень статный, он уверенно шествовал, высоко подняв голову и слегка выворачивая наружу носки. У него была седая бородка клинышком и седые усы, и, что весьма важно, он носил очки со сверкающими стеклами, которые метали молнии, стоило ректору повернуть голову. Глаза его за стеклами очков были очень бдительны. Поговаривали даже, что эти глаза обладают большой проницательностью. Возможно, так оно и было на самом деле. Но весьма приятно то, что выражение бдительности и проницательности изредка сменялось улыбкой, которую буквально излучали его глаза.
Это было весьма внушительное зрелище, когда ректор в своем прекрасно облегающем черном сюртуке, черном котелке и самых сверкающих в мире ботинках пересекал городскую площадь.
Лайен во всех отношениях подходил для должности ректора. И, самое главное, он почти не вмешивался в личные дела учеников. Да, Лайен был человеком уважаемым и безупречным…
В ту пору, когда я ходил в третий класс бергенской соборной школы, я жил в доме, носившем громкое название «Горное гнездо». Он находился как раз посредине Скансесвингене, и, чтобы попасть в школу, мне приходилось спускаться вниз узкими переулками по бесконечным каменным ступенькам и отвесным склонам… Затем надо было еще преодолеть улицу Биспенгатен и холм. С него можно было просто съехать вниз. У подножья холма дорога сворачивала направо. Затем оставалось последнее препятствие: надо было спуститься вниз на улицу Кунгоскаргатен, перевести дух, остановившись у фонарного столба, и одновременно со звонком пронестись пулей через старинные сводчатые ворота школы. Всё наше время было рассчитано с точностью до одной секунды. Выбиваясь из сил по дороге в школу, мы заранее знали, опаздываем мы или нет. Один раз можно было позволить себе роскошь опоздать. Разумеется, с солидным оправдательным документом в кармане. Опоздав два раза, провинившийся должен был явиться в школу на следующий день за час до начала занятий. Три опоздания влекли за собой целую неделю такого удовольствия.
Мой двоюродный брат Лейф жил как раз по дороге в «Горное гнездо». Каждое утро мы вместе с ним останавливались на улице Биспенгатен, чтобы немного передохнуть, а уже потом ринуться в решающее утреннее сражение за секунды. И горе тому, кто стоял тогда на нашем пути…
А как сладко нам спалось в те времена! В особенности когда накануне до позднего вечера играешь во дворе в «охотников» и «пиратов». О эти блаженные минуты по утрам, когда глаза готовы снова сомкнуться, а строгие наказания уже поджидают тебя и злобно хихикают отовсюду! О эти блаженные минуты в пору твоего детства, когда ты вырастаешь из одежды, а башмаки становятся тебе малы, когда ломается голос и ты можешь петь на два голоса! О эти утра — будь они прокляты, когда глаза смыкаются, а уши глухи к доброжелательным возгласам всех твоих родственников…
Случилось так, что гроза улицы Биспенгатен, то есть я и Лейф, мой двоюродный брат, опоздали два раза. Нас предупредили: если мы еще хоть раз опоздаем, нам придется целую неделю являться в школу на час раньше. Ну и ну!
Вскоре после этого строгого предупреждения, которое непременно заставило бы призадуматься многих более благоразумных мальчиков, случилось несчастье. В какой-то совсем краткий миг глаза мои сомкнулись сами собой. Как раз та самая минутка, которую никак нельзя было терять, была безвозвратно потеряна. Дамоклов меч несчастья колыхался на ниточке, готовый вот-вот оборваться. Ну, а когда человек торопится, беда, как известно, не ходит одна. От штанов отскочила чрезвычайно важная пуговица. Та самая единственная пуговица, которая еще удерживала штаны на месте. Но времени хватило ровно настолько, чтобы правой рукой крепко ухватиться за сваливающиеся штаны, левой вцепиться в ранец, стремглав выскочить через дверь, предусмотрительно открытую чьими-то услужливыми руками, и скатиться вниз по лестнице. Пылкие возгласы и пожелания всех родственников неслись мне вдогонку. Ведь стоит опоздать еще один раз, и всей семье придется вставать по утрам на целый час раньше.
Входная дверь с шумом захлопнулась за мной. Она как бы вытолкнула меня на свежий воздух, навстречу прекрасному весеннему дню. Вниз по спуску! Через холм Питтерхойген! А ну, прибавь ходу! Быстрее! Вниз по узкому переулку! Осторожней, крутой обрыв! Дальше! Дальше!.. Во всю силу легких мчишься вперед, пыхтя как паровоз. Ох, дух захватывает! Наконец-то начало улицы Биспенгатен. Сегодня не удастся даже передохнуть. Лязгнули зубы… Из глаз посыпались искры. Кепка съехала на один глаз. Рыжие волосы встали дыбом. Спереди и сзади расстегнулись пуговицы… А ты несешься вперед, словно одинокий Арнльот Геллине[21], крепко сжимая одной рукой пояс штанов, а другой придерживая школьный ранец. Ужасное положение для человека, который вынужден бежать так, словно дело идет о жизни и смерти.
За спиной послышался рев, и я понял, даже не оглянувшись, что Лейф слишком круто взял поворот и ткнулся носом в землю. Учебники рассыпались вокруг него веером. Но что поделаешь! Я ничем не мог помочь ему. Он сам виноват. Дело шло о спасении жизни. Спасайся, кто может! Башмаки с загнутыми носками, которые никогда не выйдут из моды в городе, где полным-полно узких переулков и крутых обрывов, помогали брать подъем быстрыми темпами. Лейф, прихрамывая, изо всех сил поспевал за мной. Ему приходилось поторапливаться…
Мы пронеслись мимо молочной, и за нашей спиной тотчас послышался крик: «Ой!» Какая-то девочка быстро отступила в сторону, — у ног ее разлилась молочная лужа с осколками разбитой бутылки. Размахивая ранцами, мы промчались дальше со скоростью ветра, совершили неуклюжий прыжок и, словно во время скачки с препятствиями, перескочили через кучу ведер, как раз в тот момент, когда возчик нагнулся было, чтобы погрузить их в ящики, стоявшие на телеге. Мы сбили с возчика кепку, проскользнули прямо под головой его лошади, которая встала на дыбы, заржала и отпрянула к окну дома, так что ящики чуть не очутились в спальне какого-то капитана.
Сначала этот капитан чертыхался на чем свет стоит, а потом принялся «свистать всех на палубу». За нашей спиной слышались отборные проклятия. Но мы невозмутимо пронеслись мимо дома ректора, а наши ноги изо всех сил работали, стараясь во что бы то ни стало не нарушать законов тяготения.
У самых дверей дома ректора мне пришлось зажать покрепче штаны, которые уже сползли на несколько дюймов. Была минута, когда я считал битву проигранной, мне казалось, что штаны у меня вот-вот сползут. Но, совершив смелый прыжок, я подтянул их, встал на правую ногу, переступил с нее на левую, и, не уменьшая скорости, с новыми силами понесся дальше, по-прежнему не выпуская из рук пояса штанов. Затем я бросился вперед, совершенно не думая ни о физических законах, ни о тяготении, ни о чёрте, ни о его бабушке.
Теперь мы мчались уже на всех парах.
У самого нижнего спуска рядом со старой школой мы повернули под прямым углом, словно на крутом повороте, держа тело в неподвижном состоянии, между тем как ноги продолжали нестись вперед с головокружительной быстротой. А затем мы выпрямились в нужный момент (ах, если бы в наши дни кто-нибудь владел техникой этого дела!) и, перепрыгнув через глубокую яму, преодолели последнее препятствие. Ну, теперь нам ничего не страшно!
Разом была нарушена утренняя тишина: крик Лейфа потряс воздух. Да, момент был воистину трагическим. Лейф взвыл:
— Через забор! Ректор еще не пришел!
Вдоль холма тянулся забор. В нем была калитка, ключ от которой хранился у ректора (как мы завидовали ему!). Прыжок через этот забор экономил как раз недостававшие нам обычно секунды. Само собой разумеется, что часто нам не помогал даже забор. А ведь последнее предупреждение было чрезвычайно серьезным. А тут еще эти штаны! Несчастье не подчиняется никаким законам.
Врезавшись в громадную песчаную насыпь, мы затормозили, как два паровоза. Мне было уже не до штанов! Спастись можно только перемахнув через забор. Это необходимо, если даже спасение будет достигнуто ценой разодранной рубашки. Мы перебросили тяжелые ранцы через забор. Прыжок! Бух! (Штаны быстро сползли до самых башмаков.) Пальцы судорожно вцепились в край забора. Неуклюжий бросок левой ноги, легкое прикосновение кончиков пальцев к краю забора, и… все силы вложены в одно-единственное движение: гоп! через забор! Падаю! Да, это мы умели! В те времена мы еще сохранили кое-какие остатки первобытного инстинкта. Мы согнулись в три погибели в воздухе и, как котята, упали вниз. Но только было мы собрались схватить наши ранцы, как с ясного неба грянул гром. Мы окаменели. Перед нашими глазами словно из-под земли выросли два самых сверкающих в мире черных ботинка. В том, кто их владелец, ошибиться было абсолютно невозможно.
Стоя на коленях, мы как зачарованные смотрели на эти ботинки. И оба думали одно: если мы так и останемся стоять неподвижно, как каменные изваяния, то непременно свершится чудо или что-нибудь в этом роде. Может, он не заметит нас или не поверит глазам своим и пойдет дальше. Но секунды шли, а ботинки будто приросли к земле, и мы не слыхали ни единого звука. В конце концов положение стало просто критическим. Необходимо было что-то предпринять! Медленно-медленно поднимали мы наши широко открытые, блестящие и, как мы в глубине души надеялись, невинные глаза на прекрасно отутюженные брюки ректора и добрались наконец до полы его черного сюртука. Взор наш медленно, — о, как медленно! — скользил по его животу и груди, в отчаянии остановился на белом воротничке, поблуждал по бородке клинышком и наконец задержался на мечущих молнии стеклах очков, сквозь которые и глаза теперь тоже метали грозные молнии. Но рассказы об ужасах Иерусалима и падении стен Иерихонских были ничто по сравнению с картиной вандализма, которую узрели наши очи, очи четырнадцатилетних юнцов. Черный, безупречно чистый котелок ректора, яркий символ респектабельности, был надвинут, нет, не надвинут, а скорее придавлен, нет, даже не придавлен, нет, сбит на лоб и закрывал один глаз. И, о ужас, всё было ясно как день: позорное дело совершил один из наших тяжелых школьных ранцев в этот роковой для нас час.
Лайен был потрясен. Может быть, даже испуган. Почем мы знаем? Мы были лишь два невинных школяра, которые вели ожесточенную борьбу за секунды. И вот мы лежали повергнутые ниц, а Лайен со сбитым на ухо котелком, молча стоял над нами в позе Катона. Он был возмущен и молча отдувался. Вид его был весьма красноречив: можно было подумать, что он идет с какой-то попойки и не в силах без посторонней помощи найти свой дом. Это зрелище повергло нас в бездну глубочайшего унижения. С этого момента земля казалась нам единственным надежным прибежищем.
Лайен несколько раз перевел дух, облизнул губы кончиком языка. Его грудь непрерывно вздымалась и опускалась. Казалось, он не в состоянии был найти единственно правильные и наиболее меткие выражения, достойно осуждающие наше преступление, дабы оно на веки вечные запечатлелось в анналах нашей мятежной мальчишеской совести. Губы ректора тряслись, усы дрожали. И вдруг из его груди вырвался крик, громогласный крик:
— Нет, ректор пришел!
О ужас! Мы не знали, куда нам деваться от стыда. Не было местечка, где мы могли бы зарыться головой в песок. Неестественно скорчившись, мы стояли на четвереньках, подобно херувимам, высеченным из камня, с задранными кверху головами и выпученными глазами. Легкий ветерок колыхал лохмотья наших разодранных рубашек, которые выбились из-за пояса. Мы были совершенно уничтожены. Нам оставалось лишь воздать благодарность за подаренную нам некогда жизнь. Жаль только, что она была столь коротка.
Лайен стоял, всё еще отдуваясь. Его котелок по-прежнему был сдвинут на ухо. Он не сделал ни малейшей попытки спасти свое достоинство.
Но тут что-то непонятное произошло за стеклами его очков. Лайен замигал глазами и тихо, почти доверительно, точь-в-точь, как говорят между собой уличные мальчишки, сказал:
— До звонка осталось еще несколько секунд!
Жизнь снова вернулась к нам, словно по мановению волшебной палочки. Мы сразу вспомнили о школе, о строгом предупреждении и вскочили как недорезанные поросята. Я поднял свалившиеся было штаны, прижал к груди ранец и, подняв столб гравия и песка, пустился бежать. Высунув язык и не обращая уже никакого внимания на ректора, я бросился на мост, задрожавший у меня под ногами. Подгоняемый могучим дыханием Лейфа, бежавшего сзади, я превзошел самого себя в этой трагической борьбе за секунды только что наступившего дня. Я высоко подпрыгивал на черно-белых каменных плитах школьного двора, молниеносно обогнул колонну, проскользнул под рукой учителя Буббюена, который важно и невозмутимо шествовал с книгами под мышкой по направлению к классной комнате. И вот я уже хлопнул дверью, пролез сквозь толпу мальчиков, стоявших в проходе, и бросился за парту. Лейф проделал то же самое. Спасены!
Мы расстегнули воротнички. Лица наши были в поту. В глазах застыл смертельный ужас.
Мы с трудом переводили дыхание, но постепенно сердце начало успокаиваться. Потом мы кивнули друг другу головой: и сегодня нам тоже удалось вывернуться.
О, какое блаженное чувство! Чувство освобождения, чувство покоя! Чувство благополучия!
Тот, кого не раз в течение целой недели заставляли являться в школу на час раньше, поймет нас. Что же касается других ленивых душ, которые приплетались в школу не пролив ни единой капли пота, то рассказ двух грешников пройдет мимо них!
Где-то далеко-далеко раздавался могучий голос учителя Буббюена. Он докладывал о второй пунической войне. Но наши мысли были далеко. Их предметом по-прежнему был ректор. Мы не переставали удивляться его странному поведению. Мы в недоумении качали головами и, черт с ней, с пунической войной, чесали затылки, поглаживали подбородки. Нет, мы так и не поняли, в чем дело. Мы надолго замолчали.
Но тут из груди Лейфа вырвался такой крик, что в классе раздалось эхо:
— Эй, ты, ведь он смеялся!
А мой ответ прозвучал еще громче:
— Вот дьявол!
Между молотом и наковальней
(Перевод Ф. Золотаревской)
Холму уже давно казалось, что за его соседом Гранстрёмом ходит по пятам какой-то человек. Но сегодня он окончательно убедился в этом. И хотя сердце его готово было выскочить от страха, он повернулся и прошел метров двадцать следом за таинственным незнакомцем.
Когда Гранстрём задержался у витрины, человек тоже замедлил шаг и стал что-то разглядывать в соседнем окне. Когда Гранстрём встретил знакомого и остановился поболтать с ним, человек тоже остановился и не тронулся с места, пока Гранстрём не пошел дальше.
Да, теперь Холм был уверен: Гранстрёма в чем-то подозревают. Но в чем? И кто? О Гранстрёме ходили разные слухи. Ему ничего не стоило вступить в беседу с немцами; он не избегал их. И в последнее время часто можно было слышать его беспечный смех, словно фашистская оккупация его нисколько не касалась. Говорили, что он вел какие-то дела с немцами, а однажды, когда в городе гастролировал немецкий ансамбль, он отправился на концерт, хотя в зале не было ни одного норвежца; там собрались одни лишь нацисты и самые подлые их прислужники.
Кому теперь можно было верить? Служил ли Гранстрём в тайной полиции? Нет! Нет! Холм не мог этому поверить. Гранстрём просто ни рыба ни мясо! Но и это тоже было своего рода предательством.
Правда, Холм хорошо знал Гранстрёма. Черт возьми, ведь репутация его была безупречна. Но… да, в этом «но» — всё дело. В нынешнее время никому нельзя доверять. Почему каждый день арестовывают то одного, то другого? Видимо, их выдает какой-нибудь доносчик. Но кто он? Может, Грагнстрём? Тогда, если Холм вздумает его предупредить, то угодит прямо в петлю. А посоветоваться не с кем. Он, Холм, затаился в своей скорлупе и сидит там в страхе, не смея пошевелиться. Да, в страхе! Он — трус, ему не хватает мужества. Вся трагедия в том, что он знает об этом и презирает себя. Сколько раз, читая в газетах о смертных приговорах патриотам, в числе которых были и его близкие знакомые, он чувствовал словно удар по лицу. Ему казалось, что в этом была доля и его вины. Ведь он ничего не делал для борьбы с захватчиками! И то, что он не находил в себе сил для героических поступков, которые ежедневно совершали подпольщики, не могло служить ему оправданием. Когда он думал об истязаниях и пытках в гестапо, его охватывала дрожь. Он не был уверен в себе и боялся, что, попавшись, может не выдержать и выдать товарищей, настоящих, мужественных героев, которые принесли бы в тысячу раз больше пользы, нежели он. Но и это всё же не было оправданием. Правда, он иногда помогал распространять нелегальные газеты и время от времени ночь или две прятал у себя борцов Сопротивления. Но это не могло идти в счет. А теперь? Что он должен делать? Что?
Сульвей проснулась среди ночи оттого, что муж осторожно приподнялся на локте. Она сделала вид, что спит, но сердце у нее сильно забилось. Сульвей услышала, как он тихонько выбрался из постели и на цыпочках прошел в гостиную. И только тогда она повернулась и стала тревожно вглядываться вглубь слабо освещенной комнаты, напряженно прислушиваясь к его движениям в гостиной. Вдруг раздался легкий щелчок его автоматической табакерки, в которой он теперь хранил снотворные таблетки. Сульвей быстро легла и зажмурила глаза. Холм остановился у постели, нагнулся над женой и, вглядываясь в ее лицо, тихонько погладил ее по щеке. Затем он залез обратно под одеяло, свернулся клубком и тяжело вздохнул. Вздох прозвучал словно подавленный стон. Спустя некоторое время Холм уснул. Но Сульвей до утра не смыкала глаз. Приподнявшись на подушках, она стала разглядывать лицо мужа. Он спал тяжело, грудь его судорожно поднималась от вздохов. Бисеринки пота выступили у него на лбу; время от времени он жалобно, словно ребенок, всхлипывал.
Сульвей лежала, не отрывая от него глаз. Что всё это значит? Что творится с ним в последние дни? Она вспоминала случаи, когда жена и дети даже не догадывались о подпольной деятельности главы семьи, пока не случалось самое ужасное и нацисты ночью не врывались к ним в дом. И она думала о том, что, быть может, ей также предстоит в скором будущем жить в одиночестве, стоять в определенные дни у неприступных тюремных стен, не смея взглянуть на далекое зарешеченное окно. А потом — ссылка, концлагерь… Нет! Этого не может быть. Ведь Хьелль всего-навсего мирный домосед. Но… разве мало жен, которые рассуждали так же, как она? Они были в полной уверенности, что муж играет у приятеля в бридж, а он в это время подготавливал взрыв на железной дороге. Они думали, что муж отправился в горы на увеселительную прогулку, а он, вместо этого, расклеивал листовки или занимался какой-нибудь другой, полной смертельной опасности работой…
И давно ли Хьелль принимает эти таблетки? Что его мучит?..
За завтраком Хьелль Холм выглядел усталым и невыспавшимся. Время от времени он выпрямлялся и запрокидывал назад голову, точно ему не хватало воздуху. «Это всё погода», — сказал он извиняющимся тоном. Затем он принялся за утренние газеты. И тогда лишь пришел в себя окончательно. Сульвей с удивлением смотрела, как он лихорадочно пробегал глазами по строчкам. Он искал всякие незначительные сообщения, мелочи, пустяки, в которых жена не видела ничего особенного. Однако муж умел читать между строк в сообщениях нацистской газеты.
— Я забыл тебе сказать, — внезапно начал он. — На днях я встретил старого фронтового друга. Я просил его заглянуть к нам. Это, знаешь ли, чудесный парень. Душа нараспашку. Я ему вполне доверяю.
Сульвей вздрогнула, но быстро взяла себя в руки.
— Да, доверяю! — повторил он с ударением. — Я считаю, что все мы, норвежцы, которые ненавидят нацистов, должны больше доверять друг другу.
— Кто он? — спросила Сульвей.
— Его зовут Кристиан. В апрельские дни сорокового года мы вместе пробирались через горы. Война была проиграна, немцы наступали нам на пятки, и мы чуть не попали в окружение.
Хьелль Холм пошел на войну добровольцем. Но тогда он не испытывал страха. Умереть в бою — ничто по сравнению с чувством неуверенности в себе, которое может возникнуть на подпольной работе. На войне он не боялся, что из-за своей слабости навлечет беду на других.
Сульвей молча глядела на него. Может быть, спросить его обо всем прямо? Сказать, что он злоупотребляет снотворным? Просить, чтобы он доверился ей? О нет, сейчас не время доверять кому бы то ни было. Не время вторгаться в тайники души любимого человека. Хотя раньше у них никогда не бывало тайн друг от друга. Но в нынешние дни между любящими воздвигнута стена, лучше всего молчать и ждать. Молчать и ждать!
Спустя некоторое время Хьелль Холм быстро шел по направлению к станции. Чем ближе он подходил к платформе, тем сильнее чувствовал нежелание встречаться со своими коллегами… Вот они все стоят кружком, наклонив головы друг к другу.
Он спросил:
— Что нового?
Наступило молчание. Потом все осторожно оглянулись назад, а Свенсен прошептал:
— Раскрыли большую подпольную группу у итальянцев!..
Хьелль Холм знал, что эти люди были способны лишь болтать да таинственно шептаться по углам, но у них не хватало мужества на решительные действия, на борьбу. Хьелль Холм внезапно увидел их будто в ярком свете прожектора. Следующая мысль была мучительна: «А ты сам, милый друг, чем ты лучше их?.. Да, ты, ты!..»
В конторе Холм попытался разобраться в своих коллегах и принялся классифицировать их. Некоторые расхаживали молча, с вымученной улыбкой на губах. Они делали вид, что погружены в работу и больше ничем не интересуются. Хьелль Холм пристально наблюдал за ними. Не может быть, чтобы их безразличие было искренним…
К столу Холма подошел Клойсен с пачкой бумаг. Наклонившись, он прошептал: «Будь осторожен с этим человеком», — и быстро прошел дальше.
Холм поднял голову. У барьера в выжидательной позе стоял посетитель. Этот коммерсант был хорошо знаком всем в конторе. Многие годы перед войной он вел дела с фирмой. Теперь он стал нацистом, квислинговцем. Холм поднялся из-за стола и подошел к барьеру.
— Прошу! — сказал он официально-любезным тоном.
Коммерсант заговорил быстро и отрывисто. Вдруг он на полуслове оборвал деловой разговор и сказал:
— Вы что, не знакомы со мною больше, господин Холм?
— Не понимаю, — сказал Холм несколько принужденно. Он знал, куда клонит этот человек, но хотел вести себя дипломатически.
— Вчера мы с женой прошли мимо вас, но ни вы, ни ваша супруга не сочли нужным обратить на нас внимание, не говоря уже о том, чтобы поздороваться. Надеюсь, у вас хватит мужества признаться в этом? Стало быть, вы не желаете с нами здороваться? Что же, хорошо. Пусть будет так!
Хьелль Холм ответил:
— Ни я, ни моя жена не заметили вас.
В то же мгновенье он почувствовал, что лучше всего было бы сказать коммерсанту всю правду: он не желает иметь ничего общего с квислинговцами. Но он не решился это сделать.
Человек чуть подался назад и окинул Холма презрительным взглядом.
— Я ничего не имею против вас, господин Холм, — сказал он. — Я знаю, что вы никогда не интересовались политикой. Но всё-таки, смотрите, не слишком злоупотребляйте нашим терпением. Чаша может переполниться! Мы, знаете ли, далеко не всё можем стерпеть, а если мы бьем, то уж бьем до конца!
Он резко схватил шляпу и ушел. Хьелль Холм продолжал стоять, охваченный мучительным чувством, что он до некоторой степени совершил предательство. Он вел себя еще более недостойно, чем те, которых он так презирал…
Вскоре вся контора заметила его презрение к сослуживцам и недоверие к их болтовне. Холма начали сторониться, ему перестали доверять.
Однажды к нему подошла фрёкен Олсен. Прищурив глаз, она сказала:
— Я человек прямой и потому спрашиваю вас без обиняков: вы доносчик?
Тут Холма взорвало. Он вскочил и стукнул кулаком по столу:
— О чем это вы спрашиваете? Все вы — жалкие болтуны, не способные ни на одно серьезное дело! Вы…
— Да как вы смеете? — На щеках фрёкен Олсен выступили красные пятна. Глаза за стеклами очков гневно сверкали.
— Вон отсюда! — почти закричал он и рывком открыл дверь.
Она негодующе проплыла мимо него, но в дверях обернулась и с бешенством произнесла:
— А всё-таки вы не ответили на мой вопрос. — Она с силой захлопнула дверь. В это время показался Йоргенсен.
Холм взял себя в руки и, дружески кивнув ему, спросил:
— Есть ли сегодня какие-нибудь новости?
— Не знаю, — холодно ответил Йоргенсен.
Но ведь Холм видел, как перед этим Йоргенсен что-то оживленно рассказывал другим.
Стало быть, Йоргенсен солгал ему. Они решили держаться подальше от него? Холм наклонился над столом и сжал голову руками.
Он снова вспомнил о своем соседе Гранстрёме. Слежка за ним продолжалась. Всё тот же человек, ведя на поводке английского сеттера, часто прогуливался перед их домом и сопровождал Гранстрёма в поезде, по пути в город, в контору.
Погруженный в свои мысли, Холм не заметил, как к нему вошел Хойг. Этот молчаливый человек редко вступал с ним в какие-либо разговоры. Но теперь он неожиданно заговорил:
— Не принимайте слишком близко к сердцу все эти неприятности, Холм. Эти люди много говорят, но мало кто из них оказывает настоящую помощь отечественному фронту.
— Я больше не могу! — выкрикнул Холм, закрывая лицо руками. — Я точно в заколдованном кругу. Мне кажется, что я самый трусливый и жалкий из них всех.
Сочувствие Хойга сменилось плохо скрытым презрением. Он переменил тему разговора.
— Вот бумаги на подпись, — сказал он холодно и направился к двери.
— Погодите! — сказал Холм дрожащим голосом.
Хойг остановился, изумленно глядя на Холма.
— Я хочу сообщить вам кое-что? — Холм открыл дверь и осторожно выглянул в коридор.
— Я не расположен выслушивать ваши признания, Холм, — презрительно ответил Хойг. — Позвольте мне пройти.
— Это касается Гранстрёма, — сказал Холм.
Хойг резко обернулся.
— Что с ним случилось? — тихо прошептал он.
Холм рассказал обо всем, что он видел. Волнение Хойга всё росло, на щеках выступил яркий румянец.
— Дальше, дальше! — торопил он. — Ближе к делу, к черту ваши нервы и переживания!
Когда Холм окончил свой рассказ, Хойг прерывисто зашептал:
— Послушайте! Вы живете в одном доме с Гранстрёмом. Ему легко будет пройти к вам в квартиру незамеченным. Не можете ли вы принести от него пакет? Он сейчас далеко, в шхерах, и вернется домой только к утру. Вы передадите мне пакет в поезде. Я буду вас ждать. За Гранстрёмом следят. Возможно, я тоже на подозрении. Вас же заподозрить никому и в голову не придет.
Холм кивнул. Ему казалось, что только сейчас он вздохнул свободно. Он сказал:
— У меня есть маленькая моторная лодка. Гранстрём может выйти через мой подвал, оттуда всего метров десять до пристани. Ему останется только прыгнуть в лодку, и переправиться через залив. Это займет у него минуты две-три, между тем как самый быстрый велосипед не сумеет обогнуть бухту быстрее чем за пятнадцать минут. Но я ставлю одно условие: он подождет, пока я уйду из дому и буду в полной безопасности.
Хойг с благодарностью протянул Холму руку:
— Вы даже не представляете, какую огромную помощь оказываете нам. Только бы всё сошло благополучно! Если мы останемся живы, то не забудем вас после войны, Холм. Прощайте, у меня еще много дел.
В эту ночь в доме Холма никто не спал. Сульвей лежала, устремив глаза на закрытую дверь, и прислушивалась. Но из кухни не доносилось ни звука. Холм сидел у окна, пристально глядя из-за занавески на улицу и ожидая прихода Гранстрёма. Холм был совершенно спокоен. Едва забрезжил рассвет, он стал натягивать пальто. Он уже был совсем готов, когда к дому подъехало такси. Из него выскочил Гранстрём и бросился к двери. Всё произошло в течение нескольких секунд. В то время, как Гранстрём с пакетом в руках входил в кухню Холма, в дверь квартиры Гранстрёма уже ломились четыре нациста.
— Быстрее! — крикнул Гранстрём, хлопнул Холма по плечу и убежал по черной лестнице, ведущей в подвал.
Холм двигался словно во сне. Он сунул пакет в сумку и быстро вышел из дому. Садовая ограда скрыла его от четырех гестаповцев, барабанивших в дверь квартиры Гранстрёма. Холм вышел на шоссе. Мимо проезжал автомобиль. Холм стал посреди дороги и улыбаясь поднял руку. Машина резко затормозила, он быстро сел рядом с шофёром и сказал:
— Поезжайте как можно быстрее!
Шофёр и сидевшие в машине пассажиры прислушались. Грохот в квартире Гранстрёма был слышен на всю улицу. Взглянув на Холма, шофёр погнал машину на предельной скорости. Через некоторое время они достигли станции. Поезд уже отходил от платформы. Холм вспрыгнул на подножку и побежал по вагонам. В одном из них он сразу увидел и Хойга и человека с английским сеттером. Тот стоял, разговаривая с двумя рослыми парнями.
На лбу Хьелля выступил холодный пот. Огромным усилием воли он заставил себя успокоиться и не спеша приблизился к Хойгу. Тут же стояли и другие сослуживцы. Когда Холм подошел, фрёкен Олсен демонстративно отвернулась. Йоргенсен высокомерно вскинул голову, а Клойсен посмотрел Холму в глаза и не поздоровался.
Хойг громко смеялся, рассказывая о какой-то забавной шахматной партии. Всё произошло как во сне. В мгновение ока Хойг обменялся с Холмом пакетами. Холму показалось, что все пассажиры заметили это. Трое с собакой стали медленно подходить к Хойгу.
Дальнейшее произошло в течение одной минуты. В руке Хойга оказался пистолет. Прозвучало три выстрела. Человек с английским сеттером получил пулю в лоб. Он был готов. Двое других пригнулись к полу, пытаясь вытащить что-то из карманов, но замерли на месте, увидев устремленное на них дуло пистолета. Тогда они медленно подняли руки.
— Прыгай, как только я дерну за стоп-кран, — сказал Хойг, обращаясь к Холму. Голос его был почти спокоен.
Он дернул за стоп-кран, и поезд остановился.
— Скорее! — закричал он, и Холм спрыгнул. Позади слышались выстрелы, а он бежал, не разбирая дороги, и опомнился лишь тогда, когда, совершенно обессиленный, очутился в доме своей старой тетушки. Он никого не знал, у него не было никаких связей. Что ему было делать?
Холм пробыл на свободе пять дней. Потом его арестовали. На всех станциях были повешены объявления о Хойге и Гранстрёме с обещаниями награды за поимку и смертной казни за укрывательство.
Однако их так и не нашли. А Холм прошел через всё то, что представлялось ему в его самых страшных снах. Потом его казнили в гамбургской тюрьме.
Биржевые спекулянты просчитались
(Перевод Л. Брауде)
Лишь два человека в городе совершенно не подозревали о том, что все считают совладельцев фирмы «Сталлер и Кран» просто парой мошенников. И это были сами господа Сталлер и Кран. Многих разорили они на своем пути к обогащению.
На бланке фирмы их имена стояли рядом с ее названием — «Импорт и экспорт». Конторщик Кнютсен не раз задумывался над тем, что же они, собственно говоря, импортируют и экспортируют. За исключением авторучек, нейлоновых чулок, козьего сыра, каких-то мехов и кислой капусты, к ним поступали в основном загадочные письма. Они касались, должно быть, акций и других ценных бумаг. По-видимому, фирма имела деловые связи со Стокгольмом, а больше всего с Копенгагеном.
Обычно Кнютсен сидел в приемной и терпеливо разъяснял посетителям, что шефов нет на месте. При этом у него был такой невинный и простоватый вид, что сразу же становилось ясно: он говорит неправду. Энергичные мужчины, понимая, что он поднимает цену своим хозяевам, снова начинали добиваться приема. Тогда Кнютсен, поражавший всех своим сходством с бараном, отворял двери в кабинет шефов и докладывал о посетителях. Действуя таким путем, конторщик быстро вырос во мнении своих хозяев. Он даже получил надбавку к жалованью после бурной и свирепой баталии в приемной, когда подрался с настойчивыми посетителями, непременно желавшими проникнуть к шефам. Выяснилось, что «баранья голова», как обычно величал Кнютсена Кран, обладает большей физической силой, чем можно было предположить с первого взгляда. Кроме того, Кнютсен знал толк в секундах и метрах, в атлетах различного веса, а также был в курсе дел всех футбольных клубов на континенте. Господь бог наделил его щуплой фигуркой и длинной шеей с могучим кадыком. Глаза Кнютсена удивительно наивно смотрели сквозь очки. Сталлер терпеть его не мог, но более хладнокровный и дальновидный Кран ценил Кнютсена чрезвычайно высоко. Большего идиота никогда не бывало в их фирме с тех самых пор, как она пошла в гору…
В настоящее время совладельцы фирмы «Сталлер и Кран» пустили ко дну небольшое строительное предприятие, затеянное акционерным обществом «Стена и постройка», и очень потешались по этому поводу. Правда, существовал некий таинственный документ, какой-то контракт, с помощью которого подрядчик мог бы в самой высшей судебной инстанции вывести спекулянтов на чистую воду. Но документ исчез, и все попытки подрядчика добиться правды оказались тщетными. Слава богу, что он отделался лишь своей долей судебных издержек…
— Теперь-то подрядчик будет благоразумнее, — сочувственно заметил Кран.
— Он может стать прекрасным каменщиком, и ему это гораздо больше подходит, — серьезно добавил Сталлер.
То обстоятельство, что жизнь молодого человека была исковеркана, а репутация навсегда загублена, не очень заботило компаньонов.
После периода длительного застоя в конторе фирмы «Импорт и экспорт» вновь закипела работа. Сталлер и Кран только и говорили, что о процентных бумагах и курсах ценностей на бирже. Глаза их при этом алчно блестели.
Однажды Кран быстро прошел через приемную и захлопнул за собой дверь. При этом он подметил, что при виде его Кнютсен пытался припрятать «Информационный листок», в котором обычно расписывались достоинства тех или иных футболистов. Это зрелище всегда доставляло большое удовольствие Крану. «Должно быть, парень, в числе прочих идиотов, болеет за какую-нибудь футбольную команду», — подумал довольный Кран. Он захлопнул за собой дверь и только поэтому не видел, что Кнютсен мгновенно очутился у дверей кабинета, скомкав на ходу газету и бросив ее в корзинку для бумаг. Не заметил он и того, что «Листок» был трехнедельной давности.
— Мастерски сработаны эти двери, — прошептал Кнютсен, поджав тонкие губы, и засеменил обратно к своему столу, откуда извлек новые газеты, чтобы они лежали на виду. Потом он обхватил голову руками и задумался. У него был такой же сосредоточенный вид, как во время соревнования в беге на пятьсот метров, когда он обычно только и думал, что о реакции зрителей, и мечтал о победе…
В кабинете шефов царило возбуждение.
— Я всё выяснил, — сказал Кран. Его глаза сверкали.
Сталлер быстро поднялся:
— Пароль?
Кран прошептал:
— Фирмы «Old Dry Dock» и «Palmer Shipbuilding»[22].
Он поспешно обернулся, на цыпочках подошел к дверям и неожиданно распахнул их. В приемной по-прежнему сидел этот идиот и пытался засунуть под корреспонденцию «Информационный листок». Слава богу, всё в порядке! Этакий бездельник! Кран снова плотно затворил за собой двери.
— Это вполне надежные сведения? — осторожно спросил Сталлер.
— Абсолютно надежные, — решительно ответил Кран. — Мне пришлось несколько нарушить… гм… общепринятые законы и правила… гм… да, вот так-то. Но теперь это уже вполне надежно. Это — наша самая крупная афера! Если только она удастся, мы отправимся в довольно длительное заграничное путешествие. А может, вообще эмигрируем в Южную Америку, вот так-то! Южная Америка — превосходная страна, Сталлер. Биржевой маклер Хюннеланн достаточно стар и опытен, чтобы выйти сухим из воды, когда мы исчезнем с горизонта. Ну и довольно об этом! А этой «бараньей голове» Кнютсену мы спокойно можем преподнести годовую подписку на «Информационный листок». Пусть себе радуется!
Сталлер состроил гримасу. Ему хотелось, чтобы дело сошло с рук как можно благопристойней.
— Ну, хорошо, хорошо, — сказал он. — А как же мы теперь пронюхаем, на какую фирму делать ставку, на «Old Dock» или «Palmer Ship».
— Послушай-ка, — сказал Кран, устроив свое костлявое тело в глубоком кресле. — Обе эти фирмы сцепятся между собой. Тот, у кого будут в руках акции нужного общества, заработает триста-четыреста процентов за несколько дней.
— А другие? — спросил Сталлер.
— Они, очевидно, потеряют столько же, — усмехнулся Кран. — Сегодня же вечером я поеду в Копенгаген и отыщу Хумлена. У него на редкость хорошие и надежные деловые связи. В случае абсолютной уверенности я пошлю тебе телеграмму. Ну-ка, подумаем! Вот так! Если это окажется «Old Dry Dock», я телеграфирую: «Всё в порядке. Приветом. Одд». Если же это окажется «Palmer Shipbuilding», я телеграфирую: «Палмер шлет привет». Запиши. Понял?
— Я же не идиот, — внезапно вспылил Сталлер.
— С чем и поздравляю, — невозмутимо заявил Кран.
— А теперь пошли.
Кран на цыпочках подкрался к дверям и снова неожиданно распахнул их, а Кнютсен в это время так неловко держал газету, что уронил ее. Сейчас он еще больше, чем обычно, походил на барана. Когда компаньоны проходили мимо Кнютсена, Кран состроил конторщику гримасу. Кнютсен стоял, сконфуженно усмехаясь, и вид у него был такой, словно он изо всех сил старается проглотить свой кадык. Но услышав шум спускавшегося вниз лифта, он приободрился и даже развеселился, будто первым пришел к финишу после соревнования в беге на пятьсот метров. Ведь и здесь речь шла о своего рода решающем пробеге. Кнютсен прекрасно понимал, что вся эта история означала конец не только его карьеры в конторе этих мошенников, но, быть может, конец самой фирмы «Импорт и экспорт». Он остановился в распахнутых настежь дверях кабинета и оглядел приемною. Вытащив из кармана связку ключей и какой-то странный инструмент, напоминавший отмычку, он вошел в кабинет.
Прошло несколько дней. Всякому бросилось бы в глаза, что Сталлер был необычайно взволнован. Каждые пять минут он появлялся в дверях кабинета.
— Это не посыльный с телеграфа? — кричал он.
Такая история повторялась изо дня в день, а кончилась тем, что стала действовать на нервы и Кнютсену. По мнению Сталлера, вид у конторщика был весьма смущенный. Шеф в глубине души то и дело посылал к чертям этого «застенчивого подлеца».
Телеграмма пришла на третий день, как раз тогда, когда Сталлер находился в приемной. Он расхаживал там взад и вперед, прерывая это занятие лишь для того, чтобы взглянуть в окно — не идет ли посыльный. Сталлер вскрыл телеграмму. Потом он быстро прошел в кабинет, захлопнул за собой двери, запер их и, усевшись за письменный стол, протер глаза и перечитал телеграмму. Время для него остановилось. Шумело в голове, да и в кабинете стоял какой-то страшный шум. Выходит, что Крану всё же удалось разнюхать это дело… «Приветом Одд» — было написано в телеграмме. Сталлер схватился за сердце. Теперь надо действовать как можно быстрее, распорядиться всем кредитом и… Сталлер выпрямился за своим письменным столом и взялся за телефонную трубку. С этой минуты телефонная трубка фирмы «Импорт и экспорт» извергала огонь и пламя. Без конца приходили и уходили разные посетители. Это были несколько подозрительные, но хорошо одетые личности. Потрепанные жизнью, с усталыми глазами и красными опухшими лицами типа «видал лучшие дни», они испытующе присматривались к окружающей обстановке. Вечером неожиданно пожаловал еще один такой субъект. Потом еще и еще… Сталлер совсем измотался. Но в один прекрасный день все дела были наконец закончены. Оставалось купить билеты и немедленно исчезнуть, как только вернется Кран. Следовало поторопиться. Выражение глаз Сталлера смягчалось, когда он думал об этом дельце, которое им удалось провернуть столь удачно.
Через несколько дней рейсовым самолетом вернулся Кран. Сталлер сидел в кабинете, откинувшись на спинку стула. Перед ним стояла наполовину опорожненная бутылка шампанского. В стакане тоже слегка искрилось шампанское. Ароматный дымок дорогой сигары медленно поднимался к потолку. Яркие блики солнца плясали на великолепной картине, купленной на каком-то подозрительном аукционе. А может, ее взяли под залог у какого-нибудь «друга».
Кран остановился в дверях, разглядывая Сталлера. Тот вскочил со стула, с распростертыми объятиями бросился навстречу компаньону и обхватил обеими своими жирными руками костлявые кулаки Крана.
— Добро пожаловать, — взволнованно сказал Сталлер. — От всего сердца добро пожаловать. Здесь всё в порядке; в полном порядке, лучше и быть не может! Но… что с тобой?.. Ты болен?
Кран фыркнул.
— Я не болен, — злобно сказал он. — В животе у меня пусто… А уж о том, чтобы заложить за галстук, как некоторые другие, и говорить не приходится. Получай обратно доверенность!
Кран бросился на стул, сдвинул шляпу на затылок и буквально заскрежетал зубами. Он не мог успокоиться: путешествие самолетом стоило так дорого! Да еще деньги, которые ему пришлось выложить из собственного кармана в Копенгагене. Ну уж и Сталлеру тоже придется раскошелиться на кругленькую сумму. Да, кругленькую…
— Итак, ничего не вышло, — изрек он, наконец, с тяжелым вздохом, не обратив ни малейшего внимания на то, что выражение лица его компаньона, только что благодушно распивавшего шампанское, резко изменилось.
— Не вышло? — повторил дрожащим голосом Сталлер. — Не вышло? — завопил он. — А телеграмма? Послушай, ты!
— Телеграмма? Какая телеграмма? — злобно переспросил Кран.
— Вот эта! — взвизгнул Сталлер, размахивая телеграммой перед самым носом медленно поднимавшегося Крана.
Кран прочитал телеграмму и вытаращил глаза. Всё его костлявое тело страшно напряглось.
— Я не давал никакой телеграммы! — в отчаянии воскликнул он. — Что ты наделал? Скотина, разве ты не читал утренних газет? Надо было ставить на фирму «Palmer Ship», а к этой бумажке я не имею ни малейшего отношения! Ни малейшего! Ни малейшего!
Сталлер в изнеможении откинулся на спинку стула.
В дверь постучали, и вслед за этим просунулась голова очень унылого и, как всегда, сконфуженного Кнютсена.
— Извините, — заикаясь промямлил он. — Не приносили ли тут на днях для меня телеграмму? Хе-хе, извините…
Оба мошенника взглянули друг на друга. С минуту в кабинете царило молчание. Потом Кран молча протянул телеграмму этому конфузливому дураку, который, жалобно икая от душившего его смеха, одобрительно кивал, знакомясь с содержанием телеграммы.
— Это ваша? — прошептал Кран.
Кнютсен радостно переступил с ноги на ногу и конфузливо икнул.
— Да, да, да. — Смех бурлил в его горле.
— Что это значит? — спросил Кран, зажав в кулаке какую-то статуэтку.
— Это, — икнул Кнютсен, — это значит, что мой брат Одд будет участвовать в соревнованиях на первенство страны по футболу.
— Вон! — завопил Кран и поднял тяжелую статуэтку. — И чтобы ноги вашей здесь никогда не было… Вы… вы… вы…
Кнютсен в ужасе отступил назад и, спотыкаясь, поспешил к выходу. Но, собираясь закрыть за собой двери, он вдруг преобразился. Перед ними стоял молодой человек, в глазах которого не было страха, отнюдь нет. Глаза его были холодны и светились ненавистью.
— Одд, — тихо сказал он, — это мой брат Одд Кнютсен, управляющий бывшего акционерного общества «Стена и постройка». А с этим документом вы знакомы?
Кнютсен держал перед собой припрятанный жуликами контракт, который Кран собственными руками запер когда-то в сейф.
Оба компаньона оцепенели и во все глаза смотрели на двери, которые медленно закрылись за дурашливым Кнютсеном. Скоро к ним постучат более жестокие руки, и безжалостные глаза уставятся на них из-под козырька форменной фуражки. И их ожидают более крепкие двери, защищенные множеством запоров, и малокомфортабельные крошечные тюремные камеры. И дело с фирмой, которая брала подряды, снова выплывет на свет. Случится то, хуже чего и быть не может. Выплывет история с подставной фирмой на имя их жен, куда вложены запасные капиталы на тот случай, если фирма «Импорт и экспорт» прогорит…
И в мире станет двумя мошенниками меньше.
Клеймо
(Перевод Ф. Золотаревской)
Никто в конторе не знал, что Кристен Уре когда-то находился на излечении в больнице для алкоголиков. Ведь глядя на него, никто не мог бы и подумать об этом. Он был коренастым мужчиной небольшого роста, с осанкой гимнаста, румяным лицом, прямыми бровями и хрящеватым носом. Его густые черные волосы топорщились ежиком. На висках серебрилась седина, которая очень шла к нему. Словом, это был сорокапятилетний мужчина в расцвете сил.
В конторе о Кристене Уре сложилось единодушное мнение: спокойный, обходительный человек, которого одинаково любят и подчиненные (он был начальником канцелярии), и все, то и дело сменяющиеся, директора, которых бог посылает фирме. Сам генеральный директор относился к Уре с большой симпатией. Он не раз с похвалой упоминал о нем на заседаниях правления.
Но те, кто знавал Кристена Уре шесть лет назад, хранили в памяти совсем иной его портрет, и им трудно было бы поверить, что Кристен Уре и тот человек — одно и то же лицо. Тогда у него были тусклые глаза, расслабленное тело и неуверенная походка. Платье висело мешком, щёки обросли густой щетиной. В те времена Кристен Уре жил в маленьком городке на юге Норвегии. Когда-то, в молодости, он бывал частым гостем в лучших домах города. Известный спортсмен, хороший певец, он был, что называется, душою общества. Там, где появлялся Уре, сразу же воцарялись веселье и радость. И тогда-то он постепенно пристрастился к доброму стакану вина. Как известно, люди всегда требовательны к любимцу общества, и поддерживать эту марку нелегко. Кристену нельзя было повторяться, он должен был всегда казаться оригинальным и новым. И ему всё чаще приходилось прибегать к вину, чтобы взбодрить себя, поднять настроение. Однажды в откровенной беседе он признался своему другу, как тяжело быть популярным в обществе, остроумным, общительным и сохранять со всеми приятельские отношения. Друг не придал особого значения его словам. А между тем в этом-то и таилась трагедия Кристена Уре. Он всегда уклонялся от принципиальных споров и потому втихомолку презирал себя. А это, разумеется, никак не могло облегчить его борьбу со всё возраставшим пристрастием к выпивке.
И вот с Кристеном Уре случилось то же, что случается со многими другими. Он вступил на стезю, по которой человек опускается всё ниже и ниже, хотя и не перестает горячо клясться, что раз и навсегда покончит с пьянством.
И эта борьба с самим собою, которую ему теперь приходилось вести ежечасно, также мучила его. Он старался заглушить и подавить тоску, и пил еще сильнее. В одну из таких минут он собрал все свои силы и отправился в лечебницу для алкоголиков. Спустя год он вернулся в свой городок совершенно здоровым. Старые пациенты рассказывали ему, как встречают тех, кто выходит из больницы для алкоголиков и пытается начать жизнь сначала: многие несчастливцы не выдерживают остракизма, которому подвергает их общество, и опять попадают в лечебницу.
Скоро Кристен Уре увидел, что ему рассказывали правду.
Старые его друзья, которые втихомолку пили больше, чем когда-то он, теперь приветствовали его презрительно прищурив глаза. Приглашения и визиты прекратились. Он стал всё реже и реже показываться на людях.
Прежняя должность в конторе была занята другим. Он не мог получить работу ни в одной из фирм города. Даже в соседних городках распространилась история об «этом милом и способном Кристене Уре, который теперь стал конченным человеком».
Ему пришлось вести отчаянную борьбу за свою жизнь, за жизнь жены и двоих детей. Он слышал, что бывшим туберкулезным больным тоже трудно получить работу, но часто ему думалось: пусть бы уж лучше он заболел туберкулезом. В этом случае людей отпугивала опасность физического заражения, между тем как к нему и ему подобным все относились как к носителям духовной заразы. Правда, большинство считало, что тот, кто нашел в себе силы победить порок и снова стать полноценным человеком, достоин всяческой поддержки. Но это оказывалось пустыми словами, когда дело доходило до настоящей помощи. О, как нуждался он теперь в чьей-нибудь помощи!
В один прекрасный день семья Уре выехала из города, и никто не знал, куда.
Первый год в столице был самым страшным в жизни Кристена Уре. Он узнал, что такое голод. У них не было жилья. Они бродили от пансиона к пансиону, но всюду квартирная плата была слишком высока. Однажды всей семье пришлось ночевать в полицейском участке. А младший сынишка был тогда болен бронхитом. Наконец им удалось занять каморку в жалкой лачуге, в Ниттердале. Им стало немного легче. Но если бы не его маленькая мужественная жена, они всё равно погибли бы. Она мыла по ночам автобусы в парках, и на этот скудный заработок существовала вся семья. Жена хорошо знала, какую жестокую борьбу с самим собою вел Кристен Уре, как часто находило на него непреодолимое желание напиться, чтобы хоть на один день забыть всё. Тогда он стал бы конченным человеком!
Но вот ему предложили место в торговой фирме. Он горячо ухватился за него. Это было спасением. Им владела лишь одна мысль: он должен утвердить свое право на жизнь. Он целиком отдался работе: он был предан фирме, как никто другой. Постепенно он сделался одним из самых ценных работников. Правда, начальство считало его несколько ограниченным человеком.
Уре ни с кем не общался, никто ни разу не видел его ни в кино, ни в театре, ни в кафе. Никто не знал, как он живет. В конце концов решили, что он просто педант, для которого не существует ничего, кроме цифр и инструкций. Так что никто не удивился, когда, после ухода Расмуссена в конкурирующую фирму, Уре назначили начальником канцелярии.
И вот однажды Кристен Уре вошел в кабинет генерального директора с кипой документов на подпись. В глубоком, удобном кресле для посетителей сидел Сиверт Юнсен. Густые брови Кристена слегка дрогнули, но он и вида не подал, что знаком с Сивертом: официально поклонившись, он положил бумаги на стол и быстро вышел. В коридоре Уре остановился и потрогал лоб, взмокший от лота.
Когда рассеянный и элегантный Сиверт Юнсен вышел на улицу, пряча в бумажник деньги, которые получил взаймы от генерального директора — старого друга его отца, навстречу ему из-за угла вышел Уре.
— Ага, стало быть ты всё-таки знаешь меня, — Юнсен оглушительно захохотал. — А там, наверху, ты не признал меня!
— Я не мог иначе, — лихорадочно заговорил Уре, — ты отлично знаешь, что не мог. Но… пожалуйста, будь добр, делай вид, что незнаком со мной, если мы опять встретимся здесь. Хорошо, Сиверт?
— Ах, так? — язвительно сказал Юнсен. — Ты, я вижу, не нуждаешься в куске хлеба. Вот так оно и бывает. Некоторые живут припеваючи, а я хожу без работы; беден, как церковная мышь. А ты еще смеешь плакаться на свою судьбу! Ну, хорошо, я не скажу ничего, только…
Кристен Уре знал, что Юнсен живет на подачки своих светских знакомых. У него была разработана определенная система, и он делал займы очень тактично, никогда не надоедая часто одним и тем же людям.
— Вот, возьми пятьдесят крон, больше у меня нет, — поспешно сказал Уре. — Если может тебе помочь…
Юнсен взял деньги и равнодушно сунул их в карман:
— За такое дело мог бы и побольше раскошелиться, но ладно уж, можешь быть спокоен, я не проговорюсь. Пока!
Сиверт медленно шел по улице. Видно было, что он нетвердо держится на ногах.
Так в бюджете Кристена Уре появился новый расход. Сиверт требовал всё больше и больше, и Уре платил до тех пор, пока был уверен, что тот ничего не говорит. Сиверт обычно приезжал к нему по вечерам, предварительно позвонив по телефону. В доме Уре затаилась тревога…
— Скажите мне, — обратился к нему однажды генеральный директор, — почему вы не поставили нас в известность о том, что находились когда-то в больнице для алкоголиков?
— Я не думал, что это так уж необходимо, — ответил Уре. Взгляд его потускнел, комната слабо поплыла перед глазами.
— Вы нигде не бываете, Уре, — сказал директор с легкой недовольной гримасой. — Чем вы, собственно говоря, занимаетесь в свободное время?
— Читаю, — ответил Уре, — хожу на прогулки, занимаюсь делами фирмы. В ней вся моя жизнь. В ней и в семье.
— А вы, случайно, не пьете в одиночестве? — внезапно спросил директор, но тут же поспешно прибавил:
— Простите, я не имел права задавать вам такой вопрос. Простите, Уре. Это ведь меня не касается. Вы были образцовым сотрудником фирмы.
Руки Кристена Уре плетью повисли вдоль тела, пальцы крепко сжались в кулаки. Директор этого не видел. Он заметил только полные отчаяния покрасневшие глаза Уре. Ему не нравилось лицо Кристена. Ему казалось, что Уре хочет просить о снисхождении. И где только совесть у этих людей?
— Да, — сказал, наконец, директор. — Мы были очень довольны вами, господин Уре, но принцип нашей фирмы — никогда не принимать на работу алкоголиков.
В голове у Кристена помутилось. Он стоял перед директором и оправдывался. Да, оправдывался, словно был преступником.
— Вы получите блестящие рекомендации и жалование за три месяца вперед. Но вы должны оставить нас сегодня же!
В этот вечер Кристен Уре не вернулся домой. А в пустой комнате до поздней ночи у окна сидела женщина, крепко сжав руки и вглядываясь в непроглядную темноту улицы.
За невидимой колючей проволокой
(Перевод Л. Брауде и Ф. Золотаревской)
Уже четвертую неделю старая фру Енсен лежала по ночам, борясь со сном. Сейчас время близилось к двенадцати. Ее глаза смыкались. Но она стряхивала сон и прислушивалась.
На улице дребезжали последние трамваи, возвращавшиеся в парк. Всё реже и реже слышались одинокие шаги запоздалых ночных пешеходов. Город спал.
Вдруг она услыхала, что кто-то осторожно спускается по лестнице. Тихо скрипнула калитка. Стало быть, этот парень снова вышел бродить по ночным улицам.
Что происходит в ее маленьком домике? Куда опять отправился ее жилец?
Сигурд Халланн, сидя наверху в холодной мансарде, тоже не спал, дожидаясь наступления ночи и тишины. Уже полгода, с тех самых пор как он выписался из санатория, Сигурд был жильцом старой фру Енсен. Он не скрыл от нее, что был болен туберкулезом, но показал ей справку, что теперь совершенно здоров. Его недавно исследовали. Сигурд сказал ей также, что в настоящее время он живет на пособие, но скоро получит работу: у него хорошие рекомендации.
Фру Енсен смотрела на него с грустью и сожалением. Она всё поняла. Она сама жила на пособие по старости и мечтала немного подработать, сдав в наем мансарду. Ей стоило лишь сказать: «Нет». В городе было туго с жильем, и она без труда нашла бы для своей каморки аккуратного плательщика на постоянном жалованье.
Но видно было, что Сигурд Халланн привык к отказам и только покорно ждет, чтобы ему отказали еще раз. Тогда он сразу же двинется дальше. Взгляд его выдавал пустоту и отчуждение. Он держал шляпу в руках. С водосточного желоба на его светлые волосы капала вода. «Сколько ему лет? Наверное, не больше двадцати пяти. На вид он совсем молодой, но выражение его лица такое старческое!..» Нельзя же было без конца стоять вот так в дверях. Она пригласила его в дом и стала расспрашивать. Он отвечал тихим, но внятным голосом. Родственников у него нет, а друзей совсем немного. Хорошие ли они? Этого он еще не знает. Да у них и своих забот по горло. Ему не хотелось бы им докучать.
Так он поселился в мансарде фру Енсен.
Новая жизнь нелегко давалась Сигурду Халланну. За два года в санатории он привык к определенному распорядку дня, от которого потом долгое время не мог отучиться…
Вот слышится сигнал подъема. Затем одна за другой следуют процедуры, которые он выполнял почти механически: умывание, завтрак, прогулки, врачебный осмотр, обед, отдых, прогулка, снова врачебный осмотр, ужин, беседы, сон!
Всё это напоминало хорошо налаженный часовой механизм.
Теперь Сигурд был выбит из привычной колеи. Ему казалось, что его внезапно разбудили темной зимней ночью, грубо вышвырнули из теплой, уютной постели прямо в снег и сказали:
«Ты попал сюда по ошибке, это не твой дом, убирайся прочь!»
Сигурд Халланн знал, что на самом деле всё было иначе. Но таковы были ощущения его тела. Впрочем, никому не было дела до его физических ощущений. Отправляя Халланна из санатория, врачи не дали ему ни единого совета. Им попросту никто больше не интересовался…
А между тем тело его со страстной тоской по-прежнему жаждало заботы. Оно жаждало сущей безделицы — такой, как теплый душ и широкое полотенце. Отсутствие этого казалось ему невыносимым лишением. Оно было хуже голода. Быть опрятным стало для него самой насущной жизненной необходимостью. Этого требовал его инстинкт самосохранения. Он помнил, что говорила его сестра, вернувшаяся из Равенсбрюка, где она пробыла три года: «Мы старались мыться каждый день, даже в ледяной холод, зимой. Мы чувствовали, что если не будем соблюдать чистоту, то погибнем».
Сестре удалось выжить в Равенсбрюке. Когда она вернулась домой, в Норвегию, ей негде было жить. Она покончила с собой…
А теперь? Сигурд Халланн, задумавшись, стоял перед жестяным тазом на деревянном стуле, и мысли его уносились к уютной комнате в санатории, где были и душ и полотенце. Здесь же, в мансарде, у него был лишь потрескавшийся эмалированный кувшин и грубое полотенце из мешковины, от которого всегда дурно пахло.
Как всё изменилось в его жизни! За один только день…
Понемногу он привык к такому умыванию. Казалось, и маленькую комнатку, тоже нетрудно содержать в чистоте. В ней всего-то было три шага в длину да три в ширину. Здесь, под скошенным потолком мансарды, стояли кровать, комод, старая плетеная качалка, деревянный стул, а у окна — стол. За ведром, тряпками и водой тоже стоило лишь спуститься к фру Енсен. Но лестница была крутой. И потом, он хотел как можно меньше докучать хозяйке. Он боялся лишиться своего жилья. Ему вовсе не улыбалась перспектива очутиться на улице и добывать по ночам кров над головой по способу его приятеля Тёмерманна. Тот притворялся пьяным, для того чтобы его арестовали и увезли в вытрезвитель.
Всё реже и реже пытался Сигурд наводить чистоту. Это отнимало у него слишком много сил. Непривычная поза, на коленях, с тряпкой в руках, оказалась очень тяжелой для него. Все эти годы его тело было подобно машине на холостом ходу. Теперь же Сигурду пришлось резко перейти на обычный темп жизни, годный лишь для тренированных. Ему нужно было многому научиться. Но люди не желали ему ни в чем помочь. Они поднесли ему полную чашу горестей и отчаяния и сказали: «Пей, это всё — твое!»
Первые дни после возвращения он лишь бродил по городу и осматривался. Он только старательно избегал той, знакомой улицы, хотя, сам не зная почему, часто неожиданно оказывался поблизости от нее. Словно ноги сами несли его в ту сторону. Там жила она. Халланн знал, что она стоит у окна и высматривает его. Нет, он не должен приближаться к этой улице. И всё-таки он часто оказывался поблизости. Если бы его спросили, зачем, — он и сам не смог бы объяснить.
Сокрушительный удар первых дней, удар по человеку, выброшенному из общества и занесенному в черный список, человеку, не повинному ни в чем и ни перед кем, сделал его чрезвычайно недоверчивым. Он не доверял даже любви, считая, что ее диктует сострадание…
Большую часть времени он бродил по разным учреждениям. Эти хождения были для него сущим адом. Правда, ему удалось получить квартирные деньги и немного топлива за счет муниципалитета. Он подал прошение о костюме и паре ботинок. Выхлопотал пособие по безработице. Но люди за деревянными барьерами не очень-то вглядывались в лица просителей, — они лишь подсчитывали и прикидывали. Машина благотворительности вертелась бесстрастно. Халланн чувствовал, что вот-вот захлебнется в море анкет и всяческих бумаг.
И почему это барьеры и перегородки делают людей такими чуждыми друг другу? К чему вообще эти барьеры? Отчего бы не предложить посетителю присесть? Вот как бывало, например, в кабинете главного врача санатория. Когда сидишь на стуле, всякая нервозность исчезает без следа. Люди, сидящие друг против друга, приветливо улыбаются. Люди, разделенные барьером, смотрят друг на друга оценивающим взглядом.
Сразу же после возвращения Сигурд Халланн начал блуждать в поисках работы. Незанятые должности попадались, но ему-то не удавалось их получить. Обращаться на фабрику, где он работал до болезни, было бесполезно. Для конторского дела у него не хватало образования. А легкая физическая работа обычно доставалась тем, у кого были знакомства и связи. Места сторожей, вахтеров и швейцаров захватила целая армия стариков и пенсионеров. Халланн знал: это было им необходимо для того, чтобы кое-как свести концы с концами. В конце концов ему удалось стать разносчиком газет. Но он не смог выдержать на этой работе больше месяца. К тому же из-за заработка его сразу лишили пособия, так что он всё равно не в состоянии был выбраться из нужды. Всюду, куда бы он ни обращался, на пути его словно бы возникало проволочное заграждение. Казалось, железные колючки вот-вот вопьются в его тело. По ночам он просыпался от кошмаров, его мучил страх перед наступающим днем. Сигурду чудилось, что вокруг него в воздухе носятся вороха бумаг: анкет, заявлений, справок, а сам он сидит в клетке из железной проволоки и не должен двигаться с места, если не хочет, чтобы колючки разодрали его в клочья. И ему представлялась сестра, стоящая за колючей проволокой, с протянутыми вперед руками, в деревянных башмаках и полосатой арестантской одежде. А часовой, высунувшись из сторожевой башни, лениво сплевывает вниз…
Он снова решил попытать счастья в конторах по найму. Ему давали для заполнения анкету. Множество анкет. За равнодушными барьерами его встречали холодные глаза. Однажды он набрался храбрости и рассказал человеку за перегородкой, чем он был болен и какую работу ему можно теперь выполнять. Служащие прекратили свои занятия и стали внимательно прислушиваться. Когда он кончил свой рассказ, многие покинули комнату. Они пошли мыть руки. С тех пор Сигурд никогда больше сюда не приходил. В другой конторе служащий раздраженно сказал ему:
— Мы уже давали вам работу. Чего же вам еще?
Халланн стал обходить и эту контору.
Многие из этих учреждений сделались теперь для него запретными в его одиноких блужданиях по городу. Он чувствовал, что люди за деревянными барьерами с каждым днем становились всё суровее и безжалостнее. Они, словно колючее проволочное заграждение, вставали перед Халланном, не давая ему вырваться из замкнутого круга, не позволяя вернуться в их общество, вернуться к жизни. И он снова, будто в туманной дымке, видел сестру. Она шла вдоль колючей проволоки, протягивая вперед руки.
Халланн начал выходить на прогулки по ночам, когда все добропорядочные люди спали. В эти часы он чувствовал себя до некоторой степени свободным…
Когда на улице льет дождь, люди сидят в своих домах, уткнувшись в газету или книгу, и проклинают этот город, эту сырую дыру, в которой приходится жить. В кухне что-то булькает на плите. «Ну, конечно, сегодня опять на обед рыба! — Человек ворчит и злится. — Нет, жить стало совершенно невозможно! В кино идут мерзкие фильмы, в театре дрянные пьесы. Современные книги читать невозможно, в живописи ни черта не понять, новомодная музыка смахивает на кошачьи концерты… А тут еще Хансен получил место поверенного, на которое рассчитывал я. Тьфу, проклятая жизнь!»
Но недовольство, злоба, раздражение придают существованию хоть какой-то смысл.
Ничего этого не было у Халланна. Для него жизнь остановилась. Он больше не жил, а лишь по инерции существовал. Теперь он не ощущал в этом никакой трагедии. Он уже давно не испытывал ни горечи, ни боли. В душе всё было иссушено и выжжено дотла; всё заглохло, как руины, поросшие густым лесом.
Для своих ночных прогулок он выбирал самые пустынные улицы. Иногда ему приходилось наблюдать тайную жизнь трущоб. Преступления, проституция, одинокие обездоленные люди, не имеющие приюта на ночь. Случалось, что какой-нибудь полицейский, совершая обход, останавливался и глядел ему вслед: «Зачем этот молодчик шатается ночью по улицам?».
Халланн удалялся, чувствуя на своей спине настороженный, подозрительный взгляд.
Больше всего его притягивал к себе безлюдный город. Поэтому Халланн часто выходил из дому, когда на ночных улицах бушевала непогода. Ему нравилось с трудом продвигаться вперед, сквозь ливень и ветер. Создавалась иллюзия борьбы. Именно борьба привлекала его. В нем жило еще что-то от одного из естественных призваний человека — борьбы со стихией. Это было последнее, что связывало его с жизнью. И это же отнимало у него последние силы…
Однажды фру Енсен сделала робкую попытку выяснить причину его таинственных ночных прогулок. Больше она никогда ее не повторяла. Ужас, появившийся в глазах Сигурда, долго еще мучил потом пожилую женщину. А время шло…
И вот уже минуло две недели, как его вовсе не было ни видно, ни слышно. Фру Енсен представила себе, как он целыми днями сидит у себя в комнате, а в глазах его — всё тот же ужас. Тут она набралась храбрости и вышла из дому, чтобы с кем-нибудь посоветоваться…
Спустя два месяца девушка, продавщица булочной, сказала ей:
— Да, быстро сгорел Сигурд Халланн. Страшная штука этот туберкулез.
Фру Енсен глубоко вздохнула. Она всё еще тяжко терзалась угрызениями совести, хотя и знала, что всё равно ничем не могла бы помочь. Она задержалась перед прилавком, по-старушечьи топчась на месте и сжимая в руках булку. Продавщица с изумлением увидела, что фру Енсен вся дрожит.
— Нет, — сурово и горько произнесла наконец старушка, — страшен не туберкулез, страшны люди, эти бездушные автоматы. И все мы таковы.
Она быстро вышла из булочной.
— Автоматы? — испуганно прошептала продавщица.
Это было мудреное, иностранное слово. И неудивительно, что фру Енсен пришлось долго думать, прежде чем она вспомнила его.
Исторические рассказы и легенды
Выкуп головы
(Перевод Ф. Золотаревской)
В безветренной бухте тихо покачивались на канатах легкие боевые ладьи. На берегу пылало множество костров. На носу каждой ладьи видны были неподвижные фигуры дозорных, не спускавших пристального взгляда с темнеющих вод фьорда. Шлемы их четко вырисовывались в сумерках. Это были люди короля Эйрика Кровавая Секира[23]. Все — отчаянные головорезы, жестокие, как их господин.
По другую сторону бухты к возвышавшимся вдали холмам направлялся человек в одежде воина. Он остановился на мгновение, бросил взгляд на ладьи и заторопился дальше. Спустя некоторое время он уже входил в землянку, вырытую у подножья холма. Вокруг очага сидели трое мужчин. Они взглянули на пришельца, но тут же отвернулись, словно не желая показать, с каким нетерпением они ожидали его. Человек снял с себя плащ, сел поближе к очагу и вытянул над огнем руки.
— Поздно же ты пришел, Аринбьярн, — сказал Гуннлойг. — Что скажешь? Может ли Эгиль Скаллагримсон[24] надеяться, что король пощадит его?
Аринбьярн покачал головой.
— Дело решено, — сказал он. — Нет у меня больше надежды спасти Эгиля. Он мне лучший друг и побратим. Он — самый великий скальд в нашем краю. Но король Эйрик не забыл, что Эгиль сложил о нем хулительную песнь и навеки опозорил его. Бесполезно просить короля о пощаде. К тому же вам известно, что Гунхильд, Мать Королей, ненавидит Эгиля. Сегодня ночью Эгиль умрет. Тут уж ничем не поможешь. Но всё-таки мы должны что-нибудь придумать.
Долго они сидели, глядя на огонь. Время от времени в костре раздавался треск смолистых сучьев и целый дождь искр падал на земляной пол. Гуннлойг, самый молодой и решительный, сказал с юношеской отвагой:
— Соберем народ и силой освободим Эгиля от позора и смерти!
Аринбьярн, который волею судьбы был и правой рукой короля Эйрика и побратимом Эгиля, удрученно покачал головой.
— Уж очень нас мало. Да еще повсюду расставлены дозорные. Сам же я принес клятву верности на мече Эйрика и скрепил кровью свою дружбу с Эгилем. Но знаю одно: королю Эйрику и Гунхильд, Матери Королей, известно, что друзья Эгиля неподалеку.
Тьодолф сказал:
— Может, ты и прав, Аринбьярн. Но не знать мне в жизни и одного счастливого часа, если я стану сидеть сложа руки в то время, когда король собирается казнить моего друга, величайшего скальда Норвегии.
Тут заговорил старый Будди. Хриплое дыхание с шумом вырывалось из его груди. Он сказал:
— Я старик и в сраженье уже не гожусь. Смертельные раны больше не страшат меня. Король Эйрик не оставил в живых никого из моего рода. Рука моя ослабела, и мысли текут медленно. Но я многое повидал на своем веку, и всё это до сих пор свежо в моей памяти. И память моя рождает думы, подобно тому, как земля рождает деревья и травы. Сдается мне, я знаю, как спасти Эгиля, если только норвежцы остались такими, какими были в старину!
Аринбьярн изумленно поднял взор. Он уже утратил всякую надежду на спасение друга.
Старый Будди с трудом встал и выпрямился, словно собирался держать речь на тинге[25]. И тогда он сказал:
— Жизнь Эгиля в его же руках. Никогда еще Норвегия не рождала скальда, подобного ему. Если он сумеет и пожелает, пусть сложит песню о короле Эйрике. Пусть в этой песне не будет лести и мольбы о пощаде, пусть в ней будет чистая правда. Король не посмеет обезглавить того, кто увековечит его имя своей замечательной песней. Так уж повелось в Норвегии, что короли ценили дар песни превыше всякого другого уменья. Бывают люди, которых боги от рождения наделили этим даром. Людей этих зовут скальдами. Они повествуют в своих песнях о великих деяниях. Они повествуют потомкам о многих славных битвах. Слушая их песни, мы радуемся победам и скорбим об изменах и несправедливости. Это скальды своей мудростью и божественным своим дарам свершили то, чего не могли свершить короли. Это они напоминали нам, что мы — единый народ и что мысли наши и чувства должны быть едины. Они рассказали нам историю наших предков, возвеличивая достойные деяния и осуждая постыдные. Сколь много славных побед навеки погибло бы для нас, если б скальды не дали им в своих песнях новую жизнь! Скальды поддерживали доблесть в сердцах наших отцов тем, что осмеливались судить королей, рыцарей и дерзали подавать советы своим властителям. А ведь короли не стерпели бы этого даже от своих приближенных. Проклятье или похвала в песне скальда имеет огромную силу и живет дольше самого долговечного короля. Молва гласит, что отец короля Эйрика, Харальд Прекрасноволосый, всегда сажал скальдов на самые почетные места. Выше всех других сидел Аудун Иллскальди, самый старый из всех; он был скальдом Халвдана Сварте. Рядом с ним сидели Торбьярн Хорнклови и Эйвин Хнуви. А по правую руку от себя король сажал Борда. Эйрик Кровавая Секира сам хороший скальд, так же как и отец его. Он знает толк в этом искусстве. И он оценит великую прекрасную песнь скальда! А такую песнь в наши дни способен сложить один только Эгиль Скаллагримсон. И тут-то король попадется в западню. Вот что я хотел вам сказать. А теперь дайте мне отдохнуть, потому что долгая речь утомила меня.
Все нашли, что старый Будди дал добрый совет. Аринбьярн вернулся обратно в усадьбу короля Эйрика. Тут он поговорил с Эгилем Скаллагримсоном, который уже совсем было примирился со смертью.
На другой день в королевской усадьбе собралось много народу. Все знали, что нынче король Эйрик будет судить самого непримиримого своего недруга — и самого великого скальда Норвегии — Эгиля Скаллагримсона…
И вот Эгиля вывели во двор. Вокруг на холмах сидели и лежали вооруженные люди. Но место перед королевскими парадными покоями пустовало. Поодаль стоял Аринбьярн со своими друзьями. Старый Будди опирался на плечо своего внука. Он был очень стар и слаб, но глаза его сверкали совсем как в далекие молодые годы.
Наконец появился король Эйрик. Рядом с ним шел Хьяртан, которому надлежало свершить казнь. У него было особое право мстить Эгилю, так как тот добыл себе богатство, причинив много зла роду Хьяртана. Вожделение к золоту было слабостью великого скальда. Все знали это. И все понимали, что Хьяртан выпросил у короля милостивое разрешение самому снять с плеч голову великого скальда.
И вот они стояли, глядя друг на друга: Эгиль и Хьяртан. Хьяртан — высокий, мускулистый, с тяжелым топором в руках. Эгиль — огромный, тучный, с крупной облысевшей головой. Лицо у него было широкое, с кустистыми бровями, коротким, тупым носом и отвислой нижней губой. Его куцая, заплывшая жиром шея казалась особенно уродливой рядом с широкими могучими плечами. Он был очень рослый и казался выше всех окружавших его людей. Одна бровь у него хмурилась, другая взлетела высоко вверх. Вид у него был такой, словно он сидел за длинным пиршественным столом, радуясь вместе с другими кубку доброго вина. Он не отводил взора от горевших ненавистью глаз Хьяртана.
Король Эйрик откинулся на троне и насмешливо произнес:
— Привет тебе, прославленный вождь скальдов.
На это Эгиль ответил ему висой[26]. Голос его звучал негромко, но каждое слово доносилось до самых отдаленных холмов. Аринбьярн стиснул руками свой широкий пояс. Хьяртан поправил на плече топор.
Король Эйрик равнодушно сказал:
— Неплохо сложена эта виса, Эгиль.
И тогда прозвучала новая виса. Эйрику понравилась игра, и он решил продолжать ее, как человек, заведомо знающий, чем она кончится. Король проговорил ответную вису. Следующая виса Эгиля также требовала ответа. С бьющимся сердцем Аринбьярн услышал, что поэтическая перебранка постепенно принимает иную окраску и иное направление. Всё шло так, как задумал Эгиль. Король Эйрик тоже заметил это и смолк. Его недруг произносил диковинные слова. Скальд говорил о том, что он, Эгиль Скдллагримсон, пришел сюда по доброй воле. Король вопросительно взглянул на Хьяртана, который, побагровев от гнева, шагнул вперед и высоко занес над головой топор. Но вдруг он неподвижно застыл на месте, пораженный удивительной красотой новой висы. Воины, до сих пор лениво и равнодушно лежавшие на холмах и во дворе, один за другим стали приподниматься и напряженно прислушиваться. И тогда Эгиль возвысил голос. Мало-помалу он обретал всё большую власть над людьми. Одинокие дозорные на ладьях также повернули головы и стали слушать. Хьяртан медленно опустил топор. Зачарованный песнью своего врага, он стоял неподвижно, опираясь на тяжелое топорище.
И все застыли в неподвижности, слушая бессмертную песнь, которую Эгиль создал в эту ночь и которую норвежцы назвали впоследствии «Выкуп головы». Всем был известен удивительный дар Эгиля, но подобной песни никому еще не доводилось слышать.
Король Эйрик сердито поднял голову. Он решил прервать скальда. И в то же время ему хотелось услышать конец песни. Как Эгиль завершит ее? Начало было прекрасно, однако… А скальд Эгиль, широкоплечий и тучный, невозмутимо стоял в окружении своих врагов и палачей. Одну руку он положил на пояс, богато изукрашенный золотом и серебром. Его голос дерзко взмывал над головами людей. Звонко и сурово звучал он в этот утренний час, на пороге смерти.
Но это была не песнь жалкого льстеца, униженно молящего о пощаде. Правдиво и смело рассказывалось в ней о жизни и деяниях короля Эйрика.
Никто никогда не слышал более прекрасной песни о короле Эйрике. И она была правдива. В ней не прославлялись великодушие, честность и правдивость короля, как это делалось в обычных хвалебных песнях. В ней говорилось о бесстрашии Эйрика в битве и о его даре военачальника.
И тут только король Эйрик понял, что теперь произойдет то, чего он не мог предвидеть. Теперь, когда злейший его враг уже у него в руках! Он крепко сжал рукоять меча и оглядел своих приближенных, которые ненавидели Эгиля еще больше, чем он сам. Но король вдруг почувствовал странную неуверенность. Он знал, что все они с нетерпением ждали того часа, когда голова скальда скатится с плеч под топором Хьяртана. А теперь они стояли околдованные силою поэзии и красоты. Они впились взглядами в лицо Эгиля, и глаза их излучали такое сияние, словно они беседовали с богами. Король знал, что они ненавидели Эгиля Скаллагримсона. Но теперь они преклонялись перед поэтом и его дивным искусством. Эгиль выразил в своей песне всё то, о чем они думали и мечтали; он выражал их самые затаенные думы, самые страстные желания, самые горячие чувства. И потому все они были захвачены его песнью. И даже самый злейший враг не осмелился бы прервать Эгиля, такую сильную власть приобрел он над людьми. Рядом с королем Эйриком стоял Хьяртан. Король смотрел на него. Лицо Хьяртана выражало глубокое внимание, и, когда Эгиль произносил особенно красивую вису, Хьяртан словно бы чуть заметно улыбался. На курганах, у лодочной пристани стояли люди, а голос Эгиля, казалось, заполнял всё вокруг.
Когда Эгиль замолк, со всех сторон раздались крики, как будто люди приветствовали короля по окончании победной битвы. Воины ударяли в щиты и издавали восторженные возгласы. Они чествовали своего скальда и недруга Эгиля Скаллагримсона.
И Аринбьярн стоял спокойно опираясь на меч. Плечо его касалось плеча старого Будди. Старик улыбался. Сегодня никто не посмеет поднять оружие на Эгиля. О таком недостойном деянии не рассказывалось еще ни в одной саге. Скальд стоял высоко подняв голову и ожидая слова короля. Он ясно дал понять своей песней, что не просит ни пощады, ни прощения. Таков был Эгиль Скаллагримсон. Он был тверд не менее, чем его недруг, король Эйрик Кровавая Секира.
Король поднялся, неохотно и растерянно. Он был в восхищении от великолепной песни Эгиля, но в то же время его мучила неутоленная жажда мести. Он знал, что эта песня прославит его в веках больше, чем все его победы, и что она расскажет норвежцам правду о нем. Ему ведома была сила песни, — ведь он, этот король, сам был искусным скальдом, так же как когда-то отец его, Харальд Прекрасноволосый. И он был в сильнейшем волнении, так как понял, что попал в западню.
Король резко обернулся к Хьяртану и застыл в изумлении. Изуродованными устами, рассеченными когда-то мечом Эгиля, Хьяртан произнес следующие слова:
— С великой радостью отделил бы я твою уродливую голову от тела, Эгиль. Но она всё-таки слишком драгоценна!
Громовой хохот тысячи глоток, словно морской прибой, загрохотал во дворе королевской усадьбы. Хьяртан погрозил толпе кулаком, обернулся к Эгилю и злобно сказал:
— Но не забудь, что радость, которую ты подарил мне, может исчезнуть, как исчезает роса с полей, когда солнце стоит высоко в небе. И тогда песнь твоя утратит свою власть надо мной. Когда я повстречаюсь с тобой в другой раз, беседа наша будет сопровождаться звоном мечей!
Хьяртан резко повернулся и быстро покинул двор. Король Эйрик с минуту смотрел на Эгиля, прищурив глаза. Потом медленно произнес:
— В своей песне ты говорил о моем сребролюбии, Эгиль. Я отвечу тебе тем же. Возьми вот этот перстень в награду за песнь. Этот дар будет тебе по душе. Ты хороший скальд, Эгиль, но все знают, что ты безмерно жаден до богатства. Возьми же кольцо — оно из чистого золота.
Месть мертвых
(Перевод Л. Брауде)
Случилось это в гибельные для Норвегии времена, когда там свирепствовала чума — Черная Смерть.
Далеко на севере лежит уединенный плодородный остров. Однажды жители этого острова услыхали, что где-то на юге бушует Черная Смерть. Обезумев от ужаса, подстерегали они корабли, приближавшиеся к острову. Они осыпали градом горящих стрел любое, самое миролюбивое судно, которое и на юге-то не бывало, и уж никак не могло занести на остров заразу.
Но вот однажды в заливе появилась какая-то шхуна. Вяло полоскались по ветру паруса. Островитяне стали осыпать ее градом горящих стрел, и шхуна бросила якорь посреди залива. Раздались крики о помощи, которые нельзя было истолковать превратно. На корме один за другим стали вспыхивать сигналы бедствия. Так продолжалось три дня, а на четвертый сигнальные вспышки на шхуне прекратились. Тогда кто-то из бондов[27] поднялся в горы — поглядеть, есть ли люди на палубе. Он вернулся обратно с вестью, что на посудине всё словно вымерло.
Рано утром бонды собрали тинг и поклялись страшной клятвой, что никто из них не ступит на борт шхуны, какие бы сокровища ни таились в ее трюмах. А все знали, что сокровища там были немалые. Шхуна шла с юга и была доверху нагружена изделиями золотых дел мастеров, драгоценными уборами и прочими редкими товарами. Поэтому-то бонды клялись священной клятвой, более страшной, чем обычно: да будет вне закона каждый, кто приблизится к шхуне. По всему берегу залива была расставлена стража. Островитяне выжидали еще несколько дней и черных, дождливых ночей, чтобы убедиться: да, на шхуне царит лишь смерть — Чума.
На шестой день на острове начали сооружать большие плоты и бросать на них сухой можжевельник и сосновые корневища. Все работали в суровом молчании. К вечеру множество таких плотов уже выстроилось вдоль берега.
Сигурд Брюнхильдсон взобрался на камень и сказал:
— Лишь только взойдет солнце, мы выйдем на плотах в море и сожжем шхуну. И да будет наречен злодеем тот, кто нынче ночью не усидит дома, в своем собственном жилище. Мы, не раз слыхавшие о великой погибели людской, Черной Смерти, мы-то понимаем, какой бедой грозит нам эта шхуна! Но от нашей воли зависит избавить остров от беды. Ни один корабль не заглянет к нам до зимы, это — последний, а к весне, может, и чума уймется!
Сигурд глядел на толпу стоявших перед ним бондов и тяжко вздыхал. Знать бы, что у них на уме. Потом он хлопнул по плечу владельца усадьбы Хойгане и сказал:
— Пошли-ка по домам! Утро вечера мудренее! Были бы все такие, как ты, Арне, я бы не страшился, хотя мне кажется, что все понимают, насколько это серьезное дело.
И они двинулись вверх по тропинке, а остальные пятьдесят человек, целая маленькая рать, следовали за ними по пятам. На вершине холма все оглянулись и поглядели на фьорд. Если на шхуне и оставался еще кто-нибудь в живых, то он непременно помрет нынче же ночью. Ведь на борту уже давно никто не подавал признаков жизни. Весной бондам придется позаботиться об освящении этого места. Большего они сделать не в силах…
Утром следующего дня в устье фьорда появилась диковинная флотилия. Лодки тянули за собой большие плоты. Гребцы усердно работали веслами. Сигурд стоял на носу своей лодки, определяя расстояние и наблюдая за направлением ветра и течением. Невдалеке от острова Стурё лодки легли на другой курс и выстроились в ряд вокруг шхуны. Бонды сдвинули плоты поближе друг к другу, подожгли их и погнали к кораблю. Один за другим скоплялись плоты у бортов шхуны, и вот уже столбы пламени плотным кольцом опоясали корабль. Гребцы в лодках и бонды на берегу, как зачарованные, пожирали глазами невиданное зрелище. Удастся ли их затея? Но тут легкие языки пламени метнулись по палубе, и все увидели: шхуна стала медленно крениться на бок. Она была обречена на гибель. Бонды вдыхали уже терпкий запах кипевшей в огне смолы. Длинные языки пламени вдруг взметнулись над кораблем. Пламя, подхваченное ветром, перекинулось дальше, на свежеосмоленную снасть, с жадностью пожирая груженную сокровищами шхуну. Оно поднималось всё выше и выше, пока не охватило своей пылающей дланью всё, что только могло гореть.
Корабль горел весь день, а бонды сидели в лодках и караулили, пока он не перевернулся в конце концов на бок и не исчез в черных, пенящихся клубах дыма. Все вздохнули с облегчением. Смерть миновала их. А Сигурд Брюнхильдсон, самый мудрый из бондов, стоя на носу, затянул песню, которую обычно певали женщины, когда бонды кружились в пляске с мечами. Но на этот раз вместо женщин пели гребцы, а запевалой был сам Сигурд. Погибель людская — чума, пламя которой буйствовало в Норвегии и испепелило уже две трети ее народа, миновала остров. Владелец усадьбы Хойгане пел громче всех и восхвалял стойкость бондов. На берегу, у сараев, где зимой хранились лодки, толпились женщины, дети и множество бондов. Они махали руками гребцам, подходившим на веслах, и подпевали им. Праздничное настроение воцарилось на острове, настали мир и ликование. Петля страха, охватившего людей, разжалась.
Стоял час отлива, море в тот день необычайно обмелело у берегов, и Сигурд приказал грести к устью горной речки. Лодки изменили курс, а люди на берегу последовали за ними. Гребцы в лодках обменивались веселыми словечками. Самые молодые, еще зимой ходившие в мальчишках, окликали молодых девушек. По волнам фьорда и по берегу к устью горной речки устремилось ликующее и веселое, будто свадебное, шествие.
Лодки вошли в устье, и передняя уже врезалась в зыбучий песок. Сигурд, схватившись за форштевень, собрался было веселым криком приветствовать своих земляков, ожидавших на суше, но вдруг остановился как вкопанный и во все глаза уставился на что-то. Ужас охватил людей, когда они, наклонившись вперед, взглянули по направлению дрожащей руки Сигурда. На расстоянии вытянутого весла на песке виднелся свежий след от лодки, которая, должно быть незадолго до них, причаливала к берегу. На песке ясно вырисовывалась глубокая вмятина. Как видно, здесь лежала тяжелая кладь. Люди закричали, увидев воочию сокровище, внушившее такой ужас Сигурду: сверкающий в лучах солнца драгоценный убор чужеземной работы. Сомнений больше не было: здесь лежала кладь с корабля смерти. Сигурд снова быстро толкнул свою лодку в море и крикнул остальным:
— Чума — чума настигла нас! Горе злодею, горе предателю!
Сотни вёсел рассекали волны, — лодки спешили прочь от берега. Толпа мужчин и женщин на берегу замерла в ожидании. Вдруг и они поняли, что стряслось, и всех охватил неудержимый страх. Люди мчались, не разбирая дороги, по болотам, карабкались по гладким скалам вверх, раздирая в кровь руки. Все спешили разойтись по домам, чтобы спрятаться там от ужаса и страха.
Страшный шум поднялся и в лодках. Не зная виновника беды, бонды выкрикивали свои подозрения друг другу, призывая в свидетели скалы. Им было известно лишь одно: предатель — среди них. Но, как ни кричи, его всё равно не разыщешь. Они размахивали секирами, вызывая злодея на единоборство, они взывали в своей ненависти к лучам заходящего солнца, пока, наконец, не разлетелись в разные стороны, как стая потревоженных ворон. Каждый гребец затаил свою страшную мысль о смерти предателя, свое собственное подозрение.
Высадившись на берег, подальше к северу, люди разбились на небольшие группы. Обитатели одной и той же усадьбы старались держаться вместе. Сигурд Брюнхильдсон выступил вперед и сказал:
— Мое слово — твердое: кто бы ни приблизился к моей усадьбе, мужчина или женщина, будь он друг или не друг, — отведает моих стрел!
Такие же слова произнес бонд из Хойгане, лучший друг Сигурда. Все слышали, как почти обезумевший от ужаса бонд из Хойгане ожесточенно проклинал предателя. Он обнял жену за плечи, а голос его гремел над берегом, точно божье проклятие. Ульфхильд крепко вцепилась в мужа. Подняв тяжелый кулак, словно призывая небо воздать злодею справедливую кару, бонд из Хойгане вдруг быстро зажал себе рот. Поток черной, точно запекшейся, крови хлынул у него из горла, а лицо стало иссиня-черным. Шатаясь, он схватил за руки Ульфхильд и успел лишь шепнуть ей на ухо:
— Оно лежит под Тюленьим камнем…
Тут он упал навзничь. Бонд из Хойгане был мертв…
Мужчины стояли, точно пригвожденные к месту. Опомнившись, они быстро побросали всё, что было у них в руках, повернулись и бросились бежать. За спиной у них раздался женский крик. Ульфхильд пришлось одной, лишь с помощью своих детей, тащить мужа домой в Хойгане.
С того самого дня бдительные мужи день и ночь караулили усадьбу Хойгане. Ни Ульфхильд, ни ее сыновьям и приблизиться не дозволяли к окружавшей их страже. Хозяина Хойгане тоже пришлось хоронить самой вдове. Но самым удивительным казалось то, что никто из обитателей усадьбы не заболел чумой. Ульфхильд кричала мужчинам, что зараза, должно быть, уже выветрилась из усадьбы. Но разжалобить их было невозможно, и при первой же попытке женщины подойти поближе с младшим ребенком на руках, в землю у ее ног вонзались длинные стрелы. Стрелы, копья и секиры бондов не знали пощады.
И вот однажды Ульфхильд вырыла труп своего мужа и предала его честному погребению. Бонды слышали пение детей, но речи Ульфхильд были бессвязны. В ту же ночь все услышали бредовый смех женщины.
Молча, с суровыми лицами, стояли ранним утром бдительные мужи и смотрели, как длинные языки пламени лижут богатый дом в Хойгане. И, заглушая треск и шум пожара, до них явственно доносились безумные слова Ульфхильд:
Сигурд слушал, стиснув зубы.
— Ничего не поделаешь, — сказал он. — Здоровье и бодрость снова вернутся теперь в наши края.
На следующий день Сигурд созвал на тинг всех именитых бондов острова. И свою речь он закончил словами:
— Мы уничтожили яд, подсыпанный бондом из Хойгане. Ноги честного человека не должно быть в этой усадьбе. Сокровище, похищенное злодеем на корабле, должно остаться нетронутым. Мы позаботимся об этом. Клянемся огнем, копьем и мечом!
Все повторили его клятву. Но той же ночью на острове поползли слухи о несметных сокровищах усадьбы, и мысль о них не давала людям покоя. Они говорили, что вещи не могут переносить поветрие; его подхватил лишь бонд из Хойгане, побывавший на шхуне среди мертвых и умирающих. Теперь, верно, золото, серебро и прочие благородные металлы были уже не заразными. А Улав из Ватсдалена сказал:
— Огонь разом уничтожает чуму. Мы можем еще раз опалить место, где стояла усадьба, так что вся земля покроется пеплом и золой. Пусть хозяева Хойгане покоятся в мире там, где они лежат. Их мы не тронем, потому что там — зараза. Мы заберем лишь добро. Так я полагаю!
Сигурд сказал:
— И я слыхал, что огонь уничтожает чуму, но всё равно я никому не посоветую искать клад, похищенной со шхуны. Я считаю, что теперь мы спасены, а к чему может привести эта новая затея, мы не знаем. Не стоит забывать проклятие Ульфхильд.
Улав из Ватсдалена сказал:
— Ульфхильд потеряла рассудок от одиночества и горя. Что нужды таить, мы поступили жестоко. Но, может, она наложила заклятье на место пожарища, а вовсе не на кого-нибудь из нас в отдельности?! К тому же, обреченный на смерть человек не в силах причинить нам зло одними лишь проклятьями. Ведь никто никогда не слыхивал, что Ульфхильд — колдунья. Если вы боитесь только одного заклятия, то мне ясно, что надо делать: мы будем рыть землю, опаливая ее огнем, и умно и осторожно доберемся до клада. Ведь сокровища, которые всё равно мертвы, не могут умереть еще раз.
Гюрд и Улф поддержали Улава. Сигурд больше не пытался их увещевать и лишь просил дождаться новолуния. На том и порешили. Но бонды принялись рыскать по полям вокруг усадьбы Хойгане. Всё ярче разгорались алчные огоньки в глазах мужчин, а женщины, любопытствуя, расспрашивали о сверкающих уборах и чудесных драгоценностях.
Немало прошло дней, прежде чем им удалось отыскать яму, в которой бонд из Хойгане утаил от глаз людских похищенное со шхуны добро.
Островитяне немедленно принялись за работу. Предосторожности ради опалили они большой кусок земли, и только тогда начали осторожно рыть, пустив в ход огонь, раскаленный уголь и лопаты. Вскоре лопаты ударились о сундук. Все взглянули друг на друга, и глаза их загорелись. Тогда бонды осторожно взломали сундук щипцами, которыми обычно подхватывали раскаленную руду. Искрясь в лучах солнца, засверкали золото и драгоценности. Улав возвел руки к небу и воскликнул, совсем обезумев от алчности:
— Теперь мы богаты!
Но самые осторожные и осмотрительные из бондов снова пустили в ход раскаленный уголь и, опаливая землю огнем, рыли всё глубже и глубже, пока не наткнулись на тяжелый мешок из моржовой кожи. Когда они принялись ощупывать его, оттуда послышался слабый звон золота. И тут мужчины словно впали в детство. Они громко хохотали и хлопали друг друга по плечу. Улав выл и кричал, прыгая на одной ноге и размахивая руками. Однако мешок плотно засел в земле. Для пущей безопасности они снова опалили землю огнем и снова осыпали ее раскаленными углями. Потом Улав вцепился в обуглившийся дочерна обрывок моржовой кожи, сильные руки земляков пришли ему на помощь, и общими усилиями мешок был извлечен наружу. Они снова принялись ощупывать мешок, и снова оттуда послышался столь приятный для их ушей звон. Могучие руки разрывали, раздирали мешок в клочья, ножи кромсали его, и, наконец, бондам удалось запустить туда руки: мешок раскрылся. Раздался звон голландских гульденов, этих увесистых золотых монет.
И вдруг все в ужасе отпрянули назад. Улав медленно склонился над мешком и схватился за голову. В мешке, под золотом, весь почерневший и скрюченный, лежал младший ребенок Ульфхильд. С выражением смертельного ужаса в глазах Улав и его товарищи смотрели на свои руки. Потом они медленно, шаг за шагом, начали отступать, а в ушах их словно всё еще звенел голос Ульфхильд:
И внезапно люди пустились бежать. Сундук со сверкающими на солнце драгоценными уборами остался лежать на земле. Никто не смотрел на него. Все бежали без оглядки. Бежали, словно пытаясь спастись бегством от своей собственной роковой судьбы.
Кровавое озеро
(Перевод Ф. Золотаревской)
Майским вечером мы сидели в лесной хижине. Весь день стояла невыносимая жара. Это был один из тех по-летнему жарких дней, которые бывают иногда весной в Вестланне. Хижина находилась в долине, окруженной лесистыми горными склонами. Горы, поросшие сосной, почти отвесно поднимались над водами глубокого, тихого озера. Мы пытались ловить рыбу, чтобы состряпать себе хоть какой-нибудь ужин, но потерпели неудачу. Усталые, вспотевшие, мы сидели и тосковали у пустого холодного очага. В сосняке бушевала жара. Долина была напоена крепким запахом смолы и тем особым ароматом, который источает сосна в весенние месяцы. Озеро лежало гладкое, темное, неподвижное. Лес постепенно замирал в молчании.
Тор[28], как видно, уже запряг коней в свою колесницу, потому что вдали загрохотал гром. Над горными склонами в небе появились тяжелые темные тучи. От лучей заходящего солнца края их казались кроваво-красными, и потому дождевые капли, время от времени падавшие в озеро, напоминали капельки крови. Вдали замерцала молния. Это было жуткое зрелище.
В то же мгновение где-то жалобно и печально закричала гагара, и Тор совсем близко ударил своим молотом. Мы стояли у окна и думали о том, что не всегда, оказывается, приятно слышать крик птицы и раскаты грома. Случается, что лесные страхи охватывают даже бывалых жителей леса. Мы же — всего только люди, попирающие городской асфальт. Ей-богу!
Вдруг красный дождь заморосил в темное озеро, и оно с жадностью поглотило кровавые струи.
— Кажется, будто раненый великан склоняется над озером, — вздрогнув, сказал Ульрик.
Вот уж, действительно, поэтическая натура у этого Ульрика!
— Верно сказано, — произнес старик Уле, который только что вошел в хижину. Он стоял в дверях, опираясь на палку, весь скрюченный от ревматизма.
— Слышите, как гагары кричат? Стало быть, славная гроза будет нынче ночью. А где дождик, там и рыба, — добавил он успокоительно. — Старики сказывают, что в такие ночи гагары уж больно страшно кричат, а озеро становится красным, как будто оно полным-полно крови. Оттого-то и прозвали его Кровавым. Много недобрых дел повидало оно на своем веку, ежели старики правду говорят.
Спустя немного времени мы уже сидели с чашками кофе в руках. Поэт Ульрик не выдержал и снова вернулся к прерванному разговору:
— Ты, Уле, наверное, знаешь, какую-нибудь страшную историю о Кровавом озере? Ведь здешний люд верит, небось, всяким небылицам?
— Ну, как сказать, — отвечал Уле. — Когда я был мальчонкой, люди часто рассказывали всякие байки про нечистую силу. Да только ведь всё это было просто так, для препровождения времени. А ежели бы они всему этому верили, то уж не осмелились бы жить в этих местах. Бывало, выдумает какой-нибудь плут сказку, тут же, на месте, расскажет ее, а после божится, что всё это чистая правда.
Вдруг гагара пронзительно закричала над самой кровлей нашей хижины. Ульрик вздрогнул.
— Черт возьми! — сказал он. — Ведь вот же не боюсь ни леса, ни темноты, а всякие звуки пугают меня до беспамятства. Если ты, Эйнар, когда-нибудь захочешь меня извести, подкрадись ночью к моему окну и застони, вот как эта птица. Я прямо-таки через стекло выскочу от страха!
Мы посмеялись. Все мы так пугали друг друга в детстве. Но Уле оставался серьезен. Он сидел задумчиво покачивая головой.
— Гм, гм, а ведь Ульрик верно говорит, — сказал он. — Вспоминается мне одна история. Ее рассказывал мой дед вот таким же ненастным вечером. Птицы страшно кричали у воды, а с неба ливмя лил кровавый дождь. Жарко было, — ну просто беда! Тор грохотал так, что мы чуть не оглохли, а молния слепила глаза. Да, тогда-то нам уж было не до песен! История эта приключилась перед тысяча восемьсот четырнадцатым годом, в черную годину, когда повсюду был голод. В те времена даже богатые лесовладельцы рады были без памяти, когда на столе у них появлялся кусок ржавой селедки да миска жидкой каши. На другом берегу, там, где в озеро впадает водопад, жил в ту пору один лавочник. Хижина его стояла у самой воды. Поговаривали, что лавочник этот знается с нечистой силой; оттого-то он и умеет так ловко играть на скрипке. А другие говорили, будто в учителях у него состоит какой-то человек с лошадиным копытом на одной ноге. И песни-то лавочник играл самые что ни на есть страшные. Иной музыки от него никто никогда и не слыхивал. А ежели кому доводилось хоть раз послушать его музыку, то этот человек скорее согласился бы жизни решиться, чем услыхать ее опять. Вот так-то…
А всё-таки люди ходили в хижину лавочника. И, воротившись домой, непременно приносили с собою либо крупы кулечек, либо мешок берестяной муки, либо еще что-нибудь из съестного. И неведомо было — где лавочник всё это раздобывает. Но уж зато те, кто уходил от него с полным коробом, всегда оставляли в его хижине либо последнюю одежонку, либо остатки родового серебра.
Люди сказывали, что сперва он играл для них на скрипке. И стоило им только услышать первые звуки, как дело их было конченное: уж потом лавочник мог творить с ними всё, что ему вздумается. Вот так-то он, кровопийца, многих разорял дотла, а сам всё богател да богател. А музыка его день ото дня становилась всё страшнее. И мало-помалу те, кому довелось ее несколько раз слушать, лишались не только всего добра, но и разума. Им никак не позабыть было его дьявольской музыки. Из-за этого ирода многие окончили свои дни в водопаде.
Да… а в те времена жил тут один молодой парень. Он женился на девушке, у которой только и было приданого, что ее горячая любовь. Сейчас многие так женятся. Да оно и правильно… Пришло время, и жена подарила ему сына. Мальчик уродился, что ясное солнышко. Но в доме у них не было ни еды, ни денег. Жена что ни день слабела, слабел и мальчонка, потому что у матери, понятное дело, пропало молоко.
Юн (так звали парня) в прежние дни зарабатывал немало скиллингов игрою на скрипке. Да только теперь никто и слушать-то музыку не хотел, а уж платить за нее — и подавно. И вот дошло до того, что в хижине у Юна ничего не осталось, — хоть шаром покати! Ни единого скиллинга, ни куска лепешки. Только одна драгоценность и была у них — старинная брошка с самоцветами, которую жена Юна получила в наследство от своей бабки. Женщина очень берегла брошку и надевала ее только когда ходила в церковь. Там-то и увидел эту брошку лавочник. Много добра сулил он за это украшение, но женщина ни за что не хотела его продавать. Бабка ее говаривала, что тот, кто продаст брошку, накличет беду на весь род, потому что брошка эта когда-нибудь принесет им всем счастье.
А Юн считал, что не худо бы всё-таки поразмыслить о предложении лавочника. Ведь дело шло о жизни его жены и сынишки. Только, ежели лавочник и взаправду колдун, Юну придется держать ухо востро, когда он станет продавать брошку. И вот пошла тут баталия в жалком домишке Юна. Жена нипочем не хотела отдавать брошку; она просила, плакала, молила. А Юн говорил ей, что лучше отвести беду, что стоит за воротами, нежели бояться той, что еще неведомо когда будет. Да к тому же и сам он малый не промах, так что дьяволу не очень-то легко будет с ним сладить. Надо же им как-нибудь раздобыть еду!
Пришлось жене уступить. Но она заставила Юна поклясться на Библии, что он не станет слушать музыку лавочника. Ко всем их бедам не хватало еще, чтобы Юн лишился разума!
Ну вот, вышел Юн из дому и направился к хижине лавочника. Тот принял его хорошо и поднес щедрое угощение. И Юн накинулся на еду, словно оголодавшая за зиму корова, что в первый раз попала на выгон. Потом парень выложил на стол брошку. У лавочника прямо-таки глаза на лоб полезли, когда он увидел брошку и рассмотрел ее поближе. Уж он-то знал толк в редких камнях. Эту брошку он должен непременно заполучить. Ведь в ней целое богатство!
И тут лавочник прикинулся добрым да ласковым. На это он был мастер, как и все прочие дьяволы. Он сказал, что хочет поиграть своему гостю на скрипке. Сам-то Юн тоже ведь музыкант!
Парень призадумался. Он ведь обещал жене, что не станет слушать дьявольскую музыку. Да только лавочник не соглашался дать и щепотки муки, пока они не поиграют друг другу.
И тут хозяин пошел в чулан за скрипкой. А Юн потихоньку пробрался следом за ним. Вдруг видит он, что лавочник заложил уши мхом, потом вырвал листки из колдовской книги и хорошенько прикрыл ими мох в обоих ушах. Юн так и обмер. Вдруг его словно осенило. И только лавочник вошел в комнату, как Юн сделал вид, будто поскользнулся, и свалил на пол светильник. Стало совсем темно. Лавочник шарил рукой в темноте, искал трутницу и ругал Юна на чем свет стоит. А Юн тем временем быстренько сбегал в чулан, заткнул уши мхом и заложил их сверху листком из колдовской книги. Только он вернулся, как лавочник зажег светильник. Хозяин злобно поглядел на Юна, но, когда увидел, что брошка лежит на столе, опять прикинулся ласковым да кротким.
Тут лавочник принялся пиликать на своей скрипке. «Задешево достанется мне эта брошка», — думал колдун. Ведь он потчевал Юна такой страшной, такой дьявольской музыкой, что и сам до смерти боялся ее услышать. После такой музыки люди кидались в водопад и гибли там. Потому-то лавочник и законопатил уши мхом, да еще прикрыл их листками от колдовской книги.
Лавочник играл, что твой дьявол. Музыка его казалась веселой и красивой, словно свадебный марш. А Юн слышал ту музыку, что была на самом деле: страшные завывания, крики, визг. Вопли троллей и те могли бы показаться пением ангелов в сравнении с этой музыкой. Да только вы теперь понимаете, что музыка эта не могла принести Юну никакого вреда, потому что он слышал ее сквозь листки колдовской книги. Лавочник всё играл да играл. Он хотел убедиться, что Юн уже у него в руках. А Юн тем временем крепко-накрепко запомнил мелодию. Голова у него стала тяжелой и мутной. У лавочника, видно, тоже разболелась голова, потому что он весь побагровел и сделался урод уродом.
Когда он кончил играть, то больше уже не глядел на Юна. Он вытащил из ушей мох и листки колдовской книги и бросил их в угол. При этом он тряс головой и ругался на чем свет стоит.
Взял он брошку и насыпал Юну полмешка белой муки. Он собирался забрать ее обратно, как только Юн совсем лишится рассудка. Но тут Юн взял в руки скрипку.
— А теперь послушай-ка мою игру, — сказал он и стал играть и притопывать ногами.
Лавочник сперва глядел на него с усмешкой. Но только он услышал первые звуки, как побледнел словно мертвец. Ведь Юн играл его собственную музыку! А в ушах-то у лавочника больше не было листков колдовской книги!
Взмолился тут лавочник и стал громко просить Юна, чтобы он не губил его душу. А тот знай себе играет. И когда Юн окончил песню, то отшвырнул от себя скрипку, схватил драгоценное украшение, мешок с мукой, да и был таков. С той поры он всю жизнь так и ходил с законопаченными ушами: боялся, что ему опять будет слышаться эта дьявольская музыка. А скрипки он потом ни разу и в руки не брал. И это было, пожалуй, к лучшему для Юна, потому что, играя на свадьбах да на гулянках, он пристрастился к вину и чуть было вовсе не спился. Вот какое дело.
А лавочник утонул, в том самом водопаде, где из-за него погибло много народу. Но перед смертью он много ночей боролся с нечистым. И всё озеро наполнилось кровью. Потому и прозвали его Кровавым озером.
Предательство короля Улава
(Перевод Л. Брауде)
Надвигалась ночь. Блеклые розовые отсветы ночного неба озаряли черные громады гор. Ясный осенний месяц смотрелся в зеркальную гладь фьорда.
Халвор подошел к краю горной гряды. Он остановился, тяжело переводя дух, и поглядел вниз, туда, где могло быть селение. Оно лежало где-то там, во мраке. Ему показалось, что он различает очертания домов и пашен. Пот черными полосками разрисовал его щёки, но зато ни одному человеку до самого нынешнего дня не удавалось с такой быстротой перевалить через горы.
На Халворе была короткая и просторная куртка с опояском вокруг стана, а на ногах — мягкие кожаные башмаки. В одной руке он держал тяжелый жезл вестника[29], а в другой — короткую секиру. Он постоял, пытаясь отдышаться.
Немного погодя по коровьей тропе скатился вниз камень. В ближайшей горной усадьбе зарычала собака. Бонд позвал сына. Тот сейчас же вышел во двор, держа в руках тугой лук. Они постояли, глядя вверх, на горы.
В этот миг Халвор перемахнул через ограду и теперь бежал прямо к ним.
— Стой! — предостерегающе закричал бонд Агнар. — Кто ты такой и что тебе надобно?
Незнакомец остановился и, запыхавшись, произнес:
— Зовут меня Халвор, а пришел я от Аслака Сигурдсона с вестью, что король Улав Толстый[30] движется из Согна во главе вооруженной рати. Пусть кто-нибудь из твоей усадьбы передаст жезл вестника дальше. А мне надобно вернуться обратно. Держи жезл!
Младший сын бонда, зажав жезл в руке, пустился бежать по полям к крайней усадьбе у болота. Не застав никого дома, он воткнул жезл в дверь и побежал обратно — снаряжаться в поход вместе с отцом и братьями. Немного погодя вернулся домой бонд, владелец усадьбы, нашел жезл и, не мешкая ни секунды, побежал через болото в горное селение.
Так и случилось, что той осенней ночью с гор стали спускаться в долину люди, одетые в ратные доспехи. Один за другим покидали они опустевшие селения. Пусть король Улав, надумавший прийти в горы, убедится в том, что вольные бонды с оружием в руках готовы защищать покой своих богов.
Аслак Сигурдсон заявил на совете хёвдингов[31]:
— Веру, в которой я вырос, я исповедую по доброй воле, и никакое крещение не может заставить меня изменить ей. Если король Улав на самом деле столь высокородный муж, за какого он себя выдает, он будет уважать наши свычаи и обычаи и не заставит подчиниться новым, которых мы совсем не знаем. Только глупцы меняют веру, не понимая ее сути.
А Эйрик Старый добавил:
— Прав ли Аслак или неправ — о том спорить я не стану. Я же всегда больше полагался на свои собственные силы. Да мы к тому же научены горьким опытом: всякие новые порядки короли вводят для того, чтобы лишать народ свободы. Скоро сюда, в горы, вслед за королем явятся за поборами люди, которые сторону короля держат только для того, чтобы потуже набить свой кошель. По-моему, вся эта болтовня о святом Христе лишь к этому и ведет. Мы всё равно окажемся под пятой либо короля, либо его слуг и вынуждены будем платить непомерную дань. Поэтому давайте выступим против короля и покажем, что не боимся обменяться с ним ударами меча. Но за оружие возьмемся только в случае крайней надобности. Мы все, как один, должны стоять за наше великое дело, пока оно не будет завершено. Придется забыть все наши старые споры и родовые распри. Речь идет о более важных вещах. Хюрнинг, если ты понимаешь, о чем я говорю, то мы вместе, как родичи, постоим за это дело. А уйдет от нас Улав-король, и мы сможем опять решать наши споры по собственному разумению. Согласен?
— Согласен, — звонким голосом ответил Хюрнинг.
И случилось так, что, пока король Улав был в долине, все недруги, послушавшись Эйрика Старого, забыли про свои распри.
К концу дня войско бондов неизмеримо выросло. Никто и припомнить не мог в тех краях такого народного ополчения. Но зато в усадьбах остались одни женщины да дети. Все, кто только в силах был носить оружие, поднялись, чтобы оказать сопротивление королю и защитить долину и народ от Нового завета.
На полях горели костры, а вокруг них группами сидели люди, напряженно ожидая сообщения лазутчиков о приближении короля. Стемнело, и бонды еще теснее сплотили свои ряды. Из отдаленных селений продолжали прибывать новые и новые толпы бондов, исполненных желания нанести решающее поражение королю Улаву.
Когда начало светать, Аслак Сигурдсон увидел на море множество кораблей, которые постепенно вырисовывались на горизонте. Сомнения не оставалось: это шел со своей ратью король Улав.
Эйрик Старый сказал:
— А теперь мы выстроим наше войско на берегу, и тогда Улав увидит, какое у нас могучее ополчение. А уж твое дело, Аслак, повести речь так, чтобы он не мог понять нас превратно или обойти хитростью. Ведь он — мастер на выдумки. В этом ему и равного нет. Не забывай об этом, Аслак. И потом он умеет заговаривать зубы. Он говорит так, что людям кажется, будто всё сказанное им — правда. Но помни: станет он говорить вкрадчиво — будь настороже; заговорит как повелитель, попытается внушить уважение к своему сану, он — неопасен; ну, а уж если смолчит, значит готовится к нападению, и дело наших воинов — держать оружие наготове.
Так говорил Эйрик Старый, знавший короля Улава лучше всех в долине.
В то же самое время король стоял на носу своего корабля. Он был скорее приземистым, чем высоким, хотя и богатырского сложения. И хотя он казался самым низкорослым среди своих воинов, всё равно, взгляды тех, кто видел его впервые, обычно прежде всего приковывались к нему. Так получалось потому, что когда он смотрел на человека, казалось, будто он видит его насквозь. Ни у кого не было более проницательного взора, чем у Улава, и люди, хорошо знавшие его, говорили, что глаза короля — зеркало его ума. Никогда в Норвегии не было более умного короля, никогда не было такого, который бы лучше умел постоять за свое дело.
Бьёрн Толстый — телохранитель Улава — стоял рядом с королем. Он жевал бороду, — как обычно, когда бывал чем-то недоволен.
Глубокие морщины бороздили лоб короля. Взгляд его бродил по полям, где бонды строились в ряды. Казалось, что им не будет конца, потому что из лесу выходили всё новые и новые толпы воинов. Бьёрн Толстый обернулся и посмотрел на королевский флот. Небольшое отборное войско Улава состояло из самых лучших воинов, но всё равно, глупо было бы вступить в бой с такими явно превосходящими силами. Бьёрн Толстый подумал: впервые королю Улаву приходится столкнуться со столь могучим ополчением. Придется, видно, сдаться или отступить. И это — сражение не с великими хёвдингами, а с народом. Как быть? Как обернется это сражение для страны? Каким примером послужит оно другим селениям? Бьёрн понимал, что битва с бондами могла привести королевскую рать к гибели. И уж тут всё зависело от короля. Сумеет ли он и на этот раз найти хитроумный выход из беды? И Бьёрн подумал: удастся Улаву выиграть эту битву, значит он связан договором с неведомыми могущественными силами, а может с тем самым святым Христом, в которого верил и сам Бьёрн, уже принявший христианство.
Позади Бьёрна стояли другие хёвдинги, они думали ту же думу.
Король Улав повернулся спиной к войску бондов и стал разглядывать берег. Казалось, он любуется благоустроенными усадьбами, лежавшими на склонах гор. Но вдруг он поднял руку и сказал:
— Причаливаем к этому мысу! Надо, чтобы все корабли встали носом к берегу.
По одному слову Бьёрна Толстого приказ Улава стали передавать с одного корабля на другой. Воины подивились решению короля, но, повинуясь его приказу, корабли начали медленно скользить по направлению к мысу.
Улав продолжал свою речь:
— На борту останутся только те, кто управляет кораблями. Корабли должны быть готовы в любую минуту выйти в море. Наша рать выстроится на мысу так, что от войска бондов нас будет отделять лишь узкий клин. Тогда им не удастся всем сразу напасть на нас. А теперь — пошли!
Приказ короля был выполнен.
В отдалении выстроилось войско бондов, ожидая Улава, но появился лишь один-единственный вестник, сообщивший, что король Улав пришел в долину и хочет собрать на мысу тинг.
Старейшины бондов принялись совещаться о том, что им предпринять, а Эйрик Старый сказал:
— Это, верно, новая хитрость Улава. Двинемся ему навстречу сомкнутым строем, а воины пусть бряцают мечами о щиты и издают воинственный клич. Раздастся такой лязг оружия, что люди Улава поймут: им грозит смерть. Когда же один из нас заговорит, мы постараемся показать, что все мы едины и горим желанием сразиться с королевской ратью!
И вот они направились к мысу и сразу же выслали вперед для встречи с королем всех самых уважаемых людей.
Улав сидел на камне и приветствовал их учтиво и кротко. Эйрик Старый проворчал что-то себе в бороду;
— С пышной свитой пришел ты, Аслак Сигурдсон, — улыбаясь сказал король, но взор его был так кристально прозрачен и проницателен, что Аслак чуть не отпрянул назад.
Так как Аслак сразу не нашелся, что ответить, заговорил Эйрик Старый:
— Так уж повелось, король. Там, где решаются великие дела, надобны и великие силы, чтобы отстоять справедливость!
Улав повернулся к Эйрику, окинул его взглядом, потом кивнул, словно доверяя себе одному какую-то тайну, и заговорил, снова обратившись к Аслаку:
— В поход через Остер-фьорд и Согне-фьорд мы шли с мирными намерениями, Аслак. И здесь мы тоже не собираемся вести себя иначе!
Аслак отвечал:
— О твоих мирных намерениях мы уже наслышаны, король. Там, где бонд не хотел отречься от своего бога, ему приходилось расставаться и с жизнью и с имуществом. А теперь нам хотелось бы знать, какие условия ты предлагаешь нам здесь, в долине?
Король поднялся и сделал шаг вперед. У Улава была гордая осанка, хотя он и был склонен к тучности. Его огромная голова производила внушительное впечатление, а держался он уверенно, как и подобает знатному вельможе. Когда он говорил, каждое его слово отчетливо разносилось над земляными укреплениями, и он говорил без устали, находя самые нужные слова. Когда ему хотелось, чтобы речи его звучали особенно проникновенно, он вплетал в них, словно в песне, кеннинги[32], и воины слушали его речи, будто песню. Не гнушался он и шуткой, но шутки его никогда не бывали плоскими и никогда не располагали к громкому смеху. Они были исполнены тонкой насмешки и разили, как удар секиры.
Никогда раньше не доводилось бондам слушать таких речей!
А король говорил и говорил о святом Христе, о мире, который он несет простонародью и всем тем, у кого нет в услужении наемных ратников, чтобы посылать их вместо себя на войну.
Казалось, кое-кому из бондов пришлись по нраву подобные речи, и они стали прислушиваться.
Эйрик Старый дрожал от возбуждения и без конца нашептывал что-то на ухо Аслаку. И вот наконец, когда король Улав, предложив бондам принять христианство, смолк, выступил с ответной речью Аслак. Речь его обернулась прямым вызовом. Он напомнил королю о правах бондов и о том, что они ни в чем и никак не желают подчиняться Улаву. И примут они теперь новую веру или нет, последуют ли за новым святым — Христом — или же воспротивятся предложению короля, — всё равно их усадьбы превратятся в пепел. Разве Эрлинг Скьяльгсон не был добрым христианином, а чем кончилась дружба между ним и королем? Нет, бонды считают речь короля новой хитростью, рассчитанной на то, чтобы лишить их прав и усадеб, которыми они владеют с незапамятных времен. На любую же хитрость они привыкли отвечать силой.
И все бонды подняли мечи и забряцали щитами. Когда Улаву наконец удалось взять слово, его прервали запальчивые возгласы и насмешливые слова. Бонды хотели пустить в ход мечи и подстрекали молодых воинов к сражению, — ведь и на кораблях, верно, немало найдется богатой добычи!
Эйрик Старый до крайности распалил бондов своими речами о Торе и древних богах, всегда приносивших им удачу в бою. Ведь величайшие мужи страны исповедовали языческую веру, которая согласно обычаю переходила от отца к сыну.
Бьёрн Толстый тихо сказал королю:
— Отступим, господин мой, они намного превосходят нас силой и вот-вот нападут!
Сам Бьёрн обнажил меч, и остальные хёвдинги последовали его примеру. Велико же было их удивление, когда король резко и громко приказал им вложить мечи в ножны.
Торжествующие бонды немного опечалились. Видно, не придется сразиться с королем Улавом в открытом бою. Но их утешало то, что этот могущественный хёвдинг запросил мира. Поэтому самые молодые бонды повели себя вызывающе и стали осыпать насмешками воинов королевской рати. Эйрик Старый, сощурив глаза, наблюдал, как менялось выражение лица короля. Он видел, что глаза Улава мечут молнии, хотя на губах его играла спокойная и умиротворенная улыбка. Для Аслака Сигурдсона это был счастливейший час его жизни, и в мечтах он уже видел себя величайшим хёвдингом долины.
Король подозвал самых богатых и именитых бондов и, возвысив голос, сказал:
— Раз уж мы всё равно собрались на тинг, давайте поговорим и о других делах. Я сказал, что мы пришли к вам с добрыми намерениями. Мы не принадлежим к тем, кто нарушает мир тинга. Да будет так! Условимся, что здесь, в долине, вы сохраните веру своих отцов до тех пор, пока Христос сам не докажет вам истинность своей веры. Пусть каждый бонд поклоняется своему богу. А захочет кто-нибудь принять новую веру, не препятствуйте ему в этом. Ну как, довольны вы таким решением?
Бонды снова подняли оружие и разразились криками, но на этот раз криками торжества, — они сокрушили волю короля.
Улав продолжал:
— Раз уж тинг созван, займемся делами, которые необходимо решить на общее благо мирно и сообща. А теперь я спрошу: есть ли какие-нибудь спорные дела и тяжбы между отдельными усадьбами и селениями? Мы разрешим их здесь по нашему закону, потому что пройдет немало времени, пока ваш король снова придет к вам и скрепит печатью принятое решение. Выходите все, у кого есть жалобы, и призовите достойных доверия свидетелей, чтобы мы вместе со сведущими в законах людьми из долины смогли беспристрастно разобраться в старых распрях!
Многим бондам слова Улава пришлись по вкусу. Наконец-то они разберутся во всех этих стародавних делах, покрытых пылью веков. Один за другим выходили бонды вперед и выкладывали свои жалобы.
А время шло. И вот случилось так, что кое-кто из бондов и смотреть не захотел на своих сподвижников.
Аслак Сигурдсон был доволен. Король присудил ему право владения усадьбой Ос, которой он добивался многие годы.
К вечеру разбиралась тяжба между Хюрнингом и Эйриком Старым, и обе стороны выставили множество свидетелей. Однако Аслак Сигурдсон не захотел стать недругом Хюрнинга или Эйрика Старого. Он отказался выступить свидетелем по их старой родовой тяжбе… Снова разгорелись страсти, лица налились кровью, а пальцы, сжимавшие пряжки кушаков, побелели.
Когда стемнело, король сказал, что тинг отложат на завтра. Было решено, что и эту ночь бонды проведут здесь. Наступит утро, все дела будут улажены справедливо, и люди разойдутся восвояси.
Но когда бонды потянулись в горы, к ближайшим домам, либо нашли себе пристанище в лесу, корабли Улава бесшумно отчалили от берега. Вскоре в ночной кромешной тьме младший сын Хюрнинга уже тормошил своего отца и вопил при этом так, что крики его слышны были далеко вокруг:
— Король Улав поджег твою усадьбу, отец!.. Король Улав поджег!..
И обезумевший Хюрнинг увидел, как на другом берегу фьорда вздымаются к черному небу языки пламени. Спустя некоторое время огонь вспыхнул немного южнее, и на этот раз зарево охватило древнюю родовую усадьбу Эйрика Старого.
Страшная сумятица поднялась в войске бондов: народ звал своих вожаков, попрекая их в излишней доверчивости королю. Некоторые советовали тут же переправиться на другой берег фьорда и вызвать Улава на бой. Но там, где в час отлива отступило море, лежали лишь останки разрубленных секирами лодок бондов. Эйрик и Хюрнинг снова стали друзьями. Но как удивились они, найдя лишь тлеющие угли там, где горели костры Аслака Сигурдсона! Они поняли, что, выиграв тяжбу, он последовал за королем. И еще они видели этой тихой ночью, как пламя перебрасывалось с одной усадьбы на другую в селениях, где оставались лишь женщины да дети.
Один за другим убегали из отрядов бонды. Напрасно хёвдинги с проклятиями звали их назад. Некоторые, более хладнокровные, просили беглецов переждать хотя бы ночь. Но, когда солнце озарило вершины гор, настроение оставшихся тоже изменилось. Горцы думали лишь о своих женах и детях да о том, как бы доказать свою непричастность к ополчению. Ряды бондов сильно поредели. После полудня разнеслась весть о том, что Аслак Сигурдсон перешел на сторону короля Улава и принял новую веру.
Многие бонды спешили к своим усадьбам, чтобы хоть что-нибудь спасти. Но дома их ожидало лишь пепелище. Многие не находили своих жен, исчезли и дети. Кое-кто вернулся из лесу изувеченным или потерявшим рассудок. Страшное несчастье постигло долину, и не было в народе могущественного хёвдинга, который мог бы постоять за народное дело, отстоять народные права.
В тот день, когда король Улав вновь вернулся в долину, он уже не причалил к мысу, а открыто высадился на берег у земляных укреплений. И разобщенные бонды покорились ему и приняли новую веру.
В лесах далекого севера
(Перевод Ф. Золотаревской)
Через болото шел человек. Была уже ночь, но из-за бегущих облаков время от времени показывался тоненький ясный серп луны. Человек остановился на кургане и прислушался. Собачьего лая больше не было слышно. Облегченно вздохнув, он уселся на пень и вытащил из котомки вяленое мясо. Вдруг он задремал, клюнул носом и чуть не выронил мясо из рук. Резко выпрямившись, человек преодолел сон и стал быстро и энергично жевать.
Это был высокий могучий парень, стройный и худощавый, одетый в длинную меховую куртку, подпоясанную тугим кушаком. На ногах у него были башмаки из мягкой кожи. Рядом с ним лежал старинный боевой лук величиной с него самого, секира и копье для охоты на медведя. За спиной его висел колчан со стрелами и маленький охотничий лук, который можно было быстро пустить в дело. Он был хорошо вооружен для дальней дороги. Время от времени он стрелял из лука в своих преследователей, давая им понять, что стрелы, пущенные в него, всё еще не достигли цели. Вот уже неделя, как люди шли за ним по пятам, таща на цепи его собственного гончего пса. С каждым днем расстояние между ним и преследователями уменьшалось, потому что их было много и они могли спать по очереди. Ему же всё время приходилось быть начеку, даже в те краткие минуты сна, которые он мог себе позволить. Да, они отлично сознавали, что беглец у них в руках, и потому были спокойны.
Юн Свенсон лег на траву, закинув руки за голову. Но прежде он подложил под поясницу острый камень. Если он крепко уснет и захочет повернуться, боль в спине заставит его вскочить. Но если он будет лежать неподвижно, то сможет хоть немного забыться сном, который ему сейчас так необходим.
Юна Свенсона обвиняли в убийстве брата его друга Сигурда. Это убийство из-за угла было совершено так, что все улики были против Юна Свенсона. Никто не подозревал его друга; даже красавица Гунхильд, дочь Бунди, к которой они оба сватались. Чем больше Юн думал об этом деле, тем яснее ему становилось, что убийцей мог быть только Сигурд. Но доказать свою невиновность Юн не мог. Так Юн Свенсон сделался беглецом. Его врагом и судьей стал могущественный Огмюнд Ролвсон.
Юн крепко уснул, впервые за много дней. Камень выскользнул из-под его спины. Между тем невдалеке от кургана вдоль ручья двигались пятеро мужчин, таща за собой упиравшегося пса, яростно грызшего цепь. Люди шли всё быстрее и быстрее, пока наконец не увидели совсем свежие следы. И тогда они поняли, что Юн Свенсон должен быть где-то совсем близко. Они насторожились, держа наготове оружие. А на кургане спал человек, не зная о том, что преследователи с секирами и мечами находятся от него всего лишь на расстоянии полета стрелы.
Но вдруг тонко запела тетива, и пес, убитый наповал, рухнул на землю. Это был меткий выстрел! Люди поспешно укрылись под защиту нескольких искривленных сосен. Не успели они укрыться, как снова услышали звон натягиваемой тетивы. На этот раз стреляли из трех луков. Три стрелы одна за другой вонзились в ствол сосны. И прежде чем люди опомнились, еще три стрелы впились в дерево прямо над их головами. Это было последнее предупреждение о том, что следующие выстрелы настигнут их самих.
Не говоря ни слова, пятеро мужчин повернули обратно и бросились бежать вдоль ручья. С них было довольно этих смертоносных приветствий. Они передадут их Огмюнду Ролвсону, на которого это подействует хуже самой язвительной насмешки. Пусть-ка он сам ответит на них.
Вдруг Юн проснулся, рывком сел и сразу же схватился за оружие. Над ним стояли трое незнакомцев и холодно глядели на него.
— Вставай, Юн Свенсон, — произнес тихий голос, и Юн сразу же вскочил на ноги.
— Кто ты? — спросил беглец. — Мне кажется, я слышал уже когда-то твой голос.
Он увидел перед собою старого бородатого человека с гордой осанкой. Двое стоявших рядом со стариком по виду казались одних с Юном лет. Это были низкорослые, но широкоплечие юноши. По повадкам своим они походили на обитателей гор: были молчаливы, насторожены, странно неподвижны, даже ленивы на первый взгляд. Но чувствовалось, что каждый мускул у этих юношей напряжен.
— Я вижу, ты помнишь меня, — усмехнулся старик. — Нет, нет, тебе незачем оглядываться по сторонам. Сигурд и его люди со всех ног улепетывают в долину… У нас теперь с тобой одна судьба, — с горечью в голосе произнес старик. — Да, я Гюдред-кузнец, когда-то я был одним из самых уважаемых бондов в округе, но теперь вот уже много лет живу в горах изгнанником. И виною тому был твой отец!
Руки Юна еще крепче сжали топорище, и он поднял свое оружие, словно защищаясь.
Старик снова рассмеялся.
— Остановись, — сказал он. — Это я просто так помянул старое. Мы с тобой оба унижены. Мы оба претерпели несправедливость, но тебя ожидают еще большие унижения. Мы долгие годы живем здесь, в горах, и вам всем в долине это было известно. Мои враги поделили между собой мою усадьбу и землю. Теперь никто не собирается нам мстить, так как все знают, что мы невиновны. Так же, как и ты! Да, я знаю о тебе всё. Я не пощадил бы тебя, если бы не думал, что ты можешь мне помочь. Они ненавидят тебя еще сильнее, чем меня. Твоя голова принесет мне примирение с ними. Идем!
Старик, не оглядываясь, быстро пошел впереди Юна по горной тропе. Далеко позади поспевали оба его сына. Наконец они достигли убогой усадьбы. Несколько овец и коз паслись на склоне горы. Юн сразу смекнул, в чем тут дело, и потому нисколько не удивился, когда увидел во дворе свою корову. Прошлой осенью она бесследно исчезла.
— Добрая корова, — сказал Юн, поглаживая животное по спине и ощупывая его бока. И тут заговорил младший сын. Сухим, но вовсе не враждебным тоном он произнес:
— Ты не там ищешь, родич. Вот, смотри, это здесь.
Он взял руку Юна и провел ею по левой лопатке животного. Юн сразу же нашел там знакомую отметину. Корова встряхнула головой и стала чесать рогами бок. Гюдред захохотал во всё горло, но в глазах его затаилась горечь. Оба сына стояли по-прежнему невозмутимые, но Юн видел, что они прячут в уголках глаз веселую насмешку.
— Да, это твоя корова, — гневно сказал Гюдред. — Но она вскормлена на моих пастбищах, которые вы поделили между собою. Ну и довольно об этом.
В ту же минуту отворилась дверь и на пороге появилась худая, изможденная женщина.
— Чей это голос я слышу? — взволнованно спросила она, прикрывая ладонью глаза от солнца.
— Это Юн Свенсон, — громко сказал Гюдред.
— Так ты всё же помирился со своими родичами! — вырвалось у нее. Она прижала руки к лицу и закрыла глаза.
Гюдред ответил, делая предостерегающий знак Юну:
— Да, выходит так. Но приглашай его в дом. Пусть посмотрит, как мы живем.
Юн наклонился под притолокой и вошел в длинную горницу с низким потолком и хорошо утоптанным земляным полом. Здесь находилась молодая девушка.
На следующий день Гюдред повел Юна с собою в кузницу, которая стояла на берегу быстрого горного ручья. Повсюду были разбросаны угли и остатки золы.
От ручья была прорыта канава, и вода стекала в большой чан. Она была холодна как лед. Гюдред сильно раскалил почти готовый меч и быстро опустил его в чан с водой. Юн Свенсон с интересом наблюдал за старым кузнецом и с радостью увидел, как темнеет железо, приобретая синеватый блеск. Железо затвердевало у него на глазах. Старый Гюдред обернулся к Юну и принялся объяснять секрет своего мастерства.
Время шло. На охоте сыновья сдерживали свою прыть из-за отца, но если юноши и Юн Свенсон отправлялись одни, то угнаться за ними было нелегко. В сравнении с ними самый быстроногий парень в долине показался бы слабосильным подростком. Сыновья Гюдреда возвращались домой быстрым шагом, с огромной ношей на плечах и казались всегда бодрыми и неутомимыми. Оба они были прирожденными хёвдингами. И теперь Юн понял, ради кого старик так жаждет возвратиться в долину и вернуть себе былой почет.
С Хильдой Юн разговаривал мало. Когда он, сидя над шахматной доской, внезапно оборачивался к ней, она сразу же опускала глаза, губы ее раздвигались в улыбку. У Хильды была привычка глядеть на Юна в упор, и это смущало его. Она была очень красива, но сама не сознавала этого, так как других женщин здесь не было, и ей не с кем было себя сравнивать. Иногда случалось, что он помогал ей работать в хлеву.
Но чаще всего Юн беседовал с ее полуслепой матерью. Хильда всегда сидела тут же и что-нибудь делала. Иногда она обращалась к матери с несколькими словами. Так Юн и Хильда всё больше привыкали друг к другу.
Однажды вечером, когда все собрались во дворе, старик коротко сказал:
— Завтра мы отправимся в долину. Мы предложили им пеню за примирение, и этой пеней будешь ты. — Он ткнул пальцем в грудь Юна Свенсона. В голосе старика слышалась обычная насмешка. Сыновья усмехнулись вслед за ним. Но вдруг между братьями и отцом встала Хильда.
— Нет, нет! — крикнула она, задыхаясь. — Ты не сделаешь этого, отец! Никогда еще так недостойно не нарушались обычаи гостеприимства! Вы этого не сделаете! — Глаза ее сверкали, она подняла кверху крепко сжатый кулак, пальцы ее побелели от напряжения. — Я возненавижу вас всех, — шепнула она. — И я тоже умею кусаться!
Она убежала. Все оторопело глядели ей вслед. Старый Гюдред вопросительно посмотрел на Юна.
— Это для меня новость, — сказал он. — А я и не знал, что вы так часто беседовали между собою.
— Мы никогда не беседовали, — ответил Юн, — но… но…
— Что ты хочешь сказать? — спросил старик.
— Я думаю, она сказала за нас обоих, — произнес Юн и вдруг широко улыбнулся. — Я думал о ней все эти дни. Я хотел бы жениться на Хильде, если она хочет того же.
— Оба из знатного рода, и оба — изгнанники, — сказал младший сын и улыбнулся. Это было удивительно. Улыбка совсем преобразила лицо юноши.
Гюдред отправился за дочерью, но вскоре вернулся один.
— Тебе придется поговорить с ней завтра, — весело сказал старик. — Она и довольна и смущена. Здесь, в лесах, не так уж часто случается, чтобы девушки сами сватались к парням. А теперь давай-ка побеседуем. Огмюнд Ролвсон прибыл в долину, наступило время действовать…
На следующее утро Юн стоял около хлева и налаживал свой боевой лук. Из-за угла показалась Хильда с коромыслом на плечах. Они застыли на месте, глядя друг другу в глаза. Девушка попыталась что-то сказать, но тут ее лицо и шея залились краской. Коромысло соскользнуло с плеч, и деревянные вёдра с грохотом покатились по земле. Но Хильда и Юн не заметили этого. Они стояли и о чем-то перешептывались.
— Время идти, — произнес бесстрастный голос позади Юна.
Хильда быстро высвободилась из рук Юна и поправила волосы. Потом она повернулась к брату и смеясь погрозила ему кулаком:
— Эй ты, тихоня, подкрадываешься, словно волк!
— А вы, я вижу, рано поднялись, — добродушно сказал он и обнял сестру. — Избави тебя бог от этого кулачка, родич, — добавил он, поднимая вверх ее руку. — С ней не так-то легко сладить, когда дело доходит до ссоры. Придется тебе поскорее приручить ее, а то она одичала, как горная кошка…
Огмюнд Ролвсон сидел в парадной горнице Сигурда в окружении своих приспешников, когда Гюдред вошел туда вместе с сыновьями и Юном Свенсоном. Огмюнд с изумлением взглянул на них. В одно мгновение его люди схватили Юна и отобрали у него оружие.
— Это выкуп за тебя, Гюдред? — спросил Огмюнд, презрительно скривив губы и кивая на Юна.
Он оскалил зубы, словно волк. Все знали, что так он обычно смеялся. Огмюнд Ролвсон был жесток и властолюбив. Ни разу не случилось, чтобы слабый или несправедливо обиженный человек нашел у него защиту. Сейчас оба его врага были у него в руках, и он не замедлит расправиться с ними.
— Выкуп за меня? — медленно, но громко повторил Гюдред. — Нет, ты ошибаешься, Огмюнд Ролвсон; это выкуп за нас всех. Ни одной осени, ни одной зимы, ни одного рождества мы не проведем больше в горах и лесах.
— Ну что ж! — злобно сказал Огмюнд и взглянул на Сигурда. — Мы подберем для вас местечко понадежнее. В земле будете вы отныне проводить рождество! — громко выкрикнул он, и вскочил с места.
— Возьми мой меч, — сказал Гюдред, — он сделан из лучшей стали, чем твой, вывезенный из Франции.
— Красно ты говоришь! — насмешливо сказал Огмюнд. — Положи-ка свой меч на стол рядом с моим и помолчи.
— Могу я попробовать, который из них крепче? — спросил Гюдред. — Это мое последнее желание. Ты не можешь отказать мне. Таков наш закон и наше право.
Огмюнд кивнул. Тогда Гюдред поднял знаменитый меч Огмюнда высоко над головой и изо всех сил стукнул им о свой собственный меч. На мече Гюдреда не осталось и следа. Но прекрасный меч — гордость Огмюнда — лежал у его ног, сломанный пополам.
Могущественный Огмюнд Ролвсон на мгновение утратил дар речи. Затем он вскочил и, схватив меч Гюдреда, принялся тщательно осматривать его и ощупывать. Легким ударом Ролвсон отрубил угол у стола, глубоко вонзил меч в огромный столб из крепкого соснового дерева. Оружие разило без промаха.
— Каким способом ковал ты этот меч, родич Гюдред? — спросил Огмюнд возбужденно. — Да знаешь ли ты, что это значит?
— Какую цену назначишь ты моему мечу? — спросил Гюдред, не отвечая на вопрос.
— Цену? Цену? — раздраженно воскликнул Огмюнд. — Я спрашиваю, как ты ковал этот меч? Где ты берешь руду? Что ты с ней делаешь? Как устроена твоя печь? Я хочу это знать! Отвечай же!
Гюдред молча указал на Юна Свенсона и своих сыновей. Он вопросительно взглянул на Огмюнда Ролвсона, и тот сразу всё понял.
— Что значите вы по сравнению с этим, — Огмюнд указал на меч Гюдреда. — Отпустите этого человека, — обратился он к своим слугам. — Я повелеваю всем им жить здесь и служить мне. Им возвращены все права. Кто поднимет на них оружие, будет моим врагом. Пойдем, старый кузнец, я хочу кое о чем поговорить с тобой…
Так Гюдред-изгнанник вернулся в родную долину и отпраздновал рождество и свадьбу дочери в древней усадьбе своих отцов. Огмюнду Ролвсону не много было радости от меча, выкованного для него Гюдредом. Кто-то отомстил ему за все его злодеяния и зарубил его глухой зимней ночью. Говорили, что это было дело рук Сигурда.
А сталь Гюдреда еще много лет служила бондам, — и первый меч кузнеца был повешен в старой оружейной при церкви рядом с изображением святого и колчаном Юна Свенсона.
Битва при Стиклестаде[33]
(Перевод Л. Брауде)
Лейв Брюсе был из хорошего, но обедневшего рода. Предки его охотились на мелкую дичь и крупного зверя, и их всегда почитали те, кому случалось принимать их в своем доме. Отец Лейва вновь получил свою родовую усадьбу, которую его дед утратил из-за старых родовых распрей, многочисленных убийств, а также запутанных и проигранных им тяжб.
Лейв Брюсе разумно управлял своей усадьбой. Он, как и многие другие, принял христианскую веру, считая, что так жить ему будет легче, лучше и безопаснее.
Он был родом из граничащей со Швецией местности, жители которой всегда поддерживали добрососедские отношения с королем Улавом Харальдсоном. Но усадьба и селение подвергались частым нападениям разбойничьих отрядов, которые появлялись то в одном, то в другом месте долины по обе стороны границы, разоряли жителей, сжигали селения и спешили с добычей в свои жилища в безлюдных степях. Разбойники никогда не пахали землю и не думали о сохранении урожая до нового.
Однажды ночью три разбойника ворвались в усадьбу Лейва, сожгли живьем отца и увели сестру. Ее потом нашли изувеченной и умирающей.
Среди самых кровожадных викингов и воинов, даже среди бродяг наемников, сражавшихся за других и убиравших с пути чужих врагов, эти разбойники считались наипрезреннейшими из всех живых существ. Так уж повелось, что ни один ратник и ни один честный и мужественный человек не имел с ними ничего общего. Потому что могущество этих грабителей зиждилось на бесчестных поступках, и им доставляло наслаждение убивать и мучить людей одного лишь мучительства ради. Рассказывали, что их победные празднества всегда заканчивались пытками пленников.
В течение многих недель Лейв преследовал разбойников, и в конце концов ему удалось настигнуть одного из них. Оставалось найти еще двоих.
Лейв поставил целью своей жизни разыскать этих людей. Он знал, что не успокоится, пока не отомстит им.
Через два дня он рассчитывал быть в Трённелаге и надеялся, что Улав Харальдсон уважит его просьбу о мщении. Уважит в награду за преданность королю и за раны, полученные в бесчисленных сражениях за короля-христианина. Если случится так, что бонды поднимутся против короля, Улаву пригодится и боевой лук Лейва…
Следующей ночью на пути Лейва встретилась какая-то усадьба. Еще дымилось пожарище, а на дворе лежала убитая челядь, кровь которой смешалась с кровью скотины. Казалось, здесь недавно была кровавая бойня. Повсюду валялись шкуры и рога животных. Видно, грабители поработали вовсю.
Лейв стал разыскивать своих врагов на покрытых горными лугами склонах и на голых скалах, а на следующее утро прошел по горным долинам Трённелага. Здесь у него были знакомые.
Грими из Ос радушно принял Лейва и рассказал ему, что бонды собрали большое войско, которое стянули к равнине Стиклестад. Все тропы запружены хорошо вооруженными людьми, которые хотят защитить свое добро от грабителей. Нахмурив брови, Грими продолжал свой рассказ. Здесь появлялись посланцы Улава Харальдсона с предложением охранной грамоты, но в этом селении никто не ушел в войско Улава. И если бы кто-нибудь захотел заставить людей уйти силой, они бы стали защищаться. Пусть уж богачи сами сражаются за свои интересы. Ведь Улав боролся теперь уже не за общее дело жителей севера.
Лейв стиснул зубы. Он тяжело дышал, и даже шея его побагровела. Разве не его родич сидел перед ним и предавал короля и его святое дело? Лейв с трудом овладел собой и уже спокойно сказал:
— А я-то думал, родич, что ты приверженец новой веры. Я-то полагал, что за нее, пожалуй, стоит биться.
Грими бросил на него быстрый взгляд, а потом ответил:
— В войске бондов столько же христиан, сколько их и в королевской рати. Епископ Сигурд только что держал перед бондами на тинге речь, он благословляет войско бондов и поносит короля Улава Харальдсона…
Лейв нетерпеливо махнул рукой:
— Епископ Сигурд держит руку датского короля. Для него это вопрос власти и господства!
Грими сказал:
— Да, это так. За спиной вожака бондов Тури Хюнна стоит датский король. За спиной Улава Харальдсона стоит Даг Рингсон, а вместе с ним все шведы, которым обещана богатая добыча. В войске бондов по крайней мере одни норвежцы. С королем идут всякие проходимцы. Даг Рингсон не видит дальше острия своего копья и не задумывается ни над чем, кроме ударов своего меча. Мы, бонды из долины, не любим дружину Улава. А больше всего мы боимся того, что король, которому не на кого опереться и который испытывает нужду в каждом воине, обещает шведам больше добычи, нежели в состоянии дать из своего имущества и имущества своих поверженных врагов. И расплачиваться за короля придется нам. Многие думают так, и под покровом ночи, обойдя лазутчиков Улава, уходят в войско бондов. Потому что дружина Улава всех отпугивает! Мы в полном неведении, никто не знает, чье дело в этой борьбе правое. Но многие, как и я, думают, что здесь решается лишь вопрос о власти, а не о том, кто поднимает на щит правду или справедливость. Христиан же достаточно и в войске бондов.
Грими поднялся, взял чашу с пивом и осушил ее за здоровье своего родича, остаток же выплеснул на землю в честь Тора. Языческие обычаи всё еще были живы в долине, и люди соблюдали их.
Наутро Лейв двинулся дальше и вскоре наткнулся на королевских лазутчиков. Один из них проводил его в лагерь. Лазутчик этот без конца превозносил мудрость короля. Конечно, всем было хорошо известно, что войско бондов более многочисленно, но зато короля сопровождали опытные воины, которые всю жизнь только и делали, что сражались. Они хорошо знали, что если королевская рать потерпит поражение, то пощады им не будет. Это было закованное в броню отборное войско, нерушимый союз людей, владевших мечом и секирой лучше, нежели бонды. Скоро бонды утратят и усадьбы, и земли, и законы свободных людей, говорил лазутчик. Король обещал это своей рати и клялся в том страшной клятвой.
Спустя некоторое время Лейв и лазутчик подошли к передовым отрядам королевской рати. Лазутчик указал Лейву на один из костров, возле которого тот мог поесть, а сам отправился искать кого-нибудь из хёвдингов.
Лейв сел возле костра и поглядел на равнину. Здесь собралась такая огромная рать, о которой он никогда прежде и не слыхивал. А взглянув в другую сторону, он увидел, как солнце играет на доспехах бондов.
Какой-то мрачный бородатый человек склонился над ним и тихо сказал:
— Нет ли у тебя освященного амулета, родич? Достань себе какой-нибудь сегодня же. Он тебе пригодится!
Лейв улыбнулся и, раскрыв ворот рубашки, вытащил маленькую пряжку от кушака:
— Вот мой амулет!
Мрачный человек протянул тяжелую ручищу и слегка прикоснулся к пряжке. Его пальцы скользили по ней так осторожно, словно ласкали волосы ребенка.
— Это ее пряжка? Пряжка той, что осталась дома?
— Это пряжка моей сестры, — ответил Лейв, и глаза его сразу стали суровыми и холодными. — Эта пряжка освящена.
Незнакомец слегка отпрянул назад, а потом тихо сказал:
— Я понимаю, на этой пряжке кровь. Я желаю тебе счастья, родич, желаю, чтобы кровь с этой пряжки была смыта нынче же. По глазам твоим вижу, что ты сильно страдал. Господь с тобой!
Он перекрестился и продолжал сидеть у костра, глядя в огонь.
Несколько воинов подошли к костру и сели спиной к ним. По звуку шагов Лейв догадался, что это были дюжие молодцы.
Один из них произнес грубым голосом:
— Всё едино, окропили тебя святой водой или нет, христианин ты или язычник. Принял ты крещение — и получишь двойную добычу и в бой пойдешь в самых первых рядах. А это значит, что и после победы ты получишь в два раза больше.
Лейв отпрянул, лицо его исказилось. Казалось, он испытывал страшные муки.
Другой голос ответил за его спиной:
— Если я верую в кого-нибудь, то в одного лишь Тора. И еще я верую в мои руки, в этот меч, в это копье, в эту секиру. Вот в чем моя вера… Но я не хочу креститься, и если Улаву нужна моя помощь, то ему придется довольствоваться лишь мечом и копьем. Мне кажется, он нуждается и в том, и в другом, да еще и в наших людях. С нами тридцать лучших воинов, мы привыкли сражаться и никогда не искали спасения в бегстве.
Глаза Лейва сузились и угрожающе засверкали. А рука его искала колчан. Он и сам не сознавал, что делает, но бородатый его сосед услышал вдруг пение натянутой тетивы.
Быстро взглянув на Лейва, он положил руку на его плечо:
— Ты что делаешь, родич?
Лейв не ответил. Он снова стал прислушиваться к грубым голосам. Да, это были те самые голоса. Он слышал их однажды ночью, слышал, как они завывали, впав в исступление, слышал звучавшую в них дикую радость, когда огонь охватил его усадьбу, слышал их сластолюбивые речи, когда они тащили по полям его сестру. И он знал, что стоит ему обернуться и он узнает этих людей.
И Лейв медленно обернулся назад.
У костра стало совсем тихо. Кое-кто подумал было, что он лишился ума. За его спиной встало трое воинов, готовых броситься на него, если он окажется предателем. Все они пристально смотрели на Лейва. Его взгляд встретился со взглядом одного из людей, спаливших усадьбу, — Гаукатури. Тот схватил секиру и начал искать свой щит. Другой грабитель — Аврафасти — стремглав ринулся вперед, держа поднятый меч в руках.
Но тут трое мужчин скрутили руки Лейва за спиной. Его лук и стрелы упали на землю.
Все стояли застыв, словно каменные изваяния. Лейв немного наклонился вперед. Он был совершенно спокоен, только глаза его сверкали удивительным блеском, и даже воинам, привыкшим смотреть прямо в лицо своим врагам, становилось от его взгляда не по себе.
Гаукатури всё еще стоял с поднятой секирой. Аврафасти стал рядом с товарищем.
Темнобородый сказал:
— Отпустите его! Он не безумец!
И, обернувшись к Гаукатури, презрительно сказал:
— Мне кажется, тебе лучше всего креститься сегодня; в этом войске ты, как видно, найдешь себе друзей по нраву.
Лейв сказал как бы про себя:
— Вот эти люди превратили в пепел мою усадьбу, убили моих близких и надругались над сестрой. Это те самые разбойники, это их шайка, я узнаю их… Да, теперь я вижу, здесь немало и других грабителей… Многие поколения моих родичей сражались с ними, никогда не получая поддержки ни от шведского короля, ни от норвежских хёвдингов, а теперь эти люди должны стать освободителями Норвегии. Прав Грими, говоря, что в рати короля Улава гораздо больше чужеземцев и грабителей, нежели это подобает войску норвежского короля.
Он быстро нагнулся и, подняв свой лук, вновь ослабил тетиву. Потом сложил стрелы в колчан, собрал свои вещи и осторожно запихнул их в котомку. Взвалив ее на спину, он двинулся в путь.
Люди молча смотрели на него. Никто не сделал ни малейшей попытки преградить ему дорогу, хотя они хорошо знали, куда он идет. Они медленно расступались, а он шел, не глядя по сторонам. Пройдя немного по тропинке, Лейв обернулся и сказал:
— Прощайте, мы непременно встретимся с вами сегодня же, только попозже.
И он быстрыми шагами направился в лес, выбрав тропинку, далеко огибавшую равнину Стиклестад. Он остановился, услышав, что кто-то окликнул его. Это был темнобородый. Он сказал:
— Я недолюбливаю королевских наемников, людей Дага Рингсона так же, как ты ненавидишь Гаукатури и Аврафасти. На днях мне довелось видеть, как они жгли и грабили мирную усадьбу. А я пришел сюда совсем не ради этого. Я иду вместе с тобой, родич! Я знаю, куда ведет этот путь.
И когда вожак бондов Тури Хюнн с острова Бьяркё поднял свое боевое знамя, в самом первом ряду его стрелков стоял Лейв. С ними были люди из Тронхейма и с северного побережья Норвегии, жители горных селений, фьордов и долин. Это было настоящее норвежское войско, войско норвежцев.
Лейв взглянул на королевскую рать, стоявшую напротив. Подле знамени стояли Гаукатури и Аврафасти. Солнце играло на их шлемах. Перед мысленным взором Лейва плясали страшные языки пламени, лизавшие во мраке ночи усадьбу, а в ушах звучал хриплый голос женщины, которой грозила смертельная опасность.
Но вот раздался боевой клич, и Лейв двинулся вперед. Стрела лежала на тетиве, и перед собой он видел лишь сверкающие шлемы, два шлема, два… Он откинулся назад, натянул тетиву, и стрела со свистом полетела в сторону королевской рати. Он быстро схватил вторую. Всё ближе и ближе подходили друг к другу оба войска, а перед глазами Лейва маячили два блестящих шлема, два… И стрела его долго покоилась на тетиве лука, пока не попала в цель…
Вечером Лейв сидел у костра и начищал маленькую пряжку от пояса. Ему казалось, что от его прикосновения она оживает. Пряжка была чистой и гладкой, она блестела в отсветах огня. Казалось, в ней отражается взгляд ее владелицы, — взгляд, который узнал, что такое покой.
И Лейв обрел покой.
Рассказы из жизни старого Бергена
Своя рубашка ближе к телу
(Перевод Ф. Золотаревской)
Случилась эта история в году тысяча восемьсот пятьдесят седьмом. Зима в тот год выдалась премерзкая: то лютый холод, то проливные дожди. Струи воды беспрерывно хлестали из водосточных труб в подставленные лохани, и потому свежая дождевая вода была в изобилии. Так что в этом отношении всё было хорошо. Но — и только! А вообще — люди из-за непрерывных дождей сделались сварливыми и несговорчивыми. Кредиторы требовали возвращения денег, отданных некогда взаймы, а должники пускались на всякие хитрости, только бы не возвращать эти долги. В Брюггене[34] же купцы надували друг друга как только могли.
У башмачных дел мастера Питтера Андреаса Кнюссена тоже забот был полон рот, хотя дела его и шли как нельзя лучше. Кнюссен был зол, как черт. И это при том, что его недавно избрали членом городского магистрата! Кроме того, он владел лучшей в городе башмачной мастерской и множеством домов, а у жены его была респектабельная гостиница с винным погребком, которая также приносила немалый доход.
Но всех этих благ было, как видно, недостаточно для хорошего настроения. Дело в том, что у Кнюссена была бойкая и красивая дочка, которая всё еще не сумела перенять нравы и обычаи привилегированных особ и не чувствовала вкуса к настоящей жизни. Ну, посудите сами. Башмачных дел мастер без лишней проволочки приискал ей жениха. Да еще какого! Он сосватал ее сыну самого купца Блеха. Благодаря этому браку Анниккен стала бы одной из первых дам в городе. А дрянная девчонка возьми да и влюбись по уши в Корнелиуса — старшего подмастерья Кнюссена.
Была еще одна весьма важная причина для этого сватовства. Кнюссен давно уже вбил себе в голову, что хочет попасть в гражданскую гвардию[35]. Тогда он станет капитаном. «Господин капитан Питтер Андреас Кнюссен» — это уж другой коленкор! А его «мадам» будет называться «фру Кшоссен». Старый Блех гарантировал Питтеру избрание. Разумеется, после того как они породнятся. Когда-то Кнюссен был капралом и председателем корпорации башмачников в Копенгагене и Гамбурге, и не проходило дня, чтобы он не напоминал об этом своим домочадцам. По его выражению, он «на военном деле собаку съел».
А теперь его дочь Анниккен бросает вызов и добрым купеческим традициям и религии, не говоря уже о чести и амбиции. Вот какие думы терзали в одно прекрасное зимнее утро башмачных дел мастера Питтера Андреаса Кнюссена.
Он встал с постели в половине шестого, свирепый, словно бык. Он рвал и метал, расхаживая взад и вперед по холодному полу. На улице Пер-сторож певуче выкрикивал:
— Часы пробили пять! Ветер сильный, норд-норд-ост! В городе всё тихо и спокойно.
Кнюссен распахнул окно и закричал:
— Будет тебе вопить в такую рань! Ну чего орешь, пьяница чертов? Ты лучше скажи, привязал ты фонарь как следует? Нет, миленький, не привязал! Он бился и дребезжал, и я из-за него целую ночь глаз не сомкнул. Проваливай-ка отсюда и не порть мне вид из окна!
Облегчив таким образом душу, Кнюссен принялся за утренний кофе. После этого он совсем успокоился. В шесть часов он, ковыляя, спустился с лестницы и отворил дверь в мастерскую. Восемь подмастерьев сидели за работой, а мальчики-ученики таскали взад и вперед кожи, которые они отмачивали в воде и размягчали молотками.
Кнюссен обошел мастерскую, выискивая, к чему бы придраться. Он сунул нос в чан с чистой, как слеза, водой. Главный подмастерье Корнелиус был в ответе за то, чтобы чан для вымачивания кожи всегда содержался в чистоте. Кнюссен, сердито ворча, двинулся дальше. Со стола, на котором складывали готовые башмаки, он схватил сапоги поверенного Кельмана.
— А ну-ка взгляни сюда, Корнелиус! — закричал он. — И это ты называешь добротной работой? Уже третий раз на этой неделе ты портишь заказ! Опорки какие-то, а не сапоги!
Силач Корнелиус, который славился своим уменьем на весь город, заскрипел зубами от такого безбожного поклепа и сердито ответил:
— Хотел бы я знать, сумеет ли кто сделать лучше.
И тут все подмастерья прыснули, пригнули головы и стали копошиться под столом. Кнюссен прекрасно всё это видел. Он рассвирепел вконец.
— Дерьмовая работа! — рявкнул он, отшвырнув от себя сапог.
Корнелиус не остался в долгу.
— Тогда пусть хозяин сам попробует смастерить такие башмаки, — ответил он.
— Что такое? — взревел Кнюссен. Ты это что себе позволяешь? Насмехаться надо мной в моем собственном доме? Ах ты голодранец этакий! Кто хозяин этого подворья? Ты или я? Кто тачал башмаки всей копенгагенской знати? Ты или я? Кто исколесил вдоль и поперек всё баварское королевство и всю Францию? Ты или я? Кто делал башмаки на всякий манер и по всякой моде в разных концах света? Ты или я? И кто получал об этом свидетельства от лучших башмачников во многих странах и королевствах? Уж во всяком случае не ты. Никто не поверит твоей похвальбе, да и мне недосуг ее выслушивать. Нет, с этим надобно покончить! Убирайся из моего дома! Плакать и печалиться о тебе не станем.
Корнелиус снял кожаный передник и, свернув его, положил в свой сундучок вместе с инструментами. Затем он поднялся наверх, чтобы сменить рабочую одежду.
Тут ему повстречалась Анне Большая. Когда-то она была кормилицей Анниккен, а теперь считалась как бы ее второй матерью и согласно традициям пользовалась большим почетом в доме. Анне заговорила на своем певучем южно-фьордском диалекте:
— Слышала я, что он сказал тебе, Корнелиус. И даю я тебе совет: ступай к старому Бёшену и расскажи ему про всё. Он до смерти ненавидит Блеха, а оба они — черту под стать. У Элине, кормилицы Бёшена — острый глаз и ушки на макушке. Она всё расскажет тебе про хозяина, а ты смекай да мотай на ус… Потом иди к Бёшену и пообещай, что ежели…
Анне Большая вдруг умолкла и прислушалась. Потом она быстро выскользнула из комнаты и с невинным видом принялась катать выстиранное белье. Кнюссен, пыхтя, взбирался по лестнице. Он подошел к Корнелиусу и виновато сказал:
— Вот три далера, которые я тебе должен. А вот еще один в придачу. Поезжай в Салхюс к башмачнику Клойсевигу и наймись к нему в подмастерья. Передай ему от меня поклон. Ну вот и всё!
У Корнелиуса прямо-таки язык чесался, до того хотелось ему высказать хозяину всё, что накипело у него на душе. Но он вспомнил совет Анне и, молча взяв деньги, с сундучком на плече пошел вниз по лестнице. Когда парень собрался войти в кухню, чтобы проститься с женщинами и поблагодарить их за всё, перед ним внезапно вырос Кнюссен и быстро задвинул щеколду. А в это время с другой стороны чей-то маленький кулачок изо всех сил барабанил по двери.
— Тебе нет надобности прощаться, я сам передам от тебя поклон, — сказал Кнюссен, понизив голос так, чтобы его не слышали на кухне. — Выметайся из дома, да поживее!
Корнелиус пошел по улице Страннгатен, а оттуда — на пристань Мюребрюгген. Там он получил место истопника у Бёшена и тотчас же принялся таскать в дом дрова.
А между тем башмачных дел мастер сидел в парадной гостиной с женой, дочерью и кормилицей Анне. Семейный совет был в сборе. Кнюссен стал в позицию и пронзил Анниккен своим самым испепеляющим капральским взглядом. И тут он сказал:
— Завтра вечером мы званы к Блехам. Старику исполняется шестьдесят, и на его дне рождения мы объявим то, о чем давно уж с ним порешили. Слышите? Завтра же, а не в это воскресенье и не в следующее! Там будет много высокопоставленных гостей. Понимаешь, Анниккен, что это для тебя значит? Корнелиус ушел из дому. Он отступился от тебя только из-за того, что я сказал ему словечко не по нраву. А ведь он сам был кругом виноват! Он не хочет тебя больше видеть. Слышишь ты меня или нет? Хотел бы я знать, кто здесь голова в доме, я или ты? Кто бывал в Копенгагене, я или ты? Нечего скалить зубы, отвечай!
— Да, дорогой батюшка, — покорно сказала Анниккен. — Я понимаю, что это значит для меня. Я согласна.
— Что? — Кнюссен уставился на нее с глупым видом. — Я не ослышался? Это еще что за новые мелодии? Это с каких же пор ты стала согласна?
Чуя подвох, башмачных дел мастер стал испытующе сверлить взглядом свою жену. Но затем пробурчал себе под нос:
— Нет, она тут ни при чем. Ей хочется стать благородной дамой еще больше, чем мне капитаном.
Тогда он резко обернулся к Анне Большой и закричал:
— Уж не твои ли это проделки? Ты всегда выгораживаешь девчонку! Гляди у меня, а не то враз вылетишь из дому!
Анне Большая выпрямилась и отрезала:
— Я тебя не трогаю, и ты меня не задевай!
Она оправила камлотовый чепец, одернула кружевные оборки и забросила за спину длинные черные ленты. Пусть Питтер Андреас Кнюссен не забывает об уважении к кормилице, которая вскормила своей грудью его дитя и семнадцать лет прожила в доме, за всё это время ни разу не повидав ни своего венчанного супруга, ни своего ребенка. Анне пришлось покинуть семью, чтобы заработать деньги, так как усадьба их была заложена и нужно было выплачивать огромный долг. Ее уважали за это, хотя никто не думал о ее горе и слезах. И Кнюссен не смеет нарушать традицию, предписывающую уважение к кормилицам, навсегда покинувшим родной дом.
Анне Большая величественно выплыла из гостиной, оставив дверь открытой настежь. Пусть глава дома сам затворит ее, если желает.
Кнюссен сразу же раскаялся в своем поступке, но всё-таки погрозил Анниккен пальцем:
— Я не верю тебе. Тут какой-то обман.
На это Анниккен ответила невинным тоном:
— Вы же знаете, батюшка, что мне не обмануть и кошки. Я пойду на вечер к Блехам, если вы велите.
— Значит ли это, что ты согласна идти под венец с Блеховым Клойсом? Так надобно тебя понимать? Хотелось бы мне знать, кто каждый божий день затевал в доме скандалы — ты или я? Кто каждый вечер за ужином поднимал такой визг, что гасли свечи и нам приходилось сидеть в кромешной тьме с куском грудинки в руках? Кто на чем свет стоит честил Блехова Клойса и визжал так, что иерихонские трубы показались бы боцманской свистелкой по сравнению с этими воплями?
Вмешалась мадам Кнюссен:
— Но, господи спаси, отец, ты же видишь, она передумала. И не ори так, ведь на всю улицу слышно!
— Я ору на своей собственной улице, старуха! Здесь каждый дом и каждый клок земли принадлежат мне! — рявкнул Кнюссен.
Мадам гневно выпрямилась.
— Вот как! Дома меня будут обзывать старухой, а на людях величать «фру»! Ну нет, благодарю покорно! — сказала она зло и, отбросив всякие церемонии, заговорила на старый манер:
— Ты дерешь глотку, как самый что ни на есть паршивый башмачник.
— И вовсе нет! — воскликнул Кнюссен. — Я ругаюсь, как подобает капитану. Такой важной персоне всегда дозволено ругать нижние чины, они ведь только и живут на земле для того, чтобы капитан изливал на них свой гнев, когда встает с левой ноги… Уж будьте покойны, я устав назубок знаю. Да… И все должны выслушивать его ругань, нравится это им или нет! И баста!
— Подумать только! — вкрадчиво сказала мадам. Сколько ума наберешься ты от одной сабли и пары эполет! Да еще сможешь говорить мне «баста». Ну, наш город может гордиться таким земляком. К тому же все должны знать, что ты в юности повидал белый свет — бывал в Аскёне, Салхюсе и даже в Копенгагене.
Кнюссен побагровел:
— Да, это я был капралом под начальством капитана Равна, которого и после смерти с почтением вспоминают за его зычный голос. Это я наблюдал парад войск в Копенгагене и видел, как сам обер-бургомистр вольного города Гамбурга шел с золотым ключом в одной руке и с жезлом в другой! Это я…
— …Рехнулся вконец! — закончила мадам, полностью перейдя на привычный жаргон бергенских торговок, и направилась к двери. — Ну нет. Ежели такое представление будет каждый день, когда ты сделаешься капитаном, а я стану фру Кнюссен, то покорно благодарю! И запомни, башмачник Кнюссен: ежели ты вздумаешь на нас учиться капитанским манерам, я тоже припомню словечки из доброго старого времени, и — плевать мне на то, что я — благородная дама! Гляди, как бы я не рассердилась всерьез!
Кнюссен мгновенно преобразился в спокойного, покладистого супруга, каким он был до того, как капитанская блажь засела в его голову. Он вздохнул и сказал жалобно:
— Неужто тебе невдомек, матушка, что я не доверяю дочери и не очень-то уверен в Блехе и его сынке, этом ленивом дурне, что сидит по целым дням в пивной Кидинга и потягивает пунш?
— С чего это ты разнюнился? — насмешливо проговорила мадам Кнюссен.
— Ах, Каролине, ты не забывай, что дочь-то у меня одна. Я хочу, чтобы она залетела повыше нас с тобой. Так что, уж придется кое-чем жертвовать. И сам не знаю, отчего это меня всякие беспокойные мысли одолевают? Блех очень заинтересован в том, чтобы дело сладилось. А мы не должны забывать, какая это для нас честь!
— Но всё равно тебе не из-за чего так бесноваться и кричать. — Жена снова заговорила тоном благородной дамы. — И не нужно было выставлять Корнелиуса за ворота. Он ведь первый подмастерье в городе, его никто не сможет заменить. С такими людьми нужно ладить, ежели хочешь, чтобы твоя мастерская слыла самой лучшей. Корнелиус не дурак, он понимает, откуда ветер дует!
— Ох, верно! — в отчаянии произнес башмачник. — Сказано в самую точку! По ночам с меня просто десять потов сходит, всё размышляю, а что делать — ума не приложу! Если бы я еще не ударил с Блехом по рукам! Не понимаю, откуда у меня все эти темные мысли? Так и копошатся в голове! И всё-таки я знаю, что прав. Нет ни одной девицы на свете, которая не хотела бы забраться повыше своих подруг. И не так уж часто бывает, чтобы знатный и богатый купец захотел взять в жёны дочь простого башмачника. — Кнюссен покачал головой, потом стукнул кулаком по столу и закричал:
— Девчонка выйдет за Блеха, хочет она того или нет! Она станет первой дамой в городе, не будь я Питтер Андреас Кнюссен!
Казалось, судьба Анниккен была решена. Но на следующий день Анниккен и Анне Большая появились в дровяном сарае Бёшена. Корнелиус, закусив нижнюю губу, благоговейно слушал Анниккен, которая так тарахтела, что он только диву давался.
— Послушай ты, недотёпа! — сказала она своему дружку далеко не ласковым тоном. — Нечего тебе тут стоять, распустив губы, словно траурное покрывало над гробом. Морда у тебя сейчас ну точь-в-точь как у дохлой овцы. Только теперь для этого не время. Ты, я вижу, не такой уж храбрец и боишься открыто поговорить с Бёшеном. Однако у тебя хватало храбрости тискать и целовать меня… Прости, Анне, что тебе приходится слышать всё это, но нужно называть вещи своими именами… А уж если ты, Корнелиус, со мною держал себя таким молодцом, то как ты смеешь, негодник этакий, бояться какого-то толстяка Бёшена или вообще кого бы то ни было на свете? Этак я, пожалуй, решу, что ты ставишь меня ниже других! А тогда — можешь брать свой сундучок и отправляться в Салхюс или хоть к черту на рога! Иди к Бёшену и выуди у него всю подноготную о Блехе. Наобещай ему за это с три короба, соври ему… Он надул на своем веку стольких бедняков, что не грех будет разочек и его надуть. Ведь дело-то идет о нашем счастье, Корнелиус! Бог нам простит, ежели мы оставим в дураках мошенника. Ну, а коли ты боишься, то мне придется идти под венец с Блеховым Клойсом. Топиться я не собираюсь, хотя мысль о том, чтобы лечь с ним в постель, и доводит меня до крайности… Еще раз прости, Анне…
— Я иду сейчас же! — решительно сказал Корнелиус. Шея у него побагровела. Он пошел было к двери, но вдруг повернулся и зло сказал:
— Да, уж ты-то не пойдешь топиться! Ты чертовски похожа на своего папашу. Но берегись!.. Помни, что рука у меня одинаково тяжелая, обнимаю ли я девушку, или даю ей затрещину.
С этими словами он пошел прямо к Бёшену и выложил ему всё начистоту. Он сказал, что Блех зарится на добро и деньги Кнюссена. И что Кнюссен гораздо богаче, чем думают многие. И что он, Корнелиус, может стать зятем и наследником Кнюссена, потому что Анниккен любит его. Тут Корнелиус перевел дух. Он никак не решался заговорить о самом главном. Но мысль об Анниккен и Блеховом Клойсе развязала ему язык, и Корнелиус решительно заговорил о самых сокровенных тайнах семейства Бёшенов, о которых рассказала ему Анне Большая. Говорил он не называя имен, но не упуская ни малейшей подробности. Оказывается, он знал о том, что Бёшен в последнее время потерпел большие убытки на акциях.
Бёшен, выпучив глаза, откинулся на спинку стула. Губы его запрыгали. Он то и дело менялся в лице. Но Корнелиус намекнул, что Бёшен может получить заем на выгодных условиях и благодаря ему спастись от угрозы разорения, которая, словно дамоклов меч, висела над его домом.
Бёшен вскочил и хотел было накостылять наглецу шею. Но тут ему пришло в голову, что если Блеху удастся завладеть деньгами башмачника, то он наверняка уцелеет во время кризиса, который многих купцов скрутил в бараний рог. И к тому же заем… Правда, он сам много раз давал обещания, которые и не думал выполнять. Но всё-таки тут есть какой-то шанс. Да, но тогда придется предать Блеха… А какое ему дело до Блеха? Ведь он его, собственно говоря, терпеть не может. Бёшен взвешивал все «за» и «против», а Корнелиус меж тем стоял, отирая со лба холодный пот. Наконец Бёшен тихо проговорил: — Ступай к своему бывшему хозяину и скажи: пусть подождет с обручением, пока бриг «Альберт Блех» не вернется в Берген. Я говорил с Пине из Тронхейма на прошлой неделе. Он получил от своего шкипера важные вести, которые вот-вот должны окончательно подтвердиться. Это всё! Ступай, да не забудь своего обещания.
— Раз обещал — выполню! — ответил Корнелиус.
Корнелиус и Анниккен вместе вошли в комнату, где сидели башмачных дел мастер и его жена. Те разинули рты от удивления. Кнюссен вскочил и заорал:
— Хотел бы я знать, кого вышвырнули из этого дома, тебя или меня? Кого?..
Корнелиус поднял руку, но, видя, что заговорить ему не удастся, стукнул кулаком по столу так, что старинная суповая миска подпрыгнула кверху.
— Хоть раз выслушай меня, хозяин! — вскричал он. — Я желаю тебе только добра. Неужто ты хочешь сделать Анниккен нищей? Тебя обманывают, а я знаю, что обманывать грешно. Я прошу тебя погодить с обручением и свадьбой, пока бриг «Альберт Блех» с полным грузом, в целости и сохранности, не пришвартуется в Санвикской бухте. Ежели ты не смекаешь, в чем тут дело, то ты глупее лесного пня и не стоишь даже капитанской шпоры. Провалиться мне на месте!..
— Бриг? — пробормотал Кнюссен, выпучив глаза. Он взглянул на жену, которая схватилась рукою за сердце: она-то соображала быстрее, чем муж.
«Что же это? — думал Кнюссен. — Ведь Блех говорил, что бриг с грузом ржи вышел из Одессы и теперь благополучно плывет в тихих водах, в нескольких днях пути от норвежских берегов? Но ведь такие же небылицы сочинял и Плейн, перед тем как на его шхуну был наложен арест за долги, а сам он стал в Брюггене притчей во языцех!»
Наконец Кнюссен обрел дар речи.
Он повернулся к Корнелиусу и сказал тихо и зло:
— Ежели это правда, то я отблагодарю тебя, парень. Но если ты лжешь, то насидишься у меня в тюрьме. Уж я-то говорю святую истину! А покуда — убирайся из моего дома!
После этого Кнюссен надел цилиндр, взял трость с серебряным набалдашником и отправился в захудалый винный погребок, где Плейн завивал горе веревочкой, вспоминая о своем потерянном богатстве. Понадобилось немало стаканчиков вина и обещаний дать взаймы денег, прежде чем язык у Плейна развязался. Он сказал не так уж много, но и от сказанного им Питтер Андреас Кнюссен побледнел и затрясся.
Возвращаясь домой, Кнюссен то и дело отирал пот.
Ну и дела! Оказывается, Блех разорен вконец, а бриг его конфискован. Хорош был бы Кнюссен, если бы позволил одурачить себя и отдал бы дочь за его сына!
Дома Кнюссен сказал своей супруге:
— Вот каковы эти благородные! Если они хотят с тобой породниться, то уж, верно, неспроста. Вот тут и надейся на них. Нет, больше я не желаю иметь с ними никаких дел. Лучше отдам свою дочь за Корнелиуса. Своя рубашка ближе к телу! И теперь никому доверять не буду. Завтра же забираю за долги дома у башмачника Хансена и Пера-сторожа. Я не какой-нибудь благотворитель.
И вот Корнелиус женился на Анниккен, и она нисколько не раскаивалась в том, что вышла за простого подмастерья и не сделалась благородной дамой. Бешен так и не получил обещанного займа. Он пробовал говорить об этом с Корнелиусом, но тот глядел на него невинными глазами, словно новорожденный младенец. Старый плут Бешен разорился на своих махинациях. Теперь они вместе с Плейном утешались в погребке и на чем свет стоит ругали всяких разбогатевших выскочек.
А Кнюссен излил всё зло на башмачнике Хансене и Пере-стороже. Он отнял у этих бедняков дома за долги и выбросил их на улицу. Так что в этой истории они пострадали больше всех.
Как Сара-кормилица съездила домой на рождество и спасла усадьбу
(Перевод Л. Брауде)
Это — история из жизни Бергена середины прошлого века, и произошла она сразу же вслед за знаменитым пожаром, уничтожившим дотла почти всю центральную часть города. На улице Страннгатен стоял большой господский дом с прилегавшими к нему лавками, складами, хлевами, конюшнями и летними постройками, которые тянулись до самого залива. Владельцем всего этого, так же как и самой лучшей кондитерской в городе, был купец Вейдеман.
Случилось так, что фру Вейдеман внезапно разродилась тройней. Дело было осенью. Местные острословы говорили, что на этот раз Вейдеман замесил слишком много теста.
Между тем Вейдеман поместил в газете «Адрессеависен» объявление о том, что ищет здоровую и крепкую кормилицу для трех голодных ртов. Вскоре ему посчастливилось нанять одну из тех ядреных молодых женщин, которые приезжают с берегов отдаленных фьордов в Берген и вскармливают чужих детей, чтобы покрыть долги своей небольшой усадьбы и внести арендную плату. Зато когда-нибудь потомки их спокойно будут владеть своими наследственными аллодами[36].
Нетрудно представить себе, что пришлось выстрадать этим самоотверженным душам!
Следует заметить, что Сара была человеком сильным, и держалась она с большим достоинством. Трое прожорливых чужих детей, напоминавших ей изголодавшихся волчат, очень быстро завладели всеми ее помыслами. Позднее она передала им все прекрасные сказки и песни родного края, всю свою любовь к красотам горной природы Йольстера[37]. Дети богача бесплатно получили все эти бесценные сокровища вместе с молоком.
Большинство кормилиц в городе с годами превращались просто в нянек. И тогда их называли, в зависимости от их внешнего облика: Анне Большая, Анне Маленькая, Старушка Карен… Об этом рассказывают старинные рукописи.
Все эти женщины носили особую, раз и навсегда установленную форму: черную юбку, черную же, облегающую кофту и короткий черный атласный передник. В знак того, что они — замужние женщины, на головах у них были высокие, в виде кулька, черные камлотовые чепцы с кружевными оборками. На спину ниспадал широкий бант из черного же шелка.
Кормилица, служившая у Вейдемана, которую, как известно, звали Сарой, была, по сравнению с другими кормилицами, выдающейся личностью. Во-первых: ее не слишком пышная грудь была источником такого количества молока, которого вполне хватало для трех ненасытных ребят. Во-вторых: она любила пиво и полагала, что в нем — причина ее молочного изобилия. Так считалось испокон веков у них дома, в Йольстере. В-третьих: она была похожа на настоящую даму, и красива, точно какая-нибудь фрейлина французского двора, изображенная на миниатюре. В-четвертых: она была очень полнокровна и влюблена в своего мужа.
Приближалось рождество. В это время вся прислуга оказывалась в доме крайне необходимой, и особенно кормилица, пользовавшаяся, в силу своего положения в семье, всеобщим уважением.
И вот случилось так, что самая молодая из всех кормилиц Бергена взбунтовалась под самые рождественские праздники. В течение нескольких дней Сара взбудоражила весь город до такой степени, что перепутались все представления о правах прислуги и господ.
Дело было так: какая-то баржа с дровами, побывавшая во фьордах, прибыла из Мере в Берген. С этой баржей Саре был доставлен горячий привет от мужа и разные неприятные вести о постигших хозяйство стихийных бедствиях. Плохо уродился хлеб, сгорело сено. Они лишились многих овец и свиней, которых продавали обычно в городе по четыре кроны за голову. Кроме того, нашелся еще во фьордах какой-то купец. Он с помощью ловкого поверенного, продувного крючкотвора, пытался прогнать мужа Сары из дома и усадьбы. А тому ничего лучшего не пришло в голову, как послать жене весточку о случившейся беде. Видно, Сара была главой семейства.
Всё это рассказала она Вейдеману. И не просто рассказала. Она попросила его о помощи.
Собственно говоря, этого ей делать не следовало. Она получала хорошее жалованье, и ее очень уважали. Что еще могла требовать простая служанка? Вейдеман легко мог бы ей помочь, ему даже хотелось помочь кормилице. Но тогда о его поступке пронюхали бы другие купцы, а благодеяния, оказываемые прислуге, шли вразрез с принципами богачей. И кто его знает, к чему бы всё это привело. Ведь Вейдеман был знаком с крючкотвором поверенным и не желал с ним ссориться. Поэтому он наотрез отказался помочь Саре и предложил на выбор: либо она спокойно остается на рождество в Бергене и занимается своим делом, как другие кормилицы, либо на барже из Мёре отправляется подобру-поздорову домой. Вдобавок он сделал ей отеческое внушение о ее долге и ответственности по отношению к господам. Свои советы он обильно подкрепил цитатами из премудрости, преподносимой обычно детям. И потом: как быть с малышами, если она поедет домой спасать имущество?
— Детей я возьму с собой, — решительно заявила Сара. — Здесь на рождество они будут заброшены. И потом, как я поняла, у меня на рождество будет столько других хлопот, что вряд ли найдется время пестовать бедных малюток. Детям будет лучше в Йольстере, чем здесь, на улице Страннгатен. Там они будут в безопасности от холеры, которая, может, затаилась на любом корабле и не разбирает ни богатых, ни бедных.
Тут Вейдеман и его жена оба разом встали. Они заговорили, перебивая друг друга. Ей дается неделя на размышление… и… вот бог, а вот порог! Театральным жестом они указали ей на дверь. Но на Сару это не произвело ни малейшего впечатления.
Она спокойно сказала:
— Когда я ходила к колодцу Биспебрённен, чтобы принести воды для поливки гороха, я встретила старшего лекаря Даниельсена. Он считает, что разумнее всего забрать детей с собой, если только я буду держать их всё время в каюте, пока мы не прибудем на место.
— А, так ты хочешь, чтобы весь город совал нос в наши домашние дела? — зарычал Вейдеман, захватив такую большую понюшку табаку, что остатки просыпались на его сапоги. Он был страстным любителем нюхательного табаку.
— Не весь город, а только умные люди. — Сара выпрямилась.
— Неделю на размышление! — заявил Вейдеман, хлопнув крышкой табакерки. — Неделю! Поняла? А теперь — вон! Вон! Ступай с глаз долой! Иди к себе наверх! Чтобы глаза мои не видели тебя до самого обеда!
Однако Сара и не подумала опрометью выскочить из комнаты, как делали обычно другие слуги Вейдемана, когда хозяин бывал не в духе. Она стояла, перебирая черные ленты, а потом тихо и настойчиво сказала:
— Как бы господин Вейдеман не раскаялся в своих словах и не просчитался, не ставя ни во что мнение горожан! У нас в городе проще простого стать козлом отпущения. Уж что-что, а это-то мне хорошо известно!
Вымолвив эти слова, Сара, словно настоящая дама, выплыла из комнаты.
Молва о дерзости Сары облетела весь город в тот час, когда почтенные хозяйки распивали кофе, и стала буквально притчей во языцех. Слава богу, что речам этой девчонки, этой ничтожной служанки, не нужно придавать значения. Но дело кончилось тем, что все эти мадамы и фру, откушав кофе с сахаром (сахар свешивался на веревочке с потолка, и они энергично его сосали по очереди), подобрали свои юбки и бросились домой. Им не терпелось излить раздражение на своих кормилиц, которые обычно на рождество бывали для них самыми надежными помощницами. Кормилицы присматривали за детьми и были всему дому голова, когда гости напивались и приходилось укладывать их в постель. Кормилицы же улаживали вспыхивавшие в доме незлобивые свары и любовные ссоры, грозившие большими неприятностями. Раздосадованные мыслью о возможности потерять своих незаменимых во время рождественской суеты помощниц, все эти мадамы и фру стали страшно придирчивы.
Ну и досталось же им потом!
Во время наступивших затем раздоров забылись даже старые семейные распри. Небывалое событие, если не считать 1814 года[38]. А то, что ненависть этих семейств друг к другу еще сильнее вспыхнула после окончания истории с кормилицами, уже совсем другая история.
Старший лекарь Даниельсен из городской больницы, получивший всемирную известность за свои фундаментальные труды о проказе, был заядлым ненавистником рождественских пирушек. И он как раз целиком и полностью поддерживал Сару. Климат Йольстера был гораздо здоровее сырого бергенского. А кроме того, любой корабль мог завезти в Берген холеру.
Люди останавливались на улицах, чтобы посудачить. Даже самый серьезный коммерческий разговор они ухитрялись сдобрить разнообразными и яркими новостями на извечную тему о кормилицах. Все только и говорили о них…
Но скажем сразу же: чувствам достойных и уважаемых бергенских кормилиц, которые привезли в город обломки традиций старого норвежского матриархата, был нанесен почти смертельный удар, — удар по тем самым чувствам, которые давали им силы обречь себя на добровольное изгнание из дому. Правда, у всех, кроме Сары, дела обстояли вполне благополучно. Им не угрожал никакой поверенный, и никакие вести из родных мест не лишали их сна. Но они хорошо понимали Сару. Да к тому же, ведь речь шла и об их собственном достоинстве.
Каждый день всё больше и больше кормилиц, как бы случайно, встречалось в центре города, на площади Торгалменнинген. И говорили они только о Саре. Она получила от своих хозяев уже новое, еще более строгое предупреждение. Времени оставалось совсем мало. Что-то надо было предпринимать, и как можно скорее!
И вот в городе с ясного неба вдруг грянул гром.
В этот день на бирже[39] в Брюггене собралась целая толпа купцов, облаченных в высокие цилиндры. Вдруг один из этих цилиндров начал медленно отрываться от табакерки. Видимо, что-то привлекло внимание его владельца.
На площади перед церковью св. Николая появилась кормилица с ребенком на руках. Она, вероятно, уже прогулялась по улице Эврегатен и возвращалась домой. Но почему-то, пройдя Брюгген, она направилась в Старый город, в Дрегген[40]. Ах, вот что! Должно быть, ей поручили показать юного отпрыска рода какой-нибудь тетушке, от которой ожидали наследства. Кормилица величественно проплыла мимо купцов в цилиндрах. Высоко подняв голову, она гордо поздоровалась с ними. Взглянув на младенца, отцы города увидели, что он пышет здоровьем. Это вселяло бодрость, особенно потому, что холера только что пронеслась над городом. Почтенные купцы удовлетворенно кивали вслед кормилице. Но они недовольно сморщили носы, когда какая-то миловидная девушка из Мангера просеменила мимо них безо всякого головного убора, даже не устыдившись этого. Купцы переглянулись, но вскоре внимание их было привлечено другим зрелищем. Появилась еще одна бывшая кормилица, ставшая уже нянькой. Она тащила за руку своего выкормыша — тощую девчонку, которая всё время хныкала. Рассерженная нянька не поклонилась купцам, собравшимся на галерее. Она неожиданно повернулась в сторону занимавшей, как видно, все ее мысли лавки торговца омарами Александра Грига[41], предоставив купцам лицезреть лишь свою широкую могучую спину. Потом она двинулась дальше. И тут все цилиндры повернулись в сторону площади. Там явно что-то затевалось. Обычно ни кормилицы, ни няньки не разгуливали здесь, в Брюггене. А тут купцы увидели, что с холма спускается еще какая-то кормилица. И еще одна. А за ней — еще.
В эту минуту никто не проронил ни единого слова ни о ворвани, ни о вяленой рыбе, ни об омарах. Все вышли из помещения биржи на галерею. Глаза у мужчин расширились от изумления. Ведь в Дреггене было не очень много тетушек, от которых ожидалось наследство. Купцы уже пораскинули умом на этот счет. Вейдеман подпер мощный подбородок своим увесистым кулаком и вспомнил вещие слова Сары. Купцы услыхали, как старый Лоссинг, не то брандмейстер, не то начальник дорог, и большой весельчак, заржал от смеха.
— Господи помилуй! — Раскаты его громового хохота слышны были даже на другом конце города. — Вот уж никогда бы не подумал, что в Бергене столько кормилиц! Как видно, мужчины в нашем городе вовсе не похожи на вяленую рыбу!
Последней явилась Сара. Кухарка Ловисе помогала ей тащить ребят. Младенцы были плотно укутаны в одеяльца и платки. Видно было, что они пышут здоровьем. Служанки медленно проплыли мимо отцов города. Вейдеман, бывший тут же, забеспокоился. Это была настоящая демонстрация.
Сыновья Меркурия[42], онемев от изумления, провожали глазами Сару. Более неприятного сюрприза им не осмеливался преподнести никто, никогда и нигде. Тем более в Брюггене.
Эту смутьянку надо во что бы то ни стало немедленно удалить из города!
Сара быстрыми шагами подошла к купцам, остановилась и сказала звонко и внятно:
— Нынче вечером в гавани пришвартовалась голландская торговая шхуна. Даниельсен говорит, что поставил ее в карантин. Но паромщик Антонацци ходил вчера вокруг этой шхуны на веслах. И матросы на борту сказали, что шли-то они в Тронхейм к старому Пине, но, не добравшись до Тронхейма, запродали свой груз в Бергене по бросовой цене. И если Вейдеман знает имя бергенского купца, забравшего товар у голландцев, пусть назовет его. Он обязан сделать это, даже рискуя жизнью, даже если в дело замешаны его друзья или родичи. Завтра, быть может, будет слишком поздно! Два трупа с этой шхуны уже лежат в водах фьорда. У меня на руках грудные младенцы. Вообще-то они здоровы. Но холера не разбирает, чьи они дети — богачей или бедняков! Боже упаси нас от этого несчастья! Убраться бы подальше от города, пока здесь снова станет безопасно!
Никто не проронил ни слова. Все только смотрели на Сару, которая в их глазах превратилась в предсказательницу, в Норну[43]. И еще Сара добавила:
— Нынче с этой посудины продавали голландское сукно, так что кое-какой товар уже попал в город. — Сара еще сильнее выпрямилась и прошла мимо купцов.
Но, как известно, толстобрюхий Вейдеман вовсе не был нерешительным человеком. Одним прыжком перескочил он через балюстраду в стиле рококо и вцепился в Сару. А на пристани замелькали высокие черные цилиндры, торопившиеся домой, к своим вешалкам. В городе — холера!
Вейдеман стоял, продолжая держать Сару за руку. Она сделала реверанс и казалась столь кроткой и почтительной, что Вейдеман решил: она издевается над ним. Он смерил ее таким взглядом, что Сара испугалась. Ей никогда не доводилось видеть Вейдемана в таком истерическом состоянии, даже после празднования его серебряной свадьбы, когда он совершенно упился.
— Стой, девка! — закричал Вейдеман, потрепав кареглазую кормилицу по щеке. — После обеда возьмешь каюту на пароходе и отправишься в Салхюс. Да смотри во всем слушайся Даниельсена. В Салхюсе переночуй у Юнаса из Бреккена. Да держись в стороне от народа. А на следующий день отправишься дальше на барже. Не возражай мне! Фру и остальные дети поедут вместе с тобой, потому что нынче мы отменяем празднование рождества на улице Страннгатен, даже если весь город оскорбится. Будь она промята, эта шхуна!
Сара, прижавшись щекой к личику малютки — любимца Вейдемана, сказала:
— Будь добр, милый Вейдеман, дай мне с собою какую-нибудь бумагу, чтобы заткнуть глотку крючкотвору поверенному. А за это я буду долго служить тебе не за страх, а за совесть. То же самое советовал сделать и старший лекарь Даниельсен.
С минуту Вейдеман смотрел в ее полные решимости глаза. Потом он понял, что это — ультиматум. Но, чтобы о нем не судачили в городе, он быстро повернулся и сказал так громко, что все люди на набережной услыхали его слова:
— Я заплачу поверенному! Я спасу твою усадьбу! А теперь пошли! Живо!
На следующий день (Саре не удалось тронуться в путь сразу же после обеда, потому что фру Вейдеман понадобилось взять с собой много вещей) их отвезли на пароходе в Салхюс. И у Сары были с собой бумаги и еще доверенность.
Когда они уехали, помощник старшего лекаря Даниельсена рассказал, что команда шхуны болела вовсе не холерой, а краснухой.
Проклятия Вейдемана смолкли лишь в тот день, когда Сара вернулась обратно. Тогда приостановился поток трехнедельной утонченной ругани по адресу кормилицы по имени Сара, которой купец грозил увольнением и всяческими унижениями на глазах у посторонних. Ох, как он обрадовался! Рождество это было невыносимо скучное, еще невыносимее — скверный грог. И самым невыносимым была старость, которая сильно давала себя знать. Короче говоря, Вейдеман был очень возбужден! Но новость, привезенная Сарой, сразу же заткнула его пасть, обросшую пышной бородой. Кормилица сообщила ему, что к северу от Сюля появился огромный косяк сельди и что ей, Саре, кормилице в доме именитого купца Вейдемана, удалось уговорить шкипера баржи сделать большой крюк, чтобы сообщить об этом рыбакам Вейдемана. Пока еще никто эту новость не проведал.
— А много ее было? — на этот раз учтиво спросил повелитель Сары. Ему было известно, что кормилица знала толк в сельди, хотя была родом из Йольстера.
— Станг-фьорд битком набит сельдью и твои люди придут туда первыми. Но этот улов будет слишком велик, тебе с ним не справиться. Пригласи кого-нибудь из купцов, у кого тоже есть такой промысел. Дело не терпит!
— Ко всем прочим достоинствам, ты и в делах разбираешься. Жаль, что ты родилась не в богатстве, а в бедности. Ну, теперь хватит комплиментов! И пусть каждый знает свое место — и господа и слуги. Слава богу, все эти рождественские увеселения позади. И еще тебе совет, Сара… Не смей предсказывать холеру, когда речь идет всего-навсего о краснухе. Один раз прощается. Два — это уже слишком. Так что баста!
Сара не ответила ему ни слова. Она радовалась, что отвоевала родную усадьбу. Радовалась она и воспоминаниям о мягкой широкой соломенной постели в Йольстере. Ведь они с мужем так молоды, а встретятся, видно, еще не скоро. Теперь она, по крайней мере, сможет жить воспоминаниями.
Сара и в самом деле прожила в городе еще свыше двадцати лет и стала совершенно своим человеком в доме Вейдемана. Она была всему дому голова.
Но воспоминание о рождественской поездке никогда не изгладилось из ее памяти. С годами оно становилось всё более и более прекрасным. Правда, Сара никогда больше не бывала в Йольстере, а муж ее никогда не приезжал в Берген. Но их сыну досталась усадьба, свободная от долгов. Он не знал свою мать и никогда о ней не думал.
Композитор или торговец омарами?
Рассказ о том, как была решена судьба маленького Эдварда Грига
(Перевод Ф. Золотаревской)
В доме торговца омарами Александра Грига шли последние приготовления к приему гостей. Ожидали приезда Большого Уле. Из погребов доставали выдержанные тонкие вина, блюда наполняли самыми изысканными деликатесами европейской кухни. Всемирно известный скрипач, должно быть, очень разборчив в еде.
Александр Григ казался немного встревоженным. Тревога его была вызвана именно предстоящим визитом знаменитого земляка Уле Булля[44]. Григ подозревал, что его обожаемая жена, эта прелестная и талантливая скромница, что-то такое затевает. Ах, она, верно, всё еще не может позабыть свои мечты об искусстве, хотя никогда об этом не заговаривает. Да, немногого она достигла! А ведь когда-то ее концерты в филармонии снискали ей громкий успех. Все были очарованы ее игрой на фортепьяно. Она, видно, раскаивается в том, что стала женой обыкновенного купца.
Купец Григ, стоя перед зеркалом, тяжело вздохнул и быстро завершил свой туалет.
— Да, да, да! — пробормотал он. — Но всё же, когда наступает засуха, то скучный водоем оказывается надежнее самого веселого ручейка. Ни за что не допущу, чтобы маленький Эдвард пустился странствовать по пустыне, именуемой искусством… Нет, он будет, так же как и я, торговцем омарами! Не правда ли?
Изображение в зеркале кивнуло ему в ответ. А купец продолжал еще более горячо:
— Нет, разрази меня гром, ежели мой Эдвард станет музыкантом и будет терпеть нужду, лишения и невзгоды, которые всегда сопутствуют судьбе этой братии. Верно?
Изображение в зеркале снова энергично кивнуло.
Купец Григ отвернулся к окну, взял понюшку табаку и задумчиво погладил себя по подбородку. Нет сомнения, что у жены его с этим вечером связаны какие-то планы. Она хочет, чтобы Уле Булль познакомился с мальчиком и послушал его игру на фортепьяно. Но, слава богу, чутье преуспевающего купца и на этот раз не подвело хозяина дома. Он предусмотрительно пригласил в гости ядовитого шутника и острослова Юхума Прома, который заранее был посвящен в суть дела. Ему-то и надлежит ринуться в бой за судьбу маленького Эдварда. Но в гостиной, как будто, уже собираются гости? Хозяину показалось, что он слышит скрипучий голос Юхума. Да, так оно и есть. А затем раздалась отрывистая речь этого неугомонного англичанина, который всюду сует свой нос и непременно хочет везде побывать — то карабкается в горы, то мчится во весь дух с откоса и, основательно разбившись, всё-таки незамедлительно отправляется ловить форель.
Александр Григ поспешил вниз. Теперь Юхуму предстоит затеять спор с Уле Буллем и раззадорить его до такой степени, чтобы тот позабыл и о мальчике и о хозяйке дома, этой очаровательной маленькой интриганке. О, за это Григ готов даже простить Юхуму его мошенническую проделку с рыбой прошлой осенью!
Не успел хозяин дома войти в гостиную, как сразу почуял опасность. Жена с мальчиком уселась около самого рояля! Итак, бастионы готовы к бою… Маленький Эдвард заметно нервничал из-за того, что находится в одной комнате со своим божеством Уле Буллем. Фру Григ улыбаясь беседовала со старой болтливой тетушкой. Но сегодня изящная фигурка жены выражала упрямство и вызов. Муж невольно улыбнулся. Вот уж поистине напряженный момент. Он пробормотал: «Что ж, посмотрим!» — и принялся обходить гостей, громко провозглашая: «Добро пожаловать!»
Уле Булль уже развлекал гостей разговором и, кажется, отлично чувствовал себя в роли хозяина дома. Его оглушительный хохот сотрясал медные блюда на стенах. Они звенели, словно колокола, предвещая борьбу не на жизнь, а на смерть. Похоже, что так оно и есть.
— Ты уже выработал какой-нибудь план? — тихо и взволнованно спросил Григ Юхума, наклонясь к нему.
— Этого я бы не сказал, — сухо ответил Пром. — Однако долговязый скрипачишка уже начинает меня раздражать. Он и слова не дает вставить в разговор! Такого со мной еще в жизни никогда не бывало. Но ты сделал бы доброе дело, если б спас меня от этого дурня-англичанина с его записной книжкой. А вот и он, легок на помине! Помилуй меня, боже! Если он еще хоть раз скажет мне «господин директор», я просто лопну от злости, ей-ей!
Жизнерадостный субъект в платье английского покроя алчно набросился на достопочтенного купца Юхума Прома: в одной руке он держал карандаш, словно фехтовальщик шпагу, а в другой — объемистую записную книжку. Англичанин нацелился острием карандаша в тощую грудь Юхума.
— Много ли дождей выпадает летом в Бергене, господин директор? — спросил он, держа наготове записную книжку. — Что вы об этом думаете, господин директор?
С минуту Пром шевелил губами, а затем ответил тем вкрадчивым голосом, которого особенно боялись его друзья на бирже:
— Да уж измеряем мы, можно сказать, с большой точностью. Вот однажды так за день целую бочку нахлестало. Она стоит у меня в саду, господин Сэссекс. Так, кажется, вас зовут?
— Don’t matter[45], — ответил англичанин и принялся усердно записывать что-то в свой блокнот. — Целую бочку!
— Ей-богу, всё это чистая правда! — сказал Пром с ангельским выражением лица. — Запишите хорошенько. Пусть почитают об этом в Лондоне… А вот один бергенский весельчак, который клялся, что отродясь не говорил ни единого слова неправды, рассказывал мне такую историю: давным-давно, когда на свете еще и зонтиков-то не было, на небе появлялось три, а то и четыре радуги зараз. А по большим праздникам так даже пять!
— That’s impossible, — сказал англичанин, опуская записную книжку. — Это совершенно невозможно, господин директор.
— Да, пожалуй, — согласился Пром. — А когда все радуги соединялись, то с неба лил красный, синий и зеленый дождь. Это, знаете, даже бергенцам показалось в диковинку. Чудеса, да и только! Пропечатайте об этом в своей книге.
— Непременно, господин директор! — воскликнул англичанин, продолжая усердно записывать.
— А вы знаете, ведь у нас есть еще два вида дождя: большая изморось да малая изморось, — сказал Пром.
— И какая же между ними разница?
— Да вот такая, что при большой измороси человек быстрее промокает и схватывает простуду, — авторитетно заявил Пром. — В Бергене простуду схватывает больше людей, чем на всем белом свете. А вас она не мучит?
— О нет, нет, господин директор!
Юхум Пром шумно вздохнул, закатил глаза и только после этого снова обрел душевное равновесие.
— Я не директор, я купец! — сказал он.
Как раз в это время к ним подошел Александр Григ и, расточая любезности, увел англичанина с собою. Молниеносный взгляд Грига Пром воспринял как отчаянный сигнал тревоги. Он обернулся, и его чуть не хватил удар. Долговязый Уле оживленно беседовал с фру Григ, а рука хозяйки дома уже тянулась к нотам, лежавшим на рояле. Это были композиции маленького Эдварда. Готовясь ринуться в бой, Пром выпрямился, поправил шейный платок и, приблизившись к Уле, ткнул его в бок пальцем.
Уле Булль повернулся к Прому, и рука фру Григ, готовая взять ноты, осталась лежать на крышке рояля.
— Здравствуй, здравствуй, дорогой друг! — сердечно проговорил король скрипки.
— Спасибо на добром слове, — холодно ответил Пром. — Долго же ты на сей раз околачивался в чужих землях.
— Да, — сказал Уле Булль, возвысив голос, — но поездка моя была сплошным праздником. Это было нечто незабываемое.
— Уж ты мастер расписывать! — насмешливо сказал Пром.
Уле Булль разразился хохотом, от которого гости похолодели.
— Наконец-то я слышу недоброе шипение своих земляков, — сказал он весело. — Ах, эта благословенная бергенская злость, как мне ее недоставало! В ней есть что-то приятное для меня. Странствуя по свету, я совсем забыл, как душен и тесен мирок, в котором живут наши бергенские сплетники, и меня, словно раненое животное, потянуло к родным местам. Люди искусства всегда чувствительнее, чем обыкновенные смертные.
Он резко повернулся к фру Григ:
— Покажите-ка мне сочинения мальчика.
Но Пром опередил его.
— Верно, дорогой Уле! — громко сказал он. — Видишь, теперь для тебя наш город и тесен и мал. А что ожидало бы тебя, ежели бы ты не прославился, а остался обыкновенным музыкантом? Нужда, убожество: скиллинг там, скиллинг здесь… Вот ты купаешься в славе да золоте, а можешь ли ты гарантировать хотя бы кусок хлеба тем, кто пойдет по твоей дорожке? Да и потом, дано ли тебе решать, выйдет из человека музыкант или нет, и вмешиваться в его судьбу, не разобравшись в сути дела?
Уле Булль задумался.
— В твоих словах есть доля правды, — неуверенно проговорил он.
Фру Григ хотела что-то сказать, но Пром не дал ей вставить ни слова. Он решительно продолжал:
— Вес в обществе, солидная фирма, чутье коммерсанта — вот о чем должны мечтать бергенцы. Ты думаешь, у всех такая здоровая глотка, как у тебя? А ведь без нее музыканту так же не обойтись, как купцу или маклеру.
— Нет, милый друг! — запальчиво возразил Булль. — Музыкант пробивает себе дорогу не глоткой и не локтями, а своим талантом, своим искусством!
— Да ну! — ядовито сказал Пром. — А не тебе ли пришлось драться зубами и ногтями, когда дела твои шли как нельзя хуже? А скажи, что станется со скромным и слабосильным бергенцем, ежели его то и дело станут обмеривать да обвешивать на жизненном пути?
Знаменитый музыкант улыбнулся этой купеческой метафоре и украдкой взглянул на хрупкого мальчика с задумчивым, отсутствующим взглядом.
Он снова обратился к Прому:
— Ты большой шутник, дядюшка Юхум, но то, о чем ты говоришь, отчасти верно.
— Отчасти? — вскричал Пром. — Нет, не отчасти, а всё как есть чистая правда! Да вот у нас в городе, разве мало отличных музыкантов? А ведь кормятся-то нашими подачками!
— Это не их вина! — взорвался Уле, совершенно забыв о фру Григ и маленьком Эдварде. — Позор городу, где музыканты вынуждены бедствовать!
— Позор? — негодующе воскликнул Пром, увлекая Уле Булля в угол, подальше от рояля. — Никакого позора! Тем, кто уже прославился, мы оказываем почет и поминаем их в торжественных речах. А до остальной голытьбы нам дела нет.
Александру Григу, который тайком наблюдал за женой, показалось, что друг его немного переборщил. У хозяйки дома был удрученный вид, а мальчик нервно сжимал кулаки. Но всё-таки купец был доволен, что его собственные доводы звучат столь убедительно и в устах Прома.
Фру Григ решительно направилась к Уле. Она видела, что многие из гостей готовы наброситься на своего знаменитого земляка с расспросами и разговорами, как только Пром отпустит его. А ведь завтра Уле уедет, и бог знает, когда снова вернется в Берген.
Пром заметил ее. Он стал еще красноречивее говорить об исполненной лишений судьбе музыкантов. В конце концов он сказал:
— Здесь, в Норвегии, мы держим музыкантов в черном теле, пока они не прославятся на весь мир. Стало быть, им надо иметь железное здоровье, чтобы вынести это. Помни, Уле, какую ты берешь на себя ответственность, увлекая кого-нибудь на этот путь.
Уле Булля всего передернуло, и он сердито ответил:
— У тебя вместо сердца приходо-расходная книга!
— Да, уж я знаю разницу между дебетом и кредитом, — сказал Пром. — А вот ты-то не знаешь. И я не на последнем счету в городе.
— Ну, а мое имя с уважением произносят во всем мире! — гордо сказал Уле Булль.
— Это ни к чему, если его не произносят с уважением в банке!
— О ты, прозаический Берген! — сказал Булль. Только и разговору, что о деньгах.
Пром покачал головой.
— Ты поражаешь меня, Уле. Неужто ты забыл своих земляков? Разве ты не знаешь, что бергенцы держат деньги в банке, а поэзию — в ящике стола?
Уле Булль рассмеялся. Он положил руку на плечо купца Прома и добродушно сказал:
— Ты, как всегда, прав, дорогой друг. Это я, видно, сошел с ума.
— Ну вот с этим согласен! — без обиняков ответил Пром.
— Нет уж, не мне решать чью-либо судьбу в этом городе здравомыслящих торгашей.
Пром гордо кивнул. Уж теперь-то Александр Григ отблагодарит его! Но для верности он еще добавил тихо:
— И не забивай своими фантазиями голову маленького Эдварда. Из него выйдет дельный конторщик!
— Быть может, ты и прав, — задумчиво ответил Уле.
В это время до их слуха донеслись слабые звуки рояля. Уле насторожился. Рояль звучал всё громче. Прозрачная нежная мелодия заполнила гостиную. Наивностью и чистотой повеяло от этой музыки. Уле Булль вмиг оказался в ее власти. Он совершенно позабыл о своем споре с Промом.
Маленький Эдвард играл свои сочинения и свои вариации на тему Моцарта. Уле Булль медленно подошел к роялю и встал у мальчика за спиной. Все гости расступились. И когда Эдвард кончил играть, знаменитый скрипач бережно взял ноты и стал перелистывать их. Затем он обернулся и поглядел на окружающих так, словно видел их впервые.
— Кто сказал, что маленький Эдвард должен стать конторщиком? — загремел он, и медные блюда на стенах дружным хором ответили ему.
— Не я! — быстро ответил Пром, который славился среди купцов своим уменьем предвидеть поворот событий.
— Мальчик будет композитором! — решительно сказал Уле Булль. — И не возражайте мне. Он прославит родной город, и его имя будет звучать во всех торжественных речах!
Маленький Эдвард стал композитором. И кто знает, может быть, не случись этого события и не прозвучи его сочинения однажды на званом вечере в родном доме, он действительно сделался бы «дельным конторщиком», потому что торговцем омарами он уже не стал бы наверняка.
Чековая книжка и любовь
(Перевод Л. Брауде)
Юхум увидел ее впервые в субботний вечер на холме Санктхансхойген. Там были танцы, костры, пирожницы, а от веселья дым шел коромыслом. Она стояла возле самой площадки, и казалось, что всё ее прекрасное тело дрожит от желания пуститься в пляс. Она притопывала в такт музыке. Но каждый раз, стоило кому-нибудь приблизиться и пригласить ее танцевать, она удрученно мотала головой и отказывала, глядя на мать. Та стояла тут же рядом, гордо задрав тройной подбородок. Верхний этаж ее тела, утопавший в жиру, был крепко перетянут. Глаза смотрели весьма настороженно, а на лбу залегли глубокие морщины.
— Ты не вздумай вертеться здесь, милая моя Ане, — время от времени повторяла она. — Ты слишком хороша для этих мужланов. Чего только я не делала в свое время, чтобы выбиться в люди! И ни в коем случае не верь кавалерам, с которыми встречаешься на танцах. Я-то знаю, о чем говорю! Хотя твоего отца я как раз здесь и встретила, но он сдержал свое слово. Нынче таких уж больше нет. Молодежь теперь вконец испорчена. А все обещания мужчин — один обман, поверь мне, доченька. Кто-кто, а я знаю их с молодых лет!
Юхум покрутился возле них. Девушки красивее и нарядней Ане он в жизни не встречал. Нынче вечером — или она, или никто! Вдруг ему в голову пришла счастливая мысль. Он подошел к палатке, где продавались пирожные, и сказал Петрине-пирожнице:
— Послушай-ка, Петрине, хочешь оказать мне услугу потехи ради? А?
Немного погодя к толстухе подошла Петрине и сказала, что у той из-под платья торчит нижняя юбка. После чего фру, сразу же утратив свой горделивый вид, побежала в кусты, чтобы привести себя в порядок.
Тут рядом с девушкой откуда ни возьмись, словно из-под земли, вырос Юхум. Он отвесил ей самый изысканный поклон, а когда выпрямился, Ане увидела стройного и статного юношу с развевающимися волосами. Юхум отлично умел кланяться. Немало времени он потратил, чтобы выучиться этому.
— Я не знаю, можно ли мне, — сказала она, закусив губу.
— Зато я знаю, — ответил Юхум с улыбкой фавна, беря ее за руку и выводя прямо на танцевальную площадку. — Меня зовут Юхум Хиириксен, — добавил он, обхватив рукою ее стан. От одного этого прикосновения его сразу бросило в жар. — А как тебя зовут?
— Меня зовут всего-навсего Ане Клойсен, — робко ответила девушка, опустив из скромности свои огромные голубые глаза.
Не успела Ане опомниться, как уже была в кругу танцующих. А тут она позабыла и о матери и о позднем времени, потому что танцы были для нее совершенно непривычным праздником. Ей ведь никогда не разрешали водиться с простонародьем. До «благородных» же она не дотянулась, и поэтому, при всей своей цветущей красоте и молодости, девушка продолжала оставаться комнатным растением. Теперь она забыла все наставления матери и так кружилась в танце, что шелестевшие юбки веером разлетались вокруг нее. А Юхум ухитрялся танцевать так, что стоило толстой матроне в поисках дочери проплыть с одной стороны площадки, как он и Ане, надежно укрытые плотной массой танцующих, танцевали уже совсем в другой стороне. Под конец фру с развевающимися лентами шляпки скрылась где-то в поле, чтобы взглянуть, не отправилась ли Ане домой. А Юхум и Ане увидели ее лишь в тот момент, когда она вынырнула у проезжей дороги. Но тут снова заиграла музыка.
Несколько минут спустя Ане меланхолически сказала:
— Ну, теперь уже слишком поздно просить прощения. Скоро все костры погаснут. Господи помилуй, что я скажу дома?
— Хорошо бы мне зайти к вам и с самым невинным видом наврать с три короба, — сказал Юхум, когда они шли полем. — Но ты, пожалуй, не осмелишься привести меня в дом?
— Матери-то бояться нечего, — задумчиво ответила Ане, весьма решительно, хотя и не очень строго, отстраняя его от себя локотком. — Она так влюблена во всех благородных! А отец одинаково груб со всеми, будь они благородные или простые… И потом, нечего обнимать меня за талию. Я вовсе не нуждаюсь, чтобы ты меня поддерживал. Я достаточно твердо держусь на ногах. Убирайся! Я этого терпеть не могу.
— А вот и врешь, Ане! — пылко воскликнул Юхум. — Я так влюбился в тебя, что у меня вовсе нет надобности врать. Я мог бы сложить песню о своей любви. Расскажи-ка мне, как у тебя устроено в спаленке? Поди, обои у тебя белые, с позолотой и мелкими цветочками?
— Ты уже, верно, не раз говорил это другим девушкам, — сухо сказала Ане, спрыгнув с пригорка и нечаянно толкнув Юхума. Тот чуть не клюнул носом землю.
— Я скажу, что встретила Янну и была с ней, а потом мы всё время искали матушку. Ну, прощай!
— Да, здорово ты умеешь врать, куда лучше меня, — сказал Юхум. — Не очень-то можно тебе верить. Тебе, поди, и в любви нельзя верить. Ну-ка, скажи?
Он еще сильнее обхватил ее за талию.
— Ты говоришь так честно и благородно, — колеблясь ответила Ане, всем своим видом показывая, что не боится его губ, угрожающе приблизившихся к ее алому ротику, и его крепких объятий, — а я слыхала, что на молодчиков, вроде тебя, нельзя полагаться. Такие только и шляются на холм Санктхансхойген, чтобы вовлечь в беду девушек.
— Теперь уж ты на меня наговариваешь, — сказал Юхум.
— Я ведь не говорила, что это ты такой, — кротко сказала Ане, сильным движением отстраняясь от его губ. — Теперь ты себя выдал! Берегись! Пошли лучше! Осторожнее, не то еще ткнешься носом… так, ты всё-таки упал, споткнулся о камень. Эх, жалко твою лиловую куртку. Утри хорошенько нос! Да нет, теперь ты еще больше размазал грязь. Дай, я помогу тебе!
Она вытащила носовой платок и хорошенько утерла ему лицо. Это заняло не много времени.
Войдя в лесок, Юхум, снова обняв ее за талию, сказал:
— Ане, ты была права в том, что говорила на холме. Я и вправду искал шикарную девушку. Но потом я увидел тебя, и теперь уж я никогда в жизни на других женщин и не посмотрю! Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я всё-таки скажу тебе… хочешь — слушай, хочешь — не слушай… Милее тебя нет девушки во всем городе Бергене, не говоря уж о каком-то там Бордо или Лиссабоне, потому что я побывал всюду, когда продавал вяленую рыбу и ворвань для моего старика. Клянусь тебе возле этого межевого камня, что ты станешь моей женой, даже если мой или твой отец воспротивятся этому! И я скреплю свою клятву священным поцелуем.
Ане с удовольствием принимала его горячие поцелуи, но вдруг высвободилась из его объятий и отвесила ему звонкую оплеуху, а потом стала таскать его за волосы.
— Как ты смеешь, бездельник! — завизжала она. — Я тебя научу обращению с порядочными девушками! Я тебе надаю пощечин, подлый красавчик!
С этими словами она бросилась ему на шею и заревела.
— Я не могу держаться как полагается порядочной девушке, — молвила она. — А виною все эти мысли о женихах, которые одолевают меня по ночам в мансарде. Они-то и кружат мне голову, как какой-нибудь дурочке. Плохо нам приходится, и не мне одной, а всем нам, девушкам! А теперь уходи от греха подальше!
И вдруг она принялась хохотать. Юхум, который не знал, что и делать, поневоле стал смеяться вместе с нею. «Чего она то плачет, то смеется, этакая дурочка?» Он перестал смеяться и сказал:
— Теперь мы всё равно что помолвлены. Я пойду домой и сложу песню об этом, хорошую песню. Дай, погляжу тебе в глаза.
Она позволила ему… Но, когда они приблизились к ее дому, Ане совершенно трезво спросила:
— Как ты думаешь, продлится наша любовь до завтрашнего вечера? Сдается мне, что я тебя больше никогда не увижу, потому что между нами ничего не может быть. Ведь все знают, какой чванливый у тебя отец, не говоря уж о твоей матери. Я не хочу влюбляться в тебя по уши. Нечего тебе стоять тут и ухмыляться!
— Завтра я появлюсь снова, и тогда войду в дом, чтобы поговорить с твоим отцом, — решительно заявил Юхум.
— Посмотрим, — печально сказала Ане. — Ну, а потом что? Что дальше? Не хочу больше ни видеть, ни слышать тебя! И не держи меня так крепко. Мне нечем дышать!
— Я тебе подышу! — заорал кузнец Клойсен, неожиданно, точно чертик из коробочки, высунув из кустарника голову. Усы его топорщились, и он размахивал огромными руками, похожими на крылья мельницы с холма Санкт-хансхойген. Ане закричала. Юхум побледнел, но держался стойко.
Кузнец Клойсен выбрался из кустов, уперся руками в бока и поглядел на Юхума, который вовсе не струсил.
— Вот как? — снова заорал кузнец. — Так значит, благородный господин собирается прийти ко мне в дом, нагородить мне всякого вздору и набросать в горн всякого вранья, приправив его фальшью и подлостью? Он будет шляться по всему городу в обнимку с моей дочерью и строить посмешище из меня и всей моей семьи? А? Складывать песни, а по вечерам — обниматься?! Нет, батюшка, не на такого напал! Чертов кум! Кузнец Клойсен положит этому конец! Если ты не уберешься отсюда сейчас же, то я покажу тебе, что это Клойс Клойсен, Клойс-кузнец разбил в Буэносе череп великану аргентинцу, самому сильному мужчине во всех пампасах. А теперь убирайся, спасибо, прощай, и точка. Конец!
Ане плакала, закрыв лицо руками. Но, тем не менее, ясными и любопытными глазами она украдкой сквозь пальцы подсматривала, что будет делать Юхум. Он был бледен. Губки ее уже сложились в презрительную гримасу, но тут Юхум внезапно набрался храбрости, сделал шаг вперед (Ане тотчас же отметила это про себя) и сказал твердым голосом:
— Быть может, вы и уничтожили аргентинца, кузнец Клойс Клойсен. Но вам не удастся уничтожить любовь между мною и Ане. Я говорю это совершенно определенно. Спокойной ночи, милая Ане, и перестань хныкать! А с вами, господин Клойсен, я побеседую завтра утром, когда вы будете посговорчивее. Потому что сейчас вы так злы, что вот-вот лопнете.
— Я расскажу о твоих проделках старому Хинриксену. Увидим, как у него глаза на лоб полезут! — заорал кузнец Клойсен.
С этими словами он вместе с Ане вошел в дом и громко захлопнул за собой дверь. Все подмастерья на чердаке повскакали, думая, что палят пушки во Фредриксбергской крепости[46].
— Ты никогда больше не увидишь этого вертопраха, — сказал Клойсен. — Слышишь, Ане?
И девушка покорно ответила:
— Я больше даже и не посмотрю никогда в его сторону!
— Я полагаю, что это будет пристойнее всего, — сказал Клойсен. — Я-то тоже был молод. Но смотри, если я замечу какие-нибудь глупости, то ты немедленно отправишься к Малене в Сённ-фьорд, не будь я Клойс Клойсен, Клойс-кузнец! Отправляйся в свою спальню, и если я не услышу, что ты улеглась, то я кулаками выбью из тебя всякие там мечтанья.
— Я тебя не понимаю, — молвила фру Клойсен, когда муж вошел в спальню: — то ты присматриваешь ей подходящего женишка, то отваживаешь хорошего парня.
— Не мешай мне, сердито сказал Клойсен, — я вовсе не передумал выдать Ане замуж и не хуже тебя разбираюсь во всех этих делах. Я ничего никогда не говорю и не делаю зря.
На другой день Ане отправилась в горные луга собирать можжевеловые ягоды для рождественского пива. И там, как было договорено вчера по дороге, уже поджидал ее Юхум.
— Садись-ка сюда, — сказал он. — Хотя нет, тут грязно. По-моему, всего удобней и приличней тебе сидеть у меня на коленях.
— Видно так, — огорченно сказала Ане, поудобнее устраиваясь у него на коленях и обнимая его за шею. — Иначе никак не выходит. Кабы ты был подмастерьем кузнеца из семьи с хорошим достатком, а еще лучше — имел собственную кузницу, ты бы мог заходить к нам, когда захочешь, и складывать песни. И нам бы разрешили гулять вдвоем, если бы, конечно, мы не делали глупостей.
— Улыбнись, Ане, милая! — сказал Юхум. — У тебя такие хорошенькие белые зубки и такие красивые красные губки! А сама ты такая ладная, крепкая и сильная, что просто диво. Так приятно держать тебя на коленях!
— Так, так, — немного погодя сказала Ане. — Знай во всем меру. Тебе, небось, ясно, дружок Юхум, что уж если я по-настоящему влюблюсь в тебя, то мне не захочется долго тянуть волынку. Уж лучше я буду сидеть дома и плакать от скуки и девичьей тоски. А теперь хватит целоваться. Я не люблю накидываться на еду сразу. Мне надобно сначала разобраться, хорошо ли она приготовлена.
Юхум возвращался домой, нахмурив лоб. Поведение Ане было ему непонятно. Тут надо как следует пораскинуть умом. Ему скоро опять уходить в море, а он так ничего и не придумал. А ведь еще никогда в жизни ни одна девушка так не волновала его, как Ане. Хорошо, что никто из парней не позарился на это сокровище.
На другой день, когда кузнец Клойсен сидел за ужином, к нему явился гость.
— Чего тебе надо? — заорал Клойсен. — Ступай к себе наверх, Ане!
— Я пришел повидать мать Ане и вас, кузнец Клойсен, — смело сказал Юхум. — И вовсе я не вертопрах, как вы полагаете, кузнец Клойсен.
Фру поднялась и сделала реверанс.
— Ну и счастье привалило нашей Ане, — сказала она, стараясь выражаться, как благородная дама. — Я знакома с вашей матушкой, мусье, потому что я служила в доме ее батюшки, покуда он не разорился и не покончил с собой из-за того, что не мог выплатить все долги. Молчи, отец Клойсен, теперь говорю я. Ты ведь ничего не смыслишь в сердечных делах. Такие вещи ведь никак не расплющить молотом на твоей наковальне. Молчи, я сказала! Ты не должен мешать счастью Ане из-за каких-то там своих причуд. Она — моя дочь гораздо больше, чем твоя. Я потратила на нее девять месяцев, а ты… гм…
Клойсен ударил кулаком по столу:
— Я скажу тебе одно, мать. Сейчас же выдвори этого благородного зятька, да поживее, а не то я вышвырну его в окошко. Почему не пришел ко мне его отец, а? Почему всё не как положено по обычаю, а? Чертов маятник, ты верно и не говорил со своим чванливым отцом, а?
— Я поговорю с ним при первой же возможности, — смело сказал Юхум, — но сейчас он и я очень заняты.
— Я это вижу, — с угрожающей кротостью сказал Клойсен, — зато у тебя есть время бегать по холмам и слоняться вокруг моего дома. Почему ты воешь, девчонка? — закричал Клойсен на Ане. — Должен же я приглядывать за собственной дочерью, раз она сама не умеет соблюдать себя, а? Ступай к себе наверх, да поживее. Вот так.
— Я ухожу, — сказал Юхум, — но я приду снова. До свиданья, Ане. Помни, я так же надежен, как вершина Ульриккена[47].
Но в глубине души он решил, что, пожалуй, придется ему распрощаться со своими мечтами.
Раздумывая об этом, Юхум отворил дверь. И вдруг кузнец Клойсен стал кричать на прощанье:
— Вершина Ульриккена изменчива! На солнышке-то горит, как медная маковка, а глядишь — уж закутана туманом по самые уши, да так, что даже затылка не видно. Пошел вон, юбочник! Отправляйся к этому брюзге, отцу своему. Ему, знатному господину, ведь не пристало водиться с нами. Ха-ха-ха! Я-то побогаче его! Да и старого Стюрка, которому тебя прочат в зятья, тоже. По достатку я никому не уступлю в этом городе! Здесь всё мое — и точильня, и кузница, и усадьба, и земля, и новый бот, и верфь по ту сторону фьорда. Всё это принадлежит Клойсу Клойсену, Клойсу-кузнецу. Всё это мое, и никто тут не может равняться со мной! Усадьба в Ланнусе тоже моя! А когда братья мои помрут, то и усадьба и их кожевенная мастерская тоже будут мои! А теперь вон из моего дома, убирайся, покуда цел, а не то я тебя убью и пошлю твой труп домой по почте!
Юхум быстро закрыл дверь, потому что как раз в эту минуту кузнец двинулся на него. Домой он шел в глубоком раздумье, а его любовь к красавице Ане становилась всё более пылкой, по мере того как он приближался к дому, и тем более глубокой, чем больше он думал о ее приданом. По пути ему встретился шкипер Вулф, который знал всё досконально о судах, верфях, кузницах и о многом другом. Юхуму было доподлинно известно, что шкипер терпеть не мог Стюрка. И Вулф клюнул на эту наживу. Шкипер поведал ему множество подробностей о Стюрке, уже больше не интересовавшем Юхума, и о кузнеце: этот чванливый мужлан загребал всё подряд грубой своей лапищей, однако он здорово умел скрывать свое чванство и честолюбие! Таково было мнение шкипера Вулфа. Клойсен был действительно очень богат!..
Купец Хинриксен смотрел на сына, сидевшего напротив него за столом. Он смотрел на него всё время, пока Юхум изливал свою душу; купец Хинриксен не произносил ни слова, не краснел, не бледнел и не ударял кулаком по столу. Только когда Юхум окончил свой рассказ, он медленно повернулся к жене и тихо сказал:
— Ну, на этот раз сынок твой ошалел всерьез. Это он в тебя уродился, так что тебе придется позаботиться о местечке для него где-нибудь подальше. Потому что дома он больше не понадобится. Скажи ему, что я уже всё равно что сговорился о нем и о Софи с купцом Стюрком. И еще можешь сказать твоему сынку-дуралею следующее: я никогда не отступлюсь от своего слова. Я человек порядочный и ценю честность и порядочность так же высоко, как и религию. Хочет он жениться на простой девке без денег и положения — на здоровье, пожалуйста, но пусть тогда отправляется в горы, где ведьмы справляют шабаш, и остается там подольше. Не может быть в своем уме человек, который отказывается породниться со Стюрком, особенно теперь, когда у всех купцов так плохо идут дела. Я не хочу ни знать, ни видеть шалого сынка! Баста! А ты знаешь, сынок, что скажет вся купеческая знать в Брюггене? Ты что, хочешь уничтожить уважение ко всему нашему сословию? Уважение города и всей страны?
Но тут Хинриксен-младший стал перечислять все настоящие и будущие богатства кузнеца Клойсена. Юхум закончил свою речь словами:
— Добрых двести тысяч далеров при скромных личных тратах. Требования — совершенно незначительные, а других претензий, кроме желания удачно выдать дочку замуж, никаких. А разве мы не достаточно хороши для него?
Купец Хинриксен был поражен.
— Двести тысяч далеров, — простонал он, — да еще в такие времена! Нет, этот Стюрк всегда был ненадежной личностью! Неужто он думал, что надует нас, женив тебя на Софи и лишив этих двухсот тысяч? Разве я не говорил всегда, что этому человеку нельзя слишком доверять, а, мать?.. А девушка красива? — с любопытством спросил он.
— Какая-нибудь знаменитая артистка похожа на старую копну сена рядом с Ане, — торжественно молвил Юхум.
Он поклялся в душе, что эти двести тысяч никогда не попадут в лапы его старика.
— Ах, как всё это очаровательно и романтично, — вздохнула фру Хинриксен.
— Она станет украшением нашей семьи, — с гордостью произнес Юхум. — Струя свежей крови вольется в род Хинриксенов. А в этом, пожалуй, есть нужда! Наследственной красотой наша семья не слишком отличалась на протяжении последних поколений. Разумеется, за исключением меня!
Старый Хинриксен хотел было обрушить на сына поток ругани, но сдержался.
— Да, да, да, — великодушно заявил он. — Нам пора сдаваться, мы уже старики. Когда сердца встречаются в таком сильном и глубоком порыве, нет пользы противиться. Но дай-ка я сначала разберусь… В правдивости твоих сведений я, в сущности, не сомневаюсь… Если поразмыслить хорошенько…
Несколько дней спустя к кузнецу Клойсену пришли гости. И на этот раз он угостил их такой мадерой, которая привела в восторг старого Хинриксена. Такого превосходного вина не подавали даже у них в клубе. После второй бутылки оба старика стали лучшими друзьями…
Но когда гости ушли, а Ане, погруженная в мечты, сидела у окна и смотрела на Пюдде-фьорд, кузнец Клойсен сказал жене, предназначая свои слова для Ане:
— Видишь, как полезно навести этих молодцов на нужные мысли. Потому что я знаю: он выспрашивал Вулфа. Юхум понял, что я побогаче многих из его знакомых, и это мне в нем нравится. Главное, что он умеет уважать деньги. Он будет желанным человеком в нашей семье. И если у моей дочери такая умная голова, как я думаю, то она не допустит, чтобы ее одурманивали даже в дни медового месяца. Она не выпустит из своих крепких ручек деньги. И будет распоряжаться ими так же умело, как я, и никогда ничего не отпишет в семью Хинриксенов, как бы ее ни просили об этом ни супруг, ни свекор, ни все остальные. И на этом — аминь!
Фальшивая гиря
(Перевод Ф. Золотаревской)
Улицы постепенно затихали. Люди спешили по домам. В переулке, где жила Лина-знахарка, пахло дымом и рождественской сдобой. Морозная мгла окутывала вершину Ульриккена, озаряемую последними лучами зимнего солнца.
Лина сумерничала, покачиваясь в качалке. Она размышляла. Мимо ее окон веселой гурьбой пробежали из лавок мальчики рассыльные. Целый день развозили они по городу в салазках тяжелые корзины с хлебом, букеты цветов и колониальные товары. Теперь они торопились домой обогреться и дать отдых онемевшим от усталости рукам.
Лина-знахарка сердито столкнула с колен черного кота, — а то другие коты, чего доброго, станут ревновать и тоже запросятся к ней. Из всех углов комнаты фосфорическим блеском светились кошачьи глаза.
Как странно, что у Стюрка случился сердечный припадок именно в сочельник! А Лина как раз накануне достала у Мейстерконена сердечный эликсир. Это было не так-то легко. Ведь при болезни сердца эликсир этот — незаменимое снадобье!
Лина-знахарка подняла голову со спинки кресла и посмотрела в окно. В надвигающихся сумерках резко выделялись четкие контуры крыш. Скоро красное солнышко совсем скроется за горой Ульриккен, тогда знахарка сможет выйти из дому. Старый Стюрк пожелал, чтобы она пришла к нему тайком. Вот хитрый лис! Ему, видите ли, не хочется обижать докторов. И к тому же он не хочет, чтобы в его доме видели бывшую возлюбленную, с которой он познакомился когда-то в Иванову ночь.
Лина-знахарка сердито задернула занавески, уложила горшочки с отваром и мешочки с травами в большую корзину и вышла на улицу. Она с шумом захлопнула дверь. Пусть все слышат, что Лина ушла. Кошки будут охранять ее жилище от непрошеных гостей.
Лина быстро шла по узкому, извилистому переулку. Навстречу ей попалась группа ряженых. Это были мальчики; они несли огромную бумажную звезду. Трое мальчишек изображали королей. На них были бумажные короны и длинные белые покрывала с красными кушаками.
На кухне у Стюрка Марта, стоя у плиты, помешивала что-то в котелке. Старый Сиверт примостился на дровяном ящике. У стола сидела красавица Ане, дочь Стюрка и — к великому огорчению всех родственников — его единственная наследница. Ведь они были так уверены, что у Стюрка никогда не будет детей. Первый его брак был бездетным, вторая жена тоже долго не имела ребенка, но потом всё-таки родила дочь. Это случилось как раз в то самое время, когда кухарка Марта произвела на свет девочку, прижитую от какого-то штурмана. Говорили, что штурман этот потом куда-то исчез, а ребенок умер вскоре после рождения. Со стороны Стюрка было очень благородно оставить Марту у себя в доме, после того как с ней приключился этот грех, долго служивший пищей для пересудов во всем городе.
С улицы послышался громкий стук, и все вздрогнули. Ане быстро подошла к дверям, открыла их и в страхе отшатнулась. У дверей стояла страшная ведьма. Глаза холодные, лицо зловещее. Лина-знахарка превосходно играла свою роль. На гостью падали отблески пылавшего в очаге огня, и это придавало ее фигуре еще большую таинственность. Марта раздраженно сжала губы. Сиверт ухмыльнулся.
— Ты зачем пришла? — спросила Ане, прижав руку к груди.
— Он звал меня, — отрывисто сказала Лина. — Ну что же, так я и буду мерзнуть здесь на лестнице или меня всё-таки пустят в дом? Пойдем прямо к больному или сначала напоить вас сердечными каплями, фрёкен Ане?.. Нечего тебе скалить зубы, старый козел, — напустилась она на Сиверта. — Погоди, вот захвораешь, попадешься ты тогда мне в руки!
Ане пропустила ведьму в комнату. Лина вошла, презрительно кивнув Марте. Они до смерти ненавидели друг друга.
На широкой кровати лежал могучий старик с густыми бакенбардами. Марта и Ане остановились в дверях. Лекарка Лина подошла к кровати и стала пристально смотреть на больного. Он застонал и произнес в полузабытьи: «Она здесь, Марта? Запри на кухне дверь!» Потом, медленно приходя в себя, посмотрел на знахарку и хрипло спросил, кивая на корзину:
— Что там у тебя еще за отрава, Лина?
— Сердечный эликсир и эликсир молодости! — быстро отозвалась Лина. Она обернулась к стоявшим у дверей женщинам и жестом отослала их прочь из комнаты. Марта закрыла дверь и приложилась ухом к замочной скважине.
— Что-то уж больно много ты обещаешь, — проговорил Стюрк. — Гляди, как бы на твоих весах не оказалось фальшивых гирь. — И вдруг он перешел на старый жаргон бергенских купцов:
— Нечего корчить из себя колдунью, старуха. Прибереги свои штучки для нищих болванов. Дай-ка мне попробовать твоего снадобья. Ежели оно поможет мне, то я хорошо заплачу. Мне надоело глядеть на тупые рожи докторов.
Лина сразу же бросила бормотать заклинания — бог с ним, с ритуалом! — и превратилась в домовитую сестру милосердия. Она заботливо, быстро и ловко оправила постель. Никогда Стюрк не лежал так удобно. После этого она дала ему выпить сердечного эликсира.
— Это поможет, — ободряюще сказала Лина, — я ведь всегда приходила к тебе на помощь. Быть может, я и сейчас смогу тебе помочь. Нечего ухмыляться, старый черт, сегодня у меня будет с тобой серьезный разговор!
Стюрк усмехнулся и выпил лекарство. Теперь эта старуха ему совершенно безразлична, но из его памяти еще не изгладилась прелестная девушка с нежными, теплыми губами.
Лина уселась на край кровати и пристально посмотрела на больного. Поможет ли эликсир, не обманул ли ее Мейстерконен? Стюрк долго лежал без движения. Маятник старинных часов качался медленно, с жалобным звоном, словно готов был вот-вот остановиться. Лина знала, что это означает для больного. Наконец старик зашевелился. Он приподнял веки и пришел в себя:
— Черт возьми. В груди как будто уже не так сильно болит.
Он прислушался к тиканью часов.
— Да и они вроде пошли быстрее, — с облегчением произнес Стюрк. — Сколько тебе заплатить за твое снадобье, Лина?
— Об оплате потолкуем после, — сказала Лина.
— А я думаю, это самое первое дело, — возразил старый купец.
Марта еще плотнее прижала ухо к дверям. Она не очень-то доверяла этой лекарке: старуха знала или подозревала слишком многое. Марта с удовольствием задушила бы ее при первом удобном случае где-нибудь в безлюдном переулке, и охотно пошла бы за это на виселицу.
— Ну как ты жила все эти годы, Лина? — спросил Стюрк.
— О, — ответила Лина, — лучше, чем другие женщины, которых ты загубил. Ведь ты когда-то говорил мне, что бедная девушка ничего хорошего и ожидать не может от богатого поклонника!
— Ну само собою, — сказал Стюрк, поддразнивая ее, — я крещен в серебряном тазу, а ты — в оловянном. И этого уж никак не изменить, Лина.
Знахарка покраснела от гнева:
— Что ты мне толкуешь про серебро да про олово! Уж если на то пошло, то будь доволен, что я не рассказала твоим родственникам о некоторых младенцах, что были окрещены в серебряном тазу, тогда как им был бы скорее впору оловянный…
— Довольно! — прервал ее Стюрк. — Ох, если бы я мог заткнуть твою глотку, Лина. Но я всё-таки полагаюсь на тебя.
— А я на тебя не полагаюсь. И ежели я молчу, то только потому, что терпеть не могу твою чванливую родню.
— Хорошо сказано! — мрачно проговорил Стюрк. — Я щедро заплачу тебе.
— А кто заплатит нашему сыну? — тихо спросила знахарка.
— Что?! — испуганно воскликнул Стюрк. — Разве он не умер в младенчестве?
— Нет, — твердо сказала Лина. — Вот она, моя фальшивая гиря… Я распустила слух, что мальчик умер. Но он благополучно вырос в той усадьбе, куда я его отдала. В то время как другая…
— Ясно, — снова прервал ее Стюрк. — Я старый купец, и сразу чую опасность. Сколько я должен заплатить за твое молчание?
— Своим знахарством я зарабатывала достаточно, чтобы мальчик учился в школе. Но ему нужно поехать в Копенгаген, он хочет учиться на доктора. У тебя есть средства. И к тому же ты надул своих родственников, подсунул им на весы фальшивую гирю. А ты знаешь, что это значит. Когда в городе разгорается скандал, все дамы сразу же заболевают и посылают за мной. Я бываю во всех домах, и скандальные истории всегда известны мне во всех подробностях.
— Может, ты поступаешь и не совсем законно, но я заплачу тебе. Как зовут молодого человека?
— Этого ты никогда не узнаешь, — быстро проговорила Лина. — Я никогда не видела его. Он не знает своей матери. Так что и отцу не нужно знать его имя…
— Что она имела в виду, когда говорила о фальшивой гире? — спросила стоявшая позади кухарки Ане.
Марта обернулась так быстро, что чуть не сбила ее с ног, и, положив руки на плечи девушки, мягко сказала:
— Она имела в виду, что у твоего отца тяжелая сердечная болезнь, о которой в городе не должны ничего знать.
Морщины разгладились на лице Марты, она вдруг будто помолодела. «Кухарка и хозяйская дочь похожи друг на друга как две капли воды», — подумал Сиверт.
Обе женщины стояли обнявшись, когда знахарка Лина с высоко поднятой головой вышла из комнаты больного.
Проходя через кухню, Лина бросила на Марту презрительный взгляд.
Тут Марта выпустила девушку из объятий, бросилась к двери и почтительно отворила ее перед лекаркой. Потом она дружески протянула Лине руку. Та молча уставилась на нее. В маленькой кухне стало вдруг необыкновенно тихо. Сиверт широко разинул рот, словно о чем-то догадавшись. Ведь Марта много раз могла выйти замуж, несмотря на приблудного ребенка, который к тому же умер. И всё-таки она, неизвестно почему, не захотела покинуть этот дом и осталась здесь навсегда. А в ушах Лины всё еще звучала ее собственная фраза: «Я ни разу в жизни не видела моего мальчика».
И тут она подумала, что женщину может постигнуть еще худшая судьба — видеть своего ребенка каждый день и не сметь признаться в том, что она его мать.
Лина крепко пожала протянутую руку Марты и поспешно вышла на улицу. На городской башне били часы. На улицах тихо падал снег. А знахарка Лина торопливо шла домой, к своим черным кошкам.
Веселая встреча короля
(Перевод Л. Брауде)
Уже две недели в городе стоял дым коромыслом. И вот наступил полдень 21 июля 1865 года. Портнихи с исколотыми пальцами и покрасневшими глазами, неподвижно, словно куклы, сидели за своими швейными машинками. Много дней и ночей они не смыкали глаз. У них не хватало времени даже на то, чтобы выпить чашку горячего кофе. Они не в силах были даже встать со стула, чтобы на минутку прилечь.
Их более счастливые сёстры в этот день тоже были на ногах с самого утра. Они встали пораньше, чтобы перемерить все свои роскошные туалеты. Они тоже очень устали, простояв в своих нарядах и украшениях с шести часов утра до двенадцати. Но едва настал полдень, как они схватили свои зонтики и ринулись прямо на солнцепек, чтобы занять на берегу Вогена приготовленные для них в дверях склада места. Именно с этой стороны должны были приплыть в Берген король и его гость. Зрители облепили все слуховые окошечки, не говоря уже о дверях складских помещений: это были настоящие ложи, в которых стояли кресла и ящики. Последние, как выяснилось, были самыми выгодными сиденьями, так как занимали очень мало места. Ведь каждый сантиметр был рассчитан! Женщины всё сильнее и сильнее теснились в дверях, чтобы продемонстрировать свою красоту и свои наряды сестрам в других дверях и слуховых окошечках. Все они лелеяли тайную надежду, что принц Карл, ныне правящий вице-король, и его гость, принц Оранский, одарят их хотя бы минутным взглядом. О, это воспоминание они сохранили бы на всю жизнь!
Солнце жгло вовсю, и бергенцы покрывались испариной под тяжелыми одеждами. Но какое это имеет значение! Главное — ничего не упустить из всей этой парадной церемонии. Неужто король так и не приедет в Берген?
— Конечно, не приедет! — Этот возглас раздался в час отлива, под самой Бергенской крепостью у устья Богена, там, где расположен замок. И возглас этот, подхваченный другими зрителями, распространился дальше и достиг ушей расфуфыренных матрон, которые только теперь почувствовали усталость. Но сильнее всех разочарованы были бравые горожане. В этот день они подверглись еще более тяжкому испытанию, нежели дамы, затянутые в корсеты. Уже целых два часа стояли они на площади Фискеторгет и на набережной в Брюггене под непривычными в здешних местах палящими лучами солнца. Да еще в таких узких мундирах. Георг Старший был облачен в узкую красную куртку. Она тисками сжимала ему плечи. Он предполагал, что придется потерпеть с полчасика, а потом, помахав саблей и покрасовавшись перед королем, можно будет отправиться домой. Но времени прошло гораздо больше, чем он рассчитывал, и Георг почувствовал себя ужасно. Не лучше обстояло дело и с другими. Гражданская гвардия изнемогала под тяжестью своего обмундирования. Хуже всего было всадникам. Они застыли верхом на своих конях и медленно, словно на сковородке, поджаривались на солнце.
И вот тут-то и появился искуситель во всем своем дьявольском обличье!
К пущей своей ярости бравые вояки увидели, что женщины, расположившиеся в дверях склада, ублажали себя пирожными и всяческими сладостями. Вдобавок ко всему, у них по рукам ходил кофейник! Георг Старший обратил внимание своих собратьев на эту вопиющую несправедливость. И вот тогда в горле Георга Старшего в один миг стало сухо, будто в пустыне Сахаре. Он громовым голосом принялся выкрикивать свои жалобы Юну Старшему. Тот выступал в роли всадника и уже провел несколько часов верхом на старой костлявой кляче, обычно развозившей дрова и состоявшей в этой должности по меньшей мере двадцать лет. Юн Старший поклялся во всеуслышание, что конец его близок.
Тут дюжий храбрец шкипер Салвесен протиснулся сквозь ряды горожан и, бросив орлиный взгляд в сторону Пюдде-фьорда, решительно заявил, наматывая на палец свой непокорный черный ус:
— Шхуна не подошла еще даже к замку, так что у нас есть время прополоскать глотку. Пошли быстрей, а не то нас хватит удар!
С этими словами он бросился бежать. Ему во что бы то ни стало нужно промочить горло, иначе он не сможет весело крикнуть «ура!» в честь короля, когда тот наконец появится в Бергене. На какие только жертвы не пойдешь ради отечества!
Вслед за Салвесеном двинулся другой здоровяк шкипер, который тоже ни за какие блага мира не хотел бы изменить родине.
— Юн! — закричал Георг Старший. — Я вынужден выйти из игры! Я охрип, а солнце припекает голову так, что она вот-вот треснет!
— Подожди минутку! — слабым голосом отозвался Юн Старший. — Поддержи меня, чертов идиот!
С этими словами он соскользнул со своей клячи прямо в объятия стоявшего рядом горожанина, чуть не сбив его с ног. Даже не взглянув на свою жертву, Юн Старший двинулся вслед за Георгом Старшим, который громко проклинал свою затекшую спину. Его мундир был по крайней мере на пять номеров меньше положенного ему размера.
Выйдя на улицу, оба скрылись за широкой дверью погребка. Солнце продолжало припекать. Дамы в дверях склада вытирали лица и шеи, а их пышные груди от избытка жизненных сил то и дело вздымались и опускались под тесной шнуровкой.
Время тянулось медленно, как обычно тянется время в ожидании.
Но вот приговоренный самим собой к смерти шкипер Салвесен исцелился. Его глотка больше не напоминала, как и у Георга Старшего, пустыню Сахару. Скорее она была похожа на цветущий оазис. То же произошло и с Юном Старшим, коего в связи с его пятым посещением погребка, почтили званием сира Юна. Его добрый друг Георг Старший не ощущал больше, что мундир стягивает ему плечи. Он держался теперь прямо, стал остроумен и общителен. Другие тоже бросали меткие реплики и рассказывали разные истории… А на улице двери погребка превратились в настоящую западню. Ни один бергенец не мог пройти мимо, не побывав в плену своего врага. Как устоять против такого оружия, как сверкающие бокалы и позолоченные краны, а главное — вино. Ха-ха! Как издевались мужчины над бедными женщинами с их жалким кофейником. Ха-ха! Гражданская гвардия вызывающе махала ружьями и алебардами в сторону дверей склада…
— Куда же запропастился король? — раздавались время от времени громкие возгласы, и тысячи голов любопытствуя вытягивались на длинных шеях. Никаких королей и принцев и в помине не было. Хоть бы один какой-нибудь! Солнце припекало как никогда раньше. Узкие мундиры снова стеснили грудь. Снова разболелись головы у всадников. Снова смертоносный песок Сахары одержал верх над цветущими оазисами в могучих глотках шкиперов. И снова на улице зазвенели колокольчики над притолоками дверей, и позолоченные краны начали открываться и закрываться с удивительной предупредительностью. Ведь каждому хотелось полюбоваться этим божественным зрелищем два, а то и три или даже четыре раза.
Одни прекрасные дамы, стоявшие в дверях склада, держались стойко. А вдруг король появится как раз в ту минуту, когда они выйдут проветриться? Нет! Не сдавайся! Дыши медленней! Пусть ты умрешь от жары, это совсем неважно, только бы король и принц появились до того, как ты испаришься, точно клякса!
Дамы заметили, что веселье на площади и на набережной становится всё более неудержимым. Время от времени до них доносились громкие раскаты хохота. Вдруг какой-то офицер крикнул: «Внимание!» Все засуетились, торопясь на свои места, чтобы салютовать оружием. Но шлюпка оказалась вовсе не королевской. Солнце продолжало припекать. Время шло. Было уже, пожалуй, часов девять, хотя летний вечер был по-прежнему теплым. Колыхалось море горожан, солдат и ремесленников.
— Что-то надо предпринять! — закричал шкипер Салвесен. — А что если нам податься к мысу Сёнре-Кварвен и посмотреть, не застрял ли король во фьорде?
Не дожидаясь ответа, шкипер Салвесен спустился вниз, в сверкавшую новую шлюпку, построенную специально для встречи короля. Немедленно отыскались и желающие его сопровождать.
— А ты идешь с нами, сир Юн? — закричал Георг Старший.
— Я готов! — отвечал сир Юн.
С этими словами статный сир Юн взял друга под руку и направился к шлюпке. Шлюпка вздымалась на волнах, словно умный и норовистый конь, который встает на дыбы, желая предупредить своего владельца о том, что он привязал его к ненадежному шаткому камню, вместо березы с крепкими корнями. А предупреждение здесь было бы весьма уместно, потому что на борту шлюпки вдруг оказалось множество людей и, несмотря на предостерегающие возгласы шкипера Салвесена, людской поток не прекращался. Шлюпка быстро, дюйм за дюймом, погружалась в воду. Все во что бы то ни стало хотели взглянуть, «не застрял ли король во фьорде» у мыса Сёнре-Кварвен.
— Шлюпка не выдержит! — орал шкипер Салвесен.
— А мы выдержим! — весело закричал в ответ сир Юн, поставив ногу на перила и освободив тем самым место для двоих людей. Георгу Старшему удалось уместить в шлюпке лишь кончики пальцев, так там было тесно. Чтобы не свалиться в Воген, он обхватил руками сира Юна, который вцепился в своего соседа. Сосед сделал то же самое. Все стали с молниеносной быстротой обнимать друг друга, и шкиперу Салвесену довелось увидеть, как его великолепная шлюпка меланхолично клюнула носом, чтобы затем опустить свою грудь в море. Свежеокрашенные белые перила, будто обнаженная прекрасная рука, качались на синих волнах, пока не исчезли. Между тем киль шлюпки отважно высунулся из бездны, чтобы бросить взгляд на всё великолепие, окружавшее Воген. Храбрые вояки не слыхали тысячеголосого крика, раздавшегося из уст достопочтенных дам в дверях склада, когда шлюпка вывалила свой драгоценный груз прямо в Воген.
К месту происшествия устремилась целая флотилия маленьких лодок. И так как их гребцы тоже побывали наверху в погребке, то лодки скользили прямо по головам, рукам и ногам тонувших людей.
Сир Юн чуть было не отправился на тот свет. Маленькая шлюпка с трубочистами в черных высоких цилиндрах проплыла прямо над ним, и жизнерадостные парни чуть не насмерть избили его веслами. И тогда сир Юн повис под килем лодки. Но трубочисты продолжали грести, не обращая на него ни малейшего внимания. Слава богу, что сира Юна всё же удалось спасти. Однако его мундир, хотя и сшитый из первосортного материала, купленного в свое время в Гамбурге, был разорван надвое. Наконец сир Юн был медленно извлечен из воды. Почти полумертвый, он держался с необыкновенным достоинством. Но, когда трубочист случайно толкнул его в живот, началось извержение содержимого бочонков с блестящими кранами и сверкающих бокалов. Это сразу же оживило сира Юна, а когда он увидел свой разодранный мундир, то понял, что его охраняло провидение. Ведь его единодержавная супруга непременно хотела заставить мужа сшить новый мундир ко дню встречи короля, а он воспротивился! Слава богу, что жене не удалось на этот раз одержать над ним верх… Пока сир Юн философствовал, на берег доставляли извлеченные из воды шляпы, куртки, шарфы и другие принадлежности туалета. Высказывались предположения, что спасены все. Видно, так оно и было на самом деле. После столь ужасных переживаний необходимо было тотчас же отправиться в погребок, чтобы спастись от простуды и восстановить в памяти некоторые детали происшествия…
Время шло. Самые толстые из дам продолжали невозмутимо сидеть на бочках с широким днищем. Самые же благородные восседали в креслах. И когда наступала тишина, на обоих берегах Вогена отчетливо слышался громкий храп. Время близилось к двенадцати.
Тут, откуда ни возьмись, вынырнула лодка и причалила к нижней ступеньке лестницы. Солдат спустился вниз, чтобы посмотреть, кто прибыл. В лодке полным-полно было каких-то благородных людей. И солдат тут же смекнул, что это долгожданные гости.
— Могу я помочь вам, ваше Королевское величество? — спросил он.
И в ответ сухо прозвучало:
— Помоги!
Чем помог солдат королю, так и осталось загадкой в истории Бергена.
Кронпринц Карл сошел на берег и отправился пешком вдоль плотных рядов терпеливых бергенцев. Они приветствовали его кое-как, ружья у многих были обращены дулом книзу. Но зато крики «ура!» раздавались очень громко. Таким образом, приличия были соблюдены.
— Слава богу, что дул сильный ветер и король не почувствовал, кто по-настоящему приветствовал его, а кто кричал под влиянием винных паров, — сказал позднее шкипер Салвесен.
Из книги «Насмешник с острова Тоска»
Клад Шотландца
(Перевод Л. Брауде)
Енс-бедняк с острова Трет был рыбаком в Стране тысячи островов, что лежит неподалеку от Вестланна в Норвегии. Всего-то и было у него, что утлая лодчонка да рыболовные снасти. Он считал их своей собственностью и всерьез был уверен в этом. Другие рыбаки думали то же самое. На деле же всем владел могущественный купец и Король Мыса Хаммернессет Рейнерт Мусебергет. Всё принадлежало ему: лодка и снасти, дом и одежда, хлеб и будущее Енса.
А всё потому, что Енс должен был купцу много денег. Так много, что на выборах в стуртинг[48] Енс вынужден был голосовать за партию богачей, хотя делал это со слезами на глазах и со скрежетом зубовным. Но он не мог поступить иначе: Рейнерт Мусебергет всё равно разнюхает, за кого голосовал Енс.
И это называлось «тайные» выборы!
Енс-работяга ловил немало рыбы. Случалось ему привозить Королю Мыса богатый улов, полную лодку рыбы. Тот записывал всё в счет долга. И когда Енс тут же забирал у Короля новые товары и новые снасти, долг снова вырастал, становился даже больше прежнего. Это было всё равно что пожизненная кабала. Но рыбак не хотел оставаться рабом, рабом на всю жизнь! Никто не знал, что Енс втайне лелеял мечту о собственном клочке земли, — не нравилось ему рыбачить на Мусебергета! Но Енсу ли, обремененному долгами, женой и кучей ребятишек, мечтать о том, чтобы раздобыть себе землю?!
Так ничего и не добился бы Енс-бедняк, не вмешайся в дело Единорог, этот насмешник, постоянно надувавший богатеев в Стране тысячи островов, человек, ухитрявшийся ходить на полных парусах в своей черной лодке даже тогда, когда в море не рисковали появляться пароходы.
А теперь послушайте, что было дальше!
Однажды вечером богач Ульрик-кожевник (Ульрик и в самом деле владел кожевенной мастерской) сбежал из дому от своей злой жены. Он вышел в море в легком челноке, чтобы поудить рыбку, покуда гнев жены поостынет. У острова Кюльгравен Ульрик бросил якорь. Рыба ловилась хорошо, и Ульрик торчал у острова, пока не стемнело. Уже собираясь домой, он заметил мерцающий огонек в той стороне острова Кюльгравен, где было большое болото.
Ульрик так и замер с поднятыми веслами в руках. Неужто нечистая сила? Кожевник был человеком любопытным. Он, бывало, ни перед чем не остановится, если ему захочется что-нибудь разнюхать. Поэтому он засунул в карман кисет с жевательным табаком и взялся за вёсла. Лодка бесшумно, как призрак, обогнула скалу и долго скользила вдоль берега. Стоял час отлива. Ульрик вошел во фьорд. Несколько взмахов вёсел — и он причалил к отмели тихо, легко и осторожно, не произведя ни малейшего шума. Ни один камушек не зашуршал под его ногами, пока он медленно карабкался вверх по склону, раздвигая головой кусты колючего можжевельника. Лицо Ульрика было расцарапано, зато, выбравшись, он как на ладони увидел всё болото. А его самого никто увидеть не мог!
Едва Ульрик остановился, чтобы перевести дух, как вдруг под самым его носом неярко загорелся фонарь. Оказывается, по болоту собственной персоной ходил Единорог. Этот дьявол, эта продувная бестия! Уж где только творится какая-нибудь чертовщина, Единорог тут как тут! Вот если бы Ульрику удалось хоть теперь выследить его, поймать этого бродягу с поличным, отомстить ему за все его проделки! Ульрик застыл на месте и стал прислушиваться, приложив ладонь к уху. Вдруг, откуда ни возьмись, появился Енс, тоже с зажженным фонарем. Ага! Ульрик был не так уж глуп, он всё понял: эти двое не хотят, чтобы их заметили. Чертовы мошенники! Проклятые бедняки! Может быть, они занимались контрабандой? Тогда держись, Единорог! Уж такой человек, как Ульрик-кожевник, найдет дорогу к ленсману[49]. А в общем-то хватит и легкого подозрения, чтобы донести на них, остальное сделает молва. Навсегда пошатнется вера в легендарную честность Единорога! И вот, когда молва сделает свое дело, Ульрик-кожевник выразит сожаление: «я-де ошибся».
Ульрик собрался было уже тронуться в обратный путь, но тут Единорог вытащил какую-то бумагу, похожую на, большую географическую карту. Ульрика чуть удар не хватил. Енс и Единорог, сблизив головы, принялись шепотом совещаться над картой. Но они были такие дурни, что, разгорячившись, начали говорить довольно громко, и Ульрик-кожевник мог слышать каждое слово. А Единорогу, как видно, было что сказать! Он то и дело водил пальцем по карте и жестикулировал. Наконец он выдохся. Ульрик слышал, как Единорог назойливо повторял этому дураку Енсу:
— Если ты начертишь линию от этих кустов можжевельника прямо к королевской сосне по другую сторону болота, то у тебя и выйдет диагональ, которая указана на карте. Где-то в этом направлении зарыт Клад Шотландца. Этот парень из университета, который называет себя археологом, уж никак не мог ошибиться!
Ульрик побледнел. Про Клад Шотландца, или господина Синклера, уже давно ходили легенды. Историки знали, что в стародавние времена гордый дворянин шотландец Синклер, удирая вместе со своими долговязыми английскими воинами после позорного поражения, зарыл где-то в Норвегии клад.
Ульрик навострил уши. Что еще скажет Единорог?
— Как раз посреди болота, — решительно заявил Единорог. — Теперь всё дело лишь за тобой, Енс! Держи язык за зубами! И жене ни слова? Понимаешь?
— Положись на меня! — успокоил его Енс.
Оба побрели через болото, спотыкаясь о кучи торфа и чуть не падая в бездонную топь.
Ульрик тихонько соскользнул вниз по склону, отыскал свою лодку и поплыл вдоль берега в тени, скрывавшей его от взоров обоих мошенников. Отплыв подальше от острова, Ульрик начал грести с такой силой, что светившиеся в темноте брызги воды фонтаном ударили вверх. Он торопился. Надо во что бы то ни стало сегодня же переговорить с банкиром Кристафером!
Глаза Кристафера загорелись диким огнем, когда он услышал про Клад Шотландца. Стало быть, старики говорили правду! Была уже полночь, когда Кристафер и Ульрик помчались к Королю Мыса Рейнерту Мусебергету. Недовольный слишком поздним визитом, могущественный Рейнерт встретил их отборной бранью. Но, услышав слово «клад!», он сразу же умолк. Они, конечно, сговорились!
На следующий день трое богатеев, злорадно посмеиваясь, появились на острове вместе со всеми своими работниками, сгибавшимися под тяжестью кирок и лопат. Они неслышно окружили яму, где находились Енс и Единорог и откуда вылетали торф, камни, корни растений и то и дело доносились ругань и проклятия.
Тяжелая была работёнка! Трудный денек выдался у Енса и Единорога!
Внезапно работа в яме прекратилась. Оттуда выскочил похожий на черта Единорог, а вслед за ним Енс. Енса словно удар хватил. Он остановился как вкопанный. Выражение его лица доставило большое удовольствие богатеям. Они поняли, что всё правильно: клад где-то здесь. Сердце банкира Кристафера ликовало. В мечтах он уже видел себя владельцем благоустроенной усадьбы, купленной на захваченную им долю клада. Ульрик-кожевник злорадствовал. А Король Мыса, сам Рейнерт Мусебергет, умевший прекрасно распознавать выражение лиц своих жертв, искренне обрадовался. Он даже улыбался, что случалось с ним довольно редко.
— Бог в помощь! — злобно сказал Кристафер.
Огоньки бешенства зажглись в глазах Енса. Он вскипел.
— Убирайтесь отсюда! — неистово закричал он. — Вам тут делать нечего!
— Э, нет! — отвечал Мусебергет. — Никуда мы отсюда не пойдем! А ты, что скажешь ты, Ульрик?
— Мы тоже собирались немного поработать. Это полезно для здоровья, — заявил Ульрик с лисьей ухмылкой. — Хозяин этого острова дурень, хотя и адвокат, он ничего не имеет против! Нам-то он разрешил. А может, это твой остров, Енс?
Лицо Енса потемнело. Он крепче сжал кирку в руках и двинулся было на Ульрика, но Единорог встал между ними. Он не хотел, чтобы дело дошло до потасовки.
Енс и Единорог молча спустились в яму. Работа закипела снова. Верно, Единорогу и Енсу не терпелось поскорее добраться до сундука с сокровищами! Это было ясно как день и Ульрику, и Кристаферу, и Рейнерту. Им тоже следовало поторопиться. Видно, эти голодранцы близки к победе! Но было еще неизвестно, там ли они копают. Поэтому богатеи тоже выбрали местечко, сбросили куртки и закричали своим работникам, что если те не последуют их примеру к то могут завтра же поискать себе другое место. Рейнерт Мусебергет был рослый и крепкий малый, но ему сильно мешал толстый живот. Он без конца проклинал свое брюхо, но работал усердно; пот лил с него градом.
Поздно вечером компания богатеев отправилась на веслах домой. Их пыл значительно поостыл. Все они едва переводили дух. Сам Король Мыса, с опухшим лицом, с поникшей головой, дрожал точно осиновый лист на сильном ветру.
Но назавтра они снова отправились на остров. Енс и Единорог уже были там и работали как черти. Они словно потеряли рассудок. Ясно было, что клад еще не найден. Богачи не собирались отставать от них.
Ульрик отправил на остров жену. Кристафер сделал то же самое. Да, даже изящная супруга Рейнерта Мусебергета взялась за кирку. Дом и хозяйство, дети и кухня — всё было заброшено. Люди, поглощенные погоней за сокровищем, работали круглые сутки. Каждому выпадало на долю лишь несколько часов сна. Идти ночевать домой не разрешалось. «Убирайся под кусты и дрыхни там!» — зло говорил Мусебергет, скинувший, наверное, килограммов десять веса. По ночам болото светилось огнями, — всеми овладело исступление. Золотая лихорадка в Клондайке, красочно описанная в рассказах Джека Лондона, и все его герои-золотоискатели ничего не стоили по сравнению с тремя богатеями, которых обуяла жажда обогащения. Никто не в силах был оставаться дома, когда Клад Шотландца вот-вот мог появиться на белый свет. Маленькая армия разбросала свои кирки и лопаты по всему болоту. Они сверкали в солнечном сиянии и мерцали ночью при свете фонарей. В этом было что-то сказочное. Мужчины и женщины перебегали с одного места на другое и копали до изнеможения, пока, зажав в руках кирку, не падали от усталости под кусты, чтобы поспать хоть несколько часов.
И вот однажды они увидели, что Енс уселся на землю и заплакал. Он выдохся, этот мошенник! Теперь он в их руках! Теперь они — хозяева острова! А по диагонали уже была вырыта большая глубокая канава. От нее во все стороны расходилось бесчисленное множество канавок и рвов. Клада не нашли. Но как раз там, где он, по их предположению, находился, по рву, выкопанному ими самими, словно река, прямо в море низвергалась болотная вода, прорываясь сквозь мощный земляной вал, отделявший топь от моря.
Болото осушалось прямо на глазах у людей.
Адова была эта работа! Но во всяком случае у них оставалось утешение, что ни Единорогу (черт бы его побрал), ни Енсу клад не достался. Это было приятно! Правда, и сами они тоже пострадали. Мусебергет нажил себе горб. Жена его испортила свои полные нежные ручки: покрытые ранами и пузырями, они ничем не отличались от рук жены простого бедняка. Разумеется, теперь и речи не было о том, чтобы пойти к пастору на золотую свадьбу, куда со всех сторон съезжались одни лишь изящные и богатые дамы. Кристафер изувечил большой палец на ноге. Ульрик, стоя в холодной болотной воде, схватил ревматизм, а жене его так досталось лопатой по носу, что он распух и стал вдвое больше. Не обошлось без компрессов и мазей, слёз и стонов! Хорошо еще, что были у богатеев работники, на которых могли они сорвать свою злобу.
Но проходили недели за неделями, и постепенно вся эта история стала забываться.
Тогда-то и произошло важное событие. Оно грянуло как гром с ясного неба. Какой-то рыбак с одного из самых отдаленных островков причалил к пристани, близ лавки Рейнерта Мусебергета. Рыбаку надо было лишь подняться на берег и попросить в долг несколько вершей для ловли омаров. Проходя мимо банкира Кристафера и Ульрика-кожевника, он небрежно сказал:
— А ведь Енс и Единорог как раз сейчас вспахивают то место на острове, где было болото. — Выждав немного, рыбак добавил: — Ну, а потом Енс построит и хлев для скотины, хлев что у твоего богача.
Богачи, стоявшие на пристани, молча посмотрели друг на друга. На их ладонях еще сохранились следы мозолей от работы на острове. Черт бы ее побрал, эту «диагональ»! Но по какому праву эти мошенники завладели чужой собственностью? Правда, ни Кристафер, ни Ульрик не обеднели от этого. Так-то оно так, но Енс обманом разбогатеет на их труде! Неужто Енс думает, что ему пройдет даром такой безнравственный поступок, что они смолчат? Ну уж нет, они ему еще покажут!
Трое богатеев отправились на остров в сопровождении множества лодок. На этот раз они, как хозяева, не таясь поднялись вверх по склону. С шумом пробрались они сквозь кусты можжевельника и спустились вниз к болоту. Там на буланой лошадке, позаимствованной у хозяина острова Ельмеланн, пахал Енс. За ним по пятам шел Единорог. На возвышенности стоял землемер и смотрел в какой-то аппарат. Его помощник ходил по болоту с красно-белыми палками.
Кристафер заметил, что диагональ была выложена камнями. Рейнерт Мусебергет обратил внимание на то, что все рвы и канавки, ведущие к диагонали, были не только выложены камнями, но еще и покрыты толстым слоем земли. Ульрик смотрел на земляной вал. Именно здесь он и его жена показали свои когти и прогнали всех прочь, потому что это место они хотели оставить только для себя! Ведь клад-то должен был лежать здесь!
Все трое поглядели друг на друга. Рейнерт побледнел. Он считался самым башковитым из них. Двое других покраснели как раки. Банкир Кристафер, ловя ртом воздух, медленно наливался яростью. Выражение его лица предвещало грозу. Рот его медленно раскрывался, обнажая в волчьем оскале огромные желтые зубы, способные перегрызть железные оковы. Но вот гнев его перекипел, и он смог взять себя в руки. Однако не успел он открыть рот, чтобы предъявить Енсу заранее заготовленное обвинение в эксплуатации, как Енс взглянул на богатеев и кротко, даже слишком кротко, как показалось Мусебергету, сказал:
— Добро пожаловать на остров Трет! Этот остров называется теперь именно так! Добро пожаловать!
Лицо Мусебергета пожелтело. Он смотрел на болото. Да, неплохое здесь выйдет пастбище! Уж не меньше, чем для десяти коров.
— И спасибо вам за помощь! — сказал Енс и протянул руку. Как раз в этот момент заржала лошадь. — Большое спасибо, и да благословит вас всех господь!
— Аминь! — произнес Единорог и застенчиво отвернулся.
— Эй! — закричал в это время землемер. — Теперь граница проходит как раз через возвышенность! Хорошее получится у тебя местечко для сушки трески. Болото находится посреди твоих владений. Понятно тебе, Енс?
— Спасибо, и еще раз спасибо, — снова сказал Енс богатеям.
Он повернулся и стал с таким невинным выражением лица понукать буланого, что у Кристафера закружилась голова, а Ульрик даже подпрыгнул от бешенства. Правой рукой он схватился за лоб, но тотчас отдернул ее прочь, словно опасаясь заразы. Его белые руки были в мозолях. Израненная, затвердевшая кожа на ладонях еще не совсем зажила.
Но самое скверное произошло в тот же вечер, когда все мужчины и женщины собрались, как всегда, на молу и стали обсуждать поиски Клада Шотландца и все прочие события, связанные с этими поисками. Тут же стояли три богатея. Им было противно даже смотреть друг на друга. А тут еще вниз к своей черной маленькой лодке спустился Единорог. Серьезный был у него вид, словно рыбак затаил в душе тяжкое горе. Но раньше чем отчалить от пристани, он спросил, усмехаясь и показывая на островок справа:
— Ну как, нашли свою «диагональ»?
Тут богачей словно осенило! Они поняли всё. Снова этот негодяй занялся своими проделками! Кристафер медленно обернулся к Ульрику и с угрожающим видом стал приближаться к нему.
— Идиот! — заорал он так громко, что крик его услышали даже те, кто жил далеко от пристани. — Это ты втянул нас в эту историю! Ну и поплатишься ты за это!
Ульрик громко вскрикнул. Остальные разинули рты. Но прежде чем кому-нибудь удалось произнести хоть слово, в ход, как самое веское доказательство, были пущены кулаки. Потому что словами здесь уж ничего было не поделать. Мусебергет поспешил удрать домой.
И с тех пор начались в этих краях жестокие распри. Столпы общества — Ульрик, Кристафер и Рейнерт — не сговаривались больше о ценах на рыбу, не обсуждали, сколько им следует платить работникам. Тогда лишились они всех своих денег и не в силах были даже вспомнить о прошлом. И петля кабалы, в которой они сообща держали бедняков, стала распускаться.
А на острове Трет царило веселье. Там, запряженная в плуг, трусила рысцой выносливая буланая лошаденка. Вслед за ней, насвистывая песенку, шагал Енс, который вырвался наконец из кабалы. За ним следовала жена, а позади бежала ватага ребятишек. У них уже успели округлиться щёки.
А далеко-далеко по глади залива, подгоняемая сильным ветром, скользила черная парусная лодчонка с невиданно высокой мачтой. Должно быть, Единорог спешил. Верно, какой-нибудь другой бедняк в нужде послал за ним, этим Робин Гудом или Ходжой Насреддином здешних островов.
Солнце всё ниже и ниже опускалось в море.
Через полчаса небо окрасилось багряно-золотистым заревом. Потом выплыли мерцающие звёзды. Старики говорили, что в таких случаях наступают холода. Но всё это предвещало рыбакам богатый улов.
О том, как Тьодолфу из Йормвикена счастье привалило
(Перевод Ф. Золотаревской)
«Без лисьей хитрости лису не перехитришь, — сказал Морской Волк[50].
К северу от Бергена посреди моря лежит густая сеть маленьких островков. Островки эти так тесно примыкают друг к другу, что закрывают морю свободный доступ к побережью. Морские волны, ударяясь об этот своеобразный барьер, с сердитым урчаньем бурно устремляются в узкие проливы между островками. Рейсовые пароходы могут войти в фьорд только под защитой длинного мола.
Позади этого мола, на заливе, проникающем глубоко в сушу, лежит один из тех заброшенных островков-болот, на которых, быть может, во времена древних саг глухо шумели могучие сосны. Теперь здесь остались лишь сгнившие корни да топкое болото с глубокими, таящими гибель трясинами. Во времена древних саг добывал здесь, наверное, древний норвежец болотную руду, и это было для него таким же привычным делом, как хлебопашество для крестьянина в наши дни.
Пятьдесят лет назад на менее болотистой восточной части острова обитало несколько рыбачьих семей. И было им тут вовсе не так уж плохо. Что же касается удлиненной западной части островка, то там жил всего лишь один бедняк арендатор. Правда, позднее молодые предприимчивые поселенцы заинтересовались и этой частью островка, но в то время, о котором пойдет рассказ, она была совсем пустынной. Домишки, стоявшие здесь, были еще более ветхи и убоги, чем обычные жилища бедного люда. Трудно было поверить, что какое-либо живое существо может осесть в Йормвикене[51]. Глубокий и длинный фьорд тянулся от моря узкой полоской меж высоких отвесных скал, расстояние между которыми не превышало и пятидесяти метров. Внутри шхер фьорд постепенно расширялся в залив. Дно залива было покрыто толстым слоем ила. Глубина здесь была не более чем два фута, и Тьодолфу приходилось оставлять свою лодку на причале далеко от берега. Но зато в часы прилива он добирался на ней до самого дома.
Да, Тьодолф был единственным жителем этой части острова. Как он ухитрялся не умереть с голоду? Это было для многих неразрешимой загадкой. Члены его семейства представляли собою тощее, голодное и живучее племя с крепкими белыми, щелкающими от голода зубами, которые выгодно отличались от вставных зубов и гнилых корней всех прочих прихожан, собиравшихся по воскресеньям в церкви. Впрочем, крепкие зубы — это всё, чем могли похвастать Тьодолф и его домочадцы. Что же касается остального, то они вынуждены были утешаться старой поговоркой: «Лучше быть худо одетым, чем вовсе голым». Вся их жизнь представляла собой непрестанную заботу о хлебе насущном. Когда наступал час обеда, дети, вытягивая худые шейки, заглядывали в большую кастрюлю и косились на медный котелок, висевший над очагом. Но чаще всего и в кастрюле и в котелке бывало пусто. Разумеется, многие, так же как и Тьодолф, перебивались с хлеба на воду вместе с женой и детишками. Но Тьодолф поступил уж совсем неразумно, поселившись в этой проклятой дыре, где не было никакой возможности выбиться из нужды. Люди, которые воображали себя сведущими во всех житейских делах, говорили, что Тьодолф сделал большую глупость, согласившись арендовать в Йормвикене эти старые, насквозь прогнившие домишки. Правда, жил он там бесплатно, но обязался содержать их в порядке и производить ремонт. А на это нужно было затратить немало времени и труда.
«Добрый» Ульрик, владелец домишек, «уступил» Тьодолфу право заботиться об этой рухляди и без конца заставлял его чинить то одно, то другое. Никаких иных прав у Тьодолфа не было. Вот разве еще торф с болот ему разрешалось добывать, но зато он обязан был обеспечить топливом на всю зиму и семейство Ульрика. Впрочем, все права вообще так или иначе оказываются палкой о двух концах.
В той части острова, где жил Тьодолф, не было ни пастбища, ни ягодных мест, а сельдь никогда не приходила в мелкий, илистый залив. Пришлые рыбаки, которые бывали за границей, называли Йормвикен «Аляска».
Тьодолф и его семейство почти никогда не видели ни одного живого существа, разве только порою забредала к ним с восточной части острова телка, отбившаяся от многочисленного Ульрикова стада. Тучная, откормленная, она устремляла на людей задумчивый взгляд, а те, глотая голодную слюну, представляли себе румяную жареную телятину. Телка и люди долго стояли, поглядывая друг на друга, в то время как бес-искуситель нашептывал семейству Тьодолфа, что ведь могла же эта телка попасть в трясину и бесследно исчезнуть!
Наконец сам Тьодолф со вздохом обвязывал шею скотины веревкой и брел с нею на другой конец острова. Остальные члены семьи провожали их голодными взглядами.
Когда Тьодолф приводил телку к Ульрику, его награждали благодарностью и рюмкой водки. Но ничем больше! Правда, иногда ему давали в придачу добрый совет, как починить крышу, или подпереть покосившуюся стену, или смастерить новую дверь. Но советы эти в устах Ульрика звучали так, словно Тьодолф уже давно обещал всё это сделать ему, Ульрику. Ульрик был мастер заставлять других говорить именно то, что было выгодно ему самому.
Тьодолф вовсе не был бездельником. Да и глупцом его тоже нельзя было бы назвать. Он был рыбак душою и телом. Но скажем прямо: любил он пропустить лишнюю рюмку, и не то чтобы с горя, а просто так. Тьодолф начал попивать еще в молодости, и отсюда-то пошли все его беды. Но, кроме того, не следует забывать, что он когда-то отбил девушку у богача Кристафера. И тот не успокоился, пока не отомстил Тьодолфу. Кристафер-то и подстроил всё так, что Тьодолф попался на удочку и поселился в Йормвикене. В одном лишь помогла Тьодолфу «Аляска»: жизнь в бедности, среди всяческих невзгод, навсегда отбила у него охоту к выпивке. Три года прожил он тут в беспросветной нужде. Сельдь не ловилась, долги всё росли, а наследники всё прибавлялись. У Тьодолфа просто руки опускались от отчаянья. Семья питалась мелкой рыбешкой, и ходили даже слухи, будто они едят размельченную песчанку. Но никто ничего не знал наверное, потому что лишь Единорог время от времени наезжал в Йормвикен. Он был, пожалуй, их единственным гостем. Собираясь по субботам на пристани, рыбаки обсуждали эти посещения Единорога. Обычно находился какой-нибудь умник, который высказывал предположение, что Единорог, должно быть, приходится родственником Тьодолфу. При этом рыбак многозначительно закусывал нижнюю губу, делая серьезное лицо, и не прибавлял больше ни слова…
Однажды, в конце января, рыбаки тщетно томились на берегу в ожидании сельди. (В ту пору никто не ходил рыбачить далеко в открытое море.) Усталые, с покрасневшими от бессонницы глазами, люди дни и ночи высматривали косяки сельди. Но сельдь не шла! А ведь скоро цены на крупную зимнюю сельдь окончательно упадут, — дело-то идет к весне! Мрачное настроение царило повсюду. Лодки сновали взад и вперед вдоль берега. Рыбаки при встречах обменивались всё той же удручающей вестью: нет сельди! Такого уже давно не случалось в здешних краях. Видно, виною всему была комета, которая несколько недель назад промчалась в небе, предвещая всему миру неисчислимые бедствия!
Банкир Кристафер, Ульрик-кожевник и Рейнерт Мусебергет в этом году были компаньонами. Если бы они догадались сговориться еще в прошлом году, то теперь получали бы двойную прибыль. Ведь тогда они смогли бы наконец осуществить свою тайную мечту: уменьшить долю улова рыбакам и снизить плату за разделку и перевозку рыбы. Они подсчитали, что это помогло бы им в течение нескольких лет прикарманить огромные дополнительные суммы. Кроме того, они задумали еще одно дельце, и если бы только оно выгорело, то принесло бы им также огромные барыши. Они спали и видели себя баснословными богачами. Но одному богу известно, станет ли когда-нибудь этот сон явью? Ведь сельди-то нет! А между тем все трое вложили в дело немалые денежки. Они предусмотрительно сумели добиться права собственности на лучшие места в море и оградили это «право» с помощью всяких мудреных законов и юридической казуистики. Теперь никто не смел там рыбачить, прежде чем компаньоны не продиктуют свои условия. А сельдь не шла! Конечно, она появится рано или поздно. Но есть ли гарантия, что она попадет именно в их сети? Ведь может быть и так, что сети компаньонов, чистые и сухие, придется сложить обратно на чердак. И рухнут тогда все надежды на то, что эти нетронутые, девственно чистые сети, погрузившись в водную глубь, наполнятся богатыми дарами моря. Понятно теперь, почему глубокие морщины прорезали лица богатеев, на которые страсть к наживе давно уже наложила свой отпечаток…
Дела были так плохи, что сам Мусебергет натянул куртку и явился на поле боя. Три могущественных туза, проклиная друг друга, выискивали причины постигшей их неудачи. С утра и до сумерек (а они в эту пору наступали довольно рано) в доме Мусебергета слышались раздраженные голоса и язвительные речи. Каждый из компаньонов подумывал о том, чтобы выйти из сообщества, взыскав убытки с двух других…
Однажды вечером атмосфера накалилась до предела. В пылу спора были уже названы имена стряпчего и адвоката. Голоса звучали особенно громко, и могучие кулаки с грохотом опускались на стол, покрытый плетеной скатертью. И в это время из-за мыса Калвен показалась черная остроносая лодчонка. Резкий порыв ветра обрушился на нее, яростно надувая парус, и лодка снова исчезла за мысом. Компаньоны заметили это и поняли, что это означает. Лодка плыла по темному, свинцовому морю навстречу всё усиливавшемуся бризу, — а уж это яснее ясного предвещало непогоду. На небе появились красноватые отсветы, над горизонтом нависли тяжелые черные тучи. Завтра в море не выйдешь. А долго ли продлятся штормы? Быть может, до самой весны, когда цены на сельдь окончательно упадут? При мысли об этом Ульрик вскочил со стула и подошел к окну. И тут его бросило в дрожь: эта остроносая лодчонка была ему как будто знакома. Ульрик едва не заскрежетал зубами от злости. Еще бы! Парень, который находился в ней, не раз околпачивал Ульрика и оставлял его в дураках, а сам всякий раз выходил сухим из воды. Это — Единорог! И вот он снова является к ним незваным гостем. Что ж, очень хорошо! Теперь, под горячую руку, они обрушат на общего заклятого врага всё, что накипело у них на душе. Ульрик почувствовал огромное облегчение.
Единорог ввалился в комнату и очень серьезно сказал:
— Мир дому сему.
Три богатея словно онемели. Тогда Единорог подошел к окну и произнес, будто про себя, но достаточно громко:
— В шторм придется отсиживаться на берегу. Скверная штука — выйти в открытое море, когда волны так и хлещут о скалы. Ничего хорошего!
Затем он отошел от окна, уселся на дровяной ящик у очага и скрестил на груди руки. Его маленькие, широко расставленные глазки, казалось, косили еще больше, чем обычно; кривой нос был вызывающе задран кверху, а рот растянулся в улыбке от уха до уха.
Ульрик перевел дух. Сейчас он выпроводит этого бродягу за дверь с подобающим благословением. Но прежде он так отчитает мошенника, что тот долго его будет помнить. Окончательно распалившись, Ульрик вскочил и зафыркал в усы, точно рассерженный кот. Но вдруг застыл на месте с широко разинутым ртом. То, что сказал Единорог, засело в его голове и в головах компаньонов прочно, как гвоздь в стене. А сказал Единорог следующее:
— Тот, кто дожидается, покуда сельдь придет в этот фьорд, в то время как шторм уже у порога, либо дурак, либо скупой, либо хочет навлечь беду на своих компаньонов… А может, просто неудача ходит за ним по пятам, — добавил Единорог.
«Дурак и скупой»? — чепуха! «Навлечь беду»? — тоже не так страшно. Но ведь он еще сказал: «Неудача ходит по пятам», а это уж намного хуже. Ясно, на что намекает Единорог. Всем известно, что призрак рыбака[52] бродит где-то неподалеку, и ведь не зря же существует поговорка: «Пришла беда — отворяй ворота». А сначала-то у них всё так хорошо складывалось! Косяки сельди всегда заходили в этот фьорд. Нужно было только постараться всеми правдами и неправдами сделать воды фьорда собственностью компаньонов, так, чтобы никто другой не имел права здесь рыбачить. Это-то и была гениальная идея Мусебергета. Благодаря ей компаньоны могли диктовать рыбакам условия и нанимать рабочую силу и фрахтовые суда по дешевой цене. Дело в том, что они наняли людей рыбачить только в водах этого фьорда. С такими случаями рыбакам до сих пор еще не приходилось сталкиваться. И этим-то компаньоны собирались воспользоваться. Теперь они уничтожат ко всем чертям прошлогодние расценки и старые условия найма. Трехлетний опыт убедил их в том, что сельдь всегда заходила в этот фьорд. Ошибки быть не могло. Заключая контракт с рыбаками, компаньоны всё же бросили им приманку: оговорили, что если рыбакам придется ловить рыбу в другом месте, на севере или на юге, то старые расценки и доли улова остаются в силе. Но этого коммерсанты не боялись. Рыба всегда заходила именно в этот фьорд, Мусебергет предусмотрел всё. Но он не подумал о том, что сельдь может не появиться вообще!
А теперь гениальная идея, и деньги, и снаряжение — всё полетело к черту. Этого убытка каждый из них не мог простить ни себе, ни своим компаньонам.
Но вот появился Единорог и, как видно, хочет им что-то предложить. Этот чертов пес чует сельдь за версту.
Рейнерт Мусебергет прикрыл веками большие совиные глаза, распустил на шее шарф и задумчиво облизал усы кончиком толстого языка. При виде этих жестов Кристафер удивленно уставился на Мусебергета. Затем искоса взглянул на Ульрика, который тоже обратил внимание на странное поведений Мусебергета. Именно поэтому Ульрик медленно опустился на стул и слова проклятия застряли у него в горле. И на этот раз Единорог ускользнул из его рук! Все трое медленно обвели глазами комнату. Им показалось, что морская раковина, лежавшая на комоде, слегка шевельнулась.
Мусебергет прокашлялся.
— Ты что же, притащился сюда только для того, чтобы дать нам добрый совет? — произнес он с презрительной усмешкой. — Никто не посылал за тобой, никому ты тут не нужен. Я еще не забыл твою последнюю проделку, сатана! Не думаю, чтобы ты желал нам добра, хоть и даешь добрые советы.
Единорог ухмыльнулся. И от этого в комнате сразу будто посветлело. Мусебергет был окрылен собственной удачной репликой, которую он постарался запомнить для будущих рассказов об этом случае.
— Уж лучше не доверять заранее, чем после сомневаться, — сказал Единорог.
Компаньоны снова переглянулись. Наступило долгое молчание.
Сомнений больше не оставалось: Единорог, этот старый опытный рыбак, по каким-то особым приметам почуял сельдь.
— Ну, в чем дело? — сказал наконец Мусебергет. — Выкладывай! Да только без уверток и проволочек. Того и гляди, нагрянет шторм.
— У меня есть для вас сельдь! — сказал Единорог.
Все трое быстро вскочили, но тут же поспешно сели снова. Черт побери, они ведут себя как мальчишки!
— Где? — хрипло спросил Мусебергет.
— Вот в этом-то всё дело, — хладнокровно ответил Единорог.
— Сколько? — спросил Ульрик дрожащим голосом.
— Сколько? — Единорог сморщил нос и задумался, как человек, который не желает впасть в преувеличение. — Я думаю, двадцать тысяч гектолитров. Не меньше!
Тут они снова вскочили. Черт с ним, пусть они будут похожи на мальчишек! Да ведь это же спасение!
Они переглядывались друг с другом, безмолвно и быстро обмениваясь вопросами и ответами. Затем пристально посмотрели на Единорога. Не собирается ли он опять сыграть с ними шутку? Тогда пусть поостережется!
Шесть мощных сжатых кулаков угрожающе лежали на столе. Но глаза смотрели с мольбой и надеждой.
Единорог, конечно, был разбойником и отъявленным плутом, которого давно следовало бы засадить в бергенскую темницу, где когда-то сидел Ест Бордсен[53]. Но нечестным назвать его было нельзя.
— А далеко эта сельдь? — спросил Мусебергет. Теперь он снова стал холоден и спокоен. — Ты видишь, дьявол уже мутит море. Скоро там начнется такая чертовщина, что на берег и то носа не покажешь.
— Нет, недалеко, — ответил Единорог. — Только выйти в море надо не медля. Я вам потом всё объясню. Сельдь там словно в колодце. А кругом — ни суденышка, ни лодки… Никто не ухватит улов у вас из-под носа.
— Даем тебе полную арендную долю улова, — сказал Мусебергет и вытащил из портфеля бумаги.
— Спасибо вам, да только… — Единорог больше ничего не сказал и отошел к окну.
Ульрик следовал за ним по пятам. Они стояли у окна и глядели на черные тучи, которые собирались у горизонта. Они видели, как постепенно темнело море, покрываясь серовато-грязной зыбью. Всем было ясно, что это означает.
— Говори свои условия! — сердито бросил Мусебергет.
Единорог вернулся к столу и грохнул по нему тяжелым кулаком.
— Полная доля улова мне; полная арендная доля и все права — арендатору тех мест. И баста!
Мусебергет задумчиво сморщил нос. Вдруг это место — золотое дно, в котором всегда будет появляться сельдь, а они свяжут себя договором?
Двое других сидели слегка разочарованные, но всё еще возбужденные.
— Договор только на этот год, — тихо произнес Единорог.
Три богача нерешительно переглянулись. Они смотрели в окно, и их била нервная дрожь.
— Потом там сельди не будет, — сказал вдруг Единорог уверенно. — Эта масса сельди — божья причуда, и я тут ни при чем. Ежели там потом будет сельдь — отдаю обратно свою долю улова. Но теперь время не терпит. Не хотите?.. Что ж, найду других рыбаков, поумнее вас. Они-то, небось, поймут, что добрый нюх на сельдь полезнее пасторской помощи и что лучше добыть тихо-мирно малую долю улова, чем перегрызть друг другу глотки из-за большой. Счастливо оставаться! И радуйтесь, что на тот год у вас останутся чистые сухие сети и вам не придется тратить время, чтобы их чинить. Тут, — Единорог обвел комнату глазами, — тепло и сухо; сидите себе на мели и не суйтесь в море. Так-то оно безопаснее…
— Погоди! — закричал Мусебергет. Ни на кого не глядя, он стал писать договор и от волнения то и дело ставил кляксы на бумаги. Кристафер и Ульрик читали из-за его плеча и то одобрительно, то укоризненно покачивали головами. С тяжелым вздохом Мусебергет поставил точку.
— Вот! — зарычал он и швырнул бумагу Единорогу.
Тот, прочитав по складам написанное, поставил внизу свою подпись. Затем другие сделали то же самое. Бумага исчезла в кожаном бумажнике, который Единорог всегда носил за пазухой. Спрятав ее, он ободряюще кивнул своим компаньонам. И лишь тогда Кристафер разворчался; он знал, что Единорог не изменит своему слову, и потому мог позволить себе небольшую резкость.
— Черт побери все эти новомодные выдумки, бумаги и всю эту писанину, — сказал он недовольно. — Словно мы все отъявленные мошенники и не доверяем друг другу.
Единорог усмехнулся.
— Через час надо выходить в море, — сказал он.
Небольшая флотилия шхун и лодок отошла от берега и на всех парусах понеслась к северу. В проливах между островами тянуло сквозняком, точно в доме с открытыми окнами. Ветер надувал паруса, но рыбаки всё-таки сидели на веслах и гребли так, что пот катился с них градом. Казалось, надежда на большую оплату удесятерила их силы.
— Быстрее! — кричал Единорог, с беспокойством поглядывая на запад.
Остальные заметили его волнение. И тут Кристафер, Ульрик и Мусебергет стали кричать наперебой.
— Быстрее! — вопили они, и парни в лодках изо всех сил налегали на вёсла.
Флотилия приближалась к группе маленьких островков. Ветер всё крепчал и всё быстрее гнал суда вперед. Теперь они попали в самую гущу островков, где ни один разумный рыбак не вздумал бы ставить сети. Море здесь было совсем спокойно. Прилив шел на убыль. Через час течение переменится и ни одна лодка не сможет войти в пролив. Но что из того? Самый широкий пролив находился как раз перед ними. Если разразится шторм, это будет спасением. Впрочем, что им здесь делать вообще? На лбу Мусебергета залегли глубокие складки. Темные тучи собрались над их головами. Неужто этот чертов бандит на сей раз оказался нечестным? Резкий порыв ветра налетел на паруса сверху, хотя на воде не появилось и легкой ряби. Рыбаки быстро убирали паруса. Одна лодка перевернулась, и ее втащили на борт Ульриковой шхуны. Непогода уже бушевала над ними. Но где же сельдь? Мусебергет потряс кулаком перед самым носом Единорога. Кристафер и Ульрик поспешили на помощь своему компаньону. Они чуть было не набросились на Единорога, но их остановил крик, донесшийся с первой лодки. Затем послышались еще крики. И вот на всех судах рыбаки стали так плясать и притопывать, что один юнец даже свалился за борт.
Шхуна, на которой находились компаньоны, подошла ближе. Глаза Мусебергета стали круглыми, будто два шара. Позже люди рассказывали, что он даже перекрестился, но это, скорее всего, выдумка. Можно откреститься от нечистой силы, но ежели ты сам хуже чёрта, то тут уж и крест не поможет.
В проливе кишмя кишела сельдь. А кругом — ни кита, ни чайки, ну, ни одной приметы! И как это рыбаки проглядели такое богатство?
В открытом море уже бушевал шторм, но на размышления не было времени. Нужно было укрыться от него как можно скорее. Лодки устремились к проливу. У устья течение было бурным, словно в реке, и нужно было проскочить, не разбившись о прибрежные камни. Зато в самом проливе море было совсем спокойно. Суда продвигались прямо по живой сельди. Но вскоре с задних лодок сообщили, что сельдь заметно убывает. Неужели это был только небольшой косяк? Тузы, нахмурив брови, обернулись к Единорогу.
Ах, эта проклятая бумага с их подписями!
— Вперед! — рявкнул Единорог, и парни снова принялись грести так, что кровь показалась на их ладонях.
Единорог направил флотилию через пролив прямо к Йормвикену. Тут уж три богатея решительно двинулись к нему, собираясь вышвырнуть за борт. Намерение это было написано на их лицах. Они не идиоты, чтобы их можно было так дурачить. Они знают, что здесь, в Йормвикене, не найти и одной отбившейся от стаи селедки. Их одурачили! Черт бы побрал этого Единорога! В воду его! Но Единорог только молча указал рукой вперед. И при виде открывшейся картины три богача машинально разжали кулаки и разинули рты. Более удивительного зрелища им никогда не приходилось видеть, да и вряд ли когда-нибудь еще придется. В самом узком месте залива, между скалами, покачивалась на воде маленькая флотилия. Операцией руководили две первые лодки. В одной из них находился Тьодолф с сыном, мальчиком лет десяти, а в другой — первенец Тьодолфа со своим младшим братом. Поодаль на плоту стояли две стройные худощавые девушки. Нижние юбки их были подобраны у колен наподобие шаровар, а светлые волосы развевались на ветру, словно у амазонок в пылу битвы. Вдали, на берегу, на сложенных ящиках для рыбы стоял еще один отпрыск семейства Тьодолфа. Но что это? Они едва поверили своим глазам! Тут же находилась и сама Мария, без юбки, в красных домотканых панталонах с широкими белыми оборками у колен, напоминавшими пасторский воротник.
«Она всё еще хороша!» — подумал Кристафер, сентиментально вздохнув, и вспомнил о том времени, когда эта женщина могла бы стать его женой, предложи он ей пойти с ним в церковь, после того как получил отказ на менее возвышенное предложение.
Шхуна быстро приблизилась к этой необычайной флотилии. Все обитатели Йормвикена хлестали по морю тяжелыми березовыми ветками, загоняя сельдь в залив. У Тьодолфа, его старшего сына и Марии в руках были чуть ли не целые деревья. Они хлестали, вопили, улюлюкали и производили дьявольский шум. Море пенилось от этих ударов. Тьодолф вопил уже не своим голосом. Из горла его вырывался какой-то хриплый пронзительный вой. И вой этот пронизывал до мозга костей. Семейство Тьодолфа трудилось не поднимая головы. Единорог, зная, как долго им пришлось пробыть в воде, покачал головой.
— Надо бы Тьодолфу обзавестись доской с грифелем к следующему полугодию! — сказал он сердито и удрученно. Все ответили на это взрывом хохота.
Теперь наступила очередь рыбаков приниматься за дело, хотя они сами уже выдохлись. Но нужно было ставить сети. Черт с ней, с усталостью! За дело! И они живо принялись за работу, с радостью думая о том, что теперь получат плату по старым расценкам. Ведь они ловят рыбу не в фьорде трех богачей! Они с благодарностью смотрели на Единорога, который сам руководил ловлей, хотя здесь присутствовали три самых могущественных человека на всем побережье — Мусебергет, Кристафер и Ульрик. Но те и не думали возражать. Нервы их напряжены были до предела. Только бы сельдь не ускользнула от них. Сердца их бешено колотились. Здесь всё дело решали минуты, быть может — даже секунды! Напряжение всё росло. Компаньоны не спускали глаз с лодок, на которых рыбаки разматывали сети. Затаив дыхание, следили они за тем, как соединялись сеть за сетью, пока вся бухта не была перекрыта ими. Теперь даже самая мелкая рыбешка не могла бы ускользнуть от них, и рыбакам можно было перевести дух и отереть пот со лба. Но они вздрогнули, услыхав крик Единорога:
— Еще один барьер снаружи! — Затем последовал целый набор ругательств, которые придали новые силы рыбакам.
— Все оставшиеся сети — в море! — кричал Единорог. И снова началась суматоха.
Мусебергет неодобрительно покачал головой. Зачем это нужно? Разве нельзя было использовать лишние сети в другом месте? Он зло посмотрел на Единорога. Два других компаньона снова стали горько раскаиваться в том, что подписали договор. Но когда они пересели в лодку и поплыли по заливу, то просто своим глазам не поверили. Да, Единорог был прав! Здесь нужно было пустить в дело все сети! Вода под килем бурлила от шевелившейся в ней рыбы. С каждым взмахом весла множество сельдей взлетало вверх. Единорог, этот чертов плут, сдержал-таки свое слово. Три могущественных коммерсанта не отрываясь глядели вниз на копошившуюся под ними живую массу.
Они и не заметили, как жалкий флот Тьодолфа стал потихоньку подвигаться к берегу. Они не видели сгорбленных фигур, которые, не оглядываясь, сновали по берегу от лодок к домам, они не слышали, как плакали, сгибаясь под тяжестью ящиков, самые маленькие дети и как старшие спешили им на помощь. Они не слышали и голоса Тьодолфа. Да это было и немудрено, потому что он молчал, как немой. Он помогал маленькой Ловисе, своей любимице, которая только что оправилась от паралича, но тоже работала.
Четверо в лодке плыли прямо по массе сельди. Но это вдруг вызвало у них тревогу.
— А вдруг сельдь пройдет мимо? — растерянно сказал Ульрик. — О господи, помоги нам! Черт побери твои гнилые сети, Кристафер, они могут испортить нам всё дело! Да и у тебя сети старые, Мусебергет! Если сети не выдержат, виноваты будете вы, и я никогда вам этого не прощу. О милостивый боже, сделай так, чтобы мои сети помогли этим ничтожным негодяям, которые опускают свои дрянные сети вместе с новыми и прочными. Помоги мне спасти этих пройдох, которые не думают вовремя о трудностях и заботятся только о наживе! — Ульрик рвал и метал…
И вдруг сельдь повернула и исчезла у них на глазах. Компаньоны лишь почувствовали, как какая-то огромная тяжесть потянула их лодку и стала раскачивать ее из стороны в сторону. Вода в заливе заколебалась, словно в гигантской чаше, и на гребне волн замелькала серебристая рыба, еще не попавшая в сеть. Не в силах человеческих было удержать эту огромную тяжесть. Три могущественных туза сидели в лодке и глядели на богатство, на которое уже давно перестали надеяться. Сельдь скопилась у самых берегов, а затем с неимоверной быстротой повернула в сеть. И тут рыбаки взялись за неводы. Первый невод заколебался, точно вымпел на свежем ветру. Сельдь напирала. Множество рыбы шевелилось на поверхности, напоминая бурный кипящий поток. Давление усилилось, и невод стал подаваться назад, пока не натолкнулся на следующий барьер. Два других невода также выгнулись полумесяцами, и Мусебергет чуть не задохнулся от страха. Сельдь всё прибывала. Никто не шевелился. Все словно окаменели. И вот два невода стали медленно подаваться к третьему барьеру, который по приказанию Единорога был поставлен снаружи.
Ульрик кусал ногти. Кристафер вспомнил об ошибке, которую он допустил по отношению к какому-то бедняку, и дал обет немедленно ее исправить, как только вернется к себе в банк.
А сети уже были натянуты, будто тетива на луке, — вот-вот лопнут. Но они выдержали. И снова в них устремилась сельдь, навстречу массе сельди, пытавшейся вырваться на свободу. Всё кругом снова закипело.
Мусебергет облегченно вздохнул. Ульрик оставил в покое свои ногти, а Кристафер тотчас забыл свой молчаливый обет. Мусебергет решил, что обязательно приобретет новые сети.
По их подсчетам, здесь было не двадцать гектолитров, а все тридцать! Вот это улов! И вдруг Кристафер начал петь, Ульрик — притопывать в такт ногой, а Мусебергет заржал, точно жеребец. Они хлопали Единорога по плечу и снова и снова повторяли, что прощают ему все его проделки, которыми он изводил их в течение двадцати лет, если не больше! У него хороший нюх на сельдь, и он — верный друг. Хотя, с другой стороны, он, конечно, исчадие ада. Это они признавали единодушно.
Никто не встретил их у лодочной пристани. Они выбрались на берег и пошли в дом Тьодолфа. Всюду была тишина. В постелях лежали Тьодолф, Мария и дети. Все они спали, широко открыв рты. Старший мальчик лежал поперек постели, уткнувшись головой в одеяло, ноги его были согнуты и прижаты к спинке кровати, а в кулаке он сжимал березовую ветку. Единорог так и не смог разжать его руку. Он бережно повернул мальчика на постели, чтобы ему было удобнее.
Гостям пришлось самим согреть себе кофе и улечься на полу. Печь, наполненная торфом, была раскалена…
С тех пор Тьодолф Йормвикен стал свободным человеком. Получив свою долю улова, он поселился в более подходящем месте и завел себе бот и рыболовные снасти. Теперь он залезал в долги в лавке с таким же достоинством, как и те рыбаки, которые пользовались доверием.
Мусебергет, Кристафер и Ульрик заработали много денег на улове, так что это была во всех отношениях радужная история. Но, увы, ничего радужного на свете не бывает…
Дело в том, что на следующее утро после этого богатого событиями дня сельдь появилась как раз в том самом месте, где и предполагал Мусебергет. Ее было необычайно много. Некоторые старики утверждали, что ничего подобного они в жизни не видывали.
Фрахтовое судно, которое укрылось от шторма за мысом Калвен, попало в огромный косяк сельди; рыба отдыхала, перед тем как войти в фьорд. «Там было не менее ста тысяч гектолитров», — говорил шкипер этого судна. А уж он-то не лгал: это был старый, опытный моряк.
Фьорд был весь забит сельдью. Косяки стояли здесь долго, а затем потянулись к югу, на радость тамошним морякам, глаза которых покраснели от тревог и бессонных ночей. Но Мусебергет, Кристафер и Ульрик не разделяли этой радости. Стало быть, их гениальный план был бы осуществлен, если бы не появился из-за Калвена Единорог на своей остроносой лодчонке. Так вот почему он так торопился! Он, видимо, по приметам знал, что сельдь скоро будет здесь. Говорили, что у Калвена она так и кишела!
Мысль о потере огромной прибыли выводила их из себя. Дело дошло до крупной ссоры. Зачем Мусебергет составил договор, не посоветовавшись с ними? Но Мусебергет нашел достойный ответ на эти инсинуации.
И не успели они оглянуться, как Кристафер уже затеял жестокую тяжбу с Ульриком, Ульрик с Мусебергетом, Мусебергет с Кристафером. При этом они обменялись такими «любезностями», что никакое сотрудничество их в дальнейшем стало невозможно. Рухнула вся система с пониженными расценками. Теперь они ненавидели друг друга. Однако существовал человек, которого они ненавидели еще больше. Это был Единорог. О если бы они могли упрятать его под замок! Счастью их не было бы границ. Этой последней проделки они ему уж никогда не забудут!
Когда Единорог пришел, чтобы получить свои деньги, они встретили его молча, сощурив глаза. Никто из них не протянул ему руки, никто не пригласил сесть. Он стоял у порога, а компаньоны молча и презрительно глядели на него. Но прежде чем уйти. Единорог обернулся и спокойно сказал:
— Я с вами согласен. Лучше быть одному, чем в плохой компании…
И на прощанье так хлопнул дверью, что большой портрет, изображавший Оскара II с супругой, свалился на пол.
Заколдованная шхуна
(Перевод Л. Брауде)
«Терпение и молчание — единственное право бедняков, хотя им не возбраняется постоять за себя языком», — говорил, бывало, Морской Волк.
Чуть южнее города Бергена среди голых прибрежных шхер лежит чудесный цветущий остров. В стародавние времена славился он своим картофелем. На этом острове жил некий рыбак. Веселого задора и стойкости в несчастье было у него хоть отбавляй, а в придачу к веселому нраву — еще целая куча ребятишек. Их у него росло душ восемь, мал-мала меньше! Рыбак и его семья жили в страшной бедности, но переносили ее с большим достоинством.
И лишь один-единственный раз ни находчивость, ни веселый нрав не помогли рыбаку выпутаться из беды. И вот об этом-то и пойдет речь.
Сиверт был невысок ростом, тощий и узкоплечий, с непомерно длинной шеей и огромным кадыком. Но как он пел! Люди, знавшие толк в этом деле, поговаривали, что в Сиверте пропадает великий певец. Был он темноволосый, с крупным носом, резко выступавшим над небольшим круглым подбородком, а под ним намечался какой-то уж очень забавный второй подбородок. Всё это придавало лицу Сиверта выражение лукавого озорства. Да он и был озорником! Пушистые светлые усы казались фальшивыми по контрасту с его темной гривой.
Всем было невдомек, как случилось, что красавица Дорди Ельмеланн вышла замуж за этакого бедолагу. Но непохоже, чтобы она в этом раскаивалась. Родом она была из зажиточной семьи, владевшей и усадьбой и рыбным промыслом; жили они что твои богачи — на городской манер. Братья надули ее, лишив наследства и вообще всего, что ей причиталось по родительскому завещанию.
Но Дорди только смеялась, а Сиверт сочинил о ее братьях забавную историю, которая обошла всё побережье и прижилась повсюду, где только она пришлась к месту. Ведь таких случаев встречалось немало и на самом побережье и дальше в горах, — пожалуй, там еще больше.
Перелистывая в один прекрасный день толстую конторскую книгу, купец Рейнерт Мусебергет обнаружил, что долги Сиверта записаны на целых двух страницах. А подсчитав всю сумму, он пришел в ужас. Попробуй взыщи с Сиверта такой долг, даже в рассрочку! Да, плакали кровные денежки Мусебергета! Всякому, кто знал нрав купца, было яснее ясного: эта потеря подействует на него как самая тяжкая болезнь. Негодуя на это упущение в своих денежных делах, которые были для него дороже сердечных, Мусебергет заподозрил во всем третью дочь Сиверта, нареченную диковинным для тех краев именем: Ауроника. Эта девушка торговала в его лавке, и за ней увивались не только все местные молодые люди, но и сам Мусебергет. Однако весь его интерес к ней испарился, словно роса под лучами солнца, как только ужасное подозрение закралось в его уязвленное сердце. Отныне лишь здравые, деловые размышления лишали его ночного сна. Да к тому же здоровую оплеуху никак не примешь за дружескую ласку! И Мусебергет не мог взять в толк, какого черта он, после того случая в каморке Ауроники, еще отпускал в кредит товары ее отцу. А хуже всего то, что Сиверт получил в кредит сети и всю рыболовную снасть. Уж это было из рук вон плохо!
В долгие часы ночной бессонницы досада и огорчение всё росли и росли в душе Мусебергета, пока он в один прекрасный день не потребовал, чтобы ленсман взыскал с Сиверта долг.
Сиверт выстроил себе красивый дом, потому что был мастер на все руки и славился своей резьбой по дереву. А что особенно редкостно: Сиверт был подлинным наследником старых бродячих мастеров, которые расписывали розами потолки и двери по всей округе. Эти розы были такие яркие, что, казалось, солнышко светит в парадной горнице даже в бурное ненастье. Платили за такую работу гроши, и только любовь Сиверта к труду и краскам заставляла его выполнять работу на совесть.
Обитателей дома на острове как громом поразило: Мусебергет, всегда благоволивший к ним, собирается вдруг взыскать с них долг. Да еще как взыскать! Ведь он попросту отнимет у них дом! Впервые в жизни у Сиверта опустились руки. В оцепенении просидел он дома целых три дня, а Дорди бегала вокруг него, ломая руки. На дом-то ей наплевать, а вот то, что ее Сиверт упал духом, — это самое страшное…
Но однажды вечером Дорди вдруг пришла в голову счастливая мысль. Она бросилась к Сиверту, который всё время сидел возле печки, уставившись на пустой дровяной ящик, силой подняла его, обрядила в засаленный плащ и потащила к причалу, не переставая сыпать благословения и проклятия. И не успел Сиверт сообразить, что же, собственно говоря, произошло, как уже, сидя за рулем, держал курс на север, к островку, где обитал Единорог…
Сиверт вернулся повеселевшим. Почему-то он принялся бродить по дому, словно навсегда прощаясь с ним. Но Дорди слышала, как он всё время мурлычет какую-то песенку. А потом он вдруг стал насвистывать, стоя перед дверью в парадную горницу, украшенную чудесными узорами из роз. Засунув руки в карманы, Сиверт прогуливался по горнице. Иногда Дорди, не спускавшая с него глаз, вдруг замечала, что он останавливался в дверях как вкопанный и безмолвно шевелил губами. Как пить дать — он задумал какую-то злую шутку.
«Наконец-то в нем снова пробудился шутник! — с облегчением думала Дорди. — Теперь-то уж всё будет в порядке! Верно, Единорог надоумил его. Уж этот человек — сущий клад! Он всегда что-нибудь придумает!»
В субботу Сиверт снял с гвоздя под навесом пустой мешок, кивнул возившейся в кухне хозяйке и вскользь сказал:
— Заскочу-ка я мимоходом к Мусебергету и раздобуду что-нибудь на похлебку к воскресенью. Хватит нам голодать!
Сиверт как раз только что расписал несколько фризов у одного молодого парня которому до зарезу нужно было поторопиться со свадьбой.
Все разговоры разом смолкли, как только Сиверт вошел в лавку и сказал своим густым басом: «Мир дому сему!»
Мусебергет презрительно взглянул на вошедшего и звучно втянул в нос понюшку табаку. Но тут же он насторожился и во все глаза уставился на человека, который шел по пятам за Сивертом. Это был Единорог! А уж он, пожалуй, добрых полгода не переступал порога лавки Мусебергета после своей последней мошеннической проделки! И тут-то купец почуял недоброе. Эти двое зря к нему не явятся…
В лавке, как и всегда по субботам, толпились покупатели. В одном углу жевали табак рыбаки. В другом судачили их жёны в черных шалях и несколько расфранченных городских девушек, поглядывавших на парней. Охорашиваясь, девушки выставляли напоказ свои красные кофты и стеклянные бусы. Табачный дым тяжелой завесой стлался под низким потолком, а от сырой шерстяной одежды валил пар.
На дворе бушевала непогода.
Сиверт и Единорог остановились посреди лавки, притворяясь, будто разглядывают жестяные вёдра, свисавшие с потолка. Вид у обоих был озабоченный и серьезный. Кое-кто из рыбаков, желая скрыть усмешку, отошел в сторону, прикидываясь, что надо сплюнуть жвачку. Уж они-то хорошо знали этих двух плутов. Теперь и у рыбаков, пожалуй, найдется что порассказать забавного дома вечерком! В лавке стало совсем тихо. Даже женщины перестали трещать и украдкой поглядывали на Сиверта, — ведь скоро его вышвырнут из собственного дома! Старый Юн, который в это время рассказывал какую-то историю, попытался было продолжать, но недовольно смолк. И тут Сиверт откашлялся. На прилавке звенели гири весов, в руках у приказчиков шелестели кульки. В субботний вечер Мусебергет всегда помогал торговать в лавке, — тогда дело спорилось. Вот и теперь он управлялся так быстро, что приказчики едва поспевали за хозяином. Но краем уха Мусебергет прислушивался к словам Сиверта.
— Вот ты, Юн, болтал здесь о разных чудесах, — сказал Сиверт, — а ведь и мне тоже довелось немало повидать на своем веку. — Даже не наклонившись, он ловко сплюнул прямо в плевательницу, хотя стоял в двух метрах от нее.
— Да, так вот, — продолжал он, — случилось это в тот самый год, когда я ловил рыбу поблизости от Финмарка. Нанялся я тогда на шхуну — ну и красавица же была эта шхуна, доложу я вам! Но странные творились там дела, хе-хе! Все мы на борту были с юга, все, кроме одного. А жили мы у хозяина точь-в-точь как какие-нибудь воры или мошенники, которым не дозволялось разговаривать с людьми. М-да, но тогда-то мы об этом не задумывались. Вещи наши были тут же на борту, и в один прекрасный день отправились мы в море. После случилось так, что один парень с севера, звали его Аннаньяс Be… вскорости он утонул вместе со своей лодкой, бедняга, ну да не об этом сейчас речь!.. Да… так вот этот Аннаньяс всё удивлялся, что на борту шхуны из Финмарка служили одни только стрили[54]. И вот Аннаньяс осмотрел шхуну до самого последнего гвоздика, и на лице его застыло задумчивое выражение.
Однажды темной ночью стою я у руля и вдруг сдается мне, что с подветренной стороны раздается крик: «Помогите!» Тогда я, пустив шхуну по ветру, стал звать остальных рыбаков. Они прибежали в одном исподнем и начали прислушиваться. Ни звука! И в ту же самую минуту полный месяц выплыл из-за туч и осветил ясное, как зеркало, море, такое ясное, что даже издали видна была самая легкая рябь. И тогда все рыбаки ну ворчать, ну мылить мне голову. Но в тот же миг у самой кормы снова раздалось: «Помогите!» Тут уж услыхали все! Тогда кое-кто начал почесывать в затылке. Правда, мы не слыхали больше ни криков, ни мольбы о помощи. Но вскорости после этого один парень из Ельте-фьорда нашел свой псалтырь за кухонной плитой. А он и не подходил к своему сундучку, да и замок был сработан старыми мастерами и его не открыть было даже самому знаменитому взломщику Есту Бордсену.
Через несколько дней прибегает как угорелый наш кок и рассказывает, что уже дважды спускался в каюту с большой миской картофеля, которую, убей его бог, там и оставлял. Но каждый раз, возвращаясь обратно к своим горшкам, кок снова находил эту самую миску у себя в камбузе. Кок кричал, что ни минуты не останется на борту, не разузнав, то ли он сошел с ума, то ли здесь нечисто.
Ну вот, шкипер метался по шхуне, ругая и проклиная на чем свет стоит кока, этого дурака, как он его величал; он орал на него так, что его голос разносился по всей рыбачьей флотилии. Да и кок не был тихоней, и когда он вторил шкиперу, то его тоже было слышно на всем море.
«Я сам встану в дверях, а ты неси в каюту миску с картофелем. Уж ни одна живая душа не проскользнет мимо меня! Ну, живо, поторапливайся!» — кричал шкипер.
Кок сломя голову бросился вниз с миской и вскоре возвратился, запыхавшийся и бледный как смерть. Он на цыпочках подошел к шкиперу, презрительно смотревшему на него. На всех шхунах флотилии работа прекратилась и рыбаки с интересом наблюдали за происходящим.
«Ну, — завопил хозяин, — теперь миска стоит в каюте, так что можно и успокоиться. Хватит чепуху молоть!»
Но только он хотел пройти мимо кока, как вдруг остановился, и мы уронили сети со всем уловом в море. Глаза кока блуждали, губы шевелились, и сам он трясся, точно осиновый лист. Кок, уставясь на какой-то предмет за спиною шкипера, указывал на него дрожащим пальцем. Шкипер не спеша повернул голову, словно предчувствуя, что суждено ему видеть. И точно: в камбузе стояла миска с картофелем! А шкипер-то всё время загораживал дверь своим могучим телом!
На пятый день снова случилось недоброе. И тогда все рыбаки покинули шхуну. Рыба совсем не ловилась, хотя в море ее было полным-полно, и на других шхунах рыбаки то и дело вытаскивали тяжелые сети.
Когда же мы сошли на берег и разговорились с людьми, то узнали всю подноготную про эту шхуну…
В лавке воцарилась мертвая тишина. Даже Мусебергет осторожнее орудовал совками и гирями. Приказчики так и застыли за прилавком с пустыми кульками в руках и во все глаза глядели на Сиверта.
— И что же вы думаете, — продолжал Сиверт, — красавица шхуна без конца меняла владельцев. Но кто бы ни покупал ее, всегда повторялось одно и то же: чудеса да напасти! А хуже всего то, что шхуна шла ко дну в первый день пасхи, когда команда собиралась в церковь. Поговаривали, будто самый первый ее владелец продал душу черту, чтобы спасти жизнь во время страшного шторма. Но удивительней всего: этой шхуне не страшны были любые ненастья и даже суровая зима. Однако в первый день пасхи — ничего не поделаешь — шхуна шла ко дну. А ведь она бывала битком набита прихожанами, отправлявшимися в церковь. Говорили, будто черт с лихвой вознаграждает себя в этот день за то, чего был лишен в течение целого года. Но потом шхуна снова всплывала на поверхность. Ее не раз продавали человеку, ничего не ведавшему ни о шхуне, ни о проклятии; которое тяготело над ней. И всегда шхуну продавали подальше на юг, и всегда случались с ней всё новые и новые несчастья! На этой шхуне никогда не ловилась рыба. Те, кто был в доле с хозяином, обращались в кассу помощи беднякам, а шкиперам изменяла удача и их начинали сторониться владельцы других шхун. Да, шикарная это была шхуна! Избави бог всякого попасть на ее борт! — так закончил свой рассказ Сиверт и, сплюнув табак в плевательницу, пошел к прилавку, держа в кулаке десять крон, чтобы все видели: он может уплатить за покупку наличными.
В лавке нависла жуткая тишина. Обычно Сиверт всегда увеселял их в субботу разными небылицами, но от этой истории волосы вставали дыбом. Да и начало лова было не за горами!
Ауроника с улыбкой подошла к отцу, а тот с важным видом протянул ей десять крон и громко, на всю лавку, сказал:
— А ну-ка, голубушка, возьми эти сто крон и дай мне товару на десять да девяносто крон сдачи!
Тут стены лавки потряс такой громовой хохот, что задребезжали все вёдра и жестянки. Ведь Мусебергет не умолчал о своем гнусном подозрении: Ауроника-де отпускает отцу продукты без денег. Мусебергет стиснул зубы и украдкой поглядел на Единорога. Тот стоял, прислонившись к притолоке, с таким невинным видом, что сразу становилось ясно: опять у него что-то на уме. Сиверт накупил продуктов на десять крон. Но когда он сложил их в свой мешок, тот оказался совсем тощим. А ведь все знали, сколько голодных ртов ждет его дома на острове. Множество глаз с укоризной смотрело на Мусебергета. Но мурашки на спине у купца забегали вовсе не от этого. Ведь он только что страшно выгодно купил шхуну недалеко от Намдалена. И сразу же снарядил ее на рыбную ловлю. Со дня на день шхуна должна была выйти в море. Ясное дело, он не верит в этот вздор. Да и вообще, владельцы его шхуны менялись всего лишь один раз, ну от силы — два! Это он мог доказать. Но, но… как-то уж очень высоко держал голову Сиверт, совсем непохожий на того пришибленного человека, каким Мусебергет видел его всего лишь несколько дней тому назад. Да и Единорог не станет зря прогуливаться на мыс Хаммернессет. Во всяком случае, уж не ради того, чтобы выслушивать рассказы Сиверта! Конечно, нет, черт побери! Что-то они задумали!..
Дня за два до выхода шхуны в море в лавку вломился матрос Симон, старший сын Эмануэля Уфлакса. На щеке у него была кровь, да и вся рубашка была залита кровью. Мусебергет вцепился руками в прилавок, а глаза его, казалось, хотели выскочить на лоб.
— Сижу я в каюте, — дрожащим голосом рассказывал Симон, — и пишу письмо моей девушке, чтобы она призналась во всем отцу… Хотелось нам отпраздновать свадьбу, лишь только я вернусь с рыбной ловли… А тут как начнет капать с потолка, да на бумагу, и посмотрите-ка! — Он протянул окровавленную руку с таким видом, словно хотел отшвырнуть ее от себя.
Женщины поспешно покинули лавку, так ничего и не купив. Они словно боялись, что чужое несчастье коснется и их.
Мусебергет, потрясая своими кулачищами под носом несчастного Симона, стал ругать его на чем свет стоит. Ведь это была кровь только что заколотого теленка, висевшего над каютой.
— А ну пошли! — кричал он рыбакам. — Вы увидите, что это кровь заколотого теленка!
Но когда все явились на шхуну, то оказалось, что теленок висит уже не над каютой, а в кормовой части палубы, поблизости от рубки рулевого. У Мусебергета отвисла челюсть, а глаза его только что не выскакивали из орбит. Задыхаясь от ярости, он лишь молча покачал головой.
В тот же вечер, отправившись в море, чтобы проверить мотор (потому что Мусебергет раздобыл для шхуны разное новомодное снаряжение), рыбаки и сам Мусебергет отчетливо услыхали крик: «Помогите!» Но сколько они ни прислушивались, ни звали и ни кричали — всё было напрасно, никакого ответа!
Этим же вечером в каюте собрались озадаченные рыбаки. Следующий день был субботний, а в воскресенье вечером, как ни кинь, надо выходить в море. Мусебергет клялся всеми святыми, что рассказы о шхуне — сущий вздор. Он показывал им бумаги, в которых значилось, что шхуна почти новая, что до него у нее был всего один владелец, ну два. А если судить по ее номеру, то построили ее много лет спустя после того как Сиверт ловил рыбу у Финмарка. Всё это было написано черным по белому.
— Бумаги-то — это конечно, — задумчиво сказал шкипер. (Рыбаки навострили уши.) — Нас такой чепухой не запугаешь, — добавил шкипер. — А теперь пошли-ка на берег…
Но тут снова случилась беда. Поднимаясь на палубу, Симон вдруг поднял крик.
Обычно рыбаки причаливали к пристани с юга, — так было проще всего. Как было дело на сей раз, никто припомнить не мог. Все были озадачены историей с привидениями. Но Симон-то помнил. И он начал выкрикивать всё тем же дрожащим голосом:
— Мы шли со стороны Вогена (и это было верно) и проходили мимо Бреккестёена (этого никто не помнил). Причалили к набережной, и шхуна уткнулась носом в камни. А теперь? Глядите-ка: пока мы сидели внизу в каюте, шхуна сама повернулась. Не выйду я в море на заколдованной шхуне, хоть посылайте за мной ленсмана!
Он ринулся в каюту, и вдруг поднял там такой дикий вой, будто его резали. Рыбаки бросились вниз по крутому трапу. Там, прижавшись к стене и дрожа всем телом, стоял Симон. Трясущейся рукой он показывал на кухонную плиту. Все медленно обернулись в сторону плиты. Там лежал псалтырь, принадлежавший шкиперу. И лежал он как раз под самой курткой шкипера, висевшей на стене.
Тогда все взгляды устремились на Мусебергета, а шкипер, проклинавший в глубине души эту шхуну, нетвердым голосом произнес:
— Бумаги-то твои, как видно, фальшивые, батюшка Мусебергет, так что поищи-ка себе другого шкипера!
И все рыбаки сошли на берег.
В тот же вечер Мусебергет отправился спать пораньше, чтобы хорошенько поразмыслить на досуге. И вот тут-то дошла до него суть всей этой таинственной истории. А то, что он сделал потом, было еще диковиннее, чем все эти привидения и заколдованные шхуны. Он послал Ауронику в дом на острове с целой пачкой счетов, на которых черным по белому было написано «Уплачено». А вслед за Ауроникой, как-то странно располневшей за последний месяц, приплыл в лодке мальчишка с целой грудой подарков, словно сейчас было рождество…
С той поры Мусебергет прославился своей «благотворительностью»…
Если в прошлую субботу лавка была битком набита людьми, то на этот раз их было еще больше.
Каждый раз, когда звонил колокольчик, Мусебергет поднимал голову. Видно было, что он очень волнуется. Наконец в лавку вошел Единорог, а за ним Сиверт — всё с тем же пустым мешком за плечами. Мусебергет принял это к сведению. Ведь Сиверту покупать в лавке было нечего: дома у него было всё, что нужно, и даже с избытком. Мусебергет заметил также какой-то новый огонек в орлиных глазах Единорога.
Сиверт, втянув носом воздух, ловко сплюнул в плевательницу. Молодежь с восхищением смотрела на него. Тут же стоял какой-то дуралей и, кусая ногти от злости, изо всех сил старался плюнуть так же далеко.
— Знаешь, Сиверт, твоя-то заколдованная шхуна тут объявилась, сказал какой-то рыбак.
И тогда все наперебой стали рассказывать Сиверту о том, что произошло. Сиверт с самым серьезным видом слушал, кивая головой, и настроение у людей всё ухудшалось и ухудшалось. У Мусебергета от волнения даже вспотели руки.
Но тут Сиверт быстро вскинул свой хитрый нос к потолку и звучным басом произнес:
— Всё это, может, и так, но разве я не рассказывал вам, что та шхуна сгорела дотла в заливе Стейнсвикен?
Мусебергет вздохнул с облегчением и тут же решил послать на остров еще какие-нибудь продукты. Из тех, конечно, что начали немного портиться. Но когда-то они были первосортными.
— Ну а кровь? Откуда капала кровь? — робко спросил кто-то из угла.
— Хе-хе-хе! — расхохотался Сиверт. — Вот уж не подумал бы, что из-за ерунды поднимется такой шум. Ведь всё случилось потому, что этот дуралей, — он указал на матроса, — перенес теленка в другое место и повесил его поблизости от рубки рулевого уже после того как Симон побежал в лавку… Ведь ты это сделал? — резко спросил он.
И парень кивнул головой и ухмыльнулся.
Шкипер дважды крякнул, прежде чем спросить:
— Ну а крик? Мы все слышали крик.
— Это я тоже объясню, — спокойно ответил Сиверт. — Кричала моя дочка. Она была на мысу и пыталась загнать домой телку, которая совсем взбесилась и постоянно удирает из дому. А ведь вы знаете, когда крикнешь, крик отдается в скалах, а потом эхо повторяет его в море.
Ну да, все это отлично знали! Самая любимая игра мальчишек. Да и рыбаки не раз забавлялись ею в свое время: они кричали тогда, повернувшись лицом к скале, а потом прислушивались, чей крик слышится дольше всех в море.
Мусебергет вздохнул с облегчением. Теперь оставался только псалтырь. Сможет ли Сиверт так же находчиво объяснить и эту историю?
— А псалтырь? — мрачно спросил шкипер.
— А не ты ли здесь жаловался на свою чертову жену, которая никак не соберется зашить дыру в кармане твоей куртки? — спросил Сиверт. — Не ты ли стоял вот на этом самом месте с псалтырем в руках и собирался пойти послушать нового проповедника в молельне, а потом передумал и сунул псалтырь в карман?
— Ну ясно, так оно и было! — воскликнул выскочивший вперед Симон. — Ну и ослы же мы все! Черт побери! Ведь ты повесил куртку над кухонной плитой; псалтырь-то возьми да и вывались из прорехи!
Тут уж все физиономии прояснились: оказывается, никакого колдовства не было! Все заулыбались и закивали друг другу головой. Шкипер повернулся к Мусебергету и сказал:
— Ну вот что! Мы вернемся на шхуну и выйдем в море завтра вечером, как уговорились!..
Мусебергет, чуть не прослезившись, радостно кивнул головой. Он был почти что растроган. Сиверт высморкался и сказал:
— Не так уж страшен черт, как его малюют!..
И с этими словами Сиверт и Единорог вышли из лавки. У входной двери задребезжал колокольчик, и кое-кто украдкой переглянулся. Взгляд Мусебергета засветился холодным блеском. Будь он трижды проклят, если это не одна из новых выдумок Единорога!
Спустя две недели после того как шхуна вышла в море и на долю ей выпал богатый улов, смущенная и пристыженная Ауроника пришла к Сиверту и Дорди и сказала, что получила письмо от Симона. Он хочет, чтобы она во всем призналась отцу и матери. А уж после возвращения Симона с рыбной ловли они отпразднуют свадьбу, потому что она на пятом месяце.
Вдобавок же ко всему, они так любят друг друга!
Не всякому слову верь
О том, как Готлибу с мыса Корснессет достался новый мотор для лодки
(Перевод Ф. Золотаревской)
Однажды вечером Морской Волк сказал мне:
«Историю об этой проделке моего отца рассказывают на разные лады, так что я уж и не упомню, что говорил об этом сам старик. Никогда не след забывать, что люди иной раз могут кое-что и присочинить.
Случилось это перед первой мировой войной. За год или за два до нее. Эту историю часто рассказывают рыбаки зимними вечерами или в те дни, когда сидят на берегу в ожидании сельди.
А ведь не захворай маленькая Рейдюн крупом, никакой истории не было бы вовсе. И старый Готлиб не раздобыл бы нового мотора для своей лодки…
Было это поздним летним вечером. По морю гулял небольшой шторм, какие обычно бывают в конце августа или в начале сентября. Единорога разбудил Эмануэль Уфлакс. Он что есть мочи барабанил в дверь лачуги, где жил в те годы Единорог.
— Эй, ты, вставай, что-то неладное приключилось на Корснессете у старого Готлиба! — орал Эмануэль.
Не успел он перевести дух, как дверь распахнулась и на пороге показался Единорог. Одной рукой он поддерживал подштанники, а другую приставил козырьком ко лбу и стал вглядываться в ясный горизонт, где белело северное небо, которое иногда ослепляет почище, чем закатное солнце. Единорог сощурил свои усталые глаза, когда-то слывшие самыми зоркими среди жителей островков, и кивнул. Его плотное коренастое тело напряглось словно струна, косматые черные волосы взъерошились, скулы обозначились еще резче, нос заострился.
— Да, дело ясное, — пробормотал он. — Кто-то там просит о помощи. Что еще стряслось у Готлиба с мотором?
Через несколько минут Единорог и Эмануэль Уфлакс уже шагали к рыбачьей лачуге.
Ветер крепчал. Правда, шторм еще не разыгрался, но в море перекатывались большие валы, и это означало, что где-то ураган бушует вовсю. На берег набегали небольшие волны. Но они-то и были самыми коварными, потому что могли вдруг подняться огромной водяной стеной и раздавить большой пароход, не говоря уже о каком-то рыбачьем суденышке.
В воздухе запахло штормом. Тому, у кого на такие вещи было особое чутье, сомневаться в этом не приходилось. Единорог, который в те годы был уже стариком, стоял задумавшись и положив руку на борт своей длинной черной парусной лодки, сделанной когда-то в Усе одним лишь старинным топором и без всяких расчетов, а просто так, на глазок.
Эмануэль слегка подался назад. Единорог понял этот красноречивый жест, но на сей раз не усмехнулся. Он не сводил глаз с прибоя, достигавшего вершины скал. Он видел, что волны становятся всё больше и больше и что шторм разыгрывается не на шутку, а ночью будет еще сильнее, потому что где-то далеко в море ураган уже бросил в бой свои главные силы. При каждом порыве ветра весь залив прямо-таки выхлестывало на берег. И Единорог думал о том, что нелегко будет пристать к берегу на Корснессете, где ветер еще сильнее. Эмануэль снова посмотрел на прибой и тихо сказал:
— На мою помощь не рассчитывай; у меня жена и семеро детей.
— А я никогда и не рассчитывал на твою помощь, — рассеянно ответил Единорог. С этими словами он пошел прочь от Эмануэля и стал карабкаться вверх по горам, где только козам впору было лазить.
Потом Эмануэль увидел, как Единорог обогнул скалу и двинулся по направлению к проливу. После часа ходьбы он выйдет к Стур-фьорду, — ведь ноги у старика всё еще чертовски проворны. Оттуда ему придется на лодке добраться до торгового поселка, где он сможет раздобыть рыбачью шхуну с мотором. Их теперь уже много появилось в этих краях.
Ну, короче говоря, Единорог раздобыл и судно и команду. Правда, с командой ему пришлось потруднее. В такую непогоду мудрено было пристать к берегу у мыса Корснессет. Об этом решительно заявил молодой, самодовольный и веселый старшина рыбаков, которому необыкновенно везло в море прошлую зиму. Он считал, что нужно подождать, покуда буря немного поутихнет. Пусть знает этот знаменитый Единорог, что другие не хуже его смыслят в таких вещах. И баста!..
Единорог потянул носом. Воздух был сильно разрежен. Тогда старик сказал, словно бы про себя, но достаточно громко, чтобы его могли слышать на пристани:
— Ежели бы все так топтались на берегу да опасались, как бы чего не вышло, то многим не пришлось бы теперь увидеть белого света.
Парень покраснел, застегнул куртку и без единого слова поднялся на борт. Единорог, усмехнувшись, похлопал его по плечу. Все знали, что когда-то черная остроносая лодка Единорога подобрала отца этого паренька во время шторма, в такую пору, когда никто и носа не решался высунуть в море, чтобы взглянуть, не барахтается ли там что живое.
Вслед за парнем на борт стали подниматься и другие. Мотор затарахтел, и судно отправилось в путь. Здесь, внутри шхер, море было ласковым и покорным. Но там, на просторе, оно рычало и билось, как разъяренный зверь, и вступить с ним в борьбу значило играть со смертью. Впрочем, смерть была привычной гостьей в этих краях. Часто случалось, что в субботу перед праздником какой-нибудь рыбак отправлялся на своей лодке в лавочку за табаком. Жена весело глядела ему вслед из кухонного окна. И вдруг лодку подхватывало на гребень огромной полны, переворачивало вверх дном и с силой швыряло о прибрежные камни. В одно мгновение жена удачливого рыбака превращалась в беспомощную вдову. Она отправлялась за пособием в благотворительные организации, и ее с детьми милостиво сажали на голодный паек. Такие вещи происходили часто даже в спокойном заливе, где не было ветра, и только последние содрогания урагана, бушевавшего далеко в открытом море, время от времени доходили сюда, неся смерть на гребне огромных, как стена, волн.
Об этом-то и подумал Эмануэль, когда Единорог сказал, что на Корснессете с каждой набегающей волной весь залив будто выхлестывает на берег. Готлиб поставил свою лодку на якорь далеко в открытом море, где ее порядком трепал шторм. Но всё-таки это было лучше, чем если бы она находилась в ту пору в тихом заливе. Тогда она в щепки разбилась бы о прибрежные камни при первой же набежавшей с открытого моря волне. Об этом знает на островах каждый мальчуган. И только те, кто приезжает сюда из города на лето ловить рыбу, думают, что они находятся в полной безопасности, если залив спокоен…
Ну, хватит об этом… Единорогу и его команде надо было думать о том, чтобы добраться до Корснессета. Он и Уле-малыш, молодой старшина рыбаков, пересели в легкую лодчонку. Ее вместе с огромной волной вынесло на берег и швырнуло, можно сказать, прямо к самому порогу домишка Готлиба. И здоровенные ручищи, изо всех сил вцепившись в лодку, потащили ее в заросли вереска, чтобы набежавшая новая волна не смыла ее обратно в море.
— Слава богу, что ты приехал! — воскликнул старый Готлиб и повел Единорога за собою в горницу с низким потолком и заколоченными окнами. На кровати деда лежала маленькая Рейдюн. Видно было, что она задыхается.
Единорог подошел поближе. Дела были плохи. Он вспомнил, что в молодости сталкивался с такими болезнями. В те времена они случались чаще. Когда он, безусым пареньком, плавал на шхуне, у них такой же болезнью захворал боцман. Ее называют «круп». Тогда у них на борту отыскался инструмент, зонд, который, по словам штурмана, мог помочь, если правильно ввести его и если судно находится не слишком далеко от берега, чтобы больного после этого можно было бы сразу же доставить к доктору. Но и доктора не всегда могли вылечить эту болезнь.
Единорог приподнял девочку и похлопал ее по спинке. В эту минуту она изо всех сил кашлянула, и ей стало легче дышать. Синева сошла с ее лица. Но все знали: через минуту удушье начнется снова и ребенку опять станет хуже.
Единорог без дальнейших проволочек завернул девочку в лежавшее на кровати тряпье и понес к выходу. Готлиб был уже одет. Непогода обрушилась на них. Они молча шли к берегу. Готлиб взял девочку из рук Единорога и сел с нею в лодку, стоявшую на берегу довольно далеко от воды… Единорог и Уле-малыш вместе с парнями, которые оставались на Корснессете, ухватились за лодку с двух сторон и стали наблюдать за волнами, одна за другой набегавшими в залив с моря. Словно гигантские пенящиеся горы, волны лавиной обрушивались на берег. Потом они, будто огромный, сжавшийся для сокрушительного удара кулак, слегка подавались назад и с силой ударяли о прибрежные камни. Если не удастся вовремя очутиться на вершине этой водяной горы, то нет никаких шансов выбраться в открытое море. Лодку швырнет на камни, и в следующий миг новый вал обрушится на нее и увлечет за собою в бездонную глубину. Парни знали это и ожидали только знака Единорога. Каждый мускул у них был напряжен, они были готовы к действию. Им нужно было толкнуть лодку в тот момент, когда пологая волна, начав отступать от берега, увлечет лодку за собой и вынесет ее на гребень самого высокого вала, а оттуда — далеко в море. Всё это должно произойти в течение нескольких секунд.
Единорог пристально следил за волнами, с громким урчаньем набегавшими в залив. Смотрел он и на утес, определяя высоту волны. Когда же огромный вал достиг самой вершины утеса, он стал ждать, пока гигантский кулак с силой ударится о берег и, разжавшись, устремится обратно в море. Тут Единорог крикнул «гей!». Лодку потащили по вереску и песку навстречу волне. Нос лодки врезался в волну, и лодка сразу же наполовину наполнилась водой. Но всё-таки она оказалась на гребне водяного вала, и парни, которые стояли по пояс в воде и в любую минуту могли быть унесены в море, слегка подтолкнули ее. В этот момент Единорог и Уле-малыш прыгнули на борт. Лодка взмыла над берегом прямо в море, а парни, поддерживая друг друга, снова вернулись на поросший вереском холм и стали наблюдать оттуда, как маленькое суденышко, словно скорлупка, ныряло вверх и вниз.
Во мгновение ока шхуна очутилась рядом с лодкой. Сильные руки подхватили находившихся в лодке людей и втащили их на борт. Пустую лодку бросили на волю волн. Через несколько секунд ее швырнуло об утес и разнесло в щепки, а шхуна, подгоняемая штормовым ветром, понеслась вперед. В каждой волне таилась смертельная опасность, но Единорог умело вел шхуну. Старый изношенный мотор громко тарахтел. Так быстро еще никто не добирался этим путем до больницы.
Они вышли в спокойные воды, и Единорог направил шхуну прямо к Большому Утесу. Оставалось только обогнуть его, а оттуда до окружной больницы было рукой подать. В это время Уле-малыш, запыхавшись, вбежал в рубку. Не успел парень разинуть рот, как Единорог был уже на палубе и опрометью мчался в каюту. Рейдюн ловила воздух широко открытым ртом. Готлиб держал девочку на руках, слегка наклоняя ее вперед и похлопывая по спинке. Но на этот раз ничего не помогало. Оба старика видели, что лицо ребенка всё больше покрывается синевой. Силы ее были на исходе. У нее совсем заложило горло, и ее начали бить судороги. С минуту Единорог стоял, словно окаменев. До пристани, где находилась больница, оставалось еще пять — десять минут ходу. Тут Единорог вспомнил, как старший штурман помог тогда боцману, быстро вытащил длинный охотничий нож, подержал его немного над огнем и, не слушая криков Готлиба, осторожно надавил и проткнул кончиком ножа шейку девочке, чуть повыше горловой впадины. Так когда-то штурман вводил зонд. Рейдюн со странным, жутким свистом втянула в себя воздух. Она тяжело дышала, но щёки ее порозовели и судороги в теле ослабли.
Они добрались до больницы, и девочкой занялся главный врач. Теперь рыбаки знали, что Рейдюн в надежных руках. Они уселись на ступеньках и стали ждать.
Был уже ясный день, когда главный врач вышел к ним и сказал, что самое худшее позади. Кризис прошел в то время, когда они были в море. В больнице девочке ввели в горло настоящий зонд вместо этого диковинного ножа. Теперь Рейдюн спит. А они могут возвратиться домой или пойти отдохнуть.
Но у Единорога было еще одно незаконченное дело. Он поднялся с гранитной ступени, оглядел Готлиба с ног до головы и рявкнул:
— Что это, черт побери, у тебя за порядки в хозяйстве? Отчего мотор неисправен? Ты думаешь, нам только и дела, что разбивать вдребезги свои лодки да помогать всяким болванам?
Готлиб вытер со лба холодный пот и тихо произнес:
— Однажды в субботу я поехал за товаром в Воген к Хансу Хансену, потому что в лавке у Мусебергета мне больше ничего не дают. А Мусебергет об этом узнал. И когда мне пришлось чинить мотор, то Лауритсен сказал мне: «Выкладывай денежки на стол, а не то отправляйся на юг, в Воген к своему Хансену». Ты ведь знаешь, что Лауритсен пляшет под дудку Мусебергета, потому что тот связал его по рукам и ногам. Но это еще не самое худшее.
— А что же самое худшее? — спросил Единорог.
— А то, что Мусебергет, наверное, скоро отберет у меня лодку и снасти. За них-то я заплатил полностью, но в лавке у меня очень большой долг. Так что я человек конченный. Придется мне податься на юг. Может, Мусебергет примется за меня уже на той неделе, а может и через несколько месяцев. Но это дело решенное. И всё мое добро пойдет с молотка!..
Готлиб больше ничего не сказал и только молча пожал протянутую Единорогом руку. Да, Готлибу жилось несладко. Его единственная дочь и зять погибли во время шторма, возвращаясь из церкви…
День, когда маленькую Рейдюн забирали из больницы, был для всех большим праздником. У многих нашлось дело по ту сторону фьорда, — шхуна была прямо битком набита. И вышло так, что почти все, закупив в лавке слишком много товару, пожелали продать излишки. Они предложили Готлибу купить всё это за полцены и согласились ждать с оплатой, пока у него не появятся деньги. Тут же они хохотали и подшучивали над собственной глупостью. Старый Готлиб принял их предложение, хотя сразу смекнул, в чем тут дело. Он не мог также отказаться и от подарков для Рейдюн, хотя среди них были такие, что подходили больше взрослому рыбаку, нежели шестилетней девчушке. Готлиб почесывал в затылке. Да ведь это бог знает, что такое! Ведь все они такие же бедняки, как он сам. Правда, он вконец разорился из-за этого новомодного мотора. Нет, надо было ему продолжать рыбачить под старым дедовским парусом до тех пор, пока не придет смерть. Этого ведь уж недолго осталось ждать. И к тому же его надули, подсунув мотор старой конструкции, от которого уже все давно отказались. Мотор этот просто разорял своих владельцев, часто требуя дорогостоящих починок. Вот если бы удалось ему отложить сотню-другую крон, то он купил бы прекрасный новый мотор последней конструкции. Говорят, он работает дьявольски хорошо, ну чисто часовой механизм!
Тут случилось так, что в тот момент, когда пастор с побережья собирался ехать на день рождения к Мусебергету, его лодка вдруг разбилась о камни около пристани. Сам же он остался стоять на берегу, разряженный в пух и прах, точно именитый богач, отправляющийся на свадьбу.
Тощий пастор Мюр часто служил мишенью для веселых шуток. Свет не видывал такого сухопарого субъекта, как этот лупоглазый пастор. К тому же он был большой оригинал. Иногда из него трудно было вытянуть хотя бы слово. Жил он в большой пасторской усадьбе, в своем родовом поместье, и вел хозяйство с большим уменьем. Кроме того, он был председателем правления банка и считался одним из самых преданных друзей Рейперта Мусебергета. Говорили, что между пастором с побережья — Мюром — и пастором с островов — Рокне — особой любви не было. Первый был чертовски богат, а второй — беден, как церковная мышь.
Пастор Мюр страдал язвой желудка и почти ничего не ел. Он был необыкновенно тощий — кожа да кости. Но, при всем том, он был очень силен. Его широкие, чуть сутулые плечи и сухопарая фигура придавали ему сходство с каменотесом. Бог знает, какую борьбу с самим собою ему пришлось вынести, прежде чем он принял решение пойти по духовной стезе. Однако никто не сомневался, что язву желудка он нажил от огорчений, так как вынужден был всю огромную силищу своих рук расходовать только на то, чтобы держать перед носом псалтырь… Жажда деятельности снедала пастора, но энергия его до некоторой степени находила выход в речах и проповедях. В промежутках он тихо сидел в своем кабинете и копил силы для нового выступления. Те, кто хорошо его знал, видели по его глазам, что он вскоре собирается разразиться новой речью или проповедью. В такие периоды он начинал усиленно жевать табак и при этом посылать вдаль просто сногсшибательные плевки. Это снискало ему гораздо большую популярность у прихожан, чем наставления и проповеди.
И вот пастор Мюр стоял на пристани, ничего не замечая вокруг. Он терзался тем, что никак не может найти отправной пункт для речи, которую должен произнести в честь дня рождения своего доброго друга Рейнерта Мусебергета.
Время от времени он посылал коричневый плевок на несколько метров вперед. Двенадцатилетние мальчишки, которые тоже начали жевать табак, при виде этого прямо-таки корчились от восторга.
Единорог шел к пристани, чуть заметно улыбаясь. Но вдруг улыбка замерла на его губах. Старика осенила какая-то идея. Он быстро подошел к пастору и сдернул с головы свою кожаную шапчонку.
Ежели отец пастор не побрезгует простой рыбачьей шхуной, то он, Единорог, перевезет его на Хаммернессет, чтобы отец пастор мог вовремя поспеть на день рождения Рейнерта Мусебергета. Ведь им всем так хочется передать с пастором свои поклоны и поздравления…
Пастор Мюр кивнул и послал коричневый плевок далеко в море. На сей раз не только мальчишки, но и старые рыбаки почувствовали к нему уважение. Потом он плюнул еще раз, и еще раз. Это было невероятно! Помилуй нас боже, скоро пастор Мюр навострится плевать через весь фьорд!
Единорог продолжал говорить и отвешивать поклоны. Мюр коротко кивнул, подошел к шхуне и с такой легкостью прыгнул на борт, что рыбаки только глаза вытаращили. Ведь пастор на вид был таким неуклюжим и неповоротливым! Мюр легко, словно перышко, отодвинул в сторону бочку, полную сельди, и рыбаки опять подивились его богатырской силе.
Старая шхуна отошла от берега, громко тарахтя и наполняя воздух запахами бензина и машинного масла. Палубные доски подрагивали в такт мотору, который в последнее время всё больше стал вытеснять добрый старый рыбачий парус.
Единорог передал руль Уле-малышу и приблизился к мрачному и молчаливому силачу пастору. Он учтиво завел разговор о погоде и о ветре, вовсе не дожидаясь от пастора ответов. Рыбаки делали вид, будто ничего не замечают. Они глядели куда угодно, только не на двух собеседников, но в то же время не упускали ни единого слова из их разговора.
Но вдруг все остолбенели, и табачная жвачка чуть не выпала из широко разинутых ртов. Подумать только, Единорог принялся расхваливать их общего врага, Рейнерта Мусебергета с Хаммернессета. Этого, можно сказать, убийцу Готлиба!
Ну нет, шуточки Единорога переходят всякие границы. По крайней мере такие шутки уж никуда не годятся! Ничего, рыбаки скажут ему пару слов по этому поводу, когда пастор покинет шхуну. Все сразу же значительно охладели к знаменитому насмешнику с острова Тоска.
Но тут последовала вторая неожиданность, которая почти что лишила рыбаков дара речи. Они напоминали конфирмантов, вмиг вышедших из повиновения своему учителю. Они презрительно оглядывали Единорога. Всеобщее проклятие было обеспечено и ему и его дому.
Но Единорог не обращал на это ровно никакого внимания. Он стоял за спиной у силача-пастора и нашептывал ему елейным голосом:
— Нет, о Рейнерте Мусебергете никто худого не скажет. Правду сказать, я и сам грешил этим, было такое дело, но теперь всем сердцем раскаиваюсь, что плохо отзывался о нем. А он-то ведь печется о, рыбаках на острове и так близко к сердцу принимает все их заботы и горести! Да будет стыдно всем сплетникам! А слышал ли отец пастор последние вести?
Пастор Мюр кивнул. Во взгляде его появился интерес. Этот рыбак с забавным прозвищем когда-то бывал у него в конторе, и в ту пору он не очень-то дружелюбно отзывался о Мусебергете. Но он оказался достаточно честным, чтобы опровергнуть ложные сплетни и разговоры.
Пастор стал внимательно слушать. Ведь это походило на исповедь раскаявшегося грешника! Негодование против Единорога на палубе всё росло.
— Нет, ей-же-ей, ничего худого о Рейнерте Мусебергете не скажешь. Коли я вру, стало быть врут другие. Слыхал ли пастор Мюр про этого бедного рыбака, что в один день лишился и дочки и зятя? У него вышла из строя лодка, потому что ему подсунули никуда не годный старый мотор. Неужто пастор Мюр так-таки ничегошеньки про это и не слыхал? Вот уж диковина! Да ведь про это толкуют на всем побережье и на островах! Или, может, отец пастор хворал всё время?
Пастор Мюр энергично покачал головой и стрельнул табачной жижей чуть ли не через весь залив. Рулевой Уле едва не свернул себе шею, чтобы разглядеть, куда попал плевок. Позже он клялся, что прямо на берег!
Потом пастор снова начал слушать Единорога. А тот орал что есть орлы, пытаясь перекричать трескотню мотора:
— Ну и вот, один недобрый человек захотел оттягать у бедняги и лодку и снасти, и пустил в ход всякие канцелярские плутни, о которых отцу пастору известно лучше, нежели простому неученому рыбаку. Да, коли я вру, стало быть и другие врут.
Тут рыбаки начали кое-что понимать и, почесывая в затылке, стали искоса поглядывать на Единорога.
Шхуна быстро продвигалась вперед, а пастор и Единорог продолжали беседу. Только пастор теперь начал беспокойно топтаться на месте.
— И тут Рейнерт Мусебергет с Хаммернессета пришел на помощь бедному рыбаку, — продолжал Единорог елейным тоном. — Благослови бог этого милягу, то бишь Мусебергета, хочу я сказать. Что бы вы думали? Он взял на себя всё это дело, заплатил за ремонт и купил рыбаку новый мотор! Разве пастор Мюр не слыхал про это? Ну, тогда многое, знать, проходит мимо его ушей. Может статься, отец пастор не знает и того, что Мусебергет подарил церкви новый колокол ко дню своего шестидесятилетия?
Пастор энергично закивал головой. Это ему известно. Он заметно оживился.
А Единорог с горечью продолжал:
— Вот бы послушали про это те, кто худо отзывается о таком достойном человеке. Да и чего там таиться? Я и сам иной раз поминал его недобрым словом. Кто не без греха? Только уж я по крайности не вожу с ним компанию, не ем и не пью за его столом. А теперь я, как сказано в писании, посыпаю пеплом свою грешную голову и раскаиваюсь всем сердцем. Рейнерт Мусебергет нам точно отец родной.
Единорог превзошел себя, расписывая доброту, кротость и милосердие Мусебергета. Пастор Мюр отодвинул бочку и поглядел на Единорога. Но мысли его были уже далеко. Церковный колокол и новый мотор для бедняка, — наконец-то у пастора была в руках основная нить речи на торжественном обеде! Он, правда, еще не знал, что именно он будет говорить, но всё-таки уже нашел тему! Даже не поблагодарив Единорога, пастор прошел мимо него и уселся около рубки. Потом он перекочевал на подветренную сторону и примостился на связке сетей. Оттуда виднелась его огромная черная шляпа и длинная лошадиная физиономия. Он принялся размышлять. Время от времени через борт в воду летел коричневый плевок. Потом пастор вышел из своего укромного уголка и принялся расхаживать по палубе, по-генеральски выпятив грудь. Иногда он размахивал руками. Он не замечал никого вокруг, но в воображении его были толпы слушателей. По мере того как его осеняли новые идеи, спина его выпрямлялась всё больше. На пастора Толлефа Мюра снова напал стих произносить речи. Эта его слабость была широко известна в округе, и рыбаки немало потешались над ней. Глаза пастора сверкали, худое лицо оживилось и стало почти красивым. Вся фигура дышала отвагой. Губы дрожали от нетерпения. И мало-помалу он стал говорить всё громче и громче…
Он, словно юнец, соскочил на пристань в Хаммернессете, и голос его звучал, как труба, некогда разрушившая стены иерихонские. Рейнерт Мусебергет встречал его, стоя на пристани со шляпой в руках. Приветствуя своего влиятельного банковского коллегу, он почтительно дожал пастору руку…
Мальчишка рулевой быстро повернул шхуну от пристани и дал полный ход. Нужно было во что бы то ни стало свернуть за ближайшую скалу, а затем выйти в открытое море, потому что рыбаки готовы были разразиться громовым хохотом. Они чувствовали, что вот-вот лопнут от сдерживаемого смеха. У них просто распирало грудь!
И едва только Хаммернессет скрылся из виду, как безудержный хохот грянул на судне. Никогда в жизни рыбаки так не смеялись.
Ах, как бы хотелось им быть хотя бы на кухне в Хаммернессете, когда пастор Мюр даст волю своему красноречию!.. Но, слава богу, у Мусебергета на кухне стряпают Ханка с дочерью, — они мастерицы подслушивать в замочную скважину. Эти женщины способны увидеть и услышать даже через стену. И всем становилось легче при мысли о том, что хоть они-то находятся поблизости от места действия…
В тот вечер пастор Мюр произносил одну из своих самых длинных и трогательных речей в жизни. Мюр веб больше и больше приходил в восторг от самого себя. Два месяца воздержания от речей требовали компенсации. Целую лавину слов обрушил он на нетерпеливых слушателей, которых непреодолимо клонило ко сну.
Но вдруг все разом проснулись.
Мюр заговорил о том, какую благодать сеял в округе Король Мыса Мусебергет. Послышалось короткое возмущенное фырканье, негодующе заскрипели стулья, но потом всё стихло.
Церковный колокол, о котором все уже знали, превратился в устах Мюра в серебряные фанфары. Он громко возвещал хвалу скромной щедрости Мусебергета, известного всей округе вплоть до самых дальних островов. Даже бедняки говорят об этом. Ведь пастор Мюр сам беседовал с ними сегодня днем на шхуне. Никто не сомневался, что пастор говорит правду, так как в своих проповедях он всегда поучал людей, что откровенность и чистосердечные высказывания — первейший долг христианина.
Да, пастор Мюр пережил сегодня большую радость, прямо-таки вкусил божью благодать! Он слышал опровержение дурных слухов о Короле Мыса из первых, так сказать, рук. И опровергал их человек, которого уж никак нельзя было считать лучшим другом Мусебергета. Человек этот был известен на островах под именем Единорог…
При этом имени все зажиточные тузы с островов и побережья настороженно взглянули на пастора. Сам Мусебергет заметно побледнел и зло заскрипел зубами. Впрочем, он тут же поспешно прикрыл рот, чтобы пастор Мюр ничего не заметил!
И вот снова прозвучала рассказанная Единорогом история. Но теперь она была преувеличена и к тому же разукрашена, словно огромная рождественская ель, увешанная разноцветными побрякушками.
Пастор Мюр готов был взобраться на стул. Его жилистое тело возвышалось над праздничным столом, и казалось, будто он парит над всеми, рассказывая эту божественную историю.
Гости украдкой поглядывали друг на друга. Глаза Рейнерта Мусебергета раскрывались всё шире, а щёки всё больше бледнели. Слышал ли он хихиканье за своей спиной? Дверь кухни была прикрыта недлотно. Он отметил это про себя, когда Ханка вышла из комнаты.
Пастор Мюр раскачивал головой из стороны в сторону, словно ему не хватало воздуха. Кадык беспокойно двигался на тощей шее. От его зычного голоса дребезжали оконные стёкла. В таком настроении пастор Мюр становился весьма опасным и безрассудным человеком. Рейнерт Мусебергет знал это, но его ожидали еще большие потрясения.
Пастор Мюр всё говорил и говорил, и Хаммернессет стал в конце концов казаться гостям божьей благодатью, благословенным прибежищем для бедных и страждущих. Мусебергет был примером милосердия и добрых дел. Эту тему пастор Мюр разыграл во всех вариациях, а затем на свет снова выплыли церковный колокол и мотор, но уже в новом обрамлении. И всё время пастор Мюр противопоставлял доброте и щедрости Мусебергета того безжалостного богача, который хотел отнять мотор и лодку, дом и всё добро у бедняка, лишившегося дочери и зятя, в то время, когда они морем возвращались с церковного богослужения. Эта речь произвела на всех присутствующих глубокое и неизгладимое впечатление. Но еще большее впечатление произвела она на тех, кто слышал ее из вторых рук. А уж о тех, кто слышал ее из третьих рук, и говорить не приходится.
История эта распространялась с необыкновенной быстротой, всё время обрастая красочными подробностями.
Но Мусебергет и после речи пастора всё еще оставался непоколебимым. Однако вскоре по островам прошел слух, что какой-то сумасбродный юнец, которому случалось и раньше сочинять песни, послюнил карандаш, приготовил бумагу и собирается сложить песню об этой истории. Тут Мусебергет понял, что попал в западню.
Ведь если песня будет написана и станет распространяться по всему побережью, она в конце концов достигнет ушей молчаливого пастора Мюра. Тогда этот меланхолический пастор сочтет своим долгом проверить, правда ли, что Хаммернессет является божьей благодатью для всей округи. Ведь он человек щепетильный, когда дело касается правдивости его речей. И тогда пастор Мюр поймет истинную суть своей речи и увидит, что в песне он выглядит просто легкомысленным болтуном. Пастор, который принимает всё близко к сердцу, едва ли перенесет этот удар. И уж во всяком случае он никуда не простит Рейнерту Мусебергету, невольно сделавшему его всеобщим посмешищем. Более страшное унижение трудно придумать.
И тут Мусебергет решил сделать ход конем, после чего сумасбродный поэт отложил в сторону карандаш и не стал складывать песню…
Когда Готлиб явился в больницу и спросил, сколько ему надо платить за лечение маленькой Рейдюн, ему сказали, что деньги уже уплачены. Кем? Это не имеет значения. До свиданья и счастливого пути!
А на пристани к Готлибу подошли Мусебергет с механиком и сказали, что на следующей неделе они приедут за его лодкой, чтобы поставить новый мотор. Кто же заплатил за него? Это неважно. До свиданья, и хорошенько смажь свою старую тарахтелку маслом, тогда нам не придется ее чинить.
В тот год Готлиб рыбачил в паре с Единорогом, и у них был богатый улов, как и всегда, когда в деле участвовал Единорог.
Старый Готлиб приободрился и, казалось, помолодел на несколько лет.
Эйвин Болстад
На страницах прогрессивных норвежских газет и журналов нередко можно встретить политические статьи, подписанные: «Тобиас Хьёлхалер». И лишь немногим известно, что «Хьёлхалер» — псевдоним одного из крупнейших современных писателей Норвегии, коммуниста Эйвина Болстада. По-норвежски «хьёлхалер» — рабочий, ремонтирующий старые корабли, очищающий их от ила и налипших водорослей. И если в поэзии образ Норвегии, старой морской державы, часто ассоциируется с образом корабля, то Болстад — «хьёлхалер» — писатель, который стремится очистить «корабль» от ила и водорослей, мешающих его движению вперед. Болстад рассказывает о военной катастрофе, грозящей родной стране, открыто и без прикрас показывает норвежскую действительность в прошлом и в настоящем. В этой книге, впервые выходящей на русском языке, рукою талантливого мастера современной литературы Норвегии нарисованы правдивые картины жизни и быта ее народа.
Реалистическое творчество Болстада имеет особый смысл в стране, где лозунг литературных снобов «искусство для избранных» является определяющим. Стремление таких писателей, как Сигбьёрн Хёльмебаккен, Бюлль Гюннерсен и другие, уклониться от актуальных проблем и уйти в область психоанализа явилось причиной того, что современной норвежской литературе, по словам известного критика-коммуниста Мартина Нага, — не хватает тесной связи с жизнью. Но есть в Норвегии и другая, довольно многочисленная группа прогрессивных писателей (Ингвал Свинсос, Аксель Саннемусе, Ингер Хагеруп, Эйвин Болстад и другие), которые в своем творчестве продолжают лучшие традиции норвежских классиков-реалистов.
Эйвин Болстад — автор шести романов, пяти пьес, более двухсот пятидесяти рассказов, нескольких радиопьес, киносценария об Эдварде Григе, книги «Сага о норвежских поселениях в Гренландии» и множества публицистических статей.
Как сложился жизненный и творческий путь этого писателя, каковы истоки его мировоззрения?
Эйвин Болстад родился 1 февраля 1905 года на севере Норвегии в небольшом городке Вардё, названном Мартином Андерсеном Ноксе бедным, грязным и безнадежным адом. Когда Болстаду исполнилось два года, его семья перебралась в Берген. Здесь будущий писатель окончил гимназию и стал работать конторщиком. Здесь же в еженедельной газетке в 20-х годах стали появляться его первые рассказы. В 1930 году он оставил работу, чтобы целиком посвятить себя литературе.
Берген, город, подаривший Норвегии и всему миру композитора Эдварда Грига, писателей Бьёрнстьерне Бьёрнсона и Нурдаля Грига, стал второй родиной Эйвина Болстада, который и поныне живет в Бергене и глубоко любит, по его выражению, даже камни мостовой на улицах своего родного города.
Берген — старинный центр национальной норвежской культуры — постоянный источник вдохновения писателя. Неподалеку от Бергена, на побережье, жили будущие герои рассказов Болстада — веселые и мужественные рыбаки «стрили» — носители неистощимой народной мудрости, хранящие в своей памяти легенды и сказания о жизни родного края. На узких, холмистых улицах города Болстад встречал потомков купцов-скопидомов, сатирически изображенных в его произведениях.
Большую роль в формировании мировоззрения писателя сыграли книги классиков норвежской и мировой литературы.
Важной вехой в жизни Болстада явились Великая Октябрьская социалистическая революция в России и норвежское рабочее движение 20-х годов. Он писал в своих воспоминаниях, что Октябрьская революция вызвала огромное воодушевление на его родине.
С первых же дней своей творческой деятельности Болстад стоит на прогрессивных позициях. Его настольной книгой, по свидетельству самого писателя, с начала 30-х годов становится «Капитал» Маркса. Большинство произведений Болстада, члена Коммунистической партии Норвегии, активного борца за мир, посвящено современности. Писатель считает, что в эпоху глубокого разброда и неуверенности на Западе можно правильно судить о будущем только исходя из глубокого познания современности. События гражданской войны в Испании и нападение гитлеровской Германии на Чехословакию, подготовившие вторую мировую войну, заставили Болстада задуматься о судьбе родины. Они побудили его написать пьесу «Патриот» (1938), в которой писатель предвидел оккупацию Норвегии. И хотя пьеса, первоначально названная автором «Вторжение», заканчивалась гибелью подпольщиков, в ней ясно ощущалось предсказание обреченности фашизма. Вполне понятно, что пьеса «Патриот» не увидела света ни в конце 30-х годов, ни во время второй мировой войны. Она была поставлена на сценах Бергена и Осло лишь после 1945 года.
В годы войны крепнут прогрессивные взгляды писателя, зреет его художественное мастерство. Прибежищем для многих участников движения Сопротивления стал дом Болстада, откуда шла правдивая информация о победах Советской Армии.
Болстад в это время пробует свои силы в новом для него жанре аллегории — басне, помогавшей ему наиболее смело высказывать свои мысли.
Важным проблемам современности посвящены и романы писателя «Позолоченные цепи» (1940), «Спекулянт» и «Красная бегония» (1946).
Первый роман Болстада «Позолоченные цепи», написанный в 1939–1940 годах, посвящен норвежской молодежи. Болстад считает, что свойственные ей нерешительность и безволие могут быть побеждены трудом.
В 1946 году увидели свет и два других романа Болстада «Спекулянт» и «Красная бегония». В романе «Спекулянт» автор рассказывает о людях, предававших родину во время оккупации. После войны эти предатели норвежского народа снова подняли голову. Они пытаются возродить фашизм и организовать единый фронт против Советского Союза. На страницах газеты «Ланд ог Фольк» датский писатель-коммунист Ханс Кирк писал о романе «Спекулянт»: «Это — необычайно талантливый и значительный роман, смело решающий самые актуальные вопросы».
В романе «Красная бегония» Болстад широко апеллирует к общественности Норвегии, призывая ее обратить внимание на проблему социального обеспечения в стране. Рассказ о жизни туберкулезных больных превращается в волнующее повествование о людях, выброшенных обществом за борт. Волчьи законы буржуазного мира препятствуют благородной и гуманной борьбе медицины за здоровье человека. Люди, которых любовно выхаживали в больнице, выйдя оттуда, становятся жертвами безработицы и нищеты. Большим достоинством этого произведения является высказанная в нем мысль о необходимости борьбы, солидарности и дружбы трудящихся. Символ этого — цветок красной бегонии, давший название роману.
Выдающийся датский писатель Мартин Андерсен Нексе дал высокую оценку этому роману.
Немалое место в творчестве Болстада занимает и прошлое родной страны. В условиях всё более широкого распространения в Норвегии литературных боевиков, так называемых «бестселлеров» и «комиксов», обращение писателя к героическим эпизодам норвежской истории и лучшим традициям национальной культуры имеет огромное значение. Расцвету норвежских колоний в Гренландии и их трагической гибели посвящена небольшая книга Болстада «Сага о норвежских поселениях в Гренландии» (1945), рекомендованная в качестве учебного пособия для высших учебных заведений Норвегии. В романе «Завещание старого Винкеля» (1945) писатель рассказывает о жизни своего родного города в XIX веке. Герой романа — типичный бергенский бюргер, для которого золото заменяет все радости жизни.
Наибольший интерес среди последних произведений Болстада представляет сборник новелл «Насмешник с острова Тоска», опубликованный ко дню 50-летия писателя в 1955 году. Это произведение — своеобразный итог многолетней литературной деятельности Болстада-рассказчика. Его герои — старые знакомые писателя — стрили.
Более четверти века отделяет книгу новелл «Насмешник с острова Тоска» от первых произведений Болстада в этом жанре. С тех пор писателем было создано свыше двухсот пятидесяти рассказов. Большинство из них опубликовано на страницах ежемесячника «Магазинет фор алле» и других периодических изданий Норвегии.
В новеллах Болстада, так же как и во всех других его произведениях, четко ощущается идейно-эстетическая позиция писателя, ратующего за доступное народу, полнокровное реалистическое искусство.
«В настоящее время, — говорит Болстад в одном из своих писем переводчикам, — известные, маститые наши писатели позволяют себе открыто говорить о том, что искусство не должно служить «человеку улицы». Оно якобы предназначено для избранных. Реалистическое искусство рассматривается ими как искусство низшего сорта. Эти писатели создают произведения, представляющие собою бессмысленный набор слов, туманных символов и вымученных фраз… Борьбе с проповедниками подобных взглядов на литературу я отдал тридцать лет своей жизни. Я стремлюсь к тому, чтобы мои рассказы приносили людям и пользу, и радость».
Главной темой современных рассказов Болстада является трагическая судьба простого человека в условиях капиталистической Норвегии. Герои рассказов «Двойник», «Человек возвращается домой», «Суд постановил» тщетно пытаются «найти себя», отыскать свое место в жизни. Буржуазное общество равнодушно к людям, оно безжалостно выбрасывает из жизни тех, кто не в силах бороться. Одинокие, отвергнутые всеми, погибают Кристен Уре и Сигурд Халланн («Клеймо», «За невидимой колючей проволокой»).
Судьбе простого труженика посвящены также рассказы, отображающие один из самых трагических периодов в жизни норвежского народа — период второй мировой войны и фашистской оккупации. Болстад подчеркивает, что главные трудности этого времени вынес на своих плечах народ. Но писатель рисует не только страдания, выпавшие на долю взрослых и детей («Маленькая женщина»). Он показывает и то, как обыкновенные, казалось бы ничем не примечательные люди, такие, как Элна и Асбьёрн Куллинг, герои рассказа «Сильнейший», и Холм, герой рассказа «Между молотом и наковальней», преодолев парализующий страх перед оккупантами, находят в себе силы вступить в беспощадную борьбу с врагом и во имя спасения родины совершают поистине героические поступки. Болстад изобличает и тех, кто в годы войны наживался на народных бедствиях, а зачастую ради прибыли шел и на прямое предательство. Это — зажиточные кулаки («Земляки»), это крупные промышленники, сотрудничавшие с нацистами, такие, как директор фирмы, отказавший от должности патриоту Рагнару Скугену («Без маски»), и коммерсант Хурдевик («Гадюка жалит самоё себя»). Писатель с гневом говорит о том, что эти люди, которые после разгрома оккупантов пытались скрыть свои преступления под личиной патриотизма, остались безнаказанными в буржуазной Норвегии.
Призыв к активной, действенной борьбе со злом проходит через все современные рассказы Болстада. Острый критический взгляд писателя проникает повсюду. Он едко издевается над одураченными мошенниками-дельцами, разорившими на своем веку немало честных людей («Биржевые спекулянты просчитались»), весело смеется над всё еще бытующими среди норвежских крестьян суевериями и предрассудками («В полночь является привидение»).
Горячо волнует Болстада проблема современной молодежи. В рассказе «Тень между ними» он подвергает резкому осуждению бездельника Тевсена и его друзей, за внешней предупредительностью, элегантностью и привлекательностью которых скрываются нравственная опустошенность, снобизм и холодное презрение к людям. Героиня рассказа Анне, девушка из трудовой среды, порывает с ними, предпочтя им простого рабочего пария Сиггена. Болстад повествует и о молодом, одаренном спортсмене, которого медленно, но верно губит сенсационная шумиха, поднятая вокруг его имени («Чемпион»), и о начинающем драматурге, вынужденном уродовать свои произведения в угоду циничным дельцам от искусства, потакающим невзыскательным вкусам публики («Трагедия модного писателя»).
Всем своим творчеством Болстад опровергает утверждение эстетствующих буржуазных критиков об ограниченности реалистического метода, якобы приводящего к жанровому и тематическому однообразию в литературе. Так же как и другие произведения писателя, рассказы его чрезвычайно разнообразны как по жанру, так и по тематике.
Болстад рассказывает не только о современной норвежской действительности. Он воспроизводит также далекое историческое прошлое страны, создает романтически приподнятые поэтические легенды, сочными красками рисует Берген прошлого столетия и быт вестланнских рыбаков в начале XX века.
Писатель находит особые краски для создания сюжетов, изображающих далекое прошлое Норвегии. С большим мастерством рисует он суровые, величественные образы древних норвежцев — вольных бондов, стрелков, скальдов. Манера повествования в этих рассказах представляет собой сочетание сдержанной простоты и торжественности при огромном внутреннем драматизме. Дух того времени писателю удается передать и в пейзаже — в описании густых, таящих опасность лесов, безмолвных, настороженных гор, облаков, беспокойно бегущих по ночному небу.
В статье «О чистых родниках и отравленных источниках» Болстад говорит, что народность — основа творчества всякого настоящего художника. Народ, его прошлое, его история, природа родной страны — вот те чистые родники, которые питают всякое истинное искусство. Однако, к какому бы периоду истории ни обращался писатель, он всегда остается страстным гуманистом, непримиримым противником угнетения, другом простого народа. Болстаду чуждо идиллическое, бездумное любование стариной. Обращаясь к далеким эпохам, он стремится сделать повествование как можно более актуальным, близким сегодняшнему дню. Описывая то или иное историческое явление, писатель пытается отыскать его социальный смысл, найти в нем какие-то точки соприкосновения с современностью. Идейная направленность рассказов Болстада, посвященных прошлому, остается такой же острой, как и в его современных рассказах. Героем повествования здесь также является народ.
Писатель умеет придать социальное звучание самому, казалось бы, далекому от реальной действительности сюжету. Так, в предании о Кровавом озере, в сказочном образе злого колдуна явственно проступают черты сельского богатея, наживающегося во время голода на народном горе, а трагические события легенды «Месть мертвых» являются грозным обличением власти золота и пагубной страсти к богатству.
В исторических рассказах Болстад говорит о непримиримых противоречиях, существующих между народом и его властителями — вероломными королями и хёвдингами. В рассказах «Предательство короля Улава» и «Битва при Стиклестаде» писатель рисует простых крестьян-бондов истинными патриотами, мужественными и свободолюбивыми воинами. Он говорит об извечном законе королей «разделяй и властвуй» и противопоставляет им народ, сила которого — в сплоченности и единстве.
В цикле рассказов из жизни старого Бергена подкупают сочный юмор, искрящееся веселье, едкая насмешка. В этих произведениях писатель создает целую галерею колоритных образов — прижимистых и чванливых купцов, их жен, еще не отучившихся от лексикона бергенских торговок, бойких на язык кормилиц, ловких и сметливых девушек, придурковатых сынков разбогатевших коммерсантов. Своеобразие исторического развития Бергена, одного из крупнейших торговых портов Норвегии, наложило отпечаток на быт, нравы и характер его жителей. Болстад ядовито высмеивает дух торгашества и стяжательства, царивший в среде бергенских купцов, у которых вместо сердца — «приходо-расходная книга». Темой большинства рассказов бергенского цикла является борьба между «чековой книжкой и любовью». Молодая девушка вопреки воле родителей соединяет свою судьбу с честным и работящим юношей. Добиваясь своей цели, влюбленные ловко используют слабости чванливых отцов семейств — их корыстолюбие и тупоумие. Болстад показывает, как страшен мир коммерсантов и торгашей, способный изуродовать, исковеркать человеческую жизнь («Фальшивая гиря»). Лишь счастливая случайность помогает отвоевать у этого мира будущего великого композитора Эдварда Грига («Композитор или торговец омарами?»).
Глубокая народность, юмор, яркий образный язык бергенских рассказов сближают их с рассказами из сборника «Насмешник с острова Тоска». Эта книга, переведенная на многие языки, по праву высоко оценена норвежской и зарубежной критикой. Газета «Фрихетен» отмечала, что «Насмешник с острова Тоска» — одна из самых веселых книг норвежской литературы, но при этом — книга, полная глубокого смысла.
Сборник «Насмешник с острова Тоска» представляет собой цикл рассказов, связанных единством замысла и образом одного героя — рыбака по прозвищу Единорог, «норвежского Ходжи Насреддина», как называет его сам автор. Единорог вступает в борьбу с могущественными богатеями, «хозяевами» побережья — Мусебергетом, Кристафером и Ульриком, которые беззастенчиво притесняют и грабят рыбаков. Лукавый ум, народная смекалка, умелые руки — единственное оружие, при помощи которого Единорог одурачивает врагов. Образ Единорога — большая удача автора. В этом образе как бы воплощены лучшие черты норвежского народа — мужество, великодушие, неистощимый оптимизм, веселый, задорный юмор. Писатель щедро расцвечивает повествование оборотами народной речи, меткими пословицами и поговорками. В рассказах немало волнующих сцен, но ни в одной из них герои не дают выхода своим чувствам, обычно скрытым за грубоватой шуткой, острым словцом, неуклюжей лаской.
Создав книгу «Насмешник с острова Тоска», Болстад еще раз показал себя зрелым, большим мастером современной норвежской литературы.
Болстад не только крупный писатель. Он является также одним из наиболее известных общественных деятелей Норвегии. Болстад — редактор и основатель газеты бергенских рабочих «Арбейдет», он — стойкий борец за мир и демократию. Дважды побывал Болстад в СССР. В своих публицистических статьях он неоднократно писал о том, что простые люди Норвегии с любовью и гордостью следят за успехами Советского Союза, возглавляющего борьбу всех народов против войны — самого страшного бедствия человечества.
Советский читатель знаком с некоторыми произведениями Болстада. На русский язык переведены его роман «Спекулянт», пьеса «Патриот», а также целый ряд рассказов и публицистических статей. Сборник «Без маски» даст возможность советскому читателю еще ближе узнать творчество этого даровитого норвежского писателя-реалиста. Для русского издания автор обработал и сократил ряд рассказов.
Л. Брауде. Ф. Золоторевская.