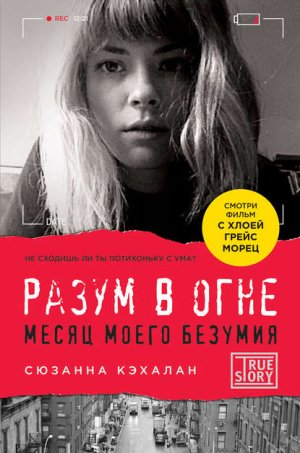
Susannah Cahalan
BRAIN ON FIRE. MY MONTH OF MADNESS
Copyright © 2012 by Susannah Cahalan
Originally published by Free Press, a division of Simon&Schuster, Inc.
© Змеева Ю. Ю., перевод на русский язык, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Посвящается всем пациентам с моим диагнозом
Существование способности забывать так и не доказано: мы лишь знаем, что некоторые вещи не приходят на ум, когда мы того желаем.
Фридрих Ницше
Пролог
Сначала ничего не видно и не слышно.
– Мои глаза открыты? Здесь есть кто-нибудь?
Я не могу понять, движутся ли мои губы и есть ли в комнате кто-то еще. Слишком темно, я ничего не вижу. Моргаю раз, два, три раза. Нутро сжимается от необъяснимого страха. Потом я понимаю, в чем дело. Мысли преобразуются в речь медленно, словно продираясь сквозь патоку. Вопросы складываются из отдельных слов: где я? Почему голова чешется? Где все? А потом окружающий мир постепенно проступает – сперва его диаметр с булавочную головку, но постепенно окружность расширяется. Из тьмы возникают предметы, фокус настраивается. Через минуту я их узнаю: телевизор, занавеска, кровать.
Я сразу понимаю, что должна выбраться отсюда. Делаю рывок вперед, но что-то мне мешает. Пальцы нащупывают сетку ремней на животе. Они удерживают меня на кровати, как… не могу вспомнить слово… а, как смирительная рубашка. Ремни пристегнуты к двум холодным металлическим поручням по обе стороны кровати. Я хватаюсь за них и подтягиваюсь, но лямки впиваются в грудь, и мне удается приподняться лишь на пару сантиметров. Справа от меня закрытое окно – похоже, выходит на улицу. Там машины – желтые машины. Такси. Я в Нью-Йорке. Я дома.
Но не успеваю я испытать облегчение, как вижу ее. Женщину в фиолетовом. Она пристально смотрит на меня.
– Помогите! – выкрикиваю я.
Но выражение ее лица не меняется, будто я ничего не сказала. Я снова пытаюсь вырваться из ремней.
– Не надо так делать, – произносит она певуче, со знакомым ямайским акцентом.
– Сибил? – Но разве это возможно? Сибил была моей нянькой. В последний раз я видела ее в детстве. Почему она вернулась именно сегодня? – Сибил? Где я?
– В больнице. Ты лучше успокойся.
Нет, это не Сибил.
Мне больно.
Женщина в фиолетовом подходит ближе, наклоняется, чтобы расстегнуть мои путы сначала с правой, потом с левой стороны, и ее грудь слегка касается моего лица. Когда руки освобождены, я инстинктивно поднимаю правую, чтобы почесать голову. Но вместо волос и кожи нащупываю лишь хлопковую шапочку. Я срываю ее, внезапно разозлившись, и обеими руками начинаю ощупывать голову. Чувствую ряды пластиковых проводов. Выдергиваю один – кожу головы щиплет – и подношу к глазам. Он розового цвета. На запястье оранжевый пластиковый браслет. Прищуриваюсь, пытаясь прочесть надпись, и через пару секунд перед глазами проступают заглавные буквы: МОЖЕТ СБЕЖАТЬ.
Часть первая
Безумие
И мне знаком трепет крыльев в голове.
Вирджиния Вульф, «Дневник писателя: отрывки из дневника Вирджинии Вульф»
1. Клоповый блюз
Наверное, все началось с укуса клопа – постельного клопа, которого на самом деле не было.
Как-то утром я проснулась и увидела две красные точки на широкой фиолетово-красной вене, бегущей вниз по левой руке. Дело было в 2009 году, а тогда в Нью-Йорке все боялись клопов-паразитов: ходили слухи, что они полчищами наводнили офисы, магазины одежды, кинотеатры и даже скамейки в парке. И хотя по природе я не склонна поддаваться панике, уже две ночи подряд мне снились клопы длиною с палец. Пожалуй, мои волнения были оправданы, хотя я тщательно прочесала всю квартиру и не нашла ни одного клопа и никаких намеков на их присутствие. Кроме этих двух укусов. Я даже вызвала службу уничтожения насекомых, чтобы мою квартиру проверили. Усталый, перегруженный заказами латиноамериканец изучил каждый сантиметр моего жилища, даже приподнял диван и стал светить фонариком в такие углы, которые мне в жизни не приходило в голову убирать. После чего вынес вердикт: в моей однушке клопов нет. Я не поверила и вызвала его для обработки. Надо отдать ему должное, он предложил хорошенько подумать, прежде чем выкладывать астрономическую сумму за борьбу, как ему казалось, с воображаемыми клопами. Но я настаивала, так как была уверена: клопы захватили мою квартиру, мою кровать, мое тело, наконец. Тогда он согласился вернуться и опрыскать помещение.
Хотя проблема меня очень тревожила, я старалась скрывать свое растущее беспокойство от коллег. По понятным причинам мне не хотелось, чтобы меня считали человеком, у которого в кровати водятся клопы. И вот на следующий день я с как можно более невозмутимым видом шла по редакции «Нью-Йорк Пост» к своему рабочему месту. Укусы я замаскировала и старательно делала вид, что у меня все нормально, что ничего не происходит. Хотя в нашей газете «нормально», наоборот, должно было возбудить подозрения.
«Нью-Йорк Пост» известна своей гонкой за самыми актуальными новостями, но на самом деле газете столько же лет, сколько американскому народу. Александр Хэмилтон основал ее в 1801 году – это старейшая газета в стране, которая издавалась непрерывно два с лишним столетия. В первый век своего существования «Пост» сражалась с рабством, поддерживая аболиционистов; во многом ее стараниями был основан Центральный парк. В наше время редакция газеты занимает огромное, но душное помещение; ряды открытых кабинок и гора шкафов с картотекой, где хранятся никому не нужные, забытые документы за несколько десятилетий. На стенах висят давно остановившиеся часы, мертвые цветы, которые кто-то повесил, чтобы засушить; фото обезьянки верхом на бордер-колли и полистироловая перчатка из парка аттракционов «Шесть флагов» – напоминания о прошлых репортажах. Компьютеры на ладан дышат, копировальные аппараты размером с небольших пони. В крошечном чулане, когда-то бывшем курилкой, теперь хранится оборудование, а дверь украшает выцветшая табличка, напоминающая о том, что курилки тут больше нет, – как будто кому-то придет в голову забрести сюда и зажечь сигаретку среди мониторов и видеокамер. Я начала работать семнадцатилетним интерном, и вот уже семь лет редакция «Пост» была моим эксцентричным мирком.
Когда грядет дедлайн, офис оживает: клавиши стучат, редакторы орут, репортеры болтают без умолку – типичная редакция таблоида, как все ее себе и представляют.
– Где чертова картинка к этой подписи?
– Как можно было не понять, что она проститутка?
– Напомни, какого цвета были носки у парня, который спрыгнул с моста?
В такие дни у нас – как в баре, только без спиртного: куча наадреналиненных новостных наркоманов. Лица «Пост» уникальны, таких больше нигде не встретишь: авторы лучших заголовков во всей печатной индустрии; прожженные ищейки, выслеживающие директоров корпораций; амбициозные трудоголики, способные в одночасье расположить к себе, а потом настроить против себя всех вокруг. Но в другие дни в офисе тихо; все молча пролистывают записи из зала суда, берут интервью или читают газеты. Часто – как сегодня, например, – у нас тихо, как в морге.
Направляясь к своему столу, чтобы приступить к сегодняшним делам, я проходила мимо рядов кабинок, промаркированных зелеными вывесками с названиями манхэттенских улиц: Либерти-стрит, Нассау-стрит, Пайн-стрит, Уильям-стрит. Раньше редакция находилась в районе морского порта у Саут-стрит, и ее здание действительно стояло на пересечении этих улиц. Я работаю на «Пайн-стрит». Стараясь не потревожить тишину, сажусь рядом с Анджелой – моей самой близкой подругой из редакции – и натянуто улыбаюсь. Стараясь говорить тихо, чтобы эхо моих слов не разнеслось по безмолвному залу, спрашиваю:
– Ты что-нибудь знаешь об укусах клопов?
Я часто в шутку говорила, что если бы у меня была дочь, мне хотелось бы, чтобы она была похожа на Анджелу. В редакции она была моим героем. Три года назад, когда мы познакомились, она была робкой, учтивой молодой женщиной из Квинса всего на пару лет меня старше. В «Пост» она перешла из маленькой еженедельной газеты, и напряженная работа в крупном городском таблоиде постепенно раскрыла в ней талантливого репортера – одного из самых одаренных в «Пост». Анджела выдавала превосходные репортажи пачками. Поздно вечером в пятницу ее можно было застать за написанием четырех статей сразу на четырех разных экранах. Само собой, я стала на нее равняться. А теперь мне очень нужен был ее совет.
Услышав страшное слово «клопы», Анджела машинально отодвинулась.
– Только не говори, что они у тебя есть, – шаловливо улыбнувшись, проговорила она.
Я начала показывать ей свою руку, но не успела пожаловаться, как у меня зазвонил телефон.
– Готова? – Это был Стив, новый воскресный редактор.
В свои тридцать пять он уже стал главным редактором воскресного выпуска – то есть моего подразделения, – и хотя вел себя дружелюбно, я его побаивалась. По четвергам Стив устраивал встречу с репортерами, где каждый предлагал свои идеи для воскресной газеты. Услышав его голос, я с ужасом поняла, что совершенно не готова к этой встрече. Обычно у меня были заготовлены как минимум три внятные идеи – не всегда гениальные, но, по крайней мере, было что предложить. А сейчас – ничего, совершенно нечем заполнить свои пять минут. Как так могло случиться? Забыть о брифинге было невозможно: это был еженедельный ритуал, к которому все мы старательно готовились даже в выходные.
Позабыв о клопах, я встала, таращась на Анджелу и отчаянно надеясь, что пока доберусь до кабинета Стива, все разрешится само собой.
Я нервно прошагала по «Пайн-стрит» и зашла в его кабинет. Села рядом с Полом – редактором воскресных новостей и моим близким другом, который взял меня под крылышко, еще когда я училась на втором курсе. Я кивнула ему, стараясь однако не встречаться с ним взглядом. Поправила на носу очки с огромными поцарапанными стеклами, которые один мой друг-журналист как-то назвал моим личным средством предохранения, потому что «никто не захочет с тобой спать, пока ты в них».
Некоторое время мы сидели в тишине, и я надеялась, что успокоюсь в присутствии Пола – такого знакомого и импозантного. Копна рано поседевших волос, привычка вставлять слово «хрен» везде и повсюду как междометие – Пол воплощал собой все старомодные стереотипы репортера и был блестящим редактором.
Нас познакомил друг семьи, и летом, после окончания первого курса, Пол дал мне возможность попробовать себя в качестве репортера. Через несколько лет работы «на подхвате» – горячие новости, сбор информации для других репортеров, пишущих статьи, – Пол подкинул мне первое крупное задание: статью о дебошах в студенческом общежитии Нью-Йоркского университета. Я вернулась со статьей и фотками, как я играю в пиво-понг; моя отвага его поразила, и хотя разоблачительная статья так и не вышла в свет, он стал поручать мне все больше репортажей, и, наконец, в 2008 году меня приняли в штат. И вот, сидя в кабинете Стива совершенно неподготовленной к сегодняшней встрече, я чувствовала, что подвела Пола, который верил в меня и уважал, я все еще ощущала себя недоучкой.
Молчание затянулось, и я подняла голову. Стив и Пол выжидающе смотрели на меня, и я начала говорить, надеясь, что по ходу что-нибудь придумаю.
– В одном блоге была история… – пробормотала я, в отчаянии пытаясь зацепиться за обрывки наполовину сформулированных мыслей.
– Так не пойдет, – прервал меня Стив. – В следующий раз найди что-то получше. Договорились? Чтобы ни с чем больше не приходила.
Пол кивнул – его лицо пылало. Впервые за всю свою журналистскую карьеру я села в лужу: такого не случалось даже в школьной газете. Я вышла с собрания, кипя от злости на саму себя, озадаченная собственной тупостью.
– Все нормально? – спросила Анджела, когда я вернулась на свое место.
– Да, только я вдруг разучилась делать свою работу. Но это ерунда, – мрачно пошутила я.
Она рассмеялась, показав немного неровные зубы, которые, однако, ничуть ее не портили.
– Брось, Сюзанна. Что стряслось? Не бери в голову. Ты профи.
– Спасибо, Андж. – Я хлебнула остывшего кофе. – Просто сегодня не мой день.
Вечером, шагая на запад от здания «Ньюскорп» на Шестой авеню, мимо туристической клоаки Таймс-сквер к своему дому в Адской кухне, я размышляла о случившихся за день неприятностях.
Как будто нарочно реализуя стереотип нью-йоркского писателя, я снимала тесную однокомнатную квартиру-студию и спала на раскладном диване. Окна квартиры, в которой царила странная для Нью-Йорка тишина, выходили в общий для нескольких многоквартирных домов двор. Здесь меня чаще будили не завывания полицейских сирен и скрип мусоровозов, а сосед, играющий на аккордеоне на своем балконе.
Несмотря на заверения службы по борьбе с насекомыми, утверждавшей, что мне не о чем беспокоиться, я могла думать только об укусах клопов, отправляя в помойку свои любимые статьи из «Пост», напоминающие о том, какая странная у меня работа – жертвы и подозреваемые, опасные трущобы, тюрьмы и больницы, двенадцатичасовые смены, проведенные на холоде в машине фотографов в ожидании знаменитости, которую нужно было «поймать» и сфотографировать. Занимаясь своим делом, я наслаждалась каждой минутой. Так почему вдруг все начало валиться из рук?
Распихивая свои сокровища по мусорным мешкам, я останавливалась, чтобы прочесть некоторые заголовки. Среди них был самый крупный репортаж в моей карьере: мне удалось договориться об эксклюзивном тюремном интервью с похитителем детей Майклом Делвином. Все СМИ страны гонялись за этой историей, а я была всего лишь студенткой выпускного курса Вашингтонского университета Сент-Луиса. Но Делвин говорил со мной дважды. Однако на этом история не закончилась. После выхода статьи адвокаты Делвина сорвались с катушек; против «Пост» затеяли дело по обвинению в клевете, пытались добиться запрета на публикацию, а местные и национальные СМИ начали критиковать мои методы в прямом эфире, ставить под сомнение этичность тюремных интервью и таблоидов в принципе. Полу в то время пришлось вытерпеть немало слезных звонков от меня, и это нас сблизило; в конце концов газета и мои вышестоящие редакторы за меня заступились.
И хотя этот опыт стоил мне немалого количества нервных клеток, он разжег мой аппетит, и с тех пор меня вроде как провозгласили штатным тюремным репортером. Делвин же получил три пожизненных.
А еще был репортаж о ягодичных имплантах – «Осторожно, сзади», заголовок, который до сих пор вызывал у меня улыбку. Я работала под прикрытием: притворилась стриптизершей, которой нужно дешево увеличить зад, и обратилась к женщине, проводившей нелегальные операции в гостиничном номере в центре. Помню, я стояла, спустив трусы до колен, и прямо-таки обиделась, когда она объявила цену – «тысячу за штуку», то есть вдвое больше, чем взяли с девушки, которая навела нас на это предприятие.
Журналистика была самым интересным делом на свете: жизнь как в приключенческом романе, только еще удивительнее. Но я не подозревала, что вскоре моя судьба примет настолько странный оборот, что о ней впору будет писать в моем собственном любимом таблоиде.
Хотя воспоминание о «ягодичном репортаже» вызвало у меня улыбку, я и эту вырезку отправила к растущей горе мусора. «Там ей самое место», – фыркнула я, несмотря на то что эти безумные истории были мне дороже золота. В тот момент мне казалось, что я просто должна выбросить все это, но на самом деле подобная беспощадная расправа со следами многолетней работы была мне совершенно несвойственна.
Я, как жадный хомяк, хранила все, что имело для меня сентиментальную ценность, – стихи, написанные в четвертом классе, двадцать с лишним дневников еще со школы. Тогда мне было невдомек, что паника из-за клопов, забывчивость на работе и внезапное желание выбросить всю бумагу были как-то взаимосвязаны – ведь я не знала, что навязчивое ощущение «присутствия насекомых» может быть признаком психоза. Проблема малоизученная, так как люди, страдающие паразитофобией, или синдромом Экбома, чаще обращаются с жалобой на воображаемых насекомых не к психиатрам, а в службу борьбы с паразитами или к дерматологам, и в результате так и живут, не подозревая о своем диагнозе. Мои же неприятности, как оказалось, были гораздо серьезнее чешущейся руки и встречи, к которой я забыла подготовиться.
Несколько часов я убиралась, очищая свою квартиру от клопов, но лучше не стало. Я опустилась на колени у кучи черных мусорных мешков, и вдруг нутро сжалось от необъяснимого ужаса, как при свободном падении, – чувства, похожего на то, что возникает, когда узнаешь о чем-то плохом или о чьей-то смерти. Я встала, и тут голову пронзила боль – ярко-белая вспышка мигрени, хотя мигренями я раньше никогда не страдала. Спотыкаясь, я пошла в ванную, но ноги не слушались, я будто проваливалась в зыбучие пески. Наверное, грипп подхватила, подумала я.
Скорее всего, никакого гриппа не было, как не было и клопов. Однако какой-то патоген все же проник в мой организм – маленький микроб, запустивший цепную реакцию. Откуда он взялся – от бизнесмена, чихнувшего на меня в метро за несколько дней до этого и выпустившего миллионы вирусных частиц на нас, остальных пассажиров этого вагона? Или я съела что-то, или что-то проникло внутрь через мельчайший порез на коже – может, даже через один из этих загадочных укусов?
Тут моя память меня подводит.
Врачи и сами не знают, что спровоцировало мою болезнь. Ясно одно – если бы тот бизнесмен чихнул на вас, вы бы, скорее всего, простудились, и этим бы все закончилось. Но в моем случае этот чих опрокинул всю мою вселенную; из-за него меня чуть не приговорили к пожизненному заключению в психушке.
2. Девушка в кружевном лифчике
Прошло несколько дней, и мигрень, неудачный брифинг и клопы почти забылись, а я проснулась, отдохнувшая и довольная, в кровати своего приятеля. Накануне я впервые представила Стивена своему отцу и мачехе, Жизель. Они жили в роскошном особняке в Бруклин-Хайтс. Мы со Стивеном встречались четыре месяца, и знакомство с родителями было для нас серьезным шагом. Правда, с моей мамой Стивен уже был знаком – родители развелись, когда мне было шестнадцать, и у нас с мамой всегда была более тесная связь, поэтому и виделись мы чаще. А вот отец мой был сурового склада, и с ним мы никогда особенно не откровенничали. (Хотя он женился на Жизель почти год назад, мы с братом узнали об этом совсем недавно.) Но ужин выдался на славу – вино, вкусная еда, теплое, приятное общение. Мы со Стивеном ушли под впечатлением, что вечер удался.
Хотя позже отец признался, что в ту первую встречу ему показалось, будто Стивен скорее временное увлечение, чем «долгосрочный» бойфренд, я бы с ним не согласилась. Да, мы начали встречаться недавно, но были знакомы уже шесть лет – когда мы познакомились, мне было восемнадцать и мы оба работали в музыкальном магазине в Саммите, Нью-Джерси. Тогда мы просто вежливо общались на работе, но ни к чему серьезному это не привело, так как Стивен был старше меня на семь лет (для восемнадцатилетней девчонки – разница немыслимая). А потом как-то вечером, прошлой осенью, мы снова встретились на вечеринке у общего друга в баре в Ист-Виллидж. Чокнувшись пивными бутылками, мы разговорились. Оказалось, у нас много общего: нелюбовь к шортам, любовь к Nashville Skyline Дилана[1].
У Стивена был особый шарм, обаяние бездельника и тусовщика: музыкант, длинные, растрепанные волосы, худощавая фигура, вечно дымящаяся сигарета во рту, энциклопедические познания в музыке. Но самой притягательной его чертой были глаза – доверчивые и честные. Глаза человека, которому нечего скрывать, – когда я смотрела в них, мне казалось, что мы встречаемся уже давно.
Тем утром, растянувшись на кровати в его огромной (по сравнению с моей) студии в Джерси-Сити, я поняла, что вся квартира в моем распоряжении. Стивен ушел на репетицию своей группы и должен был вернуться лишь вечером, а я могла остаться у него или уйти. Примерно месяц назад мы обменялись ключами. Впервые в жизни у меня был бойфренд, с которым я дошла до этого важного шага, но я ни капли не сомневалась, что поступила правильно. Вместе нам было очень хорошо, мы чувствовали себя счастливыми, ничего не боялись и знали, что друг другу можно доверять. Однако, лежа в кровати в тот день, я вдруг совершенно неожиданно ощутила звонок в голове, мысль, заслонившую собой все вокруг: прочитай его почту.
Иррациональная ревность была мне совершенно несвойственна; никогда раньше у меня не возникало желания нарушить границы чужой частной жизни вот таким образом. Но в тот день, даже не осознавая свой поступок, я открыла его макбук и начала просматривать содержимое почтового ящика. Несколько месяцев скучной повседневной переписки – и вот, наконец, последнее письмо от его бывшей подружки. «Тебе нравится?» – было написано в теме письма. Мое сердце отчаянно заколотилось в груди; я щелкнула мышкой. Она прислала ему свое фото с новой стрижкой: волосы рыжие, соблазнительная поза, надутые губки. Стивен, похоже, ей даже не ответил, а мне все равно захотелось ударить компьютер по экрану или швырнуть через всю комнату. Но вместо того чтобы на этом остановиться, я пошла на поводу у своей ярости и продолжила копать, пока не восстановила всю их переписку за год отношений. Большинство писем заканчивались тремя словами: я тебя люблю. А мы со Стивеном еще даже не признались друг другу в любви. Я в гневе захлопнула ноутбук, хотя трудно было сказать, что именно меня разозлило. Я знала, что он не общался с ней с тех пор, как мы начали встречаться, и не сделал ничего, в чем его можно было бы уличить. Но мне почему-то захотелось поискать и другие следы предательства.
На цыпочках я подошла к его желтому комоду из ИКЕА и тут застыла. Что если у него установлены видеокамеры? Нет, не может быть. Кому придет в голову следить за происходящим в квартире в свое отсутствие, кроме озабоченных родителей, шпионящих за новой нянькой? Но мысль меня не отпускала: а что, если он сейчас за мной наблюдает? Что если это проверка?
Хотя меня испугали несвойственные мне навязчивые мысли, я все же открыла ящики и стала рыться в его вещах, бросая их на пол, пока, наконец, не наткнулась на джекпот: картонную коробку, украшенную наклейками с изображением рок-звезд. В коробке были сотни писем и фотографий – в основном его бывших. Там была одна длинная лента фотографий из фотобудки: он и его последняя бывшая, губки бантиком, смотрят друг на друга влюбленными глазами, смеются, потом целуются. Все происходило прямо на моих глазах, как в детской книжке с картинками: история их любви. Следующее фото: та же девушка в прозрачном кружевном лифчике, стоит, упершись руками в худые бедра. Волосы покрашены в пепельный, но ей идет – она вовсе не похожа на шлюху, как часто бывает у пепельных блондинок. А под фотографиями письма, целая пачка написанных от руки записок, некоторые еще со школьных лет. Верхнее письмо – та же девушка, плачется о том, как скучает по нему, пока живет во Франции. Два слова в письме были написаны с орфографическими ошибками; заметив это, я ощутила такое злорадство, что рассмеялась вслух – прямо загоготала.
А потом, потянувшись, чтобы взять следующее письмо, поймала свое отражение в зеркале комода – в одном лифчике и трусах, с охапкой личных любовных писем Стивена, зажатых между коленками. Из зеркала на меня взглянула чужая женщина – волосы взъерошены, лицо искажено незнакомой гримасой. «Я же никогда себя так не веду, – с отвращением подумала я. – Что со мной? В жизни не рылась в вещах своих приятелей».
Я ринулась к кровати и включила телефон: оказалось, прошло два часа! А по ощущениям, – не больше пяти минут. Через пару секунд голову снова пронзила мигрень; меня затошнило. Именно тогда я впервые заметила, что с левой рукой что-то не так: ощущение покалывания, как при онемении, только слишком уж сильное. Я сжимала и разжимала кулак, стараясь избавиться от «иголочек», но стало только хуже. Тогда, пытаясь игнорировать покалывание, я бросилась к комоду убрать вещи Стивена – чтобы он не заметил, что я в них рылась. Но вскоре левая рука совсем онемела.
3. Carota
Покалывание в руке не ослабевало в течение многих дней, но не оно заботило меня больше всего, а чувство вины и изумление собственным поведением в комнате Стивена в то утро. На следующий день на работе я призвала на помощь Маккензи, нашего редактора по спецрепортажам, и мою подругу, всегда собранную и невозмутимую, как герои сериала «Безумцы»[2].
– Я сделала что-то очень плохое, – призналась я у входа в здание нашей корпорации, стоя под навесом и кутаясь в узкое зимнее пальто. – Рыскала у Стивена в квартире. Нашла кучу старых фоток его бывшей, перерыла все его вещи. В меня словно бес вселился.
Она взглянула на меня с понимающей усмешкой, откинула волосы с плеч.
– И все? Ничего криминального не вижу.
– Маккензи, да я как с ума сошла. Думаешь, это из-за противозачаточных? Может, у меня от них гормональный сбой?
Я недавно начала принимать таблетки.
– Ерунда это, – отмахнулась она. – Все женщины так делают, Сюзанна, особенно те, кто живет в Нью-Йорке. Мы все метим на первое место. Серьезно, не убивайся. Только больше так не делай.
Позже Маккензи призналась, что ее смутило вовсе не то, что я рыскала в вещах Стивена, а моя странная реакция на этот поступок.
Я заметила Пола, который курил неподалеку, и задала ему тот же вопрос. Кто-кто, а он бы не стал мне врать.
– Нет, ты не ненормальная, – заверил он меня. – И нечего себя накручивать. Все мужики хранят фотографии бывших или еще что-нибудь, что о них напоминает. Трофеи, так сказать, – услужливо пояснил он.
Пол всегда делился мужской точкой зрения, в этом на него можно было рассчитывать. Пол – воплощение всех мужских стереотипов: ест много мяса (двойной чизбургер с беконом и мясной подливкой), играет по-крупному (однажды просадил 12 тысяч баксов за одну партию в блэкджек в казино «Боргата» в Атлантик-Сити) и если празднует, то празднует (синий «Джонни Уокер» в дни выигрышей, двенадцатилетний «Макаллан» – в остальные дни).
Вернувшись на рабочее место, я заметила, что левая рука опять онемела, – а может, онемение и не проходило вовсе? – и, кажется, покалывание распространилось и дальше по левой стороне тела, до пальцев ног. Странно, я даже не знала, волноваться мне или нет, поэтому позвонила Стивену.
– Трудно объяснить – рука затекла как будто, – сказала я по телефону, наклонив голову параллельно столу (провод совсем запутался).
– Как иголочки, что ли? – спросил он, перебирая аккорды на гитаре.
– Иголочки? Наверное. Не знаю. Очень странно. Раньше такого никогда не было, – ответила я.
– А тебя не знобит?
– Да нет вроде.
– Если не пройдет, иди к врачу, наверное.
Я закатила глаза. Услышать такое от парня, который сам много лет у врача не был? Мне нужно было посоветоваться с кем-то еще. Когда мы со Стивеном договорили, я развернула стул и обратилась к Анджеле.
– А ты не чихала неудачно или, может быть, наклонялась и резко выпрямлялась? – Ее тетя недавно так чихнула, что у нее сместился позвоночный диск и онемели руки.
– Сходила бы ты к врачу, – откликнулась наша коллега из соседней кабинки. – Может, конечно, я пересмотрела «Доктора Хауса», но, знаешь, сколько страшных болезней гуляет вокруг?
Тогда я посмеялась над ее словами, но в душе зародились сомнения. Хотя мои коллеги были склонны к преувеличениям – профессиональная особенность, – я услышала в их голосах искреннее беспокойство, и это заставило меня пересмотреть свое беспечное отношение к собственному самочувствию. В тот день в обеденный перерыв я наконец решила позвонить своему гинекологу Элаю Ротштейну, который был для меня скорее другом, чем врачом, – ведь он лечил еще мою маму, когда та была беременна мной.
Ротштейн не был врачом-перестраховщиком: я была молода и в целом здорова, поэтому привыкла слышать от него, что «все нормально». Но на этот раз стоило мне описать свои симптомы, как его обычное радушие испарилось, и он серьезным тоном сообщил:
– Тебе надо как можно скорее записаться к неврологу. И немедленно прекращай принимать противозачаточные.
Он записал меня на прием к известному нью-йоркскому неврологу в тот же вечер.
Его реакция меня встревожила. Я поймала такси и отправилась в верхний Манхэттен. Мы долго юлили в вечернем потоке машин и наконец остановились у внушительного здания в Верхнем Ист-Сайде с грандиозным мраморным лобби и шеренгой привратников у входа. Один из них указал мне на деревянную дверь без опознавательных знаков справа. Контраст между холлом с хрустальными люстрами и невзрачным офисом врача был разительным – я словно совершила прыжок во времени и перенеслась в семидесятые. В приемной стояли три разномастных кресла с твидовой обивкой и диван, обтянутый светло-коричневой фланелью. Я выбрала диван и села ближе к краю, чтобы не провалиться в продавленную середину. На стенах висели картины: чернильный набросок старца с белой бородой, похожего на ветхозаветного Бога и держащего в руках какой-то инструмент, подозрительно напоминающий хирургическую иглу; пасторальный пейзаж и портрет придворного шута. Такое бессистемное оформление комнаты навело меня на мысль, что все в этом офисе, включая мебель, было куплено на гаражной распродаже или выброшено кем-то при переезде и принесено с улицы.
Над стойкой регистрации висело несколько эмоциональных объявлений: «УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ ИЗ ГЛАВНОГО ЛОББИ И НЕ ЖДАТЬ ПАЦИЕНТОВ В ЛОББИ!!!!!!!» «ПРОСЬБА ВНОСИТЬ ВЗАИМОПЛАТЕЖИ[3] ДО ПРИЕМА!!!!!!»
– Я к доктору Бейли, – проговорила я.
Не улыбнувшись и даже не взглянув на меня, секретарша сунула мне папку с прикрепленным к ней листком.
– Заполните бланк. Ждите.
Я мгновенно заполнила форму. Это был последний раз в моей жизни, когда мне не составило никакого труда описать свою историю болезни. Принимаете ли лекарства по рецепту? Нет. Есть ли аллергия? Нет. Перенесенные операции, заболевания? Тут я замялась. Примерно пять лет назад мне диагностировали меланому в области поясницы. Болезнь поймали на ранней стадии и провели небольшую операцию по удалению. Обошлось без химиотерапии и прочего лечения. Я написала об этом. И хотя тогда я перепугалась не на шутку – рак, да еще в таком молодом возрасте, – мое отношение к своему здоровью в целом осталось спокойным, если не сказать беспечным: ипохондриком я точно не была.
Чтобы затащить меня на рутинный осмотр, маме обычно приходилось названивать мне и умолять, поэтому мое появление здесь, да еще в одиночку и по собственному желанию, было действительно чем-то из ряда вон выходящим. Но внезапная и столь нехарактерная тревога со стороны моего гинеколога заставила меня забеспокоиться. Мне нужны были ответы.
Чтобы не разнервничаться, я начала разглядывать самую странную и яркую картину в приемной – искаженное абстрактное человеческое лицо с черным контуром и яркими цветовыми пятнами – красные зрачки, желтые глаза, синий подбородок, черный нос в форме стрелы. Безгубая улыбка, обезумевший взгляд. Эта картина почему-то мне запомнилась и в последующие месяцы несколько раз всплывала в памяти. Пугающие искаженные черты, совсем не похожие на человеческие, порой успокаивали, порой вызывали отвращение, но пару раз помогли пережить самые темные времена. Потом я узнала, что это была картина Миро 1978 года «Carota» – в переводе с итальянского «морковь».
– Кэллахааааан, – рявкнула медсестра, неправильно произнеся мою фамилию.
Люди часто путали «Кэхалан» с «Кэлахан» – так часто, что я перестала обращать внимание. Я встала и подошла. Сестра проводила меня в смотровую, где никого не было, и протянула зеленую хлопчатобумажную ночнушку. Через пару секунд из-за двери донесся мужской баритон: «Тук-тук!» Доктор Сол Бейли был похож на чьего-нибудь дедушку. Он представился, протянул левую руку – мягкое, но сильное рукопожатие. По сравнению с моей маленькой ладонью его казалась мясистой, внушительной. Он не мешкая приступил к делу.
– Значит, вы пациентка Элая, – произнес он. – Расскажите, на что жалуетесь.
– На самом деле я не знаю. Странное чувство онемения. – Я помахала левой рукой, показывая, где именно. – И еще в стопе.
– Хм-м. – Он прочел мою анкету. – Болезнью Лайма не болели?
– Нет.
Было в его поведении что-то, отчего мне захотелось успокоить его, сказать: «Да забудьте, со мной все в порядке». Не хотелось обременять его своими проблемами.
Он кивнул:
– Тогда ладно. Давайте вас осмотрим.
Он провел стандартный неврологический осмотр. Один из многих сотен, которые мне предстояли. Проверил рефлексы молоточком; реакцию зрачков на свет; оценил мышечную силу, толкая своей рукой мою вытянутую руку; проверил координацию, приказав мне закрыть глаза и поднести пальцы к носу. Наконец он записал в анкете: «Результаты осмотра без особенностей».
– Я бы хотел взять у вас кровь на анализ, провести обследование и сделать МРТ. Я не вижу никаких отклонений, но, чтобы убедиться окончательно, лучше обследоваться, – добавил он.
В другой день я бы отложила МРТ на потом, но сегодня почему-то решила сделать его безотлагательно. В приемной лаборатории меня встретил молодой худощавый оператор и провел в раздевалку. В отдельной комнате он вручил мне хлопчатобумажную ночнушку, велел полностью раздеться и снять украшения, так как они могли помешать работе аппарата.
Когда он вышел, я разделась, сложила одежду, сняла свое счастливое золотое колечко и положила его в шкафчик, запирающийся на ключ. Это кольцо мне подарил отчим на окончание колледжа – золото 14 карат с черным гематитом «кошачий глаз». В некоторых странах считается, что этот камень отгоняет злых духов. Оператор ждал меня у входа в раздевалку. Он с улыбкой проводил меня в комнату с томографом, помог взобраться на платформу, надел на голову шлем, завернул голые ноги в одеяло и вышел наблюдать за процедурой из отдельной комнаты.
Примерно полчаса я пролежала, слушая ритмичный грохот внутри машины, а потом услышала голос оператора, раздавшийся издалека:
– Отлично. Мы закончили.
Платформа выехала из томографа, я сняла защитный шлем, сбросила одеяло и встала на ноги, чувствуя себя неуютно в одной лишь больничной рубашке.
Оператор стоял, прислонившись к стене, и улыбался.
– Кем работаете?
– Репортером в газете, – ответила я.
– Правда? В какой?
– «Нью-Йорк Пост».
– Серьезно? В жизни не встречал настоящего репортера.
Мы зашагали к раздевалке. Я ему не ответила. Оделась как можно быстрее и бросилась к лифтам, чтобы избежать очередного разговора с ним, – он явно флиртовал, и это было неуместно. Процедура МРТ не слишком приятна, но в целом – ничего примечательного. Однако этот визит в лабораторию, и особенно невинный разговор с лаборантом, почему-то запомнился мне надолго – как та картина, «Carota». Со временем мне стало казаться, что флирт лаборанта был не невинным, а злонамеренным – но это ощущение было целиком порождено моим воспаленным мозгом.
Лишь через много часов, по привычке собравшись покрутить кольцо на по-прежнему нечувствительном пальце левой руки, я поняла, что в этот тревожный день случилось кое-что по-настоящему плохое. Я забыла свое счастливое кольцо в том шкафчике.
– Как думаешь, очень плохо, что у меня по-прежнему рука немеет? – спросила я Анджелу на следующий день на работе. – И вся я какая-то деревянная и чувствую себя странно.
– А может, гриппом заболела?
– Чувствую себя ужасно. Кажется, у меня температура.
Я бросила взгляд на палец левой руки – тот, на котором теперь не было кольца. Меня подташнивало, и было дурное предчувствие, что кольцо так и не найдется. Я жутко переживала, что потеряла его, но почему-то мне духу не хватало позвонить в лабораторию: вдруг скажут, что правда его не нашли? Я иррационально хваталась за пустую надежду: уж лучше вообще не знать, что с ним. Я также понимала, что слишком плохо себя чувствую и скорее всего вечером не смогу поехать на выступление группы Стивена – «Морги». Ребята играли в баре в Гринпойнте, Бруклин. При мысли об этом мне становилось еще хуже.
Анджела посмотрела на меня и сказала:
– Выглядишь неважно. Давай я провожу тебя до дома.
В любой другой день я бы отказалась от ее предложения – особенно учитывая, что был вечер пятницы, дедлайн, когда обычно мы засиживались в офисе до десяти вечера или даже позже. Но меня так мутило, крутило и я настолько злилась на себя, что согласилась. Путь до моего дома обычно занимал пять минут, но сегодня отнял полчаса – после каждого шага мне почти всякий раз приходилось останавливаться, – меня тошнило, но так и не вырвало. Когда мы наконец добрались до квартиры, Анджела заставила меня позвонить врачу, чтобы тот хоть что-то подсказал.
– Это ненормально. Ты уже давно себя плохо чувствуешь, – заметила она.
Я набрала номер горячей линии, работающий в неурочное время, и вскоре мне перезвонил мой гинеколог, доктор Ротштейн.
– У меня хорошие новости. Вчера пришли результаты МРТ – все в порядке. Мы исключили инсульт и тромб – два диагноза, которые очень меня волновали из-за противозачаточных.
– Я рада.
– Да, но я все же хочу, чтобы ты перестала принимать таблетки. На всякий случай, – проговорил он. – На МРТ выявились слегка увеличенные шейные лимфоузлы, так что, скорее всего, это какой-то вирус – возможно, мононуклеоз. Анализы крови еще не готовы, так что точно сказать нельзя.
Я чуть не рассмеялась вслух. Мононуклеоз в двадцать пять лет! Я повесила трубку. Анджела выжидающе смотрела на меня.
– Мононуклеоз, Анджела. Мононуклеоз!
Напряженное выражение тут же стерлось с ее лица, и она рассмеялась.
– Шутишь, что ли? Целовальная болезнь! Тебе что, тринадцать?
4. Рестлер
Мононуклеоз. Узнав причину своих напастей, я вздохнула с облегчением, и хотя всю субботу пролежала в постели, жалея себя, в воскресенье вечером собралась с силами и отправилась на концерт Райана Адамса[4] со Стивеном, его сестрой Шейлой и ее мужем Роем.
Перед концертом мы встретились в ирландском пабе и сели в обеденной зоне внизу, под низкой антикварной люстрой, отбрасывавшей на столики тусклые пучки света. Я заказала рыбу с картошкой, хотя меня мутило даже при виде картинки в меню. Стивен, Шейла и Рой о чем-то разговаривали, а я не могла выдавить из себя ни слова.
Прежде я встречалась с Шейлой и Роем всего пару раз и с ужасом думала о том, какое впечатление, должно быть, на них произвожу, но у меня не было сил поддерживать беседу. Думают, наверное, что я пустышка. Когда принесли мою рыбу, я тут же пожалела о том, что вообще заказала еду. Жареная треска в толстом кляре лоснилась жиром, ловившим отблески света от люстры. Картошка тоже была отвратительно жирной. Я возила еду по тарелке, надеясь, что никто не замечает, что на самом деле я не ем.
Мы приехали рано, но в зале уже было полно народу. Стивен хотел, чтобы я стояла как можно ближе к сцене, и стал проталкиваться сквозь толпу. Я пыталась следовать за ним, но, продвигаясь все дальше по тесным рядам зрителей – это были в основном мужчины тридцати с чем-то лет, – чувствовала, как головокружение и тошнота усиливаются.
– Я больше не могу! – крикнула я.
Стивен отказался от своей затеи и подошел ко мне. Я стояла в задней части зала, всем весом навалившись на колонну. Сумочка вдруг стала тяжеленной – по ощущениям килограммов двадцать, не меньше, – и я с трудом удерживала ее на плече, потому что на полу места не было.
Музыка становилась все громче. Я люблю Райана Адамса, но как ни пыталась радоваться концерту, у меня получалось лишь вяло хлопать. За сценой висели две полутораметровые голубые неоновые розы; их контур отпечатывался на сетчатке. Я чувствовала пульс толпы. Парень слева от меня закурил марихуану, и от ее сладкого запаха меня затошнило. Дыхание стоявших сзади парня и девушки обжигало шею. Я не могла сосредоточиться на музыке. Это была пытка.
После мы сели в машину Шейлы, и она повезла нас домой к Стивену в Джерси-Сити. Стивен, Шейла и Рой обсуждали потрясающее выступление, а я так и сидела молча. Моя молчаливость показалась Стивену странной – обычно за язык тянуть меня не приходилось.
– Ну как, тебе понравилось? – спросил он, взяв меня за руку.
– Я почти ничего не помню.
После тех выходных я взяла три отгула на работе. Три отгула подряд – это очень много, а для нового репортера в штате – особенно. Даже когда я работала до четырех утра, тусуясь по заданию в клубах Митпэкинга, уже через несколько часов, по звонку, была на работе. Больничный не брала ни разу.
Я наконец решила рассказать о своей болезни маме, которая испугалась, услышав об онемении – тем более что чувствительность у меня пропала только с одной стороны. Я заверила ее, что всему причиной мононуклеоз. Папа, кажется, был меньше обеспокоен, но на третий день моего «больничного» вызвался приехать на Манхэттен и повидаться со мной. Мы встретились в пустом кинотеатре на Таймс-сквер и пошли на утренний показ «Рестлера».
– Я пытался забыть о тебе, – говорил дочери Рэнди по кличке «Баран», старый профессиональный рестлер, которого в фильме играет изрядно постаревший Микки Рурк. – Пытался сделать вид, что ты никогда не существовала, но не смог. Ты всегда была моей маленькой девочкой. А теперь я стал старым куском мяса, и я несчастен и одинок. Но я заслужил одиночество. Просто я не хочу, чтобы ты меня ненавидела.
Горячие слезы текли по моим щекам. Мне было неловко, я пыталась сдержать рыдания, но от этого стало лишь хуже. Не говоря ни слова отцу, я вскочила и побежала в туалет; там я спряталась в закрытой кабинке и рыдала до тех пор, пока это чувство не прошло. Затем собралась и вышла, чтобы вымыть лицо и руки, не обращая внимания на встревоженные взгляды блондинки средних лет у соседней раковины. Когда она вышла, я посмотрела на себя в зеркало. Неужели Микки Рурк произвел на меня такое впечатление? Или все дело было в том, что в фильме затрагивалась тема отношений дочери и отца?
Мой отец не был силен в проявлениях чувств, никогда не говорил «я люблю тебя» даже детям. Жизнь его ожесточила. Он и своего отца – моего деда – единственный раз поцеловал, когда тот был при смерти. А теперь вот выделил время в своем расписанном до минут графике, чтобы посидеть со мной в пустом кинотеатре. Это и выбило меня из колеи.
Соберись, шепотом приказала я себе. Ты ведешь себя глупо.
Я вернулась к отцу, который, кажется, даже не заметил моего срыва, и просидела рядом с ним оставшуюся часть фильма уже без эксцессов. Когда пошли титры, отец сказал, что проводит меня до дома, и предложил осмотреть квартиру якобы на предмет клопов, но на самом деле потому, что тревожился о моем здоровье и хотел провести со мной побольше времени.
– Значит, врачи сказали – мононуклеоз? – спросил он.
В отличие от матери, которая дотошно просматривала списки лучших врачей в журнале «Нью-Йорк», отец всегда отличался недоверием к светилам медицины. Я кивнула и пожала плечами.
Когда мы подошли к дому, я снова почувствовала необъяснимый, но уже знакомый страх. Я вдруг поняла, что не хочу, чтобы он заходил внутрь. Когда я была подростком, он, как и большинство отцов, отчитывал меня за беспорядок в комнате. Но сегодня мне было стыдно за себя – ведь моя квартира, по сути, была не чем иным, как метафорой моей неудавшейся жизни. При мысли о том, что он увидит, как я живу, меня охватил ужас.
Черт. Я схватила пакет из аптеки, лежавший у двери.
– Забыла вынести кошачий туалет.
– Сюзанна. Соберись уже. Нельзя так жить. Ты же взрослая.
Мы стояли в дверях, оглядывая мое жилище. Он был прав: не квартира, а убогая помойка. Грязная одежда на полу. Переполненный мусорный бак. И черные мешки по всей комнате – те, в которые я складывала все ненужное в момент паники из-за клопов. Насекомых в квартире так и не нашли, и новых укусов я не замечала. Я уже почти поверила, что клопов больше нет, а в глубине души начала сомневаться, были ли они вообще.
5. Сердце в пятках
На следующий день, в четверг, я вышла на работу. Как раз хватило времени, чтобы закончить одну статью и придумать идеи двух новых. Но ни одна не прошла проверку.
«В следующий раз проверяй, пожалуйста, свои источники по базе», – написал мне Стив в ответ на обе новые идеи.
Сомнения – часть нашей работы, успокаивала я себя. Репортеры постоянно сомневаются в себе: порой выдаются кошмарные недели, когда статьи не пишутся, а источники начинают играть в молчанку, а бывает – все складывается лучшим образом и получается даже то, что кажется невозможным. Порой чувствуешь себя лучшим репортером в мире, а бывает, что и полной, законченной неудачницей, которой впору подыскивать работу секретарши. Но в конце концов число падений и взлетов выравнивается. Так почему моя черная полоса длилась так долго? Вот уже несколько недель я чувствовала себя совсем неуютно в своей «журналистской шкуре», и это меня пугало.
Злая на собственную безалаберность, я снова отпросилась домой пораньше, надеясь, что это все-таки мононуклеоз и ничего больше. Может, мне просто нужно было хорошо выспаться, чтобы все вернулось на круги своя?
Всю ночь я ворочалась в кровати, обуреваемая тягостными размышлениями о своей жизни. Когда наутро прозвонил будильник, я выключила его и решила снова взять больничный. А поспав еще несколько часов, встала отдохнувшей и спокойной. История с мононуклеозом казалась далеким кошмарным сном. Близились выходные, и у меня поднялось настроение. Я позвонила Стивену.
– Поехали в Вермонт. – Это был не вопрос, а утверждение.
Уже несколько недель мы планировали путешествие в Вермонт к моему сводному брату, но, с тех пор как я заболела, поездка откладывалась на неопределенный срок. Подозревая, что я по-прежнему не совсем выздоровела, Стивен стал под различными предлогами уговаривать меня не торопиться с путешествием, и тут я услышала сигнал звонка по другой линии.
Это был доктор Ротштейн.
– Готовы анализы крови. Это не мононуклеоз, – сообщил он. – Как ты себя чувствуешь?
– Намного лучше.
– Значит, это был какой-то неопознанный вирус, и твой организм его уже поборол.
Воодушевленная его словами, я перезвонила Стивену, настаивая, чтобы мы немедленно начинали собирать сумки и все-таки уехали на выходные. Он поддался моим уговорам. Вечером мы взяли у мамы ее черный «субару» и через четыре часа прибыли в Арлингтон, Вермонт. Выходные прошли идеально: утром в субботу и воскресенье мы ходили в уютный местный ресторанчик «Пора завтракать»; закупались в аутлетах и даже вышли на горнолыжную трассу – точнее, Стивен вышел кататься на сноуборде, а я читала «Большие надежды» в фойе отеля.
В воскресенье поднялась снежная буря, и мы вынуждены были остаться еще на день, но я только радовалась очередному отгулу. Я даже согласилась встать на лыжи, и Стивен повел меня на вершину небольшой горы.
До этого я уже несколько раз каталась на горных лыжах, и трассы средней сложности никогда не казались мне трудными, хоть я и не была профессионалом. Но на этот раз, чувствуя, как ветер бьет в лицо и снежинки жалят щеки, я смотрела на склон, и он казался гораздо круче, чем все предыдущие трассы, которые я осваивала. Длинный и узкий, он угрожающе простирался передо мной. Меня охватила беспомощность, и я запаниковала – пробудился какой-то первобытный страх, реакция «бей или беги». В жизни не испытывала ничего подобного.
– Готова? – Голос Стивена доносился как будто издалека, заглушаемый воем ветра.
Сердце колотилось в висках, а в голове крутились возможные сценарии, один кошмарнее другого: что если я не смогу спуститься вниз? А если Стивен меня здесь бросит? Что если мое тело никогда не найдут?
– Я не могу, – прокричала я. – Не хочу! Не заставляй меня, пожалуйста.
– Да брось! – воскликнул он, но перестал подначивать меня, заметив, как я нервничаю. – Не бойся. Обещаю, все будет нормально. Поедем медленно.
Я нервно поехала вниз, а Стивен ехал следом. Примерно на середине склона я набрала скорость; страх, который я испытывала еще пару минут назад, показался абсурдным. Через несколько минут я в целости и сохранности добралась до подножия горы. Я понимала, что моя паника – нечто куда более серьезное, чем банальный страх высоты. Но Стивену ничего не сказала.
Вечером в понедельник я гостила у мамы в Нью-Джерси и по-прежнему не могла заснуть, но не из-за нервов, а из-за ностальгических воспоминаний. Перебрав свои старые вещи, я обнаружила, что наконец влезаю в брюки, которые еще на втором курсе могла натянуть только до середины бедер. «Наверное, я что-то делаю правильно», – радостно подумала я.
Моя болезнь накатывала и отступала, отчего все время казалось, что худшее позади. Но на самом деле симптомы лишь на мгновение ослабевали, чтобы уже через минуту заявить о себе с новой силой.
6. Самые опасные преступники Америки
Во вторник утром на работе у меня зазвонил телефон. Это был Стив. Кажется, он простил меня за недавнее отсутствие и никчемность или, по крайней мере, решил дать мне второй шанс.
– Завтра встретишься с Джоном Уолшем – он приедет давать интервью «Фокс Ньюс». У него в работе новый сюжет про подводные лодки, на которых перевозят контрабандные наркотики, – отличная статья на полразворота.
– О'кей, – ответила я, стараясь изобразить энтузиазм, а ведь раньше мне притворяться не приходилось.
Интервью у ведущего программы «Самые опасные преступники Америки» – это же правда интересно? Но мне никак не удавалось сосредоточиться. Для начала нужно было поискать вырезки на тему, и я позвонила Лиз – нашему «библиотекарю». Днем сотрудник архива, по ночам – викканская колдунья. Не знаю почему, но вместо помощи с картотекой я вдруг попросила ее погадать мне на картах Таро.
– Заходи, – скучающе протянула она.
Лиз занималась современной магией: свечи, заклинания, приворотные зелья. Недавно ее произвели в «высокие жрицы третьей степени», что давало ей право обучать магии других. Она носила ожерелья с пентаграммами в несколько рядов и струящиеся платья в стиле хиппи, а зимой даже расхаживала в черной мантии с капюшоном. От нее пахло благовониями с яркими нотками пачули, а глаза с тяжелыми веками были доверчивыми, щенячьими. В ней было что-то притягательное, и хотя я скептически относилась к ведьмовству и религии в целом, сегодня мне почему-то хотелось ей верить.
– Нужна твоя помощь, – проговорила я. – Что-то у меня все из рук валится. Погадаешь?
– Хм-м, – нахмурилась она, раскладывая колоду. – Хм-м. – Она заговорила, растягивая каждый слог: – Я вижу хорошее. Много позитивных изменений. У тебя будет другая работа. Что-то на стороне, не в «Пост». По части финансов все благополучно.
Я сосредоточилась на ее словах, омываемая волнами спокойствия. Как же я нуждалась в том, чтобы кто-то сказал мне, что все будет в порядке, что мои напасти – все лишь помехи на жизненном радаре. Правда, теперь я понимаю, что Лиз была не тем человеком, к кому следовало обращаться за поддержкой.
– Ох. Что-то у меня голова закружилась, – добавила она.
– Да, у меня тоже, – заметила я.
Вернувшись на место, я заметила, что Анджела расстроена. Оказалось, что от меланомы умер наш коллега – репортер из «Пост», на все руки мастер, выполнявший самые разные задания для газеты. Всем сотрудникам разослали письмо с приглашением на похороны в эту пятницу. Ему было всего пятьдесят три года. Я конечно же вспомнила о своей меланоме и остаток дня только и думала, что о печальной новости – хотя должна была собирать информацию о Джоне Уолше.
На следующее утро, после очередной бессонной ночи, я полезла в Гугл смотреть процент рецидивов меланомы, хотя на подготовку к интервью оставалось всего несколько минут. В 9.50, совершенно неподготовленная, я отправилась на встречу с Уолшем в пустой кабинет в конце коридора, надеясь, что как-нибудь выкручусь. Я шла по коридору, и с обеих сторон на меня смотрели передовицы «Пост» в рамках; буквы в заголовках словно пульсировали, то увеличиваясь, то уменьшаясь.
БИЛЛ МНЕ ИЗМЕНИЛ!
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ ВЗОРВАЛСЯ В ВОЗДУХЕ, СЕМЕРО ПОГИБШИХ
ПОГИБЛА ПРИНЦЕССА ДИАНА
КОРОЛЬ-ИЗВРАЩЕНЕЦ И Я
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ ХИЛЛАРИ
Передовицы расширялись и сжимались на глазах, словно вдыхая и выдыхая. Поле зрения сузилось, как будто я смотрела в глубь коридора через видоискатель. В мерцающем свете флюоресцентных ламп стены угрожающе надвигались на меня. Коридор становился темнее, а потолок – выше: ощущение было, как будто я в соборе. Приложив ладонь к груди, я попыталась успокоить скачущее сердце и велела себе дышать глубже. Это был не страх, а скорее безопасный прилив адреналина, сродни тому, какой испытываешь, глядя вниз из окна стоэтажного небоскреба и зная, что не упадешь.
Наконец я добралась до двери кабинета, где меня ждал Уолш. Он по-прежнему был загримирован после интервью на канале «Фокс Ньюс»; под яркими студийными софитами грим слегка поплыл.
– Джон, здравствуйте, я Сюзанна Кэхалан. Репортер «Пост».
Стоило мне взглянуть на него, как в голову сразу пришла странная мысль – думает ли он сейчас о своем сыне Адаме, которого похитили в торговом центре в 1981 году и обнаружили год спустя убитым, с отрубленной головой? Я начала вспоминать подробности этого жуткого происшествия, плоско улыбаясь ему и его наманикюренной агентше.
– Здравствуйте, – проговорила она, прервав ход моих мыслей.
– О, доброе утро! Да. Меня зовут Сюзанна Кэхалан. Я репортер. Пишу об этой истории. Про контрабанду… контрабанду…
– На подводных лодках, – подсказал Уолш.
– У мистера Уолша всего пять минут, давайте начнем, – заметила агентша, не скрывая раздражения.
– У латиноамериканских наркобаронов сейчас мода на собственные подводные лодки «ручной сборки», – начал Уолш. – Это даже не подводные лодки, а скорее подводные аппараты, которые выглядят как суда.
Я записывала: «колумбийцы», «ручная сборка», «курс около десяти…», «нарколодки, остановить нарколодки!». Смысл его объяснений ускользал от меня, так что я просто записывала отдельные слова, чтобы со стороны казалось, будто я внимательно слушаю.
– Очень хитрый метод.
Услышав это, я безудержно расхохоталась, хотя мне было не совсем понятно – да и до сих пор непонятно, – что такого смешного я нашла в этой фразе. Агентша бросила на меня озадаченный взгляд и провозгласила:
– Простите, должна вас прервать. Джону пора ехать.
– Я вас провожу, – с наигранным энтузиазмом сказала я и проводила их до лифта.
Но по дороге мне едва удавалось держать равновесие: я врезалась в стены коридора, потянулась к двери, чтобы открыть ее перед ними, но промахнулась мимо ручки почти на полметра.
– Спасибо, спасибо. Я ваша большая поклонница, самая большая из всех, большая-пребольшая, – бормотала я, пока мы ждали лифта.
Уолш тепло улыбался – видимо, ему было не привыкать к подобным эксцентричным восторженным признаниям, хотя обычно я проводила интервью совсем не так… совсем не так.
– Было очень приятно, – ответил он.
Я до сих пор не знаю – и, наверное, не узнаю никогда, – что он на самом деле подумал об этой странной репортерше из «Пост» (то есть обо мне). Главным образом потому, что репортаж так и не вышел.
Этому интервью суждено было стать последним, что я провела до болезни; следующее было уже через 7 месяцев.
7. Снова в пути
Не помню, как я добралась домой после интервью и как провела часы, вымучивая очередной провальный репортаж, но после еще одной бессонной ночи (я не спала нормально уже неделю) я направилась в офис. Стояло чудесное раннее мартовское утро, солнце встало, на улице было холодно и свежо – чуть ниже нуля.
Вот уже полгода по пути на работу и обратно я проходила Таймс-сквер, но сегодня, увидев ряды рекламных табло в самом центре площади, вдруг почувствовала, как яркие краски режут глаза. Я пыталась отвернуться, отгородиться от обрушившейся на меня цветовой волны, но ничего не вышло. Из ярко-синего треугольника – эмблемы жвачки – во все стороны растекались кислотные голубые завитки, и у меня аж волосы на голове зашевелились. Цвет вибрировал в кончиках пальцев ног. Ощущение было невероятным, вызывало и испуг, и восторг. Но последний длился всего секунду – слева я заметила движущуюся надпись «Добро пожаловать на Таймс-сквер», и меня чуть не стошнило прямо посреди площади. Шарики M&M’s на электронном табло слева выписывали пируэты, отзываясь невыносимой болью в висках. Ощущая беспомощность перед таким натиском, я сняла варежки, закрыла глаза руками и, спотыкаясь, побрела вверх по Сорок восьмой улице, шатаясь, словно только что прокатилась по смертельному участку американских горок. Так я дошла до офиса, где освещение по-прежнему казалось ярким, но уже не таким агрессивным.
– Анджела, хочешь, скажу кое-что странное? – прошептала я, боясь, что кто-то еще услышит и подумает, что я сошла с ума. – Все цвета вокруг как-то усилились. У меня глаза от них болят.
– Как это? – спросила она, не в силах скрыть тревогу за улыбкой. С каждым днем я вела себя все более и более чудно. Но лишь тем утром мой бред испугал ее всерьез.
– Таймс-сквер. Все эти цвета, рекламные табло: они так ярко сверкают! Раньше такого не было.
– У тебя похмелье, что ли? – сказала она с нервным смешком.
– Да не пила я вообще. Кажется, я схожу с ума.
– Если правда волнуешься, сходи опять к врачу.
Со мной что-то не так. Так ведут себя только ненормальные.
Злясь на свою неспособность объяснить, что со мной происходит, я ударила по клавиатуре. Экран компьютера ярко вспыхнул и сердито уставился на меня. Я взглянула на Анджелу – она заметила? – но та проверяла почту.
– Я так не могу! – закричала я.
– Сюзанна, Сюзанна! Эй, да что с тобой такое? – спросила Анджела, удивившись моему выплеску. Истерики были мне совершенно несвойственны, и сейчас, когда все вокруг смотрели на меня, я чувствовала себя униженной, беззащитной перед их взглядами. Жгучие слезы покатились по лицу на рубашку. – Ты почему плачешь?
Я пожала плечами: мне было стыдно говорить об этом, тем более что я сама не понимала, что со мной.
– Хочешь прогуляться или еще что? Кофе выпить?
– Нет, нет. Не знаю, что со мной такое. Все из рук валится. Плачу вот без причины, – всхлипнула я.
Рыдания сотрясали все тело с ног до головы; я стала их пленницей, и чем больше старалась задавить их, тем сильнее они накатывали. Что провоцирует эти истерики? Я перебирала в уме все, что могла осмыслить, раскладывала свою жизнь по полочкам, анализировала все, в чем не была уверена.
Я не умею делать свою работу. Стивен меня не любит. У меня нет денег. Я ненормальная. Я дура.
Коллеги потихоньку стекались в офис – все в черном после похорон репортера, которые я пропустила, так как была слишком поглощена своими проблемами.
Может, поэтому я плачу? Но я его почти не знала. А может, из-за себя? Потому что тоже могу умереть совсем скоро?
Ко мне повернулась наша коллега, сидевшая напротив Анджелы.
– Сюзанна, с тобой все в порядке?
Мне было ненавистно ее внимание. Я метнула на нее презрительный взгляд, вложив в него всю свою злобу.
– Не надо меня жалеть.
Слезы лились по щекам, но, к своему удивлению, я вдруг поняла, что мне уже не грустно. Я чувствовала себя нормально. Нет, даже не нормально. Прекрасно. Я была счастлива – нет, даже не просто счастлива, – я парила на облаке; никогда в жизни мне не было так хорошо. Слезы лились, но одновременно я начала смеяться. По позвоночнику прокатилась теплая волна. Мне хотелось танцевать, петь, делать что угодно, лишь бы не сидеть здесь и не муссировать свои воображаемые несчастья. Я побежала в туалет, чтобы умыться. Пустив холодную воду, взглянула на туалетные кабинки… и они вдруг показались совершенным абсурдом. Как такое вообще возможно, что при нынешнем развитии цивилизации люди по-прежнему испражняются в полуметре друг от друга? Я смотрела на кабинки и, слушая шум спускаемой воды, не могла поверить, что сама когда-то запиралась в одной из них.
Когда я вернулась на рабочее место, эмоции вроде бы улеглись, и я позвонила Маккензи и договорилась с ней встретиться внизу. Пару недель назад, когда я рассказала ей об обыске в квартире Стивена, она очень меня поддержала, и теперь я снова хотела с ней посоветоваться. Но когда я увидела ее позади нашего офисного здания – она, как и другие, была в черном, так как только что вернулась с похорон, – мне вдруг стало стыдно за свой эгоизм и озабоченность лишь собственными проблемами.
– Прости, что беспокою тебя, когда ты так переживаешь, – проговорила я. – Я настоящая эгоистка, что веду себя так сейчас.
– Ничего. Что стряслось? – спросила она.
– Я просто… я просто… скажи, у тебя бывало так, что ты… ну словно сама не своя?
Она рассмеялась:
– Да я все время сама не своя.
– Нет, это другое. Со мной что-то не так, серьезно. Цвета режут глаз, плачу и не могу успокоиться… Я себя не контролирую, – выпалила я, вытирая остатки слез с распухших глаз. – Может, у меня нервный срыв? Я схожу с ума? Как считаешь?
– Ну, сама ты это вряд ли поймешь. Тебе бы к доктору надо, Сюзанна. Знаешь что, запиши все свои симптомы – как будто готовишь репортаж. Постарайся ни о чем не забыть. Даже о мельчайших деталях: они могут оказаться самыми важными, сама знаешь.
Гениальная идея. Я практически бегом ринулась наверх, чтобы поскорее все записать. Но когда села за стол, написала лишь следующее:
Потом я начала рисовать бесцельные каракули, но совсем не помню, как нарисовала это и почему:
«Люди в отчаянии, они готовы на все», – вот что я написала. Потом вдруг бросила писать и начала убираться на столе: смахивать с него бутылки с водой, недопитые чашки с кофе, старые статьи, которые не собиралась больше читать. Я вынесла несколько стопок книг – уже не помню, зачем их хранила, – в мусоропровод на нашем этаже, избавляясь от свидетельства моего воображаемого накопительства, которым я (как мне тогда казалось) страдала. Я вдруг почувствовала, что полностью контролирую свою жизнь. Вернулось ощущение распиравшего меня счастья. Но даже тогда я понимала, что эта эйфория опасна. И боялась, что если не буду ценить это состояние и делиться им, то перегорю так же быстро, как загорелась.
Вернувшись за стол, я ударила по нему кулаками.
– Все будет отлично! – провозгласила я, не обращая внимания на изумленные взгляды Анджелы. Затем направилась к столу Пола, окрыленная своей новой, необычайно простой жизненной теорией. – Пойдем спустимся вниз, покурим!
Мы сели в лифт, и Пол заметил:
– Выглядишь намного лучше.
– Спасибо, Пол. Я и чувствую себя лучше. Снова сама на себя похожа. Нам надо многое обсудить. – Мы закурили. – Знаешь, до меня наконец дошло, что не так. Я хочу, чтобы мне давали больше репортажей. И чтобы темы были поинтереснее. Я хочу заниматься крупными расследованиями. Не какими-то там «специальными репортажами». Настоящими расследованиями, понимаешь? Настоящими серьезными разоблачениями.
– Что ж, отлично, – ответил Пол, но вид у него был обеспокоенный. – С тобой все в порядке? Тараторишь, как пулеметная очередь.
– Прости. Это просто вдохновение!
– Я рад, что у тебя появилось вдохновение, потому что мне докладывали, что ты сегодня плакала на работе, а весь месяц тебе нездоровилось.
– Это все в прошлом. Я со всем разобралась.
– Скажи, а ты с мамой давно разговаривала? – вдруг спросил он.
– Недавно, пару дней назад. А что?
– Просто интересно.
Пол пытался понять, что со мной происходит, чтобы позднее поделиться с Анджелой своими соображениями – не признаки ли это грядущего нервного срыва. Такое уже случалось с одной его знакомой журналисткой, к которой он был неравнодушен. Все началось с того, что она стала слишком ярко и вульгарно краситься и вести себя странно. А потом ей диагностировали шизофрению.
Выдержав минут десять моего бреда, Пол вернулся в здание и позвонил Анджеле:
– Надо позвонить ее матери или еще кому-то. С ней явно что-то творится.
Пока Пол был наверху и разговаривал с Анджелой, я стояла на улице. Если бы в тот момент кто-нибудь посмотрел на меня со стороны, то решил бы, что я погружена в размышления или обдумываю репортаж – ничего необычного. Но на самом деле я была далеко. Маятник снова качнулся в другую сторону, и я вдруг почувствовала, что меня шатает и я боюсь высоты, – то же чувство, что охватило меня на вершине горы в Вермонте, только без первобытного ужаса. Я парила над толпой своих коллег. Как будто со стороны я увидела собственную макушку – так близко, что можно было почти дотянуться и дотронуться до самой себя. Потом я увидела Лиз, ведьму и по совместительству заведующую архивом, и мое «я» вернулось в тело, стоявшее на двух ногах.
– Лиз, Лиз! – прокричала я. – Разговор есть!
Она остановилась.
– О, Сюзанна, привет. Как дела?
Но у меня не было времени на обмен любезностями.
– Лиз, у тебя когда-нибудь возникало такое чувство, как будто ты здесь, а вроде как тебя и нет?
– Конечно, все время.
– Да нет же, нет, ты не поняла! Я вижу себя как будто сверху, словно лечу над собой и смотрю вниз, – объяснила я, заламывая руки.
– Это нормально, – сказала она.
– Да нет же, нет! Как будто я вышла из тела и смотрю на себя со стороны.
– Ну да.
– Как будто я в своем отдельном мире! А не в этом мире.
– Я понимаю, о чем ты. Скорее всего, это остаточный эффект вчерашнего астрального путешествия, которое ты совершила, когда я гадала тебе на Таро. Кажется, я нечаянно перенесла тебя в иные сферы. Прости. Постарайся расслабиться и не сопротивляться происходящему.
Тем временем Анджела, встревоженная моим странным поведением, заручилась разрешением Пола сводить меня в бар соседнего «Мариотта», якобы чтобы выпить, а на самом деле – чтобы выудить у меня побольше сведений, которые помогли бы пролить свет на причину моего странного поведения. Когда я вернулась в редакцию, Анджела уговорила меня взять вещи и прогуляться с ней несколько кварталов в сторону от Таймс-сквер, на север, к отелю. Мы зашли в лобби через вращающиеся двери и встали у прозрачного лифта рядом с группой туристов, ждущих своей очереди, чтобы подняться в бар, находившийся на восьмом этаже. Вокруг было слишком много людей. Мне стало трудно дышать.
– Давай поедем на эскалаторе, – взмолилась я.
– Конечно.
Но на эскалаторе, украшенном с двух сторон рядами сияющих лампочек, моя тревога лишь усилилась. Я старалась не обращать внимания на участившийся стук сердца и капли пота, выступившие на лбу. Анджела стояла на несколько ступенек выше, и вид у нее был очень обеспокоенный. Мою грудь распирало от страха, и вдруг я снова заплакала.
На третьем этаже мне пришлось сойти с эскалатора, чтобы успокоиться. Я рыдала навзрыд. Анджела положила руку мне на плечо. Прежде чем мы добрались до восьмого этажа, мне пришлось сходить с эскалатора трижды, чтобы прийти в чувство.
Наконец мы очутились на восьмом этаже, где был бар. Перед глазами взвихрились узоры ковров, напоминающие декорации к авангардной экранизации «Лоуренса Аравийского». Чем пристальнее я в них всматривалась, тем больше они расплывались. Наконец, я просто попыталась их игнорировать. Бар на сто с лишним мест с видом на Таймс-сквер был почти пуст, не считая нескольких групп бизнесменов, занявших стулья у входа.
Когда мы вошли, я все еще плакала, и несколько человек оторвались от своих коктейлей и вытаращились на меня, отчего я почувствовала себя еще более несчастной и жалкой. Слезы не прекращались, и я не могла понять почему. Мы расположились в центре комнаты на высоких табуретах, подальше от прочих посетителей. Я не смогла сформулировать, что хочу, поэтому Анджела заказала мне белое вино, а себе пиво.
– Что с тобой на самом деле творится? – спросила она, сделав небольшой глоток янтарного напитка.
– Да много что. Работа. Я ужасный журналист, ужасный! Стивен. Он меня не любит. Вся моя жизнь разваливается. Ничего не понимаю, – проговорила я, по привычке держа винный бокал в руке – это успокаивало, – но так и не отпив из него.
– Понимаю. Ты очень молода. Работа напряженная, новый бойфренд. Все так неопределенно, и это пугает. Но неужели ты из-за этого так расстроилась?
Она была права. Я много раздумывала над своим состоянием, но никак не могла найти недостающую деталь, благодаря которой картина бы прояснилась, – я словно пыталась совместить кусочки от нескольких головоломок, не подходящие друг к другу.
– Есть еще кое-что, – согласилась я. – Но я не знаю, что именно.
Домой я вернулась к семи, и Стивен уже ждал меня. Я не стала признаваться, что была с Анджелой в баре, а соврала, что задержалась на работе. Мне почему-то казалось, что я должна скрыть от него свое странное поведение, хотя Анджела посоветовала сказать ему всю правду. И все же я предупредила его, что в последнее время сама не своя и плохо сплю.
– Не переживай, – ответил он. – Сейчас открою бутылку вина. Сразу заснешь.
Глядя, как Стивен методично помешивает соус для пасты с креветками, вдев кухонное полотенце в петлю для ремня, я почувствовала себя виноватой. Стивен был прекрасным поваром, все время придумывал что-то новенькое, но сегодня я не могла просто сидеть и радоваться тому, как он вокруг меня носится. Я встала и начала мерить шагами комнату. Меня швыряло от чувства вины к любви и отвращению, а потом все по новой. Я не могла утихомирить свои мысли и потому решила не сидеть неподвижно, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться. А главное – мне не хотелось, чтобы Стивен видел меня такой.
– Знаешь, я в последнее время почти не сплю, – наконец заявила я. По правде говоря, я с трудом припоминала, когда мне в последний раз удавалось нормально поспать. Три дня я не спала точно, но бессонница мучила меня уже несколько недель – то больше, то меньше. – Наверное, тебе тоже трудно рядом со мной уснуть.
Он оторвался от пасты и улыбнулся:
– Не переживай. Ты будешь спать крепче, если я буду рядом.
Он протянул мне тарелку с пастой, щедро посыпав ее пармезаном. При виде еды живот скрутило, а когда я попробовала креветку, то чуть не подавилась. Стивен набросился на свою порцию, а я возила свои несчастные макароны по тарелке и смотрела на него, пытаясь скрыть отвращение.
– Что такое? Не нравится? – обиженно спросил он.
– Да нет… не в этом дело. Просто я не голодна. Завтра тоже будет вкусно, – бодро проговорила я, одергивая себя, чтобы снова не начать ходить по квартире.
Не удавалось зацепиться ни за одну мысль; меня захлестнули самые разные желания, меня бросало от чувства вины к любви и отвращению, а потом все по новой.
Наконец я немного расслабилась и смогла прилечь на раскладной диван со Стивеном. Он налил мне бокал вина, но я оставила его на подоконнике. Наверное, интуитивно понимала, что в моем состоянии алкоголь только ухудшит дело. Вместо вина я курила одну сигарету за другой, обжигая пальцы.
– Ты сегодня раскурилась, – заметил Стивен, потушив свою сигарету. – Может, поэтому есть не хочется?
– Да, хватит мне, наверное, – ответила я. – Сердце бьется, как будто хочет вырваться из груди.
Я передала Стивену пульт, и он включил «Пи-Би-Эс». Его мерное дыхание постепенно переросло в храп, а на экране замелькала заставка передачи «Испания – снова в пути» – реалити-шоу, в котором актриса Гвинет Пэлтроу, шеф-повар Марио Батали и кулинарный критик «Нью-Йорк таймс» Марк Биттман путешествуют по Испании. «О боже, только не Гвинет Пэлтроу», – подумала я, но переключать канал было лень. Батали лакомился сытной яичницей с мясом, а Гвинет ковыряла жидкий йогурт из козьего молока. Когда он предложил ей попробовать кусочек своего блюда, она отказалась.
«Прекрасное блюдо для семи утра», – саркастически заметила она. По ее лицу было видно, какое отвращение у нее вызывает его пузо.
Я смотрела, как она клюет свой йогурт, и у меня скрутило желудок. Я поняла, что за последнюю неделю совсем мало ела.
«Не задирай нос, а то споткнешься», – ответил Марио.
Я рассмеялась, а потом все вдруг поплыло перед глазами.
Гвинет Пэлтроу.
Яичница с мясом.
Темнота.
8. Внетелесный опыт
Вот как позднее описывал эту кошмарную сцену Стивен. Я разбудила его странными глухими стонами, к которым примешивались звуки работающего телевизора. Сначала он подумал, что я скрежещу зубами, но потом, когда скрежетание переросло в высокочастотный визг (как наждачка по металлу) и глухое мычание, похожее на то, что издают душевнобольные, понял, что что-то не так. Он решил, что я не могу уснуть, но повернувшись, увидел, что я сижу на кровати с открытыми глазами – невидящий взгляд, зрачки расширены.
– Эй, что с тобой?
Молчание.
Когда он заговорил со мной и сказал, чтобы я расслабилась, я повернулась к нему, но смотрела сквозь него, как одержимая. Я вдруг начала размахивать руками перед собой, как мумия; глаза закатились, а тело напряглось. Я глотала ртом воздух.
Напряжение в теле усилилось; я вдыхала, но не делала выдох. Изо рта сквозь стиснутые зубы хлынула пена и кровь. Стивен, поборов крик паники, мгновение просто смотрел на мое трясущееся тело, не в силах сдвинуться с места.
Наконец он бросился ко мне – и, хотя никогда раньше не видел припадков, понял, что делать. Он уложил меня на спину, повернул голову набок, чтобы я не захлебнулась, и побежал звонить в «Скорую».
Этот припадок я так и не помню – впрочем, как и все последующие. Этот момент – мой первый серьезный «вылет» из сознания и памяти – стал той самой чертой, что для меня отграничила нормальность от сумасшествия. И хотя в последующие недели в голове у меня иногда прояснялось, с того самого момента жизнь моя изменилась навсегда: мне уже не стать прежней.
То было начало тяжелейшего периода моей болезни, пребывания в некоем промежуточном состоянии, чистилище, отделявшем реальный мир от облачного, вымышленного, состоящего из галлюцинаций и параноидального бреда.
Начиная с этого дня в описаниях я все больше буду полагаться на слова окружающих, пытаясь восстановить потерянное время.
Позднее мне сказали, что этот припадок просто был самым заметным и ярко выраженным из всех, а на самом деле за прошедшие дни я пережила их уже несколько. Все, что творилось со мной в предыдущие несколько недель, было всего лишь одним из проявлений куда более серьезной и ожесточенной борьбы, которая велась на самом примитивном уровне в моем мозгу.
Работу здорового мозга можно сравнить с симфонией, исполняемой оркестром из 100 миллиардов нейронов. Действия отдельных нервных клеток сливаются в гармоничное целое. Благодаря этой «музыке» мы думаем, двигаемся, вспоминаем и даже чихаем. Но чтобы испортить звучание всего оркестра, достаточно лишь одного расстроенного инструмента. Когда в результате болезни, травмы, опухоли, недосыпания или злоупотребления алкоголем нейроны начинают «играть» без пауз, мимо нот или вступают все одновременно, возникает какофония – то есть припадок.
А некоторых людей настигает тонико-клонический припадок – как раз такой, свидетелем которого стал Стивен. Такие припадки характеризуются потерей сознания, мышечной ригидностью и странными непроизвольными движениями, напоминающими синхронизированный танец, – те самые жуткие взмахи руками, «танец зомби», который я исполняла. А бывают припадки менее проявленные, которые выражаются, например, в длительной фиксации взгляда в одной точке, помутнении сознания и повторяющихся движениях губ или тела. В конечном счете, если отсутствует лечение, припадки могут привести к повреждению когнитивных способностей и даже смерти.
Выяснилось, что, помимо сильнейшего тонико-клонического припадка, я также пережила несколько частичных припадков с различными симптомами. Причиной была чрезмерная стимуляция височных долей большого мозга – части мозга, наиболее подверженной раздражению. В височной доле расположены «древние» мозговые структуры, отвечающие за эмоции и память, – гиппокамп и миндалина. Симптомами подобного припадка могут быть приподнятое настроение, как в утро Рождества, сексуальное возбуждение или опыт, который ошибочно принимают за религиозный или мистический. Некоторые больные сообщают о чувстве дежавю и его противоположности – жамевю, когда все вокруг кажется незнакомым (то самое чувство, что я испытала в офисном туалете). Кто-то видит нимбы света, другим мир начинает видеться странно непропорциональным (синдром получил название «эффекта Алисы в Стране чудес») – это произошло со мной, когда я шла на встречу с Джоном Уолшем. Нередки приступы светобоязни – повышенной чувствительности к свету: то, что случилось со мной на Таймс-сквер. Все это распространенные симптомы или предвестники припадков, вызванных нарушениями в височных долях большого мозга.
Небольшой процент людей, страдающих височной эпилепсией, также сообщают об ощущении «внетелесного опыта», описывая его как выход из тела и способность смотреть на себя со стороны – как правило, сверху.
Вот я на носилках.
А вот мое тело загружают в карету «Скорой помощи», а Стивен держит меня за руку.
Вот меня ввозят в больницу.
А вот и я. Парю над происходящим, глядя на все сверху вниз. Я спокойна. Я не боюсь.
9. Капля безумия
Первое, что я увидела, придя в себя, – бездомный, которого рвало всего в паре шагов от меня в ярко освещенной палате. В другом углу был еще один пациент – избитый и окровавленный, прикованный наручниками к кровати. Рядом с его койкой стояли двое полицейских.
Неужели я умерла?
Меня охватила ярость при виде такого соседства. Да как они смели поместить меня сюда? Моя злость перекрывала все остальные эмоции, даже страх, и я взорвалась. Несколько недель я была сама не своя, но истинный ущерб, нанесенный моей психике, только сейчас проступил на поверхность. Вспоминая то время, я понимаю, что поддалась болезни, позволив всем личным качествам, которые считала ценными – терпению, доброте, учтивости, – просто испариться. Я стала рабыней махинаций своего воспаленного мозга. В конце концов все мы являемся лишь суммой составляющих, и, когда организм нас подводит, все добродетели, которыми мы дорожим, приносятся в жертву болезни.
Я еще не умерла. Еще не хватало умереть из-за него – из-за этого оператора из лаборатории.
Я почему-то убедила себя, что виноват в моем состоянии оператор из лаборатории МРТ, который флиртовал со мной во время процедуры.
– А ну, вытащите меня отсюда! СЕЙЧАС ЖЕ! – командным тоном приказала я. Стивен взял меня за руку; мой деспотический тон его испугал. – Я не собираюсь оставаться в этой палате!
Я не могу умереть здесь. Рядом с этими уродами.
К моей кровати подошел врач.
– Да, сейчас мы вас переведем.
Я испытала триумф, восторг от своей новообретенной силы. Люди слушаются меня, когда я им приказываю! Чем переживать, что моя жизнь выбилась из-под контроля, я сосредоточилась на всем том, что придавало мне сил. Медсестра и медбрат выкатили мою кровать из комнаты и перевезли меня в соседнюю отдельную палату. Когда мы поехали, я схватила Стивена за руку. Мне было его жаль. Он не знал, что я умираю.
– Мне жаль тебя расстраивать, – тихо проговорила я, – но я умираю от меланомы.
Стивен выглядел усталым.
– Прекрати, Сюзанна. Не говори так. Ты не знаешь, что с тобой не так.
Я заметила, что его глаза полны слез. Ему это не по плечу. Вдруг ярость заклокотала во мне с новой силой.
– Я знаю, что со мной не так! – закричала я. – Да я в суд на него подам! Останется без последней рубашки! Думает, можно вот так просто подкатить ко мне, а потом бросить меня умирать? Нет, так нельзя! О, в суде я его уничтожу!
Стивен резко выдернул руку – как будто обжегся.
– Сюзанна, прошу, успокойся. Не понимаю, о чем ты говоришь.
– Парень из лаборатории МРТ! Он приставал ко мне! И у него-то нет меланомы. Все, я подаю в суд!
Молодой врач прервал мои бредни:
– Дома, пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией. Если хотите, могу порекомендовать хорошего дерматолога. К сожалению, мы больше ничем не можем помочь. – В клинике мне провели компьютерную томографию, стандартный неврологический осмотр и сделали анализ крови. – Мы вас выписываем и советуем завтра же утром обратиться к неврологу.
– Выписываете? – воскликнул Стивен. – Вы ее отпускаете? Но вы же так и не выяснили, что с ней, и припадок может повториться. Как можно просто взять и отпустить ее?
– Мне очень жаль, но припадки – очень распространенное явление. Иногда бывает, что они больше не повторяются. Но это приемная «Скорой помощи» – мы не можем оставить ее здесь и наблюдать. Мне очень жаль. Советую вам завтра же утром обратиться к неврологу.
– А я на этого лаборанта все равно в суд подам!
Терпеливо кивая, врач покинул нас, чтобы заняться ожидавшими его пациентами с огнестрельными ранениями и передозировками.
– Надо позвонить твоей маме, – сказал Стивен.
– Зачем? – возразила я, и мой голос поменялся – стал мягче. Я снова стала прежней собой. Маниакальные эпизоды проходят так же быстро, как возникают. – Не хочу, чтобы она волновалась.
Мама по природе тряслась из-за каждой мелочи, и до сих пор я так до конца и не рассказала ей обо всем, что со мной творилось.
– Я должен ей позвонить, – не унимался Стивен и все же выпытал у меня ее домашний телефон.
Он вышел в коридор, и после двух невыносимо долгих гудков трубку снял Аллен – мой отчим.
– Алло, – сонно проговорил он с сильным акцентом, сразу выдававшим в нем жителя Бронкса.
– Аллен, это Стивен. Я в больнице. У Сюзанны был припадок, но сейчас все в порядке.
Донесся мамин крик:
– Аллен, кто это?
– С ней все будет в порядке. Ее отпустили, – продолжал Стивен.
Мама ощутила волну подступающей паники, но Аллен сохранял спокойствие. Он велел Стивену отвезти меня домой и ложиться спать и пообещал, что утром они приедут. Позднее Аллен рассказывал, что, когда он повесил трубку, они с мамой переглянулись: была пятница, тринадцатое.
Маму охватило дурное предчувствие, и она начала плакать, не в силах совладать с собой: она не сомневалась, что со мной что-то серьезное. Это был первый и последний раз, когда она позволила себе целиком поддаться эмоциям; в кошмарные месяцы, последовавшие за этим днем, она не сорвалась ни разу.
С утра, пока Аллен искал, где припарковаться, мама первой объявилась на пороге и, как всегда, выглядела безупречно. Однако ее тревога была заметна невооруженным глазом. Раньше она боялась даже упоминания о раке по радио, а теперь еще какой-то загадочный припадок. Я наблюдала за ней с кровати: она заламывала свои красивые тонкие руки (больше всего я любила ее руки) и засыпала Стивена вопросами о ночи, что мы провели в больнице.
– Они объяснили, что с ней? Что за врач ее осматривал? Ей сделали МРТ?
Пришел Аллен, обнял ее и стал массировать ей мочку уха – так он успокаивал своих близких. Стоило ему коснуться ее, и она расслабилась. Аллен был третьим маминым мужем, а мой отец – вторым; первым был архитектор, но тот брак развалился по многим причинам, главным образом потому, что моя мама – типичная феминистка 1970-х – не хотела иметь детей. Куда больше ее интересовала карьера: она работала (и до сих пор работает) в офисе манхэттенского окружного прокурора. Когда они с папой познакомились, мама ушла от первого мужа; у них родилась я, а потом и мой брат Джеймс. Несмотря на решение завести детей, их отношения были обречены с самого начала: с таким взрывным темпераментом и упрямством, как у них обоих, странно, что они оставались женатыми почти двадцать лет и только потом развелись.
Мама с Алленом познакомились тридцать лет назад в офисе окружного прокурора – задолго до того, как мама вышла за отца. Аллен был ее преданным другом и тем завоевал ее расположение. Он стал ее доверенным лицом и на работе, и в жизни, и поддерживал ее во время бракоразводного процесса. Брат Аллена был шизофреником, и из-за этого Аллен вел очень замкнутую жизнь: у него было лишь несколько близких друзей, он жил в собственном мире. В общении с близкими он был очень открытым, бурно жестикулировал, заразительно смеялся. Но с незнакомыми больше молчал и был настороже, и из-за этого некоторым даже казался грубым. Но в последующие несколько недель его доброта и спокойствие, не говоря уж об опыте тесного общения с душевнобольными, оказались для нас бесценными.
До припадка у них с мамой была своя теория, сложившаяся на основе тех скудных сведений, что им удалось собрать о моем странном поведении в прошлом месяце. Они думали, что из-за стресса на работе и груза ответственности самостоятельной жизни у меня случился нервный срыв. Однако припадок не вписывался в эту картину, и поэтому их беспокойство усилилось. Посовещавшись, они решили, что лучше всего будет перевезти меня к ним домой в Саммит, Нью-Джерси, где они смогли бы обо мне позаботиться.
Пробуя разные тактики, Стивен, мама и Аллен пытались заставить меня встать с кровати, но я не поддавалась. Тогда мне казалось, что главное – несмотря ни на что остаться в своей квартире, ведь возвращение в родительский дом означало бы, что я как дитя малое. И хотя мне бы не помешала их забота, я совершенно этого не хотела. Тем не менее совместными усилиями им удалось вытащить меня из квартиры и усадить в «субару» Аллена.
Саммит – «одно из лучших мест для жизни в Америке», по мнению журнала Money[5], – богатый пригород в 32 километрах от Манхэттена, пристанище обеспеченных белых американцев и банкиров с Уолл-стрит, собирающихся в многочисленных загородных клубах на территории 10 кв. км. Мы переехали в Саммит из Бруклина в 1996 году, и, хотя лучшее место для воспитания ребенка трудно было представить, моей семье так и не удалось вписаться в окружение. В квартале, состоящем из одних белых домов, наш дом был единственным, выкрашенным в лавандовый, серый и фиолетовый, – так решила мама. В шестом классе одна из девчонок в школе сказала мне: «Моя мама говорит, что вы его скоро в горошек раскрасите». В конце концов мама перекрасила дом в менее возмутительный серо-голубой.
Заново привыкая к родительскому дому в течение следующих несколько дней, я не отдыхала, предаваясь воспоминаниям о проведенных здесь годах, а все сильнее и сильнее тосковала по жизни на Манхэттене, которую оставила позади. В воскресенье вечером я вдруг вбила себе в голову, что мне просто необходимо сдать давно просроченную статью – обычный репортаж о внебродвейской танцевальной труппе, состоящей из инвалидов. Они называли себя «Калеки».
«Они не похожи на других танцоров», – начала я. Но строчка мне не понравилась, и я ее удалила. В течение следующего получаса я писала, стирала и снова писала одно и то же предложение, пытаясь преодолеть писательский ступор. Я пошла в гостиную, где мама с Алленом смотрели телевизор, желая поделиться с ними своей неспособностью сформулировать мысль. Но на пороге комнаты не смогла вспомнить, зачем пришла.
Из телевизора, включенного на полную громкость, доносилась заглавная мелодия их любимого сериала – медицинской драмы «Доктор Хаус». Вдруг приглушенно-зеленая обивка дивана показалась невыносимо яркой.
Потом комната начала пульсировать и дышать – как коридор тогда, в офисе.
Я услышала мамин голос, тонкий и раздававшийся словно издалека:
– Сюзанна, Сюзанна! Ты меня слышишь?
Следующее, что я помню: мама сидит рядом со мной на диване и растирает мои стопы, скрючившиеся в болезненном мышечном спазме. Я беспомощно взглянула на нее.
– Не знаю, что это было. Ты была как в трансе, – сказала она.
Мама с Алленом перекинулись встревоженными взглядами и позвонили доктору Бейли, чтобы назначить мне экстренный прием. Он ответил, что сможет только в понедельник.
Я провела выходные в Саммите, не отвечая на звонки обеспокоенных коллег и друзей. Я так стыдилась своего необъяснимого поведения, что не хотела ни с кем говорить, а странные вещи, происходившие в моей голове, заставили меня отвернуться от близких, хотя обычно я так никогда не поступала. Но по какой-то причине на один звонок я все же ответила – когда увидела, что звонит моя подруга Джули, – фотограф «Пост» и самый легкий в общении и беззаботный человек из моих знакомых. Стоило нам заговорить, и я выложила ей все: и про свои припадки, и про странные мысли, и про галлюцинации. Может, потому что ее мать была психиатром? Когда я закончила, Джули призналась, что уже говорила обо мне с матерью.
– Она считает, что у тебя может быть биполярное расстройство[6], а сейчас как раз фаза мании, – сказала Джули. – В любом случае тебе надо к психиатру.
Биполярное расстройство. Хотя такой диагноз никого бы не обрадовал, сейчас мысль о нем вызвала облегчение. Все сразу встало на свои места. Быстрый поиск в гугле вывел меня на буклет Национального института психического здоровья, в котором был опросник. «Расстройство мозга, вызывающее необъяснимые перепады настроения» (да!); «часто возникает в период 16–20 лет или в начале самостоятельной взрослой жизни» (тоже да); «состояние чрезмерного счастья называется “маниакальной фазой”; сильная грусть и ощущение безнадежности – “депрессивной фазой” (да, да и еще раз да – это объясняет мои противоречивые эмоции).
На другом сайте перечислялись имена знаменитостей, предположительно страдавших биполярным расстройством: Джим Керри, Уинстон Черчилль, Марк Твен, Вивьен Ли, Людвиг ван Бетховен, Тим Бертон. Имен было немало. «Я в хорошей компании», – подумала я. «Ни одному из великих умов не удалось избежать капли безумия», – говорил Аристотель.
Всю ночь я проворочалась с ощущением счастья: наконец-то у меня было название напасти, которая меня преследовала, и эти два слова, так красиво слетавшие с языка, все объясняли. Мне даже не хотелось, чтобы меня вылечили. Я чувствовала себя принадлежащей к эксклюзивному клубу творческих личностей.
Однако маме с Алленом моя самодиагностика показалась неубедительной, и утром в понедельник – 16 марта – они повезли меня на прием к доктору Бейли. Сегодня картина Миро уже не казалась угрожающей. Она вполне соответствовала характеру моей болезни. Доктор Бейли вызвал нас почти без промедлений. На этот раз он уже не казался таким веселым и не напоминал доброго дедушку, хотя в целом был обходителен. Он снова провел стандартный неврологический осмотр и записал в моей карте «без отклонений». В тот момент я действительно чувствовала себя «без отклонений». Он задавал мне вопросы и делал пометки в блокноте. Лишь потом я узнала, что он упустил несколько важных деталей, например, охарактеризовал мое состояние в период первого припадка как «ровное».
Когда мы говорили о припадке, его тон был спокойным, но потом он опустил на нос очки и внезапно посерьезнел.
– Ваша работа связана с сильным стрессом?
– М-да, пожалуй.
– Вы иногда чувствуете, что не справляетесь?
– Конечно.
– Скажите честно, – проговорил он, словно готовясь услышать от меня страшную тайну, – никто вас не осудит. Сколько алкоголя вы употребляете в день?
Я задумалась. В последнюю неделю я не притрагивалась к спиртному, но обычно оно помогало мне расслабиться, и я почти каждый вечер пила глоток-другой.
– Ну, если честно – примерно два бокала в день. Обычно мы с бойфрендом выпиваем бутылку вина на двоих, но он пьет больше, чем я, как правило.
Доктор Бейли сделал запись в своем блокноте. Тогда я не знала, что врачи обычно умножают количество алкоголя, сообщенное пациентами, на два или три, потому что пациенты часто лгут о своем пристрастии к спиртному. Он, наверное, решил, что на самом деле я выпиваю не два бокала в день, а шесть.
– Наркотики употребляете?
– Нет. В последний раз пробовала много лет назад, – ответила я и поспешно добавила: – Я почитала про биполярное расстройство, и мне кажется, это мой случай.
Доктор Бейли улыбнулся:
– У меня нет опыта в этой сфере, но я не исключаю такую возможность. Моя секретарша даст вам контакты очень хорошего психиатра, у которого больше опыта с такого рода заболеваниями.
– Отлично.
– Что ж, тогда… В целом вы кажетесь мне вполне нормальной. Я выпишу вам рецепт на кеппру – лекарство от эпилептических припадков. Принимайте его, и все будет в порядке. Я назначу вам прием через две недели, – сообщил он и проводил меня в приемную. – Также, если не возражаете, я бы хотел поговорить наедине с вашей матерью.
Он пригласил ее в офис, закрыл дверь и повернулся к ней:
– Думаю, объяснение очень простое. Она слишком часто пьет, мало спит и много работает. Следите, чтобы она не прикасалась к спиртному, пусть принимает кеппру, и все будет в порядке.
Мама вздохнула с огромным облегчением. Это было именно то, что она хотела услышать.
10. Смешанная фаза
Аллен отвез нас к довоенному кирпичному особняку в Верхнем Ист-Сайде, где жила и принимала Сара Левин, психиатр. Мы с мамой подошли ко входу и позвонили в домофон. Из динамика раздался тонкий фальцет, напомнивший мне актрису Кэрол Кейн[7]:
– Заходите и подождите в приемной. Я сейчас буду.
Приемная доктора Левин напоминала кадр из фильма Вуди Аллена: белые стены, журналы и книжные шкафы с томами классической литературы. Я была рада, что пришла на прием к психиатру. Мне хотелось, чтобы она раз и навсегда подтвердила диагноз, который я сама себе поставила, а еще мне казалось, что прием психиатра – это своего рода развлечение. Как-то раз давно, когда я рассталась с парнем, я ходила к трем психотерапевтам, прощупывая почву. Для меня это была скорее блажь, чем необходимость, – насмотрелась сериала «Пациенты», только и всего. Первым, к кому я попала, был симпатичный молодой гей, который вел себя как мой лучший друг и помощник; далее был неопытный (зато дешевый) терапевт, на вид полный ботан, он записал мой номер соцстрахования и первым делом спросил, какие у меня отношения с отцом; и еще один старый брюзга, попытавшийся загипнотизировать меня с помощью пластиковой палочки.
– Заходите, – сказала доктор Левин.
Я улыбнулась: она и внешне напоминала Кэрол Кейн.
Она указала мне на кожаное кресло:
– Надеюсь, вы не возражаете: я всегда фотографирую своих пациентов для архива. – Доктор Левин указала на «полароид», который держала в руках.
Я выпрямилась, не зная, улыбаться мне или смотреть серьезно. Потом вспомнила, как мой друг с работы Зак сказал мне много лет назад, когда я впервые появилась на ТВ в прямом эфире в связи с делом Майкла Делвина: «Улыбайся глазами». Это я и попыталась сделать.
– Итак, расскажите, почему вы здесь, – проговорила доктор, протирая очки.
– У меня биполярное расстройство.
– Простите, что? – встрепенулась она. – Повторите.
– Биполярное расстройство.
Она кивнула, как будто соглашаясь со мной:
– Вы принимаете лекарства от этой болезни?
– Нет. Мне еще диагноз не поставили. Но ведь я себя знаю лучше, чем кто-либо еще, верно? Мне ли не знать, есть оно у меня или нет. А я уверена, что есть, – тараторила я: болезнь мешала мне нормально изъясняться.
Доктор Левин снова кивнула:
– Скажите, почему вам кажется, что у вас биполярное расстройство?
Я изложила свою версию, пользуясь собственной странной, сбивчивой логикой, а она записывала свои впечатления, исписав две страницы в широкую линейку. «Пациентка утверждает, что у нее биполярное расстройство. Сложно сделать однозначное заключение, – написала она. – Описывает все очень живо. Началось несколько дней назад. Не может сосредоточиться. Легко отвлекается. Хроническая бессонница, но не устает и не ест. В голову приходят грандиозные идеи. Галлюцинациями не страдает. Параноидальным бредом не страдает. Всегда была импульсивной».
Доктор Левин спросила, испытывала ли я нечто подобное раньше, и записала: «Приступы гипомании случались, сколько себя помнит. Всегда много энергии. Бывают негативные мысли. Никогда не думала о самоубийстве».
В итоге доктор Левин пришла к выводу, что я переживаю «смешанную фазу» – то есть типичное для страдающих биполярным расстройством состояние, включающее как маниакальные, так депрессивные эпизоды. Она приподняла и опустила несколько толстых книг на своем столе, нашла блокнот с рецептами и выписала мне зипрексу – антипсихотическое средство, которое прописывают при расстройствах настроения и мышления.
Пока я была на приеме у доктора Левин, мама позвонила моему младшему брату – тот учился на первом курсе Питтсбургского университета. В свои девятнадцать Джеймс был рассудителен и мудр не по годам, с ним мне всегда было спокойно.
– У Сюзанны был припадок, – сказала мама, пытаясь совладать с дрожью в голосе. Джеймс был ошеломлен. – Невролог говорит, что она слишком много пьет. Как думаешь, Сюзанна алкоголичка?
– Ни в коем разе, – уверенно ответил Джеймс.
– Сама она утверждает, что у нее маниакально-депрессивный психоз. Это возможно, по-твоему?
Джеймс на минутку задумался:
– Нет. Не может быть. На Сюзанну это совсем не похоже. Да, она может перевозбудиться, легко вспыхивает, но депрессия? Нет. Она сильная, мам. И ты это знаешь. В ее жизни много стресса, но никто не справляется с ним так хорошо, как она. Биполярное расстройство? Не верю.
– Я тоже, – пробормотала мама. – Я тоже.
11. Кеппра
Чуть позже тем вечером меня осенило. Биполярное расстройство ни при чем: все дело в кеппре, лекарстве от эпилепсии, которое мне прописали. Это кеппра вызывает бессонницу, забывчивость, беспокойство, враждебность, перепады настроения, онемение, потерю аппетита. То, что я принимала ее всего сутки, меня не волновало. Во всем виновата кеппра, решила я. Поиск в Интернете подтвердил мои опасения: все мои симптомы были в списке побочных эффектов этого токсичного лекарства.
Мама умоляла, чтобы я продолжала ее принимать.
– Ради меня, – сказала она. – Пожалуйста, прими таблетку.
И я приняла. Даже в тот период, когда я едва себя узнавала, порой на поверхность проступали проблески «настоящей» Сюзанны – той, которая не хотела причинять боль близким. Вспоминая то время, я думаю, что именно поэтому, несмотря на всю сумятицу, что происходила в моей голове, я часто делала так, как настаивали родные.
В ту ночь, когда будильник у кровати прозвонил в полночь, я вздрогнула и подняла голову.
Чертовы таблетки. Они меня поработили. Я схожу с ума! Кеппра. Мне нужно очистить организм от кеппры. «Вызови рвоту, избавься от нее!» – твердил голос в голове. Я скинула простыни и вскочила с кровати. Кеппра, кеппра. Прошла по коридору в ванную, включила кран и встала на колени перед унитазом. Сунув два пальца в рот, надавила на язык, и вскоре пошел сухой рвотный рефлекс. Я надавила снова. Тонкая струйка белой жидкости. Меня не рвало, потому что я уже не помнила, когда в последний раз ела. Чертова кеппра. Я спустила воду, повернула кран и стала ходить по ванной туда-сюда.
Следующее, что я помню: я на третьем этаже, где спали моя мать и Аллен. Они переехали наверх, когда мы с Джеймсом были в старших классах: мы часто уходили по вечерам или поздно возвращались домой и мешали им спать. И вот я стояла у маминой кровати и смотрела на нее спящую. Ее лицо освещала половинка луны. Она выглядела такой беспомощной – как новорожденная. Меня переполнила нежность к ней, я наклонилась и погладила ее волосы.
– О боже! Сюзанна. С тобой все в порядке?
– Не могу уснуть.
Она пригладила свои растрепавшиеся короткие волосы и зевнула.
– Давай спустимся, – прошептала она, взяла меня за руку и отвела обратно в мою комнату.
Она легла рядом и распутывала колтуны в моих волосах более часа, пока опять не заснула. Я слушала ее мягкое ровное дыхание, пытаясь под него подстроиться, но сон так и не шел.
На следующий день – это было 18 марта 2009 года, 2.50 ночи – я сделала первую из многих отрывочных записей на компьютере, которые впоследствии станут моим временным дневником того периода. Эти записи показывают, насколько обрывочным и с каждым разом все более нелогичным был мой мыслительный процесс.
У меня биполярное расстройство, и это то, что делает меня МНОЙ. Я должна научиться управлять своей жизнью. Я ЛЮБЛЮ свою работу. Я ее ЛЮБЛЮ! Мне нужно порвать со Стивеном. Я хорошо разбираюсь в людях, но слишком запуталась. Я позволила работе занять слишком много места в моей жизни.
В тот день, когда мы с отцом говорили о будущем, я призналась ему, что хотела бы продолжить учебу в университете и поступить в Лондонскую экономическую школу – хотя раньше никогда не изучала бизнес. Тогда мой мудрый папа ненавязчиво предложил, чтобы я записывала свои скачущие мысли. Этим я занималась следующие несколько дней. «Отец предложил мне вести дневник, и это определенно помогает. Еще он предложил решать головоломки: умно, ведь он тоже мыслит головоломками (складывает вместе части целого)».
Кое-что из написанного мной в то время – сбивчивая груда слов, но есть отрывки, которые, как ни странно, проливают свет на мой внутренний мир и позволяют глубже задуматься о тех сферах моей жизни, которые раньше я никогда не анализировала. Вот что я писала о своей любви к журналистике: «Анджела видит во мне что-то, потому что понимает, как тяжело нам делать нашу работу, но такова журналистика – это тяжелый труд, и возможно, он не для меня, но я крепкий орешек». Еще я писала о необходимости навести порядок в своей жизни, которая стремительно разваливалась на кусочки: «Мне нужен распорядок и дисциплина, без которых я склонна пускаться во все тяжкие».
Записывая эти и другие строки, я чувствовала, как по кусочкам, слово за словом, собираю единую картину, которая в итоге покажет, что со мной не так. Но мысли в голове спутались, как бусы в коробке для драгоценностей. И только мне начинало казаться, что один узел удалось распутать, как я понимала, что эта нить тянется к очередному змеиному клубку. Сейчас, спустя несколько лет, эти записи затрагивают во мне гораздо более чувствительные струны, чем любое ненадежное воспоминание. Может, верно говорил Томас Мор: «Лишь тайна и безумие приоткрывают истинное лицо души».
Вечером того же дня я вошла в гостиную и объявила маме и Аллену:
– Я все поняла. Это Стивен. Он слишком давит на меня. Я не справляюсь. Я слишком молода.
Мама с Алленом понимающе кивали. Я вышла из комнаты, но не успела переступить порог, как в голову пришло другое объяснение моих проблем. Я вернулась.
– Нет. Все дело в газете, в «Пост». Мне не нравится там работать, и это сводит меня с ума. Я должна вернуться в университет.
Они снова закивали. Я вышла и тут же вернулась.
– Нет! Я живу неправильно. Во всем виноват Нью-Йорк. Это слишком для меня. Мне надо переехать в Сент-Луис или Вермонт… туда, где потише. Нью-Йорк мне просто не подходит.
Я снова вышла и снова вернулась, прыгая из гостиной в кухню и обратно. Мне казалось, что на этот раз я точно все поняла. Нашла верное объяснение. Теперь-то все встало на свои места.
А потом жесткий ворс ковра с восточным орнаментом оцарапал мне щеку.
Овальные капли крови запачкали узорчатое полотно.
Пронзительно закричала мама.
Я упала на пол, прикусила язык и забилась, как рыба, выброшенная на берег; все тело затряслось в дикой пляске. Подбежал Аллен и сунул мне палец в рот, но в спазме я прикусила его, и его кровь смешалась с моей.
Через несколько минут я пришла в себя и услышала, что мама говорит по телефону с доктором Бейли, отчаянно пытаясь заставить его дать объяснение произошедшему. Доктор настаивал, чтобы я продолжала принимать лекарство, а в субботу пришла на электроэнцефалографию (ЭЭГ) – проверку электрической активности мозга.
Через два дня – в пятницу – Стивен приехал в Саммит навестить меня и предложил выбраться из дома и поужинать. Мои родные ввели его в курс дела насчет моего все ухудшающегося состояния и отнеслись к его предложению очень настороженно, но Стивен понимал, как важно мне куда-то выходить (из-за припадков я не могла водить машину) и поддерживать хотя бы некое подобие «взрослой» жизни. Мы поехали в ирландский паб в Мэйплвуде, где я прежде никогда не была. В пабе было полно народу – семьи, подростки. Люди толпились у стойки, пытаясь выбить себе столик. Я сразу поняла, что здесь слишком людно для меня. Все таращились на меня и шептали: «Сюзанна, Сюзанна». Мне казалось, я слышала их шепот. Дыхание участилось; я покрылась испариной.
– Сюзанна, Сюзанна, – повторил Стивен. – Она сказала, что ждать придется сорок минут. Хочешь подождать или поедем? – Он указал на девушку у стойки. Та как-то странно на меня смотрела.
– Хм-м. Хм-м. – Старик, у которого, кажется, была накладка из искусственных волос, с ухмылкой пялился на меня. Девица у стойки подняла брови. – Хм-м.
Стивен схватил меня за руку и вывел на свободу, на морозный воздух. Я снова смогла дышать. Потом он отвез меня в соседний городок Мэдисон, в дешевый бар под названием «Бедняга Херби», где не было очереди. Официантка – женщина лет шестидесяти пяти с жесткими, как мочалка, вытравленными пергидролью волосами и сединой у корней – стояла у столика, упершись левой рукой в бок, и ждала, пока мы сделаем заказ. Но я лишь смотрела в меню.
– Она будет куриный сэндвич, – наконец сказал Стивен, поняв, что сделать такой сложный выбор мне не под силу. – А я – сэндвич с говядиной.
Когда принесли еду, я могла смотреть лишь на жирный французский соус, медленно покрывавшийся пленкой на сэндвиче Стивена. В отчаянии я уставилась на свою тарелку: казалось, ничто на свете не могло заставить меня поднести сэндвич к губам.
– Он совсем неаппетитный, – пролепетала я, глядя на Стивена.
– Но ты даже не попробовала. Если не съешь, учти – дома только фаршированная рыба и куриная печенка, – попытался он отшутиться, намекая на странные кулинарные пристрастия Аллена.
Он доел свой сэндвич, мой же так и остался нетронутым.
Мы зашагали к машине, и меня вдруг одолели два сильнейших противоречивых желания: мне хотелось порвать со Стивеном здесь и сейчас и одновременно впервые признаться ему в любви. Меня тянуло сделать и то, и другое; оба порыва были одинаково сильными.
– Стивен, нам очень нужно поговорить.
Он как-то странно взглянул на меня. Я запнулась, покраснела, набираясь храбрости для разговора, хотя по-прежнему не знала, что именно сейчас скажу. Он, кажется, тоже ожидал, что я порву с ним.
– Я просто… Я просто… очень люблю тебя. Не знаю даже. Я тебя люблю.
Он нежно сжал мои ладони своими.
– Я тоже тебя люблю. Тебе просто нужно отдохнуть.
Мы оба не предполагали, что признаемся друг другу в любви при таких обстоятельствах; не то воспоминание, каким принято делиться с внуками, но так уж случилось. Мы были влюблены.
Позже вечером Стивен заметил, что я начала постоянно чмокать губами, как будто сосала леденец. Я так часто облизывала губы, что мама густо мазала их вазелином – они покрывались кровоточащими трещинами. Иногда я начинала говорить и не договаривала, а принималась смотреть перед собой и смотрела несколько минут, прежде чем вернуться к разговору. В эти минуты параноидальная агрессия утихала, и я становилась беспомощной, как ребенок. Это сильнее всего тревожило окружающих – ведь даже в глубоком детстве я всегда была самодостаточной и с упрямством отвергала помощь взрослых. Тогда мы не знали, что это тоже были частичные, менее заметные припадки различной этиологии. Именно они были причиной повторяющихся движений губами и помутнения сознания. С каждым днем, даже с каждым часом, мне становилось хуже, но никто не знал, что делать.
В 3.38 утра 21 марта, пока Стивен храпел наверху, я снова делала записи в своем компьютерном дневнике.
Не знаю, с чего начать, но начать-то надо, да? И только не надо говорить: о, да ты даже орфографические ошибки не проверила.
Мне хотелось относиться к Стивену как к ребенку, а получилось наоборот. Я позволила родителям нянчиться со мной слишком долго.
У тебя есть материнский инстинкт (ты же держала его в своих руках), ты чувствовала, что в уме установилась ясность, когда была рядом с ним. Ты нашла свой телефон и вспомнила.
Когда говорю с отцом, то все яснее. Мама слишком нянчится со мной, потому что винит себя в том, что со мной стало. Но это зря. Она была отличной матерью. Она должна это знать.
Какая мне разница, кто что обо мне думает? Я собираюсь.
Стивен: вот кто не дает тебе сойти с ума. А еще он очень умен. Он не бравирует этим, но это не должно тебя одурачить, ясно? Из-за него ты оказалась на перепутье и должна быть вечно благодарна ему за это. Будь к нему добрее.
Читая эти заметки сейчас, я словно ощущаю поток сознания чужого человека. Не узнаю того, кто написал эти строки. И хотя очевидно, что этот человек отчаянно пытается выразить свои самые глубокие, потаенные переживания, даже я не могу его понять.
12. Уловка
В субботу утром мама попыталась затащить меня на прием к доктору Бейли, чтобы сделать ЭЭГ. За одну лишь прошлую неделю у меня было два выраженных припадка; проявлялось все больше тревожных симптомов, и моя семья хотела знать, что со мной.
– Ни за что, – буркнула я, топая ногой, как двухлетний ребенок. – Со мной все в порядке. Не нужны мне никакие ЭЭГ.
Аллен пошел заводить машину, а Стивен с мамой вдвоем меня уговаривали.
– Нет. Не поеду. Нет! – отвечала я.
– Но ты должна. Пожалуйста, просто послушай нас, – взмолилась мама.
– Дайте я с ней поговорю, – вмешался Стивен и вывел меня на улицу. – Мама просто хочет помочь, а ты ее очень расстраиваешь. Пожалуйста, съезди всего разок.
Я на минутку задумалась. Маму я любила. Ну ладно. Хорошо. Поеду. Потом – через мгновение – нет! Никуда я не поеду. Через полчаса уговоров я наконец села на заднее сиденье рядом со Стивеном. Мы выехали на дорогу, и Аллен заговорил. Я отчетливо его слышала, хотя он не двигал губами.
Ты шлюха. И Стивен должен это знать.
От ярости я содрогнулась всем телом, нахмурившись, потянулась к водительскому сиденью и процедила:
– Что ты сказал?
– Ничего, – удивленно и устало проговорил Аллен.
Это было последней каплей. Я мигом отстегнула ремень, открыла дверь и приготовилась выпрыгнуть из машины. Стивен схватил меня за ворот рубашки, удержав от прыжка. Аллен резко нажал на тормоза.
– Сюзанна, какого черта ты творишь? – закричала мама.
– Сюзанна, – спокойно проговорил Стивен – никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном. – Это не дело.
Я снова присмирела, закрыла дверь и скрестила руки на груди. Но услышав щелчок дверного замка, ощутила прилив паники. Стала биться о запертую дверь и кричать: «Выпустите меня! Выпустите!» Я кричала, пока не выбилась из сил, а потом опустила голову на плечо Стивена и тут же уснула.
Когда я снова открыла глаза, мы как раз выезжали из тоннеля Холланда и въезжали в Китайский квартал с его рыбными прилавками, толпами туристов и продавцами дешевых поддельных сумок. При виде этой омерзительной картины меня передернуло.
– Кофе хочу. Купите мне кофе. Нет! Есть хочу. Покормите меня, – потребовала я, как несносное дитя.
– Можешь подождать, пока до места не доедем? – спросила мама.
– Нет. Сейчас хочу. – Мне вдруг показалось, что поесть немедленно – самая важная вещь в мире.
Аллен резко свернул, чуть не врезавшись в припаркованный автомобиль, выехал на Западный Бродвей и остановился у «Сквер-Дайнер» – кафе внутри настоящего вагона поезда, одного из немногих оставшихся в Нью-Йорке. Он никак не мог открыть детский замок на моей двери, и мне пришлось перелезть через Стивена и выйти с его стороны. Я надеялась сбежать прежде, чем они меня догонят, но Стивен подозревал, что я попытаюсь это сделать, и последовал за мной. Так как улизнуть мне не удалось, я вошла в кафе и стала выискивать в меню кофе и сэндвич с яйцом. Утром в субботу очередь на кассу была длинной, но я не могла ждать. Грубо отпихнув пожилую даму в сторону, я заметила свободную кабинку, уселась за столик и капризно потребовала, ни к кому конкретно не обращаясь:
– Хочу кофе!
Стивен сел напротив.
– Мы не можем долго здесь сидеть. Давай просто возьмем кофе и уйдем?
Не обращая на него внимания, я щелкнула пальцами, и к нам подошла официантка.
– Кофе и сэндвич с яйцом.
– С собой, – добавил Стивен; он был в ужасе от того, как я себя вела: я могла быть капризной, но он никогда не видел, чтобы я хамила окружающим.
К счастью, парень за стойкой, который слышал наш разговор, выкрикнул: «Я сделаю!» Он повернулся к нам спиной и стал жарить яичницу. Уже через минуту нам принесли стаканчик с дымящимся кофе и сэндвич с яичницей и сырной корочкой в коричневом бумажном пакете. Шатаясь, я вышла из кафе. Кофе в бумажном стаканчике был таким горячим, что мне жгло пальцы, но я не обращала внимания.
Я заставила их сделать так, как хочу. У меня есть над ними власть! Стоило щелкнуть пальцами – и все кругом начали прыгать вокруг меня.
Я не понимала, почему чувствовала себя так, но, по крайней мере, мне удавалось управлять окружающими. В машине я бросила сэндвич на пол, не притронувшись к нему.
– Я думал, ты голодная, – сказал Стивен.
– Уже нет.
Мама с Алленом переглянулись.
На пути в верхний Манхэттен пробок не было, и мы быстро добрались до офиса доктора Бейли. Когда я вошла туда, все казалось мне странным, незнакомым, чужеродным. Я чувствовала себя как Гонзо из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», когда тот вошел в казино после дозы мескалина: все было другим, и все предметы вдруг обрели апокалиптический смысл. Другие пациенты казались карикатурами, пародиями на людей; стеклянное окно, отделявшее от нас секретаршу, выглядело варварской мерой; лицо с картины Миро снова улыбалось мне перекошенной, неестественной улыбкой. Мы сели и стали ждать. Прошло несколько минут или часов – я понятия не имела. Время перестало существовать. Наконец медсестра средних лет вызвала меня в смотровую, прокатив перед этим туда тележку. Она достала коробку, полную электродов, и прикрепила их все мне на голову. Двадцать одну штуку. Сначала она крепила их к сухой коже, затем принялась смазывать голову каким-то клеем. Потом выключила свет.
– Расслабьтесь, – сказала она, – и не открывайте глаза, пока я не скажу. Дышите глубоко: вдох и выдох. Одно полное дыхание на две секунды.
Она стала считать: один, два, выдох, один, два, выдох, один, два, выдох. А потом быстрее: один, выдох, один, выдох, один, выдох. Мне казалось, что прошла целая вечность. Лицо раскраснелось, у меня закружилась голова. Я услышала, как она возится в другом углу комнаты, открыла глаза и увидела у нее в руках маленький фонарик.
– Откройте глаза и посмотрите на свет, – проговорила она.
Свет пульсировал, как строб, но без внятного ритма. Она выключила фонарик, принялась снимать электроды и заговорила со мной:
– Вы студентка?
– Нет.
– А чем занимаетесь?
– Я репортер. Работаю в газете.
– Работа напряженная?
– Ну да, наверное.
– С вами все в порядке, – сказала она, складывая электроды в коробочку. – Постоянно вижу таких, как вы, – банкиры, брокеры с Уолл-стрит. Работают как лошади, а потом приходят ко мне. Все у них в порядке – голову надо лечить.
Голову надо лечить.
Она вышла и закрыла дверь, а я заулыбалась. А потом расхохоталась утробным смехом, полным горечи и негодования. Все встало на свои места.
Это же просто уловка, чтобы наказать меня за мое отвратительное поведение – с чего это вдруг я выздоровела? Но зачем им меня обманывать? Зачем устраивать такой изощренный спектакль? Никакая это не медсестра. Они наняли актрису!
В приемной осталась только мама – Аллен пошел за машиной, а Стивен, слишком расстроенный моим ужасным поведением по дороге в клинику, звонил своей маме, чтобы та успокоила его и что-нибудь посоветовала. Я увидела маму и широко улыбнулась, показав все тридцать два зуба.
– Что смешного?
– Ах. Ты думала, я ничего не пойму? И кто за этим стоит?
– О чем ты?
– Вы с Алленом все подстроили. Наняли эту женщину. Вы всех здесь наняли! Сказали ей, что говорить. Вы решили наказать меня, да? Что ж, у вас ничего не вышло! Я слишком хорошо соображаю и разгадала вашу уловку!
От ужаса мама открыла рот, но в моем параноидальном бреду это прочиталось как притворное удивление.
13. Будда
В Саммите я все время умоляла, чтобы мне позволили вернуться в мою квартиру. Мне постоянно казалось, что родные за мной следят. И вот в воскресенье, на следующий день после ЭЭГ, устав от бессонных ночей и постоянной необходимости присматривать за мной, вопреки чутью, подсказывавшему, что не стоит этого делать, мама все же согласилась отвезти меня в квартиру на Манхэттене при одном условии: я переночую у отца. Хотя день ото дня я вела себя все хуже, ей все еще было трудно совместить свое прежнее представление обо мне – трудолюбивой, самостоятельной, той, кому можно доверять, – с «новой» мной – непредсказуемой и опасной.
Я тут же согласилась переночевать у папы: я готова была наобещать что угодно, лишь бы мне позволили вернуться в свою квартиру. Как только мы свернули на улицы Адской кухни, я почувствовала себя спокойнее – ведь свобода была так близко. Когда я увидела папу и Жизель – те ждали на крыльце моего дома, то выскочила из машины. Мама с Алленом остались сидеть, но не уезжали, пока мы не вошли в здание.
Как же я была рада снова оказаться дома, в своем безопасном пристанище! Там была моя кошка Дасти, британская голубая, которую я подобрала на улице, – в мое отсутствие за ней ухаживал мой друг Зак. Я обрадовалась, даже увидев свою грязную одежду и черные мусорные пакеты с книгами; беспорядок и мусорный бак с протухшими остатками еды. Дом, милый дом.
– Чем это пахнет? – спросил отец.
Я не убиралась в квартире с его последнего прихода, и лучше, понятное дело, не стало. В мусорке лежали протухшие креветки, оставшиеся еще с того ужина, который готовил Стивен. Без лишних промедлений папа и Жизель взялись за уборку. Они вымыли пол и продезинфицировали каждый квадратный сантиметр моей крошечной квартирки, но я даже не предложила помочь. Я просто ходила кругами, глядя, как они убираются, и притворялась, что подбираю вещи.
– Какая же я грязнуля! – сокрушалась я, торжествующе гладя кошку. – Грязнуля, грязнуля, грязнуля!
Когда они закончили, отец позвал меня, намекая, что пора уходить.
– Не-а, – беспечно протянула я. – Давай я лучше останусь здесь.
– Ни в коем случае.
– А может, встретимся в Бруклине, когда я закончу тут кое-что?
– Нет.
– Никуда я не пойду!
Они с Жизель многозначительно переглянулись, словно заранее готовились к такой реакции. Видимо, мама их предупредила. Жизель собрала тряпки и чистящие средства и пошла вниз, не желая участвовать в скандале, который неминуемо должен был разразиться.
– Брось, Сюзанна. По дороге домой кофе возьмем. Я приготовлю ужин. У нас спокойно и хорошо. Поехали.
– Нет.
– Пожалуйста. Сделай это ради меня, – попросил он.
Но понадобилось еще полчаса уговоров, прежде чем я согласилась уйти из квартиры, прихватив немного чистого белья и одежды. Болезнь как будто ненадолго ослабила свою хватку, позволив прежней рассудительной Сюзанне вернуться. По пути к станции метро на Сорок второй улице мы немного поболтали. Но затишье длилось недолго. Когда мы переходили Девятую авеню, меня снова охватила паранойя.
Ведь папа забрал мои ключи. Теперь мне не вернуться домой! Я его пленница.
– Нет. Нет. Нет! – закричала я, остановившись посреди улицы как вкопанная, как раз когда загорелся зеленый. – Я с вами не пойду. Хочу домой!
Папа схватил меня за плечи и подтолкнул вперед – на нас двинулся поток машин. Я продолжала кричать, а он тем временем поймал такси. Когда такси остановилось у тротуара, он затолкнул меня внутрь, а Жизель села с другой стороны: я оказалась между ними. Видимо, они предвидели очередную попытку к бегству и не хотели ее допустить.
– Меня хотят похитить! Вызовите полицию! Вызовите полицию! Они забирают меня против воли! – крикнула я таксисту ближневосточной наружности. Тот глянул в зеркало заднего вида, но не тронулся с места. – Отпустите меня. Я позову полицейских!
– Выходите. Выйдите из машины. Сейчас же, – велел водитель.
Отец вцепился в пуленепробиваемую перегородку и сквозь стиснутые зубы процедил:
– Езжай, черт побери. И только попробуй притормозить.
Не знаю, что подумал водитель, – со стороны мы наверняка выглядели очень подозрительно, – но он повиновался. Вскоре он разогнался и, превышая скорость, принялся вилять в потоке машин на Бруклинском мосту.
– Я вызову полицию, когда мы приедем. Вот увидишь. Тебя арестуют за похищение человека! – кричала я на отца.
Водитель испуганно смотрел на нас в зеркало.
– Вызывай, – грубо ответил отец.
Жизель сидела тихо и смотрела в окно, не желая быть частью всего этого. Потом отец заговорил более мягким тоном:
– Зачем ты так? Зачем так говоришь со мной?
Если честно, я не представляла. Но тогда мне казалось, что рядом с ним я в опасности.
Когда мы наконец подъехали к их особняку в Бруклин-Хайтс, я слишком устала, чтобы сопротивляться. У меня не осталось сил, и это неудивительно – ведь я всю неделю почти не спала и ничего не ела. Когда мы вошли, Жизель с отцом пошли на кухню и начали готовить мое любимое блюдо – пенне с соусом аррабьята. Я же сидела на диване в гостиной и как загипнотизированная таращилась на бюсты Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона. Отцовский дом – ода великим американским войнам. Он доверху набит антиквариатом и реликвиями от эпохи Войны за независимость до Второй мировой. Одна из комнат, между его кабинетом и гостиной, даже носит название «военного зала». Там хранятся мушкеты времен Гражданской войны, винтовки М1, которые использовали с Первой мировой до войны во Вьетнаме, кольты, сделанные в 1800-е, меч эпохи Войны за независимость и солдатское кепи того же периода. До развода большинство этих ценностей хранилось в гостиной нашего дома в Саммите, и этот склад оружия отпугнул немало парней, заходивших к нам в гости, когда я училась в старших классах.
Папа и Жизель накрыли длинный обеденный стол и внесли голубую чугунную кастрюлю, в которой яркими красками пульсировала гора томатов, базилика, сыра и пенне – красного, зеленого и желтого. Панчетта в кроваво-красном соусе неестественно блестела. Я подавила рвотный позыв и желание швырнуть макароны об стену и просто молча смотрела, как отец и Жизель ели.
После ужина я пошла на кухню налить воды. Жизель убиралась. Она прошла мимо, относя тарелки в раковину, и тут я отчетливо услышала, как она сказала: избалованная девка. Ее слова повисли в воздухе, как клубы дыма. Но я не видела, чтобы ее губы двигались.
– Что ты только что сказала?
– Ничего, – удивленно ответила она.
Отец ждал меня в кабинете. Он сидел в резном антикварном кресле-качалке, принадлежавшем еще его тетке. Я решила не рассказывать, как меня обозвала Жизель.
– Посидишь со мной здесь? – попросила я и села на кожаный диван, стоявший рядом с креслом. Телевизор был выключен, и мы могли говорить о том о сем. – Боюсь оставаться одна.
– Конечно, – ответил он.
А потом я вдруг вскрикнула:
– Оставь меня в покое! Уйди! – И снова: – Прости. Останься, пожалуйста.
Так продолжалось несколько часов: от обвинений и истерик к извинениям. Воспоминания об этом вечере стерлись из моей памяти, словно так мой организм решил защитить меня от стыда. Кому нравится знать, что он чудовище? Отец тоже не помнит, что произошло, хотя, скорее, предпочел «забыть» об этом сознательно. Но я знаю, что сказала ему что-то ужасное – что-то, отчего он заплакал. Это был первый раз в моей жизни, когда я видела, чтобы отец плакал. Но тогда я не почувствовала жалости: его слезы лишь подкрепили мое извращенное ощущение власти над окружающим миром. Я велела ему отправляться наверх, в его спальню.
Но уже через несколько секунд сверху раздалась ужасная ругань и звуки ударов. Бах, бах, бах. Я предпочла не обращать внимания.
Я пошла в зал, где хранилось оружие, взяла меч времен Войны за независимость, вынула его из ножен и как завороженная уставилась на лезвие. Затем вставила обратно в ножны. А потом услышала голос Жизель. Та молила отца: «Прошу, не бей меня. Не бей меня из-за нее!»
И снова воображаемые удары – бах, бах, бах!
Я вернулась в кабинет и села на кожаный диван. Картина, изображавшая подписание Декларации независимости, вдруг ожила пред моими глазами. Большое полотно, висевшее над камином и изображавшее сцену на железной дороге, зашевелилось: поезд выпустил клубы угольного дыма. Мне показалось, что бюст Линкольна следит за мной своими впалыми глазницами. В кукольном доме, который отец смастерил для меня, когда я была маленькой, мелькали какие-то фигуры.
Бах, бах, бах!
Это был звук кулаков, ударяющих по чему-то твердому – по черепу? Картина ясно нарисовалась перед глазами. Он бьет ее, потому что расстроился из-за меня!
Бах, бах, бах!
Я должна выбраться отсюда. Должен же быть выход.
Я отчаянно царапала входную дверь в квартиру, но та, похоже, была заперта снаружи. Неужели он запер меня здесь, чтобы тоже убить?
Я начала биться в дверь, не обращая внимания на резкую боль, пронзившую правое плечо. Я должна выбраться отсюда. Выпустите меня!
– Выпустите меня! Выпустите! На помощь! – закричала я, барабаня кулаками о дверь.
На лестнице послышались тяжелые шаги отца. Я побежала. Но куда? В ванную. Я заперла дверь и попыталась придвинуть к ней тяжелое двухметровое трюмо, чтобы забаррикадироваться изнутри. Окно из ванной комнаты выходило на улицу; я была на втором этаже; от прыжка с такой высоты не разобьешься, подумала я.
– Сюзанна, с тобой все в порядке? Пожалуйста, открой дверь.
Да, я смогу спрыгнуть. Но тут мне на глаза попалась маленькая статуэтка Будды, стоявшая у Жизель на раковине. Будда улыбался мне. Я улыбнулась в ответ. Все будет хорошо.
14. И снова припадок
Ранним утром следующего дня мама с Алленом приехали меня забрать. Увидев «субару», я выбежала из отцовского дома как ошпаренная.
– Они меня похитили и удерживали против воли. Там творится что-то ужасное. Езжайте скорее!
Отец уже рассказал маме, что произошло ночью. После того как я наговорила ему гадостей и настояла, чтобы он ушел, он поднялся наверх, в комнату, где через тонкое перекрытие было слышно, что происходит внизу (я об этом не догадывалась). Он пытался не спать, но все же задремал. А услышав, что я пытаюсь вырваться из дома, побежал вниз и обнаружил, что я забаррикадировалась в ванной. Ему понадобилось больше часа, чтобы выманить меня оттуда и уложить на диван; там он просидел со мной до рассвета. Затем позвонил маме. Мои родители понимали, что мне нужно в больницу, но одного им совсем не хотелось: чтобы меня положили в психушку.
Аллен сразу же отвез меня к доктору Бейли. Я сидела за заднем сиденье, смирившись с судьбой.
– Но результаты ЭЭГ совершенно нормальные, – возразил Бейли, просмотрев мою историю болезни. – И МРТ без отклонений, и результаты осмотра, и анализ крови… С ней все нормально!
– Нет, с ней явно что-то не так, – огрызнулась мама.
Я сидела молча, вежливо сложив руки на коленях. Мама с Алленом заключили пакт, что не уйдут из кабинета доктора Бейли, пока меня не положат в больницу.
– Как бы это поделикатнее выразиться, – проговорил доктор. – Она слишком много пьет – все это классические симптомы алкогольной ломки. – Симптомы и правда совпадали: тревожность, депрессия, повышенная усталость, раздражительность, скачки настроения, ночные кошмары, головные боли, бессонница, потеря аппетита, тошнота и рвота, спутанность сознания, галлюцинации и припадки. – Я понимаю, как трудно слышать такое о собственной дочери. Но мне действительно нечего больше добавить. Ей просто нужно принимать лекарства и прекратить пить, – закончил он и заговорщически мне подмигнул.
– Алкогольная ломка? – Мама достала заготовленный листок бумаги в красную полоску. – Вот ее симптомы: припадки, бессонница, паранойя. И становится только хуже. Я своими глазами видела, что она больше недели не притрагивалась к алкоголю. Ей нужно в больницу, сейчас же. Не завтра. А сейчас.
Доктор Бейли взглянул на меня, потом на нее. Он не сомневался в своей правоте, но решил не спорить.
– Я позвоню кое-куда, и посмотрим, что можно сделать. Но повторяю: я уверен, что все это – реакция на чрезмерное потребление алкоголя.
Он ненадолго вышел из кабинета и вернулся с новостями.
– В больнице при университете Нью-Йорка есть отделение с круглосуточным контролем ЭЭГ. Вас это устроит?
– Да, – ответила мама.
– В данный момент есть свободное место. Не знаю, как долго оно будет незанятым, так что советую ехать туда немедленно.
– Отлично, – сказала она, забирая сумочку и сворачивая листок с симптомами. – Едем сейчас же.
Миновав вращающиеся двери, мы оказались в многолюдном, недавно отремонтированном лобби медицинского центра Лангона при университете Нью-Йорка. Мимо сновали медсестры в зеленой униформе, а за ними – санитары в униформе фиолетового цвета. Врачи в белых лабораторных халатах болтали на пересечении коридоров, а пациенты, молчаливые, с пустыми глазами – в бинтах, с костылями, в креслах-каталках и на кроватях-носилках, – перемещались из одного конца зала в другой. Неужели здесь мое место? Не может быть.
Мы прошли на регистрацию новых пациентов – кучка стульев, расставленных вокруг небольшого стола, за которым сидела женщина и распределяла больных по разным этажам гигантского медицинского центра.
– Я хочу кофе, – заявила я.
Мама выглядела раздраженной.
– Что, сейчас? Ладно. Но сейчас же возвращайся.
Мама все еще верила, что прежняя ответственная я никуда не делась – все еще думала, что я не попытаюсь сбежать. К счастью, на этот раз она оказалась права.
В небольшом ларьке неподалеку продавали кофе и выпечку. Я спокойно выбрала капучино и йогурт.
– Что это у тебя на губах? – спросила мама, когда я вернулась. – И почему ты так улыбаешься?
У пены на верхней губе был какой-то странный вкус – смесь слюны и кипяченого молока.
Врачи в белых халатах.
Холодный больничный пол.
– У нее припадок! – Мамин голос разнесся по широкому коридору, а над моим трясущимся телом склонились трое врачей.
С этого момента я помню лишь обрывки своего пребывания в больнице – в основном галлюцинации. С этой минуты знакомое «я», Сюзанна, которой я была все прошлые двадцать четыре года, уже не показывала лицо. Хотя моя личность разрушалась постепенно, в течение последних нескольких недель, лишь сейчас разрыв между сознанием и физическим телом стал полным. По сути, меня не стало. Хотелось бы мне понять свое поведение и то, что двигало мной в этот период, но я оказалась за гранью рационального сознания – мне не за что было уцепиться ни тогда, ни сейчас. То было начало моего потерянного времени, моего месяца безумия.
Часть вторая
Часы
Какой сегодня день?
Кто сейчас президент?
Оцените по шкале от 1 до 10, насколько вы опасны?
Что означает «люди, живущие в стеклянных домах»?
Симфония – это отложенное самоубийство? Да или нет?
Следует ли считать каждую отдельную снежинку причиной схода лавины?
Назовите пять рек.
Что вы будете делать через десять минут?
Как насчет сладкой и приятной мелодии торазина?
Будь у вас полчаса наедине с отцом, что бы вы ему сказали?
Что вы сделаете, если я сейчас засну?
Вы все еще следуете по его мастодонтовым стопам?
Какова мораль песенки «У Мэри был барашек»?
Его эверестова тень все еще довлеет над вами?
На что больше похоже ваше воспитание – на болезнь, столь редкую, что ей не болел больше никто, или на намеренное уничтожение коренного населения?
Что кажется вам более странным – существование страдания или его частое отсутствие?
Следует ли приносить небесным богам нечетное число жертв, а богам подземного мира – четное, или наоборот?
Согласились бы вы отправиться в страну, где все молчат?
Что бы вы сделали по-другому?
Почему вы здесь?
Франц Райт «Интервью потребления», из сборника «Мотель на колесах»[8]
15. Синдром Капгра
Меня положили в больницу около полудни 23 марта, через десять дней после первого припадка (того, что случился со мной во время просмотра передачи с Гвинет Пэлтроу). В медицинском центре Лангона при университете Нью-Йорка действует одно из крупнейших эпилептических отделений в мире, но в тот день свободное место было лишь в отделении интенсивного наблюдения, в четырехместной палате, где держали пациентов с «решетками» – страдающих тяжелой формой эпилепсии со вживленными в мозг электродами. Иногда из-за нехватки свободных мест здесь размещали других пациентов – таких, как я.
В палате был отдельный сестринский пост, и кто-то из больничного персонала находился здесь круглосуточно, отслеживая состояние пациентов. Над каждой койкой висели две видеокамеры, позволяющие ежеминутно наблюдать за всеми больными на этаже и иметь не только электрические показатели, но и физические свидетельства припадка. (При выписке большую часть записей выбрасывали, оставляли лишь запись припадков и аномальных происшествий.) Когда я попыталась реконструировать события нескольких «выпавших» из моей жизни недель, наличие этих видеозаписей сыграло очень важную роль.
После припадка в больничном лобби команда медиков отвезла меня на каталке на этаж эпилептиков; мама с отчимом шли следом. Две медсестры разместили меня в палате интенсивного наблюдения. Когда меня привезли, трое других пациентов притихли, отвлекшись на новую соседку. Постовая медсестра записала мою историю болезни, после небольшого раздумья отметила, что я «не демонстрирую враждебности» (она посчитала это последствием припадка). Отвечать на вопросы я не могла, поэтому за меня говорила мама, прижав к груди набитую документами папку.
Медсестры уложили меня на кровать с боковыми перилами – больничная мера предосторожности. Саму кровать опустили максимально низко. Они приходили раз в час, чтобы измерить мои показатели – давление и пульс – и провести стандартный неврологический осмотр. Вес у меня был на нижней границе нормы, давление чуть повышено, пульс чуть учащен, но не критически, с учетом обстоятельств. Таким образом, все собранные показатели – от деятельности кишечника до уровня сознательных реакций – не выявили никаких отклонений.
Вошел лаборант ЭЭГ, везя за собой тележку. Он достал несколько связок разноцветных электродов, таких же, какие были в кабинете у доктора Бейли, – красных, розовых, голубых, желтых. Провода вели к небольшой серой коробочке, по форме и размеру напоминавшей роутер для беспроводного подключения к Интернету; коробка присоединялась к компьютеру, регистрировавшему мозговые волны. Электроды измеряли электрическую активность по всей коже головы, фиксируя заряженные нейроны и преобразуя их активность в волны.
Лаборант начал наносить клеящее вещество, и тут моему периоду «невраждебности» настал конец. Я принялась извиваться, и ему понадобилось не меньше получаса, чтобы прикрепить двадцать один электрод. «Пожалуйста, не надо!» – кричала я и размахивала кулаками. Мама гладила мои руки, безуспешно пытаясь меня успокоить. Мое поведение менялось еще стремительнее, чем в прошедшие дни, мое состояние ухудшалось с каждой минутой.
Наконец истерика прошла, но я по-прежнему плакала. Воздух в палате пропитался запахом свежего клея. Лаборант закончил прикреплять провода, а перед уходом вручил мне маленький розовый рюкзачок, похожий на те, что носят дети в детский сад. В нем был мой собственный переносной «роутер», благодаря которому я могла передвигаться, оставаясь подсоединенной к аппарату для ЭЭГ.
С самого начала стало ясно, что я буду непростым пациентом. В течение первых нескольких часов, проведенных в отделении, я кричала на заходящих в палату и бросалась на медсестер. Когда пришел Аллен, я заорала, показывая на него пальцем, и велела медсестрам «выгнать этого человека из палаты». Отца я во всеуслышание обозвала похитителем и потребовала, чтобы его отправили за решетку. В состоянии острого психоза, в котором я, по-видимому, находилась, многие исследования провести было просто невозможно.
Чуть позже вечером пришла дежурная невролог и провела второй стандартный осмотр. Она тут же отметила мою «лабильность», то есть склонность к частой смене настроения, и «тангенциальность мышления» – то есть перескакивание в разговоре с темы на тему без четкой логической связи. Тем не менее мне удалось рассказать ей о своей меланоме, но после мое повествование стало столь нелогичным, что беседу пришлось прекратить.
– В каком году вам диагностировали меланому? – спросила она.
– Он меня дурачит.
– Кто вас дурачит?
– Мой отец.
– Что вы имеете в виду?
– Он превращается. Превращается в разных людей и дурачит меня!
Тут невролог записала в консультационном листе: «возможно, галлюцинирует» и прописала мне малую дозу геодона – антипсихотического препарата, который используется для симптоматического лечения шизофрении. Она также оформила запрос на более тщательный осмотр одним из врачей психиатрического отделения.
Итак, мне не только казалось, что члены моей семьи «превращаются» в других людей, что является одним из проявлений параноидальных галлюцинаций; я также настаивала, что мой отец – самозванец. Такого рода галлюцинации имеют в психиатрии особое название – синдром Капгра, или «бред отрицательного двойника». Этот синдром был впервые описан французским психиатром Жозефом Капгра в 1923 году. Одна из его пациенток утверждала, что ее муж превратился в «злого двойника».
В течение многих лет синдром Капгра считался в психиатрии одним из проявлений шизофрении и других психических заболеваний, однако недавно врачи заметили, что он может быть вызван и неврологическими причинами – в том числе повреждениями мозга.
Видеозапись из палаты, 24 марта, 1.06 ночиЯ сплю на своей кровати; на мне зелено-коричневая футболка в полоску и белая хлопчатобумажная шапочка. Простыни цвета слоновой кости натянуты до подбородка, обитые мягким материалом перила подняты на максимальную высоту, отчего сверху это напоминает детскую кроватку «взрослого» размера. Я сплю в позе зародыша, обняв подушку. Через несколько секунд просыпаюсь, тереблю шапочку. У меня расстроенный вид; я пытаюсь сорвать больничный браслет на правой руке, затем складываю руки на груди. Ищу сотовый телефон.
Конец записи.
Мне нужно в туалет. Беру свой розовый рюкзак, вынимаю провод и иду в общую уборную. Спуская черные леггинсы и трусы до колен, не могу отделаться от ощущения, что за мной наблюдают. Смотрю вправо и вижу большой карий глаз, который смотрит на меня сквозь щелочку в двери.
– Убирайся отсюда!
Закрываю руками причинное место, натягиваю штаны и бегу в кровать. С головой накрываюсь одеялом. Звоню маме.
– Они все желают мне зла. Смеются надо мной. Мне в руку колют что-то, – шепчу я, стараясь говорить как можно тише, чтобы трое других пациентов в палате и медсестра на посту не услышали.
– Сюзанна, пожалуйста, постарайся не волноваться. Никто не хочет причинить тебе вред, я клянусь, – говорит мама.
– Они за мной шпионят. Подсматривают, когда я хожу в туалет.
Она молчит, а потом спрашивает:
– Это правда?
– Как ты можешь сомневаться? Думаешь, я все придумала?
– Я с ними поговорю, – отвечает она. В ее голосе растет негодование.
– Думаешь, они так тебе и признаются – «мы издеваемся над вашей дочерью»? Так прямо тебе и скажут?
– Сюзанна, ты уверена, что все на самом деле так?
– Да.
Я услышала звук шаркающих шагов и повесила трубку. К моей кровати подошла медсестра.
– Пожалуйста, не пользуйтесь мобильником, когда подключены к аппарату для ЭЭГ. Он мешает сигналу. И уже поздно. Все спят. – А потом она вдруг шепчет – тихо, насмешливо, не шевеля губами: – Я видела вас в новостях.
– Что вы сказали?
– Почему вы отказываетесь пускать к себе отца? Он хороший человек, – продолжает она, и ее голос окутывает меня, как дым, а она исчезает за занавеской.
Все они хотят лишь одного – добраться до меня. Здесь небезопасно. Я смотрю на видеокамеры: они наблюдают за мной. Если не сбегу сейчас, мне не выбраться отсюда живьем. Хватаю электроды в кулак и тяну. Вместе с электродами вырываю клок волос, но не чувствую боли. Лишь рассеянно смотрю на темные корни моих крашеных светлых волос и принимаюсь снова срывать электроды.
В ту ночь я выбежала из палаты в больничный коридор. Там меня схватили медсестры и вернули обратно в палату интенсивного наблюдения; я отчаянно вырывалась, отбивалась и кричала. Это была моя первая, но не последняя попытка к бегству.
16. Послеприпадочная ярость
На второй день пребывания в больнице меня навестила невролог Дебора Руссо, врач-ординатор эпилептического отделения, чтобы провести очередной осмотр. Она зашла утром, ее сопровождали несколько врачей, медсестер и студентов-медиков – моя так называемая «коллегия». Зная о моей вчерашней попытке сбежать, доктор Руссо осмотрела палату и убедилась в соблюдении всех правил предосторожности, а затем перешла к стандартному неврологическому осмотру: «коснитесь кончика носа, высуньте язык» и т. д. Но я прервала ее в середине процедуры.
– Выпустите меня. Мне здесь не место, – нервничая, сообщила я. – Просто обо мне всякого наговорили.
– А кто с вами разговаривал?
– Люди из телевизора.
Доктор Руссо послушала мою околесицу еще несколько минут, а затем перенаправила мое внимание.
– Не могли бы вы немного рассказать о своем самочувствии до поступления в больницу?
– Мне казалось, будто меня не стало.
– Можете объяснить, что это значит?
– Как будто я очень устала. Я чувствовала себя очень уставшей до сегодняшнего дня.
Руссо записала: «мышление аморфное, слишком рассеянна, не в состоянии сообщить полную историю болезни» – и продолжила меня расспрашивать:
– Сейчас я задам вам несколько простых вопросов, постарайтесь на них ответить, хорошо? Как вас зовут?
– Сюзанна, – ответила я, выгибая шею в сторону телевизора.
– Какой сейчас год?
– Вы не слышали? Они говорят обо мне. Смотрите, смотрите! Вот, прямо сейчас, они обо мне говорят!
– Сюзанна, не могли бы вы не отвлекаться и отвечать на вопросы? – сказала доктор Руссо и велела медсестре выключить телевизор. – Какой сейчас год?
– 2009-й.
– Кто наш президент?
– Обама.
– Где вы находитесь?
– Я должна выбраться отсюда. Мне нужно уйти. Я должна уйти.
– Понимаю. Но где вы сейчас?
– В больнице, – язвительным тоном ответила я.
Доктор Руссо посветила фонариком мне в зрачки, проверяя их сокращение и движение глаз. Никаких отклонений.
– Сюзанна, улыбнитесь, пожалуйста.
– Ну уж нет. Не буду я больше ничего делать, – отвечала я.
– Мы скоро закончим.
– Я хочу сейчас же отсюда выйти! – закричала я и спрыгнула с кровати.
Мой взрыв не был неожиданностью для коллегии врачей, но, даже успокоившись, я продолжила шагать по палате, дергать проводки и то и дело бросаться к двери. – Выпустите меня! – рычала я на врачей и сестер, пытаясь протолкнуться к выходу. – Отпустите меня домой!
Доктор Руссо несколько раз подводила меня к кровати и звала на помощь медбрата. Она разрешила дать мне дозу галоперидола – препарата с антипсихотическим действием. Позднее, описывая свои впечатления на сестринском посте, она отметила, что «пациентка демонстрирует признаки мании и психоза». И предложила два возможных диагноза: «первая фаза биполярного расстройства» или «постприпадочный психоз» (состояние, часто следующее за серией припадков).
Постприпадочным психозом называют психотическое поведение, часто следующее за серией припадков. Он может длиться от двенадцати часов до трех месяцев после припадка, но в среднем – около десяти дней. В 1838 году французский психиатр охарактеризовал это состояние как «постприпадочную ярость». Четверть пациентов с психозом в эпилептических отделениях страдают именно этой разновидностью.
Позднее тем утром ко мне зашел уже третий врач – Уильям Сигел. Он представился мне и маме (та была наслышана о его звездной репутации). За день до этого она упомянула Сигела в разговоре со своим терапевтом, и тот заметил: «Вас лечит Сигел? Как вам удалось его заполучить?» Уильям Сигел был харизматичным мужчиной и всем своим видом располагал к себе. Проведя неврологический осмотр, он протянул маме руку и произнес:
– Мы во всем разберемся. С Сюзанной все будет в порядке.
Мама уцепилась за его слова как за спасательный плот и прозвала Сигела «Багси[9]» – своим личным доктором-гангстером.
17. Расщепление личности
Мозг словно рождественская гирлянда. Когда все работает, лампочки светят ярко, и даже если одна погаснет, адаптивные способности мозга таковы, что остальные по-прежнему будут сиять. Но порой бывают повреждения такого рода, что даже одной перегоревшей лампочки достаточно, чтобы погасла вся цепь.
На следующий день после знакомства с Багси меня навестила доктор Сабрина Хан из психиатрического отделения. Она представилась Стивену и мне. Это был уже четвертый врач из моей «коллегии», и она тоже слышала о двух моих попытках к бегству: ночью и утром, в присутствии доктора Руссо. Во врачебном журнале доктор Хан охарактеризовала меня как «слегка растрепанную, беспокойную», в «откровенной пижаме» (на мне были узкие леггинсы и прозрачная белая рубашка) и отметила, что я теребила проводки от аппарата для ЭЭГ.
Для психиатра очень важно дать не только психологическую, но и визуальную характеристику пациента. Мой растрепанный и «неприкрытый» вид мог быть симптомом мании: в маниакальную фазу больные биполярным расстройством нередко забывают о внешности и частично утрачивают способность контролировать свои импульсы, что приводит к саморазрушительным последствиям – например, неразборчивости в сексуальных связях. И хотя в прошлом у меня не было проблем с психическим здоровьем, по возрасту я попадала в группу риска: такого рода заболевания обычно развиваются в период от 18 до 25 лет, хотя у женщин возможны и в более зрелом возрасте.
Доктор Хан делала заметки, а я вдруг заявила:
– У меня расщепление личности.
Она терпеливо кивнула. Я выбрала один из самых противоречивых диагнозов в психиатрической сфере. Диссоциативное расстройство идентичности – так его теперь называют – это болезнь, при которой создается впечатление, что в человеке «живут» несколько совершенно разных, отличающихся друг от друга личностей, вплоть до того, что сам пациент порой не подозревает о существовании остальных своих «ипостасей». Некоторые врачи верят в существование этого диагноза, другие – нет (особенно учитывая, что «знаковая» пациентка с этим заболеванием – Сибил[10] – впоследствии оказалась шарлатанкой). Больные часто путают диссоциативное расстройство с другими психическими заболеваниями, в частности с шизофренией. Я вот явно запуталась.
– Этот диагноз поставил вам психиатр или, может быть, психолог? – мягко спросила доктор Хан.
– Да. Психиатр диагностировала у меня биполярное расстройство.
– И вы принимали лекарство от этой болезни?
– Я отказалась. Выплюнула его. Мне нужно отсюда выбраться. Мне здесь не место. Мне нужно в психбольницу. В Беллвью[11]. Здесь я в опасности.
– Почему вы так считаете?
– Все обо мне судачат. Они обсуждают меня и насмехаются надо мной за глаза. Мне нужно в Беллвью, там знают, как лечить мою болезнь. Не понимаю, что я вообще тут делаю. Я слышу, что обо мне говорят медсестры! Я слышу их мысли. Они говорят гадости.
«Параноидальное восприятие», – записала доктор Хан в журнале.
– Вы слышите их мысли? – переспросила она.
– Да. Весь мир надо мной потешается!
– А что еще вы слышите?
– По телевизору меня тоже обсуждают.
«Бред отношения», – записала доктор Хан. Бред отношения – это уверенность пациента в том, что в газетных статьях, песнях и телешоу говорится именно о нем.
– Бывали ли в вашей семье случаи психических заболеваний?
– Не знаю. Возможно, у бабушки было биполярное расстройство. Но вообще, они все сумасшедшие, – рассмеялась я. А потом накинулась на нее: – А вы знаете, что я имею полное право сама уйти отсюда? Я просто могу взять и уйти. По закону меня нельзя здесь удерживать против воли. Не хочу больше с вами разговаривать.
На основе наблюдений доктор Хан поставила два предполагаемых диагноза: «аффективное расстройство, требует уточнения» и «психоз, требует уточнения». Ее насторожили мои припадки и меланома в анамнезе: ей казалось, что у болезни должна быть неврологическая причина.
Если же мой внезапный психоз объяснялся не болезнью неврологического характера, самым вероятным диагнозом, по ее мнению, было биполярное расстройство типа А. Биполярное расстройство типа А характеризуется маниакальными или смешанными фазами (манией и депрессией). По шкале оценки биполярных пациентов от 1 (самые тяжелые случаи) до 100 (отсутствие симптомов) она поставила мне 45 – «серьезные симптомы». Доктор Хан также порекомендовала приставить ко мне индивидуальную охрану, чтобы предупредить возможные попытки к бегству.
Я больше не слышу их голосов. Какая же у нее гладкая кожа. Я разглядываю скулы доктора Хан и ее красивую оливковую кожу. Смотрю все пристальнее, все внимательнее. Вдруг ее лицо начинает меняться. Один за другим волоски седеют. Появляются морщины – сначала вокруг глаз, затем вокруг губ, на щеках, и вот ими покрыто уже все лицо. Щеки вваливаются, зубы желтеют. Веки нависают, рот становится бесформенным. Красавица-врач стареет на моих глазах.
Я отворачиваюсь и смотрю на Стивена; тот смотрит на меня. Его щетина меняет цвет – от коричневого до темно-серого; волосы белеют, как снег. Он похож на своего отца. Я перевожу взгляд на врача. Та с каждой секундой молодеет. Морщины на лице разглаживаются, в глазах появляется блеск, к ним возвращается их четкая миндалевидная форма; щеки полнеют, волосы окрашиваются в глубокий каштановый цвет. Вот ей тридцать; двадцать; тринадцать.
У меня есть дар. Я могу мысленно менять возраст человека. Такая уж я. Этого им у меня не отнять. У меня есть над ними власть. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо.
18. Горячие новости
Чуть позже в тот же день к команде присоединился пятый врач. Мой случай заинтересовал доктора Иэна Арслана, психофармаколога. Арслан был под два метра ростом и больше напоминал стареющего хиппи, чем врача. За его любовь к поэтам-битникам и интеллектуальным объяснениям абстрактных медицинских терминов один из коллег-врачей прозвал его «ходячей битниковской энциклопедией».
Он тоже был наслышан о моих попытках сбежать и параноидальном бреде, поэтому сначала обратился к маме, попросив ее вспомнить все, что случилось за последние недели – с того момента, как я начала странно себя вести. Затем он поговорил с отцом. Короткой беседы со мной хватило, чтобы у него сложилось яркое представление о моих симптомах. Он опросил медсестер и даже позвонил доктору Бейли, который, согласно заметкам Арслана, заявил, что я «злоупотребляла алкоголем и выпивала две бутылки вина в день». С момента нашего последнего разговора с доктором Бейли количество выпиваемого мною алкоголя почему-то выросло в несколько раз.
Подытожив все собранные данные, доктор Арслан наметил два диагноза, которые ему хотелось бы исключить: постприпадочный психоз и шизоаффективное расстройство. Он не стал говорить моим родителям о втором предположительном диагнозе, зная, что это их расстроит.
Термин «шизоаффективное расстройство» впервые прозвучал в 1933 году в знаменитой работе «Шизоаффективные психозы». «Как гром среди ясного неба, рациональный ум вдруг охватывает сильнейший бред… пламя его разгорается без каких-либо предупредительных сигналов».
Чтобы «заслужить» такой диагноз, пациент должен испытывать два и более симптомов из «позитивного» и «негативного» списков. Позитивные симптомы – это бред, галлюцинации, спутанная речь; негативные – аутизм и общая апатия.
Видеозапись из палаты, 24 марта, 23.06, 11 минут«Кнопка вызова медицинского персонала, палата 1279. Кнопка вызова медицинского персонала, палата 1279», – звучит металлический голос. Из-под натянутых до подбородка одеял выглядывает краешек моей больничной ночнушки. Я лежу, прижав к уху сотовый телефон, и оживленно говорю по нему. Но непонятно, есть ли кто-то на том конце провода. Затем я беру пульт от телевизора и начинаю говорить по нему – теперь уж точно с вымышленным собеседником. Обвиняюще показываю на камеру видеонаблюдения, бурно жестикулирую и в отчаянии хватаюсь за голову.
– О боже, – кричу я и нажимаю кнопку вызова медсестры.
– Что случилось? – раздается в динамике ее голос.
– Ничего, ничего, все в порядке.
– Мэм? Девушка? Я иду, – произносит другая медсестра.
Начинаю бормотать себе под нос. «Не понимаю, что происходит. Выключу-ка я телефон». Бросаю телефон к ногам. Приходит медсестра и приносит таблетки; я залпом глотаю их, словно опрокинув рюмку текилы.
– Это невыносимо. Меня все время показывают в новостях.
Медсестра что-то отвечает, но слишком тихо – на видеозаписи не слышно.
Я начинаю кричать и бить ногами, снова нажимаю кнопку вызова персонала.
– Пожалуйста, прошу вас! Мне страшно! Мне страшно!
«Кнопка вызова медицинского персонала, палата 1279. Кнопка вызова медицинского персонала, палата 1279».
– Пожалуйста, включите телевизор. ПРОШУ, ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР?
Не обращая внимания на истерику, медсестра устанавливает защитные бортики на кровати и убеждается, что они держатся крепко.
– Вы что, не видите? Меня показывают по телевизору, в новостях, – кричу я. Беру телевизионный пульт и снова начинаю говорить в него. Затем хватаюсь за голову и принимаюсь раскачиваться туда-сюда. – Пожалуйста, пожалуйста! Боже мой, боже мой. Прошу, позовите врача. Позовите врача! Пожалуйста… пожалуйста.
Медсестра уходит. Звук спускаемой воды в туалете. Я лежу, уставившись в потолок, и, кажется, молюсь.
Конец записи.
«Мы ведем расследование происшествия, случившегося с Сюзанной Кэхалан, которая в данный момент находится в больнице университета Нью-Йорка», – объявляет дикторша с аккуратной прической. Обо мне передают в последних новостях.
– Меня опять по телевизору показывают! – кричу я.
Никто не отвечает.
«Отец Сюзанны недавно был арестован за убийство жены», – продолжает дикторша, а на экране возникают кадры: мой отец в наручниках идет сквозь толпу папарацци; щелкают вспышки, репортеры с раскрытыми блокнотами готовы броситься на него.
Какая же я дура! Не надо было отвечать на звонки коллег. Я с ними разговаривала, а они тем временем все записывали! Они же знают, что я плакала в редакции. Это тоже пойдет в репортаж. «Репортер “Нью-Йорк пост” рыдает после убийства мачехи».
– Обо мне в новостях передают! – Нажимаю кнопку вызова медперсонала. Надо рассказать им о заговоре! Чтобы никого ко мне не пускали. – Они все захотят взять у меня интервью, – кричу я в телефон. На лбу выступают капли пота. Я вытираю их рукой.
Слышу смех слева – это соседка по палате, латиноамериканка, которая весь день болтает со своими посетителями по-испански – или по-португальски? Теперь она смеется надо мной. А может, смеялась все это время! Слышу, как она набирает номер: ее накладные ногти стучат по клавишам. Начинает говорить по-испански, или уж не знаю, по-каковски, но я почему-то все понимаю.
– Со мной рядом лежит девчонка из «Нью-Йорк пост». Сейчас сниму ее на телефон и пришлю тебе. А ты передай запись в «Пост». Скажи, мол, что это эксклюзивная съемка из больницы. – Она снова смеется. – Девчонка сумасшедшая, я тебе говорю. И материал что надо. Мы кучу денег заработаем на этой съемке. Ха-ха-ха. Обзвони все местные радиостанции. Я им все расскажу. Только главное, чтобы за деньги. Ха-ха-ха!
ПСССССТТ
А это еще что?
ПСССССТТ
Снова этот звук!
ПСССССТТ, эй, ты!
Поворачиваю голову влево. Латиноамериканка на соседней койке закончила отправку смс и отодвинула занавеску, чтобы я видела ее лицо.
– Со здешними медсестрами что-то не так, – тихо говорит она.
– Что? – Я не совсем уверена, правильно ли ее расслышала. А может, она вообще ничего не говорила?
– Тихо, они тебя слышат, – шикает она и показывает на видеокамеры. – Эти медсестры плохие. Я им не верю.
Да, да, латиноамериканка права. Но почему она мне это говорит, ведь она сама агент под прикрытием? Она снова задвигает занавеску, оставив меня в покое.
Я должна выбраться отсюда. Сейчас же. Снова хватаю проводки, прикрепленные к голове, выдергиваю их связками вместе с пучками волос и бросаю на пол. И вот я уже у двери. Я в коридоре! Сердце стучит. Чувствую, как оно подпрыгивает вверх и ударяется о легкие. Охранник меня не видит. Бегу к красным буквам «ВЫХОД». За мной бежит сестра. Думай, думай, думай, Сюзанна! Сворачиваю в коридор и бегу что есть сил… и врезаюсь в другую медсестру.
– Отпустите меня домой! Я хочу уйти!
Она хватает меня за плечо. Ударяю ее ногой и кричу. Кусаю воздух. Я должна выбраться отсюда. Должна уйти. ОТПУСТИТЕ МЕНЯ! Холодный пол. Женщина в фиолетовой форме хватает меня за ногу, вторая санитарка держит руки.
– Пожалуйста, пожалуйста! – пытаюсь говорить сквозь стиснутые зубы. – Пожалуйста, отпустите меня.
И все погружается во тьму.
Интервальный отчетВчера вечером пациентка пришла в состояние крайнего возбуждения. Она сорвала электроды, пробежала мимо поста охраны и стала бегать по коридорам. Это произошло, несмотря на прием сероквеля. Пациентке дали ативан от перевозбуждения и для ее собственной безопасности временно надели грудные смирительные ремни (по указанию дежурного врача). Вечером ей также ввели 25 мг лопрессора от повышенного кровяного давления и тахикардии. Осмотр каждые четыре часа.
19. Здоровяк
После двух попыток сбежать ко мне приставили личного охранника. А теперь, когда я попыталась удрать в третий раз, одна из медсестер в присутствии отца заметила, что, если я буду и дальше пытаться сорвать провода и сбежать, меня не смогут больше держать в отделении. «Если она не прекратит так себя вести, ее переведут туда, где уже не будет таких хороших условий. И ей там не понравится, это я вам гарантирую», – заявила она. Отец ясно уловил угрозу: если я продолжу в том же духе, меня переведут в психиатрическое отделение. Он решил, что будет рядом, что бы ни случилось.
После того как они с мамой развелись, мы редко виделись, и теперь он наверстывал упущенное. Он только что уволился из банка, и у него появилось свободное время и возможность быть со мной весь день. А еще ему хотелось, чтобы персонал больницы видел: за мной есть кому присмотреть. Он знал, что со стороны часто казался грозным: моя няня Сибил звала его «здоровяком», хотя он был среднего роста и сложения. И не преминул бы воспользоваться этой своей способностью внушать страх, если бы мне это понадобилось. Поскольку я все еще думала, что он убил Жизель, и не пускала его в палату, он решил держать вахту в коридоре – сидел там и читал книгу.
Тем временем доктор Руссо изменила основной симптом в своем ежедневном журнале наблюдений с «припадков» на «психоз и возможные припадки», а затем и просто на «психоз». Постприпадочный психоз стал уже менее очевидным диагнозом, поскольку припадков у меня не было с поступления. У пациентов с этим диагнозом проявления психоза, как правило, ослабевают, а не нарастают, если последующих припадков не было. Не подтвердились и исследования на гипертиреоз, который также способен вызывать психоз, но другие тесты провести пока не удавалось. Я все еще была слишком неуправляемой для проведения более инвазивных процедур.
Однако доктор Руссо добавила в свой журнал важную приписку, которой раньше там не было: «Перевести в психиатрию, если психиатр посчитает нужным». Как и доктор Арслан, она предпочла не сообщать моим родителям об этой рекомендации.
Оставить личную охрану. Перевести в психиатрию, если психиатр посчитает нужным. Сдерживать психоз разумнее в психиатрическом отделении, ценю вашу поддержку.
Хотя многие из этих рекомендаций скрывали от меня и моих родных, постепенно становилось ясно, что мое пребывание в отделении для эпилептиков под большим вопросом, как и предупреждала сестра, – во-первых, потому что припадки прекратились, а во-вторых, потому что я оказалась «трудным» пациентом.
Мои близкие находились рядом. В одиночку эту битву мне было не выиграть.
Почувствовав, что отношение ко мне улучшилось и уход стал более качественным с его появлением, отец сдержал свое обещание и стал приходить каждое утро.
Мама приходила в обеденный перерыв, каждый раз, когда удавалось отпроситься с работы, и после 17 часов. У нее было несколько списков с вопросами, которыми она атаковала врачей и медсестер, не зная устали, хотя многие ее вопросы оставались без ответа. Она делала подробные заметки, записывала имена и домашние телефоны врачей и незнакомые медицинские термины (их значение потом смотрела в Интернете). Хотя их с папой отношения были более чем прохладными, они завели тетрадку, в которой переписывались и сообщали о развитии событий в отсутствие друг друга. Мои родители развелись восемь лет назад, но им по-прежнему было тяжело даже находиться в одной комнате, и эта тетрадка объединила их в совместной битве за мою жизнь.
Стивен также стал моей главной эмоциональной опорой. По словам очевидцев, я сразу расслаблялась, когда он заходил в палату со своим кожаным портфелем, набитым доверху дисками с сериалом «Пропавшие» и документальными фильмами о природе, которые мы потом вместе смотрели. Но во второй вечер моего пребывания в больнице я взяла его за руку и сказала:
– Я понимаю, что ты на это не подписывался. И пойму, если ты не вернешься. Я пойму, если никогда больше тебя не увижу.
Потом он рассказал мне, что именно в тот момент заключил сам с собой своего рода пакт, совсем как мои родители: пока я в больнице, он тоже будет там. Никто не знал, стану ли я когда-нибудь прежней; никто не знал даже, удастся ли мне все это пережить. Будущее не имело значения – Стивена интересовало лишь одно: быть рядом, пока я в нем нуждаюсь. Он поклялся не пропускать ни дня. И сдержал клятву.
На четвертый день к коллегии врачей присоединились еще четверо: врач номер шесть, специалист по инфекционным заболеваниям, напомнивший отцу его дядю Джимми, награжденного орденом «Пурпурное сердце» за высадку на пляже в Нормандии во Вторую мировую, почтенных лет седовласый ревматолог, тихоголосый специалист по аутоиммунным заболеваниям, и терапевт Джеффри Фридман, похожий на гнома человечек пятидесяти с хвостиком лет, который, несмотря на всю серьезность ситуации, излучал вечный оптимизм.
Доктор Фридман, которого вызвали из-за моего повышенного давления, моментально проникся ко мне симпатией. У него были дочери одного со мной возраста. Войдя в палату, он увидел меня растрепанную, растерянную, метавшуюся по кровати; сидевший рядом Стивен тщетно пытался меня успокоить. Я выглядела одновременно вялой и беспокойной.
Доктор Фридман попытался расспросить меня о моем здоровье и составить базовую историю болезни, но я была слишком погружена в свои параноидальные мысли и встревожена тем, что за мной «все следят», и не могла говорить связно. Тогда он измерил мне давление. Показатели его встревожили: 180/100. Такое высокое давление может привести к кровоизлиянию в мозг – геморрагическому инсульту и даже смерти. «Будь она компьютером, – подумал доктор Фридман, – пришлось бы ее перезагрузить».
Он прописал мне два разных лекарства от гипертонии; прием следовало начать немедленно.
Выйдя из палаты, доктор Фридман заметил у входа моего отца – тот сидел в коридоре и читал книгу. Они разговорились о том, какой я была до болезни, и отец рассказал, что я была активным ребенком, отличницей, легко заводила друзей, много работала и любила повеселиться. Это описание резко контрастировало с той растерянной молодой женщиной, которую доктор только что осмотрел. И несмотря на это, он взглянул отцу в глаза и произнес:
– Прошу, не теряйте надежды. Ей станет лучше – не сразу, но станет.
Потом доктор Фридман обнял отца, и тот не выдержал и заплакал, ненадолго дав волю чувствам.
20. Если тебе трудно
С тех пор как у меня появились эти странные симптомы, отец стал проводить со мной намного больше времени, чем раньше. Он хотел быть мне опорой, насколько это возможно, но ему было нелегко. Вся его жизнь отодвинулась на второй план – даже Жизель. С тех пор как у меня случился срыв в его квартире, он тоже начал вести дневник (помимо их с мамой общей тетрадки). Дневник не только помогал ему следить за тем, как продвигается лечение, но и стал способом пережить тяжелое время. После того как я во второй раз попыталась сбежать, отец сделал запись, в которой молил, чтобы бог забрал его вместо меня. Когда я прочла ее, у меня чуть сердце не разорвалось.
Ему особенно запомнилось одно холодное дождливое весеннее утро, когда они с Жизель в молчании ехали в больницу. Он знал, что она на все готова, лишь бы разделить груз его страданий, но несмотря на это не делился с ней, по привычке держа горе в себе.
В больнице он поцеловал Жизель на прощание и сел в набитый лифт. Ехать рядом с новоиспеченными отцами, спешащими в послеродовое отделение, было просто невыносимо. Они радостно выскакивали из лифта; для них жизнь только начиналась. Следующей остановкой было отделение кардиологии: здесь выходили люди со встревоженными лицами. И вот – двенадцатый этаж, эпилептики. Его этаж.
Шагая мимо крыла, где шел ремонт, отец встретился взглядом с рабочим средних лет; тот смущенно отвел глаза. Двенадцатый этаж не сулил ничего хорошего, и все это знали. Последние три дня, часами просиживая во временном, необустроенном холле для ожидающих, он внимательно наблюдал за происходящим вокруг.
Печальная история была связана с палатой напротив моей – там лежал молодой человек с тяжелой травмой головы (он упал в шахту). Каждый день к нему приходили пожилые родители, но никто, кажется, не питал надежд на его выздоровление. Отец помолился богу, надеясь, что моя судьба сложится удачнее, чем у юноши, и, глубоко вздохнув, приготовился увидеть, в каком состоянии я встречу его сегодня. Меня только что перевели в новую отдельную палату – всем казалось, что так будет лучше. По пути ко мне его подозвала одна из пациенток.
– Это ваша дочь? – спросила она, показывая на мою палату.
– Да.
– Не нравится мне, что они с ней делают, – прошептала она. – Я не могу говорить, потому что за нами следят.
Было в ее поведении что-то странное, и отец покраснел, смущенный разговором. Но все же он выслушал ее – главным образом потому, что ее увещевания подтверждали мой параноидальный бред. Естественно, его беспокоило то, что происходило на этаже в его отсутствие, хотя в глубине души он понимал, что я нахожусь в одной из лучших больниц в мире и все его страхи, скорее всего, надуманны.
– Вот, – сказала женщина, протянув отцу смятую бумажку с нацарапанными на ней неразборчивыми цифрами. – Позвоните мне, и я все объясню.
Отец вежливо убрал бумажку в карман, но, разумеется, перезванивать не стал. Толкнув дверь в мою новую палату, он нечаянно ударил охранника, который сидел, приперев дверь стулом.
В новой палате было удивительно спокойно – ряд окон выходил на Ист-Ривер и магистраль ФДР[12]. Баржи бесшумно скользили вниз по реке. Отец был доволен, что меня перевели: ему казалось, что палата интенсивного наблюдения с ее мониторами, медсестринским постом и постоянным шумом от трех других пациенток усиливала мое беспокойство.
Проснувшись и увидев его, я улыбнулась. Впервые с той ужасной ночи у него дома (накануне поступления в больницу) я поприветствовала его дружелюбно. Его обрадовало мое изменившееся настроение, и он предложил прогуляться по этажу, чтобы я могла размять ноги.
Хотя я сразу согласилась, прогулка далась мне нелегко. Я еле шевелилась, как старуха: с трудом сдвинулась к краю кровати и свесила ноги. Отец надел мне чистые темно-зеленые носки с нескользящей подошвой и помог слезть. Он заметил, что на голове у меня уже нет электродов, но оказалось, что я сама их сорвала во время очередной ночной попытки к бегству и медсестры просто не успели снова их прикрепить.
Даже ходить мне теперь было непросто. Отец всегда ходил быстро (когда мы с Джеймсом были маленькие, он часто уходил далеко вперед на многолюдных улицах), но сейчас старался держаться рядом и направлять меня. Я выставляла вперед сначала одну ногу, потом другую, и неуклюже приземлялась на стопы, будто заново училась ходить. Увидев, как медленно я двигаюсь, отец не смог больше сохранять оптимистичный настрой. Но когда мы вернулись в палату, он вспомнил пословицу, которая помогла мне сосредоточиться на позитивном.
– Если тебе легко, что это значит? – спросил он.
Я молча взглянула на него.
– Значит, ты летишь в пропасть, – с вымученной бодростью проговорил он, наклоняя руку и показывая склон горы. – А если тебе трудно?
Еще один непонимающий взгляд.
– Значит, поднимаешься в гору.
Мое физическое состояние ухудшалось, но симптомы психоза ослабевали, и врачи наконец смогли провести новые исследования. Моя болезнь, чем бы она ни была, накатывала волнами – каждую минуту, каждый час мне становилось то лучше, то хуже. И все же персонал больницы воспользовался кажущимся улучшением, и мне провели поясничный прокол – процедуру, более известную как люмбальная пункция, в ходе которой производится забор прозрачной, как морская вода, спинномозговой жидкости, омывающей спинной мозг в позвоночном столбе.
Прежде этот анализ проводить было слишком опасно, так как во время люмбальной пункции пациент должен лежать совершенно неподвижно, не оказывая сопротивления. Внезапное движение чревато ужасными последствиями, вплоть до паралича и даже смерти.
Хотя папа понимал, что провести эту процедуру необходимо, мысль о ней приводила их с мамой в ужас. В раннем детстве у Джеймса поднялась критически высокая температура, и понадобилась люмбальная пункция, чтобы исключить менингит. Родители на всю жизнь запомнили, как он пронзительно кричал от боли.
27 марта, на пятый день пребывания в больнице, я во второй раз позволила отцу зайти в свою палату. Теперь я почти все время смотрела в пустоту, не проявляя эмоций; на смену возбуждению пришла полная пассивность. Но даже в этом заторможенном состоянии я периодически находила в себе силы взмолиться о помощи. В редкие моменты ясности (которые, как и весь этот период, стерлись из моей памяти или предстают в виде туманных воспоминаний) отцу казалось, будто к нему взывает какая-то первобытная часть меня. В те минуты я повторяла: «Я здесь умираю. Это место убивает меня. Пожалуйста, заберите меня отсюда». Эти мольбы причиняли отцу сильнейшую боль. Он отчаянно хотел вызволить меня из этой жуткой ситуации, но мы не могли уйти: у нас не было выбора.
Тем временем мама, которая навестила меня утром, но потом была вынуждена вернуться на работу в нижний Манхэттен, тревожилась обо мне на расстоянии, периодически связываясь с отцом, чтобы узнать новости о процедуре. Она скрывала свое отчаяние от коллег, загрузив себя огромным количеством дел, но в мыслях то и дело возвращалась ко мне. Она безуспешно пыталась сконцентрироваться на работе, все время повторяя, что не должна чувствовать себя виноватой, что отец за мной присмотрит.
Наконец вошел молодой санитар, чтобы забрать меня на процедуру. Он спокойно помог мне слезть с кровати и сесть в кресло на колесиках, а потом позвал отца, чтобы тот следовал за нами. Мы втиснулись в набитый лифт, и санитар попытался разговорить папу.
– Вы родственники? – спросил он.
– Это моя дочь.
– У нее эпилепсия?
Отец вздрогнул.
– Нет.
– О… Я почему спросил – я сам эпилептик, – извиняющимся тоном проговорил санитар.
Он повез меня от одного лифта к другому по огромному холлу размером со стадион, и наконец мы очутились в приемной, где стояли еще пять каталок с пациентами. К каждой был приставлен санитар. Отец встал передо мной, загородив мне вид, чтобы я не сравнивала себя с остальными. «Она не такая, как они», – повторял он про себя раз за разом, пока наконец сестра не вызвала меня без сопровождающих. Отец понимал, что это всего лишь люмбальная пункция, но в голове невольно прокручивались другие, более зловещие сценарии. Такое уж это было место.
21. Перебои в смерти
Со дня моего поступления в больницу прошла почти неделя, но времени тут словно не существовало. Стивен сравнивал здешнюю атмосферу с Атлантик-Сити – только вместо игровых автоматов в больнице сигналили мониторы кровяного давления, а вместо жалких больных игроков были жалкие больные пациенты. Как и в казино, тут не было часов и календарей. Это была стабильная статичная среда; время отмерялось лишь постоянной активностью медсестер и врачей.
Судя по рассказам родных, я привязалась к двоим из медицинского персонала: медбрату Эдварду и сестре Аделине. Эдвард, здоровяк с дружелюбной улыбкой, был единственным медбратом на этаже, и из-за этого его часто принимали за врача. Он относился к этому спокойно и всегда был необычайно весел. Мы с ним перешучивались по поводу «Янкиз» и «Нью-Йорк пост» (это была его любимая газета). А вот сестра Аделина, филиппинка средних лет, была совсем другого поля ягода – суровый, честный профессионал, она оказывала на нас здоровое дисциплинирующее воздействие. В ее присутствии я успокаивалась.
К этому времени у моих родных выработался определенный распорядок. Поскольку присутствие отца меня больше не беспокоило, он приходил утром, кормил меня завтраком (йогурт и капучино), а потом мы играли в карты, хотя часто я была слишком рассеянна, чтобы следить за игрой. Потом он читал мне вслух книгу или журнал или просто молча сидел рядом и читал «Портрет художника в юности» Джойса. Каждый день он приносил вкусные домашние блюда – например, мой любимый десерт, пирог с клубникой и ревенем. Обычно они доставались Стивену: у меня по-прежнему не было аппетита.
Мать моего отца, моя бабушка, ирландка по происхождению, была медсестрой, и все детство он наблюдал, как она готовит вкуснейшие деликатесы в промежутке между сменами. Как и мать, он расслаблялся на кухне. Его блюда не только скрашивали мои больничные дни – готовка и ему помогала сосредоточиться на чем-то, кроме беспросветности нашего тогдашнего существования.
Мама приходила навестить меня в обеденный перерыв и после работы, всегда держа наготове свой список вопросов. Она часто вставала у окна и смотрела на Ист-Ривер; глядя, как лодки проплывают мимо гигантской рекламы «пепси» над Лонг-Айленд-Сити, она теребила руки – нервная привычка – и улетала мыслями далеко-далеко. Почти каждый день мы с ней смотрели матчи «Янкиз»: она вкратце рассказывала, как дела у наших любимых игроков. Но в основном мама просто сидела рядом, следила, чтобы меня ничего не беспокоило, а главное, чтобы меня регулярно осматривали лучшие врачи.
Стивен приходил около семи вечера и оставался, пока я не засыпала, – примерно до полуночи. Медсестры не возражали, хотя официальное время посещений, естественно, заканчивалось намного раньше. Стивен действовал на меня успокаивающе – а значит, я не попыталась бы снова сбежать. Каждый вечер мы с ним смотрели 24-минутный концерт Райана Адамса с музыкального фестиваля в Остине; досмотрев до конца, начинали сначала. Уходя домой, он оставлял телевизор включенным, и песни Адамса – «Поцелуй на прощание», «Жесткое падение» – играли и играли, как гитарные колыбельные, пока сестра, увидев, что я уснула, не выключала концерт. Стивен думал, что музыка сможет каким-то образом вернуть меня прежнюю.
Но мне все время казалось, что я вижу концерт впервые. У меня нарушилась кратковременная память: это было связано с дисфункцией гиппокампа. Новые воспоминания в виде последовательностей нейронов недолго хранятся в гиппокампе, прежде чем «перейти» в участки мозга, ответственные за их длительное хранение.
Чтобы осознать, как важен гиппокамп для полноценной работы мозга, достаточно увидеть, что происходит при его удалении – как в случае со знаменитым пациентом, известным в медицинских кругах под инициалами Г. М. В 1933 году семилетнего Генри Густава Моллисона сбил велосипед недалеко от его дома в Хартфорде (штат Коннектикут). Мальчик потерял сознание. После этого рокового случая Г. М. пережил несколько припадков, интенсивность которых все увеличивалась.
Наконец, в 1953 году, когда ему исполнилось 27 лет, лечащий врач решил удалить участок мозговой ткани, который, как ему казалось, был виною припадков, – гиппокамп. Очнувшись после операции, Г. М. обнаружил, что припадки действительно прекратились, но вместе с ними ушла и способность образовывать новые воспоминания. Врачи заметили, что старые воспоминания (все, что было за два года до операции и раньше) сохранились, но новые не формировались. Г. М. запоминал новую информацию лишь на двадцать секунд, а после забывал. Он дожил до восьмидесяти с лишним лет, но все это время считал себя двадцатипятилетним юношей – таким, каким был до операции.
Уникальная и страшная ситуация, в которой оказался Г. М., сделала его одним из самых знаменитых пациентов в истории медицины и помогла ученым доказать существование антероградной амнезии – то есть неспособности формировать новые воспоминания. (История Г. М. легла в основу фильма «Помни»[13].)
Этот случай также позволил ученым определить, что есть два вида памяти: декларативная (на названия мест, имена, объекты, факты, события) и процедурная (на действия, выученные в результате повторения, – например, завязывание шнурков или езда на велосипеде).
Хотя после операции Г. М. утратил способность образовывать новые декларативные воспоминания, процедурная память осталась при нем, и со временем он смог бессознательно ее укрепить.
А вот более недавний случай: дирижер Клайв Уиринг, у которого развился тяжелейший энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса. Энцефалит буквально разрушил ему мозг и уничтожил гиппокамп. Как и Г. М., Уиринг потерял способность образовывать новые декларативные воспоминания – то есть постоянно открывал мир заново. Он не узнавал своих детей, а когда видел свою жену Дебору, ему каждый раз казалось, что он влюбляется в нее заново (хотя они были женаты много лет). Впоследствии она написала книгу о болезни мужа, назвав ее «Вечное сегодня[14]». Вот что она писала: «Клайву постоянно казалось, что он только что очнулся: в его мозгу не сохранилось свидетельств о том, что он когда-либо раньше пребывал в сознании». Сам Уиринг оказался плодовитым писателем – он вел дневник и исписал множество тетрадей. Но вместо глубоких мыслей и юмора в них содержалось лишь следующее:
8.31. Вот теперь, кажется, я действительно проснулся.
9.06. И вот я совсем, по-настоящему проснулся.9.34. Теперь-то я точно полностью проснулся.
Дебора цитирует слова супруга: «Я ничего никогда не слышал, ничего не видел, ни к чему не прикасался, не чувствовал запахов. Я все равно что мертв».
Хотя мой случай не был столь тяжелым, мой мозг тоже утратил ряд основных функций. И все же какие-то вещи меня по-прежнему радовали. Я с нетерпением ждала наших с папой прогулок – хоть я и ковыляла медленно и еле-еле, благодаря этому мне удавалось избежать ежедневных уколов, которые делали всем малоподвижным пациентам для предотвращения образования кровяных сгустков.
Были у меня и два других пунктика: яблоки и гигиена. Когда меня спрашивали, что я хочу, ответ был один: «Яблок». Я постоянно хотела яблок, и все, кто меня навещал, их мне приносили. Зеленые, красные, кислые, сладкие – я ела их все. Не знаю, что вызвало эту одержимость; может, какая-то суеверная мысль о том, что «яблоко на обед – и всех болезней нет»? А может, желание было вызвано более приземленными причинами: яблоки содержат флавониды, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием. Может, мой организм пытался таким образом что-то сказать, сообщить о том, о чем ни я, ни врачи пока не догадывались?
Я также требовала, чтобы мне каждый день меняли и стирали одежду. Мама считала, что так выражалось мое подсознательное желание избавиться от болезни – хоть я и не знала, чем больна. Я умоляла медсестер разрешить мне принять душ, но голову нельзя было мыть из-за электродов, подключенных к аппарату для ЭЭГ. Две санитарки с Ямайки обтирали меня теплыми влажными полотенцами, потом одевали, сюсюкая надо мной, называя «моя лапочка». В их присутствии я расслаблялась. Увидев, как нравились мне эти помывки, отец решил, что ямайский говор санитарок переносит меня в детство: моя няня Сибил с Ямайки заботилась обо мне, как вторая мама.
В первую субботу после моего поступления в больницу родители наконец разрешили пустить ко мне нового посетителя – мою двоюродную сестру Ханну. Хотя то, что она увидела, ее потрясло, она вошла в палату и села рядом со мной, будто делала это каждый день. Она сидела рядом с моей мамой и Стивеном, как будто всегда была здесь – спокойная, сдержанная, готовая помочь.
– Сюзанна, это тебе на день рождения. Мы же так и не увиделись, – бодро проговорила она, протягивая мне подарок в оберточной бумаге.
Я смотрела на нее непонимающе, с застывшей улыбкой. В феврале мы с Ханной договорились отпраздновать мой пропущенный день рождения, но я отменила вечеринку, так как думала, что заразилась мононуклеозом.
– Спасибо, – ответила я.
Ханна смотрела, как я беспомощно царапаю подарок полусогнутыми пальцами, но не решалась помочь. Мои пальцы утратили ловкость: я не могла даже развернуть оберточную бумагу. Моя физическая заторможенность и спутанная речь напомнили Ханне пациентов с болезнью Паркинсона. Наконец она тихонько забрала у меня подарок и открыла его.
– Это «Перебои в смерти», – сказала она. – Ты же любишь «Все имена», вот мы с мамой и решили, что этот роман тебе тоже понравится.
В колледже я прочла «Все имена» Жозе Сарамаго, и мы с Ханной и ее мамой несколько вечеров его обсуждали. Но сейчас, беспомощно взглянув на имя автора, я сказала:
– Я никогда у него ничего не читала.
Ханна спокойно согласилась и сменила тему.
– Она очень устала, – извинилась мама. – Ей трудно сосредоточиться.
Видеозапись из палаты, 30 марта, 6.50, 6 минутНачало записи: пустая кровать. Мама в рабочем костюме от Max Mara сидит рядом и задумчиво смотрит в окно. На прикроватном столике журналы и цветы. Негромко работает телевизор; показывают шоу «Все любят Рэймонда».
В кадр захожу я и залезаю на кровать. Я без шапочки, волосы грязные, связка проводов свисает вниз по спине, как грива. Натягиваю одеяло до подбородка. Мама гладит меня по ноге и подтыкает одеяло. Но я сбрасываю его, встаю и начинаю теребить провода на голове.
Конец записи.
22. Чудовищная и прекрасная путаница
Начало второй недели в больнице ознаменовалось появлением новых тревожных симптомов. В середине дня ко мне зашла мама и заметила, что моя речь стала настолько неразборчивой, будто язык у меня распух и стал в пять раз больше. Это постепенное, ступенчатое ухудшение испугало ее больше галлюцинаций, паранойи и попыток сбежать. Когда я говорила, у меня заплетался язык; я пускала слюни, а когда уставала, свешивала язык набок, как перегревшаяся на солнце собака. Я шепелявила, кашляла, когда пила, и мне даже принесли специальный поильник, отмерявший глотки не больше одной столовой ложки. Я также прекратила использовать полные предложения; невнятное бормотание сменилось отдельными слогами, а затем и просто мычанием.
– Повторяйте за мной, – велела доктор Руссо, мой невролог. – Ка, ка, ка.
Но твердое «к» в моем произношении сильно смягчилось и стало неузнаваемым: «Дтха, дтха, дтха».
– Раздуйте щеки – вот так, – попросила доктор Руссо, надув щеки и выдыхая через сомкнутые губы.
Я выпятила губы и попыталась повторить за ней, но щеки не надувались – я просто выдохнула и все.
– Высуньте язык как можно дальше.
Я смогла высунуть его только наполовину, да и то он дрожал, точно это действие давалось мне с большим трудом.
Позднее доктор Арслан подтвердил новый симптом, обнаруженный доктором Руссо, и написал об этом в своем журнале наблюдений. Я постоянно двигала челюстями, будто жевала жвачку, строила странные гримасы, поднимала руки и замирала, словно хотела дотянуться до невидимого предмета.
Мои врачи заподозрили, что эти симптомы в сочетании с высоким кровяным давлением и повышенным сердцебиением указывают на нарушения в стволе мозга или лимбической системе.
И все же однозначного виновника определить было непросто.
Тут опять стоит вспомнить гирлянду из лампочек: достаточно выйти из строя лишь одному участку, и нарушаются самые разные связи. Поэтому выделить один участок мозга и напрямую связать его с основными жизненными функциями и особенностями поведения бывает сложно. Все, что связано с мозгом, очень запутанно. Как сказал Уильям Оллмен в своей книге «Изучение чуда: революция в нейронной сети[15]», «мозг – это путаница, чудовищная и прекрасная».
Вскоре после ухода доктора Арслана пришел доктор Сигел (любимый мамин «Багси») и сообщил новость.
– Так, мы кое-что узнали, – сказал он.
– Кое-что? – спросила мама.
– Люмбальная пункция показала слегка повышенный уровень лейкоцитов. Как правило, это признак инфекции или воспаления.
Концентрация лейкоцитов в моей спинномозговой жидкости составляла 20 на микролитр; у здорового человека она равна 0–5 на микролитр. Врачей озадачили такие цифры, но повышенная концентрация лейкоцитов могла быть вызвана разными причинами. Например, сама люмбальная пункция, с ее высокой травматичностью, вполне могла спровоцировать повышение. Но все же такие результаты указывали на явные нарушения.
– Пока мы не знаем, что это означает, – сказал доктор Сигел. – Мы проведем несколько исследований. И обязательно выясним. Обещаю.
Мама впервые за несколько недель улыбнулась. Странно, но она обрадовалась, получив подтверждение тому, что мое состояние объяснялось физическими, а не психическими причинами. Ей отчаянно хотелось обрести хоть какую-то уверенность, иметь хоть какие-то данные, за которые можно было бы уцепиться. И хотя эти лейкоциты были слабой наводкой, они все же на что-то указывали. Мама вернулась домой и весь вечер провела за компьютером, выискивая в Интернете, что могла бы означать эта новость. Перспективы были самые пугающие: менингит, опухоль, инсульт, рассеянный склероз. Наконец телефонный звонок оторвал ее от экрана. Мой голос на том конце провода был как у умственно отсталого ребенка.
– Я описалась.
– Что случилось?
– Я описалась. Они кричат.
– Кто на тебя кричит? – Она слышала голоса.
– Сестры. Я описалась. Я нечаянно.
– Сюзанна. Никто на тебя не сердится. Говорю тебе. Это их работа – за тобой убирать. Они знают, что ты не нарочно.
– Они на меня кричат.
– Говорю тебе, ничего серьезного. Бывает. И они не должны кричать. Ты нечаянно.
Она не могла понять, что произошло на самом деле, а что является порождением моего истерзанного ума. Аллен решил, что, скорее всего, я все придумала: больше об этом случае они ничего не слышали.
Поскольку я по-прежнему считала, что коллеги с работы за мной следят, и стыдилась своей болезни, родители почти никому не рассказывали о моем пребывании в больнице. Даже мой брат ни о чем не знал. Но 31 марта, во вторник, с началом второй недели они разрешили моей подруге Кэти навестить меня.
Мы с Кэти познакомились в колледже и сблизились на почве любви к Лоретте Линн[16], соулу, винтажной одежде и крепким коктейлям. Кэти была жизнерадостной, немножко дурашливой и лучшим в мире товарищем по всяким рискованным приключениям. Она не знала, что мне принести, поэтому купила плюшевую крысу (в этом вся Кэти – не плюшевого мишку, а крысу!), диск с рэпперскими видеоклипами и французский фильм с субтитрами (она не знала, что я не могу читать).
Кэти работала учительницей в Квинсе, и в ее классе было немало детей из малообеспеченных проблемных семей и с трудностями в обучении. Но даже она оказалась не готова к тому, что ждало ее за дверью больничной палаты. Новая я даже выглядела иначе: худая и бледная, с впавшими щеками, с тонкими ногами-палочками. Взгляд не фокусировался.
Стараясь разрядить атмосферу, Кэти стала рассказывать об общих знакомых из колледжа, понимая, что главное сейчас – отвлечь меня от серьезных проблем. Но мне было трудно поддерживать разговор, так как я все воспринимала с задержкой и даже на простейшие вопросы отвечала через несколько секунд. Не говоря уж о проблемах с речью. Прежде умение вести беседу было моим профессиональным навыком; я принадлежала к тем людям, которые могли разговорить кирпичную стену. Но новой мне с трудом давались даже самые простые предложения. Кэти практически меня не понимала.
– А давай прогуляемся, – предложила она и пошутила: – Не забудь рюкзачок, Даша-путешественница.
Лишь через полминуты я поняла, что она имела в виду маленький розовый рюкзак, в котором я носила свои проводки для ЭЭГ, но все же нашла в себе силы рассмеяться. Мы медленно проковыляли к приемной и сели на стулья спиной к окну. Кэти заметила, что мои черные леггинсы на мне висят.
– Сюзанна, как же ты похудела!
Я посмотрела на свои ноги, точно впервые заметив, что они там. Потом рассмеялась и выговорила:
– И эээттто моииии штттныыы! Мои шттттанны! Штттанны!
Я встала и исполнила неуклюжий ирландский танец. Да, как ни странно, я танцевала, и Кэти решила, что это хороший знак.
Вслед за Кэти ко мне наведались Анджела и Джули с работы. Анджела не видела меня с того вечера в баре отеля «Мариотт», когда я сорвалась и рыдала, не в силах успокоиться. С тех пор я несколько раз звонила ей среди ночи, тяжело дышала в трубку и молчала. Джули говорила со мной лишь раз с того дня, когда предположила, что у меня биполярное расстройство. Она позвонила мне в больницу, но на все ее расспросы я смогла ответить лишь одно: «На завтрак я ела пирог».
Я знала, что они придут, и попросила их об одном: принести чизбургер. И вот они поднимались в лифте с бургерами и картошкой и не знали, чего ждать.
Они вошли в палату и увидели у кровати Ханну, мою двоюродную сестру, которая пришла, чтобы посидеть со мной. Я обрадовалась, увидев их, и улыбнулась застывшей, но широкой улыбкой во все тридцать два зуба. Увидев меня в белой шапочке с торчащими из-под нее разноцветными проводами, они были потрясены, но постарались не показывать этого. Анджела вручила мне чизбургер, но я положила его на прикроватный столик, даже не притронувшись к нему, а позже отдала Стивену. Джули – эта никогда не отличалась робостью – тут же запрыгнула ко мне на кровать. Достала из сумочки телефон и стала пролистывать фотографии, пока не отыскала нужную.
– Хотите посмотреть? – сказала она, когда мы все вчетвером сгрудились вокруг ее телефона. – Это я сходила в туалет!
Все ахнули, кроме меня.
– Когда Тедди родился, меня отказывались выписывать из больницы, пока я не схожу по большому. Я так гордилась собой, когда это наконец произошло, что даже сфотографировала эту прелесть!
Примерно месяц назад у Джули родился сын. Анджела с Ханной истерически захохотали, а я отняла у них телефон, вгляделась и через несколько секунд тоже смеялась почти что до слез. Три мои гостьи переглянулись и снова расхохотались. Во время этих посещений я казалась счастливой и более «нормальной». Стивен заметил, что когда ко мне кто-то приходил, мне удавалось собраться, но после я чувствовала себя вымотанной и в течение нескольких часов не могла общаться: как будто все мои силы ушли на то, чтобы казаться нормальной.
Анджела, как истинный репортер, тут же начала меня расспрашивать:
– Сюзанна, что с тобой вообще творится?
– Я… не… помню, – запинаясь, ответила я. Чуть позже я прервала наш разговор на другую тему и спросила внезапно более четким голосом, но все же замедленно: – А что обо мне говорят?
– Не волнуйся. Никто ничего не говорит. Но все беспокоятся за тебя, – заметила Анджела.
– Да нет же, скажи. Я хочу знать.
– Никто не говорит ничего плохого, Сюзанна. Клянусь.
– А я знаю, что в «Сплетнике» обо мне гадостей написали, – не унималась я.
«Сплетник» – так назывался блог светских новостей.
Джули с Анджелой озадаченно переглянулись.
– Ты о чем?
– В «Сплетнике» писали обо мне гадости. Мое имя было в заголовке. – Я села в кровати с абсолютно серьезным видом. – Как думаете, может, им позвонить?
Анджела покачала головой:
– Хм, нет. Мне кажется, это плохая мысль. Может, напишешь им по электронной почте, когда тебе станет лучше?
Примерно через час Анджела и Джули попрощались и прошли по коридору к лифтам. По-прежнему молча нажали на кнопку вызова и стали ждать. А когда сели в лифт, Джули тихо произнесла:
– Думаешь, она теперь навсегда такой останется?
Вопрос был задан неспроста. Та я, которую Джули с Анджелой только что повидали, мало напоминала меня старую, ту, которую они знали уже много лет.
Но все же что-то от меня прежней еще сохранилось. Хотя я больше не могла концентрировать внимание долго и поэтому не могла читать, я сохранила способность писать, и отец дал мне линованный блокнот, в котором я записывала, как себя чувствую. С помощью записей я также могла общаться с посетителями, а они имели возможность лучше понять, что со мной происходит.
Меня увлекло не только описание моих проблем в блокноте: я, как одержимая, поставила себе цель поблагодарить всех, кто присылал мне цветы. Моя палата была завалена букетами: белые нарциссы, желтые тюльпаны, розовые розы, оранжевые подсолнухи, розово-белые лилии (мои любимые). Я умоляла отца составить список имен, чтобы я всем могла отправить благодарственные письма, когда лучше себя почувствую. Когда я слишком устала писать, папа сам написал несколько коротких записок за меня. Но мне так и не довелось отправить эти благодарности. Потому что очень скоро дела приняли совсем дурной оборот.
23. Доктор Наджар
Из Центра контроля заболеваний и Нью-Йоркской государственной лаборатории пришли результаты анализов: все отрицательные. Теперь у врачей был длинный список болезней, которых у меня не было. Он включал следующие инфекционные заболевания:
• Болезнь Лайма, часто возникающая после укуса клеща.
• Токсоплазмоз – заболевание, вызываемое паразитами. обычно переносится кошками.
• Криптококковый менингит, вызываемый грибком.
• Туберкулез, поражающий легкие.
• Лимфоретикулез, или «болезнь кошачьей царапины».
Также пришли результаты исследований на ряд аутоиммунных заболеваний – неполного перечня, ведь аутоиммунных заболеваний больше ста. Они также были отрицательными. Итак, у меня не было:
• Синдрома Шегрена – поражения слезных и слюнных желез.
• Рассеянного склероза – болезни, при которой поражается миелин – белково-липидная оболочка вокруг нейронов.
• Красной волчанки – заболевания соединительной ткани.
• Склеродермии – кожного заболевания.
Короче говоря, ничего. Ни одного «ненормального» результата. Даже различные МРТ и КТ были абсолютно чистыми. Если верить результатам исследований, я была здорова на все сто. Родители заметили, что врачи начали отчаиваться: им, видимо, казалось, что они никогда не выяснят, что же со мной не так. Было ясно, что, если физическая причина моей болезни так и не обнаружится, мне предстоит отправиться в куда более неприятное место. Все это понимали, но никто не признавался вслух. Поэтому моей семье был совершенно необходим человек, который верил бы в меня, несмотря ни на что. Впервые за всю историю общения с врачами моя мама надеялась, что хоть один анализ на заболевание даст положительный результат. Тогда, по крайней мере, мы получили бы ответ.
Каждый день мама с нетерпением ждала встречи с доктором Багси. Он был похож на доброго дедушку, и его неунывающий оптимизм и добрые слова стали единственным лучиком света в эти темные дни. В день, когда пришли результаты анализов, Багси не появился, и она заволновалась и отправилась в коридор его искать. Она увидела его белый лабораторный халат, когда он выходил из палаты в конце коридора.
– Доктор Сигел? – позвала она его с вопросительной интонацией. Он быстро повернулся, лицо его было серьезным – видимо, он спешил. – Как дела у Сюзанны? Выяснили что-нибудь?
Он взглянул на нее без капли прежнего дружелюбия и оптимизма.
– Ее случай передали другому врачу, – бесстрастно проговорил он и повернулся, чтобы уйти.
– Что… что? – запинаясь, проговорила мама. Ее нижняя губа дрожала. – И что нам делать?
– Не знаю, что сказать. Я больше не ее лечащий врач, – повторил он, повернулся и торопливо ушел.
Маме вдруг показалось, что она осталась совсем одна. С начала моей болезни ей пришлось пережить немало трудных минут, но эта, пожалуй, была хуже всех. Ведь даже один из лучших врачей в стране сложил руки, отказавшись меня лечить!
Мама сделала глубокий вдох, расправила жакет и вернулась в мою палату. В тот момент она чувствовала себя глупо, ведь она поверила, что я была для Сигела чем-то большим, чем просто пациенткой, одной из многих. Чуть позже ко мне зашла доктор Руссо, и мама с трудом смогла заставить себя взглянуть на нее. Теперь доктор Руссо была нашей единственной надеждой. Но закончив осмотр, она повернулась к маме и проговорила:
– Мы с доктором Наджаром считаем, что необходимо провести еще одну люмбальную пункцию.
Поскольку мое состояние ухудшалось, мысль о повторной люмбальной пункции уже не казалась такой пугающей, как прежде. Но маму больше заинтересовало упоминание о новом враче.
– А что это за доктор Наджар?
– Он взялся за случай вашей дочери. Это блестящий врач, – сообщила доктор Руссо.
Доктор Сухель Наджар присоединился к врачебной коллегии после того, как ему позвонил доктор Сигел. Он разрешил несколько «загадочных» случаев, заслужив этим репутацию человека, к которому обращались в самых непонятных ситуациях. И вот доктор Багси передал ему свой самый трудный случай.
– Я ничего не понимаю, – признался доктор Сигель доктору Наджару. – Нужна ваша помощь.
Он перечислил все симптомы и предполагаемые диагнозы, противоречащие один другому. По мнению психиатров, причиной моего поведения была душевная болезнь, но увеличенное число лейкоцитов свидетельствовало об инфекции, а результаты всех других анализов были отрицательными. Доктор Наджар сразу же предположил, что у меня одна из разновидностей вирусного энцефалита – воспалительного заболевания, скорее всего, вызванного вирусом герпеса. Теория о шизоаффективном расстройстве показалась ему неубедительной, и он предложил начать вводить мне внутривенно противовирусный препарат ацикловир.
Но пришли результаты анализов на вирусы, и его догадки не подтвердились. У меня не оказалось ни ВИЧ, ни вируса простого герпеса типа А и Б; отрицательным был и анализ на вирусный энцефалит, поэтому доктор Наджар прекратил лечение ацикловиром. Другим вероятным диагнозом была аутоиммунная реакция; и здесь можно было применить экспериментальную иммунотерапию, которую доктор Наджар успешно опробовал на одном пациенте с воспалением мозга. Лечение включало стероиды, внутривенное введение иммуноглобулина и переливание плазмы.
– Думаю, необходимо немедленно начать введение иммуноглобулина, – заявил доктор Наджар, увидев, что исследования на вирусы дали отрицательные результаты.
24. Тысяча вен
Второго апреля мне начали проводить первый курс иммуноглобулина – всего пять капельниц. На металлической стойке над головой висели пакеты с прозрачной жидкостью, стекавшей прямо в вену. Каждый из непримечательных на вид пакетов содержал здоровые антитела более тысячи доноров крови; одна процедура стоила более 20 тысяч долларов. Ведь чтобы помочь одному пациенту, понадобилась тысяча жгутов, тысяча медсестер, тысяча вен и тысяча печений, которые выдают донорам для регуляции сахара в крови.
Антитела обезвреживают вирусы, бактерии, грибки, проникающие в организм. Определенному патогену соответствует одно конкретное антитело, подобно хрустальной туфельке, которая впору только Золушке. Но иногда организм человека начинает вырабатывать аутоантитела, самых что ни на есть зловредных биологических «двойников». Они присоединяются к здоровым тканям (например, мозговым клеткам) и уничтожают их.
Капельница с иммуноглобулином привносит в организм свежие здоровые антитела, которые смешиваются со зловредными, «сбившимися с пути истинного» аутоантителами, созданными иммунной системой больного, помогают нейтрализовать и обезвредить их.
Бип, бип, бип. Темно. Громадная машина справа издает сигналы. Трубка капельницы соединяет меня с тяжелым пакетом с белой жидкостью. Надеваю наушники Стивена и закрываю глаза. Уношусь далеко отсюда и снова становлюсь собой.
«А следующая песня посвящается моей подруге Леа, которая не смогла сегодня прийти…»
Гитарные переборы. Мягкий барабанный стук. Музыка нарастает. Вечер хэллоуина в театре «Аполло» в Гарлеме. Я на концерте Райана Адамса. Вот он, на сцене, бренчит на гитаре, но глаза закрываются; я не могу следить за происходящим. Кто-то касается моей руки. Я вздрагиваю и слышу голос:
– СюЖЖана, пора мерить давление.
Концертная сцена исчезает, растворяется в темной больничной палате. Рядом стоит медсестра. Я снова возвращаюсь туда, где нет ночи и дня… Это она виновата, что я здесь, эта женщина. Меня вдруг захлестывает ослепительная ярость, направленная на нее. Отвожу назад правую руку и ударяю ее в грудь. «Ах», – произносит она.
Наутро мама, как обычно, сидела в палате на стуле у окна, и тут у нее зазвонил телефон. Звонил Джеймс. Родители не сообщали брату, насколько тяжело я на самом деле болела, – не хотели беспокоить его и отрывать от учебы. Несмотря на разницу в пять лет, мы с ним всегда были очень близки, и родители знали, стоило ему проведать о моем состоянии, как он сразу бы все бросил и приехал домой. Но сегодня, впервые за все время, мама решила дать трубку мне.
– Джеймс… Джеймс… Джеймс, – проговорила я, услышав голос брата. – Джеймс… Джеймс… Джеймс.
В комнате общежития в Питтсбурге Джеймс едва сдерживал слезы. Мой голос так изменился и стал совсем не похожим на голос его старшей сестры.
– Скоро я вернусь домой. И тебе станет лучше, – пообещал он.
На следующий день, когда мне поставили вторую капельницу, мой психофармаколог доктор Арслан совершал обход и заметил, что мои проблемы с речью усугубились. Вот что он написал в журнале наблюдений:
Пациентка плохо спала и демонстрирует усилившуюся задержку речи. Последнее является тревожным симптомом, так как может быть первым признаком кататонии. Снотворный эффект сероквеля по сравнению с прошлой ночью ослаб.
Впервые один из врачей упомянул о кататонии – состоянии помрачения сознания, недееспособности и негативных поведенческих характеристик.
Кататония возникает, когда нейроны «дают осечку». Мышечная ригидность или застывшая поза формируются при разрыве связи между осознанием пациентом своего тела и ощущением комфорта и уместности движений. Другими словами, кататоник не чувствует своего тела в пространстве и потому может принимать неудобные позы. В результате такие люди могут подолгу сидеть неподвижно в неудобной, атипичной, неестественной позе. Кататония больше схожа с состоянием, возникающим после неудачной лоботомии, чем с состоянием «овоща», так как с технической точки зрения человек сохраняет активность. Хоть его поведение и странное, неуместное и не связанное с реакцией на внешние раздражители.
Тем временем у Стивена из головы не выходило замечание, сделанное медсестрой накануне вечером. Медсестра была молоденькой эмигранткой из Азии и только что начала работать в университете Нью-Йорка. Во время осмотра она небрежно заметила:
– А она всегда так тормозит?
Стивен сердито покачал головой, с трудом удерживаясь, чтобы не огрызнуться. «Да как она смеет так говорить? Сюзанна не “тормозит” и никогда не была такой!»
На следующее утро Стивен встретил в коридоре папу. Поначалу они говорили ни о чем – о холодной погоде, работе Стивена и тому подобном. Но разговор быстро обратился ко мне.
– Она все еще с нами, – проговорил Стивен. – Я чувствую ее. Она все еще там. Я знаю.
– Согласен. И за эту Сюзанну мы боремся. Врачи и сестры этого не видят, но мы-то знаем, – сказал отец. – И ради нее мы должны быть сильными.
– Точно.
Они пожали друг другу руки. В тот день отец сделал запись в своем дневнике, делясь новыми впечатлениями о Стивене: «Единственный ее друг, который приходил каждый день – Стивен. Потрясающий человек. Когда я впервые встретил его, он мне не очень понравился, но с каждым днем мое уважение и симпатия к нему растут».
25. Припадок голубого дьявола
Девятого апреля мне сделали вторую люмбальную пункцию. К тому времени я находилась в больнице уже восемнадцать дней и мало того, что ни на шаг не приблизилась к лечению – мое состояние верно ухудшалось. В частности, Стивен заметил, что у меня участились постоянные жующие движения челюстями, взмахи руками а-ля невеста Франкенштейна и периоды неподвижной фиксации взгляда.
Видеозапись из палаты, 8 апреля, 22.30, 11 минутТелевизор включен на большую громкость; показывают реалити-шоу по каналу «Дискавери».
Стивен сидит рядом со мной и смотрит телевизор, положив руку на мое бедро; я сплю на боку к нему лицом. Стивен поворачивается ко мне. Я вдруг сажусь и начинаю делать быстрые вдохи, забывая о выдохах. Он гладит меня по голове. Я вдруг вытягиваю перед собой прямые руки, а Стивен нажимает кнопку вызова медсестры. Он встает над кроватью, в ужасе глядя, как я медленно сгибаю кисти и подношу к лицу. Мои движения настолько «деревянные», что запись напоминает замедленную съемку. Приходит сестра. Она говорит со Стивеном, но громкий звук телевизора заглушает их разговор. Я не произношу ни слова. Стивен пытается объяснить, что произошло, показывает, как я задыхалась, чтобы сестра поняла – я перестала дышать. Пока он говорит, я снова вытягиваю руки, но на этот раз кисти согнуты, а пальцы смотрят вниз, как у тиранозавра. Стивен аккуратно кладет мои руки по бокам от тела и начинает растирать мне плечи, но руки сами возвращаются обратно, согнутые в кистях на сорок пять градусов – как будто их подтягивают на веревочках. Я начинаю быстро и ритмично двигать руками вверх-вниз, вверх-вниз. Затем закрываю лицо ладонями и неподвижно лежу до прихода дежурного невролога.
Стивен снова пытается объяснить врачу, что произошло, напрягая руки и скрежеща зубами. Он переволновался, ему страшно; он начинает плакать. Я сбрасываю на пол плюшевого мишку, лежащего на кровати, и снова начинаю неуклюже махать руками, словно отбиваясь от привидения. Но руки так напряжены, что я похожа на куклу Барби, отправившуюся в бой. Врач задает мне несколько вопросов – его голоса на записи не слышно, – но я не отвечаю, а только смотрю на него. Потом снова ложусь на кровать.
И тут я сажусь и пытаюсь слезть с кровати, но мне мешает поручень. Врач опускает его и дает мне судно (видимо, полагая, что меня тошнит). Я раскачиваюсь вперед-назад, затем ложусь на кровать, зажав судно между ног. Врач забирает его у меня и кладет у подушки.
Конец записи.
В такие моменты Стивен все время вспоминал мой первый припадок, случившийся 13 марта.
– Что это было, как считаете? – спросил он тем вечером сестру Аделину.
– Может, она просто хотела привлечь ваше внимание? – Южане называют женские истерики «припадками голубого дьявола» – такое красочное описание дают приступам паники или эмоциональным взрывам, случающимся у молодых женщин. – А может, это приступ паники?
Но Стивена такое объяснение не удовлетворило. На следующий день приступ повторился.
– Мне… нехорошооо, – проговорила я, свесив ноги с кровати.
Стивен опустил поручень и помог мне спуститься на пол. Я снова начала глотать ртом воздух и заплакала. Стивен вызвал медсестру.
– Сердце… болит, – сказала я, схватившись за грудь и корчась на холодном полу палаты. – Не… могу… дышать.
Вбежала сестра. Она измерила температуру и давление: оказалось, давление было повышено – 155/97. Меня подсоединили к двухлитровому кислородному баллону, который используют при сердечных нарушениях и конвульсиях. Вскоре я уснула. То же самое, с теми или иными вариациями, происходило каждый вечер во время визитов Стивена. В присутствии других людей эти приступы повторялись редко. Почему? – так никто и не смог объяснить.
Время шло, а мне так и не поставили диагноз. Моя семья уже выбилась из сил. Все исследования давали отрицательный результат; лечение иммуноглобулином не оказалось тем волшебным эликсиром, на который все возлагали надежды, и никто не мог выяснить, что же на самом деле означает повышенное число лейкоцитов в ликворе. А хуже всего было то, что доктор Багси меня больше не лечил, а хваленый доктор Наджар так и не появился. Что же помешает другим врачам опустить руки и запереть меня в психушке или приюте для умалишенных? Втайне от меня и друг друга, несмотря на попытки поддерживать оптимизм, мои родные стали волноваться, что, если мое состояние будет ухудшаться и дальше, они потеряют меня навсегда.
На следующий день пришли результаты люмбальной пункции. Их огласила доктор Руссо. Результаты были тревожными, но по крайней мере означали, что врачи близки к разгадке: содержание лейкоцитов в спинномозговой жидкости возросло до восьмидесяти на микролитр (а на прошлой неделе было двадцать). Это с почти стопроцентной вероятностью означало, что у меня воспаление мозга; теперь оставалось лишь выяснить, что его вызвало.
Когда я поступила в эпилептическое отделение, основной жалобой были припадки; затем они сменились на психоз, а теперь доктор Руссо записала в моей карте: «энцефалит неизвестного происхождения». Один из неврологов впоследствии рассказал, что врачи между собой называют энцефалит «испорченным мозгом»; это воспалительный процесс в мозгу, который провоцируют различные возбудители.
Когда приходила доктор Руссо, мамы в палате не было, и папа записал для нее новость в общем журнале:
Он попытался сообщить хорошую новость и мне, но я ничего не поняла. «Перепиши то, что я записал, и запиши кое-что еще – я продиктую», – предложил он.
Мы думали, что я смогу показывать эту запись всем, кто будет приходить, и таким образом они узнают все, что произошло. Но план провалился: когда в тот же день меня навестила Ханна, оказалось, что я не могу найти блокнот. Он затерялся среди цветов и журналов, которыми была завалена моя палата.
– Я должна… я должна… – Я пыталась объяснить, но безуспешно.
Ханна прилегла рядом со мной на кровать и обняла меня за шею.
– Я должна… я должна… я должна… – повторяла я.
– Ничего, Сюзанна, потом вспомнишь. Ты устала, – прервала меня мама.
– Нет. Я хочу… – Я запнулась и напряглась всем телом. – Я… хочу… сказать!
– Ты устала, милая. Надо отдохнуть, – сказала мама.
Я гневно выдохнула. Мама понимала, что меня очень злит моя неспособность быть «нормальной» и то, что со мной нянчатся, как с младенцем. Ханна тоже почувствовала мое раздражение и попыталась отвлечь меня журналами US Weekly за целый месяц и чтением «Над пропастью во ржи» – я умоляла ее принести мне эту книгу. Поскольку сама я больше читать не могла, Ханна почитала мне, и вскоре я закрыла глаза и заснула. Но потом вдруг проснулась и взглянула на нее.
– Повивисливин, – проговорила я. – Повивисливин! Повивисливин! – начала повторять я. Лицо покраснело.
– Пожалуйста, – неуверенно ответила Ханна.
Я гневно затрясла головой:
– Нет, нет, нет! Повивисливин!!! – закричала я.
Ханна склонилась ближе, но так мою речь стало еще труднее различить. Тут я начала красноречиво показывать на дверь:
– Сливин, Сливин!
Наконец Ханна поняла. Она позвала Стивена, и, увидев его, я сразу успокоилась.
На следующий день, взяв за отправную точку повышенное число лейкоцитов в ликворе, врачи стали искать причину моей инфекции. Мне грозила новая серия анализов, и медбрат Эдвард пришел взять кровь. Стивен сидел у кровати; мое сегодняшнее поведение глубоко его впечатлило. Хотя я все еще была на себя не похожа, ко мне, кажется, частично вернулось прежнее чувство юмора. Я стала больше улыбаться, с большим интересом следила за игрой «Янкиз» и даже заявила, что мне нравится подающий Энди Петтитт.
– Как игра? – спросил Эдвард. – «Метс» выигрывают? – пошутил он.
Я вытянула руку. У меня уже столько раз брали кровь, что ритуал был мне хорошо знаком. Эдвард надел перчатки, затянул жгут на правом плече, подготовил вену, постучав по ней пальцами, и наклонился, чтобы вставить иглу. Но когда игла вошла под кожу, я резко подскочила и одним быстрым движением выдернула ее; из вены хлынула кровь. Я улыбнулась, потупила глаза с притворным смущением, будто хотела сказать: ой-ой, что же я наделала? Но Стивен понял, что на самом деле я имела в виду: отстаньте от меня. Иногда, когда мне становилось лучше, возвращались симптомы психоза. Это всех пугало.
– Сюзанна, прошу, не делай так. Ты можешь покалечиться и покалечить меня. Но тебе будет больнее, – проговорил Эдвард, стараясь не повышать тона.
Он снова подготовил иглу и занес ее над моей вытянутой рукой.
– Ладно, – тихо ответила я.
Он вставил иглу, набрал несколько пробирок и вышел из палаты.
26. Часы
– Вовы, – стонала я, указывая на розовый кувшин на прикроватном столике.
Сегодня мы ждали прихода доктора Наджара. У меня текла слюна, и я причмокивала – теперь это происходило постоянно, даже во сне. Отец отложил карты, взял кувшин и вышел в коридор, чтобы его наполнить. А вернувшись, увидел, что я уставилась прямо перед собой неподвижным взглядом. Я словно спала с открытыми глазами; язык вывалился изо рта. К тому времени он уже настолько привык к таким моментам, что воспринял все спокойно. И вместо того, чтобы растормошить меня, молча сел читать «Портрет художника в юности» и читал, пока не пришла мама.
– Привет, – бодро поздоровалась она, входя в палату, поставила на стул у кровати свою кожаную сумку и поцеловала меня. – Я так волнуюсь перед встречей с таинственным доктором Наджаром. Как думаешь, какой он? – весело продолжала она; ее миндалевидные глаза светились энтузиазмом. – Он должен прийти с минуты на минуту.
Но папа был не слишком обнадежен.
– Не знаю, Рона, – ответил он. – Мы же так ничего и не выяснили.
Она отмахнулась от него, взяла салфетку и вытерла слюну, стекавшую по моему подбородку.
– Здравствуйте, здравствуйте! – Через несколько минут в мою отдельную палату – номер 1276 – вошел доктор Наджар, громогласно возвестив о своем прибытии.
Он слегка сутулился, из-за чего голова выступала на несколько сантиметров вперед – видимо, из-за долгих часов, проведенных над микроскопом. Густые усы на кончиках истончились, потому что у него была привычка дергать и крутить их, когда он размышлял.
Он протянул маме руку, а та была так рада с ним познакомиться, что крепко пожала ее и задержала чуть дольше, чем позволено правилами приличия. Затем он представился отцу. Тот поднялся со стула у изножья кровати и поприветствовал его.
– Прежде чем начать, давайте еще раз вспомним ее историю болезни, – проговорил доктор.
Сирийский акцент придавал его речи прыгающую ритмичность; он акцентировал и удлинял твердые согласные, а вместо «т» часто произносил «д». Волнуясь, он нередко пропускал предлоги и соединял несколько слов в одно, словно его речь не могла угнаться за мыслями.
Доктор Наджар всегда подчеркивал, как важно выяснить у пациента полную историю болезни. «Чтобы увидеть будущее, нужно заглянуть в прошлое», – говорил он своим больным. Мои родители рассказывали, а он записывал симптомы: мигрени, боязнь клопов, гриппозное состояние, онемение, учащение сердечного ритма. Все эти симптомы были уже изучены другими врачами, но так и не сложились в единую картину. Доктор Наджар записал эти важные сведения, а затем сделал то, чего не делал еще ни один врач: повернулся и заговорил со мной, как будто я была его другом, а не пациентом.
Одним из удивительных качеств доктора Наджара была его личная проникновенная манера общаться. Он глубоко сочувствовал слабым и беспомощным, а все из-за того, что случилось с ним самим в детстве. Позднее он рассказывал мне, что рос в столице Сирии Дамаске, плохо учился в школе, а родители и учителя считали его ленивым. В десять лет он провалил несколько экзаменов подряд в частной католической школе, и директор заявил его родителям, что случай безнадежный. «Школьное образование не для всех, – сказал он. – Может, мальчику лучше будет обучиться ремеслу?» Отец Сухеля рассердился, но не желал прекращать образование сына и, не питая особых надежд, перевел его в обычную школу.
В первый же год обучения один из учителей обратил на мальчика особое внимание и стал часто нарочно хвалить его за проделанную работу, тем самым постепенно укрепляя его уверенность в себе. К концу года Сухель принес домой табель, в котором были одни пятерки. Отец пришел в ужас.
– Ты жульничал на экзаменах! – закричал он, занося руку, чтобы ударить сына.
На следующее утро родители мальчика явились к учителю.
– Не может быть, чтобы мой сын получил такие отметки. Он жульничал!
– Да нет же, – ответил учитель, – уверяю вас.
– Что же у вас за школа, если такой парень, как Сухель, получает столь высокие оценки?
Учитель замолк ненадолго, а затем заговорил:
– А вам не приходило в голову, что у вас умный сын? Мне кажется, вам нужно поверить в него.
В итоге доктор Наджар стал лучшим выпускником на курсе в мединституте и эмигрировал в США. Там он добился признания не только как один из самых уважаемых неврологов, но и как эпилептолог и невропатолог. Мораль сей истории он применял ко всем своим пациентам: никогда не теряйте надежду.
И вот доктор Наджар сел на корточки у моей кровати и произнес:
– Я сделаю все, что смогу, чтобы вам помочь. И не причиню вам вреда.
Я ничего не ответила, мое лицо не выражало эмоций.
– Так, давайте начнем. Ваше имя?
Долгая пауза.
– Сю… за… ннн… нна.
– Какой сейчас год?
Пауза.
– 2009.
«Отвечает односложно», – записал он.
– А месяц?
Пауза.
– Апппрель. Аппрель, – с трудом отвечала я.
«Безразлична», – записал врач, имея в виду мою апатию.
– А число?
Я уставилась прямо перед собой молча, не проявляя эмоций и не моргая.
«Задержка моргания», – записал он.
Дату я назвать не смогла.
– Кто сейчас президент?
Пауза. Я напряженно подняла руку.
«Ригидность конечностей», – записал доктор Наджар в своем листке обхода.
– Ч… что?
Никаких эмоций. Ничего.
– Кто сейчас президент?
«Не фиксирует внимание», – записал он.
– О… Обама.
«Голос тихий, монотонный, заметно шепелявит».
Мой язык меня не слушался. Доктор достал из кармана белого халата несколько инструментов. Он постучал по моим коленным чашечкам молоточком для проверки рефлексов; рефлекс был снижен. Затем посветил фонариком мне в глаза, отметив, что зрачки плохо сокращаются.
– Хорошо, теперь дотроньтесь до кончика носа этой рукой. – Он прикоснулся к моей правой руке.
Напряженно, двигаясь как робот, я подняла руку и в несколько этапов, как в замедленной съемке, поднесла ее к лицу и все же промахнулась, хоть и почти попала. «Двигательная заторможенность», – подумал доктор Наджар.
– Хорошо, – проговорил он и проверил мою способность выполнить двухэтапное действие. – Теперь коснитесь левого уха левой рукой. – Он дотронулся до моей левой руки, подсказывая мне, где право, где лево – сомневаясь, что я сама в силах отличить.
Я не пошевелилась и не отреагировала, а лишь вздохнула. Тогда он велел мне забыть об этой просьбе и перешел к следующей:
– Теперь встаньте с кровати и пройдитесь.
Я свесила ноги с кровати и нерешительно сползла на пол. Он взял меня под руку и помог встать.
– Не могли бы вы пройтись по прямой, переставляя ноги? – попросил он.
Взяв минуту на раздумья, я зашагала вперед, но двигалась перебежками, делая между шагами длинные паузы. Меня кренило влево – Наджар отметил признаки атаксии (расстройства координации). Я ходила и говорила, как его пациенты на поздней стадии болезни Альцгеймера – те, кто утратил способность говорить и нормально взаимодействовать с окружающей средой и мог лишь совершать периодические неконтролируемые, атипичные движения. Такие пациенты не улыбаются, почти не моргают, сидят и стоят в неестественно застывших позах; они лишь формально присутствуют в этом мире. И тут его осенило: тест с часами! Разработанный в середине 1950-х, этот тест вошел в «Диагностическо-статистический справочник психических заболеваний» Американской психиатрической ассоциации лишь в 1987 году. Его используют при болезни Альцгеймера, инсультах и слабоумии, чтобы узнать, какие зоны мозга поражены.
Доктор Наджар вручил мне чистый лист бумаги, вырвав его из своего блокнота, и попросил:
– Пожалуйста, нарисуйте часы и проставьте на циферблате все числа от 1 до 12.
Я растерянно взглянула на него.
– Рисуйте, как умеете, Сюзанна. Необязательно рисовать хорошо.
Я взглянула на доктора, затем на лист бумаги. Слабо ухватив ручку пальцами правой руки, как некий чужеродный предмет, сперва нарисовала круг, но он вышел слишком кривым, а линии неровными. Я попросила другой лист бумаги. Доктор Наджар вырвал еще один, и я попробовала снова. На этот раз круг вышел похожим на круг. Рисование кругов относится к процедурной памяти (той самой, что не исчезла у знаменитого пациента с амнезией. – Г. М.). Как и завязывание шнурков, это выученный навык; пациенты так много раз делали это прежде, что редко ошибаются, поэтому доктора Наджара не удивило, что я относительно легко нарисовала круг со второго раза. Я обвела его. Доктор Наджар с нетерпением ждал, когда же я проставлю числа.
– Теперь напишите числа на циферблате.
Я засомневалась. Он видел, что мне сложно вспомнить, как выглядит циферблат часов. Я склонилась над бумажкой и начала писать. Я методично выписывала числа. Иногда я «застревала» на одной из цифр и обводила ее несколько раз.
Через несколько секунд доктор Наджар взглянул на лист и чуть не захлопал в ладоши. Я разместила все числа от 1 до 12 на правой стороне циферблата – все, как по учебнику, 12 там, где должно быть 6.
Примерно так выглядел мой рисунок часов.
Доктор Наджар просиял, выхватил у меня бумажку, показал родителям и объяснил, что все это означало. Те ахнули: их лица выражали и страх, и надежду. Это был ответ, который все так долго искали. Не понадобилось ни высокотехнологичной аппаратуры, ни инвазивных тестов – лишь бумага и ручка. Доктор Наджар получил неоспоримое свидетельство того, что у меня воспалено правое полушарие.
Здоровый мозг воспринимает действительность в ходе сложного процесса, в который вовлечены оба полушария. Информация с сетчатки глаза попадает в первичную зрительную кору в затылочной доле, где становится цельным восприятием, которое обрабатывается теменной и височной долями большого мозга.
Теменная доля отвечает за «где и когда», сообщая человеку информацию касательно расположения образа во времени и пространстве.
Височная доля – это «кто, что и почему»; она управляет способностью распознавать имена, эмоции и воспоминания. Но когда мозг поврежден и одно полушарие работает с перебоями, поток информации встречает препятствия на своем пути, и визуальный мир искажается.
Поскольку правое полушарие отвечает за левостороннее зрение, а левое – за правостороннее, мой рисунок, где все цифры были расположены справа, показывал, что мое правое полушарие, ответственное за левую сторону циферблата, работало неправильно.
Тест с часами также помог объяснить другой аспект моей болезни, который прежде по большей части игнорировали: онемение на левой стороне тела, о котором давно уже все забыли. Теменная доля большого мозга отвечает в том числе и за сенсорное восприятие, и нарушения в этой области могут привести к потере чувствительности.
Один лишь тест с часами дал столько ответов на вопросы: помимо онемения на левой стороне тела, он объяснил паранойю, припадки и галлюцинации. Возможно, даже воображаемых клопов: ведь их «укусы» были на левой руке. С помощью этого теста доктор Наджар смог исключить шизоаффективное расстройство, постприпадочный психоз и вирусный энцефалит. Тут он вспомнил о высоком содержании лейкоцитов в спинномозговой жидкости, и его осенило: воспаление почти наверняка вызвано аутоиммунной реакцией, спровоцированной моим собственным организмом. Но что это за аутоиммунное заболевание?
Мне проводили анализы на ряд аутоиммунных заболеваний – всего несколько из ста с лишним, известных науке. Исследования дали отрицательный результат, то есть ни одной из этих болезней у меня не было.
Тогда доктор Наджар вспомнил несколько случаев, описанных в современной медицинской литературе; речь шла о редком аутоиммунном заболевании, поражающем в основном молодых женщин и открытом учеными Пенсильванского университета. Может, это оно?
Возникли и другие вопросы: как глубоко распространилось воспаление? И можно ли спасти мой мозг? Ответить на них можно было лишь одним способом – провести биопсию мозга. Доктор Наджар не знал, согласятся ли на это мои родители. И действительно, описание этой процедуры, в ходе которой вырезается небольшой кусочек мозга для исследования, радости не внушало; но мое состояние ухудшалось, и было необходимо немедленное вмешательство. Чем дольше моя болезнь развивалась без должного лечения, тем меньше были мои шансы когда-либо вернуться к прежнему состоянию. Размышляя над этими проблемами, доктор Наджар рассеянно теребил свои усы и расхаживал по палате.
Наконец он сел рядом со мной на кровать, повернулся к моим родителям и проговорил:
– Ее мозг охвачен огнем. – Он сжал мои маленькие ладони своими большими руками и наклонился, глядя мне прямо в глаза. – Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам. Обещаю, я не сдамся.
Позднее он вспоминал, что на мгновение я как будто ожила. А я до конца дней буду сожалеть, что не помню эту роковую сцену – один из важнейших моментов в моей жизни.
Доктор Наджар заметил слезы в уголках моих глаз. Я села и обняла его. Для него этот момент стал ключевым в моем деле: он почувствовал, что я все еще где-то там, в этом теле. Но это был лишь проблеск. После я легла на кровать и уснула, утомленная кратким всплеском эмоций. Но он успел понять, что я там, и решил не сдаваться. Он подал знак моим родителям выйти из палаты.
– Ее мозг охвачен огнем, – повторил он.
Родители кивнули, расширив глаза от страха.
– Ее собственный организм атакует его.
27. Настоящий доктор Хаус!
Доктор Наджар сообщил и другие новости.
– Думаю, следует провести курс лечения стероидами, но прежде чем начать, необходимо подтвердить наличие воспаления, – проговорил он.
– Но как? – спросила мама.
– В университете Пенсильвании есть врач, специализирующийся на аутоиммунных заболеваниях. Думаю, он сможет дать ответы на наши вопросы. А пока, – он сделал паузу, зная, что моих родителей не обрадует то, что им предстоит услышать, – есть несколько вариантов. Можно начать курс стероидов. Плазмаферез. Или лечение иммуноглобулином.
Родители снова кивнули в унисон, загипнотизированные словами этого умнейшего человека.
– Но мне кажется, что лучший выход, – тут он понизил голос, – провести биопсию мозга.
– Что это значит? – тихо спросила мама.
– Нужно осмотреть ее мозг и взять небольшой кусочек на анализ. – Он сблизил кончики указательного и большого пальцев, а затем развел примерно на сантиметр.
Отец засомневался:
– Даже не знаю.
– Клянусь, будь она моей дочерью, я бы провел биопсию. На данный момент гораздо рискованнее ее не проводить. Худшее, что может случиться, – ничего не изменится.
Мои родители все еще молчали.
– Я бы хотел назначить биопсию на понедельник, в крайнем случае – на вторник, – сказал Наджар. – Но все зависит от вас. Пока нужно все обсудить с врачебной коллегией. Дайте мне время подумать. Буду держать вас в курсе.
Когда доктор Наджар ушел, мама прошептала:
– Настоящий доктор Хаус!
Позднее в тот же день в палату зашла доктор Руссо и сообщила родителям, что врачебная коллегия дала добро на биопсию мозга. Мама пыталась сохранять спокойствие, но чувствовала себя беспомощной. Она вызвала доктора Руссо в коридор. У нее был миллион вопросов, но в голове вертелись лишь два страшных слова: биопсия мозга. Несколько недель она пыталась сдерживаться, но сейчас плотину прорвало, и она заплакала. Доктор Руссо стояла, скрестив руки на груди, а потом потянулась и слегка дотронулась до маминого плеча.
– Все будет хорошо, – сказала она.
Мама утерла слезы и сделала глубокий вдох.
– Я лучше вернусь.
В палате папа бросил на нее обвиняющий взгляд.
– Мы всё слышали, – сказал он.
Но, несмотря на недовольство, позднее написал в дневнике, что его волновало то же, что и маму: «Меня пугали сами эти слова – биопсия мозга. Я слышал в голове голос матери, которая умоляла не соглашаться на это. Она говорила: никогда не позволяй никому лезть тебе в мозг! Работая в «Скорой помощи», она много плохого повидала и не доверяла нейрохирургам. Но я напомнил себе, что это было очень давно».
Опустошенный утренними новостями, тестом с часами и сообщением о необходимости провести биопсию мозга, отец вышел из больницы и зашагал к Тридцать третьей улице, чтобы сесть на метро на Южной Парк-авеню. Но между Первой и Второй улицами заметил часовню священных сердец Иисуса и Девы Марии. Повинуясь импульсу, он вошел в часовню, залюбовался витражами и живописным полотном, изображающим ангела, который обнимал отчаявшегося человека. Отец опустился на колени и стал молиться.
Тем же вечером в офисе окружного прокурора в нижнем Манхэттене мама делала примерно то же самое. Она, ее секретарша Элси и сотрудница Регина, у которой был сан священнослужителя баптистской церкви, взялись за руки, закрыли глаза и образовали круг. Над ними возносился голос Регины: «Господь милостивый, вылечи эту молодую женщину. Услышь нас, Господи, услышь наши молитвы. Мы молимся за излечение этой девушки, за то, чтобы ей стало лучше. Услышь наши молитвы. Пожалуйста, услышь». Моя мама, циничная еврейка из Бронкса, агностик до мозга костей, клянется, что в тот момент ощутила присутствие Бога.
Тем временем, ничего не подозревая о терзаниях своих родителей, я написала сообщение своей подруге по колледжу Линдси, которая жила в Сент-Луисе. «Мне сделают мозгопсию!» – «Что? Что это значит?» – ответила Линдси, не поняв мою спутанную речь. – «Возьмут у меня кусочек мозга!»
Мой друг Зак – тот самый, что присматривал за моей кошкой вместе с другой коллегой и подругой с работы, Джинджер, – тоже позвонил в тот день. Я сообщила ему новость в той же манере – словно поделилась, что ела в тот день на обед.
– Мне сделают мозгопсию, – выпалила я.
– Погоди, Сюзанна. Тебе будут делать операцию на мозге? – встревоженно спросил он. Впервые кто-то при мне ясно выразил свое волнение по поводу этой опасной процедуры. Я заплакала от страха и растерянности и наконец повесила трубку, от расстройства не в силах продолжать разговор.
Наступили пасхальные выходные. В субботу пришла главная медсестра хирургического отделения и описала процедуру подготовки к нейрохирургической операции. Она держалась весьма оптимистично, и по ее виду можно было сделать вывод, что биопсия мозга – обычное дело. Но папа все равно заплакал. Когда она сообщила о том, что мне придется побрить голову – выбрить полосу длиной примерно 10 сантиметров над правой половиной лба, – я бесстрастно выслушала ее, и отца поразило то, с каким достоинством я держалась. Лишь позже тем вечером я дала слабину. Увидев, что я расстроилась, отец тоже заплакал. А потом услышал, что я смеюсь.
– Какой ты смешной, когда плачешь, – хихикала я.
Мы оба начали плакать и смеяться. Сквозь слезы он напомнил мне нашу поговорку.
– Если тебе легко, что это значит?
– Хм… – Я забыла ответ.
– Значит, ты летишь в пропасть. А если трудно?
– Хм. – Я приподняла руку, показывая подъем вверх.
– Точно. Значит, поднимаешься в гору.
На следующий день было пасхальное воскресенье, и папа принес мне праздничную корзинку – такую же, что дарил каждый год с самого детства, с шоколадными конфетами и желейными бобами. Он с радостью смотрел, как я, словно дитя малое, с горящими глазами набросилась на конфеты.
В понедельник утром родители приехали пораньше, обуреваемые страхом и волнением. Я, в свою очередь, казалась неестественно спокойной. Наконец, санитар, похожий на главаря банды мотоциклистов, уложил меня на каталку и повез в хирургическое отделение. Родители выждали несколько секунд. Забыв о годах предательства, эмоционального отчуждения и мелочных ссор, они коротко обнялись и тихонько поплакали вместе.
Хирургическое отделение больницы было картиной из будущего – стерильное помещение с дверями, ведущими в операционные. Никаких тебе пейзажных полотен на стенах и успокаивающей музыки: здесь велись самые серьезные операции. Мы ждали в закутке перед лифтами, отгороженном большими прозрачными вертикальными шторами. По ту сторону перегородки все были в хирургических халатах.
Подошел ординатор хирургического отделения, чтобы выбрить мне голову. Он выбрил участок диаметром сантиметров двенадцать, и, хотя я была в полном сознании, я не закричала, не стала звать на помощь и не заплакала. Отец снова восхитился моей силой духа, хотя, вероятно, я просто не догадывалась, что на самом деле происходит. Я сидела на кушетке с невозмутимым видом, с завернутой в полотенце головой, и выглядела так, будто только что вышла после спа-процедур.
Борясь со слезами, отец опустился рядом со мной на колени.
– Помни, что я тебе говорил. Если тебе трудно…
– Значит, я поднимаюсь в гору.
– То есть идешь вверх.
– То есть иду вверх.
Нейрохирург Вернер Дойл надел халат и приготовился к операции. Он вошел в операционную в сопровождении медсестры и анестезиолога. Хотя процедура биопсии мозга относительно безопасна, всегда существует риск инфекции или врачебной ошибки: например, врачи могли неверно определить участок мозга, с которого берется образец. Но все же по сравнению с более сложными операциями, которые доктор Дойл привык проводить у эпилептиков, биопсия мозга была довольно простой процедурой.
К компьютеру и рабочей станции хирурга подключили новый аппарат МРТ. Доктор Дойл выбрал участок в префронтальной коре без крупных дренирующих вен, находящийся дальше всего от отделов мозга, ответственных за моторные функции. Меня подкатили к операционному столу и продезинфицировали кожу головы. Затем ввели общий наркоз.
– Считайте от 100 до 1, – велел анестезиолог.
– 100… 99…
Мои глаза закрылись, и голову закрепили в держателе у висков, чтобы я не шевельнулась. При помощи скальпеля доктор Дойл сделал S-образный надрез в правой передней четверти головы, примерно на четыре сантиметра правее центральной линии черепа. Нижняя загогулинка буквы S чуть выходила за линию роста волос. Острым лезвием он раздвинул кожу и закрепил ее с двух сторон расширителями. Зажав в руках высокоскоростную дрель, он ловко, как искусный плотник, просверлил в черепной кости отверстие диаметром 1 см. Затем расширил его краниотомом – дрелью со сверлом большего диаметра, – размолов кость в муку. Удалив 3-сантиметровый кусок костной пластины, обнажил твердую мозговую оболочку – наружный защитный слой мозга – и взял образец ткани, чтобы впоследствии отправить его на анализ вместе с мозговой тканью.
При помощи тонкого скальпеля № 11 и диссектора он вырезал несколько кусочков ткани общим объемом примерно 1 кубический сантиметр. Среди них было белое вещество (нервные волокна) и серое вещество (тела нейронов). Он отложил образцы для будущих исследований, а один отправил на заморозку на случай, если понадобятся дополнительные анализы. Затем промокнул мозговое вещество и остановил кровотечение при помощи хирургического тампона.
Затем он очень аккуратно наложил шов на твердую оболочку мозга и вернул на место костяную пластину. Он сдвинул ее вбок, вдавив в кость черепа, чтобы кости соединились; затем закрепил шурупами и маленькой металлической пластинкой. В конце процедуры хирург вернул внешний кожный слой в первоначальное положение и закрепил кожу головы металлическими скобами. Операция заняла четыре часа.
– Считайте от 100 до 1, – произносит чей-то голос.
– 100… 99… 98…
Темнота.
Я моргаю – раз, другой, третий. «Я все еще в сознании».
Темнота.
В послеоперационной полно народу. Но я одна. Справа от меня вокруг койки другого пациента собралась семья. А где мои родители?
И тут я их вижу. Маму и папу. Я не могу пошевелиться.
А потом вижу Стивена и Аллена. Пытаюсь поднять руку и помахать им, но она как чугунная.
И снова темнота.
– Я хочу пить. – Голос охрип. – Пить.
– Вот, – деловито произносит сестра и кладет мне в рот пропитанную водой губку.
Губка неприятно шероховатая, но вода – как дар свыше. Высасываю все до капли.
– Пить.
Мне дают еще одну губку. Слышу, как родители ребенка, который лежит на соседней койке, дают ему кусочки льда. Поднимаю руку. Мне тоже хочется льда. Подходит медбрат.
– Льда.
Он приносит мне несколько кусочков и кладет на язык. Слышу голос медсестры – та велит ему больше не давать мне воды.
– Ей нельзя пить. Не обращай на нее внимания.
– Воды, воды, – умоляю я.
Она подходит ко мне.
– Извините, но вам больше нельзя пить.
– Я всем расскажу, как вы надо мной издевались. Я всем расскажу, когда выйду отсюда.
– Что вы сказали? – Ее тон меня пугает.
– Ничего.
И снова темнота.
Я в тесной одиночной каморке. Мне нужно в туалет. Мне нужно в туалет. Я напрягаюсь. Катетер выскакивает, и моча разливается по кровати. Заходит медсестра.
– Я разлила…
Вбегает еще одна сестра. Они переворачивают меня на левый бок, снимают простыни, обмывают меня теплыми полотенцами и чем-то спрыскивают. Затем поворачивают на правый бок и повторяют процедуру. Мне приятно. Но я не могу пошевелиться. Я собираюсь и приказываю себе пошевелить пальцами ног. Напрягаюсь так сильно, что голова начинает болеть. Но пальцы не шевелятся.
– Я не могу пошевелить ногами, – кричу я.
Через некоторое время после операции, примерно в 23 часа, медсестра сообщила отцу, что меня перевели из послеоперационной палаты в отделение интенсивной терапии. Его не позвали ко мне, но он все равно пришел – один. Именно папа решил остаться и ждать новостей, в то время как другие уехали домой по настоянию медицинского персонала. В отделении интенсивной терапии было несколько отсеков; в каждом размещалось по одному пациенту. Повсюду сновали медсестры, но на папу никто даже не взглянул. Проверив отсеки по очереди, он наконец нашел меня.
Я лежала на подушках, с головой, замотанной белой марлей, и была похожа на больную принцессу из восточной сказки. Со всех сторон ко мне были подсоединены мониторы и аппараты, они жужжали и сигналили; на ноги мне надели бежевые компрессионные чулки для поддержания нормального кровяного давления. Когда папа встретился со мной взглядом, я сразу его узнала (а это бывало не всегда). Мы обнялись.
– Худшее позади, Сюзанна.
– Где мама? – спросила я.
– Завтра придет, – ответил он.
Он понял, что я расстроилась из-за того, что мама ушла, хотя она правильно поступила, отправившись домой в тот вечер.
– Пап, я ног не чувствую, – уверенно проговорила я.
– Точно, Сюзанна? – спросил папа, побледнев от страха. Именно это пугало моих родителей больше всего – что операция на мозге нанесет непоправимый вред.
– Да. Пальцы не шевелятся.
Отец тут же вызвал молодого ординатора. Тот вошел и осмотрел меня, а затем повез на экстренную МРТ. Папа молча шагал рядом с каталкой и держал меня за руку; оператор МРТ завез меня в кабинет и велел папе ждать. Позднее отец признался, что за эти тридцать минут потерял пять лет жизни. Но в конце концов молодой врач вышел и сообщил ему, что беспокоиться не о чем.
Отец оставался со мной, пока я не заснула, а потом вернулся домой, лег в постель, помолился и провалился в беспокойный сон.
28. Сумрачный противник
После операции меня поместили в общую палату в эпилептическом отделении. Соседка, женщина лет тридцати с небольшим, страдала от припадков, возникавших при употреблении спиртного (хотя обычно бывает наоборот – припадки случаются при отказе от алкоголя при алкогольной зависимости). Она то и дело умоляла сестер дать ей немного вина, чтобы зарегистрировать припадок. Но те не разрешали.
Результаты биопсии подтвердили предположения врачебной коллегии: у меня было воспаление мозга. Доктор Наджар продемонстрировал нам слайды, на которых целая армия агрессивных клеток моей собственной иммунной системы атаковала нейроны мозга – типичная картина энцефалита.
Именно эти данные надеялся получить доктор Наджар: мой организм попал в тиски неизвестного аутоиммунного заболевания.
Теперь, когда у врачей был хоть и неопределенный, но диагноз, можно было приступить к первой фазе лечения – внутривенному введению стероидов. Эта разновидность терапии уменьшает воспаление, вызванное собственной иммунной системой организма.
Три дня, каждые шесть часов мне проводили интенсивную терапию стероидами, и у моей кровати висел прозрачный пластиковый пакет с солу-медролом. Стероиды такого типа – кортикостероиды – подавляют иммунную систему, препятствуя появлению новых воспалительных очагов.
Затем меня перевели на 60 мг преднизона перорально – эта доза была мягче и продолжала воздействовать на воспаление, уменьшая его постепенно.
Поскольку кортикостероиды влияют на уровень сахара в крови, одним из развившихся у меня осложнений был диабет II типа. Хотя врачи изменили мой рацион (на десерт мне давали только желе без сахара), мои родители упустили из виду оставшиеся с Пасхи конфеты, которые я продолжала поедать. Я соблюдала постельный режим, и мне надели компрессионные чулки, которые надувались и сдувались, улучшая кровоток в ногах и имитируя сокращение и расслабление мышц во время физической активности. Но от чулок ноги чесались и потели – я не преминула сообщить об этом всем, – и поэтому каждую ночь я их снимала.
Несмотря на новое интенсивное лечение стероидами, мое состояние улучшилось не сразу. По правде говоря, сначала мне стало хуже: странные движения рук по вечерам и панические атаки участились. Вот что писал отец о моих непрекращающихся трудностях в журнале, который они с мамой вели по очереди: «На лице у нее появилась странная ухмылка. Она напряглась, вытянула руки прямо перед собой; лицо исказила гримаса, она вся напряглась и затряслась».
Но я по-прежнему находила в себе силы «собираться» при посторонних. Вскоре после операции ко мне пришла Ханна и чуть не прыснула, увидев меня в диковинном тюрбане из бинтов.
Я держалась молодцом.
– Буду теперь лысая! – с улыбкой заявила я и сунула в рот пасхальную конфетку.
– То есть как? Тебя побрили?
– Наголо!
– Тебе нужно такое лекарство, которое лысеющим мужикам прописывают.
Мы обе расхохотались.
Видеозапись из палаты, 12 апреля, 8.12, 7 минутНа мне белая хирургическая шапочка; я лежу, положив ногу на ногу, как будто загораю в шезлонге. Розовый рюкзак с переносным аппаратом для ЭЭГ лежит на животе. Встаю и иду к двери. Движения прерывистые, болезненно замедленные. Вытягиваю перед собой левую руку.
– Вот эта зеленая кнопка? – раздается за кадром мамин голос (она имеет в виду кнопку вызова медсестры на поручне кровати в случае припадка или приступа).
Мама появляется в кадре и садится у окна.
Я ложусь в кровать. Мама встает, наклоняется надо мной, а потом нажимает кнопку вызова. Приходит Эдвард и проводит неврологический осмотр: показывает, что нужно сделать, а я повторяю. Он вытягивает руки. Я повторяю, но не сразу. Он касается указательного пальца моей левой руки и велит мне закрыть глаза и поднести палец к лицу. Через секунду я выполняю его указания. Потом делаю то же самое правой рукой.
Эдвард уходит, а я тянусь за покрывалом. У меня уходит десять секунд, чтобы только лечь в кровать. Тем временем мама нервничает. Заглядывает в сумочку, кладет ногу на ногу, но потом выпрямляет ноги, и все это время смотрит на меня.
Конец записи.
На третий день в общей палате у моей соседки случился припадок. Она каким-то образом убедила медсестер дать ей вина. Поскольку они получили желаемое – физическое свидетельство припадка, – соседку вскоре выписали.
29. Болезнь Далмау
Позднее в палату зашла доктор Руссо и сообщила, какие болезни можно исключить из списка вероятных диагнозов. В их числе был гипертиреоз, лимфома и оптикомиелит (болезнь Девика) – редкое заболевание, по симптомам похожее на рассеянный склероз. Врачи по-прежнему подозревали, что у меня может быть гепатит (частая причина энцефалита), но подтверждений этому не нашли.
После беседы мама вышла за доктором Руссо в коридор.
– Так что же с ней, как думаете? – спросила она.
– Вообще-то, мы с доктором Наджаром даже поспорили.
– И о чем же?
– Он считает, что воспаление вызвано аутоиммунным заболеванием, а по мне так это паранеопластический синдром.
Мама начала расспрашивать, и доктор Руссо объяснила, что паранеопластический синдром является последствием раковой опухоли и, как правило, развивается параллельно с раком легких, груди или яичников. Симптомы – психоз, кататония и прочее – не имеют к раку отношения, но связаны с реакцией иммунной системы на это заболевание. Организм собирается с силами, чтобы противостоять опухоли, и в ходе этого процесса иногда атакует здоровые органы – например, спинной или головной мозг.
– Думаю, мои подозрения разумны, так как в прошлом у нее была меланома, – заключила доктор Руссо.
Мама совсем не это хотела услышать. Она больше всего боялась рака – даже слово это не осмеливалась произнести. А теперь эта врач упоминает о раке походя – она, видите ли, поспорила!
Тем временем в университет Пенсильвании прибыли две пластиковые пробирки в пенопластовых контейнерах; их привез фургон службы доставки в специальной холодильной камере. В одной была прозрачная спинномозговая жидкость, чистая, как нефильтрованная вода; в другой – кровь, больше похожая на мочу человека, страдающего обезвоживанием (со временем красные кровяные тельца оседают на дно). На пробирки был нанесен код 0933 и мои инициалы – СК, а хранились они в морозильной камере при температуре −80, ожидая начала лабораторного анализа. В лаборатории их должен был проверить нейроонколог Джозеф Далмау – тот самый, о котором рассказывал доктор Наджар в свой первый приход и которому писала доктор Руссо с просьбой рассмотреть мой случай.
Четыре года назад, в 2005-м, в неврологическом журнале «Анналы неврологии» была опубликована статья коллектива авторов под руководством доктора Далмау. В статье описывались случаи четырех молодых женщин с острыми психиатрическими симптомами и энцефалитом. У всех четырех в спинномозговой жидкости обнаружили повышенное содержание лейкоцитов; у всех четырех отмечались спутанность восприятия, нарушение памяти, галлюцинации, бред, проблемы с дыханием, и у всех четырех была особая разновидность опухоли яичников – тератома. Но главной находкой было то, что у всех четырех пациенток обнаружили одинаковые антитела, атакующие определенные отделы мозга (главным образом, гиппокамп). Это сочетание – опухоль и реакция антител – вызывало у женщин очень болезненное состояние.
Доктор Далмау заметил нечто общее у пациенток; теперь же он взялся изучать сами антитела-виновники. Он и его команда ночью и днем работали над сложнейшим экспериментом, изучая замороженные участки мозга крыс, нарезанные на тонкие, как бумага, ломтики и подвергнутые контакту со спинномозговой жидкостью четырех пациенток. Ученые надеялись, что антитела из спинномозговой жидкости свяжутся с определенным видом рецепторов в мозгу крыс, продемонстрировав характерный рисунок нейронных связей. Прежде чем им удалось наконец выявить этот рисунок, прошло восемь месяцев.
Доктор Далмау подготовил крысиные образцы, поместив на каждый немного спинномозговой жидкости от каждой пациентки. И через двадцать четыре часа произошло следующее:
Невооруженному глазу ученых предстали четыре красивых орнамента, напоминающие наскальную живопись или абстрактный узор на морской раковине, – доказательство того, как антитела связываются с рецепторами. «Это был очень волнующий момент, – вспоминал доктор Далмау. – До этого мы ни в чем не были уверены. Теперь же мы убедились, что всех четырех пациенток объединяло не только одно заболевание, но и один тип антител».
Он объяснил, что в гиппокампе крыс наблюдалась более явная реакция, но это было лишь начало исследований. Теперь перед учеными стоял гораздо более сложный вопрос: какие именно рецепторы атакуют эти антитела?
Методом проб, ошибок и обоснованных предположений (какие рецепторы более распространены в области гиппокампа?) доктору Далмау с коллегами наконец удалось выявить цель атаки.
Ученые получили ответ: виновниками заболевания были антитела, связывающиеся с NMDA-рецепторами.
NMDA-рецепторы – важнейшие регуляторы механизма обучения, памяти и поведения и основные участники химических процессов в мозгу. Их дисфункция чревата нарушениями психической и физической деятельности.
У тех несчастных, кому не повезло заболеть анти-NMDA-рецепторным энцефалитом, антитела, обычно имеющие самые благие намерения, «предают» организм и становятся в мозгу незваными гостями. Отыскав свои рецепторы, они припечатывают поверхность нейронов поцелуем смерти, их способности посылать и получать важнейшие химические импульсы.
Несколько экспериментов пролили свет на то, насколько важны эти рецепторы. Достаточно уменьшить их число на сорок процентов, и у человека начинается психоз; на семьдесят процентов – и мы получим кататонию.
В результате дополнительных исследований в 2007 году доктор Далмау с коллегами опубликовали еще одну работу. В центре внимания были двенадцать женщин с аналогичными неврологическими симптомами, как и у первых четырех; теперь их состояние можно было охарактеризовать как синдром. У всех была тератома, и почти все были достаточно молодого возраста. Через год после публикации тот же диагноз был поставлен уже сотне пациентов; не у всех была тератома яичников, и не все были молодыми женщинами (среди пациентов были мужчины и немало детей). Это позволило доктору Далмау провести более тщательное изучение недавно открытой и все еще безымянной болезни.
«Почему бы не назвать ее болезнью Далмау?» – часто спрашивали его. Но ему не нравилось, как это звучало; к тому же в наше время уже не принято называть болезни по имени обнаружившего их ученого.
«Мне кажется, это неразумно. И нескромно», – пожав плечами, отвечал он.
К моменту моего поступления в больницу университета Нью-Йорка доктор Далмау усовершенствовал свой подход, разработав два анализа, позволяющих быстро и точно диагностировать болезнь. Получив мои образцы, он смог бы провести анализ спинномозговой жидкости, и если бы анти-NMDA-рецепторный энцефалит подтвердился, я стала бы 217-м человеком в мире, кому поставили такой диагноз с 2007 года. Возникает вопрос: если одной из лучших клиник мира понадобилось так много времени, чтобы дойти до этого шага, сколько еще людей болеют и не получают должного лечения? Скольким еще ставят психиатрические диагнозы, приговаривая их к жизни в психушке или приюте для умалишенных?
30. Ревень
На двадцать пятый день в больнице, через два дня после биопсии, когда предварительный диагноз уже был поставлен, врачи решили, что пора провести официальную оценку моих когнитивных способностей и определить некую «постоянную». Этот тест стал бы отправной точкой, поворотным моментом, от которого в будущем стали бы отсчитывать прогресс на различных этапах лечения. Итак, начиная с вечера 15 апреля ко мне два дня подряд приходили специалист по речевым патологиям и нейропсихолог, и каждый проводил отдельное обследование.
Эксперта по патологии речи звали Карен Гендал; она провела первый тест, начав с простых вопросов – как зовут, сколько лет, назовите пол. Вы живете в Калифорнии? В Нью-Йорке? Чистят ли бананы перед едой? Я хоть и не сразу, но сумела ответить на все вопросы. Но когда доктор Гендал стала спрашивать о менее конкретных вещах – «почему вы попали в больницу?» – я пришла в замешательство. (Правда, врачи тоже не знали ответа на этот вопрос, но я не смогла вспомнить даже простейшие симптомы.)
После нескольких отрывочных и спутанных попыток что-то объяснить я наконец проговорила:
– У меня не получается сформулировать мысли.
Врач кивнула: это был типичный ответ пациента, страдающего патологией речи, вызванной повреждениями мозга.
Доктор Гендал попросила меня высунуть язык, и от усилия тот задрожал. У меня была снижена амплитуда движения языка в обе стороны, что усугубляло трудности с речью.
– Улыбнитесь, пожалуйста.
Я попыталась, но лицевые мышцы настолько ослабли, что у меня ничего не вышло. «Гипотонус», – записала в своем блокноте доктор Гендал и также отметила, что я рассеянна. При разговоре слова не сопровождались эмоциональной реакцией.
Она перешла к оценке когнитивных способностей. Подняв ручку, спросила:
– Что это?
– Тучка, – ответила я.
Для человека с такой степенью мозговых нарушений, как у меня, в подобном ответе тоже не было ничего необычного. В медицине это называется парафазией – когда одно слово заменяется другим, со схожим звучанием.
Далее врач попросила меня написать мое имя, и я с трудом вывела букву С, многократно обвела ее и только тогда перешла к Ю. Все следующие буквы я тоже обводила. Чтобы написать имя целиком, потребовалось несколько минут.
– Теперь напишите: «Сегодня хороший день».
Я принялась вырисовывать буквы, обводя их по нескольку раз и сделав несколько орфографических ошибок. Почерк был настолько неразборчивым, что расшифровать написанное было практически невозможно.
Вот что она записала в своем отчете: «Поскольку прошло всего два дня после операции, сложно сказать, в какой степени коммуникативные дефекты обоснованы медикаментозным лечением или когнитивными нарушениями. Но очевидно, что коммуникативная функция существенно снизилась по сравнению с периодом до начала заболевания, когда пациентка работала в местной газете и была успешным журналистом». Другими словами, между «мной прежней» и «мной настоящей» наблюдалась существенная разница, но в тот момент по моей неспособности к речевому взаимодействию было трудно определить характер проблемы и то, являлась ли она временной или постоянной.
На следующее утро пришла нейропсихолог Крис Моррисон, у нее была копна рыже-каштановых волос, убранных в высокую прическу, и сияющие светло-карие глаза в зеленую крапинку. Ей предстояло протестировать меня по сокращенной шкале Векслера[17], а также провести ряд других тестов с целью выявить самые разные отклонения – от расстройства внимания до мозговой травмы. Но когда она вошла в палату, я была настолько невосприимчива, что почти ее не замечала.
– Назовите ваше имя, – бодро проговорила она, задавая все те основные ориентирующие вопросы, на которые я уже дала правильные ответы.
Вопросы следующего этапа призваны были оценить внимание, скорость обработки информации и рабочую память, которую она сравнила с оперативным запоминающим устройством компьютера (ОЗУ): «Сколько программ вы можете “открыть” одновременно? Сколько данных можете удерживать в голове одновременно, выдавая информацию по требованию?»
Доктор Моррисон перечислила случайные цифры от 1 до 9 и попросила воспроизвести последовательность. Когда цифр стало пять, пришлось прекратить, хотя обычно человек моего возраста и интеллектуального уровня может повторить последовательность из семи цифр.
Далее она проверила процесс вспоминания слов – хорошо ли работает доступ к моему «банку памяти».
– Назовите как можно больше видов овощей и фруктов, – велела она и поставила таймер на одну минуту.
– Яблоки, – выпалила я. Обычно все начинают с яблок, а у меня в последнее время они постоянно были на уме. – Морковь. Груши. Бананы. – Пауза. – Ревень.
Доктор Моррисон про себя усмехнулась. Минута прошла. Я назвала пять видов фруктов и овощей; здоровый человек может назвать больше двадцати. Доктор Моррисон понимала, что я знаю гораздо больше; проблема заключалась в том, что мне не удавалось извлечь названия фруктов из памяти.
Затем она показала мне карточки с предметами повседневного обихода. Мне удалось вспомнить лишь пять предметов из десяти; такие слова, как «воздушный змей» и «плоскогубцы», начисто стерлись из памяти, хоть я и старалась вспомнить изо всех сил – слова буквально вертелись на языке.
Настал черед проверить мою способность воспринимать и обрабатывать информацию из внешнего мира. Для точного восприятия объекта человек должен связать воедино множество различных сигналов. Например, чтобы увидеть стол, мы сперва должны увидеть линии, сходящиеся под определенными углами, затем цвет, контраст и глубину; вся эта информация отправляется в банк памяти, где к ней присоединяется слово и, в зависимости от предмета, эмоциональное содержание (например, у журналистов стол может ассоциироваться с чувством вины из-за пропущенных дедлайнов). Чтобы протестировать эту совокупность навыков, доктор Моррисон заставила меня сравнить размер и форму различных предметов. Этот тест я сдала по нижней границе среднего результата, и доктор Моррисон решила перейти к более сложным заданиям.
Достав набор красных и белых кубиков, она разложила их передо мной на раскладном подносе, а затем показала картинку-образец и попросила разложить кубики по образцу, включив таймер.
Я долго смотрела на картинку и на кубики, а потом разложила их совсем не так, как на картинке. Сравнив свой результат с изображением, я поменяла несколько кубиков местами; лучше не стало, но я не сдавалась. Моррисон сделала пометку: «настойчиво пытается». Кажется, я понимала, что складываю кубики неправильно, и это глубоко меня расстраивало. Было очевидно, что, несмотря на все нарушения восприятия, я все же осознавала, что мои способности уже не те.
Далее мне необходимо было скопировать сложный геометрический орнамент на миллиметровой бумаге, но тут я показала себя так слабо, что доктор Моррисон решила вовсе прекратить тест. Я начала нервничать, и она волновалась, что если продолжить, мне станет только хуже. Доктор Моррисон пришла к выводу, что, несмотря на когнитивные нарушения, я очень остро осознаю, что утратила способность делать многие вещи. В отчете, составленном в тот же день, она отметила, что «настоятельно рекомендует» проведение когнитивной терапии.
31. Великое открытие
После обеда отец пытался заинтересовать меня игрой в карты, но тут нагрянула доктор Руссо и остальная команда.
– Мистер Кэхалан, – сообщила Руссо. – Пришли результаты анализов. Они положительные.
Папа выронил карты и схватил свой блокнот. Доктор Руссо продолжала: пришло сообщение от доктора Далмау, который подтвердил диагноз. Слова Руссо вонзались в него, как шрапнель – пах! пах! пах! – NMDA, антитела, опухоль, химиотерапия. Он изо всех сил старался слушать внимательно, но в голове у него отложилась лишь одна, главная часть объяснения: мой иммунитет сошел с катушек и начал атаковать мозг.
– Извините, – прервал он ее обстрел, – еще разок, как называется болезнь?
Он записал «NMDA» заглавными буквами.
Доктор Руссо объяснила, что анти-NMDA-рецепторный энцефалит – это многоэтапное заболевание, на разных стадиях проявляющее себя абсолютно по-разному. У 70 процентов пациентов все начинается с невинных симптомов, аналогичных симптомам простуды или гриппа: головные боли, высокая температура, тошнота и рвота (однако неясно, подхватывают ли пациенты вирус из-за болезни или симптомы относятся к самому заболеванию). Как правило, через две недели после первоначальных «простудных» симптомов дают о себе знать психические нарушения: тревожность, бессонница, страх, мания величия, гиперрелигиозность, маниакальные идеи и паранойя. Поскольку все эти симптомы относятся к психиатрии, большинство пациентов первым делом обращаются именно к психиатрам.
Припадки начинаются у 75 процентов, и это хорошо, потому что благодаря им пациенты покидают кабинеты психотерапевтов и оказываются на приеме у невролога. Следующий этап – речевые патологии и нарушения памяти; однако их часто не замечают за более проявленными психиатрическими симптомами.
Папа вздохнул с облегчением. Его успокаивало то, что моя болезнь наконец получила название, хоть он и не до конца понимал все объяснения врача. Все, что сказала доктор Руссо, идеально соответствовало моему случаю, вплоть до аномального нервного тика, причмокивания губами, онемения языка и синхронизированных ригидных движений конечностей. Она добавила, что у пациентов часто развиваются симптомы, связанные с нарушением вегетативной нервной системы, например, повышается или понижается кровяное давление и учащается или урежается сердцебиение (как у меня).
Врачи успели вовремя: болезнь находилась на пиковой стадии развития, предшествовавшей нарушениям дыхания, коме и летальному исходу.
Когда доктор Руссо заговорила о том, что существует лечение, способное повернуть болезнь вспять, папа чуть не пал на колени и не начал благодарить Господа прямо там, в больничной палате. И все же доктор предупредила, что даже после постановки диагноза немало вопросов остается открытыми.
Хотя 75 процентов пациентов полностью выздоравливают или продолжают испытывать лишь незначительные побочные эффекты, более 20 процентов становятся инвалидами, а 4 процента ждет летальный исход, даже несмотря на своевременный диагноз. А «незначительные» побочные эффекты, по сути, могут означать, что я уже никогда не стану прежней Сюзанной: ко мне не вернется мой нрав, жизнелюбие и энтузиазм. «Незначительные» – очень уж туманное, размытое определение.
– Примерно в половине случаев причиной болезни является тератома – опухоль яичников. Но у оставшейся половины пациентов причина так и не установлена, – продолжала доктор Руссо.
Папа бросил на нее вопросительный взгляд: что еще за тератома?
Лучше бы он не знал. Когда один немецкий врач открыл эту опухоль в конце 1800-х годов, он назвал ее тератомой от греческого слова teraton – «монстр». Тератомы образуются в репродуктивных органах, мозге, на языке и шее и внешне напоминают загноившиеся колтуны волос. Они похожи на зубастиков – волосатых зубастых монстров из популярных в 1980-е фильмов ужасов. Радует лишь то, что обычно они доброкачественные, хотя бывают и исключения.
– Придется провести вагинальное УЗИ на предмет наличия опухоли, – заключила доктор Руссо. – Мы также проведем исследования и выясним, не связана ли болезнь с меланомой. Если так, то придется перейти к химиотерапии.
– К химиотерапии. – Отец повторил это слово, надеясь, что неправильно расслышал его. Но он ошибался.
Он взглянул на меня. Я смотрела в сторону, не участвуя в разговоре; казалось, я не осознаю всей важности этого момента. Но при слове «химиотерапия» моя грудь начала вздыматься, и я тяжело вздохнула. По щекам покатились слезы. Папа вскочил со стула и обнял меня. Я продолжала плакать, не говоря ни слова, а доктор Руссо тихо ждала, пока он меня не успокоит. Понимала ли я, что происходит, или просто почувствовала напряженную атмосферу в палате? Он не знал.
– Я больше не могу, – проговорила я; голос был высоким, но лишенным эмоций, несмотря на плач. – Я тут умираю.
– Я понимаю тебя, понимаю, – ответил он. Моя голова лежала у него на плече, и он чувствовал исходивший от волос запах клея. – Мы тебя вытащим.
Через полминуты я успокоилась, опустила голову на подушку и уставилась прямо перед собой. Доктор Руссо тихо заговорила:
– В целом новости хорошие, мистер Кэхалан. Доктор Наджар считает, что здоровье Сюзанны восстановится как минимум на 90 процентов.
– Она вернется к нам?
– Шансы очень высоки.
– Я хочу домой, – проговорила я.
– Мы над этим работаем, – с улыбкой ответила доктор Руссо.
За эти несколько недель я проделала путь от «проблемного» пациента, о котором был наслышан весь этаж, до любимицы отделения, «любопытного случая», привлекавшего в мою палату толпы врачей, интернов и ординаторов, которые надеялись хоть глазком взглянуть на ту самую девушку с неизвестным заболеванием. Поскольку мой диагноз прежде не ставили ни одному пациенту больницы при университете Нью-Йорка, неоперившиеся доктора немногим меня старше изучали меня, как животное в клетке зоопарка, показывали пальцем, бормотали что-то себе под нос и выгибали шеи, надеясь разглядеть меня получше, в то время как более опытные врачи вкратце описывали синдром.
На следующее утро после постановки диагноза папа кормил меня овсянкой и нарезанными бананами, и тут явилась группа ординаторов и студентов-медиков. Молодой человек, возглавлявший процессию будущих докторов медицины, объявил о моем диагнозе, будто меня не было в палате.
– А вот очень интересный случай, – проговорил он, приглашая войти команду примерно из шести человек. – У нее так называемый анти-NMDA-рецепторный энцефалит.
Все уставились на меня, а кое-кто даже негромко заохал и заахал. Отец стиснул зубы и попытался не обращать внимания на незваных гостей.
– Примерно в 50 процентах случаев болезнь вызывается тератомой яичников. Если это подтверждается, пациенткам нередко удаляют яичники в качестве меры предосторожности.
«Зрители» закивали, а я каким-то образом уловила смысл этих слов и заплакала.
Отец вскочил со стула. Он впервые услышал, что у меня могут удалить яичники, и, естественно, ему было не слишком приятно узнать об этом от этого мальца. Прирожденный боец и сильный для своего (да и не только для своего) возраста мужчина, папа кинулся на худосочного молодого врача и ткнул пальцем ему в лицо.
– А ну выметайтесь отсюда сейчас же! – проревел он, и его голос разнесся по палате. – И чтобы я вас больше не видел. Вон из палаты!
Молодой врач тут же лишился своего апломба. Даже не извинившись, он замахал руками, выгоняя остальных интернов в коридор, и скорее последовал за ними.
– Забудь, что слышала, Сюзанна, – сказал мне отец. – Они не ведают, что несут.
32. 90 процентов
В тот же день пришел дерматолог и провел полный осмотр кожных покровов, чтобы выявить меланому. Это заняло около тридцати минут – у меня очень много родинок. Но тщательно осмотрев меня, врач заключил, что, к счастью, никаких признаков меланомы нет. Тем вечером меня отвезли на каталке на второй этаж, в отделение радиологии, где провели УЗИ органов малого таза на предмет выявления тератомы.
Я просыпаюсь, хотя не спала. Я много раз представляла момент, когда узнаю пол своего будущего ребенка. В голове проносится мысль: «Надеюсь, это мальчик». Потом мысль исчезает. Я буду рада и мальчику, и девочке. Чувствую холодный металл передатчика на животе. Грудная стенка подскакивает к горлу, реагируя на холод. Все почти так, как я себе представляла. Но все же совсем не так.
Первое УЗИ так меня расстроило, что я отказалась от более информативного трансвагинального исследования. И все же, судя по результатам первого, хоть и не стопроцентно точного теста, никакой тератомы у меня не обнаружили. Огорчало лишь одно: обычно наличие тератомы – как ни парадоксально, как раз хороший знак. Пациенты с тератомой выздоравливают быстрее, чем остальные, хотя причину этого ученые пока не выявили.
На следующее утро доктор Наджар пришел один и поздоровался с моими родителями как со старыми друзьями. Теперь, когда мне поставили диагноз и выяснили, что тератомы нет, пора было решить, какое лечение спасет меня от болезни. Просчет со стороны Наджара мог означать, что я никогда не поправлюсь. Он всю ночь обдумывал возможные варианты, просыпаясь в холодном поту и обсуждая варианты с женой. Наконец, он решил действовать агрессивными методами. Ему не хотелось, чтобы наступило ухудшение: я и так уже была слишком близко к краю. Теребя кончики своих усов, глубоко погруженный в мысли, он изложил свой план действий.
– Мы пропишем ей стероиды, иммуноглобулин и плазмаферез, – заявил он.
Хотя доктор Наджар и был великолепным собеседником, иногда он почему-то считал, что пациенты должны понимать его напичканную медицинскими терминами речь, и общался с ними как с дипломированными неврологами.
– И что это нам даст? – спросила мама.
– Это атака с трех сторон: мы камень на камне оставим, – отвечал доктор Наджар, запутавшись в поговорке. – Воспалительный процесс в организме снимут стероиды. Затем плазмаферез очистит его от антител, а капельницы с иммуноглобулином дополнительно уменьшат содержание антител и нейтрализуют их. Мы победим болезнь наверняка.
– А когда ее выпишут? – спросил папа.
– Я бы выписал уже завтра, – ответил доктор Наджар. – Стероиды можно принимать в виде таблеток. Для проведения плазмафереза нужно будет вернуться в клинику, а капельницы с иммуноглобулином можно ставить и дома, если одобрит страховая компания. После этих процедур Сюзанна должна восстановиться как минимум на 90 процентов.
Хотя я не помню этот момент, родители сказали, что как только я услышала эти слова, то сразу начала вести себя иначе: видимо, новость о скором возвращении домой заставила меня воспрянуть духом. Доктор Руссо в обходном журнале заметила, что я стала «бодрее», а речь «улучшилась».
Домой! Я еду домой!
На следующее утро – в субботу, 18 апреля, – меня наконец выписали. Я провела в больнице двадцать восемь дней. Многие из медсестер – те, что мыли меня, делали мне уколы успокоительного, кормили, когда я не могла есть, – пришли со мной попрощаться. Медсестрам редко сообщают о том, что происходит с пациентами после того, как те выписываются из больницы, а у меня на момент выписки по-прежнему дела были плохи. В палату вошел невысокий сутулый мужчина с документами в руках. Он нашел для меня приходящую сестру, которая ухаживала бы за мной дома, и порекомендовал клинику, где я могла бы пройти восстановительное лечение. Мама взяла документы, но просмотрела их лишь вполглаза, отложив на потом. Сейчас мы ехали домой, и больше нас ничего не волновало.
Мама, папа, Аллен, Стивен и моя подруга Линдси, накануне прилетевшая из Сент-Луиса, взяли мои вещи – мягкие игрушки, диски, одежду, книги и туалетные принадлежности – и упаковали в прозрачные пластиковые пакеты с маркировкой больницы и надписью «Вещи пациента»; цветы и журналы брать не стали. Санитар помог мне сесть в кресло-каталку, а мама надела на ноги шлепки. Впервые за месяц я надевала обувь.
Накануне вечером папа написал объявление, в котором благодарил медсестер за поддержку. Он повесил его рядом с лифтами.
СПАСИБООт лица нашей дочери Сюзанны Кэхалан благодарим персонал эпилептического отделения медицинского центра при университете Нью-Йорка. В трудной и безысходной ситуации мы попали к вам, и вы встретили нас с профессионализмом и сочувствием. Сюзанна – чудесная девушка, и ваш тяжелый труд ради ее спасения не напрасен. Мы с ее матерью – ваши вечные должники. Нет дела важнее, чем то, которое каждый день делаете вы.
Рона НэкТом Кэхалан
Прогнозы на мой счет по-прежнему были неясны – мои шансы на улучшение описывали как «значительные», но никто не мог с уверенностью заявить, удастся ли мне выздороветь на те самые оптимистичные «90 процентов» и стану ли я когда-нибудь похожей на себя прежнюю. Однако у врачей был план. Я должна была принимать стероиды, пройти процедуру плазмафереза и курс иммуноглобулина. Но врачи знали о том, что даже через несколько месяцев после окончания лечения и даже на фоне приема иммунодепрессантов антитела могут продолжать свою разрушительную атаку. Таким образом, выздоровление становится болезненным процессом «два шага вперед – один назад».
Маме вручили список лекарств, которые мне предстояло принимать: преднизон, ативан, геодон, нексиум, колас. При этом в мыслях у всех маячила цифра 4 – процент летальных исходов при моей болезни. Даже с учетом всех этих средств и своевременного и правильного лечения люди все равно умирали. Да, мне поставили диагноз и прописали схему действий, которой мы должны были следовать, но все равно впереди меня ждал долгий путь, исход которого был неясен.
Мы со Стивеном и Линдси сели в «субару» Аллена. В начале марта, когда я попала в больницу, все еще была зима; теперь в Нью-Йорк пришла весна. Мы ехали в Саммит в тишине. Аллен включил радио и настроился на местную радиостанцию с популярными хитами. Линдси взглянула на меня – посмотреть, узнала ли я песню.
– Не разбивай мне сердце, – запел мужской голос.
– Не смогла бы, даже если б попыталась, – отвечал ему женский.
Когда мы ходили в караоке в колледже, я всегда выбирала именно эту песню. А сейчас Линдси сомневалась, помню ли я ее.
Я начала качать головой не в такт и махать руками, сгибая их под неестественными прямыми углами. Я двигала локтями взад-вперед, как робот, катающийся на лыжах. Был ли это очередной припадок или я просто танцевала под любимую старую песенку? Линдси так и не поняла.
33. Возвращение домой
В день моего возвращения мамин дом в Саммите выглядел особенно живописно. Лужайка зеленела свежей травой, цвели белые азалии, розово-фиолетовые рододендроны и желтые нарциссы. Солнечные лучи падали на кроны старых дубов, в тени которых прятался наш дом в колониальном стиле с каменным фасадом и коричневой дверью. Картина была прелестная, но никто так и не смог понять, замечала ли я это великолепие. Сама я ничего не помню. Я только смотрела прямо перед собой и причмокивала губами. Аллен свернул на дорожку к дому, где прошла почти вся моя юность.
Прежде всего мне захотелось принять душ. В моих волосах остались сгустки клея, похожие на комочки перхоти размером с небольшие камушки, а кожа головы была скреплена металлическими хирургическими скобами, поэтому слишком долго мокнуть под водой тоже было нельзя. Мама предложила помочь, но я отказалась, надеясь, что хоть это простое действие мне удастся осуществить самостоятельно.
Примерно через полчаса Линдси поднялась наверх проверить, как мои дела. Через щель в двери она увидела меня на кровати: я сидела вымытая, после душа, под неестественным углом изогнув ноги вбок и сражаясь с молнией на черной толстовке. У меня не получалось вдеть язычок в бегунок. Линдси понаблюдала за мной немного, не зная, как поступить: ей не хотелось меня смущать, стучать в дверь и предлагать помощь. Она понимала, что мне не нравится, когда со мной возятся. Но увидев, что я обмякла, выронила молнию и заплакала от отчаяния, все же вошла, села рядом и произнесла:
– Давай я тебе помогу, – и одним быстрым движением застегнула молнию.
Вечером Стивен приготовил пасту для тихого семейного праздника в честь моего возвращения. Аллен с мамой ушли, чтобы мы втроем могли побыть вместе. Мама так обрадовалась, что у моей болезни наконец появилось название; ей, кажется, удалось убедить себя в том, что худшее позади.
После ужина мы сели во дворике позади дома. Линдси со Стивеном разговаривали о чем-то, а я смотрела прямо перед собой, словно не слышала их. Потом они закурили; тогда я встала, не произнося ни слова, и ушла в дом.
– С ней все в порядке? – спросила Линдси.
– Да, мне кажется, ей просто нужно привыкнуть. Давай не будем ее беспокоить.
Они там вместе курят. А бог знает, чем еще им придет в голову заняться вместе?
Хватаю домашний телефон. Понимаю, что почему-то не помню мамин номер; смотрю в записной книжке сотового. Раздаются гудки.
«Вы позвонили Роне Нэк. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». Сигнал.
– Мам, – шепчу я, – он хочет меня бросить и уйти к ней! Пожалуйста, приходи домой. Приходи домой скорее и прекрати это!
Шагаю по комнате и подсматриваю за Стивеном через окно кухни, выходящее во двор. Он ловит мой взгляд и машет. Зачем ему больная? Что он здесь делает? Смотрю, как он машет, и не сомневаюсь: я потеряла его навсегда.
Прослушав голосовую почту, мама запаниковала: у меня снова начался психоз. До доктора Наджара часто трудно было дозвониться, и она набрала личный номер доктора Арслана, который тот дал ей за день до моей выписки. Она волновалась, что меня слишком рано выпустили из больницы.
– У нее паранойя, – проговорила мама. – Ей мерещится, что ее парень собирается сбежать с ее лучшей подругой.
Доктор Арслан встревожился:
– Боюсь, это признак обостряющегося психоза. Я бы дал ей двойную дозу ативана, чтобы успокоить на ночь, а завтра приходите ко мне на прием.
Но в моем случае возврат симптомов психоза на самом деле означал улучшение, поскольку в процессе выздоровления больной часто проходит все этапы в обратном порядке: психоз был у меня до кататонии, и по дороге к нормальному состоянию мне предстояло снова его пережить. Доктор Арслан не предупредил нас об этом, поскольку тогда ученые и врачи еще не знали, что при выздоровлении симптомы психоза часто возобновляются. Лишь два года спустя, в 2011-м, доктор Далмау опубликовал работу, в которой этой теме был посвящен целый раздел, и описание этапов заболевания стало достоянием широкой общественности.
Выходные закончились, и настало время Линдси уезжать. Они с нашим другом Джеффом (с которым мы часто распевали в караоке в Сент-Луисе) планировали вместе вернуться домой, преодолев путь продолжительностью в шестнадцать часов. Джефф приехал в Нью-Йорк по своим делам, не имевшим ко мне отношения. А когда Линдси позвонила ему, чтобы объяснить дорогу к моему дому, он сказал, что хочет со мной увидеться. Она предупредила, что я уже не та Сюзанна, что прежде.
Джефф позвонил в дверь, и мама впустила его. Он заметил меня под лестницей – я медленно шагала к двери. Сначала он увидел мою улыбку – застывшую, пустую, идиотскую ухмылку, которая его напугала. Потом я вытянула руки, слегка согнув их в локтях, точно пыталась выломать дверь. Джефф нервно улыбнулся и спросил:
– Как ты себя чувствуешь?
– Хооорооошоооооо, – отвечала я, растягивая слоги так, что на произнесение одного слова ушло несколько секунд.
Губы у меня почти не шевелились, но я очень пристально смотрела собеседнику прямо в глаза. Джеффу показалось, что я хочу что-то сообщить ему взглядом. Совсем как в фильме про зомби.
– Ты рада, что вернулась домой?
– Ддддааааааа, – отвечала я, снова растягивая гласные.
Джефф понятия не имел, что делать дальше, поэтому наклонился и обнял меня, прошептав мне на ухо:
– Сюзанна, знай: мы всегда рядом. Мы помним о тебе.
Я не смогла обнять его в ответ: руки не сгибались.
Линдси, стоявшая позади и наблюдавшая за этой сценой, приготовилась попрощаться. Она никогда не отличалась сентиментальностью; я ни разу не видела, чтобы она плакала. Все это время она держалась молодцом и ни разу не показала, какой невыносимо тяжелой стала для нее эта поездка. Но теперь не выдержала.
Уронив сумки на пол, она обняла меня. И я вдруг тоже заплакала.
Тем утром Линдси уехала, не зная, станет ли ее лучшая подруга когда-нибудь прежней.
34. Мне снится Калифорния
29 апреля, меньше чем через две недели после выписки из больницы, я вернулась в медицинский центр университета Нью-Йорка, чтобы пройти недельный курс плазмафереза. Поскольку выяснилось, что мои симптомы не имели отношения к эпилепсии, а связаны с аутоиммунным энцефалитом, меня поместили на семнадцатый этаж, в неврологическое отделение. В отличие от эпилептического отделения этот этаж в старом крыле еще не успели отремонтировать. Здесь не было плоскоэкранных телевизоров, вся обстановка казалась более обшарпанной, а пациенты – старше, слабее и в целом как-то ближе к смерти.
По вечерам пожилая женщина в одиночной палате в конце коридора кричала: «ПИЦЦА! ПИЦЦА!» Когда папа спросил, почему она так делает, медсестры ответили, что она любила пятницы, когда в столовой давали пиццу.
Моей соседкой по палате была толстая негритянка по имени Дебра Робинсон. Хотя Дебра болела диабетом, врачи считали, что основной причиной ее симптомов был рак толстой кишки, однако их теория пока не подтвердилась. Дебра страдала ожирением такой степени, что не могла сама встать с кровати и сходить в туалет. Она ходила на судно, отчего палата то и дело наполнялась мерзкими запахами. Но она каждый раз извинялась, и ее было невозможно не полюбить. Даже медсестры в ней души не чаяли.
Плазмаферез проводили через катетер, вставленный мне в шею. «О боже», – только и смог сказать Стивен, глядя, как медсестра вставляет иглу. Когда игла проткнула яремную вену, раздался хлопок. Удерживая катетер на месте, сестра закрепила его плотной клейкой лентой, похожей на малярную; она удерживала его в вертикальном положении, и он торчал перпендикулярно моей шее с правой стороны. Лента была сделана из такого грубого материала, что у меня на коже остались красные рубцы. Хотя ходить с катетером было ужасно неудобно, его нельзя было вынимать целую неделю, в течение всего курса лечения.
Обменное переливание плазмы возникло в конце 1800-х годов с появлением в Швеции сепаратора для сливок, при помощи которого творог отделяли от сыворотки. Этот простой механизм вдохновил ученых, и те попробовали применить его для отделения плазмы (желтоватой жидкости, содержащей антитела) от форменных элементов (красных и белых кровяных телец). Кровь проникает в клеточный сепаратор и раскручивается там, как в сушилке-центрифуге, расщепляясь на две составляющих – плазму и форменные элементы. Затем машина возвращает кровь в организм, заменяя взятую плазму, насыщенную антителами-вредителями, новой, богатой белками жидкостью, не содержащей антител. Один сеанс длится три часа. Мне прописали курс из пяти сеансов.
На этот раз моим друзьям можно было приходить и оставаться на любое время, и каждому я дала особое задание: Ханна должна была приносить журналы, моя школьная подруга Джен – ржаные бублики с семенами подсолнечника, маслом и помидорами, а Кэти – диетическую колу.
На четвертый день в больнице меня навестила Анджела. Ее по-прежнему шокировало то, как ужасно я выглядела. Вот как она описала меня в письме Полу: «Бледная, исхудавшая, сама не своя… На нее страшно смотреть». До выздоровления мне было еще далеко.
Последняя ночь в больнице. Соседке по палате Дебре только что сообщили новость: у нее действительно рак толстой кишки, но на ранней стадии. Дебра с медсестрами празднуют постановку диагноза. Сестры пришли за нее помолиться. Я понимаю, почему она рада, почему важно, чтобы у твоей болезни было название. Неизвестность гораздо хуже. Дебра молится с медсестрами и раз за разом повторяет: «Господь милостив. Господь милостив».
Я тянусь к выключателю и чувствую, что должна ей что-то сказать.
– Дебра?
– Да, дорогая?
– Господь милостив, Дебра. Господь милостив.
Наутро меня выписывают, и Стивен везет меня по Саммиту в машине мамы и Аллена. Мы проезжаем мимо «Фэйр-Оукс»[18] – старой психиатрической лечебницы, в которой сейчас находится центр реабилитации наркоманов; мимо школьного поля для лакросса, где я когда-то стояла на воротах; и «квартала 51» – многоквартирного дома на окраине, где много лет назад жили и устраивали вечеринки наши друзья. Потом встаем на светофоре, и Стивен включает магнитолу. В динамиках слышится бренчание испанских гитар в ритме фламенко.
«Пожухлые листья, серое небо. Я вышел на прогулку зимним днем». Стивен узнал песню – одну из наших любимых, песню, напомнившую ему о детстве. Его мама всегда слушала The Mamas and the Papas в машине. «Проходил по пути мимо церкви и зашел. Опустился на колени и стал молиться».
И как по команде, мы со Стивеном одновременно начали подпевать:
– Я мечтаю о Калифорнии в этот холодный зимний день.
Стивен на мгновение оторвался от дороги и удивленно и обрадованно взглянул на меня. Вот оно, наконец, подтверждение, которого он ждал все это время: я все еще была прежней.
Часть третья
В поисках утраченного времени
«У меня осталось лишь самое примитивное осознание своего существования, подобное тому, что, затаившись, проскальзывает иногда в глубинах животного сознания; даже пещерный человек обладал большей человечностью, чем я; но потом память – не о том месте, где я находился тогда, но о других местах, где я жил и, возможно, скоро окажусь, – возникла вдруг, словно веревка, опущенная кем-то с небес, чтобы помочь мне выкарабкаться из бездны небытия; сам бы я этого сделать никогда не смог».
Марсель Пруст «В поисках утраченного времени»
35. Видеозаписи
Вставляю в проигрыватель диск с надписью «Кэхалан, Сюзанна». Запись начинается. Я стою в центре экрана и вглядываюсь в объектив камеры. Больничная ночнушка сползла с левого плеча; волосы грязные, свалявшиеся.
– Пожалуйста, помогите, – говорю я.
Я лежу на спине, неподвижная, как статуя, и смотрю прямо перед собой; глаза – единственное, что выдает мой панический страх. Глаза поворачиваются и смотрят в камеру – на меня нынешнюю.
Такой страх не отражается на фотографиях или когда мы знаем, что нас снимают. Но сейчас я смотрю в камеру так, будто по ту сторону объектива – сама смерть. Никогда не видела себя такой незащищенной, такой расстроенной, и это меня пугает. При виде этой животной паники мне неуютно, но больше всего тревожит то, что эмоции, которые когда-то были такими сильными и буквально потрясали все мое существо, теперь исчезли без следа. Эта испуганная девушка на экране мне незнакома, она чужая, и я не представляю, что это значит – быть ей. Не будь у меня в руках этой электронной улики, никогда бы не подумала, что способна достичь такой степени сумасшествия и отчаяния.
Мой видеодвойник прячет лицо под одеялом, ухватившись за него так крепко, что белеют костяшки.
– Пожалуйста, помогите, – снова молит двойник.
Может, я смогу ему помочь?
36. Мягкие игрушки
«Каково это – быть другим человеком?» – спрашивают меня.
И у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что в тот сумрачный период моей жизни у меня, по сути, отсутствовало осознание себя как таковое; я утратила возможность анализировать, способность с уверенностью заявить: «Вот такая я сейчас. А такой была». И все же какие-то обрывки воспоминаний о тех нескольких неделях, что я провела в больнице, отложились в голове. Ближе к воссозданию того времени, когда я полностью утратила связь со своей истинной сущностью, мне уже не подойти.
Через несколько дней после того как меня в первый раз выписали, Стивен повез меня в гости к своей сестре Рэчел. Та жила в Чэтхеме, Нью-Джерси.
Помню вид, открывавшийся из моего окна. Мы проезжали по знакомым пригородным аллеям, усаженным рядами деревьев. Я смотрела в окно, а Стивен держал меня за руку свободной рукой. Думаю, мое возвращение в реальный мир нервировало его не меньше моего.
– Хорошая индейка, – вдруг проговорила я, когда мы свернули на дорожку к дому.
Я вспомнила вечер, когда Стивен принес мне в больницу остатки пасхального ужина – жареную индейку. Он засмеялся, я тоже улыбнулась, хотя в тот момент, наверное, и не понимала почему.
Стивен припарковался у навеса для хранения дров, под баскетбольным кольцом. Я потянулась к ручке двери, но мелкая моторика еще не восстановилась, и дверь я открыть не смогла. Стивен подбежал к моей дверце и помог мне выйти из машины.
Во дворе нас встречали сестры Стивена Рэчел и Бриджет и их маленькие дети – Эйден, Грейс и Одри. Они краем уха слышали, что со мной произошло, но Стивену было так больно об этом рассказывать, что можно сказать, они были не готовы к тому, что увидели. Бриджет и вовсе потрясло мое состояние.
Я была не причесана, покрасневший и воспаленный выбритый участок на голове все еще не зарос волосами; виднелись скреплявшие кожу металлические скобы. Веки слиплись от желтого гноя. Я ходила нетвердым шагом, как лунатик – одеревенелые руки были вытянуты вперед, глаза открыты, но взгляд не фокусировался. Тогда я понимала, что «не в себе», но понятия не имела, как глубоко шокировала внешняя перемена во мне тех, кто знал меня раньше.
Вспоминая моменты, подобные этому (а на раннем этапе моего выздоровления, когда я еще делала первые шаги, они случались часто), я жалею, что не могу помочь этому печальному, потерянному подобию себя, опустившись с небес и защитив его как ангел-хранитель.
Приказав себе не таращиться, Бриджет попыталась скрыть беспокойство – боялась, что я его почувствую, – но в итоге разволновалась еще сильнее. Мы с Рэчел познакомились на первом дне рождения ее дочери в октябре. Тогда я была открытым и разговорчивым человеком и в отличие от прошлых пассий Стивена меня ничуть не смущало то, что с родными его связывают столь близкие отношения. Теперь же перемена была разительной – колибри превратилась в ленивца.
В силу своего возраста Одри и Грейс не замечали, что что-то не так. Но общительный шестилетний Эйден держался в стороне: его явно нервировала странная новая Сюзанна, совсем не похожая на ту, которая играла с ним и подшучивала над ним всего пару месяцев назад. (Впоследствии он признался маме, что я напомнила ему умственно отсталого, с которым он часто встречался в городской библиотеке. А я даже в полуосознанном состоянии чувствовала его настороженность и не понимала, почему он так меня боится.)
И вот мы стояли на дорожке во дворе, пока Стивен раздавал подарки.
После выписки из больницы мне захотелось раздать мягкие игрушки, которых за время болезни накопилось немало. Я была благодарна тем, кто подарил их мне, но они вызывали у меня тревожные ассоциации с тем периодом, когда я снова впала в детство и стала беспомощной. Мне хотелось избавиться от них и подарить их детям. Эйден торопливо поблагодарил меня и спрятался за спину матери, а две его маленькие сестрички вцепились мне в ноги и пропищали: «Спасибо!»
Это воспоминание о первом случае взаимодействия с внешним миром – первом из многих – длилось всего пять минут. После того как Стивен раздал подарки, разговор утих; все присутствующие преодолевали внутреннее сопротивление, пытаясь поддерживать ничего не значащую беседу и одновременно игнорировать самое главное, что сейчас их занимало: мое ужасное состояние. Неужели теперь я буду такой всегда? Будь я собой, то попыталась бы заполнить неловкие паузы в разговоре. Но сегодня я этого не делала. Я молчала и не выказывала эмоций, а внутри кричала от отчаяния, мечтая сбежать от этого общения, причинявшего боль всем участникам.
Стивен почувствовал мою усилившуюся неловкость, положил ладонь мне на спину и повел меня в машину, где было безопасно; в машину, которая вернула нас домой, в маленький защищенный мирок, уединенное убежище. Хотя встреча с родственниками была краткой, прошла без казусов и на фоне других событий выглядела незначительной, в моей памяти она отпечаталась как поворотный момент первого этапа выздоровления, безапелляционно свидетельствовавший о том, какой болезненный и долгий путь мне еще предстояло пройти.
Ясно помню еще один случай, относящийся к тому же размытому периоду после выписки: первый раз, когда я увидела брата. Пока моя жизнь менялась безвозвратно, Джеймс заканчивал первый год обучения в университете Питтсбурга. Хотя он очень просил родителей разрешить ему меня навестить, те были неумолимы: он должен был окончить первый курс. И когда наконец все экзамены были позади, отец поехал в Питтсбург, чтобы привезти брата домой. Они ехали шесть часов, и за это время папа рассказал все, что мог, о событиях прошедших месяцев.
– Готовься, Джеймс, – предупредил он. – У тебя будет шок, но мы должны настроиться на лучшее.
Когда они приехали, нас со Стивеном не было дома. Отец высадил брата у входа – отношения между моими родителями улучшились, но не настолько, чтобы заходить друг к другу домой. Джеймс смотрел матч «Янкиз» по телевизору и с волнением ждал встречи со мной. А услышав, как скрипнула дверь черного хода, вскочил с дивана.
Позднее он признался, что эта картина – я на пороге дома – останется с ним навсегда. На мне были большие очки в поцарапанной оправе, белый кардиган, ставший на два размера больше, и черное платье средней длины, сидевшее, как балахон. Лицо опухло, на нем застыла незнакомая гримаса. Шатаясь и опираясь на руку Стивена, я поднялась по ступенькам и вошла в дом. Казалось, я одновременно постарела лет на пятьдесят и помолодела на пятнадцать – гротескный гибрид старухи, потерявшей свою трость, и младенца, который только учится ходить. Хотя Джеймс смотрел на меня, я заметила его не сразу.
На меня эта встреча произвела столь же сильное впечатление. Джеймс всегда был для меня младшим братиком, а теперь вдруг в одночасье стал мужчиной – широкие плечи, щетина на подбородке. Он смотрел на меня, и смесь удивления и сочувствия на его лице была столь сокрушительной, что я рухнула на колени. Лишь увидев, как он смотрит на меня, я поняла, каким тяжелым все еще было мое состояние. Возможно, это осознание обрушилось на меня потому, что мы с братом были очень близки, а может, потому, что я всегда считала себя старшим другом «малыша Джеймса», его опекуном. Теперь же мы явно поменялись ролями.
Я так и сидела на пороге, и Джеймс с мамой подбежали и обняли меня. Мы все заплакали и принялись шептать: «Я люблю тебя».
37. Дикие сердцем
В свободное от врачей время родители разрешали мне одной прогуливаться в живописной центральной части Саммита и пить кофе в «Старбаксе» (хотя ездить к Стивену в Джерси на поезде мне еще было нельзя). Тогда меня повсюду возил Джеймс.
После возвращения из университета ему понадобилась примерно неделя, чтобы привыкнуть к своей новой тихой и рассеянной сестре. Мне всегда нравилось считать, что это я была для Джеймса проводником в мире самых последних тенденций: посылала ему диски Red Hot Chili Peppers в летний лагерь, дала впервые послушать Radiohead, достала билеты на концерт Дэвида Бирна в Питтсбурге. Но теперь он сам рассказывал мне о новинках: новых исполнителях, фильмах, которые мне просто необходимо было посмотреть. И мне было нечего добавить.
Хотя собеседник из меня был никудышный, Джеймс проводил со мной много времени. По вечерам он работал в ресторане недалеко от дома, но в свободное время возил меня в город в кафе-мороженое и покупал вазочку мятного мороженого с шоколадной крошкой и посыпкой – в те странные весенние и летние месяцы я попробовала этот десерт не меньше тридцати раз. Иногда мы ездили даже дважды в день. А еще по вечерам мы часто смотрели «Друзей». Раньше мне никогда не нравился этот сериал, но теперь я буквально зациклилась на нем, хотя Джеймс по-прежнему не особо его любил. Смеясь, я прикрывала рот руками, но потом забывала их убрать и так и держала. Спохватывалась лишь через несколько минут и тогда опускала.
Однажды я попросила Джеймса отвести меня в город на педикюр – у моего сводного брата скоро была свадьба. Он высадил меня в центре, и я сказала, что позвоню ему через час; но когда отец приехал в Саммит из Бруклина меня навестить, то обнаружил, что меня нет уже два часа и я так и не звонила (я зашла в «Старбакс» выпить кофе, а потом пошла в салон – это меня задержало). Началась паника. Меня стали искать по всему городу, и наконец отец остановился у «Маникюрного салона Ким».
Заглянув в тонированную витрину салона, он увидел меня в массажном кресле. Я сидела с застывшим видом и смотрела прямо перед собой – будто спала с открытыми глазами. С уголка нижней губы капала слюна. Другие клиентки салона – женщины средних лет, «мамочки из Саммита», как их называли, – уже нервно поглядывали в мою сторону. Их безмолвные взгляды как будто говорили: «Посмотри-ка на эту ненормальную!» Отец потом признался, что пришел в такую ярость, что вынужден был отойти от окна, прислониться к витрине соседнего магазина и успокоиться. И лишь через минуту он сделал глубокий вдох, вошел в салон с широкой улыбкой и произнес:
– Вот ты где, Сюзанна. А мы тебя искали!
На той же неделе мама взяла выходной и предложила пройтись по обувным магазинам на Манхэттене. В одном из бутиков в Верхнем Ист-Сайде я засмотрелась на туфли, и тут к маме подошла продавщица.
– Как тихо и спокойно она себя ведет! Какая милая девочка, – радостно заметила женщина. Она явно посчитала меня умственно отсталой.
– Она не милая, – процедила мама, придя в ярость.
Я, к счастью, не слышала их разговор.
На обратном пути в электричке я заснула на мамином плече. Из-за лекарств и остаточной когнитивной усталости моего выздоравливающего мозга попытки вести себя «нормально» всегда действовали на меня выматывающе.
В Саммите, спускаясь по ступеням с железнодорожной платформы, я вдруг услышала свое имя. Сначала я решила не обращать внимания. Мало того, что реальный мир и иллюзорный по-прежнему путались у меня в голове, мне сейчас меньше всего хотелось встретить кого-то из знакомых. Но меня окликнули еще раз. Я повернулась и увидела свою старую школьную подругу Кристи – та шла нам навстречу.
– Кристи, привет. – Я пыталась говорить громко и уверенно, но все равно получился шепот.
Мама заметила это и объяснилась за меня:
– Мы ездили в город пройтись по магазинам. Купили туфли. – Она приподняла пакеты.
– Здорово. – Кристи вежливо улыбнулась. Она слышала, что я заболела, но не подозревала, что проблема связана с неврологией. Наверное, думала, что я ногу сломала. – Как ты себя чувствуешь?
Как я ни пыталась призвать на помощь свою говорливость, которая некогда была моей отличительной чертой, на ее месте осталась лишь зияющая дыра. Внутри меня все так перепуталось и стало таким непонятным, что я стала неспособна на светские беседы. Я могла думать лишь о том, как горят мои щеки и потеют подмышки. В тот момент я поняла, какой это дар – умение общаться.
– Хороошооо. – Я протянула это слово, будто мой рот был набит манной кашей.
Мысли продолжали кружиться, натыкаясь на пустоту. «Ну скажи же что-нибудь, скажи!» – кричал мой внутренний голос, но безуспешно. Стоя в тишине, я чувствовала, как солнце обжигает плечи. Кристи встревоженно смотрела на меня. Неловкая пауза – и она помахала рукой, сославшись на то, что опаздывает.
– Рада была повидаться, – сказала она и повернулась, чтобы уйти.
Я кивнула и проводила ее взглядом. Она скрылась за дверью на станцию. Я же чуть не расплакалась прямо там, посреди улицы. В тот момент я чувствовала себя совершенно беспомощной – в особенности по сравнению с ощущением, охватывавшим меня на пике психоза: что мне, как сверхчеловеку, все подвластно. Догадавшись, насколько глубоки были мои переживания, мама взяла меня за руку и повела к машине.
Несмотря на то что я все еще вела себя как зомби и крайне нервировала этим окружающих, Джеймс, как и Стивен, порой замечал во мне проблески «старой» Сюзанны. Все надеялись, что рано или поздно она вернется. Однажды в гости заехала Ханна. Мы сидели в гостиной и смотрели «Синий бархат» – фильм моего любимого режиссера Дэвида Линча. Прошло примерно пятнадцать минут с начала фильма, и Джеймс с Ханной разговорились о том, как ужасно играют актеры. Я ничего не ответила, но намного позже, когда они говорили уже о другом, прервала их и заметила:
– Это нарочно. Плохая игра. Это ранний стиль Линча. В «Диких сердцем» они играют уже намного лучше.
Джеймс и Ханна замолчали, тихо кивая. В тот вечер никто ничего не сказал, но позднее они вспоминали этот момент как еще одно подтверждение тому, что моя прежняя личность не пострадала – она просто была еще глубоко запрятана.
38. Друзья
Не считая прогулок до «Старбакса», просмотра «Друзей» и поездок в кафе-мороженое, мои дни проходили в постоянном ожидании – я, как истосковавшийся щенок, ждала приездов Стивена. Тот приезжал в Саммит на пригородном поезде.
За руль мне было нельзя, и на станцию меня возили мама, Аллен или Джеймс. Как-то раз мы с мамой сидели в машине и ждали появления Стивена, и тут она воскликнула, показав пальцем на платформу:
– Вот он! Смотри, как изменился!
– Где?
Я оглядывала толпу. Но узнала его, лишь когда он остановился у моего окна. Он сбрил бороду и отрезал свои волосы длиной до подбородка: теперь у него была щеголеватая стрижка, волосы гладко зачесаны назад в стиле 1940-х. Он показался мне еще красивее, чем всегда. Глядя, как он садится в машину, я вдруг ощутила щемящее чувство благодарности за то, что мне встретился такой преданный и самоотверженный друг. Конечно, я знала об этом и раньше, но в этот момент меня переполнило глубокое чувство к нему.
Я поняла, что люблю его не только потому, что он не бросил меня, но и за то, что он наполнил мою жизнь ощущением безопасности и смыслом в сложнейший ее период. Я много раз спрашивала у него, почему он остался, и он всегда отвечал одинаково: «Потому что люблю тебя и хотел быть с тобой; потому что знал, что ты все еще там». Благодаря силе любви он продолжал видеть меня прежнюю, невзирая на все метаморфозы моей личности.
И хотя для Стивена, как он утверждал, я всегда оставалась той же «старой» Сюзанной, большинству людей с этим было сложнее. Через несколько дней я согласилась пойти на вечеринку в честь возвращения Брайана, одного из наших со Стивеном самых близких друзей. Тот ненадолго приехал домой из Остина, где сейчас жил.
Когда мы приехали, на заднем дворе дома его матери горел гриль и люди разных возрастов сидели вокруг, ели бургеры, играли в петанк и общались. Но стоило нам со Стивеном и его сестрами присоединиться к компании, как я буквально почувствовала «перемену ветра»: все принялись таращиться на меня, больную девушку. Хотя, скорее всего, мне это почудилось – ведь большинство приглашенных даже не знали о моей болезни, а многие видели меня впервые, – мне казалось, что я в центре внимания, и это внимание было мне совсем неприятно.
Но друзья, которые были на том же празднике, вспоминают, что я выглядела неестественно счастливой и улыбалась приклеенной, застывшей улыбкой до ушей. Может, это была маска, своего рода защитная броня, при помощи которой я пыталась отгородиться от пугающей меня толпы?
На вечеринке меня почти никто не расспрашивал о больнице, хотя те, кто слышал о моей беде, подходили настороженно, потупив глаза, – как будто им было стыдно, что они знали, хоть и мельком, о том, что случилось со мной. Этим людям казалось, что я ускользнула от них, а на смену пришел двойник Сюзанны, который лишь напоминал о том, каким человеком я была когда-то. А у меня в голове крутились вопросы: слышали ли они о том, что я лежала в больнице? Или им сказали, что я сошла с ума? Вместо того чтобы заговорить с ними, я сверлила их неподвижным взглядом, не в силах выдавить ни слова. Наконец я бросила все попытки завязать общение и сосредоточилась на поедании сочного арбуза и жаренных на гриле бургеров.
Однако рядом со мной был мой спаситель – Стивен. Его называли «заклинателем Сюзанны»: он каким-то образом чувствовал, что я хотела сказать. На празднике он стоял рядом и ни на минутку не выпускал меня из поля зрения. Когда к нам подходили люди, не знавшие о моей болезни, он брал разговор на себя – раньше не слишком общительному, прохладному, как все калифорнийцы, Стивену это было несвойственно, но теперь он чувствовал, что это необходимо. Когда я не могла говорить, он говорил за меня. Как и пластиковая улыбка, Стивен стал для меня еще одним слоем защитной брони.
В какой-то момент моя старая подруга Колин (она слышала о моей болезни от сестры Стивена Бриджет) заметила, что красный арбузный сок стекает по моему подбородку и капает на платье. Она пришла в замешательство: сказать мне или оставить все как есть? Ей не хотелось меня смущать, но и не хотелось, чтобы на вечеринке я разгуливала как бестолковый ребенок. К счастью, ей не пришлось ничего делать: Стивен заметил, что я испачкалась, и вытер сок с моего подбородка.
Мы пробыли на празднике примерно час, после чего я подала Стивену знак. Тот понимающе кивнул. Пора было идти домой.
Вторая организованная вылазка в люди пришлась на последнюю неделю мая – мой сводный брат Дэвид женился. Поначалу предполагалось, что я стану подружкой невесты, и я незадолго до болезни даже купила платье, но после выписки из больницы невеста деликатно намекнула, что, возможно, мне лучше не принимать участия в церемонии.
Тогда я подумала: ну, а как же иначе? Она меня стыдится.
Теперь я понимаю, что она просто беспокоилась обо мне, но тогда ее отказ выглядел доказательством того, что я стала для всех обузой. Я привыкла, что все наоборот, что все хотят со мной общаться, – до моей болезни мы со Стивеном ходили на свадьбу, и там нас назвали «самой веселой парой». Теперь же все меня стыдились. Это уязвляло меня, разрушительно действуя на мое и без того хрупкое достоинство, которое за последние месяцы подверглось такой мощной атаке.
И все же мне хотелось доказать невесте и остальным гостям, что я не совсем потеряла человеческий облик. Я выпрямила волосы утюжком, чтобы спрятать шрам от биопсии, купила ярко-розовое платье, а Стивен надел стильный костюм с узким галстуком. Прошел всего месяц со времени нашей поездки к Рэчел, а я уже шла на свадьбу. Для меня это был важный шаг на пути к выздоровлению. Период, когда я выглядела и вела себя заметно «не так», уже миновал, хотя лицо у меня по-прежнему было опухшим от стероидов, а речь сбивчивой и по большей части односложной. Но если не присматриваться слишком пристально, со стороны мы со Стивеном казались обычной парой хипстеров.
Церемония проходила в особняке в нью-йоркском Хадсон-Вэлли. Его ворота были увиты виноградом, а цветущее поле простиралось, насколько хватает глаз. Почти весь праздник мы со Стивеном простояли у импровизированной кухни, где сновали официанты с подносами закусок. На меня напал жуткий голод – возможно, из-за стероидов, повышающих аппетит.
В начале вечера мама заставила меня пообещать, что я выпью всего один бокал вина. Я, само собой, согласилась, но потом забыла и выпила несколько бокалов шампанского. Есть у меня одно качество, которое болезнь лишь усилила, – упрямство или настырность, зовите, как хотите.
Хотя мой мозг еще только начал восстанавливаться, а мешать алкоголь с антипсихотическими средствами, безусловно, очень опасно, я уперлась и решила, что должна выпить. Мне было все равно, если это окажет на меня разрушительное воздействие – мне казалось, что это осязаемый «мостик», связывающий меня с прежней Сюзанной. Прежняя Сюзанна всегда пила бокал или два бокала вина за ужином; значит, и новой положено так делать. Я разучилась читать, почти не могла поддерживать разговор и была не в состоянии водить машину, но, черт побери, выпить пару бокалов шампанского на свадьбе мне никто не мог запретить! Мама пыталась помешать, но знала, что не сможет противостоять моему упрямству: я бы все равно поступила по-своему. Алкоголь был для меня символом самостоятельности, и мои близкие решили, что лучше не растаптывать в прах то, что осталось от моего достоинства.
Когда начались танцы, мы со Стивеном даже вышли потанцевать твист. Мне тогда казалось, что я взорвала танцпол, игнорируя боль, ноющие лодыжки и тот факт, что теперь я уставала гораздо быстрее. (Но сводный брат потом рассказывал, что на танцполе я выглядела оглушенной и двигалась как робот, а вовсе не выделывала профессиональные па.)
Несмотря на все мои попытки выглядеть беззаботной и веселой, я с обострившейся чувствительностью воспринимала отношение ко мне других людей. Поскольку это был семейный праздник, все первым делом спрашивали: «Как дела?» На данном этапе я не могла ответить на этот вопрос. Но хуже было другое – фальшиво заинтересованный тон, которым со мной говорили, то, как отчетливо они выговаривали слова. Ко мне относились снисходительно, как к ребенку или очень пожилому человеку. Это действовало на меня угнетающе, но могла ли я их винить? Никто понятия не имел, что на самом деле творилось в моей голове.
Видя, что мне весело, мама радовалась, но тут ее безмолвную радость прервала одна из приглашенных.
– Очень жаль, что с Сюзанной такое случилось, – проговорила женщина и обняла маму. А мама не любит, когда к ней прикасаются чужие.
– Спасибо, – отвечала она, одним глазом продолжая присматривать за мной.
– Как это печально. Она так изменилась! В ней не осталось ни капли прежнего жизнелюбия. – Услышав эти слова, мама оторвалась от танцпола и смерила женщину уничтожающим взглядом. Нам теперь часто приходилось сталкиваться с бестактностью, но это был один из самых вопиющих случаев. – Как думаете, – продолжала гостья, – станет ли она когда-нибудь такой, как раньше?
Мама разгладила складки на платье – тоже розовом – и, покидая свою собеседницу, сквозь стиснутые зубы процедила:
– Она в полном порядке.
39. В пределах нормы
Хотя я существенно продвинулась на пути к выздоровлению, еще несколько месяцев центром моей вселенной были разноцветные пилюли, которые приходилось глотать шесть раз в день. Каждую неделю мама целый час раскладывала мои таблетки по ячейкам таблетницы размером с крышку обувной коробки. Бывало, что пропорции получалось рассчитать не сразу: дозировки были дробными и постоянно менялись. В таблетнице были отделения желтого, розового, голубого и зеленого цветов, семь вертикальных рядов на каждый день недели и четыре горизонтальных: утро, середина дня, вечер и перед сном. Эта таблетница стала моим постоянным спутником.
Я зависела от таблеток и не могла быть самостоятельной. Поэтому я их ненавидела. Они стали не просто символом моего инфантильного статуса – взрослый ребенок, живущий в мамином доме. От них я становилась сонной и заторможенной. Иногда я просто «забывала» их принимать (и это было очень опасно). Поскольку мне не хватало силы воли, чтобы просто выбросить их, я оставляла их в таблетнице. Мама замечала и отчитывала меня как малое дитя. В период выздоровления, который я провела в материнском доме, таблетки и связанные с ними ссоры неизменно ассоциировались у меня с ней. В практическом смысле мне нужна была мамина помощь, чтобы разложить таблетки по ячейкам, – ведь на тот момент для меня это задание было непосильным. Но на эмоциональном уровне мне стало казаться, что она, как и таблетки, символизировала мой презренный зависимый статус. Теперь я признаю, что по отношению к ней это было жестоко.
– Как прошел день? – спрашивала она, возвращаясь домой после долгого рабочего дня в офисе окружного прокурора.
– Нормально, – холодно отвечала я, не пускаясь в подробности.
– А что ты весь день делала?
– Да ничего.
– И как себя чувствуешь?
– Нормально.
Вспоминая эти разговоры, я сгораю от стыда – ведь мы с мамой всегда были неразлучны, и можно представить, как обижало ее мое поведение. Теперь я понимаю, что тогда все еще таила на нее бесформенную злобу, обусловленную причинами, которые сейчас кажутся подлостью с моей стороны. Хотя пребывание в больнице осталось в памяти сплошным туманом, где-то в подсознании застряла злоба с того периода. Каким-то образом мне удалось убедить себя в том, что в больнице мама проводила со мной мало времени, хотя это было не так и уж точно несправедливо по отношению к ней. Ее страдания, которые она таила глубоко внутри, бессознательно просачивались наружу, и я «заражалась» ими.
Хуже всего, что с выпиской из больницы терзания не закончились: теперь ей приходилось жить рядом с этой враждебной незнакомкой, своей собственной дочерью, которая когда-то была ей близким другом. Но вместо того чтобы посочувствовать маминым страданиям, которые, безусловно, равнялись моим, а может быть, даже и превосходили их, я воспринимала их как личное оскорбление, признак того, что ей не по силам справиться с новой, «ущербной» мной, какой меня сделала болезнь.
Она подробно обсуждала свои чувства с Алленом, но по понятной причине не делилась ими с отцом. Общаясь друг с другом, мои родители обсуждали, как у меня дела, и почти не касались других личных или повседневных тем. Каждые две недели они вместе возили меня на прием к доктору Наджару. Тот всякий раз снижал дозировку стероидов. Затем доктор Арслан, в свою очередь, уменьшал дозу антипсихотических и успокоительных средств в соответствии с меняющейся дозировкой стероидов. Эти приемы действовали на меня воодушевляюще, ведь они означали, что я уверенно иду на поправку. Да и мои родители вроде как стали лучше ладить.
Доктор Арслан всегда задавал один и тот же вопрос:
– Оцените в процентах из ста, насколько вы уже похожи на «себя прежнюю»?
И каждый раз я уверенно отвечала:
– На девяносто.
Лишь покрасневшее лицо выдавало неуверенность. А порой, когда чувствовала себя особенно оптимистично, говорила, что и на девяносто пять процентов.
Отец всегда соглашался, даже если на самом деле думал иначе. Но мама часто мягко возражала:
– А мне кажется, процентов на восемьдесят. – Позднее она призналась, что и эта цифра была завышена.
Хотя выздоровление, безусловно, является процессом относительным (нужно осознавать, где начало пути, чтобы понять, сколько ты уже прошел), вскоре нам предстояло заручиться мнением экспертов – я должна была пройти два оценочных теста в Институте реабилитационной медицины Раска при университете Нью-Йорка. Перед поездкой я жутко нервничала. Хотя дела мои явно шли на поправку, не хотелось получить очередное подтверждение своей неспособности выполнять простейшие задачи. Но мама настаивала, что я должна поехать.
Первый тест я почти не помню, так как из-за усталости не смогла выполнить почти ни одно задание. Помню лишь широко раскрытые, дружелюбные голубые глаза молодой женщины-психолога. Во второй раз мама с папой проводили меня в тот же 315-й кабинет института Раска, и тот же врач – Хилари Бертиш – пригласила меня в свой офис. Родители остались ждать в приемной. Доктор Бертиш позднее рассказывала, что даже тогда я как будто еще жила в другом мире и отвечала на ее вопросы заторможенно; у нее возникло впечатление, будто я вовсе ее не слышу. Мое поведение чем-то напомнило ей негативные симптомы шизофрении: невыразительность, равнодушие, отсутствие эмоциональных реакций, монотонная, односложная речь.
Доктор Бертиш предстояло оценить мою память и способность к сосредоточению посредством теста на выявление одинаковых символов. Я должна была вычеркнуть определенные буквы и слова в газетной статье средней длины. Сначала она попросила меня вычеркнуть все буквы х. Я выполнила задание, но у меня ушло на это 94 секунды – то есть я попала в категорию «существенное повреждение способностей», причем по нижней планке. Затем мне поручили вычеркнуть буквы с и e. Я пропустила четыре буквы, а на выполнение задания ушло 114 секунд: снова худший из возможных результатов. Дальше было самое сложное: найти на странице все союзы и, но и или. Помню, как в голове у меня все смешалось; я то и дело забывала, какие именно слова нужно искать. Из 173 слов я пропустила 25. Более 15 пропущенных слов уже считается существенным отклонением от нормы. Мои результаты были ужасными – и концентрация, и скорость, и точность выполнения задания.
Доктор Бертиш перешла к оценке рабочей памяти – способности удерживать информацию в уме в течение короткого промежутка времени. Она зачитала вслух простые математические примеры; несмотря на их примитивность, я смогла решить лишь 25 процентов.
Визуальная рабочая память оказалась еще хуже. Доктор Бертиш в течение нескольких секунд показывала мне картинку – геометрическую фигуру, – а потом просила нарисовать по памяти. Как бы я ни пыталась, воссоздать фигуру в памяти не получалось. Мой результат оказался в районе 1 процента – существенное повреждение способностей.
Я также не смогла блеснуть умением извлекать слова из памяти. Доктор Бертиш повторила тот же тест, который проводила в апреле Крис Моррисон (с названиями фруктов и овощей). Но на этот раз мне предстояло за минуту назвать как можно больше слов на ф, а и с.
Ф: фабула, факт, фикция, фильм, фиалка, фантастика, фанат, фигурный, фантазия, ферма, форма.
А: апельсин, акула, арка, автомат, ад, антикварный, адрес, арка, айва (поскольку я дважды назвала «арку», засчиталось только девять).
С: сад, сова, сажа, салат, саламандра, секс, самец, самка, самолет, север, ситуация, седло.
Я назвала 32 слова за 3 минуты. По сравнению с апрелем это было значительное улучшение (тогда я назвала 5 слов за 1 минуту), но все же средний результат был равен 45.
А вот в других областях мои показатели значительно улучшились. Так, речевая деятельность была «превосходной» – 91 процент. Способность к устным абстрактным рассуждениям (ее проверяли с помощью аналогий, например: «Что общего у России и Китая?») оказалась на высшей границе нормы – 85 процентов. Несмотря на затруднения в сфере базовых когнитивных способностей, я по-прежнему сохранила сложное аналитическое мышление, чем поразила доктора Бертиш. В тесте на распознавание закономерностей я ответила правильно на все вопросы, хоть он и занял у меня больше времени, чем у среднестатистического человека. Я не смогла нарисовать восьмиугольник по образцу, но была способна на сложные логические рассуждения. Впоследствии доктор Бертиш призналась, что то, что происходило у меня внутри, совсем не соответствовало внешним параметрам. Другими словами, Сюзанна «внешняя» совсем не соответствовала Сюзанне «внутренней», и на самом деле я осознавала реальность гораздо острее, чем казалось со стороны. Я тоже ощущала этот разрыв. Часто бывало, что мое «я» словно пыталось достучаться до внешнего мира, но в этом ему мешал «больной» посредник – мое тело. Нечто подобное я почувствовала и на вечеринке, и на свадьбе несколько недель тому назад.
В конце последней беседы доктор Бертиш спросила, какие проблемы, на мой взгляд, являются в данный момент самыми насущными.
– Проблемы с концентрацией. Память. Не могу подобрать нужное слово, – ответила я.
Мой ответ ее успокоил. Я смогла точно объяснить, что со мной не так. Неврологические больные часто не могут сразу указать, что с ними не так. Им не хватает осознанности, чтобы понять, что они больны. Как ни парадоксально, моя способность указать на свои слабости была преимуществом.
Это объясняло, почему я так переживала, общаясь с людьми: я понимала, какой странной и заторможенной кажусь окружающим, особенно людям, которые знали меня до болезни. Я поделилась своими мыслями с доктором Бертиш, признавшись, что в присутствии окружающих часто испытываю подавленность и беспокойство. Доктор посоветовала записаться на индивидуальные и групповые сеансы когнитивной терапии, поработать с психотерапевтом, который помог бы справиться с депрессией и тревожностью, и посещать группы поддержки для молодых пациентов моего возраста.
Но моя уверенность в себе была настолько расшатана, что я не сделала ничего. И теперь понимаю, что совершила большую ошибку: после травмы или болезни мозг нередко получает способность излечиваться спонтанно, сам собой, и лучше использовать все возможности, чтобы ускорить процесс выздоровления. Хотя до сих пор неясно, какую роль играет когнитивная терапия в лечении моей болезни, если бы я послушалась совета врача, то наверняка поправилась бы быстрее. Но мне казалось, что посещение сеансов терапии в моем случае лишь подчеркивало разобщенность между «внешним» и «внутренним», и мысль о них была мне ненавистна. К доктору Бертиш я так и не вернулась. Более того, я только через год связалась с ней, чтобы получить результаты этих самых тестов уже годичной давности! До этого мне не хватало духу узнать, насколько плохи были мои дела.
40. Немного регги после ужина
Конечно же мне казалось, что еще раз лечь в больницу – значит сделать шаг назад на пути к выздоровлению. Поэтому когда в конце мая доктор Наджар позвонил маме и сообщил, что мне нужно вернуться в больницу, чтобы провести второй курс лечения иммуноглобулином, я очень расстроилась. Одна мысль о резком свете больничных ламп, постоянном вмешательстве медсестер в мою жизнь, об ужасных разогретых обедах из полуфабрикатов заставляла меня вздрогнуть. Чтобы как-то меня отвлечь, папа пригласил нас со Стивеном погостить у него с ночевкой. Теперь мы ездили к нему не реже раза в неделю и отдыхали в тенистом дворике – оазисе посреди Бруклин-Хайтс. Ели барбекю, пили сангрию, надев сомбреро. Дворик по периметру украшала электрическая гирлянда, а из динамиков доносилось пение Райана Адамса.
В тот вечер я почти не разговаривала; беседу вели в основном Стивен, Жизель и папа. Они пытались вовлечь меня в общение, но я лишь качала головой и продолжала неосознанно причмокивать губами.
– Я скучная. Мне нечего сказать. Со мной теперь неинтересно общаться, – повторяла я.
– Никакая ты не скучная, – горячо возражал отец.
Когда он слышал такие слова, у него сердце разрывалось. Через несколько лет в том же самом дворе, под той же гирляндой электрических лампочек он признался мне, что плакал по ночам, думая об этих моих словах.
Но никто, даже папа, не мог убедить меня в обратном. Несомненно, со мной было скучно. И это, пожалуй, было тем изменением, к которому мне тяжелее всего было приспособиться. Отчасти причиной тому были антипсихотические средства – они вызывали сонливость, рассеянность и повышенную утомляемость. И все же основным виновником утраты энтузиазма был, скорее всего, сам мой больной мозг. По всей видимости, электроимпульсы между нейронами лобной доли давали сбой или были слишком слабыми, с задержкой достигая своей цели.
Лобные доли большого мозга отвечают главным образом за выполнение сложных действий, поэтому эксперты называют их «генеральными директорами». Они окончательно формируются лишь к двадцати – двадцати пяти годам, и некоторые ученые считают, что именно зрелость лобных долей отличает взрослого человека от ребенка. Ясно одно: лобные доли наделяют нас творческой энергией и человеческими качествами; благодаря им мы становимся интересными.
К сожалению, хорошо известно, что бывает с людьми при повреждении лобных долей большого мозга – виной тому лоботомия, которую широко практиковали в 1950-е и 1960-е годы. Эта операция породила немало противоречий. Одной из ее разновидностей была так называемая «лоботомия при помощи ножа для колки льда».
В ходе этой процедуры врач отодвигал веко пациента, вставлял металлический стержень над глазным яблоком, продвигал, пока его кончик не касался дна глазницы, и начинал «долбить» по мозгу в течение нескольких минут. Эта грубая процедура повреждала нейронные связи в лобных долях. Ее результаты могли быть самыми разными: от притупления эмоций до инфантильного поведения. Некоторые пациенты полностью утрачивали способность серьезно мыслить и испытывать эмоции (это произошло, к примеру, с Рэндлом МакМерфи, персонажем Джека Николсона в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»).
Хотя мои лобные доли восстанавливались дольше других отделов мозга (обычное дело для пациентов с моим заболеванием, как показывают новейшие исследования), улучшения все же были. Когда я лежала в больнице, один врач описал активность моих лобных долей как «близкую к нулевой». Теперь я, по крайней мере, сдвинулась с нулевой отметки.
К концу ужина меня так сморило, что я опустила голову на стол и проспала весь разговор, пока меня не разбудил собственный храп. Я вздрогнула, проснулась и поднялась по крутой металлической лестнице к колонке и своему айподу. Я недавно скачала песню Рианны «Ombrella», хотя она вышла несколько лет назад и такая музыка мне обычно не нравилась. Теперь же ее стилизованный ритм-энд-блюзовый вокал зазвучал в летней ночи.
Я с нежностью взглянула на отца, Стивена и Жизель и начала раскачиваться под музыку. Меня вдруг переполнила энергия. Музыка играла очень громко, и я начала двигаться под ритм – сперва почти инстинктивно, но вскоре уже танцуя всем телом, может, не слишком грациозно, но и не одеревенело, не механически, как на свадьбе месяц тому назад. Жизель заметила, как засветилось лицо Стивена, когда тот увидел, что я танцую столь непринужденно. Долгое время я была похожа на ходячего коматозного больного, но сейчас, увидев мой неуклюжий танец регги, они поняли, что я ожила.
Стивен взбежал по ступенькам, схватил меня на руки и закружил. Мы засмеялись: это выглядело так глупо. Папа с Жизель взялись за руки и начали медленно танцевать под ритмичную музыку.
41. Хронология
Мозг обладает удивительной гибкостью: он способен производить новые нейроны и создавать новые связи, «перепрограммируя» кору. По сравнению с ним компьютер, неспособный создать новое «железо» при сбое системы, выглядит беспомощной негибкой глыбой. Подобно нарциссам ранней весной, мои нейроны обрастали новыми рецепторами. Зима моей болезни подходила к концу.
Именно в период третьего пребывания в больнице наступил момент моего пробуждения. Я стала вести дневник, снова начала читать и впервые ощутила желание понять, что же со мной произошло. Возможно, из-за того что дневник является физическим свидетельством моего пробуждающегося я (я могу в буквальном смысле прочесть мысли той, все еще больной Сюзанны), я вообще могу теперь вспомнить о том, каково это было – быть ей (в отличие от более ранней Сюзанны, той, которой принадлежат параноидальные записи, сделанные еще до больницы, – она похожа скорее на обрывок смутного воспоминания, на персонаж из забытого фильма ужасов).
При этом Сюзанна, мысли которой я читаю в дневниках за период своего выздоровления, инфантильна и косноязычна – не то что проницательная добольничная я, которая даже в тяжком бреду демонстрировала странную прозорливость. Удивительно, но более поздние дневники напоминают те, что я вела в старших классах. Они полны поразительного невежества относительно моей личности и отсутствия всякого желания узнать себя. Вместо глубоких мыслей – десятки абзацев о недостатках фигуры (прибавка в весе – в дневниках периода выздоровления; слишком маленькая грудь в школьном дневнике) и глупые, мелкие повседневные дрязги (ненавистная больничная еда – ссоры с подружками, которые на самом деле не подружки, а стервы). Как я ни сочувствую этой уязвимой, юной Сюзанне (подобно тому, как сочувствую себе в подростковом возрасте), она – все же не я – не я нынешняя.
Я сделала первую запись в дневнике 3 июня 2009 года, когда мне делали вторую капельницу с иммуноглобулином. Папа, как обычно, сидел со мной каждое утро; он помогал мне писать, и именно он предложил восстановить потерянное время, составив хронологию событий по памяти. Моя хронология начиналась с «онемения и сонливости» и заканчивалась «третьим припадком в больнице». После того как я купила капучино в лобби больницы 23 марта, я уже ничего не помнила. Расписав все события, я вернулась назад и добавила «ночь у папы дома» между «вторым припадком» и «третьим» – вспомнила об этом лишь потом. Эта строчка написана очень неразборчивым почерком, и неспроста: я все еще стыдилась своего поведения в ту ужасную ночь (хоть и не помнила ее), и это было заметно даже по почерку.
Кстати, почерк был по-прежнему не похож на мой, но по сравнению с заметками, сделанными в первое пребывание в больнице (как будто писал ребенок), прогресс был очевиден. Теперь я изъяснялась полными предложениями и даже использовала точку с запятой. Однако самым важным в моей хронологии оказалось то, что в ней отсутствовало. Я абсолютно не помнила свое пребывание в больнице.
Отец встревоженно прочел мои записи. Это было первое подтверждение моей обширной амнезии. Но он скрыл удивление и помог вписать несколько собственных воспоминаний; хроника событий обрела более четкие очертания. Но до сих пор в ней много пустых мест – того, что не помним ни я, ни папа. Пробелы хоть и небольшие, но могут рассказать о многом: ведь потеря памяти возникает не только при повреждениях мозга, но и после психологической травмы. А тот период был чреват эмоциональными потрясениями для всех моих близких.
Папа помогал мне составить хронологию, заботясь исключительно обо мне. Самому ему было ненавистно вспоминать то время. Теперь у него был новый девиз: «Чтобы двигаться вперед, нельзя оглядываться назад». Но Жизель потом призналась мне с глазу на глаз, что ему было очень тяжело. Случившееся буквально уничтожило его. Когда родственники звонили узнать о моем состоянии, он просил ее отвечать, что его нет дома. Ему казалось, что, услышав знакомые голоса, он потеряет самообладание, которое с таким трудом сохранял. Брат вспоминает, как говорил с папой, когда еще был в Питтсбурге – в период обострения моей тогда еще загадочной болезни. В какой-то момент все звуки на том конце провода прекратились; он слышал лишь глубокие прерывистые вздохи – отец пытался сдержать рыдания.
А еще был папин дневник, который он решил отдать мне, вместо того чтобы лично рассказывать о произошедшем. Читая его, я смогла заново пережить свое пребывание в больнице, глядя на него папиными глазами. Я читала и перечитывала каждую строчку. Он писал о смешном и серьезном, а некоторые записи были столь душещипательными, что мне хотелось броситься к нему в Бруклин и покрепче обнять его. Но я сдерживалась. «Чтобы двигаться вперед, нельзя оглядываться назад». Хотя сама я была пока не готова это сделать, я не собиралась утягивать назад и его. Мой сильный защитник, мой ирландец, в глубине души оказался добряком, и его любовь ко мне, которую я в самые тяжкие времена ставила под сомнение, была неизмеримой. «Я знал лишь одно – она жива, и ее дух не пострадал. Нам предстояло вернуться в больницу для процедур, ходить по врачам, принимать лекарства, но сейчас моя девочка ехала домой», – этими словами заканчивался дневник.
Хотя я так толком и не поблагодарила папу (и раз на то пошло, и маму, Стивена, друзей, и даже врачей и медсестер), теперь мы регулярно ужинали вместе. По сравнению с нашими прежними встречами раз в полгода это был огромный прогресс. Иногда за ужином мы встречались взглядами и словно начинали общаться с помощью секретного шифра – потусторонняя связь, не иначе. Остальные присутствующие за столом в этот момент обычно замирали. Я не догадывалась, что это бестактно по отношению к ним, пока Жизель об этом не заговорила. «Вы, ребята, наверное, не понимаете, – призналась она, – но иногда тем, кто рядом с вами, тоже хочется, чтобы на них обратили внимание».
Но мы вовсе не нарочно их игнорировали. Просто мы с папой побывали на войне, сражались в окопах и несмотря ни на что вернулись живыми и невредимыми. Мы смотрели смерти в глаза – а ничто так не сближает людей.
В отличие от нашей новой дружбы с папой, с тех пор как я вышла из больницы, над нами с мамой нависли тучи – это было связано с таблетками, и не только. Думаю, все дело в том, что до больницы мы с мамой были очень близки; именно поэтому наши отношения в итоге пострадали. Отец был в моей жизни всего лишь примечанием, а мама – доминирующей силой. Поэтому ему и оказалось проще найти общий язык с «новой» Сюзанной.
Чтобы как-то справиться с происходящим, мама активно переиначивала историю моей болезни, настаивая, что на самом деле я «не так уж тяжело болела» и «она всегда знала, что я поправлюсь». Она убеждала себя в том, что я слишком сильная и не смогла бы болеть вечно. И никак не могла смириться с тем, что я все еще не выздоровела. Однажды в середине летом мы пошли в ресторан в Саммите. Стоял прекрасный вечер; легкий ветерок шелестел в складках зонтов над плетеной мебелью. Мы сели на улице, заказали рыбу и по бокалу белого вина.
Мы ужинали, и я начала расспрашивать ее о том, как вела себя в те дни в Саммите – до того, как меня забрали в больницу. У меня остались лишь туманные воспоминания о том времени; я помнила лишь галлюцинации и толком не знала, где реальность, где вымысел. Весь этот период был для меня сплошной загадкой, и мне очень хотелось по кусочкам восстановить ход событий.
– Ты была сама не своя, – ответила она. – Помнишь, как тебе делали ЭЭГ?
– ЭЭГ? Нет, не помню.
Но когда она пересказала мне события того дня, я кое-что вспомнила: медсестру со стробом в кабинете доктора Бейли. В отличие от пугающих сцен на записи с больничных камер видеонаблюдения, которые даже не отложились в моем мозгу, эти воспоминания сохранились. Проблема заключалась в том, что я не могла их извлечь. Когда мозг пытается вспомнить, устанавливается рисунок нейронных связей, аналогичный тому, который сложился при восприятии изначального опыта. Между ними прокладывается «мостик», и каждый раз, когда мы вспоминаем, связь укрепляется и возникает более прочная ассоциация. Но чтобы опыт вернулся в виде воспоминания, необходимы подсказки, помогающие вспомнить, – слова, запахи, образы.
Глядя, как трудно мне вспомнить, мама покраснела; у нее задрожала нижняя губа. Она закрыла лицо руками: впервые за долгое время я видела, как она плачет. В последний раз это было еще до того, как я заболела.
– Мне уже лучше, мам. Не плачь.
– Знаю, знаю. Глупая я, – отвечала она. – Но ты тогда правда сошла с ума. Ты входила в рестораны и требовала еду. Требовала! Хотя, наверное, ты и сейчас это можешь.
Мы рассмеялись. И в моей памяти вдруг вспыхнула картина: ряды диванов в закусочной; мужчина с размытым лицом за стойкой протягивает мне кофе. Воспоминание дразнило меня, намекая на все те моменты, которые забылись и никогда уже не вернутся. А потом и оно пропало.
В тот вечер ко мне не только вернулось одно из старых воспоминаний. Это был поворотный момент, когда мама наконец признала свой страх, слезами показав, что не всегда верила, что со мной все будет «в порядке». Это простое, естественное проявление эмоций ознаменовало поворот в наших отношениях. Мама снова стала моим самым близким поверенным, союзником и другом. Ей понадобилось признать, как близко я была от смерти (нечто прежде невозможное, ведь отрицание было ее механизмом выживания), чтобы мы снова сблизились.
42. Бесконечная шутка
Через четыре месяца после того, как я впервые попала в больницу, кончился договор аренды на мою квартиру в Адской кухне. Пособие по инвалидности урезали вдвое, так как с временных выплат меня перевели на постоянные, и я больше не могла позволить себе платить аренду. И вот однажды мы с папой встретились в моей старой квартире, чтобы разложить по коробкам мою старую жизнь и расчистить место для новой, совсем неопределенной.
Красное кирпичное здание было таким, как я его помнила, – сломанный домофон, росчерки граффити, табличка «частная собственность» на двери. Почтовый ящик был набит нераспечатанными письмами. Мимо прошел вахтер – полный мужчина средних лет, говоривший с сильным испанским акцентом. Увидев нас, бросил: «Как поживаете?» – будто я никуда и не пропадала. Может, правда, не заметил? Мы с папой поднялись по лестнице в подъезде, оклеенном серо-желтыми, местами отваливающимися обоями. Обстановка была так знакома, что я отчасти ожидала, что Дасти выбежит мне навстречу, хотя моя подруга Джинджер забрала ее к себе уже несколько месяцев назад.
Мы с папой упаковали кучу пластинок, собрали пакеты с зимней одеждой, книгами, кастрюлями, сковородками и постельным бельем. В середине сборов накрылся кондиционер: июль на Манхэттене – пекло, и мы не выдержали. Вернулись на следующий день и закончили сборы в удушающей жаре.
В моем дневнике отъезд из квартиры описан лишь одной строчкой, довольно поверхностной, как и большинство записей того периода: «Папа помог мне собрать вещи. Прощай, самостоятельная жизнь!» Эта короткая строчка не передавала всего разочарования, которое я испытывала. Ведь мало того, что моей самодостаточной жизни официально пришел конец, – мне пришлось съехать с моей первой «настоящей» квартиры, символа взрослой жизни, которая осталась в прошлом. Одно дело – переехать в родительский дом на несколько месяцев, зная, что стоит сесть на электричку, и я окажусь у себя дома. Теперь материнский дом был моим единственным местом жительства – я окончательно и бесповоротно вернулась в детство. Свободная жизнь на Манхэттене закончилась, по крайней мере пока.
Увы, реальность была неумолима: я больше не могла жить одна. Я понимала это, но никак не могла смириться. Вместо этого я сосредоточилась на будущем. Составила список людей, которых должна была поблагодарить; дел, которые собиралась сделать; статей, которые хотела написать. По утрам я планировала свой день, вписывая в расписание даже самые незначительные дела – «сходить в город» и «прочитать газету» – лишь потому, что мне доставляло удовлетворение их вычеркивать. Эти, казалось бы, мелкие детали были на самом деле важны: они доказывали, что мои лобные доли, мои «генеральные директора», начинают восстанавливаться.
Вместо того чтобы посещать сеансы когнитивной терапии, рекомендованные врачом, я стала готовиться к сдаче экзамена в магистратуру (одно время мне казалось, что следующим шагом в моей неясной судьбе должна стать учеба). Я купила несколько учебников, записала все незнакомые слова на карточки и повторяла их, а потом записывала те, которые не удавалось запомнить… Этому посвящены десятки страниц моего дневника: слова уже не запоминались так хорошо, как раньше.
Я также начала читать роман-дистопию Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка» – когда-то давно один из моих напыщенных профессоров в колледже ужаснулся, узнав, что я не читала эту книгу. Вооружившись словарем, я продиралась сквозь текст, ища определение каждого второго слова. Я завела файл в компьютере, в который заносила все слова из книги, значения которых мне пришлось смотреть в словаре. Даже сейчас эти слова кажутся сложными, но их подборка, как ни странно, на многое проливает свет:
• Истощенный (прил.) – бесплодный; утративший дух, силу, жизнелюбие; слабый, упадочный.
• Тератогенный (прил.) – связанный с дефектами развития или вызывающий их.
• Лазарет (сущ.) – больница.
Несмотря на пристальное внимание к отдельным словам, когда меня спрашивали, о чем книга, я отвечала: «Понятия не имею».
Я зациклилась на своем физическом состоянии. Дневниковые записи того периода отражают мою растущую одержимость лишним весом. Мой рыхлый живот, бедра с целлюлитом и пухлые щеки вызывали у меня отвращение; напрасно я пыталась избегать своего отражения в зеркальных витринах. Я часто сидела за уличным столиком в «Старбаксе» и заглядывалась на проходивших мимо женщин: «вот бы мне ее ноги»; «с ней бы я поменялась фигурами»; «ну почему у меня не такие руки?».
В дневнике я описывала себя как «свинью на вертеле» – мне ужасно не нравилось мое раздувшееся тело и опухшее лицо. «Это отвратительно, – написала я 16 июня. – Меня от себя тошнит».
И правда, я сильно поправилась с момента выхода из больницы, когда весила 50 кг (болезненно низкий для меня вес). Уже три месяца спустя я набрала почти 23 кг. 9 из них были нормальной прибавкой, а вот остальные 14 – побочным эффектом приема стероидов и антипсихотических средств, а также последствием сидячего образа жизни и злоупотребления мятным мороженым с шоколадной крошкой. От стероидов мое лицо округлилось, словно полная луна; я стала похожа на хомяка и с трудом узнавала себя в зеркале.
Я начала бояться, что никогда не похудею и окажусь навеки запертой в этом «чужом» теле. Проблема была гораздо более поверхностной, чем мои истинные тревоги – оказаться навеки запертой внутри «сломанного» мозга. Но лишний вес было гораздо проще признать. Теперь я понимаю, что так зациклилась на фигуре, потому что не хотела думать о проблемах с когнитивным восприятием. Они были гораздо сложнее и расстраивали меня сильнее, чем цифры на весах. Переживая, что я навеки останусь толстой, «ущербной» в глазах близких, я на самом деле беспокоилась о том, какой я стану: неужели до конца жизни мне предстоит быть такой же тормознутой, скучной, неинтересной, тупой? Разгорится ли когда-нибудь та искра, что определяет мою сущность?
Тем же вечером, когда была сделана эта запись, я прошагала пятнадцать минут от своего дома до центра Саммита, чтобы доказать себе свою самостоятельность и размять ноги. Хотя от ходьбы у меня болели лодыжки, мне хотелось прогуляться в одиночестве. Я шла, и тут на меня вытаращился газонокосильщик. Я инстинктивно прикрыла рукой выбритую часть черепа, но, коснувшись головы, поняла, что на мне повязка. Так на что он тогда смотрел? Только потом до меня дошло: наверное, я ему приглянулась. Конечно, в тот день я выглядела не лучшим образом, но в конце концов все еще была женщиной. И мое покореженное самомнение на секунду расцвело.
Я решила ходить на занятия сайклом, чтобы не быть «свиньей на вертеле», и на соседнем спин-байке заметила свою школьную тренершу по хоккею на траве. Та все поглядывала на меня и, видимо, не могла вспомнить. Стараясь не встречаться с ней взглядом, я повернула голову вправо, но увидела там двух девушек из своей школы, классом помладше – они тоже крутили педали. Смеялись ли они втихую надо мной, потому что я была толстой? Или потому, что жила с родителями? Мне было очень стыдно, но тогда я еще не могла сказать почему.
Теперь мне кажется, что этот стыд был следствием моих попыток уравновесить страх потери и ее принятие. Да, когда-то я умела читать, писать и составлять списки дел, но потеряла уверенность в себе и чувство собственной самости. Кто я? Человек, в страхе жмущийся в угол на занятии сайклом, избегающий смотреть всем в глаза? Эта неопределенность, незнание того, кем я была на самом деле, неспособность понять, где мое место на отрезке пути между болезнью и выздоровлением, и заставляла меня испытывать чувство стыда. В глубине души я верила, что никогда не стану прежней Сюзанной, беззаботной и уверенной в себе.
– Как ты себя чувствуешь? – постоянно спрашивали меня.
Как я себя чувствовала? Я даже не знала, кто она такая, эта «я».
После того как мы упаковали мои вещи и освободили квартиру, я принесла домой все непрочитанные письма, но просмотрела их лишь через несколько недель. Среди груды счетов и рекламы обнаружился коричневый конверт из лаборатории, где мне проводили первое МРТ – еще до того, как я легла в больницу в марте. В конверте лежало кольцо с «кошачьим глазом», которое я давным-давно потеряла. Мое счастливое кольцо.
Бывает, что жизнь дает нам знак, преподнося его на блюдечке с голубой каемочкой именно тогда, когда нам это необходимо. Думаешь, что все потеряно, и тут к тебе возвращается вещь, которая сильнее всего нужна.
43. NMDA
Ко мне возвращались прежние способности и качества личности, и я начала более активно взаимодействовать с окружающим миром, постепенно привыкая к тому, что люди постоянно расспрашивали меня о моей редкой и удивительной болезни. Однако я никогда не пыталась подробно объяснить, что со мной произошло, довольствуясь словами, которые многократно слышала от родителей: «Мой организм атаковал мой собственный мозг». Но потом Пол, мой шеф-редактор из «Пост», написал мне письмо, попросив рассказать о моем заболевании. И я наконец решила собрать воедино все, что случилось со мной. Отнеслась к этому как к интересному заданию, и впервые за все время мне захотелось попытаться дать ответ.
«Мы хотим, чтобы ты вернулась! – писал Пол. – Боже, звучит так, будто я умоляю вернуться звезду, покинувшую бой-бэнд. А как точно называется твоя болезнь?» Слышать голос из «добольничной» жизни было странно, но вместе с тем утешительно. Вся моя жизнь теперь делилась на «до» и «после» – раньше такого не было никогда. Я воспылала решимостью дать Полу внятный ответ.
– Как там называется моя болезнь? – крикнула я маме.
– Анти-NMDA-рецепторный энцефалит, – отвечала она.
Я забила в поиск «NDMA». Продукт промышленных отходов?!
– Как, еще раз? – повторила я.
Мама зашла на кухню:
– Анти-NMDA-рецепторный энцефалит.
Я поискала правильное написание и нашла несколько страниц с результатами. В основном это были выдержки из статей в медицинских журналах; статьи в Википедии не нашлось. Просмотрев несколько сайтов, я наткнулась на колонку «Диагноз» в журнале «Нью-Йорк таймс», посвященную заболеванию. В ней описывалась история болезни женщины с такими же симптомами, как у меня; но в отличие от меня у пациентки была «опухоль-монстр» тератома. Через день после удаления опухоли она очнулась от комы и начала нормально говорить и смеяться с членами семьи. Объяснение связи иммунной системы и мозга, предлагавшееся в статье, меня лишь запутало. Было ли это вирусное заболевание? (Нет.) Вызывалось ли оно внешними причинами? (Возможно, отчасти.) Передается ли болезнь по наследству? (Скорее всего, нет.) Многие вопросы оставались без ответа, но я заставила себя сосредоточиться. Написала синопсис своей врачебной эпопеи длиною в один абзац и отправила Полу, прибавив в конце: «Эти месяцы были сущим безумием, – и это мягко говоря. Теперь я знаю, что значит сойти с ума».
Пол ответил: «Теперь мое любопытство удовлетворено». И добавил: «Ты в курсе, что к тебе вернулось чувство юмора и журналистский талант? Я серьезно. Я вижу прогресс в твоих письмах и сообщениях со времени болезни и до настоящего момента. Небо и земля».
Вдохновленная своей новообретенной способностью изъясняться, я начала исследовать свою болезнь всерьез. Я почувствовала, что должна понять, как организм может пойти на такое подлое предательство. И к своему разочарованию выяснила, что об этой болезни известно очень мало.
Никто не знает, почему некоторые люди – особенно те, у которых нет тератом, – заболевают анти-NMDA-рецепторным энцефалитом. Нет и базового понимания того, что провоцирует болезнь. Мы не знаем, какие факторы влияют на развитие болезни сильнее – внешняя среда или генетическая предрасположенность. Согласно исследованиям, все аутоиммунные заболевания на две трети обусловлены средой и на одну треть – наследственностью. Неужели зловещую цепную реакцию действительно запустил тот бизнесмен, который якобы чихнул на меня в метро? Или всему виной факторы среды? Когда у меня появились первые симптомы, я как раз начала принимать противозачаточные таблетки – могло ли это послужить катализатором?
Хотя доктор Далмау и доктор Наджар посчитали это подозрение необоснованным, мой гинеколог решил перестраховаться и запретил мне снова принимать таблетки. А может, болезнь спровоцировала моя любимая кошка Дасти? Анджела, которая впоследствии забрала ее к себе, рассказывала, что у Дасти обнаружили воспалительный процесс в кишечнике, скорее всего, вызванный аутоиммунным заболеванием.
Было ли это совпадением или мы обе заразили друг друга чем-то, что выбило из колеи наши иммунные системы? А может быть, в моей неопрятной квартире в Адской кухне было какое-то ядовитое вещество? Скорее всего, ответ я не узнаю никогда. Но врачи считают, что, скорее всего, причиной заболевания было сочетание воздействия извне – контакт с чихнувшим, противозачаточные средства, токсичные вещества в квартире – и генетической предрасположенности к выработке агрессивного типа антител. К сожалению, из-за того, что выяснить реальную причину болезни так сложно, профилактика может быть основной целью врачей; гораздо реалистичнее сосредоточиться на ранней постановке диагноза и быстром лечении.
Остаются и другие загадки. Например, ученые даже не знают, почему у некоторых людей есть данный тип антител и почему они активизировались именно в этот период жизни. Точно неизвестно, как антитела преодолевают гематоэнцефалический барьер, – возможно, они синтезируются в мозгу? Неясно, почему одни пациенты полностью восстанавливаются, а другие умирают или продолжают болеть еще долгое время после окончания лечения.
Но большинство все же выживают. И хотя это кошмарный опыт, данная болезнь уникальна по сравнению с другими видами смертельного энцефалита и аутоиммунными заболеваниями, чреватыми инвалидностью на всю жизнь. Действительно, трудно вспомнить другое заболевание, при котором пациент может находиться в коме, и даже при смерти, и провести в отделении интенсивной терапии нескольких месяцев, а потом полностью – или почти полностью – восстановиться.
Болезнь научила меня одному: мне очень повезло. Я оказалась в нужное время в нужном месте. В больнице Нью-Йоркского университета с доктором Наджаром и доктором Далмау. Если бы не эта больница и не эти люди, что было бы со мной сейчас? А если бы я заболела три года назад – до того, как доктор Далмау идентифицировал антитела? Всего три года – и на смену возможности жить полноценной жизнью могло бы прийти некое подобие существования в психиатрической лечебнице или хуже – ранняя кончина и погребение под холодным и твердым могильным камнем.
44. Почти возвращение
Постепенно снижая дозировку стероидов, доктор Наджар прописал мне капельницы с иммуноглобулином на дому, дважды в неделю (страховая компания наконец одобрила надомное проведение процедур). По утрам приходила медсестра и присоединяла капельницу к пакету с иммуноглобулином на три-четыре часа. В период с июля по декабрь мне сделали двенадцать капельниц.
Весь июль я продолжала переписываться с Полом. И периодически он, естественно, спрашивал, когда я планирую вернуться на работу. Наконец мы пришли к выводу, что лучше всего мне зайти в редакцию «Пост» и просто поздороваться со всеми, без помпы и каких-либо условий. Мы выбрали дату в середине июля. Помню, как я нервничала, когда сушила волосы, делала макияж и выщипывала брови – впервые за все эти месяцы с начала болезни. Потом я подошла к шкафу и изучила свой скудный гардероб. Лишь несколько вещей были мне впору, так как я все еще была «поросенком на вертеле». Я выбрала черное платье-балахон, которое меня никогда не подводило; брат отвез меня на станцию, и я впервые поехала одна на электричке в Нью-Йорк. От Пенсильванского вокзала шла пешком до офиса по летней жаре.
Но когда оказалась у входа в башню «Ньюскорп», где работала с восемнадцати лет, адреналин вдруг покинул меня, и я почувствовала себя опустошенной. «Еще не время, – подсказал внутренний голос, – я не готова».
И я написала Полу, попросив встретиться со мной позади небоскреба. Тогда я еще не знала, но Пол нервничал не меньше моего: он волновался, какой я окажусь при личной встрече, и не знал, как вести себя с «новой» Сюзанной. Анджела недавно приезжала ко мне в Саммит и передала ему, что дела мои значительно продвинулись, но все же по сравнению с прежней Сюзанной, коллегой, которую они хорошо знали, это небо и земля.
Выйдя из вращающихся дверей офиса, Пол увидел меня и тут же заметил физическую перемену во мне: я была похожа на маленького херувимчика, десятилетнюю Сюзанну: наличествовал даже «детский жирок».
– Как дела, чертовка? – спросил он и обнял меня.
– Хорошо, – услышала я свой голос словно со стороны.
Я так нервничала, что могла думать лишь о каплях пота, стекающих по пояснице, – совсем как тогда, когда встретила Кристи на станции. Но тогда мы были вместе с мамой, а сейчас рядом не было «буфера» в виде другого человека, который бы отвечал за поддержание разговора. На самом деле мне было сложно даже заставить себя смотреть Полу в глаза, не говоря уж о том, чтобы попытаться доказать ему, что вскоре я смогу вернуться на работу. Он шутил и говорил о работе, но мне трудно было угнаться за ним. В какой-то момент я поняла, что смеюсь невпопад и не реагирую на самые смешные шутки. Я видела, что он пытается предупредить неловкие паузы, изображая веселость, но ему было тяжело. Мое состояние шокировало его сильнее, чем он предполагал.
– Я все еще на колесах, – отшутилась я, надеясь этим оправдать свое изменившееся поведение. – Но к моменту моего возвращения я уже почти прекращу их принимать.
– Отлично. Твой стол тебя ждет. Хочешь подняться и поздороваться со всеми? Ребята по тебе скучали.
– Нет, пожалуй. В другой раз, – отвечала я, глядя себе под ноги. – Я пока не готова.
Мы снова обнялись. Он исчез в дверях, а я провожала его взглядом.
Поднявшись наверх, он тут же подошел к Анджеле.
– Она стала совсем другим человеком, – признался он.
Он оказался в тупике. Как мой друг, он искренне тревожился о моем выздоровлении и будущем, но, как мой босс, не мог не задаваться вопросом, смогу ли я когда-нибудь вернуться к своим репортерским обязанностям.
Тем не менее через две недели после краткой встречи с Полом мне позвонила Маккензи и попросила помочь с заданием для рубрики «Пульс» – развлекательной колонки в «Пост». Когда я услышала ее голос, он напомнил мне о нашем последнем разговоре: вечером в Саммите, когда я так и не сдала статью о танцевальной труппе «Калеки». Примерно в то же время у меня начались сильные припадки. Когда я вспомнила об этом, на меня накатило тошнотворное чувство собственной никчемности. Но отвращение к себе сменилось радостью, когда я поняла, что она предлагает мне новое задание.
– Напишешь об этикете на Фейсбуке? – спросила она.
Может, я пока и не была готова увидеться со всеми старыми коллегами, но ухватилась за возможность написать статью удаленно. Целую неделю я работала над статьей, взявшись за нее с таким рвением, будто это был не репортаж о соцсети, а хроника Уотергейтского скандала. Я обзванивала источники, друзей, журналистов и просила их поделиться мнением. Но собрав все заметки в один файл и глядя на мигающий курсор на пустом экране, никак не могла представить, с чего начать.
Память о последней ненаписанной статье лишь усилила писательский ступор. Вернется ли ко мне мой писательский талант?
Почти час я просидела у пустого экрана, и наконец слова начали приходить в голову – сначала медленно, а затем хлынули фонтаном. Статья была «непричесанной», требовала редактуры, но я снова барабанила по клавиатуре, и не было на свете занятия лучше этого!
Статья вышла 28 июля в рубрике «Пульс» под заглавием «Сам напросился». Помню, как специально ради такого случая съездила в город купить газету, как засияла от гордости, открыв ее на нужной странице и увидев свою статью. Не важно, что уже несколько сотен моих статей были напечатаны, – эта была важнее остальных. Мне хотелось показать ее всем – от баристы в «Старбаксе», что готовил мне кофе все лето, до девчонок из школы с моих занятий по сайклу; а особенно той женщине на свадьбе, которая сомневалась, вернется ли ко мне когда-нибудь мое жизнелюбие. Статья стала моим искуплением. С ее помощью я сообщала всему миру: «Я вернулась!» За всю карьеру я ни разу так не радовалась выходу репортажа. Тогда я поняла, что не пойду в магистратуру, а вернусь на работу.
И вот меньше недели спустя я наконец набралась храбрости и вернулась – пока, чтобы поздороваться со всеми накоротке. Пола с Анджелой в тот день не было на месте, и внизу меня встретила Маккензи (мой пропуск давно куда-то делся, а воспоминания о том, как я его потеряла, стерлись вместе со всем, что случилось в больнице). Она взяла на себя роль моего проводника и опекуна. Когда мы вместе вошли в редакцию на десятом этаже, Маккензи чувствовала себя так, будто впервые привела малыша в детский сад. Я сделала глубокий вдох, разгладила черное платье – то самое, что надевала и в первый, неудавшийся визит, – и зашла в офис.
Никто не обратил на меня внимания. Все смотрели матч между «Янкиз» и «Ред Сокс». По пути к кабинету Стива мы с Маккензи прошли мимо моего старого стола.
– Смотрите, кто пришел, – сказала она Стиву.
Тот оторвался от экрана, и было ясно, что сначала он меня не узнал. Затем все же узнал и поздоровался – смущенно, но дружелюбно.
– И когда планируешь вернуться? – спросил он.
Я покраснела:
– Скоро. Очень скоро.
Я неловко переминалась с ноги на ногу, пытаясь придумать, что сказать, но ничего не шло в голову. Когда я вышла от Стива, по-прежнему пунцовая после нашего разговора, вокруг стали собираться репортеры – мои бывшие коллеги по воскресному выпуску. С большинством из них я не общалась более полугода, и хотя их было не больше шести человек, мне показалось, что это толпа. У меня началась клаустрофобия; я вспотела. Мне было сложно сконцентрироваться на чем-либо, поэтому я смотрела себе под ноги.
Сью, наша «матушка-наседка», заключила меня в крепкие объятия. Потом отошла и сказала громко, чтобы все слышали:
– Почему ты нервничаешь? Мы все тебя любим.
Это было сказано по-доброму, но я лишь сильнее заволновалась. Неужели моя неловкость так бросалась в глаза? Видимо, все мои переживания сразу же отражались на моем лице. Меня вдруг охватило сильнейшее чувство эмоциональной незащищенности пред лицом коллег и друзей. Я ощутила себя лабораторной крысой, ждущей неминуемого вскрытия. И содрогнулась при мысли о том, что никогда больше не почувствую себя в своей тарелке в этой редакции, которая фактически была моим вторым домом.
45. Основы журналистики
В итоге я вернулась на работу, но лишь в сентябре – где-то через месяц после моего «почти возвращения» и почти через семь месяцев после нервного срыва, случившегося в редакции. Помню, как послушно согласилась с предложением отдела кадров начать потихоньку – сначала на полставки, всего пару дней в неделю. Но потом бросилась в омут с головой, и скоро уже казалось, будто я никогда не уходила. Я привыкла бежать к цели, как марафонец: спешить на задание, нестись в метро, чтобы успеть на работу, вечно присматриваясь и навострив уши, заранее нацелившись на следующий карьерный шаг. И хотя теперь у меня наконец появилась возможность остановиться, передохнуть и провести переоценку ценностей, мне хотелось только одного: двигаться вперед.
К счастью, в «Пост» не препятствовали моему желанию с головой погрузиться в работу. Как Пол и обещал, к моему рабочему месту никто не прикасался: все книги, документы, даже бумажный стаканчик из-под кофе, все еще лежали там, где я их оставила.
Мои первые задания – коротенькие заметки – были довольно непримечательными: репортаж о женщине, которую народным голосованием выбрали лучшим барменом Нью-Йорка, и небольшая заметка о наркомане, написавшем книгу мемуаров. Так я постепенно возвращалась к повседневным журналистским обязанностям – написанию статей и репортажей, сначала легких, но мне было все равно. То, с каким рвением я взялась за дело, было полной противоположностью моему вялому выполнению своих обязанностей семь месяцев тому назад, перед уходом с работы, когда я даже не нашла в себе энтузиазма взять интервью у Джона Уолша. Теперь я бралась за каждый, даже самый незначительный репортаж, с горячим воодушевлением.
Хотя в первый месяц коллеги ходили вокруг меня на цыпочках, я ничего такого не замечала. Я была настолько озабочена будущим – очередной заметкой, следующим заданием, – что не могла адекватно оценивать происходящее. Поскольку я стала печатать намного медленнее, большинство интервью мне приходилось записывать на диктофон. Прослушивая эти записи сейчас, я слышу незнакомый голос: эта Сюзанна говорит медленно, с трудом, а иногда и запутывается в словах. Как пьяная. Анджела, мой «телохранитель», тайком помогала мне со статьями, но так, чтобы не бросалось в глаза, что я нуждаюсь в помощи; Пол же приглашал меня к своему столу, когда редактировал мои заметки, и заново обучал основам журналистики.
Лишь через неделю после возвращения на работу я нашла в себе силы разгрести накопившиеся за семь месяцев электронные и бумажные письма. Не хотелось даже думать о том, что решили мои источники, когда их письма вернулись к ним или на них так никто и не ответил. Может, подумали, что я ушла с работы или вовсе ушла из журналистики? Беспокоились ли они обо мне? Просматривая горы книг и пресс-релизов, я мучилась этими вопросами.
Я не сомневалась, что полностью вернулась к нормальной жизни. Перед выходом на работу я так и сказала доктору Арслану. На тот момент дозировка лекарств настолько снизилась, что их практически можно было уже отменить. Мы с родителями сидели за столом в кабинете Арслана, как каждые две недели с момента моей выписки.
– И снова тот же вопрос. Как бы вы оценили свое самочувствие в процентах из ста?
Я отвечала не раздумывая:
– Сто.
И на этот раз и мама, и папа согласно закивали. Даже мама наконец согласилась с моей оценкой.
– Ну, тогда должен сказать, что вы больше не представляете для меня интереса, – с улыбкой проговорил доктор Арслан, и наши с ним профессиональные отношения на этом закончились.
Он посоветовал продолжать принимать успокоительные и антипсихотические средства еще неделю, а потом прекратить. Объяснил, что они мне больше не нужны. То есть доктор Арслан провел совокупную оценку моего состояния и пришел к выводу, что я полностью выздоровела. Мама с папой обняли меня, а потом мы пошли в соседнюю закусочную и отпраздновали это событие кофе с яичницей.
Хотя сообщение доктора Арслана подняло нам настроение, в реальности мне предстояло пройти еще долгий путь, чтобы снова стать тем человеком, каким я была когда-то. Было ясно, что я нахожусь на стадии выздоровления, которая еще не изучена. Доктор Далмау и другие ученые тогда еще только вели ее пристальное изучение.
– Обычно, по оценкам родных, друзей и врачей, выходит, что пациент уже выздоровел, но, по мнению самого пациента, это не так, – объяснил мне доктор Далмау, когда вскоре после выписки из больницы мы с ним говорили по телефону. – И это расхождение сохраняется еще долго. Процесс выздоровления может занять два-три года, а то и больше.
Пациенты выходят на работу, начинают нормально функционировать в обществе и даже живут одни, но все же им кажется, что те вещи, которые раньше получались сами собой, теперь даются с трудом. И пропасть между ними «настоящими» и теми, кем они были до болезни, по-прежнему сохраняется.
Сразу после моего выхода на работу доктор Наджар разрешил мне покрасить волосы – шрам, из-за которого волосы не отрастали, хотя меня уверяли, что они вырастут, наконец зажил, и кожу головы можно было подвергнуть воздействию сильных химикатов, содержащихся в краске. Я пошла в салон «Аррохо» в Сохо, недалеко от въезда в тоннель Холланда. Колорист сделала мне контрастные платиновые пряди, а мастер отрезала челку до бровей, которая ложилась на правую сторону и прикрывала открытый участок кожи. Она спросила, откуда у меня шрам, и я немного рассказала ей о том, что со мной произошло. Моя история так ее тронула, что она еще целый час накручивала мои жесткие волосы на бигуди (из-за лекарств они изменили структуру).
На обратном пути в Саммит я шла к метро, чувствуя себя на миллион долларов, и тут услышала, как меня окликнул знакомый голос. Я оглянулась, надеясь, что мне послышалось, и увидела на нижней ступеньке лестницы своего бывшего парня. В прошлый раз мы общались задолго до моей болезни.
– Я слышал, что с тобой что-то случилось, – смущенно проговорил он. – Прости, что не звонил. Думал, ты вряд ли захочешь меня видеть.
Я ответила, что нет, он не прав, мы обменялись парой общих фраз и распрощались. В другой жизни это был бы идеальный момент, чтобы встретить бывшего – на выходе из салона красоты. Но мне казалось, что у меня выдернули почву из-под ног, и это было неприятно. Я видела, что ему меня жалко, а что может быть хуже, чем жалость в глазах бывшего возлюбленного?
Стоя на платформе, я проигрывала в голове эту встречу и тут увидела свое отражение в окне прибывающего поезда. Мои завитые волосы растрепались и стали похожи на мочалку, лицо опухло, тело расплылось. Буду ли я когда-нибудь чувствовать себя уютно в своей «шкуре»? Или неуверенность в себе станет моим вечным спутником?
Я была совсем не той уверенной «прежней» Сюзанной, с которой когда-то встречался мой бывший, и ненавидела себя за то, как сильно изменилась.
46. Врачебный доклад
Меньше чем через месяц после выхода на работу мама получила письмо от ассистента доктора Наджара. Тот приглашал нас посетить врачебный доклад доктора по анти-NMDA-рецепторному энцефалиту в университете Нью-Йорка. Врачебные доклады – это распространенная в медицинских институтах практика, в ходе которой врач представляет случаи пациентов студентам и коллегам[19].
Тем утром в конце сентября по дороге из Нью-Джерси в Нью-Йорк образовалась огромная пробка, и мы опаздывали. Мама, Аллен, Стивен и я побежали к лекционной аудитории. У входа нас уже ждали папа, Анджела и Лорен – моя подруга и управляющий редактор «Пост».
– Кажется, уже началось, – сказала Анджела, когда мы вошли.
Сотня кресел в зале была заполнена людьми в белых лабораторных халатах. Они внимательно слушали доктора Наджара – тот стоял на сцене и в своей торопливой манере рассказывал про «аутоиммунный энцефалит».
Мы пропустили «знакомство с 24-летней пациенткой С. К.», поэтому я так и не поняла, что речь идет обо мне. А доктор Наджар тем временем рассказывал о безупречных анализах пациентки – трех МРТ, анализах крови и мочи на токсины. Он упомянул о том, что в спинномозговой жидкости обнаружили повышенное содержание белых кровяных клеток, что навело его на мысль провести биопсию мозга, поскольку другие варианты были исчерпаны.
– Он говорит обо мне? – спросила я родителей.
Мама кивнула:
– Кажется, да.
Доктор Наджар включил слайд – увеличенный снимок образца, взятого во время биопсии мозга. Он был покрыт розово-лиловыми пятнами, а кровеносный сосуд окружали сине-фиолетовые пятна. Темные участки, объяснил доктор Наджар – это воспалительные клетки микроглии.
– Он рассказывает про мой мозг, – прошептала я, хотя в тот момент и не понимала, что изображено на слайдах.
Я знала лишь, что сотня незнакомцев сейчас разглядывала снимок части моего организма. Многие ли могут похвастаться тем, что позволили чужим людям в буквальном смысле заглянуть себе в голову? Доктор Наджар продолжал рассказывать о моей мозговой ткани, а моя рука невольно потянулась к шраму от биопсии.
Затем он включил другой слайд – на нем было изображено нечто, напоминающее тонкую цепочку подковообразной формы с нанизанными на нее сиреневыми и черными самоцветами.
Доктор Наджар объяснил, что в ходе биопсии мозга врачи обнаружили кровеносный сосуд, атакуемый лимфоцитами. Далее он заметил, что пациентам с анти-NMDA-рецепторным энцефалитом биопсию мозга проводили лишь несколько раз, поэтому эти слайды – редкая и очень информативная возможность взглянуть на больной мозг, о котором нам так мало известно.
Доктор закончил лекцию словами:
– С гордостью сообщаю вам, что пациентка полностью восстановилась и вернулась на работу в «Нью-Йорк Пост».
Анджела толкнула меня локтем, Лорен улыбнулась, а Стивен и мои родители засияли.
Когда в тот день мы вернулись в офис, Анджела рассказала о презентации нашим редакторам – Стиву и Полу. Стив заинтересовался и вызвал меня к себе.
– Анджела говорит, что ходила послушать доклад о твоей болезни, – сказал он. – Не хочешь написать репортаж от первого лица?
Я решительно кивнула. Я надеялась, что моя история покажется редакторам достаточно интересной и меня попросят написать репортаж. Мне не терпелось наконец применить свой репортерский инстинкт, чтобы исследовать случившееся со мной.
– Отлично. К пятнице успеешь?
Был вторник. Мне показалось, что пятница – слишком рано, но я твердо решила: статье быть. Я была очень взволнована, хоть и напугана и слегка ошеломлена тем, что мне придется поделиться с миром месяцами своего блуждания в тумане. Большинство коллег по-прежнему не подозревали о том, что творилось со мной во время долгого отсутствия (а в каком-то смысле я и сама не подозревала об этом). Поэтому я волновалась, что этот репортаж сведет на нет все мои попытки снова зарекомендовать себя как профессионала, которые я усердно предпринимала последние несколько недель. Но я не могла устоять перед таким предложением: ведь у меня появилась возможность вернуть потерянное время и доказать себе, что я способна разобраться, что же произошло с моим организмом.
47. Экзорцист
Итак, обуреваемая противоречивыми мыслями, я навострила репортерское перо и принялась расспрашивать родных, Стивена, доктора Далмау и доктора Наджара, пытаясь составить представление о своей болезни и связанных с ней более глобальных проблемах.
Больше всего меня занимал самый главный вопрос: сколько еще людей за всю историю человечества переболели этой болезнью и подобными заболеваниями, но так и не получили должного лечения? Этот вопрос становился еще более насущным ввиду того, что некоторые врачи, с которыми я общалась, считали, что болезнь существовала с начала времен, – а открыли ее только в 2007 году.
В конце 1980-х годов канадский француз, детский невролог Гийом Себир заметил странную закономерность симптомов у шести детей, которые лечились у него в период с 1982 по 1990 год. У всех отмечались двигательные нарушения, в том числе нервный тик и гиперактивность, когнитивные нарушения и припадки. При этом результаты КТ были нормальными, как и биохимия крови. Детям поставили диагноз «энцефалит неизвестной этиологии» (в просторечии известный как синдром Себира). Болезнь длилась в среднем десять месяцев, и четверо из шестерых детей выздоровели полностью. В течение двадцати лет единственное, чем располагали врачи, – туманное описание Себира.
Была еще более ранняя работа, написанная в 1981 году Робертом Делонгом и его коллегами. В ней описывался «синдром приобретенного аутизма» у детей. По признакам болезнь напоминала аутизм, но двое из троих детей, попавших под изучение (пятилетняя девочка и семилетний мальчик), полностью оправились от нее. Но у одиннадцатилетней девочки нарушения памяти и восприятия оказались постоянными: она не могла вспомнить три слова по прошествии нескольких минут. По данным современных исследований, около 40 процентов пациентов с диагнозом «анти-NMDA-рецепторный энцефалит» – дети, и этот процент растет. Но у детей болезнь проявляется иначе, чем у взрослых, и характеризуется истериками, задержкой речи, гиперсексуальностью и агрессивностью. Родители одного ребенка сообщали, что тот попытался задушить своего маленького брата, грудного младенца; еще одна пара заявила о том, что их дочь, всегда отличавшаяся ангельским поведением, вдруг начала рычать на них, как зверь; еще одна девочка хотела выцарапать себе глаза, пытаясь выразить бушевавшие внутри эмоции, – словарного запаса двухлетнего ребенка на это просто не хватало. Этим детям нередко ставили неверный диагноз – аутизм, но в зависимости от места жительства и эпохи такие симптомы вполне могли посчитать проявлением сверхъестественных, даже дьявольских сил.
Силы дьявола. Невежественный наблюдатель вполне может принять больного анти-NMDA-рецепторным энцефалитом за одержимого дьяволом. Заболевшие дочери и сыновья вдруг становились похожими на демонов, существ из самых ужасных кошмаров – в них словно кто-то вселялся. Представьте маленькую девочку, которая несколько дней сотрясалась в конвульсиях, подпрыгивая на метр над кроватью, затем начинала говорить странным утробным голосом, неестественно изгибаться и спускаться по лестнице по-крабьи, шипеть как змея и плеваться кровью.
Эта ужасающая сцена, разумеется, взята из режиссерской версии блокбастера «Экзорцист», и хоть и вымышленная, она хорошо характеризует поведение детей, страдающих анти-NMDA-рецепторным энцефалитом. Может показаться, что я преувеличиваю, но это не так. Например, Стивен больше не может смотреть «Экзорциста»: фильм напоминает ему о моих необъяснимых панических атаках в больнице и первом припадке, случившемся, когда мы смотрели телевизор на раскладном диване в моей квартире.
В 2009 году тринадцатилетняя девочка из Теннесси начала проявлять «симптомы, менявшиеся каждый час и временами свойственные шизофреникам, а временами – больным аутизмом и церебральным параличом». Девочка была агрессивной, бросалась на людей, закусывала язык и губы. Как-то раз по-крабьи прошлась по коридору больницы. Еще она говорила со странным акцентом, напоминающим каджунский (по описанию газеты «Чаттануга Таймс Фри Пресс», подробно рассказавшей о ее заболевании анти-NMDA-рецепторным энцефалитом и последующем выздоровлении).
Многие родители больных детей сообщают о том, что дети начинают говорить на непонятном чужом языке или со странным акцентом – как героиня Риган из «Экзорциста», заговорившая на беглой латыни со священником, пришедшим провести сеанс изгнания дьявола. Еще один распространенный симптом среди больных этим видом энцефалита – эхолалия, повторение звуков, издаваемых другими людьми. Это объясняет внезапную способность «говорить на непонятных языках» – хотя в реальной жизни больные обычно несут тарабарщину, а не демонстрируют беглое владение иностранным языком, как в фильме.
Но сколько детей за всю историю человечества вместо лечения подвергли экзорцизму, а потом, когда им не стало лучше, бросили умирать? Сколько людей в данный момент находятся в психиатрических лечебницах и приютах для умалишенных и не получают относительно простого лечения стероидами, плазмаферезом и иммунноглобулином (в самых тяжелых случаях применяют интенсивную иммунную терапию или химиотерапию)?
По подсчетам доктора Наджара, приблизительно 90 процентам больных анти-NMDA-рецепторным энцефалитом в 2009 году (то есть в год, когда лечили меня) так и не поставили правильный диагноз. Хотя в наше время, по мере того как информации о заболевании становится больше, этот процент, вероятно, уменьшается, людей, которые страдают вполне излечимой болезнью и не получают необходимого лечения, все еще достаточно. Никогда не забуду, как близко подошла к тому, чтобы стать одной из них.
Продолжая свои исследования, я связалась с коллегой доктора Далмау Ритой Бэлис-Гордон. Та вспомнила старую индийскую поговорку, которую часто приводят в пример нейробиологи, изучающие мозг, – о том, как шестеро слепых ощупывают слона, пытаясь понять, что за объект перед ними. Эта поговорка хорошо показывает, как много ученым еще предстоит узнать об этой болезни.
Каждый человек ощупывает разные части тела животного и пытается понять, что же это за предмет. Один касается хвоста и говорит: «это веревка», второй – ноги и говорит: «это столб», третий – хобота и думает, что перед ним дерево; четвертому попадается ухо, и он говорит, что это опахало; пятый натыкается на живот слона и заявляет, что это стена, а последнему достается бивень, и он говорит, что это рог. Притча существует в разных вариантах и заканчивается тоже по-разному. Например, в буддистской интерпретации все шестеро считают, что угадали правильно, и радуются этому; в другом варианте слепые никак не могут прийти к согласию, и в итоге начинается драка.
Доктор Бэлис-Гордон проводит обнадеживающую аналогию с этой притчей: «Пытаясь понять заболевание, мы подходим к слону спереди и сзади, надеясь в итоге встретиться в середине. Мы пытаемся составить достаточно подробное представление о слоне».
«Ощупывание слона» может в итоге привести к прорыву в двух областях исследований – шизофрении и аутизма. Бэлис-Гордон полагает, что у вполне определенного, пусть и небольшого процента пациентов с диагнозом «шизофрения» и «аутизм» на самом деле аутоиммунное заболевание. Многих детей, которым в итоге ставили диагноз «анти-NMDA-рецепторный энцефалит», вначале причисляли к аутистам. А скольким из тех, кому диагностировали аутизм, так и не удалось добиться правильной постановки диагноза?
Доктор Бэлис-Гордон объяснила, что из 5 миллионов пациентов с диагнозом «аутизм» 4 999 000, возможно, действительно им страдают. Но небольшой процент больных анти-NMDA-рецепторным энцефалитом и другими аналогичными расстройствами мог бы получить эффективное лечение, но не получает его. А всего-то нужно найти опухоль-виновника или соответствующий тип антител в мозгу.
То же можно сказать и о шизофрении. Многих взрослых, которым в итоге диагностируют анти-NMDA-рецепторный энцефалит, вначале считали шизофрениками (или им ставили другие психиатрические диагнозы, как, например, в моем случае – шизоаффективное расстройство). По всем статистическим законам, должны быть люди, которым ставят диагноз «психоз» и «шизофрения», лишая их тем самым возможности получить адекватную медицинскую помощь. Пусть их 0,01 процента – это число все равно огромно.
К сожалению, невозможно провести весь спектр анализов, позволяющий диагностировать аутоиммунное заболевание и назначить соответствующее лечение огромному количеству пациентов с проявленными психиатрическими симптомами. ПЭТ, КТ, МРТ, иммуноглобулин, плазмаферез – каждая из этих процедур может стоить по нескольку тысяч долларов.
«И какова практическая ценность такого скрининга? – задается вопросом профессор психологии Филип Харви. – Проводить люмбальные пункции всем подряд? Это невозможно».
Мое лечение стоило один миллион долларов – нереальная цифра. К счастью, на момент болезни я числилась в штате «Пост» и большую часть этого немыслимого ценника покрыла медицинская страховка. А еще у меня была хорошая поддержка родных. К счастью, моя семья оказалась достаточно обеспеченной, чтобы оплатить из своего кармана все расходы, которые не покрыла и не возместила страховая компания. Но пациенты, у которых психиатрические симптомы проявляются в течение долгого времени, не могут работать постоянно и, увы, не обладают таким «буфером», как я. Они вынуждены довольствоваться пособием по инвалидности и программой медицинской помощи неимущим.
Но ведь это означает, что у психиатров и неврологов есть очень веские причины преодолеть барьер между психиатрией и неврологией и начать наконец рассматривать психические заболевания как нейрохимические нарушения, которыми они и являются. В процессе можно было бы получить больше средств на исследования тех сфер, где психиатрия и неврология пересекаются.
«Можно решить, что это всего лишь совпадение, что между анти-NMDA-рецепторным энцефалитом и шизофренией нет никакой связи. Однако это противоречит законам матери-природы. Наша лучшая гипотеза – что по крайней мере несколько случаев шизофрении объясняются аутоиммунными нарушениями», – говорит доктор Бэлис-Гордон.
Связь между аутоиммунными и психическими заболеваниями взялся исследовать не кто иной, как доктор Наджар. Проведенные им передовые исследования позволили предположить, что определенные формы шизофрении, биполярного расстройства, обсессивно-компульсивных расстройств и депрессии на самом деле вызваны воспалительными процессами в мозгу.
В данный момент доктор Наджар занят исследованием, в перспективе способным совершить настоящую революцию в науке и окончательно разрушить барьер, отделяющий иммунологию от неврологии, а неврологию от психиатрии. Одна из его последних пациенток – девятнадцатилетняя девушка, которой в течение двух лет поставили диагноз «шизофрения» шесть ведущих психиатров. Симптомы начались в семнадцать лет со слуховых галлюцинаций – «мне казалось, что окружающие унижали меня и считали себя лучше», призналась она доктору Наджару. За слуховыми галлюцинациями последовали визуальные. По ночам ей чудились «лица на стенах».
Родители отказывались верить, что у их дочери шизофрения, и в конце концов добрались до университета Нью-Йорка, где и познакомились с доктором Наджаром. Тот сразу же отправил пациентку на биопсию лобных долей – опыт, почерпнутый из моего случая. В ходе биопсии обнаружились и очаг воспаления, и специфические антитела, атакующие глутаматные рецепторы в мозгу. Девушке провели курс лечения стероидами, обменное переливание плазмы и терапию иммуноглобулином. В итоге галлюцинации и паранойя исчезли, но поскольку лечение начали слишком поздно, до сих пор неясно, станет ли она когда-нибудь «прежней».
«Если пациент ведет себя как шизофреник, это вовсе не значит, что у него шизофрения, – вот что сказал мне доктор Наджар. – Мы должны допускать возможность ошибки и быть начеку».
В ходе подготовки статьи мне было интересно узнать мнение доктора Бейли – невролога, утверждавшего, что виной моих проблем являлись алкогольная зависимости и стресс. Что он думает об окончательном диагнозе? Однако когда я дозвонилась до него, оказалось, что он даже не слышал о таком заболевании, хотя о моем случае писали почти все крупные медицинские журналы (включая «Медицинский альманах Новой Англии» и «Нью-Йорк таймс»).
Весной 2009 года я стала двести семнадцатым пациентом с диагнозом «анти-NMDA-рецепторный энцефалит». Через год эта цифра удвоилась. Сейчас пациентов с моим диагнозом уже несколько тысяч. И все же доктор Бейли, который считается одним из лучших неврологов в стране, никогда даже не слышал о такой болезни. Урок, который необходимо извлечь, учитывая, что с 1930-х годов процент неправильных диагнозов в США не уменьшился, – никогда не ограничивайтесь мнением одного врача.
Может, в других отношениях доктор Бейли и является превосходным врачом, но во многом он представляет собой ярчайший пример того, что не так с современной медициной. Я была для него всего лишь одной из многих (он признался, что принимает по тридцать пять человек в день). Доктор Бейли – побочный продукт дефектной системы, вынуждающей неврологов осматривать n-е число пациентов, уделяя каждому по 5 минут, чтобы выполнить «норму». Эта система ужасна. И доктор Бейли, увы, не исключение из правила. Он и есть правило.
А исключением стала я. Мне просто повезло. Я не стала жертвой системы, которая неизбежно упускает из внимания случаи вроде моего – те, что требуют от врачей времени, терпения и индивидуального подхода. В разговоре с доктором Бейли меня потрясло то, что он не знал о существовании моего заболевания, но самым глубоким потрясением было другое – что я вообще выжила, поправилась, что могу сейчас писать эту книгу.
Но самым неприятным в моей работе над подготовкой статьи стало то, к чему я оказалась совершенно не готова. Мне предстояло передать записи с больничных камер видеонаблюдения фоторедактору «Пост», который хотел использовать в статье мои снимки из больницы. Сама я пока не смотрела эти записи, и, если честно, даже и не собиралась.
Но когда у редактора не получилось запустить файл, он позвал меня на помощь. Мне удалось заставить диск работать, но в процессе я мельком увидела себя в больничной ночнушке. Худую, как скелет. С безумным взглядом. Я была чем-то рассержена и агрессивно тянулась к камере.
Я вздрогнула и отвернулась, выдавила улыбку и попыталась сосредоточиться на дыхании. У меня возникло сильнейшее желание выхватить у редактора записи и сжечь их или хотя бы спрятать, чтобы никто их не увидел. Даже после всего, что я выяснила, после всей проделанной работы я оказалась не готова увидеть это. Но что-то в этих записях притягивало меня, заставляя смотреть на экран.
На тот момент я сумела дистанцироваться от своего безумия и рассматривала его как нечто гипотетическое. Но стоило мне увидеть себя на экране вблизи, вживую, как эта дистанция между журналистом и объектом стерлась без следа. Эта девушка на записи была напоминанием о том, как хрупка грань, отделяющая нас от безумия и болезни, и как мы зависим от капризов нашего предательского организма, который когда-нибудь неизбежно навсегда отвернется от нас. Я поняла, что всего лишь пленница, как и все мы. И с этим осознанием пришло болезненное чувство собственной уязвимости.
Тем вечером я вернулась домой, а ночью мне снились тревожные, сменяющие друг друга сны. В одном сне мы с мамой и Алленом были в Саммите.
– Помнишь, как ты лежала в больнице? – спросила мама и расхохоталась. – Ты так обезумела, что… – Она так безудержно смеялась, что не могла закончить фразу.
– Что случилось? – спросила я, хватаясь за блокнот и диктофон.
Но она все смеялась, хватая воздух ртом; истерика мешала ей говорить.
Потом второй сон – как внезапное продолжение первого: я голая иду по коридору эпилептического отделения и ищу туалет, чтобы спрятаться там. Слышу, как мимо идут медсестры, и пытаюсь скрыться, но, завернув за угол, натыкаюсь на Аделину – медсестру-филиппинку. Только теперь я уже одета.
– Сюзанна, – говорит она, – слышала, ты совсем себя не бережешь. Это очень плохо.
Хотя мне не хочется истолковывать эти сны по Фрейду, они явно символизируют мою озабоченность тем, как я вела себя в больнице и как окружающие воспринимали меня во время выздоровления. Я не хотела, чтобы мое психологическое состояние в ходе работы над первым крупным заданием для «Пост» было настолько неустойчивым, не хотела ощущать уязвимость и расстройство, но эти видеозаписи, несомненно, выбили меня из колеи.
Итак, хотя я сама еще не знала, готова ли вернуться к серьезной работе, четвертого октября «Пост» опубликовала самую крупную статью в моей карьере. Заголовок гласил: «Мой загадочный потерявшийся месяц безумия: счастливую 24-летнюю девушку вдруг настигает паранойя и припадки. Неужели я сошла с ума?»
48. Комплекс выжившего
Одно дело исследовать собственную историю болезни и абстрактно рассуждать о людях, страдавших тем же заболеванием; совсем другое попытаться познакомиться с реальными людьми, которые, как и я, рисковали стать жертвами системы.
Поскольку я была единственной пациенткой больницы университета Нью-Йорка, у которой когда-либо диагностировали анти-NMDA-рецепторный энцефалит, у меня возникло ощущение, будто я была единственным выжившим ветераном войны, которому не с кем было поделиться боевыми воспоминаниями. Оказалось, я была неправа.
Хотя моя болезнь была действительно редкой, она являлась всего лишь одним из более чем ста различных аутоиммунных заболеваний, которыми только в США болеют более пятидесяти миллионов человек – ошеломляющее число, более чем утроившееся за последние тридцать лет. Тревожные цифры: большинство пациентов с аутоиммунными заболеваниями – женщины (75 процентов). То есть аутоиммунные заболевания встречаются у женщин чаще, чем все виды рака, вместе взятые, являясь, пожалуй, главной причиной инвалидности среди женщин всех возрастов.
Существует множество теорий, объясняющих эту непропорциональность, – от генетической предрасположенности и факторов окружающей среды до гормональных причин (большинство женщин заболевают в детородном возрасте). Вероятно, играет роль и то, что перед иммунной системой женщин стоят более сложные задачи: ведь ей требуется распознать плод, то есть, по сути, отчасти чужеродное тело, и обеспечить ему безопасные условия развития во внутриутробном периоде. А чем сложнее система, тем серьезнее ее повреждения. Но на данный момент причина такой разницы в цифрах не выяснена; ученые могут лишь предполагать.
Доктор Далмау и врачи из его лаборатории выявили еще несколько видов аутоиммунных заболеваний, связанных с реакцией антител на определенные рецепторы и затрагивающих мозг. Анти-NMDA-рецепторный энцефалит по-прежнему остается редким заболеванием, но эта болезнь не единственная.
В настоящее время аутоиммунные заболевания, вызываемые активностью определенного рода антител, выделены в самостоятельную группу синдромов. Лаборатория доктора Далмау определила еще шесть типов антител, связывающихся с различными рецепторами в мозгу и «охотящихся» на них подобно антителам, связывающимся с NMDA-рецепторами. Меня это поразило. И это число неокончательное. Доктор Далмау предполагает, что в конце исследований таких антител окажется около двадцати, а возможно, и больше. Когда эти антитела наконец будут выявлены, у десятка заболеваний, ныне безымянных или проходящих под общим названием «энцефалит или психоз неизвестной этиологии», появится имя.
Стоит ли удивляться, что после публикации в «Пост» мой почтовый ящик оказался завален письмами от родителей детей, которым недавно диагностировали самые разные аутоиммунные заболевания; от женщин моего возраста, страдающих той же болезнью в острой стадии; от людей, подозревающих, что у их близких «мое» заболевание и жаждущих узнать о наиболее эффективных методах лечения. Как любая глубокая травма, аутоиммунное заболевание меняет человека и раскрывает его сердце. Пережившие так много готовы отдавать и помогать любому, кто оказался в похожей беде. Но открываясь людям, демонстрируя им свои кровоточащие раны, вы становитесь уязвимы, открыты всем стихиям.
В то время я услышала много историй, напоминавших мою собственную; встречались и более страшные случаи. Слова людей, с которыми я общалась, не давали мне спать по ночам: почему это случилось со мной? Почему именно у меня антитела решили атаковать мозг? И почему именно я смогла поправиться?
Это вопросы, которые и я теперь задаю себе постоянно – не из жалости к себе, а из искреннего желания узнать, почему именно мой организм решил обернуться против себя самого. С другой стороны, а почему бы и нет? В мире насчитывается несколько тысяч пациентов с анти-NMDA-рецепторным энцефалитом, и не для всех дело закончилось хорошо. Одна пожилая женщина скончалась в результате неверного диагноза (ей диагностировали инфекцию мочеполовой системы); беременная женщина потеряла ребенка из-за обострения симптомов; нескольким девушкам удалили яичники, так как тератому так и не обнаружили, а иммунодепрессанты, которые так хорошо помогли мне, оказались неэффективными.
Бред и галлюцинации наблюдались почти у всех пациентов, с кем мне довелось пообщаться. Учительница музыки видела и слышала под своим окном симфонический оркестр; молодая женщина звала священника и требовала провести сеанс экзорцизма, она была уверена, что в нее вселился дьявол; еще одна пациентка моего возраста уже на стадии выздоровления прониклась такой ненавистью к себе, что начала себя увечить – вырывать волосы на голове и резать руки. Общим симптомом была и паранойя, особенно в отношении близких родственников мужского пола. Одна пациентка средних лет возомнила, что соседка родила ребенка от ее мужа; девочка-подросток была убеждена, что ее отец изменяет матери. Другая двенадцатилетняя девочка пыталась выпрыгнуть из машины на ходу; еще одна не желала есть ничего, кроме винограда (а у меня было то же самое с яблоками).
И все, с кем я говорила, потеряли себя. Но не всем удалось себя найти. Некоторым пришлось смириться с тем, что они уже никогда не станут такими же умными, как до болезни, что их чувство юмора и жизненная искра потеряны навек.
Мне звонили даже люди, которым диагностировали шизофрению; они отчаянно желали, чтобы им поставили любой другой диагноз. Моя история обнадеживала их, но некоторые были настолько одержимы и настойчивы в своих преследованиях, что мне становилось страшно.
– Вы же знаете, что они нас сейчас слышат? – сказала в ходе разговора одна пожилая дама.
– Простите?
– Они поставили жучок мне на телефон. Поэтому я многое не могу рассказать.
– Я слышу голоса, – признался другой пациент. – За мной охотятся. Да и за вами тоже.
Одна женщина, охваченная маниакальным бредом, звонила несколько раз в день; ее торопливую речь было трудно понять, но она пыталась договориться о встрече со мной, чтобы я сама поставила ей диагноз.
– Но я не врач. Вам нужно связаться со специалистами, – отвечала я таким людям и диктовала список номеров врачей, которые меня лечили.
Откровенно говоря, единственное различие между мной и этими людьми с симптомами шизофрении заключалось в том, что меня в итоге вылечили. Как и они, я прекрасно понимала, что значит оказаться запертой внутри кривого зеркала своей покореженной психики.
Комплекс выжившего – распространенная разновидность посттравматического синдрома: по оценкам, им страдают 20–30 процентов выживших после травмы. Он встречается у больных СПИДом и раком и у ветеранов войн. И я искренне понимаю этих людей, хотя моя проблема в некотором смысле противоположна посттравматическому синдрому: в то время как большинство страдающих им отчаянно пытаются избежать воспоминаний о травме, мне вспомнить нечего.
Но все же чувство вины преследует меня, особенно когда я общаюсь с семьями пациентов. Те, само собой, полны обиды на весь мир. Был один парень, который недавно женился; он позвонил мне поговорить о своей жене – связался со мной через Фейсбук, и я дала ему телефон.
– Откуда вы знаете, что снова не заболеете? – агрессивно спросил он.
– Я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос.
– Но как вы можете быть уверены?
– Я не уверена. Я знаю лишь то, что говорят врачи.
– А почему вы выздоровели, а моя жена до сих пор не поправилась, хотя ей раньше поставили диагноз?
– Я… я не знаю.
Через две недели он позвонил снова.
– Она умерла. На прошлой неделе. Я решил, что вы должны знать.
В случае с его женой постановка диагноза не стала чудесным спасением. Она им и не является. Увы, у этой болезни нет логики: это лотерея, несправедливая, случайная и, что уж говорить, страшная. Даже при должном лечении остается примерно 25-процентная вероятность, что пациент умрет или останется инвалидом.
Однако болезнь сблизила меня со множеством людей, общение с которыми стало настоящим даром, – конечно, такого «подарка» я не пожелаю и злейшему врагу, но для меня это действительно был дар.
Например, я сблизилась с Несрин Шахин. Ее дочь, подросток, заболела примерно в то же время, что и я, и Несрин посвятила себя неустанной работе по распространению сведений о заболевании. Она создала страницу на Фейсбуке, посвященную анти-NMDA-рецепторному энцефалиту, и по много часов в день наполняла ее информацией, помогая сотням людей ориентироваться во всем, что связано с малоизвестной болезнью. И страничка Несрин на Фейсбуке – не единственный источник информации; есть множество сайтов, посвященных популяризации анти-NMDA-рецепторного энцефалита и общению пациентов и их семей. Благодаря этим сайтам им не приходится переживать такое испытание в одиночку.
Безусловно, самым воодушевляющим моментом всей моей жизни – и то, что я могу сказать это с полной уверенностью, является еще одним примером того, как моя болезнь изменила мой взгляд на мир, сделав его более позитивным, – стал весенний день в 2010 году, когда мне позвонил Билл Гэвиган.
– Сюзанна Кэхалан? – взволнованно проговорил он.
– Да, – удивленно ответила я. Я не привыкла, чтобы мое имя произносили с таким благоговением.
Билл рассказал мне историю своей дочери Эмили. Однажды, когда Эмили училась на втором курсе в одном из колледжей Пенсильвании, она вдруг начала тараторить и заявила, что ее преследуют фургоны, а их водители сообщают друг другу о ее местонахождении по рации. На следующий день по пути на бродвейский спектакль Эмили зациклилась на окружавшем их потоке машин: ей казалось, что за ними следят. Билл и его Грейс это настолько обеспокоило, что они немедля развернулись и поехали в отделение неотложной помощи. В больнице паранойя Эмили усилилась, так как врач «Скорой помощи» оказался похож на ее школьного учителя истории. Она решила, что перед ней самозванец – актер, играющий роль врача (то же самое произошло со мной: я думала, что мой отец – самозванец, а медсестра, проводившая мне ЭЭГ, – актриса).
Эмили согласилась лечь в психиатрическое отделение и 72 часа оставалась под наблюдением, не контактируя с семьей. Ей прописали тонну антидепрессантов и антипсихотических средств и оставили в больнице еще на две недели, после чего выписали с диагнозом «психоз неизвестной этиологии», – что на врачебном жаргоне означает «мы понятия не имеем, что с вами».
Хотя Эмили принимала сильнейшие успокоительные, она решила вернуться к учебе. Потом родителям позвонил завуч, крайне обеспокоенный странным поведением девушки. Она вернулась домой и несколько недель курсировала между домом своих родителей и офисом местного психиатра, пока ее наконец не положили в Институт психиатрии Пенсильвании на три недели. Билл сравнивал случившееся с фильмом «Пролетая над гнездом кукушки».
Хотя диагноз Эмили так и не поставили, психиатр сообщил ее родителям, что, скорее всего, у нее шизофрения, хотя несколько неврологов предположили, что, возможно, речь идет о рассеянном склерозе. Социальный работник из Института психиатрии посоветовала родителям уже тогда оформить инвалидность, потому что, по ее словам, «она никогда не сможет работать». Билл отказался в это поверить и после ухода соцработника выбросил формуляры в мусорку.
Примерно тогда сестра Билла Мэри увидела меня по телевидению (продюсер программы «Сегодня» прочел статью в «Пост» и пригласил меня на интервью). Она отправила запись программы Биллу, а тот показал ее и мою статью в «Пост» психиатру Эмили.
– Но у нее не было припадков, – возразил психиатр, указывая на расхождения в наших историях болезни. Кажется, его всерьез оскорбил намек, что, возможно, он что-то упустил. – Вы должны смириться с тем, что у вашей дочери психическое заболевание.
Эмили провела в клинике 21 день, прошла амбулаторное лечение и наконец вернулась в колледж, закончив семестр с хорошими оценками, хотя, по мнению родителей, все еще не восстановилась на 100 процентов.
Казалось, проблема – чем бы она ни была вызвана – осталась позади. Но потом Эмили вернулась домой на весенние каникулы, и родители заметили у нее тревожное обострение физических и когнитивных нарушений. Билл обратил внимание, что она не могла решить простейшие математические задачи; Грейс заметила, что дочь пытается есть мороженое, но не может удержать ложку. А потом она вдруг перестала говорить (хотя с начала болезни, наоборот, слишком тараторила).
Родители срочно повезли ее в больницу, где им сообщили, что прошлогодняя процедура МРТ показала наличие воспаления (Гэвиганы слышали об этом впервые). Пока врачи готовились к проведению агрессивной иммунной терапии (иммуноглобулин противодействует воспалению), у Эмили образовался мозговой тромб и начался припадок, длившийся примерно полтора часа.
В соседней палате Эмили билась в конвульсиях, а Билл тем временем сунул мою статью в руки дежурному неврологу.
– Прочтите это. Сейчас же, – велел он.
Доктор прочел статью прямо на месте, положил вырезку в карман и согласился провести анализ на редкое аутоиммунное заболевание.
Как только Эмили стало возможно перевозить, ее отправили на вертолете в университет Пенсильвании. Там доктор Далмау с коллегами поставили ей диагноз и начали лечение от анти-NMDA-рецепторного энцефалита. Агрессивная терапия стероидами и химиотерапия возымели действие, и в данный момент Эмили снова учится в колледже. Ее здоровье восстановилось на 100 процентов, и в 2012 году она получила диплом.
Вот что сказал мне ее отец:
– Не хочу драматизировать, но, пожалуй, иначе и нельзя. Без шуток, если бы в тот момент у меня не было вашей статьи и я бы не показал ее врачу, Эмили бы умерла.
Он прислал мне видео, в котором Эмили катается на коньках. «Думаю, вы захотите посмотреть, как Эмили катается, – написал он. – Она вышла на лед впервые за два года. Когда запись начинается, она уже в центре катка. В прошлые выходные был День матери, и я вспоминал, как в прошлом году в то же время повез ее на инвалидном кресле в сувенирный магазин при больнице, чтобы она купила матери открытку. И вот прошел год, и она катается на коньках, как вы сами хорошо видите. Мы не устаем благодарить судьбу за это».
Я открыла видеоролик на телефоне и просмотрела его от начала до конца. На Эмили розовая юбка, черные леггинсы и черная кофта; в волосах розовая ленточка. Ее движения так непринужденны, что кажется, будто она парит над катком, совершая пируэты, кружась и кружась.
49. Сын заставил гордиться отца
Статья «Месяц моего безумия» оказалась судьбоносной не только для меня, но и для доктора Наджара. После публикации он пригласил меня к себе домой в Шорт-Хиллз – оказывается, он тоже жил в Нью-Джерси, всего в пяти минутах езды от маминого дома в Саммите. Доктор открыл дверь и познакомил меня со своими тремя сыновьями и женой Марвой – миловидной женщиной со светлой кожей и светлыми волосами, которая была моложе его на несколько лет. Они познакомились в 1989 году в Нью-Йоркском госпитале имени Бикмана в Даунтауне (который потом стал филиалом больницы университета Нью-Йорка). Он учился на невропатолога, а она работала в лаборатории. Как-то раз застенчивый Сухель пошутил вполголоса по-арабски, и, к его удивлению, она засмеялась. Несмотря на европейскую внешность, Марва тоже родом из Сирии.
Мы сели в гостиной у рояля, и Марва подала чай. В разговоре доктор Наджар вспомнил об отце, Салиме Наджаре, и с гордостью поделился его невероятной историей.
Салим вырос в приюте. Его мать с утра до вечера работала в соседней больнице – шила лабораторные халаты для врачей (такое вот совпадение). Когда отец Салима скоропостижно скончался, ей пришлось отдать мальчика в приют. Она не смогла бы содержать ребенка в одиночку на свою мизерную зарплату. Салим всегда подчеркивал, как важно получить образование, но сам не закончил школу. Однако сила воли и перфекционизм помогли ему обучиться строительному ремеслу и достичь в нем небывалых высот – его строительная компания построила центральный международный аэропорт Дамаска. Правда, все это не шло ни в какое сравнение с успехом, который ждал его сына в Америке.
– Мой отец видел вашу статью. Ее перевели на арабский и опубликовали в газетах. Не в одной – во всех, – сообщил доктор Наджар. – Отец даже прослезился. Серьезно.
– Не может быть, – отвечала я.
– Да, а статью повесил в рамочку.
После выхода статьи доктору Наджару позвонил посол Сирии при ООН и лично поздравил его с проделанной работой, а мою статью отправили в сирийское информационное агентство SANSA. Буквально на следующий день история о том, как сирийский мальчик стал врачом и теперь вершит чудеса в Америке, попала во все СМИ.
– Вот вам и тупица Сухель. Худший ученик в классе, который не мог решить ни одну задачку, – улыбнулась Марва. – Сын заставил гордиться отца. Ты сделал это, мой дорогой, и сколько еще предстоит.
В том же году журнал New York Magazine назвал доктора Наджара одним из лучших неврологов страны.
50. Восторг
К моменту публикации моей статьи в «Пост» большинство моих знакомых сходились в одном: «Сюзанна вернулась». Я вышла на работу в «Пост» на полный день, доктор Наджар и доктор Арслан наконец отменили все лекарства, а в начале 2010 года я даже выступала на телевидении в прямом эфире – меня пригласили гостем в программу «Сегодня», чтобы обсудить мою болезнь.
Поскольку мама с Алленом решили продать свой дом в Саммите, мы со Стивеном начали жить вместе гораздо раньше, чем собирались. Несколько месяцев мы ходили вокруг да около: я просматривала объявления о найме квартиры-студии, которая вписалась бы в мой ограниченный бюджет. Через несколько недель поисков мне стало ясно, что своя квартира мне не по средствам. Я боялась заговаривать со Стивеном о возможности съехаться, потому что мне казалось, что я слишком рано подталкиваю его к следующему шагу в отношениях. Давить на него было несправедливо: разве мог он мне отказать? Но когда я ненароком упомянула о том, что можно было бы поселиться вместе, он не колеблясь ответил: «Я в общем-то предполагал, что мы так и сделаем».
И все же Стивен в глубине души волновался, что теперь на него ляжет роль моего опекуна, хотя я чувствовала себя уже вполне нормально. Случись со мной что-нибудь в нашем общем доме, ответственность легла бы на него. Но он решил не отступать: я была на нуле эмоционально, финансово и физически и не могла жить одна, а он не хотел, чтобы мы расставались.
Так что взрослый шаг – начало совместной жизни – можно добавить к перечню доказательств того, что я «вернулась». Хотя на самом деле мне понадобилось еще несколько месяцев, чтобы уверенно заявить: я снова чувствую себя комфортно «в своей шкуре» и наконец могу не забиваться в угол на занятиях по сайклу, а встретившись с бывшем парнем на улице, не желаю провалиться сквозь землю.
Момент осознания наступил не в одночасье: прошло больше года с момента постановки диагноза. В июне 2010 года я гостила у родственников в Санта-Фе, Нью-Мексико: моя двоюродная сестра Блайт выходила замуж. На этой свадьбе, в отличие от предыдущей, на которой я была в начале выздоровления, больше не было пропасти между тем человеком, которым я была внутри, и тем, кого видели во мне окружающие. Я чувствовала себя спокойно, я все контролировала; мне не нужно было больше подбирать нужные слова, заставлять себя участвовать в разговоре; ко мне вернулось прежнее чувство юмора.
Поскольку родные и друзья меня почти что похоронили, они не смущаются и открыто говорят о своих отношениях со мной и впечатлениях обо мне. Поэтому я часто чувствую себя, как Том Сойер на собственных похоронах, – это тоже дар, хоть и странный. Особенно часто я слышу два слова: общительная и разговорчивая. Говоря обо мне, почти все используют эти слова или их синонимы. Я никогда не догадывалась, что именно эти две характеристики были моими определяющими и как, должно быть, было больно окружающим осознавать, что я утратила их.
Я знаю: новая Сюзанна во многом похожа на старую. Конечно, изменения есть, но это скорее шаг в сторону, чем полная трансформация личности. Я снова могу быстро говорить и с легкостью делаю свою работу; я полна уверенности в себе и узнаю себя на фотографиях. И все же, когда я смотрю на фотографии себя «после» и сравниваю их с «до», то вижу: что-то изменилось. Я что-то потеряла или, может, приобрела, не знаю – я вижу это во взгляде.
Однако то, что я снова узнаю себя на фотографиях, не означает, что я стала прежней – я изменилась. Когда я пытаюсь отметить все мелкие несоответствия между «до» и «после», рука инстинктивно тянется к чувствительному шрамированному участку кожи в передней части головы, где никогда не будут расти волосы. Это постоянное напоминание о том, что, насколько бы «нормальной» я себя ни чувствовала, я никогда не стану тем же человеком, каким была.
Но есть что-то более пугающее, что тревожит меня в этой «новой» Сюзанне. Например, я начала разговаривать во сне каждую ночь – раньше этого не было. Как-то раз Стивена разбудил мой крик: «Там пакет молока. Большой пакет!» Кому-то это покажется смешным, но учитывая все, что нам пришлось пережить, эти ночные вскрики производят несколько зловещее впечатление. А еще у меня появились страхи, которых не было у прежней Сюзанны. Например, несколько месяцев назад один встревоженный отец позвонил сообщить новости о своей дочери, у которой случился рецидив. Он рассказал еще одну историю о женщине, которая выздоровела и несколько лет была здорова, но потом отправилась в путешествие за границу и снова заболела.
По всей видимости, рецидивы случаются в 20 процентах случаев. И, в отличие от рака, мы не знаем точную дату ремиссии. Полностью восстановившись, вы можете снова заболеть завтра или через пять лет. Причем те, у кого не было тератомы (в том числе я), рискуют больше – причины пока не выяснены. Но, по крайней мере, в случае рецидива шансы на выздоровление такие же, как при первой вспышке болезни. Меня это немного успокаивает.
Недавно мы со Стивеном сидели дома, в нашей квартире в Джерси-Сити, и смотрели телевизор. Тут мне показалось, что на полу что-то шевельнулось.
– Ты видел? – спросила я Стивена.
– Что?
– Ничего. – Неужели я снова схожу с ума? Значит, так теперь будет всегда?
И тут я снова его увидела. И Стивен: он взял тапок и прихлопнул пятисантиметрового водяного клопа.
Страх со мной неотступно. Он не управляет мной и не мешает мне чувствовать себя уверенно, но я живу с ним. Друзьям и родным, которых я расспрашивала, никогда бы не пришло в голову назвать меня нервной, но время от времени, когда я еду в метро и краски кажутся ярче, чем обычно, я думаю: новые лампы? Или я опять схожу с ума?
А как насчет более тонких, неосязаемых изменений, которые не видны невооруженным глазом? Я спросила Стивена, кажется ли ему, что я изменилась. Что если я страдаю от когнитивных нарушений, которые мне самой незаметны? Он задумался и покачал головой:
– Нет, не думаю. – Но в голосе его не было уверенности.
А вот мои близкие изменились, без всякого сомнения – может, даже больше, чем я. Стивен всегда был таким беспечным, а теперь стал мнительным, особенно со мной.
– Ты телефон взяла? Тебя долго не будет? Позвони, как только выйдешь, – часто повторяет теперь он, звонит и заваливает меня сообщениями, если я в течение нескольких минут не беру трубку.
Еще долго после выписки Стивен относился ко мне как к дорогой и хрупкой фарфоровой вазе, которая может разбиться в любой момент, и продолжал оберегать меня от трещин и надломов внешнего мира. Хотя я буду вечно благодарить его за это, порой меня раздражает, что он никак не может отказаться от этой роли. Конечно, его нельзя за это винить. Но я винила. Мне было трудно смириться с тем, что меня нянчили, как ребенка, это противоречило самой моей сущности – ведь я привыкла полагаться только на себя, мое стремление к независимости доходило до абсурда. Я начинала упрямо перечить ему: задерживалась допоздна и не звонила, нарочно донимала его с его постоянными проверками.
Лишь когда я начала вести себя по-взрослому, Стивен стал относиться ко мне соответствующе, и постепенно мы снова стали равны, а в наших отношениях установился здоровый баланс, так непохожий на динамику «пациент-опекун», сформировавшуюся под резким светом больничных ламп. Но, разумеется, он все еще переживает за меня, и вряд ли когда-нибудь перестанет. Мысли его часто возвращаются к той ночи в моей квартире в Адской кухне, когда мои глаза закатились, тело напряглось и наши жизни изменились навсегда.
А кое-что не изменилось. Мои родители, которые сумели ненадолго забыть о своей давней вражде, пока я лежала в больнице, так и не смогли наладить нормальные отношения после моего выздоровления. Когда я перестала ходить к врачу, им уже незачем стало поддерживать контакт и они снова стали избегать друг друга – даже тот факт, что их дочь оказалась на шаг от смерти, не смог на это повлиять.
Говорят, люди не меняются. Помню, перед началом школьного года в шестом классе нас вызвали к школьному психологу. Та обсудила с нами переход из начальной школы в среднюю. Она попросила меня выбрать смайлик из примерно пятидесяти, который лучше всего бы описывал мое эмоциональное состояние в первый школьный день. Я выбрала «восторг» – смайлик, смеявшийся во весь рот. Психолога удивил мой выбор, как оказалось, довольно редкий. Но тогда я действительно испытывала восторг, а сейчас? Или моя искра погасла навсегда? Может, что-то во мне так и не пережило этого пожара?
51. Может сбежать
Медсестра-самозванка из кабинета ЭЭГ, толпа папарацци, окружившая отца, которого показывают в последних новостях, оскорбление, вдруг брошенное отчимом… Эти абсурдные воспоминания преследуют меня, а другие – реальные и записанные на камеру – просачиваются сквозь сито моей памяти, как вода. Если я помню лишь галлюцинации, разве могу я себе доверять?
Мне до сих пор сложно отличить факты от вымысла. Я даже спросила маму, не обозвал ли меня Аллен в тот день в машине шлюхой.
– Ты шутишь, что ли? – спросила она, обидевшись, что я могла предположить такое. – Он никогда бы так не сказал.
Она была права: мой логический ум понимал, что Аллен неспособен на такое. Но почему тогда я продолжала верить своим странным воспоминаниям, хотя уже получила кучу доказательств, что их не было? И почему именно эти воспоминания сохранились? Если моя болезнь не была психической, откуда взялись галлюцинации?
Хотя галлюцинации, паранойя и иллюзорное восприятие реальности являются основными симптомами шизофрении, они могут проявиться и у тех, кто не страдает заболеваниями психики. В 2010 году исследование, проведенное Кембриджским университетом, помогло пролить свет на мыслительный процесс шизофреников.
В ходе исследования здоровым студентам-добровольцам вводили вещество кетамин, блокирующее NMDA-рецепторы, поврежденные в ходе моей болезни, после чего им провели так называемый «тест с резиновой рукой». Пятнадцать студентов попросили положить руку на стол рядом с резиновой рукой; при этом в первый раз им вводили кетамин, а во второй – плацебо. В ходе эксперимента настоящая рука была спрятана, а кисточки, присоединенные к моторам, проводили по указательным пальцам обеих рук. Хотя эта иллюзия могла обмануть и тех, кто принимал плацебо, студенты, принявшие кетамин, скорее верили, что резиновая рука настоящая и принадлежит им, и меньше сомневались в этом.
Эксперимент показал, что инъекция кетамина способствует нарушению восприятия реальности, и то, что рациональному уму кажется невозможным, внезапно становится реальным (как, например, умение изменять возраст человека усилием мысли).
Десятилетиями ученые исследуют этот феномен, проводя эксперименты, подобные опыту с резиновой рукой. Но галлюцинации остаются интригующим предметом изучения, и ученые так и не пришли к единому мнению об основных механизмах и причинах их возникновения.
Нам лишь известно, что галлюцинации возникают, когда мозг воспринимает внешний стимул – образ, звук или прикосновение, – но стимула на самом деле нет; мозг неспособен различить внешнее и внутреннее (так называемая теория саморегулирования).
По мнению профессора психологии Филипа Харви, именно потому, что галлюцинации порождены нашим собственным умом, в них так легко поверить и они так отчетливо откладываются в памяти. Срабатывает так называемый производственный эффект: «Поскольку мы сами производим галлюцинации, – объяснил мне доктор Харви, – они и запоминаются лучше».
Поэтому я скорее всего никогда не забуду тот момент, когда мне казалось, что я состариваю психиатра усилием мысли. И это лишь доказывает, как ненадежна наша память. Это осознание не дает мне покоя.
Например, я совершенно отчетливо помню, как проснулась в смирительных ремнях в палате интенсивного наблюдения, где, кроме моей, было еще четыре кровати, и как за мной присматривала женщина в фиолетовом – сцена, описанная в начале этой книги. Я точно помню, что видела на правой руке оранжевый браслет с надписью «МОЖЕТ СБЕЖАТЬ». Родители и друзья это подтвердили, и я, само собой, решила, что это правда. Я носила браслет с надписью «МОЖЕТ СБЕЖАТЬ» – для меня это факт.
А все же оказалось, что я все выдумала. В разговоре с медсестрами и врачами из эпилептического отделения выяснилось, что таких браслетов не бывает. Одна из медсестер предположила: «Наверное, это был браслет “МОЖЕТ УПАСТЬ”. Эти браслеты не оранжевые, а желтые». Запись с камер наблюдения подтвердила ее предположение. Действительно, не бывает никаких оранжевых браслетов с надписью «МОЖЕТ СБЕЖАТЬ».
«Вспоминая события прошлого, люди часто примешивают новую информацию к старой и тем самым создают новые воспоминания», – объясняет психолог Элизабет Лофтус. Всю свою жизнь Лофтус пытается доказать, что наша память несовершенна. В научном исследовании 1978 года, впоследствии вошедшем в начальный вузовский курс психологии, она демонстрировала участникам эксперимента слайды, на которых красный автомобиль сбивал пешехода. Хотя на фото было безошибочно видно, что на дороге стоял знак «СТОП», когда Лофтус начинала расспрашивать испытуемых, она использовала нарочно сбивающие с толку вопросы, например: «какого цвета был знак “уступи дорогу”?» В результате участники, которым задавали наводящие вопросы, чаще отвечали неверно, чем те, кому их не задавали. Открытие Элизабет Лофтус поставило под сомнение реальную ценность свидетельских показаний.
А в 2000 году группа нью-йоркских нейробиологов подтвердила предположение Лофтус на примере лабораторных крыс. Ученые решили проверить, изменяются ли наши воспоминания каждый раз, когда мы «извлекаем» их из памяти. Так был открыт еще один шаг в процессе запоминания, называемый реконсолидацией: извлекая воспоминание, мы, по сути, переделываем его, позволяя просочиться новой (и порой ошибочной) информации. В большинстве случаев это идет на пользу – ведь нам необходимо обновлять старый опыт, включая в него новую информацию, – но порой в ходе этого процесса возникают серьезные неточности.
Профессор психологии Генри Редиггер называет случаи, подобные казусу с оранжевым браслетом, разновидностью группового мышления: если один человек запомнил что-то неправильно и поделился воспоминанием с другими, неверная информация распространяется, как зараза из фильма «Эпидемия».
Помнила ли я то, чего не было? Была ли я человеком, распространившим заразу? Я уверена, что отчетливо помню слова «МОЖЕТ СБЕЖАТЬ» на браслете. Или нет?
52. Портрет мадам Икс
– Наш мозг сочиняет сказки, – объяснила Крис Моррисон, нейропсихолог, проводившая мне тестирование в больнице. Я взяла у нее интервью в декабре 2010 года. – Когда многократно прокручиваешь что-то в уме, мысленные образы обрабатываются, и ты действительно веришь, что была там. Мы добавляем недостающие фрагменты и сцены, которые не можем вспомнить. – Как тот браслет с надписью «МОЖЕТ СБЕЖАТЬ».
По аналогии, в мозгу включается механизм извлечения воспоминаний, когда мы видим нечто узнаваемое. Определенные запахи и образы мгновенно переносят нас в прошлое, заставляя вспомнить давно забытое. Через год после выписки из больницы моя подруга Колин пригласила меня в паб недалеко от дома – «Иганс».
Название паба меня «кольнуло». Была ли я там раньше? Я не помнила.
Мы зашли в фешенебельный ирландский паб и направились к барной стойке. Нет. Я тут раньше не была. Но стоило мне оказаться в центральной ресторанной зоне и увидеть низкую люстру, и я поняла: нет, я все же была здесь еще до того, как заболела, – со Стивеном, его сестрой и ее мужем, перед концертом Райана Адамса. Я не только вспомнила, что была здесь; я помнила даже, что заказывала – рыбу с картошкой.
Блестящий жир. Гора жирной картошки в масляной корочке. Меня чуть не стошнило прямо за столом. Я пыталась что-то сказать, но все мысли были лишь о рыбе с картошкой, поблескивавших жиром.
Ясность нахлынувших воспоминаний потрясла меня. Что еще я забыла? Какие еще воспоминания могут вернуться и выбить меня из колеи, напомнив, как тонка грань между реальностью и вымыслом?
Почти каждый день всплывают новые обрывки. Какие-то незначительные детали, например, темно-зеленые носки, которые я носила в больнице, или простое слово – как в аптеке, когда я увидела лекарство Колас, слабительное, которое принимала в клинике, – и тут же нахлынули воспоминания о сестре Аделине. В такие моменты мне кажется, что это та, другая Сюзанна зовет меня и говорит: «Пусть меня больше нет, но я не забыта». Как та девушка с больничных камер, которая умоляет: «Пожалуйста, помогите».
Но я знаю, что на каждое вернувшееся воспоминание приходятся сотни, даже тысячи остающихся погребенными в памяти. Несмотря на все расспросы врачей, все интервью и отысканные дневники, остается множество впечатлений и обрывков жизни, которые просто исчезли.
Как-то утром, через год после того как я переехала к Стивену, у меня наконец дошли руки разобрать коробки со старой квартиры. Я открыла небольшую коробку, где лежал старый сломанный фен, щипцы для завивки волос, блокноты и маленький пакет из коричневой бумаги. В пакете была открытка с изображением в профиль черноволосой женщины – это была какая-то известная картина, и я знала, что видела ее раньше, но где?
Четко обрисованный прямой нос, высокий лоб. Бледная кожа контрастирует с черным вечерним платьем; плечи открыты, платье держится лишь на двух бретельках из драгоценных камней. Женщина стоит в неестественной позе, облокотившись всем весом на кончики пальцев правой руки, которые опираются о деревянный стол; другой рукой она приподнимает полу платья, как королева. Поза соблазнительная и искусственная. Мне она кажется одновременно надменной и нездоровой – словно высокомерие не позволяет ей признать, что она смертельно больна.
Было в этой женской фигуре что-то странно притягательное, но эта картина влекла меня к себе иначе, чем Carota Миро из приемной доктора Бейли, вызывавшая зловещую смесь отвращения и симпатии. При виде этой картины во мне вдруг всколыхнулась память о чем-то давнем; волосы зашевелились от волнения, похожего на то, что я испытывала в детстве. И через мгновение я поняла: то же чувство было у меня, когда я рыскала в мамином комоде. Я смотрела на картину еще несколько минут, пытаясь понять связь между ней и этим забытым воспоминанием, но в итоге не выдержала и перевернула открытку.
Это был «Портрет мадам Икс» Джона Сингера Сарджента, написанный в 1884 году. В пакете нашелся и чек с датой покупки. Я купила эту открытку за доллар шестьдесят три цента в музее искусств «Метрополитен» 17 февраля 2009 – незадолго до первой истерики на работе. И о посещении этого музея у меня не осталось ни клочка, ни обрывка, ни тени воспоминания! Я просто не помнила, что была в «Метрополитен» в тот день в феврале. Не помню, что стояла перед этим полотном; не помню, что так заинтересовало меня в этой величественной и вместе с тем хрупкой фигуре.
А может, все-таки помню? Хочется верить в сказанное когда-то Фридрихом Ницше: «Существование способности забывать так и не доказано: мы лишь знаем, что некоторые вещи не приходят на ум, когда мы того желаем».
Может, воспоминание не стерлось, а запрятано где-то в закоулках моей памяти и ждет подсказки, которая помогла бы ему всплыть? До сих пор этого не произошло, и это наводит на мысли: а что еще я потеряла по пути? И эти воспоминания – они потеряны или просто спрятаны?
Что-то связывает меня с этой картиной – какое-то давно забытое чувство. Я повесила ее на стену в комнате, где пишу, и часто, погрузившись в размышления, смотрю на нее. Может, «меня» и не было, когда я увидела ее впервые, но какая-то часть меня все же находилась тогда в этом музее и прожила весь этот потерянный месяц. Эта мысль меня успокаивает.
53. Женщина в фиолетовом
Почти через два года после выписки из эпилептического отделения медицинского центра Лангона при университете Нью-Йорка я возвращаюсь туда.
Иду по Первой авеню навстречу фиолетовой вывеске «Университет Нью-Йорка», установленной на крыше громадного серого здания больницы. Толкнув неподатливую вращающуюся дверь – механизм отрегулирован для удобства пациентов в инвалидных креслах, – попадаю в современный холл больницы. Врачи в белых лабораторных халатах торопливо проходят мимо пациентов и представителей фармацевтических компаний, которые выглядят как постаревшие студенты колледжа. Угрюмые посетители, несущие пакеты с надписью «Вещи пациента», направляются к лифтам. Автоматические диспенсеры дезинфицирующего средства для рук стоят у каждого входа. Прохожу мимо регистратуры, напротив которой у меня случился припадок, хотя все, что я помню о том дне, – горячий капучино, который купила за минуту до этого.
Сажусь в лифт и еду на двенадцатый этаж. Вспоминаю родителей и Стивена – те ездили в этом лифте по несколько раз в день в течение месяца. Подумать только.
Как ни странно, всё вокруг кажется незнакомым. Медсестры меня не узнают. Я иду по коридору мимо сестринского поста. Никто даже не поднимает головы. На полу в коридоре лежит мужчина и издает булькающие звуки. Сестры выбегают из-за стойки, бегут мимо меня к нему. Я следую за ними. Пожилой мужчина бьется в конвульсиях и издает утробный звериный рык. Медсестры держат его, а охранник кладет на каталку. Халат пациента распахивается ниже пупка. Я отворачиваюсь. Мимо проходит медсестра в зеленой форме.
– Это эпилептическое отделение? – спрашиваю я.
– Нет. Вы в другом крыле. Это восточное крыло. А эпилептическое в западном крыле, на том же этаже.
Что ж, хоть на этот раз память не сыграла со мной злую шутку.
Возвращаюсь в холл и сажусь в другой лифт, но снова, к своему разочарованию, понимаю, что все выглядит незнакомым. А потом мне в нос ударяет запах: сладкий мускусный с примесью пропитанной спиртом ваты. Да, это здесь; иначе и быть не может. А потом я вижу ее. Женщину в фиолетовом. Она смотрит на меня. Но на этот раз в ее глазах не ужас, не жалость и не страх. На этот раз она смотрит на меня как на нормального, здорового человека – старого знакомого, чье лицо никак не может вспомнить.
Улыбаюсь.
– Вы меня помните? – спрашиваю я.
– Не знаю, – отвечает она. Ямайский акцент – тот самый, из моего сна. – Как вас зовут?
– Сюзанна Кэхалан.
Ее глаза округляются.
– О да, я тебя помню! Помню! – Она улыбается. – Ну точно же, ты, только так изменилась! Выглядишь намного лучше.
И не успею я опомниться, как мы уже обнялись. Она пахнет дезинфицирующим средством. В голове проносятся картины: папа кормит меня овсянкой; мама заламывает руки и нервно смотрит в окно, заходит Стивен с кожаным портфелем. Мне бы плакать, а я улыбаюсь.
Женщина в фиолетовом тихонько целует меня в щеку.
Благодарности
Я не первая, кто скажет: без вас я не смогла бы написать эту книгу. Но в моем случае это клише обретает истинный смысл. Я безо всякого лукавства могу заявить, что, если бы в моей жизни не было стольких замечательных людей, я не писала бы сейчас эти слова.
Вечная благодарность за любовь и поддержку моим бойцам, моей семье: маме, папе, Стивену и Джеймсу. Спасибо и остальным членам моей большой семьи: Аллену Голдману, Жизель Кэхалан, Ханне Грин, Лену Грину и Ане Коэльо, которая никогда не сомневалась, что я осталась прежней – даже в минуты отчаяния. Спасибо родственникам Стивена, его родителям Джону Гривальски и Джейн О’Мэлли, за то, что воспитали такого прекрасного сына. Вы – моя опора. Благодаря вам я живу и процветаю.
А как отблагодарить моих блестящих и самоотверженных «докторов Хаусов» – доктора Сухеля Наджара и Джозепа Далмау? Скажу, как есть: спасибо, что спасли мне жизнь. И не только: спасибо, что уделили так много своего драгоценного времени этому проекту, объяснили мне все тонкости работы мозга и иммунной системы, прочли и одобрили мою рукопись. Спасибо всем врачам и персоналу Медицинского центра Лангона при университете Нью-Йорка и особенно Сабрине Хан, Юнгу Хвану Ану, Джеффри Фридману, Вернеру Дойлу, Карен Гендал, Тамаре Рикафорте, Лауре Думбраве, Хилари Бертиш, медбрату Стиву Шонбергу, доктору Оррину Девински, Дори Клиссас и Крэйгу Эндрюсу. Повторю слова родителей из их благодарственного письма: нет дела важнее, чем то, которое каждый день делаете вы.
Сесть и взяться за написание книги – дело, которое никто за тебя не сделает, и оно требует немало мужества. Но мне очень повезло: меня представляли суперагенты, Ларри Уайссман и Саша Элпер. Они поверили в меня с первой минуты и направляли меня на протяжении всего сложного процесса написания книги. Вы оба стали мне не просто деловыми партнерами: теперь вы моя семья.
Спасибо Free Press, издательству, в последние два года ставшему мне домом. Спасибо невероятно талантливой Хилари Редмон, которая выбрала мою рукопись из многих и взялась за ее редактуру – спасибо, что увидели в моей истории нечто особенное, спасибо, что так же, как я, любите науку и сумели превратить мой рассказ в интересное повествование. Благодарю великолепную Милисент Беннетт, чьи умелые редакторские правки и пытливые расспросы сделали мою книгу глубже, заставили ее «запеть» так, как я сама никогда бы не сумела. Спасибо специалистам по маркетингу Джилл Сигел и Карисе Хейс за веру в то, что моя история важна; Хлое Перкинс, которая потратила немало бессонных ночей, чтобы эта книга стала лучше. Спасибо всей команде Free Press: Сюзанне Донахью, Николь Джадж, Полу О’Хэллорану, Эдит Льюис, Беверли Миллер, Клэр Келли, Аланне Рамирез, Сидни Танигава, Лауре Тэтхем, Кевину Маккэхиллу, Бриттани Дюлак, Келли Робертс и Эрин Ребак. И, наконец, Доминику Анфьюзо и Марте Левин за то, что так верили в меня и создали такое потрясающее издательство, где авторы получают полную поддержку.
Спасибо моему талантливому иллюстратору Моргану Швайцеру: ты сразу ухватил идею, а твои иллюстрации вдохнули жизнь в мою книгу. Спасибо виртуозной Михан Крист: ты не только разъяснила мне все сложности ремесла писателя в жанре научно-популярной литературы, но и помогла найти свой голос.
Спасибо экспертам за терпение и помощь: доктору Рите Бэлис-Гордон из университета Пенсильвании – у нее особый талант разъяснять абстрактные понятия; доктору Крис Моррисон из Медицинского центра университета Нью-Йорка, которая помогла мне понять механизм мозговых «сбоев»; доктору Винсенту Раканьелло из Колумбийского университета, поделившемуся знаниями о том, насколько чудовищными могут быть вирусы; доктору Филипу Харви из Университета Майами, который провел аналогии между моим заболеванием и своими исследованиями шизофрении; доктору Роберту Лахита из больницы Бет Израэль в Ньюарке, с которым мы часами болтали о фагоцитах; доктору Дэвиду Линдену из университета Джонса Хопкинса, который терпеливо рассказывал мне о функции NMDA-рецепторов в мозгу; доктору Джоэлю Пачтеру из университета Коннектикута за то, что объяснил механизм работы гематоэнцефалического барьера; и, наконец, доктору Генри Редигеру III из Вашингтонского университета за то, что познакомил меня с исследованиями на тему «фальшивых воспоминаний».
Спасибо библиотекарям из библиотеки Нью-Йоркской медицинской академии и публичной библиотеки Нью-Йорка и коллегам – научным писателям из группы NeuWrite округа Колумбии за помощь в точных формулировках при написании сложных научных параграфов этой книги.
Мужественным пациентам, которым удалось победить болезнь, и их семьям, которые столь охотно впустили меня в свою жизнь: Несрин Шахин и ее дочери Соне Грамко; Эмили, Биллу и Грейс Гэвиган; Сандре Реали; Черил, Тони и Джейдену Лиузза; Кире Гивенс Эколс; Энджи Макгоуэн; Донне Харрис Зулауф; Аннализе Мейер и ее родителям и многим другим.
Полу Макполину, моему редактору из «Пост», привыкшему говорить без обиняков: как я уже говорила, ты блестящий редактор, и эта книга – свидетельство твоего профессионализма и доброты. Соседке по «Пост» Маурин Кэллахан, которая провела не один вечер, слушая мою болтовню за мартини: твоя проницательность тоже видна на этих страницах. И, конечно, Анджеле Монтефинис, сказавшей, что книга «прекрасная», еще когда она такой не была. Спасибо Анджеле за то, что приносила мне чизбургеры в больницу и приютила мою голубую кошку Дасти – я навеки у тебя в долгу. Спасибо удивительной Джули Стейпен, которая не только в нужный момент привнесла в мою жизнь немного столь необходимого дурачества (своей знаменитой фотографией экскрементов), но и два часа терпеливо фотографировала меня и наконец сделала идеальное фото на обложку этой книги.
Спасибо Кэти Страусс за плюшевую крысу, Дженнифер Армз за бублики с семенами подсолнечника, Линдси Деррингтон за то, что приехала ко мне из самого Сент-Луиса, Коллин Гутвейн за восхитительные фотографии из Камбоджи, Маккензи Доусон за цитату из Сартра, а Джинджер Адамс Отис и Заку Хаберману – за то, что заботились о Дасти, когда я уже не могла.
Спасибо «Нью-Йорк Пост» и особенно ребятам из редакции воскресной газеты, которые так поддерживали меня во время болезни и написания этой книги. Коллеги из «Пост» – мои самые близкие друзья. Спасибо всем тем, кто так или иначе помогал с написанием книги: Джиму Фанелли, Хасани Гиттенсу, Сью Эделман, Лиз Прессман, Изабель Винсент, Робу Уолшу и Кирстен Флеминг. Спасибо Стиву Линчу – он редактировал статью «Мой загадочный потерявшийся месяц безумия», которая легла в основу этой книги. Спасибо моему первому редактору Лорен Рэмсби за то, что научила меня никогда не лениться лишний раз спросить себя «почему?».
Спасибо друзьям и родным, поделившимся столь ценным мнением: семьям Голдманов, Фазано, Розмари Теренцио, Брайану Сирелли, Джею Тьюрону, Саре Нурре, Фрэнку Фенимору, Келси Кифер, Кэлле Гартсайд, Дэвиду Бернарду, Кристи Шварцман, Бетт Старкер и Джеффу Вайнсу. И спасибо Престону Браунингу, который разрешил мне писать эту книгу в его чудесном доме в Веллспринг, ставшем для меня вторым домом.
И наконец, спасибо женщине в фиолетовом, чьего имени я не знаю до сих пор.
Об авторе
Сюзанна Кэхалан начала работать в «Нью-Йорк Пост» в выпускном классе школы и сделала карьеру от интерна до журналиста по специальным расследованиям. Она работает в редакции уже десять лет. Ее статьи также публиковались в «Нью-Йорк таймс» и чешском еженедельнике «Czech Business Weekly» (на первом курсе колледжа Сюзанна училась за рубежом). Ее статья «Мой загадочный потерявшийся месяц безумия» получила журналистскую премию Silurian Award of Excellence как лучший специальный репортаж. Статья легла в основу этой книги. Сюзанна живет в Джерси-Сити.