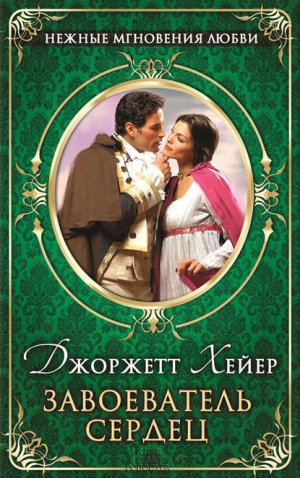
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» 2014
© Georgette Heyer, 1931
© Jon Paul, обложка, 2014
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2014
Пролог
Сейчас он еще мал, но он подрастет.
Герцог Роберт Нормандский (афоризм)
(1028 год)
На рыночной площади раздавался такой шум, перемежаемый криками и яростным торгом, что Герлева, с трудом переставляя ноги, заставила себя подойти к окну своей горницы и остановилась, глядя вниз сквозь щели в ивовых ставнях, закрывавших проем. В базарные дни в Фалез со всей округи стекались толпы людей. Здесь можно было встретить свободных землевладельцев с рабами, пригнавших на продажу свиней и крупный рогатый скот, смердов[1], торгующих яйцами и сыром, разложенными на холсте прямо на земле, сенешалей и дружинников важных лордов, рыцарских жен на смирных верховых лошадках, бюргеров из города и молоденьких девиц, сбившихся в стайки по четыре-пять человек; в их кошелях было мало серебра, однако они радостными восклицаниями приветствовали любую диковинку, попадавшуюся им на глаза.
Бродячие торговцы с вьючными лошадями завлекали покупателей соблазнительными безделушками: брошами с аметистами и гранатами, костяными гребнями и серебряными зеркалами, отполированными до такого блеска, что в них с легкостью можно было увидеть свое отражение, как если бы вы посмотрелись в ручей, текущий у подножия замка. Здесь были лотки, заваленные свечами, маслом и втираниями, восточными пряностями, что распространяют волнующие, волшебные ароматы: китайским калганом, гвоздикой, кубебой и сладкой корицей. А совсем рядом торговцы съестными припасами установили палатки и бочки, где можно было купить только что пойманных миног и селедку, такие редкие деликатесы, как имбирь, сахар и перец, кувшинчики с горчицей из Ломбардии, а также буханки сдобного белого хлеба, на каждой из которых красовалось клеймо булочника. Рядом с ними какой-то коробейник, завлекая домохозяек, бойко торговал медными кастрюльками и большими блюдами. Неподалеку пристроился и аптекарь, пытавшийся привлечь внимание женщин своими примочками для синяков и кровоподтеков, драконовой водой и корнем ангелики. Он шепотом предлагал даже приворотные зелья, лукаво подмигивая при этом. Его негромкий голос заглушали крики соседа, который развернул на своем лотке штуки тонкой ворсистой шерсти и шелка, зазывая всех проходящих мимо остановиться и пощупать его нежнейшие лучшие ткани.
Но особенно большая толпа собралась вокруг чужеземных купцов, торговавших самыми невероятными товарами. Здесь можно было найти: черный лингит, привезенный из-за моря, который, если его нагреть, отгонял всех змей в округе; ткани еще более тонкие и дорогие, чем те, что предлагали фризские купцы; искусно выточенные кубки и драгоценные каменья, которыми похвалялись смуглые византийцы; золотую вышивку, сработанную саксонскими умелицами в Англии. А прочие безделушки и ленты для подвязывания волос и вовсе было не сосчитать.
Герлева, заприметив одну такую россыпь украшений, которую с жадным любопытством разглядывала под самым ее окном стайка девиц, машинально погладила тяжелую косу, ниспадавшую ей на грудь, спрашивая себя, а как бы выглядела вплетенная в волосы багряная лента и понравилась бы она сама в алом наряде милорду Роберту. Но потом женщина со вздохом призналась себе, что никто, даже такой пылкий возлюбленный, как милорд граф, не нашел бы сейчас в ней ничего привлекательного. Герлева пребывала на последнем месяце беременности, а милорд граф, как назло, находился очень далеко от нее, в Руане, при дворе своего отца, славного герцога Ричарда Нормандского. Ей хотелось, чтобы схватки наконец начались, а роды поскорее закончились, и тогда она смогла бы вновь подняться на крутую скалу, к замку, словно гнездо ласточки прилепленному на одном из утесов. Женщина крикнула бы стражникам, и те отворили бы ворота: отворили их перед ней, Герлевой Прекрасной, дочерью Фулберта, знатного горожанина Фалеза, и возлюбленной самого милорда графа Иемуа. Взгляд ее непроизвольно устремился к замку, который едва виднелся отсюда над крышами приземистых деревянных городских домов, полускрытый деревьями, словно карабкавшимися вверх по склону.
Герлева задумчиво выпятила нижнюю губку, представляя себе высокомерных дам при дворе в Руане. Она чувствовала себя несправедливо забытой, никому не нужной и уже готова была пожалеть себя, когда внимание ее привлекла труппа бродячих менестрелей, устроивших целое представление рядом с домом Герлевы. Они пришли на рынок в надежде заработать несколько монет от самых юных и беззаботных зевак, а если уж очень повезет, поужинать остатками со стола какого-нибудь богатого бюргера. Один из менестрелей затянул популярную балладу, подыгрывая себе на лютне, жонглер же принялся подбрасывать в воздух тарелки и мячи, ловя их один за другим, все быстрее и быстрее, пока глаза Герлевы не округлились от изумления.
Из окна горницы женщина видела палатку своего отца Фулберта с развешанными в ней мехами, а также брата Вальтера, торгующегося с каким-то бюргером по поводу стоимости отличного ковра из шкурок куницы. Рядом с ними остановился странствующий торговец, разложивший на зависть нескольким девицам блестящие украшения. Будь здесь граф Роберт, подумала Герлева, он непременно купил бы своей возлюбленной браслет с золотой чеканкой, который коробейник так нахваливал покупательницам.
Воспоминания о милорде графе окончательно огорчили женщину, и она отошла от окна, утомленная шумом под ним, начавшим изрядно раздражать ее.
Деревянная дверь в дальнем конце горницы выходила прямо на витую лестницу, спускающуюся в зал, – главное жилое помещение дома. Мать наверняка уже готовит ужин для Фулберта и Вальтера, но Герлева не собиралась сходить вниз и помогать ей. Возлюбленной сына герцога Нормандии, подумала она, не пристало возиться с горшками и сковородками.
Шаркающей походкой женщина пересекла горницу, цепляя босыми ногами связки тростника, рассыпанного по полу, и прилегла на кровать у стены, накрытую шкурами. Это была кровать, достойная самой герцогини, сработанная из хорошего дерева и застеленная медвежьей шкурой, которая, как нехотя признал Фулберт, больше подошла бы графу Роберту, чем его mie[2]. Герлева потерлась щекой о длинный мех и погладила его маленькой горячей ладошкой, думая о графе Роберте и о том, как он смешно называл ее своей принцессой.
А снаружи солнце медленно тонуло в болотистых пустошах, раскинувшихся за городом. Золотой лучик прокрался сквозь ивовую решетку и уперся в изножье кровати, отчего бурая медвежья шерсть заискрилась червонным золотом. С площади внизу по-прежнему долетал неумолчный гул, изредка прорезаемый смехом, пронзительными криками и стуком копыт, но и он, по мере того как надвигался вечер, становился тише, обещая вскоре окончательно стихнуть. Крестьяне из окрестных сел уже спешили покинуть Фалез, чтобы добраться домой еще засветло; странствующие торговцы начали собирать свой товар; под окном потянулся нескончаемый поток мулов и вьючных лошадей, направлявшихся к городским воротам.
Размеренный стук копыт навевал сонливость, поэтому Герлева смежила веки; еще немного покрутившись в постели, она в конце концов погрузилась в беспокойный сон.
Постепенно солнечный луч померк, и в сгущающихся сумерках утонули отголоски звуков. Вот мимо дома в поводу прошла последняя вьючная лошадь; городские торговцы запирали ставни и двери, сравнивая свою дневную выручку с заработком соседей.
Проблески заката угасли окончательно, и в горницу просочилась ночная прохлада. Герлева, вздрогнув, застонала – сон ее выдался тревожным и необычным.
Ей снилось, что она лежит, а из лона ее вырастает дерево, превращаясь в настоящего исполина, раскинувшего в разные стороны могучие ветви, похожие на сильные, цепкие руки. И вдруг она поняла, что видит перед собой Нормандию, всю, до самых дальних ее уголков, от Котантена до Э[3]. Узрев бурное море стального цвета, женщина испугалась и вскрикнула. Крик прозвучал приглушенно, однако на лбу у нее выступили крупные капли пота. За морем лежала земля; Герлева видела ее совершенно отчетливо и догадалась, что это – Англия. И вот, охваченная страхом, вся в поту, женщина вдруг заметила, как ветви дерева становятся длиннее и длиннее, вот они уже накрыли собой и Англию, и Нормандию.
Женщина пронзительно вскрикнула и села на постели, прижав обе руки к глазам. Лицо ее было мокрым от страха; она смахнула пот ладонью и, сообразив, что ее разбудил кошмар, огляделась по сторонам.
В дверях, держа в руке лучину, стояла ее мать, Дуксия.
– Ты закричала так громко, что тебя было слышно даже внизу, – сказала Дуксия. – Я решила, у тебя начались схватки, а ты, оказывается, спишь.
Герлева вдруг поняла, что дрожит от холода. Поспешно натянув на плечи медвежью шкуру, она окинула мать отсутствующим взглядом и негромко сказала:
– Мне приснилось, будто из моего лона выросло дерево, матушка, а не ребенок.
– Да, да, – отозвалась Дуксия, – всем нам в твоем положении снились кошмары, дочь моя.
Но Герлева лишь плотнее закуталась в шкуру, сцепив ладони на груди.
– Пока я лежала, – приглушенным голосом продолжала она, – передо мной простерлись две страны: наша Нормандия, во всей своей красе и мощи, и земля английских саксов, по ту сторону серой воды. – Выпустив край шкуры, она указала рукой в ту сторону, где, по ее мнению, находилась Англия. Медвежья шкура соскользнула с плеч женщины, однако холод, похоже, теперь не тревожил ее. Герлева вперила в Дуксию немигающий взгляд глаз, зловеще поблескивавших в мерцающем свете лучины. – А дерево, которое выросло из моего лона, раскинуло огромные ветви, напоминающие руки, которые мертвой хваткой вцепляются во все, до чего могут дотянуться, и они протянулись по обе стороны от меня, пока не накрыли своей тенью Нормандию и Англию.
– Что ж, сон и впрямь странный, – ответила Дуксия, – но там, внизу, твой отец садится ужинать, и если ты не поторопишься, то похлебка остынет.
Однако Герлева, сидя на постели, не шелохнулась, и Дуксия, войдя в горницу, заметила: на лице дочери проступило какое-то странное выражение, словно она видит то, что недоступно простым смертным. Герлева вдруг прижала руки к животу и голосом, обретшим силу и звучность, произнесла:
– Мой сын будет королем. Он станет захватывать и подчинять, править Нормандией и Англией, как то дерево, что простерло над ними свои ветви.
По мнению Дуксии, все это была сущая ерунда. Она уже собралась было успокоить дочь, как вдруг та, вскрикнув от боли, вытянулась на кровати. Все ее тело напряглось в попытке облегчить внезапный приступ.
– Матушка! Матушка!
Дуксия засуетилась вокруг дочери, и обе забыли о странном сне и его значении.
– Тише, тише, дитя мое, успокойся. Сначала тебе будет больно, но потом все пройдет и ты почувствуешь облегчение, – сказала Дуксия. – Мы сейчас же пошлем за нашей соседкой Эммой, которая прекрасно разбирается в том, как ухаживать за роженицами. Можешь мне поверить, она приняла больше детей, чем ты когда-либо сумеешь родить. А пока полежи спокойно, у нас еще есть время.
Однако ни желания, ни возможности ломать голову над сном Герлевы у Дуксии не было, потому что Фулберт внизу потребовал вареного мяса, а дочь вцепилась в нее обеими руками – ей было очень страшно, и она боялась, что схватки могут повториться в любую минуту. Словом, у матери хлопот был полон рот, но тут наконец в зал вошла Эмма и, осмотрев Герлеву, сообщила, что роды могут и не начаться еще несколько часов. Повитуха помогла Дуксии убрать грязную посуду со стола, проследила за тем, чтобы сервы приготовили солому и шкуры для постели хозяина дома.
Фулберт очень любил Герлеву, но при этом был здравомыслящим человеком. Завтра ему предстоял очередной трудный день, поэтому он счел бы себя дураком, отказавшись от заслуженного отдыха ради такого обыденного дела, как роды. Более того, двусмысленное положение дочери ему никогда не нравилось, и, хотя соседи полагали за честь, что Герлева стала возлюбленной столь могущественного сеньора, как граф Иемуа, сам Фулберт, тем не менее, так и не смирился с этим. Укладываясь спать, он признался себе, что чувствовал бы куда большее удовлетворение, если бы его внук был законным сыном честного бюргера, а не благородным бастардом.
Когда внизу в зале все наконец было прибрано, а домашние расположились вокруг главы дома на ночлег, Дуксия с Эммой поднялись наверх, в горницу, где на своей роскошной кровати металась и стонала от боли Герлева.
Эмму недаром считали лучшей повитухой во всем Фалезе. Она умела читать по звездам, толковать знамения и предсказывать великие события, поэтому, когда обе женщины уселись на невысоких скамеечках у жаровни с древесным углем, Дуксия вознамерилась пересказать ей сон Герлевы. Головы, украшенные чепцами, сблизились, и кровавые отблески углей легли на их сосредоточенные, испещренные морщинами лица. Выслушав Дуксию, Эмма согласно кивнула и прищелкнула языком. Может статься, что именно так все и будет, сообщила она Дуксии, принявшись рассказывать ей о подобных снах, которые благополучно сбылись на ее памяти.
Через час после полуночи родился ребенок. В каком-то сарае неподалеку петух, очевидно, заметивший свет звезды сквозь щель в двери, одиноко прокукарекал, и вокруг вновь воцарилась тишина.
В углу комнаты, рядом с жаровней, лежал соломенный тюфяк. Эмма, завернув младенца в холстину, уложила на него ребенка. Здесь он будет в безопасности, пока сама она займется Герлевой. А когда, спустя некоторое время, к нему подошла Дуксия, чтобы поднять на руки, то обнаружила: малыш выпростал ручонки и обоими кулачками вцепился в солому, на которой лежал. Она с радостью отметила, что он оказался настоящим крепышом, и позвала Эмму, дабы и та восхитилась его силой. Быть может, пророчество еще было свежо в памяти повитухи, или же ей до сих пор не доводилось видеть столь решительных, энергичных новорожденных, но она воскликнула:
– Помяни мое слово, Эмма! Этот малыш станет великим принцем. Смотри, как он пытается завладеть тем, что окружает его! Он будет хватать и стараться удержать все, что попало ему в руки, вот увидишь!
Речь ее достигла слуха Герлевы, которая, как казалось ей самой, провалилась в какую-то бездонную черноту глубокого обморока. Слабым голосом она прошептала:
– Он станет королем.
Едва окрепнув и вернув себе способность мыслить связно, Герлева послала за Вальтером и приказала ему мчаться в Руан, дабы уведомить графа о том, что у него родился сын. Вальтер слишком любил Герлеву, чтобы возмутиться ее бесцеремонными манерами, но Фулберт, которому требовалась помощь сына для выделки шкур речной выдры, воспротивился, сочтя затею пустой тратой времени, и едва не запретил ему ехать.
Когда Вальтер вернулся из Руана, Герлева уже вполне окрепла и, не успел он перешагнуть порог отчего дома, как она набросилась на него, засыпав бесчисленными вопросами, упрекая в том, что он не возвращался так долго.
– Пробиться к милорду графу оказалось совсем нелегко, – оправдывался Вальтер. – В руанском замке он окружил себя важными сеньорами, а пажи попросту не пускали меня в двери.
– Но ты видел его? – в нетерпении вскричала Герлева.
– Да, мне все-таки удалось повидаться с ним, когда он отправлялся на большую оленью охоту.
Тут Герлева принялась расспрашивать Вальтера, как выглядел милорд, в каком расположении духа пребывал и что сказал, когда узнал новости. Брат по мере сил постарался утолить ее любопытство, но, по его словам, выходило, будто милорд выглядел почти так же, как и всегда, каковой ответ, понятное дело, ничуть не удовлетворил Герлеву. Тогда Вальтер извлек из своей сумы поясок из золотых пластинок, скрепленных вместе, и протянул его сестре, заявив, что милорд передает ей вот это в знак своей любви и наказывает до его возвращения всецело заботиться о малыше.
Но прошло еще немало времени и ребенка уже успели окрестить, прежде чем граф Роберт вернулся в Иемуа. Герлеве передали, что он прибыл в Фалез и поднялся на гору, к замку, во главе пышной свиты своих сторонников.
Сей же час Герлева и Дуксия поспешно принялись приводить зал в порядок, разбрасывая по полу свежий тростник, подметая остывшие угольки и серый пепел, разлетевшийся во все стороны от горящих сосновых поленьев, пылающих в самом центре зала. Герлева одела малыша в долгополую рубашку, которую связала сама, а затем облачилась в голубое платье, перехватив его на талии пояском, что подарил ей милорд. Даже Фулберта удалось уговорить сменить кожаную тунику на тонкошерстную; отец отправил Вальтера проверить, достаточно ли в погребе вина, а также ячменного пива, дабы граф и его свита смогли утолить жажду.
Едва было покончено со всеми приготовлениями, как стук копыт и лязг конской сбруи возвестили о приближении милорда. Фулберт и Вальтер, выбежав навстречу, обнаружили у своих дверей целую кавалькаду: милорд, следуя свойственной ему шумной и громогласной манере, привез с собой нескольких благородных сеньоров и множество слуг.
Милорд граф прискакал верхом на черном жеребце. Граф был хорошо сложенным, ладным мужчиной, с небольшой гордо поднятой головой. Он кутался в пурпурную королевскую мантию, перехваченную на правом плече застежкой с крупным ониксом. На боку у него висел меч, а под распахнувшейся мантией виднелась алая туника, отделанная зубчатой каймой, шитой золотом. На руках у него позвякивали золотые браслеты, каждый шириной не менее дюйма. Капюшон мантии был откинут, а голова оставалась непокрытой. Волосы, черные как вороново крыло, по нормандскому обычаю были коротко подстрижены.
Он легко спрыгнул с седла, и Вальтер, приветствуя его, преклонил колено, а затем поспешно вскочил на ноги, принимая повод. Милорд граф хлопнул юношу по плечу с той фамильярностью, с коей относился к людям, которым доверял, и весело поздоровался с Фулбертом. После этого обернулся к лордам, тоже по его примеру спешившимся, и воскликнул:
– Идемте, сеньоры! Сейчас вы сами увидите моего славного сына, о котором я так много слышал! Только после вас, дорогой кузен; я обещаю вам самый теплый прием. – Взяв под руку мужчину, к которому были обращены эти слова, он вместе с ним вошел в зал.
После яркого солнечного света на рыночной площади здесь, казалось, царит кромешная тьма. Милорд граф, растерянно моргая, из-за того что дым от огня ел глаза, остановился на пороге и принялся озираться по сторонам в поисках Герлевы.
Она подошла к нему быстрым шагом; он немедленно отпустил руку кузена, обхватил Герлеву за талию, оторвал от пола и прижал к груди, стиснув в медвежьих объятиях. Они обменялись несколькими влюбленными словами, сказанными слишком тихо, чтобы мужчины, стоявшие позади графа, могли их расслышать.
– Милорд, сейчас вы увидите своего сына, – проговорила Герлева и, взяв графа за руку, подвела его к колыбели в углу, где лежал младенец.
Граф Роберт, именуемый друзьями Великолепным, казалось, до отказа заполнил весь зал своим благородным величием и роскошью. Мантия его на ходу сметала тростник на полу в маленькие кучки, а драгоценные каменья на его пальцах вспыхивали острыми лучиками в отблесках огня в очаге. По-прежнему держа Герлеву за руку, он остановился рядом с колыбелькой и сверху вниз взглянул на зачатого им ребенка. В глазах графа вспыхнуло нетерпение, когда он склонился над колыбелькой, и цепь, которую носил на шее, скользнула вперед, закачавшись перед личиком младенца. Тот протянул к сокровищу свои цепкие ручонки; словно желая уразуметь, откуда она взялась, поднял глазенки на лицо графа Роберта и пристально взглянул на него. В этот момент стало очевидно, что глаза у них очень похожи и на личике малыша написано то же упрямое выражение, коим отличались все нормандские герцоги еще со времен Ролло[4]. Родственник графа, молодой Роберт, сын графа д’Э, прошептал об этом на ухо смуглому мужчине, стоявшему рядом. Это был Гийом Тальвас, лорд и властитель Беллема. Тальвас, глядя на ребенка поверх плеча милорда, пробормотал нечто, очень похожее на проклятие, но, заметив, как молодой Роберт д’Э с удивлением уставился на него, попытался скрыть замешательство под смехом, обронив, что прочел ненависть в глазах младенца и увидел падение собственного дома[5]. Подобное объяснение показалось молодому Роберту нелепым, и он счел, будто сеньор Беллема в замке выпил слишком много ячменной медовухи. Ведь ребенок, лежавший перед ними, был безземельным бастардом, тогда как Гийом Тальвас владел поместьями во Франции и Нормандии, кроме того, считался человеком, с которым лучше не ссориться. Роберт д’Э ответил Тальвасу столь непонимающим взором, что тот покраснел и отошел, сам едва ли разумея причину своей неожиданной вспышки.
Граф Роберт при виде сына пришел в восторг.
– Ба, да он похож на меня как две капли воды! – вскричал милорд. Обернувшись, граф снова обратился к мужчине, которого раньше брал под руку: – Эдуард, скажи мне, разве не зачал я благородного сына?
Саксонский принц шагнул вперед и с улыбкой взглянул на ребенка. В отличие от нормандцев, он был светловолосым, и его длинные соломенного цвета кудри нежно обрамляли незагорелое лицо. Глаза принца, как у всякого истого северянина, отливали небесной голубизной, что свидетельствовало о некоторой слабости духа, зато об исключительном дружелюбии. Его младший брат Альфред, остановившийся в дверях, был почти точной копией принца, разве что в лице его прослеживалось больше решительности, да и улыбался он не столь охотно. Оба держались с нескрываемой гордостью, на что имели полное право, будучи сыновьями покойного короля Англии, Этельреда. В один прекрасный день, когда Кнут, узурпатор-датчанин, окажется в земле, оба вернутся домой, в Англию, и тогда Эдуард станет королем. Но сейчас, глядя на графа Роберта, он все еще оставался в ссылке и всецело зависел от Нормандского двора.
– Вы поклянетесь любить моего сына, все до одного, – заявил граф Роберт, обводя присутствующих вызывающим, но при этом дружелюбным взглядом. – Он еще мал, но подрастет, обещаю вам.
Эдуард пальцем погладил ребенка по щеке.
– Конечно, я буду любить его, как собственного сына, – сказал он. – Младенец очень похож на тебя.
Граф Роберт жестом подозвал к себе сводного брата и заставил его взять малыша за ручку.
– Ты окажешь своему племяннику уважение, которого он достоин, Гийом, – со смехом заявил Роберт. – Смотри, как малыш ухватил тебя за палец! Из него вырастет могучий воин.
– Он такой во всем и всегда, – негромко сообщила Герлева. – Хватает все, до чего может дотянуться, словно оно принадлежит ему по праву. – Она бы с удовольствием рассказала графу о своем сне, но в присутствии всех этих благородных господ не решалась заговорить.
– Свирепый мальчишка, – в шутку заметил Гийом. – Нам придется остерегаться его, когда он вырастет.
Граф Роберт вытащил из ножен свой огромный меч.
– Воин, если он действительно мой сын, – сказал милорд, кладя оружие рядом с малышом.
Блеск рубина в навершии меча привлек внимание младенца, и он, перестав тянуться к цепи, свисавшей с шеи графа Роберта, обеими руками ухватился за эфес меча. Дуксия, старательно державшаяся в тени и ошеломленная появлением в своем доме такого количества благородных гостей, едва не вскрикнула от ужаса при виде сверкающей стали, находящейся в столь опасной близости от ребенка. А вот Герлева с улыбкой наблюдала за происходящим.
Младенец крепко уцепился обеими ручонками за эфес меча, что вызвало дружный смех наблюдавших за ним баронов.
– Ну, что я вам говорил? – воскликнул граф Роберт. – Клянусь богом, он будет настоящим воином!
– Ребенок уже был принят в лоно Церкви? – негромко осведомился Эдуард.
– Его крестили месяц назад, – ответила Герлева, – в Храме Святой Троицы.
– И каким же именем его нарекли? – осведомился Роберт д’Э.
– Его назвали Вильгельмом, лорд, – отозвалась Герлева, скрестив руки на груди.
– Вильгельм Воитель! – рассмеялся граф.
– Вильгельм Властитель, – прошептала Герлева.
– Вильгельм Бастард! – пробормотал себе под нос лорд Беллема.
Ладошка Герлевы скользнула в ладонь графа. Они застыли, с любовью глядя на своего сына Вильгельма, которого назвали Воителем, Властителем и Бастардом, а ребенок восхищенно агукал, забавляясь своей новой игрушкой и цепко сомкнув крошечные пальчики на рукояти тяжелого меча.
Часть первая
(1047–1048 гг.)
Безбородый юнец
…Таким образом, с самого детства я был поставлен в неловкое положение, но, милостью Божией, с честью вышел из него.
Из речи Вильгельма Завоевателя
Глава 1
Хуберт де Харкорт вручил меч своему младшему сыну в день, когда тому исполнилось девятнадцать.
– Хотя что ты с ним будешь делать, мне неведомо, – проворчал он при этом.
Рауль уже несколько лет носил меч, но совсем не такой, как этот, – с рунами на лезвии, давным-давно начертанными всеми позабытым датчанином, и позолоченной рукоятью. Крепко сжав эфес в руке, он медленно ответил:
– С Божьей милостью я найду ему достойное применение.
Его отец и сводные братья, Гилберт и Эйдес, дружно рассмеялись. Хотя они и любили Рауля, но сомневались в его бойцовских качествах и были уверены – дни свои он закончит в монастыре.
Но вышло так, что впервые меч Рауль обнажил против Гилберта, причем всего какой-нибудь месяц спустя.
Все получилось очень просто. Незадолго до этого Гилберт, всегда отличавшийся буйным нравом, а после подавления бунта Роже де Тони попросту занимавшийся грабежом, стал и вовсе неуправляем, затеял ссору с одним из соседей, и между ними начались довольно-таки односторонние военные действия. Рауль, правда, уже привык к подобным вещам, поэтому не обращал на них особого внимания. Набеги и мародерство считались в те времена в Нормандии самым обычным делом, и бароны с вассалами вассалов, не чувствуя над собой сильной руки, вели себя так, как диктовала им древняя кровь норвежских викингов, текущая в их жилах. Если бы Жоффруа де Брийон явился в Харкорт во главе дружины и разграбил их земли, Рауль, надев доспехи, выступил бы в их защиту, но Харкорт давал клятву верности властителю Бомона, верховному сюзерену, и Жоффруа, получивший собственные земли от Ги, мелкого князька Бургундии, не отваживался на подобную авантюру.
После девятнадцатого дня рождения Рауля минул едва ли месяц, когда юноша однажды после обеда выехал верхом на своем жеребце Версерее в небольшой торговый городок, расположенный неподалеку от Харкорта. Он намеревался купить себе новые шпоры, а возвращаясь, решил срезать путь и поехать прямо через земли Жоффруа де Брийона. Рауль, конечно, помнил о вражде, существующей между домом Жоффруа и его собственным, но день уже клонился к вечеру, и, не рассчитывая встретить об эту пору кого-либо из дружинников Жоффруа, юноша положился на свой новый меч и верного Версерея в том, что они избавят его от любой напасти. Рауль ехал один, и поверх шерстяной туники на нем был лишь плащ для защиты от холода в этот еще нежаркий весенний вечер, поэтому ему наверняка пришлось бы нелегко при встрече с кем-либо из его врагов. Но судьба уготовила юноше совсем иную встречу.
Солнце уже клонилось к горизонту, когда он свернул с проселочной дороги на едва заметную тропку, тянувшуюся вдоль свежевспаханного поля по угодьям Жоффруа, и заходящие лучи окрашивали пласты земли в багровые тона. Вокруг царила предвечерняя тишь, которую теперь, когда городская суета осталась позади, не нарушал ни единый звук. С одной стороны, среди отлогих берегов, неспешно текла река Риль, а с другой – холмистая местность убегала к гряде невысоких гор на горизонте, кутающихся в прозрачную вечернюю дымку.
Рауль медленно ехал вперед, предоставив коню самому выбирать дорогу. Покачиваясь в седле, он насвистывал сквозь зубы, размышляя о красоте окрестной провинции Эврецин, в которой так хорошо жилось бы землепашцу, будь он уверен в том, что его урожай не захватит голодный и жадный сосед, а дом не сожгут мародерствующие солдаты. Не успел он поразмыслить над этим, как заметил зарево к востоку от себя, над деревьями, что росли в лощине за вспаханным полем. Легкий ветерок донес запах гари; вглядевшись пристальнее, Рауль рассмотрел даже быстрые языки пламени и, как ему показалось, расслышал крики.
Он в замешательстве натянул поводья, останавливая жеребца, поскольку находился не на своей земле и его совершенно не касалось, что огонь охватил хижину какого-нибудь смерда. Но затем юноше пришло в голову, что здесь могут быть замешаны люди Харкорта, и он тут же пришпорил Версерея, пустив его легким галопом прямо через поле, которое отделяло его от долины.
Подъехав ближе, Рауль вновь – на этот раз безошибочно – расслышал чей-то мучительный крик боли. За ним последовал взрыв смеха, при звуках которого юноша гневно сжал губы. Ему был хорошо знаком этот жестокий смех; он часто слышал его – так смеются мужчины, опьяненные кровью. Рауль опять пришпорил Версерея, в негодовании даже не задумываясь о том, что будет делать, если внезапно окажется в гуще врагов.
Сквозь топот копыт несущегося вниз по склону коня юноша расслышал рев пламени, а в его дьявольских отблесках увидел горящий крестьянский дом и людей в кожаных туниках, размахивающих факелами. Из пылающего дома с визгом выскочила свинья и кинулась в отгороженный хлев во дворе; один из солдат, издав торжествующий вопль, вонзил копье в ее спину. К молодому деревцу за запястья был привязан какой-то крестьянин, явно владелец горящего дома. Его туника была разорвана от ворота до пояса, а спина залита кровью. Голова мужчины упала на плечо, а на посеревших губах пузырилась пена. Двое дружинников избивали его стремянными ремнями, а еще один стоял рядом, держа за руки растрепанную женщину. Она выглядела так, словно лишилась рассудка; платье ее было порвано на плечах, а спутанные пряди волос выбились из-под чепца и торчали во все стороны неопрятными космами. В тот миг, когда Рауль на своем коне ворвался в самую середину действа, она пронзительно закричала, умоляя их, ради всего святого, не убивать ее доброго мужа, потому что сейчас она приведет им свою дочь, как того требует благородный сеньор.
Ее отпустили, а мужчина, сидевший верхом на крупном чалом жеребце и хладнокровно наблюдавший за происходящим, крикнул своим слугам, чтобы они погодили убивать свою жертву; сначала нужно посмотреть, сдержит ли женщина слово.
Рауль так резко осадил Версерея, что огромный конь встал на дыбы. Юноша стремительно развернулся в седле, оказавшись лицом к лицу со всадником на чалом жеребце.
– Что это за дьявольская выходка? – задыхаясь от гнева, крикнул он. – Гилберт, скотина ты этакая! Это ты!
Гилберт с удивлением воззрился на брата. Направив своего коня шагом к Версерею, он с улыбкой ответил:
– Кого я вижу! Откуда ты взялся словно снег на голову?
Но Рауля все еще трясло от бешенства. Подъехав к Гилберту вплотную, он прорычал сквозь зубы:
– Что ты творишь, дьявол? Ты сошел с ума? Чем они провинились перед тобой? Отзови своих псов! Отзови их, я сказал!
Однако Гилберт лишь расхохотался в ответ.
– А тебе какое до этого дело? – презрительно бросил он. – Святой отец, вы никак разгневались? Да ты хоть понимаешь, куда попал, глупый мечтатель? Он не из наших людей. – С этими словами Гилберт ткнул пальцем в связанного серва, словно это должно было все объяснить.
– Отпусти его! – приказал Рауль. – Отпусти его, Гилберт, или, клянусь Богом, ты пожалеешь об этом!
– А и впрямь, отпустите-ка его! – произнес Гилберт. – Пожалуй, он сможет уйти, когда эта старая шлюха приведет сюда свою дочь, но не раньше. Эй, ты что, спятил?
Рауль понял, что дальнейшие разговоры бесполезны. Он молча развернул Версерея и, подъехав к пленнику, вытащил из-за пояса нож, чтобы перерезать связывающие его путы.
Как только Гилберт сообразил, что брат не шутит, то перестал смеяться и сердито заорал:
– Отойди, юный дурак! Руки прочь от моего мяса! Эй, вы! А ну, стащите его с коня!
Один из мужчин шагнул было вперед, намереваясь выполнить приказ. Рауль выдернул правую ногу из стремени и ударил его в лицо, опрокинув на спину. Никто из оставшихся солдат не сделал попытки наброситься на юношу, потому что, хотя они и были головорезами Гилберта, но прекрасно понимали, с каким уважением следует относиться к младшему сыну Хуберта де Харкорта.
Видя, что более ни одна живая душа не смеет приблизиться к нему, Рауль перегнулся с седла и быстро перерезал веревки, которыми серва привязали к дереву. А тот, казалось, или уже мертв, или потерял сознание; глаза его были закрыты, а залитое кровью лицо посерело. Когда последние волокна веревки лопнули, он мешком повалился на землю и застыл в неподвижности.
Гилберт яростно пришпорил своего жеребца, намереваясь проучить Рауля, но ловкий удар, которым юноша сбил с ног его слугу, вернул ему хорошее расположение духа и, вместо того чтобы разразиться ругательствами, коими он всегда отводил душу в гневе, Гилберт, хлопнув брата по плечу, воскликнул:
– Отличная работа, задира, клянусь распятием! А я и не знал, что ты на это способен. Но ты все равно промахнулся. Этот грязный холоп всю прошлую неделю скрывал от меня свою дочь, так что мне пришлось избить его до полусмерти, прежде чем удалось узнать, где прячется девчонка.
– Убери от меня свои нечистые лапы! – заявил Рауль. – Если бы в Нормандии можно было найти правосудие, ты бы уже болтался в петле! – Соскользнув со спины Версерея, юноша склонился над крестьянином. – Похоже, ты забил его до смерти.
– Подумаешь, одним вонючим смердом меньше, – отмахнулся Гилберт. – А ты придержи язычок, братец монах, а то я тебе его вырву ненароком. – Лицо его вновь исказилось гримасой недовольства, но в этот миг на глаза ему попалась женщина, несколько минут тому отправившаяся за своей дочерью, и он моментально забыл о безрассудстве Рауля. – Ага! – вскричал Гилберт, – оказывается, она была совсем рядом!
Спрыгнув с седла, он стал ждать их приближения, раскрасневшись и жадно пожирая двух женщин глазами. Старшая тащила дочь за руку, а девочка плакала и упиралась, старательно отворачивая хорошенькое личико, словно боясь увидеть горящий похотью взгляд, который уже раздевал ее. Совсем еще молоденькая, она была сильно напугана и дрожащим голоском обращалась к отцу, умоляя его помочь ей. Но тут ее испуганный взор упал на его неподвижное тело, и она в ужасе всхлипнула. Гилберт схватил свою жертву за руку и притянул к себе, впившись в нее взглядом, пока она замерла, вся дрожа перед ним, а он поднес руку к ее шейке и погладил. Девочка отпрянула, однако мучитель лишь крепче схватил ее, а потом вцепился пальцами в ворот платьишка и рванул книзу, разрывая его.
– Ну-ну, моя застенчивая птичка! – срывающимся от вожделения голосом прохрипел он. – Значит, ты все-таки пришла ко мне, верно? Ты мне очень нравишься, девочка моя. Сейчас я покажу тебе кое-что.
Краем глаза он вдруг уловил у себя за спиной какое-то движение. Гилберт резко дернул головой, оборачиваясь, но отразить удар Рауля, заставшего его врасплох, уже не успевал и вместе с девчонкой повалился на землю. Она в мгновение ока вскочила на ноги и бросилась к отцу, а вот Гилберт остался лежать, приподнявшись на локте, с яростью и страхом глядя Раулю в лицо.
А тот уже выхватил меч из ножен и занес руку для удара.
– Лежи смирно! – приказал юноша. – Я должен сказать тебе кое-что, прежде чем отпущу.
– Ты! – в бешенстве сплюнул Гилберт. – Негодяй! Зарвавшийся щенок! Да я тебе сейчас башку раскрою́ за это!
– Очень может быть, – огрызнулся Рауль, – но это будет потом, а сейчас я бы не советовал тебе пытаться хоть пальцем пошевелить. Да, и прикажи этому отребью, которое ты держишь в телохранителях, стоять на месте, пока я не закончу. – А затем, когда Гилберт лишь бессильно выругался в ответ, он равнодушно добавил: – Знаешь, братишка, делай, как я говорю, иначе проткну тебя, словно свинью, без дальнейших разговоров!
– Проткнешь меня? Да я… да… Святая Дева Мария, щенок окончательно рехнулся! – ахнул Гилберт. – Отпусти меня, юный идиот! Будь я проклят, если не сдеру с тебя живьем шкуру за это!
– Сначала ты поклянешься, что отпустишь девчонку, – невозмутимо продолжал Рауль. – А потом все будет так, как решит отец.
– Отпустить девчонку только потому, что тебе этого захотелось? Ха, да ты вздумал шутить, как я погляжу! – вскричал Гилберт. – Какое тебе дело до этой девчонки, мастер святоша?
– Никакого. Я не якшаюсь со смердами. Но вот что я точно сделаю, так это зарублю тебя, если ты не дашь мне слово. Я считаю до двадцати, Гилберт.
На счете восемнадцать Гилберт разразился богохульствами, после чего неохотно дал слово. Рауль убрал меч в ножны.
– Домой мы поедем вместе, – заявил он, настороженно следя за правой рукой брата. – Садись на коня, тебе больше нечего здесь делать.
Несколько долгих мгновений Гилберт колебался, бросив ладонь на рукоять меча, но Рауль положил этому конец, повернувшись к нему незащищенной спиной. Теперь, когда первый порыв бешеной ярости поутих, Гилберт понимал, что не сможет обнажить меч против младшего брата, когда тот этого не ожидает. Его вновь охватило изумление, вызванное поведением Рауля, и как человек, окончательно сбитый с толку, он машинально поднялся в седло, безуспешно пытаясь своим недалеким умом разобраться в сути произошедшего. Однако тут блуждающий взгляд Гилберта заприметил ехидные улыбки, мелькающие на лицах его людей, и, побагровев, он громовым рыком приказал им трогаться в путь. Не дожидаясь Рауля, Гилберт вонзил шпоры в бока своего жеребца и галопом помчался между деревьев.
Тем временем хозяин дома пришел в себя. Постанывая, он лежал у ног Рауля. Женщины, стоящие рядом с ним на коленях, подняли головы, с тревогой глядя на молодого рыцаря. Они знали – он благородного происхождения, и это внушало им подозрения, поскольку не могли поверить, что он встал на их защиту исключительно из рыцарских порывов.
Рауль, сорвав с пояса свой кошель, уронил его на землю рядом с крестьянином.
– Вот, здесь хватит, чтобы заплатить за дом, – неловко сказал он. – Вам не нужно бояться: он не вернется, я обещаю.
Поймав уздечку Версерея, юноша одним прыжком взлетел в седло с высокой лукой и, кивнув на прощание старшей женщине, поехал вслед за кавалькадой Гилберта.
Когда впереди наконец показался донжон[6] Харкорта, на небе уже перемигивались первые звезды, а на земле вовсю властвовали сумерки. Подъемный мост замка был все еще опущен, и стражник у ворот поджидал юношу. Рауль въехал во внутренний двор; передав Версерея одному из грумов, зашагал к главному зданию, затем быстро взбежал по наружной лестнице к двери, что открывалась в огромную залу.
Как он и предполагал, Гилберт уже был здесь, гневно пересказывая все перипетии стычки отцу и Эйдесу, который сидел верхом на одной из скамеек, захлебываясь от хохота. Рауль с грохотом захлопнул за собой дверь и отстегнул накидку с плеч, швырнув ее в угол. Отец, нахмурившись, взглянул на него, но в глазах его читались растерянность и недоумение, а не гнев.
– Хорошо, нечего сказать! – бросил он. – Ну, что скажешь в свое оправдание, малыш?
– Вот это! – произнес Рауль, входя в круг света, который отбрасывали стоявшие на столе свечи. – Я слишком долго сидел дома без дела, закрывая глаза на то, чего не в силах исправить. – Он посмотрел на Гилберта, кипящего негодованием по другую сторону стола, и на Эйдеса, который все еще посмеивался себе под нос. – Год за годом совершается скотство и непристойности, подобные тем, свидетелем которых я стал сегодня, а мужчины вроде Гилберта и Эйдеса грабят, разоряют Нормандию ради удовлетворения собственной похоти, плевать им на благосостояние нашего герцогства. – Рауль коротко и зло хохотнул, заметив, что у Эйдеса от изумления отвисла челюсть, после чего вновь устремил взгляд на отца, по-прежнему пребывающего в растерянности. – Ты дал мне меч, отец, и я поклялся, что воспользуюсь им ради благого дела. Клянусь Богом, я сдержу слово и буду сражаться им за Нормандию и справедливость! Смотрите! – Выхватив меч из ножен, Рауль повернул его плашмя, показывая руны, выгравированные на лезвии. Дохну́л холодный ветер, потянуло сквозняком, язычок свечи задрожал, и отблески пламени, словно живые, побежали по стали.
Хуберт наклонился, чтобы прочесть руны, но тут же покачал головой – надпись была сделана на чужом языке.
– Что здесь написано? – пожелал узнать он. – Раньше я как-то даже и не думал об этом.
– Братец Книгочей наверняка уже все знает, – решил подшутить над братом Гилберт.
– Да, знаю, – подтвердил Рауль. – В переводе на наш язык надпись эта, отец, означает следующее: «Le bon temps viendra».
– Ну и что тут особенного? – разочарованно протянул Эйдес.
Рауль бросил на него быстрый взгляд.
– А я вижу тут много чего особенного, – ответил он и со стуком бросил меч обратно в ножны. – «Хорошие времена обязательно наступят» тогда, когда те, кто ведет себя подобно грабителям с большой дороги, не смогут более бесчинствовать безнаказанно.
Хуберт озадаченно уставился на Гилберта.
– Чтоб меня разорвало, парнишка окончательно спятил? Что это за разговоры, сын мой? Послушай, не стоило так кипятиться из-за какой-то черни! Я не говорю, что Гилберт прав, но, насколько понимаю, ты угрожал ему мечом, а это очень плохо и дает ему основания жаловаться на тебя.
– Что до этого, – проворчал Гилберт, – то я вполне способен позаботиться о себе сам и не держу зла на глупого мальца, можешь мне поверить. Я рад уже хотя бы тому, что у щенка течет в жилах кровь, а не вода, как я всегда подозревал, но в будущем советовал бы ему не соваться в мои дела.
– Что до будущего, – ответил Рауль, – то ты станешь держать свои лапы подальше от той девчонки, Гилберт. Я хочу, чтобы ты хорошенько это усвоил!
– Да неужели? – вскинулся Гилберт, вновь начиная заводиться. – И ты полагаешь, я вот просто возьму и последую твоему совету, а?
– Нет, – сказал Рауль и неожиданно улыбнулся. Улыбка его походила на солнце, после бури выглянувшее из-за тучи. – На рассвете я уезжаю в Бомон-ле-Роже, так что тебе придется последовать совету моего повелителя, а не моему.
Рука Гилберта метнулась к рукояти ножа.
– Ах ты проклятый доносчик! – запинаясь, пробормотал он. – Значит, ты намерен добиться, чтобы меня объявили вне закона, так, что ли?
Хуберт оттолкнул его на место.
– Довольно ерунды! – заявил он. – Рауль не станет доносить на тебя, но если слухи о твоих шалостях дойдут до Рожера де Бомона, то разговор у него с тобой будет короткий. Словом, завязывай со своими выходками. Что до мальчишки, то он возбужден и ему надо поужинать, чтобы успокоиться.
– Но что это за разговоры о справедливости и намерении покинуть Харкорт? – спросил Эйдес. – Что парнишка имеет в виду?
– Ничего, – отрезал Хуберт. – Дело не настолько серьезное, чтобы из-за него уезжать из дому, а когда они поедят, то пожмут друг другу руки и забудут о сегодняшнем происшествии.
– С большой охотой, – тут же согласился Рауль. – Однако, с твоего позволения, отец, я уже завтра еду в Бомон-ле-Роже.
– Но зачем? – спросил Хуберт. – Что ты там будешь делать?
Рауль ответил не сразу, несколько мгновений он стоял молча, глядя на колышущиеся огоньки свечей. Наконец взглянул в лицо отца и заговорил совсем другим тоном, серьезным и нерешительным:
– Отец, ты с братьями всегда смеялся надо мной, называя мечтателем. Быть может, ты прав и я действительно больше ни на что не годен, но, думаю, мечты мои не так уж и плохи. Вот уже много лет я мечтаю, чтобы в нашей Нормандии воцарился закон, закон и справедливость, и чтобы люди перестали жечь, грабить, убивать без разбору. Я думал о том, что когда-нибудь у нас появится человек, который железной волей и твердой рукой наведет порядок в герцогстве. И я хочу сражаться за него и за его дело. – Помолчав, Рауль застенчиво взглянул на братьев. – Одно время я надеялся, что таким человеком может стать наш лорд Бомон, потому что он справедлив и честен; потом думал, что, быть может, им станет Рауль де Гасе, ведь он был наместником Нормандии. Но, разумеется, они не оправдали этих надежд. Есть только один человек, обладающий достаточной властью, чтобы приструнить и обуздать баронов. И я хочу поступить к нему на службу.
– Заумные разговоры ни к чему хорошему не приведут, – качая головой, со знанием дела сообщил Эйдес. – Чушь собачья.
– Клянусь Святым Крестом, что за бредовые идеи парнишка вбил себе в голову! – воскликнул Хуберт. – И кто же, сын мой, этот человек, пользующийся твоей безоговорочной благосклонностью?
Брови Рауля от удивления взлетели ко лбу.
– Разве это может быть кто-то еще, кроме самого герцога? – сказал он.
Гилберт громко расхохотался.
– Молодой бастард! Твой ровесник! Нет, ну надо же такое выдумать! Для него будет большой удачей хотя бы просто сохранить корону, вот что я тебе скажу.
Рауль слабо улыбнулся.
– Я видел его всего один раз в жизни, – признался юноша. – Он въехал в Эвре во главе отряда своих рыцарей, а по правую руку от него на коне скакал Рауль де Гасе. Его лицо промелькнуло передо мной, когда он проезжал мимо, и вдруг меня как громом поразило: я понял, что вижу того самого человека, о котором так долго мечтал. Не думаю, будто он упустит… что-либо.
– Что за чушь ты несешь! – нетерпеливо вскричал Хуберт. – Если низкорожденный мальчишка девятнадцати лет от роду сумеет навязать свою волю Нормандии, это станет таким чудом, о котором ты и мечтать не мог. У него и так хватало собственных неприятностей, пока он оставался под опекой, но ежели это правда, что он разогнал своих опекунов, то скоро в герцогстве начнутся веселые дела.
Хуберт покачал головой, недовольно бормоча себе под нос, что кое-кто совершил несусветную глупость, сделав внебрачного ребенка герцогом Нормандии, причем в восьмилетнем возрасте; и что он с самого начала знал: ничего хорошего из этого не выйдет, когда герцог Роберт Великолепный решил отправиться в тот злополучный крестовый поход. Нормандия не подчинится безбородому юнцу, а если Раулю так уж нужен мир – как и всем честным людям, – то ему лучше начать искать себе нового герцога, которого примут бароны.
Эйдес прервал отцовский монолог, поинтересовавшись у Рауля, неужели он настолько туп, что попытается присоединиться ко двору герцога в Фалезе. Рауль опять ответил не сразу, а когда заговорил, то сказал столь удивительную вещь, что даже Гилберт раскрыл от изумления рот, позабыв свои обиды.
– Он, конечно, бастард, – согласился Рауль, – бастард и совсем еще мальчишка, и тут ты совершенно прав, отец. Но я хотел следовать за ним с того самого дня, как взглянул ему в лицо, быть может, к великой славе, а быть может, и к смерти. – Вдруг юноша опустил ресницы. – Вы не понимаете меня. Наверное, вы не видели Вильгельма. Его выражение лица притягивает меня. Такому человеку можно довериться, не боясь, что он тебя предаст. – Юноша умолк; заметив, как смотрят на него отец с братьями, покраснел и смущенно пробормотал: – Быть может, мне еще и не разрешат служить ему. Я полагал, милорд скажет мне об этом.
Хуберт грохнул кулаком по столу.
– Если хочешь служить знатному сеньору, служи Рожеру де Бомону! – выкрикнул он. – Видит бог, я не имею ничего против молодого Вильгельма – нет, и я не объединился бы с Роже де Тони против него, как сдуру поступил твой брат Гилберт! – но не нужно быть провидцем, чтобы понять: бастард долго не заживется в Нормандии. Ты хотя бы соображаешь, глупый мальчишка, что с того дня, как герцог Роберт – упокой Господь его душу! – погиб в своем крестовом походе, Нормандия лишилась мира, и все из-за незаконнорожденного младенца, поставленного во главе герцогства? А что сталось с его опекунами? Ален Бретонский был первым, и какой его ждал конец? Ты сам тогда был еще ребенком, но Ален умер, его отравили в Вимутье, а король Франции вторгся в Аржантан и захватил пограничную крепость Тийер, которую удерживает и по сей день! Что, наступил тогда мир? Или мир воцарился, когда Монтгомери зарубил сенешаля Осберна в собственной спальне герцога? Или он наступил после смерти Торкилла, когда Роже де Тони объявил герцогу войну? Разве может быть мир в стране, бразды правления которой держит в руках сущий подросток? Ты, наверное, бредишь, если решил снискать славы на службе у мальчишки, родившегося под столь несчастливой звездой!
– Неужели? – вспылил Рауль. – Однако разве станешь ты утверждать, что это наш герцог повинен в столь неудачном начале? Ты говоришь о его детстве, но я-то помню, как Тостен Гоз осмелился занять замок Фалеза и выступить против него вскоре после того, как милорд герцог расправился с повстанцами.
– Ба, да это же де Гасе взял замок штурмом от имени герцога! – презрительно заявил Гилберт. – Сдается мне, голова твоя забита всякими глупыми выдумками и тебе не помешает хорошая трепка.
– Только попробуй! – огрызнулся Рауль. – Получишь сдачи, обещаю.
– Все, довольно! – вмешался Хуберт. – Парень скоро поймет собственную ошибку. Пусть себе послужит у герцога, если милорд сумеет устроить ему это. В случае моей правоты он вернется домой разочарованным – что ж, за моим столом ему всегда найдется место. А ежели окажется прав он и герцог проявит себя таким же государственным мужем, каким был его отец, что ж, тем лучше для всех нас! Но сейчас вы пожмете друг другу руки и думать забудете об этой ссоре!
Слово Хуберта было законом в Харкорте, особенно когда он произносил его таким тоном. Гилберт и Рауль обменялись рукопожатием через стол, изобразив на лицах такое дружелюбие, на какое только были способны. Эйдес же остался сидеть, нахмурив брови и невидящим взором глядя куда-то перед собой, пока наконец не решил проблему к собственному удовлетворению. Подняв глаза, он напыщенно произнес:
– Я понял, в чем дело. Рауль увидел герцога и, найдя его достаточно миловидным, вбил себе в голову, что хочет служить под его знаменем. Один мальчишка следует за другим.
– Да будет так, – провозгласил Хуберт. – Пользы здесь я не вижу, но и особого вреда тоже. Пусть один мальчишка следует за другим.
Глава 2
Пол в замке Фалез был усыпан тростником, а стены – увешаны гобеленами; в обеденный час в нем расставляли разборные столы на козлах, со скамьями и табуретками, на которых и рассаживался двор. Только герцогу подавали кресло с изогнутыми подлокотниками и высокой спинкой; у каждого из его благородных соратников табуретка была своя, а вот рыцари с оруженосцами теснились на скамьях за столами, тянувшимися вдоль всей залы. В центре ее горел огонь, окруженный горой пепла, подле которого вытянулась пара огромных алаунтов[7], сонно щурившихся в багровых жарких отсветах пламени. Прочие псы вольно бродили меж ножек столов, ожидая подачек в виде кусков мяса и устраивая шумные драки из-за костей, которые швыряли им хозяева.
Раулю, по прошествии трех месяцев так и не привыкшему к жизни при дворе, зала казалась исполинской. Гобелены не давали разгуляться сквознякам, и внутри было душно; пахло собаками, дымом и жареным мясом. С одной стороны, на возвышении, за столом сидел герцог. В перерывах между сменой блюд его менестрели играли и пели, а шут Гале дурачился да рассказывал непристойные байки, от которых бароны, окружавшие герцога, покатывались с хохоту. Сам Вильгельм тоже иногда улыбался, а однажды метнул на шута быстрый и грозный взгляд, когда тот проехался по поводу целомудрия нового короля Англии. Два года тому им стал Эдуард, сын Этельреда, до того гостивший в Нормандии и бывший другом молодого герцога. Но в остальном все свое внимание герцог уделял соколу, которого пересадил с жердочки позади кресла себе на запястье. Птица, впивавшаяся когтями ему в руку, когда он дразнил ее, казалась сильной и свирепой, у нее были яркие и жестокие глаза, горевшие над изогнутым клювом.
– Редкой у вас породы сокол, монсеньор, – сказал Хью де Гурней. – Говорят, он никогда не промахивается.
Вильгельм погладил пальцем перья сокола.
– Никогда, – подтвердил он, не поворачивая головы.
Заливистый рев труб в другом конце залы возвестил о появлении головы вепря, того самого, что герцог собственноручно заколол в лесу Гуфферс. Голову зверя внесли на огромном серебряном блюде и подали к той части стола, где сидел Вильгельм. Один из управляющих принялся разделывать ее, а слуги с ломтями на длинных вертелах разбежались вдоль стола, предлагая мясо гостям герцога.
В дальнем конце залы, где сидели гости попроще, стоял громкий гул голосов. Разговор вертелся вокруг предполагаемого визита герцога в Котантен. Он намеревался отправиться в Валонь[8], дабы поохотиться на медведей в тамошних лесах, и собирался взять с собой лишь небольшой эскорт, поскольку предоставленные ему покои не вместили бы даже столь жалкий двор, как тот, что герцог держал в Фалезе.
С ним должны были поехать несколько его баронов и личная охрана из рыцарей с дружинниками под командой Гримбо дю Плесси, смуглого угрюмого мужчины с губой, рассеченной шрамом, который он получил в одном из прошлых сражений. Гримбо входил в ближний круг герцога и сейчас сидел рядом с Раулем за столом у двери. Насколько знал юноша, сопровождать герцога должны были всего два лорда: Хэмфри де Боэн, чьи земли лежали на самой границе Котантена, и Ги, младший сын Бургундской династии, сидевший по правую руку от герцога.
Ги был немногим старше Вильгельма, которому приходился кузеном, однако рос и воспитывался вместе с ним во дворце Водрей. Он был привлекательным молодым человеком, но при этом слишком уж гордился своей красотой. Его длинные ресницы представлялись Раулю чересчур женственными, а улыбка – чрезмерно приторной и слащавой. Он был элегантен до утонченности и ленив до апатичности, но между тем старался располагать к себе людей. Рауль же предпочитал более сурового и не столь обходительного принца, несмотря на то что заручиться его расположением было не так-то легко. Юноша перевел взгляд с Ги на лицо герцога, восхищаясь молодым человеком, которому принес клятву верности.
Хотя он служил ему вот уже три месяца, лично иметь дело с герцогом юноше еще не доводилось и он знал о нем не более того, что известно всему остальному миру. По глазам Вильгельма решительно невозможно было прочесть, о чем он думает. Широко расставленные, они очень походили на глаза сокола, которого он ласкал, разве что иногда казались до черноты темными. В них таился огонь, как если бы они наблюдали за окружающим миром даже тогда, когда герцог думал о чем-то своем. Взгляд их был прямым и нередко приводил в замешательство. Рауль иногда думал, будто герцог своим пронзительным взором способен прочесть самые сокровенные мысли любого своего собеседника.
Нос с горбинкой был одновременно благородным и высокомерным. Губы – изящны и четко очерчены; хотя в изгибе их таилась некоторая язвительность, Вильгельм мог улыбаться с неожиданной добротой и весельем, но чаще всего уста герцога выражали неумолимую непреклонность. Он неизменно держал уста плотно сжатыми, словно охраняя свои секреты, однако в гневе уголки их начинали подрагивать. И тогда становилось очевидно, какие страсти в нем бушуют; почти всегда они оставались под контролем, но в случае подстрекательства грозили вырваться наружу, предвещая смести все, что было до них: доброту, справедливость и дипломатичность.
Физически Вильгельм производил впечатление крепко сбитого молодого человека. Рост отца любопытным образом сочетался в нем с коренастой приземистостью бюргеров по материнской линии. В его фигуре ощущалась некая внушительность, не свойственная Роберту Великолепному; пальцы герцога были длинными, сужающимися к ногтю, однако ладони – совершенно квадратными, крестьянскими. По мнению Рауля, это были сильные руки человека труда.
Уже в столь молодом возрасте, как сейчас, герцога отличала огромная сила и выносливость. Создавалось впечатление, будто ему неведома усталость; он мог продержаться в седле дольше самого стойкого из своих рыцарей, а мощным ударом в тренировочных поединках и на турнирах сшибал с коня даже такого закаленного бойца, как Гуго де Грантмеснил, один из лучших воинов Нормандии. Молодой герцог страстно любил охоту, особенно соколиную, равно как и все виды рыцарских единоборств. Рауль своими глазами видел, как он на полном галопе всаживал одну стрелу за другой в самый центр мишени; а еще про Вильгельма говорили, что согнуть его лук и натянуть тетиву не может никто, кроме него самого.
В мысли Рауля вторгся чей-то голос. Повернув голову, юноша понял: рыцарь, сидящий напротив, интересуется у него, не вошел ли он в число тех, кто должен был отправляться в Котантен. Рауль застенчиво ответил, что полагает, будто сенешаль Фитц-Осберн назвал его имя среди тех, кто будет сопровождать герцога.
– Смею надеяться, вам представится возможность недурно там поразвлечься, – заметил его собеседник, вытирая хлебным мякишем тарелку.
Раулю вдруг показалось, что это невинное, в общем-то, замечание, привлекло внимание Гримбо дю Плесси и тот резко вскинул голову. За стулом юноши раздался скрипучий смех; обернувшись, он увидел, что это шут трясет своим жезлом с погремушкой.
– Редкая возможность поразвлечься для рыцарей герцога, – ухмыльнулся Гале, прижав жезл к щеке. – О, малыш, хвала святым, что на поясе у Гале ты будешь в полной безопасности!
Лицо Гримбо потемнело; выбросив свою лапищу, он схватил шута за тоненькую ручку и рывком бросил его на колени рядом с собой.
– Эй, дурак, что ты там мелешь? – прорычал он.
Гале, скорчившись, захныкал.
– Не смей делать больно бедному Гале! Редкая возможность, я сказал, редкая возможность поразвлечься в Валони! – Всмотревшись в лицо Гримбо, шут вновь рассмеялся своим дребезжащим смехом. – А ты, кузен, тоже будешь охотиться на благородного оленя в славной компании? Право слово, сам увидишь, что он не так прост, как кажется.
– Пошел прочь, болван!
Гримбо небрежно отшвырнул шута, и тот простерся на полу, зарывшись в тростник. Встав на четвереньки, он завыл, подражая собаке. Один из пажей, спешивших к столу, споткнулся об него и рухнул, выронив поднос, который держал в руках. Гале, глядя на пажа, покачал большой головой и простонал:
– Бедный шут оставил честну́ю компанию без ужина! – С этими словами он бросился подбирать разлетевшиеся по полу ломти мяса головы вепря, после чего, прихрамывая, заковылял к очагу в дальнем конце комнаты.
– Дурака не помешало бы выпороть, – обронил Гримбо и повернулся к столу, хватая толстыми короткими пальцами куски мяса с тарелки.
А Рауль проводил взглядом шута, когда тот отправился к очагу, с любопытством наблюдая, как Гале улегся на полу рядом с одной из гончих и пробормотал несколько слов ей в ухо. Шут погремел бубенчиками на своем колпаке, что-то проворчал себе под нос, оглядываясь по сторонам с ужимками и гримасами и наконец затих, скорчившись у огня. Но, заметив, что Рауль смотрит на него, Гале улыбнулся ему печальной, полубезумной улыбкой и начал раскачиваться, сидя на месте и обхватив себя руками. Юноше стало интересно, какие мысли бродят в затуманенном мозгу шута. Рауль швырнул ему кусок мяса, и шут бросился за ним одновременно с собакой, а после они устроили шумную потасовку, злобно рыча и скаля зубы друг на друга.
Но тут за господским столом возникло некоторое оживление, поэтому головы всех присутствующих обернулись в ту сторону. Герцог, встав со своего места, направился к винтовой лестнице, что вела на галерею и к комнатам наверху. На мгновение он приостановился, чтобы выслушать своего кузена Бургундского, который перехватил его, положив руку ему на плечо с фамильярностью, являвшейся его отличительной чертой. У герцога на руке по-прежнему сидел сокол, и он все так же машинально поглаживал птицу пальцем, однако взгляд его был устремлен на лицо Ги, безучастный и неулыбчивый. Солнечный луч, проникший в залу через окно, проделанное высоко в стене, окрасил золотом его черные кудри, рассыпавшись искрами по черному камню перстня, надетого на палец, которым он гладил птицу. Дядя герцога, Вальтер, мужчина средних лет, остановился чуть в стороне, ожидая, пока племянник закончит разговор с Ги.
– Нет, вы только взгляните на сына благородного дубильщика!
Слова, сказанные негромким голосом, достигли слуха Рауля. А произнес их Гримбо, и Рауль, метнув в его сторону быстрый взгляд, заметил, как в злобной ухмылке приподнялась рассеченная губа. Обращать внимание на подобное перешептывание было бессмысленно. Рауль слышал его с момента своего появления при дворе, эти скрытые насмешки, издевки над простонародным происхождением и родственниками герцога: Вальтером, сыном дубильщика Фулберта, Гийомом, сыном Вальтера, и даже сводными братьями герцога – Робертом и Одо, которых Герлева прижила в браке с Герлуином, рыцарем из Контвиля. Сегодня они оба были здесь: Роберт, несколькими годами младше Вильгельма, коренастый юноша с упрямым выражением на открытом лице; и Одо, его младший брат, с горящими глазами и острым язычком. Они сидели рядом со своим отцом в нижней части стола, но герцог остановился и заговорил с ними, направляясь к лестнице, и вновь Раулю почудилось, будто он уловил ропот недовольства, настолько слабый, что затруднился бы определить, откуда он исходит.
По-прежнему стоя у скамьи, юноша смотрел, как герцог подошел к винтовой лестнице и поднялся по ней в сопровождении Вальтера. Ги Бургундский неспешно вернулся обратно за стол и окликнул служителя, приказав ему наполнить кубок.
Пока герцог уходил из залы, над столом повисло молчание, напряженное и зловещее, пронизанное еще какими-то эмоциями, которые Рауль, как ни старался, уловить не мог. Вверху, за столом герцога, двое баронов, опускаясь на свои места, обменялись взглядами. И вновь Рауля охватило острое беспокойство, словно и в этих загадочных взорах ему почудилась опасность. А при виде блеска в прищуренных глазках Гримбо, взгляд которых буквально жег герцогу спину, у юноши перехватило дыхание. Напряженные глаза Гримбо словно предупреждали Рауля о невидимой опасности, и ему вновь стало не по себе.
Еще через два дня охотничий отряд выступил в путь. Во главе кавалькады ехал герцог, а Бургундец покачивался в седле рядом с ним. У него были какие-то дела в Байе, поэтому в первый день они направились на север и поездка была недолгой. К обеду путники прибыли в Байе, где их принял епископ, а также Ранульф Брикассар, виконт Бессен, и еще несколько местных лордов. Рауля в очередной раз охватило беспокойство. Слезая со спины Версерея на землю и глядя на герцога, удаляющегося в сопровождении двух незнакомцев ко входу во дворец, он готов был поклясться – ощущает разлитую в воздухе опасность. Предчувствие беды оказалось настолько острым, что юноша едва не бросился вслед за Вильгельмом, дабы, вопреки здравому смыслу, умолять его не останавливаться в этом сером, невзрачном городке с его извилистыми улочками и потайными закоулками. Рауль постарался взять себя в руки, а когда уже с облегчением решил, что ему это удалось, к нему на муле подъехал Гале и улыбнулся с таким видом, словно прочел его потаенные страхи.
– Дурак, ты что, следишь за мной? – с раздражением заметил юноша.
Гале соскользнул со спины мула.
– Что ж, кузен, в таком случае, я – твоя ходячая совесть, и в этом смысле еще глупее, чем сам о себе думал. А где же мой братец Вильгельм? – Заметив герцога в дверях дворца, шут пронзительно рассмеялся. – А ну-ка, разгадай мою загадку, кузен Рауль: кто из них волк, а кто – овца? – Он кивнул на группу мужчин, обступивших герцога, и скривился в насмешливой гримасе.
Рауль посмотрел в ту сторону, куда показывал шут.
– А ведь ты прав, – сказал юноша. – Они очень похожи на волков, эти люди.
– «О, какой у меня сыночек-умница! – вскричала твоя матушка, когда ты попытался ухватиться за пламя свечи». Братец Рауль, а братец Рауль, ты никогда не слышал сказку о волке, набросившем на себя овечью шкуру? – Своим жезлом шут ткнул Рауля под ребра и, заливаясь идиотским смехом, направился вслед за герцогом.
В Байе свита Вильгельма на ту единственную ночь, что они собирались провести в городе, разместилась во дворце. После ужина, когда раскладные столы были убраны, по полу разложили соломенные тюфяки, на которые улеглись все рыцари, за исключением самых знатных. Светильник в форме рога, прикрепленный к стене у подножия лестницы, отбрасывал неверный свет на нижние ступени; там же, где лежал Рауль, по полу растекался красноватый отблеск углей из очага.
Посреди ночи очнувшись от тревожного сна, юноша вдруг заметил чью-то тень на лестнице, он рывком приподнялся на локте. В тусклом свете разглядел согбенную фигуру и очертания головы, покоящейся на сложенной накидке. В дальнем углу залы кто-то громко храпел; мужчина рядом с Раулем застонал во сне и повернулся на другой бок. Тень на лестнице вновь пошевелилась, и пламя светильника на мгновение высветило лицо шута. Гале сидел, привалившись к стене, а когда повернул голову, то Рауль разглядел блеск его широко открытых глаз, в них не было и тени сна.
Откинув в сторону плащ, которым укрывался, Рауль осторожно встал, оставшись в одной рубахе и штанах. Перед тем как сделать очередной шаг, ему приходилось нащупывать ногой свободное место, чтобы не наступить на спящих, но, скрытно и беззвучно пробираясь к лестнице, юноша не разбудил никого из своих спутников.
Гале приветствовал его шепотом.
– Неужели тюфяк показался тебе жестким, братец?
Рауль, сумрачно глядя на шута, поставил ногу на ступеньку.
– Почему ты несешь караул? – требовательно вопросил он. – Или твой тюфяк настолько тверд, что ты не можешь заснуть?
– Нет-нет, Гале – хорошая собака, – ответил шут и обхватил себя длинными руками, глядя на Рауля со смесью жалости и лукавства.
Юноша оглянулся, словно ожидая увидеть кого-то у себя за спиной. Опустившись на одно колено рядом с шутом, приблизил губы к его уху.
– Говори! Чего ты боишься? – прошептал он.
Гале, улыбнувшись, принялся раскачиваться из стороны в сторону.
– Только не тебя, братец. – Вытянув руку, он коснулся своим жезлом колена Рауля. – «Возьми мой жезл, шут. Я не боюсь темноты, – заявил козел, заметив прячущегося в гуще темного леса волка».
Рауль, схватив Гале за плечо, встряхнул его.
– Говори, дурак! Какая опасность нам грозит?
Шут закатил глаза и высунул изо рта язык.
– Не делай так больше, иначе ты вытрясешь из бедного Гале все его мозги. Ступай и ложись спать, братец. Какая опасность может грозить такому дюжему и крепкому теленку, как ты?
– Никакая. Но ты что-то знаешь. Кто замышляет зло против герцога?
Шут негромко издевательски рассмеялся.
– Жил-был однажды на свете павлин, братец. Жил он в парке благородного лорда, и, поскольку гости неизменно восторгались его оперением, он в тщеславии своем вообразил себя важнее лорда и возмечтал о том, чтобы изгнать его и править парком самому.
Рауль нетерпеливо кивнул.
– Байка с бородой, дурак. Вся Нормандия знает, что Бургундец кичится собственным величием, которое сам же и придумал. И это все?
Гале искоса взглянул на юношу.
– Заговоры, интриги, братец, – темные дела, – ответил он.
Рауль посмотрел на верхнюю площадку лестницы.
– Разве не можешь ты предупредить его, ты, кто сидит у его ног?
Шут оскалился в невеселой усмешке.
– Ты когда-нибудь пробовал предостеречь цаплю, что ей следует бояться ястреба, братец?
– Цапля не нуждается в предупреждениях, – нахмурившись, ответил Рауль.
– Да-да, мой маленький Вильгельм – мудрая цапля, – промурлыкал Гале и с видом помешанного принялся разглядывать собственные пальцы. – Но зато у него кривой клюв. Разве бывают такие цапли, кузен Рауль?
– Меня уже тошнит от твоих побасенок, – ответил юноша. Выпрямившись, он поежился: ночная прохлада пробиралась под рубаху. – Продолжай караулить. Две пары глаз лучше, чем одна.
Пригнувшись, Рауль крадучись вернулся к своему тюфяку и начал одеваться. Кольца его кольчуги негромко звякнули, когда он надевал ее через голову, и мужчина рядом с ним, зашевелившись, пробормотал что-то сквозь сон. Прицепив к поясу меч, Рауль прямо поверх свободных штанин накрутил на ноги обмотки. Направляясь обратно к лестнице, он был уже полностью готов для боя и даже надел на голову шлем.
– Смотри-ка, какой храбрец! – коротко рассмеялся Гале, отодвигаясь в сторону, чтобы освободить Раулю проход. – Вильгельм, братец мой, у тебя есть надежные слуги. – Шут наблюдал, как Рауль поднимается по ступенькам. – Спи спокойно, Вильгельм, – пробормотал Гале. – У твоего нового сторожевого пса острый нюх.
Робкие рассветные лучи, пробравшись в замок, высветили спящие фигуры на полу, смягченные во сне суровые лица и мечи, лежащие подле соломенных тюфяков. На ступенях скорчился шут, который забылся тревожным сном, положив голову на согнутую руку. Перед запертой дверью, выходящей на галерею наверху, стоял молодой рыцарь, скрестив руки на навершии обнаженного меча, упертого в пол. Он стоял совершенно неподвижно, но едва его внимание привлек долетевший снизу слабый шум, как рыцарь, прислушиваясь, повернул голову и пальцы его крепче сжали рукоять меча.
Свет становился ярче и теплее, а с восходом солнца тишину нарушили новые звуки. В кухне забегали поварята, снаружи началось сонное шевеление просыпающегося города.
Устало вздохнув и потянувшись, Рауль покинул свой пост. Внизу, в зале, мужчины еще спали, но Гале уже бодрствовал и хлопнул его по спине.
– Хороший пес Рауль! – одобрительно рассмеялся шут. – Бросит ли косточку двум своим гончим наш хозяин Вильгельм?
Юноша, зевнув, потер рукой глаза.
– Дурак, наступило утро, и я спрашиваю себя: быть может, я тоже превратился в дурака? – сказал он и вышел из залы наружу, где сощурился от яркого солнечного света.
На второй день пути они двинулись к западу вдоль побережья, перейдя вброд ре́ки, отделявшие Бессан от Котантена. После этого путь их лежал на север, по диким местам и густым лесам. С вершины холмов на них смотрели небольшие укрепленные поселения, каждое из которых таило в себе угрозу для мира в Нормандии. Здешняя земля выглядела недружелюбной и тем резко отличалась от Эврецина – родной провинции Рауля.
Валонь лежала на опушке леса, а дворец, предоставленный в пользование герцогу, оказался едва ли больше охотничьего домика, открытый всем ветрам и не имеющий никаких укреплений. Помимо залы в нем имелась всего одна или две горницы, обнесенные толстыми бревенчатыми стенами на втором этаже, да некое подобие внутреннего двора, в котором приютились несколько обшарпанных хижин. В одной из них и разместились дружинники; вторую заняли повара герцога, прислуга, камердинеры и егеря; третья же, размерами немногим больше первых двух, превратилась в конюшню для боевых скакунов. Лошадей, принадлежащих воинам рангом пониже, привязали к бревнам под соломенной крышей, покоившейся на столбах. Здесь Раулю и пришлось оставить своего Версерея. Как и в Байе, рыцари разместились на ночлег в главной зале; но Рауль, подозрения которого отнюдь не усыпила окружающая местность и люди, ее населяющие, старался урвать хоть немного сна днем, а вечером, после того как гасли факелы и весь двор укладывался спать, вставал на стражу у дверей герцога, оставаясь там всю ночь. Подобные бдения доставляли ему странное удовлетворение. Это была служба, и пусть герцог даже не догадывался о его преданности и ничем не выделял среди прочих рыцарей, Рауль был доволен, чувствуя, как долгими ночными часами крепнут незримые узы, связывающие юношу с молодым господином, благодаря ему спокойно спавшим за запертой дверью.
Герцог охотился на дичь в лесу, а также на равнине, спуская своих соколов и на ручьях, и на болотах, где водились цапли. Забавы, впрочем, не мешали ему вершить дела, приведшие его в Котантен, с твердостью, изрядно удивлявшей его спутников. Казалось, он легко и без усилий проникает в суть любого предприятия; немногое ускользало от его внимания, и еще меньше он оставлял на волю случая. Но Рауль спрашивал себя: если он видит так много, как может быть слеп к признакам враждебности вокруг себя? А ошибиться в толковании этих знаков было невозможно: местные бароны держались в стороне, враждебно; люди из его собственной свиты шептались по углам; когда же герцог отправлялся в дальние поездки, его сопровождало куда меньше людей, чем те, кто радостно толпился вокруг красавчика Ги Бургундского.
Посторонний наблюдатель мог решить, что сей улыбающийся принц и есть настоящий правитель Нормандии. За ним неизменно следовал внушительный эскорт сателлитов; словно король, он наряжался в шелка и бархат, украшая свою особу драгоценными каменьями, а с Вильгельмом вел себя панибратски, причем к этому отношению примешивалось покровительство кузена, старшего по возрасту и положению. Рыцари ловили каждое слово Ги, а поскольку он еще и щедрой рукой раздавал подачки и милостыню, то простой люд неизменно приветствовал его радостными криками, когда ему случалось проезжать мимо.
Рауль испытывал к нему ненависть. Видя, как Ги очаровывает рыцарей Уильяма, вынуждая их забыть о своем повелителе, слыша, как он без зазрения совести присваивает себе полномочия либо принимает вассальную присягу, которая должна была достаться Вильгельму, юноша кипел от гнева, с отвращением спрашивая себя, почему герцог не порвет с ним и, кажется, даже не замечает его оскорбительного высокомерия вкупе с изощренной наглостью. Складывалось впечатление, будто Ги подчинил Вильгельма своей воле, но никто, глядя на лица обоих молодых людей, не счел бы герцога более слабым из двоих.
Здесь, в Валони, неприязнь Рауля к Бургундцу усилилась и окрепла, и к ней уже примешивалось недоверие. Ни для кого не было секретом, что Ги и сам лелеял надежду занять престол Нормандии, но до сих пор Рауль представить себе не мог, что она являла собой нечто большее, нежели ворчание неудовлетворенного молодого человека. Многие сеньоры открыто выражали протест против низкорожденного герцога, у немалого количества из них было куда больше прав на корону, чем у Ги, поэтому ничего удивительного в том, что придворные Бургундца шептались: правителем Нормандии должен быть он, а вовсе не Вильгельм.
Однако теперь, когда у Рауля впервые возникли подозрения, он стал пристально следить за Ги. В воздухе запахло тайнами и грязными секретами; юноша заметил, как в руку Бургундца сунул записку человек, якобы случайно разминувшийся с ним на лестнице, а однажды в темном проходе наверху сам столкнулся с каким-то незнакомцем. Тот вышел из комнаты Ги с таким видом, будто не желал, чтобы его заметили, и в свете факела Рауль разглядел его одежду, покрытую густым слоем дорожной пыли. Немного погодя он вновь увидел его, уже за ужином, в то время и выяснилось, что незнакомец прибыл в Валонь под каким-то совершенно невинным предлогом. Но тогда почему, спрашивал себя Рауль, он уединился с Ги Бургундским, почему на лице его отразилось смятение и раздражение, когда он столкнулся с Раулем в переходе?
А потом в лесу случился инцидент, раздувший искорки подозрений юноши в жаркое пламя. В компании с Ги, де Боэном, Гримбо дю Плесси, еще несколькими рыцарями и егерями герцог отправился охотиться на медведя. Рауль тоже оказался в его свите, стараясь держаться к нему как можно ближе, потому что он увидел, из сколь ненадежных мужей составилась охотничья партия, и в голову ему закралась ужасная мысль: если они замыслили предательство, то темный и мрачный лес станет самым подходящим местом для осуществления их черных помыслов. Все утро они шли за гончими, идущими по горячему следу, под сенью огромных деревьев продираясь сквозь густые заросли и дальше углубляясь в чащу векового леса. В конце концов гончие привели их к добыче, большому и свирепому бурому медведю; собаки облаивали его, охотники же в это время держались поодаль, на самом краю опушки, лишь один герцог изъявил желание в одиночку выйти против зверя с копьем в руке, чтобы нанести ему смертельный удар.
Гончие со всех сторон окружили медведя, хватая его за бока и задние лапы, пока он окончательно не разъярился, стряхнув с себя угрюмое оцепенение. Он дрался с ними, пустив в ход зубы и массивные лапы. Вот в сторону отлетела одна из собак с перебитым хребтом; вот другая, неосмотрительно подобравшаяся чересчур близко, отползла прочь, волоча задние лапы и оставляя за собой широкий кровавый след.
Вильгельм нетерпеливо выжидал подходящего момента. Прежде Раулю еще не доводилось видеть его в таком возбуждении. Глаза его сверкали, он без устали подбадривал и науськивал собак, издавая охотничий крик и горя желанием врукопашную сойтись с разъяренным зверем.
И когда такая возможность наконец представилась, герцог быстрым шагом двинулся вперед, крепко сжимая в руке копье; он изо всех сил ударил медведя в то место, где шея соединялась с плечом. Удар вышел великолепным, но в самый последний момент зверь отпрянул в сторону, нанеся передней лапой смертельную рану их гончей, и копье отклонилось в сторону, пронзив медведю плечо. Когда же острие погрузилось в плоть, раздался громкий треск, возвестивший о том, что древко сломалось. Наблюдавшие за схваткой мужчины испустили негромкий судорожный вздох. Герцог же громко выругался и отпрыгнул назад, отбрасывая в сторону бесполезное древко. На земле лежала ветка, и он, споткнувшись об нее, неловко упал, а медведь, в мгновение ока освободившись от стаи гончих, стремительно ринулся на герцога.
В этот жуткий миг Рауль, молниеносно бросившись наперерез зверю, чтобы оттеснить его от Вильгельма, еще успел заметить, что ни один из мужчин, стоявших позади него, не сделал и попытки прийти на помощь герцогу.
Юноша бежал изо всех сил, уже понимая, что не успевает. Но тут его обогнала одна из гончих и, подпрыгнув, вцепилась клыками в плечо медведя, тот на мгновение приостановился. Именно эта заминка позволила Раулю встать между зверем и герцогом. Вильгельм одним прыжком вскочил на ноги, срывая охотничий нож с пояса, но именно Рауль нанес последний удар, разящий и смертельный.
– Назад, монсеньор! Назад! – закричал он.
Медведь, качнувшись вперед, обрушился на землю, а из ноздрей и пасти у него хлынула кровь.
К ним поспешно подбежали остальные. Они на самом деле колебались, или же ему лишь показалось, что специально медлили? Машинально вытирая собственное копье, Рауль смотрел, как Ги Бургундский восторженно обнимает Вильгельма. До слуха юноши донеслись его слова:
– Кузен, кузен, зачем вам понадобилось так рисковать самому? Раны Христовы! А если бы зверь добрался до вас?
А Рауля охватило безудержное желание расхохотаться. Он, переводя дыхание после отчаянного бега, отошел от группы мужчин, обступивших герцога; юноша еще не оправился от потрясения, которое возникло при виде его повелителя, оказавшегося беспомощным перед лицом неминуемой смерти. Нетвердой рукой Рауль вытер пот со лба, злясь на себя за то, что его, оказывается, так легко вывести из равновесия. А потом он увидел, как Вильгельм отодвинул Бургундца в сторону, словно хозяин, убирающий с дороги надоедливого щенка, и быстрым, но уверенным шагом направился в сторону юноши.
Герцог оказался рядом с Раулем прежде, чем тот успел пошевелиться.
– Прими мою благодарность, Рауль де Харкорт, – сказал он и протянул юноше руку в дружеском жесте. Глаза его внимательно осматривали лицо Рауля, а уголки губ дрогнули и поползли вверх в улыбке.
Слова застряли у Рауля в горле. Он часто мечтал о том, что скажет герцогу, если тот выделит его из толпы собратьев, но теперь, когда этот момент настал, понял – лишился дара речи. Быстро взглянув на Вильгельма, юноша выпустил копье и, упав на колено, поцеловал руку герцога.
Вильгельм оглянулся, словно для того, чтобы убедиться, что их никто не слышит, и вновь перевел взгляд на склоненную голову Рауля.
– Ты – тот самый рыцарь, что бережет мой сон, – сказал он.
– Да, монсеньор, – только и смог пробормотать в ответ Рауль, спрашивая себя, откуда герцогу это известно. Выпрямившись, юноша вымолвил то, что в этот момент представлялось ему самым важным: – Монсеньор, ваше копье… оно не должно было сломаться.
Вильгельм коротко рассмеялся.
– Изъян в древке, – обронил в ответ.
– Сир, умоляю вас: поберегите себя! – жарко прошептал Рауль.
На мгновение его глаза встретились с проницательным взглядом герцога. Тот коротко кивнул и вернулся обратно к группе охотников, наблюдавших за тем, как свежуют и разделывают медвежью тушу.
Глава 3
После охоты на медведя Рауль ощутил усилившуюся враждебность в окружающем воздухе, враждебность, на сей раз направленную против него самого. Мужчины, недовольно кривясь, разглядывали досадную помеху; юноша испытал сомнительное удовлетворение, осознав, что заговорщики – если только они и впрямь были заговорщиками, а он не поддался собственному воображению, сыгравшему с ним злую шутку, – считают его препятствием для успешной реализации собственных планов. Отныне юноша взял себе за правило держать ухо востро, а кинжал – под рукой. И когда во время охоты на оленя мимо его головы просвистела стрела, Рауль решил, что кто-то просто промахнулся, неверно взяв прицел, но, оступившись однажды на верхней площадке лестницы и только по счастливой случайности не загремев вниз, юноша убедился: кто-то всерьез вознамерился устранить его. На второй ступеньке лежал рулон шерсти, который размотался, когда он наступил на него. Рауль был почти уверен, что его подложили туда специально; следовательно, недоброжелатели уже пронюхали о ночных бдениях юноши. Рауль всегда первым спускался по лестнице утром и, не остановись он тогда на верхней площадке, прислушавшись к голосу интуиции, наверняка кубарем скатился бы вниз по лестнице, сломав себе если не шею, то уж руку или ногу точно.
Посему он ничуть не удивился, получив как-то вечером, перед самым ужином, предостережение от Гале, сказанное едва слышным шепотом. Шут, скрестив ноги, сидел на полу и жонглировал бараньими костями, но, когда мимо проходил Рауль, произнес, не поднимая головы и не шевеля губами:
– Не пей вина нынче вечером, кузен!
Рауль услышал его, однако не подал виду. За ужином он ухитрился выплеснуть содержимое своего рога на тростник под столом, улучив момент, когда взоры всех присутствующих были обращены на шута, выделывавшего акробатические трюки своими нескла́дными конечностями. Потом юноша притворился, будто пьет из пустого рога и, наблюдая за соседями из-под полуопущенных век, заметил, как ему показалось, удовлетворенное выражение на лице Гримбо дю Плесси. На виске юноши неприятно забилась жилка, Рауля охватило дурное предчувствие, настолько сильное, что его чуть не стошнило, а ладони похолодели и покрылись потом. Он содрогнулся от озноба, решив, будто всему виной гуляющие по зале сквозняки. Язычки пламени от свечей трещали и колыхались под порывами внезапного ледяного ветра, отбрасывая по сторонам трепещущие тени. В их неверном свете ли́ца мужчин выглядели зловеще; коленца и выходки Гале моментально обрели сверхъестественную окраску, а его пронзительный голос зазвучал жутко и таинственно. Раулю отчаянно хотелось, чтобы шут остановился; юноше казалось, будто над несчастным домом нависло страшное бедствие. Но, стиснув зубы, он заставил себя присоединиться к разговору за столом, с отвращением сознавая, как далеко ему до того хладнокровного, неустрашимого воина, коим он всегда хотел стать.
После ужина герцог поднялся в свою опочивальню в сопровождении Ги, который ласково обнял его за плечи. От звуков беззаботного смеха Бургундца у Рауля мороз пробежал по коже; он смотрел вслед мужчинам, бессознательно стиснув пальцами тонкий конец рога. Юноша был твердо уверен в том, что именно так смеются предатели.
Сосед по правую руку Рауля зевал во весь рот. Веки мужчины отяжелели, а глаза закрывались; его клонило в сон. Заплетающимся языком он пожаловался на тяжелый день, проведенный на охоте, и словно пьяный упал лицом в тарелку. Оглядевшись по сторонам, Рауль подметил, что и остальные рыцари одурманены. В горле у него внезапно пересохло. С другого конца комнаты на него пристально смотрел Гримбо дю Плесси. Юноша поднялся, покачнулся и едва не упал, после чего нетвердой походкой направился к лестнице.
Гримбо с улыбкой загородил ему дорогу.
– Сторожи́ на совесть, друг того, у кого нет друзей, – издевательски напутствовал он юношу.
Кто-то злорадно захихикал. Рауль заморгал, словно сова, попавшая из темноты на яркий свет, и провел рукой по глазам.
– Да, – тупо повторил он. – Сторожить… сторожить хорошо. Я буду… сторожить хорошо, Гримбо… дю Плесси.
Гримбо расхохотался и отступил в сторону, давая ему пройти. Рауль, поминутно спотыкаясь, начал подниматься по лестнице, держась рукой за натянутую веревку.
На верхней площадке, там, где его уже никто не мог видеть, он быстро огляделся по сторонам. На галерее никого не было, но из комнаты Вильгельма доносились голоса, и он понял, что Ги Бургундский все еще находится у герцога. Подойдя к краю галереи, юноша осторожно взглянул через одну из сводчатых арок на залу внизу. Там рыцари разбились на небольшие группки. Одни играли в кости, другие негромко разговаривали, но большинство уже спали, уронив головы на стол. Слуги все еще убирали раскладные столы и расстилали соломенные тюфяки; наконец по лестнице поднялся камердинер герцога и вошел в покои Вильгельма. Из кухни доносился приглушенный звон оловянных тарелок, которые посудомойки мыли в лохани; снаружи по двору по-прежнему расхаживали стражники. Рауль спросил себя: им тоже подмешали сонное зелье в медовуху или же они подкуплены заговорщиками? Гале нигде не было видно; должно быть, он куда-то улизнул, когда герцог поднялся к себе наверх.
Из покоев Вильгельма вышел Ги и, обернувшись на ходу, пожелал:
– Сладких тебе снов, дорогой кузен.
«Иуда!» – подумал Рауль, охваченный жаркой ненавистью.
Ги закрыл за собой дверь и приостановился, оглядываясь по сторонам. Рауль увидел, как он подошел к краю галереи и перегнулся через него. Подав знак кому-то внизу, удалился в собственную спальню, размещенную в противоположном углу здания.
Рауль прислушивался к звуку удаляющихся шагов. Должен ли он пойти к герцогу и предупредить его? Но о чем? Юноша закусил губу, чувствуя себя последним дураком. Что он может сказать? Что, по его мнению, вино отравлено? Что ему не понравился взгляд Гримбо? Бессмысленно идти с такими смутными подозрениями к молодому человеку, который лишь рассмеется в ответ, но при этом видит тебя насквозь. Рауль плотнее запахнулся в плащ и в расстроенных чувствах привалился к стене. Когда в доме все уснут, он попробует найти Гале и расспросить шута о том, что тому удалось узнать. И уже тогда, если речь действительно идет о предательстве, они вдвоем придумают, как им увезти отсюда герцога в безопасное место.
Раздавшиеся внизу звуки вновь привлекли его к краю галереи. Судя по всему, Хэмфри де Боэн решил наведаться к проституткам. В этом не было ничего необычного – многие из людей герцога предпочитали проводить ночи в объятиях доступных женщин из борделей, нежели на жестком соломенном тюфяке в замке. Несколько рыцарей последовали за Хэмфри; шум в зале стих. Из покоев герцога вышел камердинер и погасил все факелы, за исключением одного, висящего в дальнем конце галереи. Шумно топая по ступенькам, он спустился вниз, пересек залу и скрылся в кухне.
Мужчины повалились на свои тюфяки, не озаботившись даже тем, чтобы снять туники или поножи. Лишь Гримбо и еще несколько человек все сидели за столом, придвинутым к стене. Переговаривались они шепотом, за исключением самого Гримбо да некоего Годфри Байе, которые, похоже, с головой увлеклись партией в шахматы. Из кухни вышел сонный служка, чтобы задуть свечи. Гримбо и Байе продолжали играть при свете рожкового светильника.
В замке еще некоторое время раздавались невнятные звуки, но вскоре они стихли; теперь мертвую тишину нарушало лишь хриплое дыхание спящих и доносящийся из-за стен далекий протяжный волчий вой.
Вот послышалось костяное щелканье – это Гримбо сгреб шахматные фигурки в кучу. Он встал, обронил что-то двоим мужчинам, сидевшим рядом, и, сняв со стены светильник, направился к лестнице.
Сердце Рауля учащенно забилось. Юноша стремительно отпрянул от края галереи, вернулся к двери в комнату герцога и сел на пол, положив на колени меч и уронив голову на грудь, словно спал. На повороте лестницы показался луч света; и вот на площадку вышел Гримбо, держа в руках светильник.
«Если он собирается зарубить меня, – подумал Рауль, – то я, по крайней мере, постараюсь оказать ему сопротивление, чтобы криком предупредить герцога. Да помогут мне Господь и все святые!»
Но Гримбо, хотя и склонился над Раулем, ограничился лишь тем, что внимательно всмотрелся в его лицо, не попытавшись даже прикоснуться к юноше. Спустя несколько мгновений он, похоже, убедился в том, что Рауль в самом деле крепко спит, и удалился так же крадучись, как пришел сюда.
На лбу Рауля выступил пот. Юноша поднял голову и, нахмурившись, стал вглядываться в темноту. Если Гримбо намеревался убить герцога, почему он просто не перешагнул через явно одурманенного стража у его дверей и не вошел внутрь, чтобы довершить свое черное дело? Ему на подмогу могли прийти сразу шесть человек; он ничем не рисковал. Но слуги и стражники тоже могли услышать крик: Рауль попросту забыл о них. Подмешать сонное зелье всем сразу было бы затруднительно, и если поднимется тревога, то, по крайней мере, некоторые из них непременно бросятся спасать герцога.
Рауль резким рывком поднялся на ноги. С чего это Хэмфри де Боэн ушел вместе со своими рыцарями? И какое отношение к этому черному делу имел тот покрытый дорожной пылью незнакомец, которого он видел выходящим из дверей спальни Ги за день до охоты на медведя? Ги наверняка участвует в заговоре, а он не сделает первый шаг, пока не будет уверен в том, что победа останется за ним. Значит, речь идет о подлом предательстве, то есть все обстоит куда серьезнее, чем изначально полагал Рауль. Юноша, вновь подкравшись на цыпочках к краю галереи, напряг слух, пытаясь понять, о чем говорят внизу. Но негромкие голоса звучали приглушенно; он не смог разобрать ни слова, зато увидел, как мужчины запахнулись в накидки и последовали за Гримбо к двери.
Рауль облизнул губы; рука его машинально легла на рукоять меча. Гримбо отодвигал засов на двери. Когда она отворилась, в залу ворвался порыв холодного ветра. Мужчины в накидках вышли в ночь один за другим, и дверь мягко закрылась за ними.
В дальнем конце галереи по-прежнему горел одинокий факел. Рауль вынул его из крепления и спустился по лестнице, держа факел высоко над головой. Склонившись над спящей фигурой в зале, потряс ее за плечо, пытаясь разбудить честного рыцаря Дрого де Сент-Мора. Но тот лишь застонал в ответ и вновь повалился на тюфяк.
Факел ярко горел в неподвижной темноте; струйка дыма от него вилась спиралью, поднимаясь к закопченным потолочным балкам. Рауль воткнул его в скобу в нише стены и неслышно, словно привидение, подкрался к двери. Когда рука юноши легла на тяжелый засов, он вдруг услышал за спиной какой-то звук и, резко обернувшись, увидел, как из кухни в залу скользнул Гале.
Шут тяжело дышал, в свете факела было видно, что лицо его блестит от пота. Он выбросил руку вперед, останавливая Рауля.
– Нет, постой, братец! – свистящим шепотом проговорил Гале. – Здесь ты ничего не сможешь сделать. Они ушли, чтобы открыть ворота. Менее чем в лиге от города ждет большой отряд, и в назначенный час они будут здесь, чтобы схватить нашу цаплю. – Он поперхнулся смехом, перевел дыхание и стремглав метнулся к лестнице. – Идем! И помни, павлин может криком поднять тревогу. Ох, братец мой Вильгельм, время пришло!
Негромко заскрежетала сталь; это Рауль сунул меч в ножны.
– Иди и предупреди герцога, – сказал юноша. – А мне надо оседлать двух лошадей. Если меня заметят… что ж, я попытаюсь отвлечь их, чтобы герцог успел прорваться.
– У герцога появился новый дурак, – в насмешливой улыбке оскалился Гале. – Увы, что станется теперь со мною? Лошади привязаны за стеной, братец шут.
Рауль в изумлении уставился на него.
– Клянусь святыми дарами, похоже, я и впрямь дурак. Ты работал, пока я стоял и ломал голову, что делать дальше.
– Да-да, ты совсем еще ребенок, кузен Рауль. – И шут припустил вверх по лестнице.
Рауль, схватив факел со стены, последовал за ним, стараясь не отстать. Из комнаты в дальнем конце галереи, где спал Ги, не доносилось ни звука. Рауль злобно оскалился, метнув взгляд в ту сторону, на затененный дверной проем.
– Иуда затаится, невидимый и неслышимый, пока головорезы не сделают за него грязную работу, – прошептал юноша. – Если же нет… что ж, клянусь Богом, ради этого стоит умереть! – Он вновь вынул из ножен меч, и пламя факела растеклось по голубой стали, на которой ожили и заплясали руны.
– Нет, разве может шакал отнять добычу у льва? – Гале отпер засов на двери герцога и вошел внутрь.
Факел высветил Вильгельма, который спал на постели из звериных шкур, подложив ладонь под щеку. Рауль осторожно прикрыл за собой дверь и поднял факел повыше, чтобы свет его упал на лицо герцога. Вильгельм мгновенно открыл глаза и несколько раз моргнул, привыкая к яркому свету. Но вот взгляд его остановился на Гале, и сонливость герцога как рукой сняло. Он приподнялся на локте, вопросительно глядя на обоих.
Гале ударил его по плечу своим жезлом.
– Вставай, Вильгельм, вставай, иначе ты покойник! – одними губами прошептал шут. – Святая простота, ты до сих пор еще не проснулся? Враги окружают тебя со всех сторон. Маленький братец, если они застанут тебя здесь, тебе ни за что не выбраться из Котантена живым!
Вильгельм сел на постели, оттолкнув шута, и взглянул в лицо Рауля. В глазах его отражалось пламя факела, но не было и следа страха.
Рауль нетерпеливо сказал:
– Монсеньор, шут говорит правду. Те, кто желает вам смерти, ушли, чтобы открыть ворота, а ваши люди лежат одурманенные под лестницей. Вставайте, сеньор! Нельзя терять время.
Вильгельм, отбросив в сторону меховое покрывало, встал, оказавшись в рубашке и коротких бриджах, и принялся поспешно натягивать длинные рейтузы.
– Вот, значит, как! – в голосе его прозвучало сдержанное ликование.
В горле у Рауля вдруг застрял комок. Перед ним стоял человек, ради которого можно было умереть, как он и мечтал в те далекие теперь уже дни в Харкорте. Юноша схватил перевязь герцога и застегнул ее у него на поясе.
– Поспеши, братец, поспеши и следуй за дураком, – сказал Гале, открывая дверь. – Лошади уже наготове – ждут.
Вильгельм накинул на плечи мантию.
– У меня достойные слуги, – весело сказал он. – Показывай дорогу, шут.
– Ну да, тебе служат достойные слуги, сын мой, раз тебя охраняют шут и ребенок.
Гале, прокравшись к лестнице, стал спускаться по ней. Вильгельм и Рауль следовали за ним по пятам. Когда они миновали последний поворот, пламя факела высветило спящих, которые, словно мертвые, лежали вповалку на полу в зале. Рауль услышал, как Вильгельм негромко и зло рассмеялся.
Взошла луна, и ее неяркие лучи заглядывали в окна; Рауль, сунув факел в потухший очаг, оставил его там. Перешагивая через спящих, они направились к дверям в кухню. Вильгельм шагал широко, почти не глядя под ноги, и один раз даже пнул носком чье-то неподвижное тело. Но одурманенный мужчина лишь застонал во сне, и вновь до слуха Рауля донесся смех герцога.
На кухне никого не было. С одного из окон была сорвана решетка из ивовых прутьев. Гале молча указал на него.
Вильгельм, кивнув, шагнул вперед, но Рауль опередил его.
– Монсеньор, первым пойду я, – сказал юноша, влез на скамью под окном и перебросил ногу через подоконник.
По бархатному небу беззвучно плыла луна; здесь, в задней части дома, царила мертвая тишина. Рауль легко спрыгнул вниз и повернулся, чтобы помочь герцогу.
Вильгельм в мгновение ока оказался рядом с ним; последним слез Гале. Шут прижал палец к губам, подвел мужчин к стене, что окружала дом и двор, и полез наверх, цепляясь за неровности кладки.
Перебравшись через нее, они оказались в тени вековых деревьев, являвших собой передовые посты дремучего леса, подобравшегося к самым стенам Валони. Углубившись в лес на несколько шагов, беглецы обнаружили привязанных лошадей: жеребца герцога Мале и огромного Версерея. Вильгельм одним прыжком взлетел в седло и свесился с него, протягивая руку шуту.
– Благодарю тебя, шут Гале, – сказал он. – Спрячься, мой славный пес. Ты найдешь меня в Фалезе.
Гале прижался губами к руке герцога.
– Да хранит тебя Господь, братец. А теперь скачите; вы и так уже задержались слишком долго! – Шут растворился в ночной темноте, а лошади дружно рванули с места в картер.
Луна освещала неровную дорогу, ведущую на юг. Конь по прозвищу Мале, покусывая мундштук, вырвался вперед, и цоканье копыт набатным звоном отозвалось в ушах Рауля. Версерей припустил за ним вдогонку; некоторое время они галопом мчали на юг, один за другим.
Вскоре, поравнявшись с герцогом, Рауль украдкой метнул на него взгляд, пытаясь в темноте разглядеть лицо Вильгельма. Лунный свет был слишком тусклым, и потому юноша различал лишь очертания носа да упрямо выдвинутый вперед подбородок, но ему показалось, будто под нахмуренными черными бровями он уловил блеск глаз. Герцог сидел в седле прямо, как будто выехал на легкую прогулку. В следующий миг, словно прочитав мысли своего рыцаря, Вильгельм повернул голову и с легкой улыбкой заметил:
– Со мной это случалось уже много раз, Рауль де Харкорт.
Рауль, не сдержавшись, выпалил:
– Неужели вам никогда не бывает страшно, монсеньор?
– Страшно? Нет, – равнодушно отозвался Вильгельм.
По-прежнему держась рядом, они верхом скакали сквозь ночь. Спустя некоторое время Вильгельм придержал своего коня и заговорил вновь:
– Кто открыл ворота, чтобы впустить моих убийц?
– Лорд Гримбо и шестеро других, не столь знатных рыцарей.
Уголки губ герцога дрогнули во внезапной вспышке гнева.
– Грязный предатель! Клянусь Богом, он ответит мне за это! – От холодной ярости, прозвучавшей в голосе герцога, по спине Рауля пробежали мурашки. Вильгельм вновь окинул юношу взглядом, словно оценивая или прикидывая что-то. – Скачка будет долгой и трудной. К утру я должен быть в Фалезе. Твой конь выдержит?
– Да, милорд, – решительно отозвался Рауль, – если выдержит ваш. – Оглянувшись на вересковую пустошь, которую они только что пересекли, он добавил: – Пока что я ничего не слышу, монсеньор.
– Они обязательно погонятся за мной, – сказал герцог. – Мой славный кузен не может позволить мне улизнуть из-под его носа.
Рауль с благоговейным ужасом взглянул на Вильгельма.
– Значит, монсеньор, вы знали обо всем с самого начала?
– Что мой кузен Бургундский с радостью займет мое место на троне? Неужели ты считаешь меня глупцом, Рауль?
– Нет, милорд, но вы не подавали виду, а когда я, пребывая в своем невежестве, решился предостеречь вас, мне показалось, будто вам нет до этого дела, – застенчиво признался Рауль.
– Так и есть, – согласился Вильгельм. – Страсть господня, или ты думаешь, что вот уже одиннадцать лет оставаясь герцогом Нормандии, я испугаюсь шайки мятежников? Слушай же, Рауль де Харкорт! Первое, что я помню о своем детстве, – как мой дядя Вальтер тайком перевез меня из моего дворца в Водрее в жалкую лесную хижину, где и укрыл от врагов. Ему приходилось часто спасать меня, потому что с тех пор, как мне исполнилось восемь лет от роду, мои подданные регулярно замышляли против меня зло. Они убили моего опекуна Торкилла и зарубили графа Гилберта, которого прозвали Отцом Нации. Ты видел Фитц-Осберна, моего сенешаля; его отец, Осберн, сын Герфаста, погиб у меня на службе – его закололи подле самых моих дверей, когда я был совсем еще ребенком. Раны Христовы, мне уже пришлось перейти вброд не одну реку крови! Я научился не доверять людям, потому что те, кто должен был оберегать меня от мира, искали моей смерти с самого моего рождения. – Вильгельм умолк и язвительно рассмеялся, но в смехе его чувствовалась горечь. – А теперь вот Ги Златоустый поднял голову, чтобы нанести удар в спину Бастарду Нормандии! Клянусь душой своего отца, Ги дорого заплатит мне за это. – Герцог пустил своего коня галопом; ночной ветер трепал смоляные кудри на его непокрытой голове, а за плечами у него темным облаком клубилась мантия. Он повернулся, и в свете звезд Рауль увидел, как сверкнули в улыбке его зубы. – Держись меня, Страж Рауль. Клянусь Богом, ты еще увидишь, как мне покорится Нормандия!
Оба жеребца бок о бок все дальше уносились по пустынной дороге.
– Ах, милорд, – с жаром вскричал Рауль, – ради такого вот дня я и поступил к вам на службу. Я принадлежу вам в жизни и смерти, да окажутся мои руки между ваших[9], и пусть мой меч будет тому порукой!
– Да будет так! – отозвался Вильгельм и протянул свою квадратную ладонь.
Кони сблизились, и Рауль коленом коснулся герцога. Их руки встретились, обменявшись крепким пожатием.
– Монсеньор, раздавите эту подлую гадину, и пусть в Нормандии воцарится мир!
– Перед тем как наступит мир, я устрою войну, – пообещал Вильгельм. – Страсть господня, пришло наконец время для того, чтобы мой меч утратил девственность! Слушай же, что я тебе скажу: через день ли, через неделю, однако Нормандия восстанет против меня с оружием, а людей, которым я могу доверять, можно пересчитать по пальцам одной руки. – Голос герцога зазвенел от сдерживаемой страсти, и Рауль скорее ощутил, нежели увидел, как он нахмурился. – Сначала в Фалез, а потом во Францию.
Рауль ошеломленно переспросил:
– Во Францию, милорд?
– Да, к Генриху, моему сюзерену, чтобы требовать от него помощи.
В памяти Рауля всплыли воспоминания о старых обидах.
– Монсеньер, но можно ли доверять французскому королю?
– Генрих – мой сюзерен, – коротко бросил в ответ Вильгельм. – Он не посмеет отказать мне.
Всадники мчались дальше и, лишь въехав в непроглядную темень леса, придержали бег коней.
– Кто готов поддержать вас, милорд? – поинтересовался Рауль.
– Скоро узнаем, – с толикой черного юмора отозвался Вильгельм. – Здесь, в западной Нормандии, пожалуй, что и никто. А вот из Ко, Румуа, Эврецина и Уша, всех земель к востоку от Дивы[10] – многие. – Конь Вильгельма споткнулся о корень дерева, но герцог умелой рукой выровнял его. – В жизни у меня было немного друзей. Например, мой кузен Э хранит мне верность. Говорят, он принес мне клятву, еще когда я лежал в колыбели. Кроме того, есть Рожер де Бомон, старый Гуго де Гурней, де Монфор, которого ты знаешь. У меня еще два дяди, сводные братья отца: могу ли я доверять им? Да, при условии, что не буду спускать с них глаз. В детстве был друг в лице Эдуарда Саксонского, который ныне стал королем Англии, но сейчас он может лишь молиться за меня. Тем не менее, думаю, Эдуард любит меня так, как могут немногие. Его брат Альфред предпочитал больше полагаться на дела, чем на молитвы, однако оказался глупцом и нашел свою смерть от рук графа Годвина. Что до остальных… проще перечислить моих врагов. Они столь же многочисленны, как деревья в этом лесу. – Вильгельм плотнее запахнулся в мантию. – Видел ли ты некоего Рауля де Брикассара в Байе, виконта Бессена? Это худой и угрюмый человек, избегающий смотреть мне в глаза. Вот он поддерживает Ги. Потом есть лорд Ториньи, которого называют Зубастый Хамон. Цепной пес, что не упустит ни малейшей возможности причинить мне вред. Все это – могучие сеньоры, но существует и еще кое-кто, посильнее их, вот он-то, по моему мнению, и стои́т за их спинами. – Герцог ненадолго умолк. – Да будет так. Если он останется жив, то однажды станет служить мне. Его зовут Неель де Сен-Совер, виконт Котантен, которого не было в Валони. Если бы он туда прибыл, это означало бы, что он признает себя моим вассалом. Но его не было, и потому мы встретимся на поле брани. – Герцог, вскинув голову, взглянул на звезды. – Не отставай: мы должны переправиться через Вир[11] еще до наступления рассвета.
Они наконец достигли границы; лошади теперь хрипели, и с них хлопьями летела пена. Фортуна благоволила к путникам – наступил отлив, но, когда они переправлялись через бурный поток, уже занимался рассвет. Вода поднялась до колен, и от холода у Рауля застучали зубы. Кони, с трудом взойдя на другой берег, остановились на дрожащих ногах; бока у них ходили ходуном. Взгляд Вильгельма привлекла серая полоска света, появившаяся на горизонте.
– Мы обойдем Байе с юга, – сказал он. – Я не рискну появиться в городе. Вперед! Нельзя терять ни минуты.
В Сен-Клемане они остановились у небольшой церквушки, дав лошадям немного передохну́ть. Вильгельм, будучи человеком верующим, на несколько минут преклонил колени перед алтарем, истово помолился. Почти сразу они вновь поднялись в седла, и вот теперь Раулю становилось все труднее держаться рядом с герцогом, который безжалостно гнал своего скакуна вперед. В небе погасли последние звезды, когда они стороной обогнули Байе, и предутренний туман скрыл город от их глаз.
Солнечные лучи уже разгоняли его, и в тот момент они достигли Ри, замок которого высился у самой дороги. Вильгельм наверняка просто проехал бы мимо, но подъемный мост был опущен и на нем обнаружился какой-то человек, полной грудью вдыхавший свежий утренний воздух. Он пристально наблюдал за окончательно выбившимися из сил лошадьми, явно проделавшими долгий путь; любопытство его вызывали и всадники, в столь ранний час ехавшие на взмыленных конях. Когда скакуны спотыкающейся рысью поравнялись с мостом, человек узнал всадника с непокрытой головой на вороном коне, ахнул и бросился вперед, чтобы остановить герцога.
– Сеньор! Сеньор! Стойте! – закричал он и, раскинув руки в стороны, встал у них на пути.
Герцог натянул поводья. Властитель Ри схватил Мале под уздцы и вскричал:
– Какое несчастье с вами приключилось, милорд? Как вышло, что вы путешествуете один и в таком виде?
Герцог, глядя на него прямо, спросил:
– Хуберт, я могу доверять вам?
– Да, клянусь Богом! Вы можете довериться мне, монсеньор. Говорите смело! Я – ваш верный слуга.
– Что ж, тогда вот мой ответ, – сказал Вильгельм. – Я спасаюсь бегством. Вы хотите остановить меня?
– Да, милорд, ровно настолько, насколько понадобится, чтобы вы подкрепились и пересели на свежего коня, – не раздумывая, ответил Хуберт. – Входите же и ничего не бойтесь! Если здесь вас догонят враги, я буду защищать замок до последнего солдата.
Они въехали по мосту во внутренний двор замка и соскользнули с седел наземь. Старый Хуберт де Ри громкими криками сзывал своих людей; двоих усталых мужчин он незамедлительно провел в главную залу, и вскоре вокруг уже суетились слуги. Один принес одежду герцогу, другой опустился перед ним на колени, застегивая поножи поверх его штанов, третий притащил таз с водой, дабы Вильгельм мог умыть лицо, четвертый стоял наготове с салфеткой, а последний держал в руках рог, доверху наполненный французским вином. Пока слуги одевали его, герцог, глядя поверх их голов, разговаривал с Хубертом, вкратце пересказывая ему события в Валони. В самый разгар его повествования в залу вошли трое молодых людей, долговязых и со строгим выражением на юных лицах; каждый опустился перед герцогом на колено, когда отец гордо перечислял их имена сеньору.
– Смотрите, это ваш господин и повелитель! – наставлял он сыновей. – Вы будете сопровождать его. Во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни, должны доставить его целым и невредимым в Фалез.
– Ручаемся головой, отец, – глубоким уверенным голосом ответил старший из сыновей и вложил свои руки в ладони герцога.
Наконец они выехали в Фалез, предоставив Хуберту сбить их преследователей со следа. А он проделал это настолько ловко, сохраняя простодушный и бесхитростный вид, что даже через час безумной скачки, голодная орава, прощаясь с ним, пребывала в твердой уверенности, что Хуберт остается их доброжелателем, и без возражений последовала по указанному им пути.
В Фалезе герцог задержался всего на одну ночь. Город являл собой дружественный оплот в самом сердце враждебной территории, новости доходили сюда достаточно быстро. Все земли к западу от Дивы охватило открытое восстание под предводительством Нееля де Сен-Совера и Ранульфа, виконта Бессена, а в Байе сын графа Раймонда Бургундского, Ги, был провозглашен истинным правителем Нормандии по праву наследования своей матери, Алисии, дочери герцога Ричарда II. Он даже успел огласить собственный манифест, в котором обвинял Вильгельма в низком рождении, а также неспособности управлять страной. Услышав об этом, Вильгельм лишь оскалился и тотчас же поехал в Руан в сопровождении личной охраны.
Столица встретила его с подобающей лояльностью. Герцога помпезно приветствовали его дядья, Гийом, граф Арк, и Можер, архиепископ Руана, выехавшие ему навстречу при полном параде во главе верных вассалов. Полной противоположностью этой роскошной кавалькаде выглядел молодой человек в простой тунике с развевающейся мантией за плечами, который резко осадил своего коня, отчего тот привстал на дыбы, и сдержанно ответил на приветствия полусотни мужчин. Остановился он во дворце епископа и в тот же вечер устроил военный совет со своими дядьями: Гийомом, обыкновенно недолюбливавшим его, но сейчас настроенным вполне лояльно, и Можером, вкрадчивым, скользким типом, который, сложив пальцы домиком, в задумчивом молчании любовался их белизной.
Милорд епископ жил на широкую ногу, потому оказал племяннику поистине королевские почести. Вильгельм лишь выразительно приподнял брови при виде золотой посуды и дорогих гобеленов, но ничего не сказал. А Рауль, отправившийся побродить по просторному дворцу, случайно наткнулся на прелестную даму в шелках и драгоценностях, однако тоже предпочел держать язык за зубами.
На совете было решено, что герцогу следует немедленно ехать ко двору короля Генриха, пребывавшему в Пуасси, и там просить у него помощи против мятежников.
Графу Арку план не понравился, и он с жаром принялся вспоминать прошлые обиды.
– Allancz al roy? – вскричал он. – Отправиться к королю? Клянусь честью, мы что, забыли, как Генрих захватил Тийер? На вашем месте я бы ни за что не стал доверять Французскому Лису!
Но Можер, лишь улыбнувшись в ответ, со спокойной уверенностью заявил:
– Это привяжет его к нам. Он не посмеет отказать.
– Я тоже так думаю, – согласился герцог. Его глубокий голос прозвучал разительным диссонансом к притворным речам Можера. – Я не стану держать камень за пазухой на своего сюзерена.
Уже следующим утром Вильгельм отправился в путь в сопровождении личной охраны, по обыкновению выбрав кратчайший маршрут к французской границе. Рыцари выбивались из сил, но боготворили его. Наконец кавалькада усталых, однако гордых всадников прибыла в Пуасси и остановилась перед подъемным мостом. Вперед выехал герольд, который чистым, звонким, словно звук сигнального рожка, голосом прокричал:
– Вильгельм, милостью Божией герцог Нормандии, просит аудиенции у Его Христианнейшего Величества Генриха, короля Франции!
Пуасси ошеломленно замер; отряд герцога еще втягивался во внутренний двор, а слуги уже помчались предупредить советников короля о появлении столь неожиданного гостя. Через некоторое время после прибытия Вильгельма провели к королю. Он вошел широким шагом, в сопровождении милордов Арка, Гурнея и Монфора, а также трех рыцарей, среди которых был и Рауль, затем остановился перед королем, сидящим на троне в окружении своих сановников.
Вильгельм окинул залу ястребиным взором. Выйдя на ее середину, он чопорно преклонил колено, глядя прямо в лицо королю.
Генрих встал с трона и спустился с возвышения, протягивая к нему руки. На его тонких губах змеилась кривая улыбка.
– Дорогой кузен, мы рады приветствовать вас. – Подняв герцога, он обнял его. – Вы прибыли в такой спешке, что ваше появление стало для нас полной неожиданностью, – сказал Генрих, глядя на Вильгельма из-под полуопущенных век.
– Сир, мое положение столь же отчаянно, как и моя спешка, – ответил Вильгельм, переходя прямо к сути дела, что явно пришлось не по вкусу французу. – Я прибыл для того, чтобы заручиться помощью Франции в делах моего герцогства.
Генрих метнул быстрый взгляд на Эда, своего брата, но тут же вновь прикрыл глаза тяжелыми веками и негромко поинтересовался:
– И что же это за отчаянная нужда, кузен?
Вильгельм вкратце пересказал ему свои злоключения, а закончив, скрестил руки на груди и застыл в ожидании ответа короля, не сводя взгляда с его непроницаемого лица.
Французские сановники принялись перешептываться, исподтишка поглядывая на статную фигуру, стоявшую перед Его Величеством. Вильгельм возвышался над королем на добрых полголовы, а телосложением буквально подавлял его, отчего Генрих по сравнению с ним казался карликом. Одет герцог был очень просто – в тунику, отороченную золотой нитью, на боку у него висел меч, а с плеч до пола ниспадала мантия. Могучие запястья украшали массивные золотые браслеты, а накидку на плече перехватывала застежка с крупным драгоценным камнем. Голова его оставалась непокрытой, поэтому его сильное, загорелое лицо было открыто для взглядов всех присутствующих. Он стоял, выпрямившись и не шевелясь, но при том его поза оставалась спокойной и непринужденной.
Генрих несколько мгновений рассеянно теребил кружева на своем богатом платье.
– Нам нужно поговорить об этом подробнее, кузен, – изрек он наконец. – После обеда вы составите мне компанию.
По окончании совета, длившегося весь день в зале для аудиенций на втором этаже, было решено: Генрих вторгнется в Нормандию во главе французской армии, в назначенный день встретившись с Вильгельмом, который приведет с собой столько войск, сколько сможет собрать. Герцог подчинил короля Франции своей воле, заразил французскую знать собственными энергией и верой, и Генрих вдруг обнаружил, что кузен легко склонил членов совета на свою сторону, включая его самого, поскольку сейчас воевать Его Величеству не очень-то и хотелось.
На следующий день герцог отбыл столь же неожиданно, как и появился. Король наблюдал за его отъездом из окна, задумчиво поглаживая оттопыренную верхнюю губу. Стоявший рядом брат короля Эд со смешком воскликнул:
– Клянусь телом Христовым, а Бастард оказался-таки мужчиной, сир!
– Да, – медленно протянул Генрих. – Но его следует привязать ко мне еще сильнее.
– Для этого мы и выступаем вместе с ним против мятежников, брат мой. Ведь так?
– Может быть, может быть, – пробормотал король. – Думаю, смогу его использовать. Да, у меня определенно есть работа для Бастарда.
Глава 4
Когда кавалькада герцога вновь въехала в Руан, то обнаружила, что город буквально кишит вооруженными людьми. Улицы оглашал лязг стали, а солнечные лучи ослепительно сверкали на отполированных щитах и хауберках[12] рыцарей. Верные герцогу вассалы откликнулись на его призыв, стекаясь в Руан со всех концов Нормандии. День за днем шли они из Ко и Бре, из Эврецина и Вексена, из Румуа и Льевена; их опережали гонцы с сообщениями о подходе подкреплений из Перша и Уша, Иемуа и Ожа, готовых присоединиться к герцогу в его походе на запад.
У въезда в город Вильгельма встретила большая группа всадников. Среди них Рауль разглядел своего сюзерена, Рожера де Бомона, и понял, что в его свиту почти наверняка вошел отец, а также кто-нибудь из его братьев, может, даже оба. Были здесь и многие другие, включая высокого мужчину, которого очень тепло обнял герцог. Это был сам граф Роберт Э. Его сопровождал младший брат Гийом, по прозвищу Бузак, и многочисленный эскорт сторонников.
Бароны, знатные и не очень, заполонили дворец до отказа. Среди них оказался де Гурней, опытный рубака, со своим неизменным собутыльником Вальтером Клиффардом, сухопарым изможденным лордом Лонгевилля; молодой де Монфор; Гийом Фитц-Осберн, сенешаль герцога; лорды Кревекера и Этутвилля, Брикебека, Мортемера и Румара. Все они привели с собой своих сторонников, и все наперебой похвалялись ратной удалью и отвагой. Каждый день в Руан прибывали все новые и новые вооруженные отряды, словно гончие, рвущиеся с поводка, который крепко держал в руках молодой хозяин.
– Недурно, очень даже недурно! – проворчал Хуберт де Харкорт, глядя, как в город во главе своих сторонников вступает Вильгельм де Варенн. – Но, держу пари, против каждого из наших людей виконт Котантен готов выставить двух своих. – Он уныло покачал головой. – Вы видите лордов Муайона и Магневилля? Или Дрогона де Мансо, Жильбера Монтфике? А куда подевались владетели Каани и Аньера? Что слышно о Торньере? Где Сен-Совер? Либо Вальтер де Лейси? В назначенный день нам придется схлестнуться с ними, только и всего, но до этого вы их не увидите, голову даю на отсечение!
Предательство Гримбо вызвало всеобщую ненависть. Небольшая группа верных людей, сопровождавшая герцога в Валонь, вновь присоединилась к нему в Руане, горя желанием отомстить негодяю, который опоил их сонным зельем.
Помимо самого Вильгельма к бою войско готовили граф Роберт и Гуго де Гурней, но герцог превзошел их всех. Казалось, в него вселился сам дьявол; они мысленно задыхались, не поспевая за его планами и распоряжениями, а Рауль сбивался с ног физически. Теперь один мальчишка следовал за другим уже по-настоящему. Всего за ночь безумной скачки, когда оба уходили от погони, между герцогом и самым юным из его рыцарей установилась необычная, но несомненная дружба. Рауль скакал верхом рядом с Вильгельмом, спал у его дверей, сопровождал герцога на совет и даже нес его знамя, когда тот галопом проносился вдоль строя своих войск. Мужчины выразительно приподнимали брови; одни насмешливо улыбались, другие ревновали, однако он не обращал на них никакого внимания, пока герцог десять раз на дню восклицал своим повелительным голосом «Рауль!».
Отец пыжился от гордости за младшего сына, коему была оказана такая милость, и никак не мог понять, почему сам Рауль не проявляет ни малейших признаков тщеславия. Тот факт, что Рауль не питает других устремлений, кроме как беззаветно служить герцогу, вызывал у него бесконечное изумление и даже опасения. Теперь, увидев Вильгельма в деле, он уразумел, почему тот вызывает уважение, но то, что Рауль бросил к его ногам свое пылкое юношеское сердце со всеми своими мечтами, оказалось выше его понимания. Отец лишь хмурился и ворчал:
– Святые угодники! В мое время мальчишек делали из более прочного материала!
Армия герцога выступила на запад, навстречу французским войскам, пройдя через Понт-Одеме на Риле и переправившись через Тук у Понт-л’Эвека. На всем протяжении к ним прибывали подкрепления, присланные местными баронами. Ежедневно лазутчики герцога докладывали ему о продвижении французского короля. Он пересек границу у Вернея во главе своей армии, двинувшись в Иемуа через Эшафур, а сейчас шел маршем на север через Ож, чтобы соединиться с герцогом у Вальмиеры, в лиге[13] к югу от Аржанса, а уже оттуда двинуться на мятежников, вставших лагерем на равнине Валь-э-Дюн.
Вильгельм перешел Меанс вброд у Беранже, к северу от Валь-э-Дюна. В его войске не нашлось бы барона, рядом с которым не развевалось бы его знамя. Стяги, рыцарские вымпелы и флажки трепетали на легком ветру, разливаясь разноцветным и бурным половодьем красок, во главе которого двигались золотые львы, реявшие над головой самого Вильгельма. Простой люд гурьбой вы́сыпал из Аржанса, дабы полюбоваться на проходящую мимо армию. С раскрытыми от изумления ртами простолюдины круглыми глазами смотрели на воинов, подталкивая друг друга локтями и перешептываясь:
– Вон он! Это и есть герцог, на вороном жеребце, Господи Иисусе! Да ведь он выглядит намного старше своих лет!
Из толпы до них долетел звонкий девичий голосок:
– Помогай вам Бог, монсеньор! Смерть врагам вашей милости!
Собравшиеся подхватили ее крик:
– Помогай Бог! Помогай Бог!
Но герцог даже не повернул головы и проехал мимо, глядя прямо перед собой.
На рассвете французы отслужили мессу в Вальмиере и двинулись дальше, к Валь-э-Дюну, где вдоль берега Меанса выстроилась в оборонительных порядках армия мятежников. У подножия холмов, окружавших Аржанс, войско герцога уже видело долину Валь-э-Дюн, ровную, как стол, на которой не росло ни деревца, ни кустика. К востоку голая, продуваемая всеми ветрами местность постепенно плавно понижалась.
– Славное место для драки, – заметил граф Роберт, ехавший впереди Вильгельма. – Неель выбрал хорошее местечко, клянусь честью!
Рауль, окинув взглядом серебристую полоску реки, подумал: «Уже совсем скоро во́ды ее окрасятся кровью и вниз по течению поплывут тела убитых. Кто из нас увидит завтрашний рассвет?»
Но было очевидно, что подобные мысли даже не приходили герцогу в голову. Он пришпорил своего жеребца, посылая его галопом, словно торопясь быстрее очутиться на поле брани. Версерей устремился за ним в погоню, и встречный ветер развернул полотнище, которое держал в руке Рауль, а золотые львы затрепетали на кроваво-красном поле.
Король Франции выехал из боевых порядков своей армии, дабы приветствовать герцога. Его сопровождал один из вельмож; поверх кольчуги Его Величество набросил на плечи алую мантию.
«Сегодня всюду главенствует красный, – подумал Рауль. – И, даст бог, окружающий мир покраснеет еще сильнее!»
Версерей, нервничая, бил копытом и грыз мундштук; ветер перебирал шелковые стяги, пригибая траву, отчего по ней пробегали сумрачные тени. Рауль посмотрел на армию мятежников, выстроившуюся в некотором отдалении. Над ней тоже реяли штандарты, а солнце сверкало и дробилось на остриях наконечников целого леса копий, отражаясь ослепительными солнечными зайчиками. Спокойная равнина, насколько хватало глаз, тянулась к горизонту, а меж пологих берегов струил свои воды Меанс, ласковым журчанием навевая дрему. И вдруг Рауль понял: ему хочется, чтобы эта тишина длилась вечно; мысленно он представил себе землю, взрытую копытами несущихся в атаку коней, и мертвых, истекающих кровью рыцарей, лежащих на берегах реки. Заглушая пение птиц, в ушах у него зазвучали крики, стоны и лязг стали. Тряхнув головой, юноша постарался отогнать от себя женские страхи. В конце концов, для чего еще рождаются на свет мужчины, как не для боя? Он вновь вперил взгляд в герцога, который сидел, уперев одну руку в бедро и склонив голову к королю.
А Генрих указывал на группу всадников, старательно державшихся на равном удалении от армии мятежников и войска герцога.
– Вы не знаете, случайно, кто эти люди, кузен? – осведомился он. – Они подъехали незадолго до вас, но приближаться не спешат. На чьей стороне они будут сражаться?
Вильгельм приставил ладонь козырьком ко лбу, защищая глаза от солнца, и стал вглядываться во флажок, трепещущий на ветру.
– Думаю, на моей, сир, – наконец ответил герцог. – Это герб Рауля Тессона, лорда Тюри-ан-Сингуэлица, а он не ссорился со мной, как и не имеет повода для гнева.
В гуще небольшого войска произошло какое-то движение, от него отделился одинокий всадник и легким галопом направил своего коня к армии герцога.
– К нам едет сам Рауль Тессон, – заметил Вильгельм, по-прежнему прикрывая глаза от солнца ладонью. Он пришпорил Мале, выехал вперед, за линию своих войск и, нахмурившись, стал ждать приближения Тессона.
Владетель Сингуэлица подъехал с криком «Тюри!», яростно раскатившимся над равниной. Мантия развевалась у него за спиной, а в правой руке он сжимал перчатку. Рывком осадив коня, Тессон сказал:
– Приветствую тебя, герцог Нормандии! – и никто из слышавших его не смог понять, насмехается ли он или говорит серьезно. Всадник вперил взгляд ярких глаз в Вильгельма.
– Что тебе от меня нужно, Рауль Тессон? – спокойно поинтересовался герцог.
Лорд Сингуэлица подъехал ближе. Вильгельм не шелохнулся, но Рауль, с тревогой наблюдая за происходящим, предусмотрительно положил ладонь на рукоять меча.
– Вот это! – выкрикнул лорд Сингуэлица. Его правая рука взметнулась вверх, и зажатой в ней перчаткой он ударил герцога по щеке, после чего хрипло рассмеялся. – Дело сделано! – сказал лорд и подал коня назад.
Люди герцога, стоявшие позади него, угрожающе заворчали; копья качнулись и опустились для удара; еще мгновение, и строй ринется вперед. Но герцог вскинул руку, призывая своих сторонников к спокойствию и не сводя взгляда с лица Тессона.
А тот, беззаботно взглянув на взбешенных баронов, улыбнулся Вильгельму.
– Я сделал то, что поклялся сделать, – проговорил он ясным, чистым голосом, разнесшимся далеко над полем. – Я выполнил клятву, когда дал слово ударить вас тотчас же, едва разыщу. Отныне, монсеньор, не причиню вам зла и никогда более не подниму на вас руку. – Резким жестом отдав герцогу честь, он, прикоснувшись к шлему, развернулся и направил коня обратно к ожидающим его людям.
Герцог расхохотался.
– Благодарю тебя, Рауль Тессон! – крикнул он вслед лорду и вернулся к королю Генриху.
– Клянусь честью, отличная работа! – заявил Генрих. Глаза короля смеялись. – Бешеные псы, эти нормандцы.
– Вскоре вы сами сможете судить об этом, сир, – пообещал герцог.
Герольды с обеих сторон съехались и разъехались вновь. На правом крыле выстроились нормандцы, которых возглавил лично Вильгельм, кроме того, графы Арк и Э, а также сеньор Гурнея; французы, во главе со своим королем и графом Сен-Полем, образовали левое крыло. Напротив них люди Бессена собрались под знаменем Ранульфа Байе; неуправляемые же вояки Котантена столпились за спиной Нееля де Сен-Совера, которого недаром прозвали Главным благородным соколом страны. Рауль увидел его штандарт, серебристо-голубой, рассыпающий небесную синь над равниной, и отметил, как уверенно сидит он на горячем скакуне и как наконечник его копья искрится солнечными зайчиками.
Юноша, намотав на руку поводья Версерея, удобнее перехватил древко стяга, который держал над головой. Ему не хватало воздуха, словно он долго бежал что было сил, а в ушах барабанной дробью шумела кровь. Губы его пересохли, и он облизнул их, молясь, чтобы в первом бою суметь проявить себя, как и подобает рыцарю герцога.
Прозвучала резкая команда «В атаку!», и юноша, заметив, как рванулся вперед Мале, последовал за ним, стараясь не отставать. Вдруг его охватило возбуждение; Рауль понял, что страх куда-то исчез и он больше не задыхается.
Уши у него заложило от грохота копыт; с ним поравнялась голова огромного чалого жеребца; Рауль заметил, как взвихрилась голубая мантия и блеснул сталью щит, но все его внимание было приковано к человеку, яростно гнавшему Мале в самую гущу боя. Впереди армия противника, пустив коней галопом, приближалась к ним. Рауль мельком подумал о том, что будет, когда две лавины схлестнутся. В ушах зазвенел многоголосый крик; юноша обнаружил, что тоже кричит во все горло «С нами Бог![14]».
Грохот копыт стал громче; противники сближались. Ветер донес до него крик людей Бессена: «Сен-Совер! Сен-Совер!» и боевой клич воинов Зубастого Хамона: «Сен-Аман! Сен-Аман!»
Обе армии, с оглушительным грохотом столкнувшись, остановились. Щиты врезались в щиты; в тесной давке рыцари рубили с плеча и кололи; обезумевшие кони молотили друг друга подкованными стальными копытами. Вот кто-то упал с седла; Рауль расслышал его вопль и стиснул зубы. Ладонь, сжимавшая древко знамени, вспотела; другой рукой он крепко держал энармс[15] своего треугольного щита. Юноша направил Версерея вслед за герцогом, продираясь сквозь давку. Кто-то крикнул, что король погиб; впереди возникла жестокая свалка; герцог изо всех сил ударил копьем, и чья-то лошадь упала. Рауль увидел ее красные раздувающиеся ноздри, когда она опускалась на колени, и ужас в расширенных зрачках. А потом видение померкло, и оказалось, что он отражает прямой удар чужого копья своим щитом. Версерей попятился от мужчины, который, стоя среди трупов, отчаянно орудовал копьем. Рауль рванул своего огромного коня в сторону, и ударил мечом сверху вниз. На ногу ему брызнула кровь; он послал жеребца вперед, перепрыгивая через упавшего рыцаря, и, орудуя мечом, принялся пробиваться к герцогу.
– Сен-Совер! Сен-Совер! – С яростным воплем мужчина, только что выкрикнувший этот клич, нанес удар по знамени, которое Рауль столь старательно оберегал. Меч юноши взлетел над головой, и голубая сталь зашипела, рассекая воздух. Древко уцелело, а мятежник лишился руки. Рауль, смахнув пот с глаз, крикнул:
– Смерть! Смерть! Le bon temps viendra!
Вот на него в ярости устремился другой мятежник; юноша подставил щит и увидел потемневшее лицо Гримбо дю Плесси, щека которого была измазана кровью. Но тут в бок врага неожиданно ударило копье Хуберта де Харкорта, и Гримбо вылетел из седла. Хуберт закричал: «С нами Господь! Сдавайся, сдавайся, вероломный рыцарь!». Рауль, увидев, что к ним пробивается его брат Эйдес, взмахнул знаменем и устремился вслед за герцогом.
А Вильгельм дрался так, словно не ведал усталости. Пена, летевшая с губ Мале, забрызгала ему ноги; на шлеме его красовалась вмятина от скользящего удара, но глаза герцога под козырьком сверкали неукротимым огнем. Он отбросил копье и теперь сражался мечом, вступив в рукопашный бой с Ардрезом, лучшим воином Байе. Клинок ветерана с лязгом столкнулся с его собственным; Ардрез выкрикнул боевой клич своих сюзеренов «Сен-Аман!», и в следующий миг герцог парировал его выпад, вонзив кончик меча в его незащищенное горло. Кровь из раны хлынула рыцарю на тунику; издав жуткий хлюпающий звук, он опрокинулся с седла, а лошадь, оставшаяся без всадника, понеслась и вломилась в самую гущу схватки.
Сколько еще продолжалось сражение, Рауль не знал. Он держался рядом с герцогом с кровожадной цепкостью, рыча сквозь зубы и отбивая многочисленные попытки завладеть его знаменем. Забрызганное кровью и пеной древко скользило у него в руке, но полотнище по-прежнему развевалось над головой герцога.
А в ушах Рауля гремели дурацкие в своей абсурдности слова: «Даст Бог, еще покраснеет! Еще покраснеет!» Перед его глазами колыхалось сплошное месиво лошадей и всадников. Иногда какой-нибудь воин, казавшийся юноше призраком, сближался с ним, и он машинально наносил удар. В определенный момент юноше показалось, будто ряды сражающихся редеют, и в просвете перед ним мелькнуло лицо Ги Бургундского; побагровевшее, с выпученными глазами, оно вдруг исчезло, и его место заняли другие лица, постоянно меняющиеся, словно в кошмарном сне. Время от времени треск и лязг боя заглушало пронзительное ржание лошади или чей-то отчаянный боевой клич.
Воины Сингуэлица, по-прежнему державшиеся в стороне до тех пор, пока не угас запал первой стычки, в нужный момент устремились вперед и атаковали фланг мятежников. Они смешались с войсками герцога; вновь и вновь их яростный боевой клич «Тюри!» заглушал крики «С нами Бог!» вкупе с оглушительным ревом «Монжуа!», доносившимся из рядов французов.
Первым поле боя покинул Ранульф, виконт Бессен. Завалы из тел убитых становились все выше, войска герцога напирали, тесня мятежников, и он, дрогнув, пал духом. Похоже, смуглое лицо Вильгельма являлось ему в кошмарных снах, не давая покоя. Ранульф сражался отчаянно, однако, когда от руки герцога пал Ардрез, его любимый вассал, виконта охватил ужас. Издав душераздирающий вопль, он отшвырнул щит с копьем и, словно безумный, поскакал верхом прочь, низко пригнувшись к шее лошади, пришпоривая ее все сильнее и сильнее, пока не скрылся из глаз.
Герцог, гарцевавший на коне рядом с Раулем и выбравшийся из гущи утихающего сражения, вдруг рассмеялся. Рауль непроизвольно вздрогнул: звук смеха сюзерена привел его в чувство. Он со всхлипом втянул в себя воздух, и красная пелена спала с его глаз; юноша с ужасом взглянул на человека, способного смеяться в разгар кровавого пиршества.
А герцог клинком своего окровавленного меча указывал на удаляющуюся фигурку Ранульфа.
– Клянусь распятием! Он похож на гуся с вытянутой шеей! – сказал Вильгельм, бросив на Рауля веселый взгляд.
Юноша, наконец расслабившись, зашелся истерическим смехом. Рауль смеялся и не мог остановиться, пока конь герцога не двинулся вперед, и только тогда он взял себя в руки и, покусывая губы, поехал следом за ним. Оказалось, Рауль весь дрожит, как в лихорадке. Лишь сейчас, когда бой для него закончился, юноша впервые почувствовал запах крови, и его едва не стошнило.
Вслед за Ранульфом в окружении остатков своих людей последовал и Ги Бургундский, который на ходу пытался замотать шарфом окровавленную руку.
Из всех вождей мятежников лишь один Неель де Сен-Совер дрался с каким-то угрюмым ожесточением. Зубастый Хамон остался лежать бездыханным на поле брани, раскинув в стороны руки и ноги там же, где и упал. Это он убил вторую лошадь под королем, но, едва Генрих успел спрыгнуть с седла, как уже сам Хамон рухнул оземь, пронзенный копьем нормандского рыцаря.
– Страсть господня, рядом со мной найдется местечко для такого человека! – воскликнул герцог, горящим взглядом наблюдая за непобедимой фигурой, упорно сражающейся под небесно-голубым стягом.
Меанс уже вышел из берегов; вниз по течению плыли горы трупов. Мужчины, откинув в сторону щиты и копья, друг за другом бросались к реке: одни – для того чтобы переправиться на другой берег, другие – чтобы бесславно утонуть в покрасневшей от крови воде. Но вот наконец и виконт Котантен вынужден был отступить. Он вышел из боя, криками сзывая своих людей под собственный штандарт, и поехал прочь, сохраняя боевой порядок даже при ретираде[16].
Кое-кто из нормандских и французских рыцарей уже готов был броситься за ним в погоню, чтобы догнать и убить. Но герцог, привстав на стременах, проревел:
– Стойте! Я запрещаю вам преследовать его! Пусть он уходит.
«Слава богу, что хоть кто-то остался жив», – подумал Рауль, стараясь не смотреть на тело, лежавшее у его ног. Однако труп непреодолимо притягивал взгляд юноши. Когда-то убитый был мужчиной с лицом, созданным для смеха или плача. Вот только теперь оно исчезло, превратившись в кровавое месиво под копытами коней, промчавшихся по нему.
Герцог заметил, что внимание Рауля приковано к чему-то, и проследил за его взглядом. Брови Вильгельма вздрогнули, и это стало единственным проявлением эмоций с его стороны, причем непонятно, жалость то была или отвращение.
– Едем! – не оборачиваясь, коротко бросил он и поехал навстречу королю.
А Генрих, раскрасневшись, запыхался.
– Клянусь Богом, вы неподражаемы, кузен! – воскликнул он после того, как герцог отдал ему честь. – Славная была сеча, Нормандец. Отныне ваш меч потерял свою девственную чистоту!
Герцог вытер свой клинок концом порванной мантии.
– Да, он вволю напился крови, – подтвердил Вильгельм.
Генрих снял шлем и провел рукой по раскрасневшемуся лицу.
– У меня есть для вас работа, Нормандец! – сказал он.
– Я – вассал Вашего Величества, – чопорно отозвался Вильгельм.
– Мы поговорим об этом после того, как отдохнем, – пообещал король. – Святые угодники, я буквально умираю от жажды!
– С вашего позволения, сир, у меня нет времени на отдых, – сказал герцог.
Король в изумлении уставился на него.
– Господи милосердный, неужели вам все еще мало?
– Я должен выкурить лисицу из ее норы, – ответил Вильгельм. – Ги Бургундский наверняка бежал в свою берлогу в Брийоне. Мне хотелось бы закончить начатое, сир. – Он улыбнулся графу Роберту Э, который как раз верхом приблизился к ним. – Поедешь со мной, Роберт?
– С тобой – хоть к черту в зубы, – бесшабашно отозвался граф. – Но мы должны во что бы то ни стало отрезать Бургундца от его припасов и путей снабжения. Начало хорошее, но и конец должен быть не хуже. – Роберт поманил Хуберта де Харкорта, приглашая того выехать вперед. – Кузен, вот у него есть пленник, которого ты с превеликой радостью закуешь в кандалы.
Хуберт снял шлем, обнажая потное лицо и налитые кровью глаза.
– Милорд герцог, это – предатель Гримбо, – сказал он, и Рауль улыбнулся, расслышав нотки уважения в грубовато-добродушном голосе отца.
– Ха! Неужели? – вскричал Вильгельм. – Пусть Гуго де Гурней отвезет его в кандалах в Руан. – Кивнув в знак благодарности Хуберту, герцог жизнерадостно заявил: – Ваша семья хорошо служит мне. Можете быть покойны, я этого не забуду. – Вновь повернувшись к королю, он поднес к шлему ладонь. – Прошу позволения удалиться, сир. Когда я закончу свою работу, позовите меня, и я немедленно явлюсь по первому же вашему требованию. Рауль, за мной! – Развернув коня, герцог направился к своей армии.
Хуберт, уставившись ему вслед, раздувал щеки; затем, пробормотав «Вот и славно!», он шлепнул ладонью по шее своего взмыленного жеребца и помчался галопом вслед за Вильгельмом, со смехом добавив:
– Мы снова в деле! Вперед, за нашим герцогом, который любит драться!
Граф Э, скакавший на коне рядом, рассмеялся и сказал:
– Ты действительно так думаешь, старый бойцовый пес?
– Вот тебе истинный крест! – отозвался Хуберт.
Король Франции остался на месте, задумчиво поглаживая бородку.
– А ты и впрямь горячий малый, – пробормотал он. – Да, ты горяч, но разум твой холоден, клянусь честью! Можешь не сомневаться, я призову тебя, Нормандец; можешь не сомневаться. – Он заметил, что на него в растерянности смотрит Сен-Поль. – Как, вы еще здесь, граф? Что скажете? Удастся ли мне стравить Нормандию с Анжу? – И король беззвучно рассмеялся.
Сен-Поль, тугодум от природы, напряженно размышлял.
– Это породит вражду между ними, – сказал он наконец. – Жоффруа Мартель – мстительная личность.
– Да, а почему нет? – резко бросил король. – Пусть нормандский волк поможет мне затравить анжуйского лиса. Держу пари, в этом человеке сокрыт холодный дьявол. А потом пусть лис открывает охоту на волка, чтобы тот не стал слишком велик. – Заметив, что Сен-Поль пребывает в явной растерянности, Его Величество потянул графа за мантию. – Послушайте, граф, мне не нужен могущественный волк у себя на границе.
Глава 5
В конце концов они выкурили бургундского лиса из его норы, но сделать это удалось далеко не так легко и просто, как рассчитывали. Хотя донжон в Брийоне и не был выстроен на вершине горы, но оттого оказался не менее надежным убежищем. Его квадратная приземистая постройка стояла на самой стремнине острова, охраняя оба протока реки Риль. Герцог, прибыв на место, нахмурился и, прикусив крепкими белыми зубами ремень плетки, отдал несколько коротких распоряжений. В скором времени осажденные уже рассматривали сквозь бойницы две деревянные башни, возведенные одна – к востоку, а другая – к западу от донжона. Сам же Вильгельм встал лагерем на обоих берегах с явным намерением уморить кузена голодом.
Говорят, узнав об этом, Ги Бургундский весело рассмеялся, считая, что находится в полной безопасности. Донжон готов был выдержать блокаду до самой зимы; Ги можно было простить за то, что он был уверен: терпение Вильгельма истощится намного раньше. Вот только здесь он крупно просчитался. Воинственный Герцог прекрасно знал, когда следует действовать в яростной спешке, а когда – держать свой порывистый нрав в узде. Если же Ги рассчитывал на то, что очередные беспорядки в Нормандии вынудят Вильгельма снять осаду, то и здесь его ждало разочарование. Неель де Сен-Совер удалился в Бретань, был объявлен «волчьей головой»[17], а его поместья подверглись конфискации. Ранульф Байе вообще сбежал неизвестно куда. Лорд Ториньи пал на Валь-э-Дюне, а Гримбо дю Плесси гнил в подземелье Руана, где его тоже ждала скорая смерть в кандалах. Что до всех остальных, то Нормандии нужно было время, чтобы перевести дыхание. Она начала узнавать своего герцога и пока затаилась, зализывая раны.
Теперь уже очевидно, что именно неистощимое терпение Вильгельма подкосило Ги. Очень скоро он начал нервничать, и в волнении ему случалось обгрызать ногти до мяса. Он был готов к штурму, оставаясь уверенным, что сумеет отбить его, но капризный и переменчивый нрав Ги не вынес пытки медленным ожиданием. В те дни в Брийоне поселилось беспокойство и тревога, воины смотрели на армию герцога, и с каждым днем мужество покидало их, а надежда умирала медленной смертью. Когда пришла зима и кости начали выпирать из-под кожи, в замке поселилось черное отчаяние; люди таились по углам, кутаясь в свои накидки в тщетной надежде уберечься от лютого холода. Уже никто не заикался о том, что осада, быть может, вот-вот будет снята. И лишь друзья на коленях умоляли Ги вручить Вильгельму ключи от замка. А он в ярости кричал, что они желают ему смерти.
– Нет, милорд, нет; это здесь мы все умрем медленной смертью, как крысы в западне.
Ги съежился на кровати, дрожащими пальцами натягивая на себя мантию и в горячке шепча:
– Gayter la mort, gayter la mort![18] – В глазах его появился лихорадочный блеск и, взглянув на своих людей, он вдруг разразился идиотским лающим смехом. – Да вы издеваетесь надо мной, ходячие скелеты! – Его начала бить крупная дрожь. – Скелеты из Валь-э-Дюна! – задыхаясь, прохрипел он. – Клянусь Богом, я вас знаю! Вы презрительно улыбаетесь? Мертвецы! Вы все – мертвецы! – Закрыв лицо руками, он заплакал; плечи его вздрагивали.
Люди Ги постарались утешить его, как только могли, а он лежал на постели, глядя в потолок, ни на кого не обращая внимания, и лишь разговаривал сам с собой монотонным, жутким голосом, приводившим в содрогание всех, кто его слышал.
Когда этому наступил конец, снег уже покрыл землю белым одеялом, а река начала замерзать. Вельможи на острие копья принесли герцогу ключи от Брийона и униженно пали перед ним на колени. В ответ он лишь сказал:
– Приведите ко мне Ги Бургундского.
Перед ним предстал Ги с седлом на спине в знак полной капитуляции, а также подчинения. Шагал он с трудом, сгибаясь под непомерной тяжестью конской сбруи. Сидевший у ног герцога Гале пронзительно заверещал, а затем изрек:
– Присядь, братец: гордыня подкосила тебя.
Получив пинок, шут простерся на земле.
– Помолчи, дурак! – резко бросил ему герцог. Подойдя к Ги, который опустился на колени в ожидании приговора, Вильгельм снял седло с его плеч и отбросил в сторону. – Встань, кузен, и выслушай, что я имею тебе сказать! – приказал он, взял Ги под локоть и поднял его на ноги.
Сторонники Бургундца на коленях подползли к герцогу, чтобы поцеловать ему руку, когда он закончил говорить; наказание оказалось чрезвычайно мягким: полное прощение для всех участников мятежа и всего лишь конфискация земель Ги. Сам он был исключен из числа вассалов Нормандии, но герцог, смягчившись, предложил кузену по-прежнему считать себя его гостем.
Ги лишился дара речи и лишь беззвучно шевелил губами; одинокая слеза медленно сползла по его щеке. Вильгельм резким кивком головы подозвал к себе Фитц-Осберна.
– Уведите его, – распорядился герцог. – Пусть с ним обращаются со всеми полагающимися ему почестями. – Самого Ги он легонько хлопнул ладонью по плечу. – Ступай, кузен, – сказал герцог. – Тебе более незачем опасаться меня, обещаю.
Немного погодя, когда Раулю представилась такая возможность, он преклонил колено перед герцогом и поцеловал ему руку.
Вильгельм взглянул на юношу сверху вниз с улыбкой, приподнявшей уголки его губ.
– Что теперь, Рауль?
– Монсеньор, я видел вашу силу, видел вашу справедливость, но теперь увидел и ваше милосердие.
Вильгельм отнял руку.
– Тьфу! Неужели я похож на кота, который беспокоится о мертвой мыши? – презрительно бросил он.
До весны Ги Бургундский оставался при дворе в Руане, но было очевидно, что он с радостью предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте. И когда на истосковавшихся по влаге голодных полях растаял последний снег, он начал умолять герцога позволить ему покинуть Нормандию. Получив разрешение, немедля отбыл в свои земли, сломленный и окончательно павший духом.
С приходом весны пришло и обещанное послание от короля Генриха. Его Величество призывал к себе своего верного вассала оказать ему помощь в военных действиях против Жоффруа Мартеля, графа Анжу.
Нужда его оказалась неотложной. Как человек, обуреваемый тщеславием, которое нашептывало ему, что его заслуги многократно превышают награды и владения, Мартель успел стать причиной беспорядков для своих соседей. Графы Шартр и Шампань могли стать тому свидетелями, что и они сделали, шумно и доказательно. Провинция Мен, расположенная по соседству с Нормандией, уже пребывала под его пятой, поскольку Мартель являлся опекуном юного графа Гуго, чем и воспользовался в полной мере к своей выгоде. Сломив сопротивление и лишив свободы благородных графов Шартра и Шампани, он возомнил, будто может достигнуть большего величия и решительно принялся за дело. Весной того же года Мартель отрекся от клятвы вассальной верности, принесенной королю Генриху, и в подтверждение столь вызывающего жеста вторгся в Гиень и Пуатье. После нескольких стычек он, захватив обоих графов в плен, поместил их под замо́к, где и вознамерился держать до тех пор, пока они не согласятся на его требования. Это был грабеж средь бела дня, но графам не оставалось ничего иного, как уступить. Следует отметить, что граф Пуату скончался через четыре дня после освобождения. А вот Гиень остался жив: очевидно, он пил из другого кубка. Мартель предъявил претензии на Пуатье и женился – как поговаривали, силой – на родственнице покойного графа. Вот так обстояли дела, когда король Генрих послал за Нормандским Волком.
Во главе своей армии герцог Вильгельм пересек границу и вступил во Францию. Вновь мужчины, жившие, собственно говоря, почти исключительно ради таких вот событий, надели доспехи, на распятии поклявшись, что, если таково желание герцога, они готовы следовать за ним до самого конца, каким бы он ни был.
Что думал об этом король Генрих, осталось неизвестным, но несомненной стала его ревность к своему юному вассалу, помноженная на зависть. Если поначалу он призвал Вильгельма, дабы тот сражался под его началом, то вскоре уразумел, кто из двоих является подлинным лидером экспедиции. Слово Вильгельма имело решающее значение; именно он недрогнувшей рукой указывал на слабые места в планах короля и без колебаний подвергал жесточайшей критике замыслы, которые представлялись его военному складу ума напрасной тратой времени. Королю Генриху под шелковой улыбкой приходилось скрывать растущее раздражение; французские бароны кипели недовольством, но Вильгельм оставался неумолим. В конце концов они возненавидели его, эти гордые французы, за острый ум, который выставлял напоказ их собственное невежество, за его дар предвидения, бесстрашие и отвагу на поле брани, но более всего – за его строптивый, не желающий приспосабливаться нрав. Всю жизнь мужчины вынуждены были бояться герцога, будучи не в состоянии выдержать его прямого и обескураживающего взгляда. И в самом начале карьеры Вильгельма французам первым было уготовано испытать на себе безжалостную силу его воли. Правда же заключалась в том, что он никогда не отступал с однажды выбранного пути и шел к цели напрямик, не сворачивая, жертвуя всем ради ее достижения и не стесняясь в средствах. Признав главенство герцога над собой, вы обзаводились добрым другом, тогда как противостояние с ним неизменно приводило к одному-единственному результату.
– Господи Иисусе, его непреклонность меня пугает! – заявил однажды Рожер де Бомон. – Что с нами будет? Признаюсь откровенно, я боюсь его. Да, боюсь, причем до дрожи. Он не похож ни на одного из тех, кого я знал. Устает ли он хоть когда-либо? Болит ли у него что-нибудь? Кровь Христова, может ли такое случиться, чтобы он не достиг цели? Мне начинает казаться, что нет, не может! Он неутомим.
Но они гордились им, мужчины, что сражались под его знаменем. Воинская доблесть была кратчайшим путем к нормандскому сердцу, и Вильгельм являл им чудеса мужества и героизма. Его люди похвалялись совершенными им подвигами, рассказывая, как он первым ворвался в брешь в крепостной стене Мелана, зарубив не менее троих рослых воинов в полном снаряжении. Или как он потерял свою личную охрану в ходе безумной погони по непроходимым лесам, и как после отчаянных поисков они нашли его в сопровождении четырех рыцарей, гонящего перед собой толпу пленников. Слава его росла и ширилась. Король Генрих с отеческой заботой предположил, что Вильгельм слишком часто рискует жизнью. Но замечания эти были похожи на глас вопиющего в пустыне. Воинственным герцогом овладел демон безрассудства.
Когда война закончилась и Мартель, огрызаясь, уполз обратно в свою нору, король Генрих, скрывая зависть под ласковой улыбкой, тепло поблагодарил Нормандца за помощь, рассыпавшись в цветистых похвалах, а на прощание даже по-братски обнял его. Не исключено, он уже догадывался о том, что Мартель замышляет отомстить удачливому юнцу, преподавшему ему столь жестокий урок, и потому охотно расточал Вильгельму улыбки. Они расстались, уверяя друг друга в вечной дружбе; француз отправился домой лелеять свою злобу; Нормандец же ускоренным маршем вернулся в свое герцогство, обнаружив его ликующим по поводу победоносного возвращения и вполне готовым смириться с правлением Вильгельма.
Слава о нем разошлась по всей Западной Европе. Владетели Гиени и Гаскони, даже испанские короли слали ему в дар великолепных жеребцов и панегирики, восхвалявшие его беспримерную воинскую доблесть и отвагу. Одна-единственная победоносная кампания сделала Бастарда Нормандии героем всей Европы.
На некоторое время в Нормандии воцарился мир, но Мартель был не из тех, кто легко забывает нанесенные ему обиды. Внезапно, безо всякого объявления войны, он нанес чувствительный удар по самой гордости Нормандии. Пройдя маршем Мен, Мартель захватил замок Домфрон, выстроенный герцогом Ричардом Добрым, расположил в нем часть своего войска и, перейдя границу Нормандии, осадил город Алансон на реке Сарте. Город не оказал сопротивления, замок – тоже. Мартель оставил в нем гарнизон, разорил и опустошил окрестные деревни и с торжеством вернулся домой, увозя многочисленную добычу.
На сей раз герцог Вильгельм не стал просить помощи у Франции. Оставив Алансон к востоку от себя, он сделал то, чего никто от него не ожидал, появившись под стенами Домфрона на неделю раньше, чем там рассчитывали его увидеть. Подобная стремительность потрясла гарнизон: воины, правда, сумели отправить гонца к своему графу, но с высоты скалистого обрыва тревожно наблюдали за тем, как герцог готовится к осаде.
Взять Домфрон штурмом было невозможно. Он стоял на вершине отвесной скалы, как будто хмуро и угрожающе глядя на долину Майенна, внушительный и неприступный. Гарнизон собрался с духом и заговорил о том, что скоро должен наступить тот день, когда к ним на помощь придет Мартель и снимет осаду.
Тем временем герцог обложил замок со всех сторон, развлекаясь тем, что перехватывал обозы, везущие провиант осажденным, и охотился в близлежащих лесах. Во время одной из таких экспедиций его отрезал от основных сил отряд, совершивший ради этого вылазку из замка.
– Предательство, будь я проклят! – вскричал Фитц-Осберн.
– Очень похоже, – согласился Вильгельм. – Но мы испытаем нашу силу на этих храбрых рыцарях.
Рожер де Монтгомери возразил:
– Однако, монсеньор, они превосходят нас числом пять к одному.
Ответом ему послужил вызывающий взгляд.
– Ха, да ты никак боишься их? – осведомился герцог. – Кто идет со мной?
– В случае вашего намерения атаковать, монсеньор, мы все последуем за вами, будьте уверены, – проворчал де Гурней. – Но, Богом клянусь, это безумие!
– Если мы не рассеем этот сброд, я не заслуживаю вашего доверия! – заявил Вильгельм и прямо в лесу послал коня галопом.
Они таки действительно рассеяли отряд из замка, напав на анжуйцев до того, как те сообразили, что происходит, и дрались с яростью, заставившей противника сначала отступить, а потом и обратиться в бегство. Они преследовали его до самого подножия замковой скалы.
– Ну что, Гуго, ты все еще считаешь, что это было безумие? – озорно поинтересовался герцог.
– Монсеньор, я совершенно уверен, в вас вселился сам дьявол, – откровенно ответил де Гурней.
– А я уверен в том, – негромко заметил Рауль, – что и граф Анжу придерживается такого же мнения. Он испуган и потому не спешит явиться сюда!
Но причина задержки Анжу объяснялась иными резонами. Однажды вечером герцогу донесли, что к ним галопом приближается войско, идущее под серебристо-голубым знаменем.
Герцог прищурился.
– Неель де Сен-Совер, – сказал он. – Что ж, – он перевел взгляд на Фитц-Осберна, – посмотрим, ошибся я в этом человеке или нет. Если он пришел с миром, приведи его ко мне, Гийом.
Фитц-Осберн, сгорая от любопытства, вышел наружу. Герцог же взглянул на Рауля.
– Мне нужен этот человек, – сказал он. – Посмотрим, сумею ли я завоевать его расположение.
Вскоре прозвучал хриплый рев рога, застучали копыта, а потом послышались голоса и звуки шагов.
Полог шатра был откинут в сторону; внутрь быстрым шагом вошел виконт Котантен, за плечами которого развевалась голубая мантия, и упал на колено перед герцогом, глядя тому прямо в глаза.
Вильгельм ответил ему тем же, несколько мгновений глядя на виконта и не произнося ни слова. Но вот он заговорил:
– И что далее, Главный Сокол?
– Я привел вам две сотни всадников из Пентьевра, – ответил Неель. – А сам я только что из Анжу.
– Что привело вас сюда, Неель Мятежник?
– Желание поквитаться с Мартелем, сеньор, – с легкой улыбкой отозвался Неель.
– Вот как! – сказал герцог. В глубине его глаз засверкали искорки, а уголки губ начали приподниматься.
– Сеньор, год назад я выступил против вас, о чем теперь сожалею и желаю исправить содеянное.
– И это вы повинны в том, что Мартель до сих пор не набросился на меня? – осведомился Вильгельм.
– Я, монсеньор. По-моему, мне удалось немного пощипать Анжу. А сейчас я пришел к вам, и моя жизнь в ваших руках.
Теперь уже и по губам герцога скользнула улыбка.
– Рядом со мной всегда найдется место такому человеку, как вы, Неель, – сказал он. – Примите мою благодарность: вы искупили свою вину. – Вильгельм перевел взгляд на сенешаля.
– Фитц-Осберн, пусть виконту Котантену выделят подобающее жилище.
Неель быстро вскочил на ноги.
– Сеньор! – срывающимся голосом воскликнул он.
– Забирайте обратно свои земли, Главный Сокол, – продолжал Вильгельм. Встав из-за стола, он обошел его, протягивая виконту руку. – Не будем ворошить прошлое: я предпочел бы видеть вас своим другом, нежели врагом.
Виконт вновь упал на колени и поцеловал герцогу руку.
– Сеньор, отныне я принадлежу вам душой и телом, – негромко пообещал Неель, встал, развернулся и вышел вон из шатра, не сказав более ни слова.
А герцог, выразительно приподняв бровь, взглянул на Рауля.
– Иногда мне удается завоевывать людей, – обронил Вильгельм, – пусть даже они называют меня безумцем.
Вскоре после этого они получили донесение о приближении Мартеля. Нет сомнения, об этом же узнали и в замке, поэтому гарнизон воспрянул духом. Что до Вильгельма, то он отправил своего сенешаля и молодого Рожера де Монтгомери с эскортом навстречу Анжу, дабы выяснить, что ему здесь понадобилось. Эти два герольда[19] вернулись обратно, преисполненные тщеславия, и честно поведали о том, что с ними приключилось.
Как следовало из их рассказа, они ехали, размахивая белым флагом, и их незамедлительно провели к самому графу. Тот буквально раздувался от чванства и самомнения; человеком он оказался вспыльчивым, раздражительным, а когда приходил в ярость, то на лбу его жилами вздувались вены. Анжу высокомерно, оскорбительным тоном приветствовал обоих и поручил им передать своему господину, что в назначенный день встретится с ним в бою. После чего, воспламененный собственными речами и (по словам Фитц-Осберна) пожираемый червем тщеславия, громогласно заявил им, что нормандский выскочка узнает его на поле брани по красной мантии, которую он набросит себе на плечи, и такому же убранству его коня.
Как и следовало ожидать, это лишь подлило масла в огонь. Не раздумывая, Гийом Фитц-Осберн ответил графу в той же манере. Он заявил, что герцог, в свою очередь, будет в пурпуре, подобающем его сану, на шлем наденет венец и битву примет на гнедом жеребце, подаренном ему испанским королем.
– Далее, сеньор, – продолжал Фитц-Осберн, – мы сказали, что, если у него останутся сомнения, он узнает вас по золотым львам, которые будут развеваться у вас над головой, и по отважным воинам, что соберутся вокруг вас, горя желанием отомстить за нанесенные вам оскорбления. Полагаю, речь мне удалась. Выслушав ее, граф даже изменился в лице.
– Со своей стороны, – подхватил молодой Рожер, – добавлю, что это оказался совсем не тот ответ, которого он ждал. Граф был явно обескуражен и принялся жевать бороду, нервно поглядывая по сторонам.
Гале, сидевший в углу шатра, подняв голову, сказал:
– Анжуйский пес громко лает. Но стоит погрозить ему хлыстом, как он с ворчанием уползет обратно в конуру.
Так все и произошло. В назначенный день герцог повел свою армию на место встречи, но от графа не было ни слуху ни духу. Впоследствии им стало известно, что он в большой спешке увел свое войско и направился домой, прикрывшись сильным арьергардом. Анжуй стал первым из тех, кто предпочел бесславное бегство вооруженному столкновению с герцогом Вильгельмом Нормандским.
Что подумал об этом гарнизон Домфрона, никто так и не узнал. Что до Вильгельма, то он лишь язвительно рассмеялся да вернулся к осаде замка.
Теперь, когда Мартель более не путался под ногами, герцог предпринял один из своих излюбленных стремительных маневров. Оставив небольшое войско под стенами Домфрона, он ночным маршем повел остальную армию к Алансону. Путь его, пролегая через Менанден и Пуантель, выдался очень нелегким. Рыцари Вильгельма обливались потом; некоторые отстали, потому что лошади их начали хромать или у них были сбиты спины, однако остальные упрямо шли вперед, стиснув зубы, вознамерившись не дать превзойти себя их вожаку, который, похоже, не знал усталости.
Под стенами Алансона они появились с первыми лучами рассвета, покрытые дорожной пылью и по́том, и сквозь редеющий утренний туман стали вглядываться в город, раскинувшийся на другом берегу реки. Сам он укреплений не имел, но над ним гордо возвышался замок, к надвратной башне которого вела прямая дорога от моста через Сарту. Над его зубчатыми бастионами реял флаг Анжу.
– Будь я проклят, если не сорву его! – выругался герцог.
Спешившись, он стал молиться, поскольку никогда не забывал об уважении, что причитается Господу; люди Вильгельма последовали его примеру. Покончив с этим, герцог, выпрямившись, умылся в реке и вперил тяжелый, нахмуренный взгляд в надвратную башню, охранявшую мост. Пока он стоял, погруженный в размышления, жители Алансона получили возможность вдоволь полюбоваться его силами. Они собрались на противоположном берегу реки, устроив оживленный совет.
Те же, кто охранял надвратную башню, оценили численность армии герцога и, заметив, что он не привез с собой осадных машин, решили, будто благополучно отсидятся в своей цитадели. Обманчивое чувство безопасности вселило в них ощущение самонадеянности, и они сочли себя победителями, а кое-кто даже отважился на издевательские жесты и насмешливые выкрики, демонстрирующие их презрение к врагу.
Такие выходки не ускользнули от внимания герцога, и лицо его потемнело. Он отдал короткое приказание, после чего рыцари выстроились в боевой порядок. Герцог же устроил военный совет со своими военачальниками, во время которого покусывал ременную плеть, как бывало всегда, когда перед ним вставала особо трудная задача, и внимательно рассматривал диспозицию укреплений. Стражники в надвратной башне, сочтя, что их насмешки не достигли цели, придумали одну, по их мнению, особенно забавную шутку, которая непременно должна была задеть достоинство герцога. На стене началась суета и беготня, а затем над нормандской армией прокатился яростный рев и воины схватились за рукояти мечей.
Стоявший рядом с Раулем его брат Гилберт едва не поперхнулся от негодования.
– Клянусь Богом! – ахнул он. – Нет, ты только посмотри, что удумали эти грязные псы!
Рауль, вглядевшись внимательнее, понял, что защитники башни вывесили на стене меха́ и шкуры, после чего принялись выбивать их длинными палками и лезвиями своих мечей, держа их плашмя. Юноша вспыхнул от гнева, поскольку смысл сего действа был ему совершенно ясен.
– Крест Господень, что за невиданная наглость!
– Привет Дубильщику! Привет благородному Дубильщику Фалеза! – закричали люди на башне. – Как, ты еще здесь, нормандский выкидыш? Как идет торговля мехами?
При этих словах Вильгельм резко вскинул голову, посылая своего коня с места в карьер мимо Нееля де Сен-Совера, который загородил бы собой башню, если бы мог, чтобы герцог не увидел подобного непотребства. Вильгельм подъехал к самому мосту и с такой силой стиснул рукоять своего меча, что костяшки его пальцев побелели, а губы исказила гневная гримаса. Он сидел в седле совершенно неподвижно, словно каменное изваяние; внешне герцог сохранял ледяное спокойствие, но под этим льдом бушевало жаркое пламя.
Над рядами его воинов повисло гнетущее молчание. Наконец Вильгельм заговорил, и слова его, словно отлитые из свинца, тяжко падали в тишину, разбивая ее вдребезги.
– Клянусь величием Господа Бога нашего, я поступлю с этими негодяями так, как поступают с деревом, обрезая его ветви ножом!
Герцог так резко развернул жеребца, что тот присел на задние ноги; военные хитрости и уловки были отброшены за ненадобностью; его ярость передалась рыцарям. В атаку! В атаку! Надвратная башня будет взята штурмом и сожжена дотла, а те, кто оборонял ее, получат по заслугам. Военачальники смиренно посоветовали Вильгельму успокоиться и уже тогда принимать решение, однако он не пожелал их слушать. Герцог поклялся, что сравняет башню с землей или никогда более не поведет своих баронов в бой.
Бо́льшая часть воинов была с ним согласна; лишь немногие осмелились выступить против, опасаясь поражения и предлагая разработать более надежный план. Герцог отмел их возражения; выхватив из ножен меч, клинок которого заблистал на солнце, он проревел:
– Кто идет со мной? Говорите!
Ответом ему послужил многоголосый рев; Вильгельм улыбнулся, но Рауль услышал, как заскрежетали зубы герцога.
Об этой отчаянной схватке на мосту у Рауля остались самые смутные воспоминания. На головы осаждающих обрушились стрелы и копья; гарнизон замка отважился на вылазку, и завязалась жуткая рукопашная схватка, когда люди сходились лицом к лицу, упираясь друг в друга щитами, а потом, получив смертельную рану, с криками обрушивались в реку под мостом. С надвратной башни вниз летели камни и дротики; один такой снаряд угодил Раулю прямо в шлем, и он, оглушенный, повалился наземь, по-прежнему сжимая в руке окровавленный меч. В горячке боя по нему пробежали несколько человек; юноша с величайшим трудом встал, покрытый синяками и ранами, но живой, и начал расталкивать своих же товарищей, однако его подхватил людской водоворот.
Они подбежали к башне так быстро, что Рауль не успел опомниться. Сверху на них вновь обрушился град камней и копий. Но воины принесли к воротам таран, наспех изготовленный из срубленного дерева. Множество рук вцепилось в него; раздался глухой удар, когда комель[20] врезался в огромные ворота, преграждавшие проход в город под аркой башни. Дверь долго не поддавалась; те, кто держал таран, задыхались, обливаясь потом. То и дело кого-нибудь находило копье, брошенное сверху; на место упавшего тут же вставали другие, и таран опять врезался в ворота. В конце концов дерево треснуло, и нормандские воины ворвались внутрь, под арку, тараном вышибли дверь поменьше, что вела уже в саму башню. Она пала под яростным натиском атакующих; вломившись в узкий пролом, воины прорубили себе путь наверх, по винтовой лестнице, поднимаясь все выше и выше, ступая прямо по телам своих же павших товарищей, пока не вытеснили защитников на верхнюю площадку и в караульное помещение.
Всего из башни выволокли тридцать человек, которых ждала месть герцога. Он приказал поджечь башню, и жители города в страхе разбежались по домам, а защитники замка смотрели, как все выше вздымаются клубы черного дыма и пламени.
К этому времени обоз герцога достиг Алансона, солдаты принялись устанавливать шатер Вильгельма и разбивать лагерь. Сам герцог стоял у входа на мост, безмолвный и страшный в своем гневе, глядя на приближающихся пленников. За спиной Вильгельма собрались его разгневанные военачальники. Забрызганными кровью руками он сжимал окровавленный меч. Опустив на него взгляд, быстрым, нетерпеливым движением протянул Раулю. Юноша тщательно вытер оружие и застыл в ожидании, держа клинок на весу, чтобы увидеть, что дальше намерен делать герцог.
Всех, кто уцелел из гарнизона, остриями копий подогнали к Вильгельму. Фитц-Осберн воскликнул:
– Не жалейте никого, монсеньор! Клянусь честью, люди, способные нанести подобное оскорбление, не заслуживают того, чтобы остаться в живых!
– Напротив, они останутся в живых, – возразил Вильгельм, – в некотором смысле. – Рауль, вытиравший кровь с клинка, прервал свое занятие и резко вскинул голову, недоумевающе глядя на герцога. – Как обрезают ветви дерева, – мстительно повторил Вильгельм, четко выговаривая слова. – Они останутся без рук и без ног, живыми свидетельствами моей мести, чтобы все их видели и ужасались, клянусь смертью!
Бароны негромким ворчанием выразили свое согласие; один же из пленников пронзительно вскрикнул от ужаса и рухнул на землю у ног герцога, умоляя его о пощаде. Рауль коснулся руки Вильгельма.
– Монсеньор, вы не можете так поступить! Любой другой – да, но только не вы! Не велите отрубать им руки и ноги одновременно; вы не можете искалечить их столь жестоким образом!
– Увидишь, – ответил Вильгельм.
– Отлично сказано, монсеньор! – провозгласил Фитц-Осберн. – Эти люди получат хороший урок и будут страшиться вашего гнева.
Пальцы Рауля судорожно сомкнулись на рукояти тяжелого меча. Окинув взглядом пленников, он увидел, что одни с вызовом смотрят на герцога, другие опускаются перед ним на колени; одни молчат, другие молят его о пощаде. Юноша вновь повернулся к Вильгельму.
– Ваша справедливость… – сказал он. – Ваше милосердие… куда они подевались?
– Тише, глупец! – прошипел ему на ухо Гилберт.
– Лучше убейте нас! Да, грозный господин, лучше прикажите просто убить нас! – пронзительно выкрикнул один из пленников, протягивая руки к Вильгельму.
Рауль стряхнул с плеча руку Гилберта.
– Воздайте им по справедливости! – сказал он. – Такая жестокость не подобает вам, сеньор!
– Будь я проклят, а Хранитель-то оробел при мысли о маленьком кровопускании! – презрительно выкрикнул кто-то.
Рауль резко обернулся.
– Тебе я пущу кровь с легким сердцем, Ральф де Тони!
– Помолчи, Рауль! – гневно бросил герцог. – Клянусь Богом, я сделаю то, что поклялся сделать! Ни ты и никто другой не отвратит меня от этого. – Он подал знак воинам, охранявшим пленников.
Раздались крики отчаяния и мольбы о пощаде. Откуда-то появилась дубовая колода и ведро со смолой. Вот одного из сопротивляющихся пленников бросили на землю рядом с колодой и привязали к ней кисти его рук. Лезвие топора взметнулось и опустилось с тошнотворным стуком. Воздух зазвенел от пронзительного вопля, а стоящий рядом с Раулем Гилберт удовлетворенно крякнул.
Рауль вырвался из толпы зрителей, будучи не в силах наблюдать за казнью. На пути его оказался какой-то мужчина, вытянувший шею и пытающийся разглядеть происходящее поверх голов тех, кто стоял впереди. Рауль, оттолкнув его с такой силой, что тот полетел на землю, направился к шатру герцога.
Оказалось, он по-прежнему сжимает в руках меч Вильгельма. Несколько мгновений юноша тупо смотрел на оружие, после чего побелевшее лицо Рауля перекосилось и он с размаху зашвырнул меч в угол шатра. Снаружи донесся еще один пронзительный вопль, и Рауль почувствовал, как к его горлу подступила желчь; его едва не стошнило. Обессиленно опустившись на табуретку, юноша закрыл лицо руками.
Крики и стоны эхом отдавались у него в ушах; перед внутренним взором Рауля корчились в пыли обезображенные тела и проплывали злорадные лица тех, кто наблюдал за казнью.
Спустя долгое время жуткие крики прекратились. У входа в шатер раздались голоса и звуки шагов.
Вот полог шатра приоткрылся, и внутрь шмыгнул Гале. Присев на корточки рядом с Раулем, он прошептал:
– Братец, а братец! – и тронул юношу за рукав.
Рауль поднял голову.
– Шут, ты все видел?
– Да, это была страшная месть, – ответил тот. – Но неужели ты готов разбить себе сердце из-за стада анжуйских свиней?
– Ты думаешь, мне есть до них дело? – с горечью спросил Рауль. – Если я и скорблю о чем-то, так это о том, что Вильгельм опозорил свое имя. – Уронив руку на пояс, он вытащил из ножен свой клинок, проведя пальцем по выгравированным на нем рунам. – Le bon temps viendra! Ох, сердце Христово!
– И что это означает? – с беспокойством поинтересовался Гале.
Рауль взглянул на него.
– Скажи мне, шут, когда забудется то, что случилось сегодня? Мне почему-то представляется, что многие годы спустя люди, говоря о нашем герцоге Вильгельме, будут вспоминать о его отмщении и называть Вильгельма Тираном. Говорю тебе, отныне щит герцога замаран так, что никакая справедливость или воинская доблесть не очистят его добела.
– Он неудержим в своем гневе, братец, но ты же сам видел, как он умеет прощать, – по-прежнему явно ничего не понимая, возразил Гале.
– Я видел, как дьявол сорвался с цепи, – с коротким смешком сказал Рауль.
– Да, в нем сидит дьявол, как и во всех мужчинах его рода, но шесть дней из семи он держит его на коротком поводке.
Рауль, встав, сунул меч в ножны.
– Однако в памяти людской останется именно седьмой день, – сказал юноша и вышел из шатра, оставив шута озадаченно почесывать затылок.
На протяжении следующих нескольких часов Рауль старательно держался подальше от герцога. Ужаснувшись увиденным, гарнизон замка предложил обсудить условия капитуляции. Им были гарантированы жизнь и свобода. В Алансоне было пролито уже достаточно крови, и замок сдался без малейшего сопротивления. Не произошло ни грабежей, ни насилия. Герцог обуздал свою неукротимую натуру, вновь явив миру справедливость.
На закате к Раулю прибыл гонец от Вильгельма с требованием немедленно явиться к нему. Юноша медленно направился к большому шатру. Войдя, он застал герцога в одиночестве, сидящего у стола. С потолка шатра свисала лампа, отбрасывая небольшой круг света. Вильгельм указал на то место, где по-прежнему лежал его меч.
– Подними его, – приказал он, строго глядя на Рауля из-под нахмуренных бровей.
Рауль без слов протянул Вильгельму клинок. Герцог, положив оружие на колени, сказал:
– Завтра я возвращаюсь в Домфрон. – После паузы он добавил: – Ты знаешь молодого Роджера де Биго – с деревянным лицом?
Рауль, растерянно моргнув, ответил:
– Если вы имеете в виду вассала графа Мортена, то знаю, милорд.
– По глупости он проболтался о заговоре. Граф по прозвищу Забияка злоумышляет против меня, а мой добрый дядюшка Арк, – герцог неприятно улыбнулся, – уехал от осажденного Домфрона вскоре после меня.
– Смерть Христова! – вскричал изумленный Рауль. – Арк? И что же вы намерены делать, сеньор?
– Мои люди в Арке будут держать его под присмотром. Я отправляю в Мортен отряд с приказом доставить ко мне Забияку. Я намерен подвергнуть его изгнанию, потому что до тех пор, пока я жив, миру в Нормандии не будут угрожать мятежи, подобные тем, что мы подавили в Валь-э-Дюне. – Он вновь помолчал и без улыбки взглянул на Рауля. – Должен ли я отправить тебя в Мортен или ты поедешь со мной к Домфрону? – спросил герцог.
Рауль, не дрогнув, выдержал взгляд Вильгельма.
– Почему вы спрашиваете меня об этом, милорд?
– Если я слишком жестокий и неукротимый повелитель для тебя, ты можешь оставить меня! – ответил герцог. – Но подумай хорошенько: никакие твои мольбы не заставят меня изменить своей природе.
– Я принадлежу вам душой и телом, – сказал Рауль. – Сейчас и всегда, как поклялся в ту ночь, когда мы с вами спасались бегством из Валони. Я поеду с вами в Домфрон.
Больше они не сказали друг другу ни слова. На следующий же день оба верхом поскакали в Домфрон, оставив в Алансоне гарнизон. Известия о случившемся опередили их. Устрашенные и отчаявшиеся ждать появления Мартеля, воины Домфрона капитулировали, сохранив жизнь и свободу, и считали, что им крупно повезло. Хотя замок располагался в графстве Мен, гарнизон его составляли нормандцы. Оттуда герцог маршем двинулся к Амбриеру, построил там цитадель и вновь вернулся в Нормандию. Таким образом, он отодвинул свою границу на территорию Мена, и это было все, чего своей опрометчивостью добился Анжу.
Во Франции известие об этом достигло слуха короля Генриха, и он изменился в лице. В задумчивости принялся теребить бороду, а те, кто стоял рядом, заметили, что король машинально вырвал из нее несколько волосинок, не обратив на это внимания.
Часть вторая
(1051–1053 гг.)
Неумелое ухаживание
…Тот, кто осмелится пожаловать ко мне и покорить меня во дворце моего отца, должен обладать несравненным мужеством и отвагой.
Матильда Фландрская
Глава 1
Большой корабль с трудом поднялся на волну и обрушился вниз; один из заложников жалобно захныкал, подтянув колени к груди и плотнее прижимаясь к своему опекуну. Рауль стоял у фальшборта, глядя вдаль, на море. Призрачный лунный свет холодным серебром заливал водную поверхность, тускло мерцавшую под темно-синим бархатом небес; там и сям крохотными искорками вспыхивали брызги пены, словно очередная звезда падала в море. Висящие на стеньгах мачты фонари отбрасывали яркие лучи света, словно маяки, показывая остальным судам эскадры местонахождение флагманского корабля герцога. На корме возвышалась небольшая каюта, вход в которую закрывал кожаный занавес; когда он чуть отходил в сторону, изнутри пробивался лучик желтого света. Под навесом, натянутым в средней части корабля, расположились заложники. На одной из опор был закреплен фонарь; его сияние освещало лица троих пассажиров, съежившихся под ним на мехах. Порывистый ветер раздувал паруса над головой, и они время от времени громко хлопали, а канаты стонали и скрипели.
Младший из заложников вновь захныкал, зарывшись лицом в мантию мужчины, который прижимал его к себе. Рауль со слабой улыбкой оглянулся на них. Мальчишка был совсем еще мал и выглядел очень несчастным. Пока юноша смотрел на них, мужчина, обнимавший мальчика, поднял голову, и взгляд его прозрачных голубых глаз коренного северянина встретился со взглядом Рауля. С минуту они молча изучали друг друга, после чего мужчина вновь опустил глаза на светловолосую головку, лежавшую у него на коленях.
Рауль было заколебался, но потом, отбросив сомнения, стал пробираться по палубе, переступая через мужчин, спавших здесь, завернувшись в свои накидки; юноша шагнул в круг света, отбрасываемый фонарем под навесом. Голубоглазый мужчина вновь взглянул на него, однако выражение его лица не изменилось.
Рауль, которому было поручено устроить заложников с максимально возможными удобствами, попытался заговорить с ним на ломаном саксонском. Но заложник, слабо улыбнувшись, прервал его и на нормандском диалекте произнес:
– Я умею говорить на вашем языке. Моя мать была нормандкой родом из Ко. Что вам угодно?
– Я очень рад, – ответил Рауль. – Я бы предпочел заговорить с вами на вашем языке, но вы сами видите, как плохо он мне дается. – Юноша взглянул на младшего из заложников. – Мальчику плохо, верно? Быть может, принести ему немного вина? Он согласится выпить его?
– Вы очень добры, – отозвался Эдгар со сдержанной любезностью, от которой веяло холодом. Наклонившись к мальчику, он обратился к нему по-саксонски. Ребенок – Хакон, сын Свейна, внук Годвина – лишь застонал в ответ, повернув к нему бледное заплаканное личико.
– Милорд до этого еще не бывал на море, – неуклюже попытался объяснить Эдгар слезы Хакона.
В тот момент от тревожного сна очнулся третий заложник, младший Годвин, Вульнот, мальчишка немногим старше Хакона, и сел, потирая глаза. Эдгар что-то сказал ему; он, с любопытством взглянув на Рауля, улыбнулся уже совсем по-королевски милостиво.
Когда Рауль вернулся к ним с вином, Хакон после очередного приступа тошноты обессиленно откинулся на колени Эдгара. К его губам поднесли рог с вином, и он, всхлипывая, отпил несколько маленьких глотков, затем полными слез глазами взглянул Раулю в лицо. Юноша улыбнулся ему, но тот лишь плотнее прижался к Эдгару, словно стесняясь или, пожалуй, будучи настроен явно враждебно к незнакомцам. Однако, похоже, от вина ему стало лучше и потянуло в сон. Эдгар, вновь укрыв его меховой накидкой, коротко сказал:
– Спасибо, нормандец.
– Меня зовут Рауль де Харкорт, – сказал Рауль, стремясь покорить сакса своим дружелюбием. Посмотрев на Хакона, он заметил: – Мальчик еще слишком юн, чтобы уезжать из дому. Но ничего, через день-другой он почувствует себя лучше.
Эдгар ничего не ответил. Однако в его молчании ощущалась, скорее, природная неразговорчивость, нежели намеренная грубость, но изменять своим привычкам он, похоже, не собирался. Спустя еще несколько мгновений Рауль поднялся с колен.
– Быть может, он сейчас заснет. Позовите меня, если я вам понадоблюсь.
Эдгар в знак согласия слегка наклонил голову. Когда Рауль отошел, Вульнот спросил:
– Кто он такой, Эдгар? Что он сказал?
– Он – тот самый мужчина, которого мы видели скачущим рядом с герцогом Вильгельмом, – ответил Эдгар. – Он говорит, что его зовут Рауль де Харкорт.
– А мне он нравится, – решительно заявил Вульнот. – С Хаконом он разговаривал по-доброму. А вот Хакон – маленький глупыш, если плачет оттого, что его тошнит.
– Он плачет потому, что не хочет уезжать в Нормандию, – мрачно отрезал Эдгар.
– Тогда он – просто дурак, – Вульнот презрительно фыркнул. – Я, например, еду с удовольствием. Герцог Вильгельм пообещал мне благородного жеребца и достойные развлечения. Я буду сражаться на турнирах и охотиться на оленей в лесах Кевийи, а герцог Вильгельм посвятит меня в рыцари. – Видя, что Эдгар не отвечает, Вульнот насмешливо добавил: – Думаю, тебе наша поездка нравится ничуть не больше Хакона. Быть может, ты предпочел бы, чтобы тебя, как и моего брата, изгнали из страны и объявили вне закона?
Эдгар напряженно вглядывался в туманную дымку над серебристой водой, словно надеясь пронизать взглядом темноту, что окутывала уплывающие вдаль берега Англии, но по-прежнему хранил молчание. Передернув плечами, Вульнот отвернулся и вновь улегся, пытаясь заснуть.
Эдгар же не спал, баюкая Хакона. Последние слова Вульнота попали в цель. Он действительно предпочел бы оказаться в Ирландии с эрлом[21] Гарольдом, чем играть роль живого багажа, который передали герцогу Вильгельму Нормандскому. Когда Его Величество Эдуард со своей кроткой улыбкой сообщил ему, что он едет в Нормандию, Эдгар сразу же понял: скудоумный король не вызывает у него никаких чувств, кроме ненависти. К этому времени он уже воевал бы рядом с Гарольдом, если бы не отец. А сейчас с горечью думал о том, что недолгая ссылка у графа оказалась бы для отца куда предпочтительнее нынешней, которая может продлиться неизвестно сколько.
Герцог прибыл в Англию несколько недель тому, почти сразу же после начала беспорядков, устроенных еще одним чужеземцем. Правда, граф Евстахий Булонский не был нормандцем, но тем не менее смуту в Дувре он заварил знатную. Граф тоже явился с визитом к королю Эдуарду, а по возвращении его люди дурно обошлись с обитателями Дувра. Начались столкновения, приведшие к кровопролитию; граф Евстахий тайно вернулся обратно в Лондон с жалобой королю.
Вспоминая об этом, Эдгар недовольно нахмурился. Подданные короля Эдуарда, особенно в южном округе эрла Годвина, надеялись, что он даст наглому графу от ворот поворот и отправит его не солоно хлебавши. Сейчас же Эдгар сказал себе, что им следовало бы знать: их правитель не станет выступать против чужеземцев, которые пользовались его особенной любовью и уважением. Но у него по-прежнему руки сжимались в кулаки, когда он вспоминал, какую компенсацию пообещал король Эдуард Евстахию.
Остальные тоже восприняли произошедшее как личное оскорбление, особенно Годвин, милорд Божьей милостью, настоящий мужчина, и его сыновья: Гарольд, эрл Уэссекс, и шумный Тостиг.
В результате сильнее всех на свете король Эдуард возненавидел как раз эрла Годвина. Именно Годвин, когда на троне восседал Гарольд Заячья Нога, низкорожденный сын великого Кнута, заманил в ловушку и погубил Альфреда, брата Эдуарда, в ходе его злополучной экспедиции в Англию. Когда же на престол наконец взошел сам Эдуард, то он почел за благо сделать вид, будто забыл о том черном деле. Его Величество даже снизошел до того, что уступил настояниям Годвина и счел себя обязанным жениться на дочери эрла Эдгите, хотя и против своей воли. Бракосочетание состоялось, но счастье молодой супруге не принесло. Поговаривали, будто она так и не взошла на брачное ложе короля, а все ее умения вкупе с набожностью и благочестием не смогли избавить ее от бездетности, в которой не было вины Эдгиты.
Во время скандала с графом Евстахием в Дувре Годвин взялся за оружие, встав на защиту пострадавших горожан, и дело приобрело очень опасный оборот. Король в большой спешке созвал своих вельмож на совет в Глостере, но после того, как Годвин с сыновьями появились во главе армии в нескольких милях от города, отказавшись присутствовать на конвенте без вооруженной поддержки за спиной, Эдуард обеспокоился пуще прежнего и созвал новый совет в Лондоне. Столица, по обыкновению, продемонстрировала лояльность к особам королевской крови. Здесь и собрались все благородные лорды, возглавляемые Сивардом, великим эрлом Нортумбрии, и Леофриком, эрлом Мерсии, с его флегматичным сыном Эльфгаром. Они с откровенной ревностью и завистью взирали на могучий клан Годвина. Заручившись их поддержкой, король Эдуард повелел удалиться в изгнание самому Годвину и двум его сыновьям, Гарольду и Тостигу. Старшего сына Годвина, Свейна, подобная кара уже постигла ранее за кое-какие сумасбродные выходки, включая похищение не кого-нибудь, а самой аббатисы. Впрочем, его отсутствие сожаления ни у кого не вызывало.
Эдуард счел изгнание из страны Годвина с сыновьями подходящим поводом для того, чтобы избавиться также от королевы. Он заточил ее в женском монастыре Уеруэлл, завладел ее состоянием и наконец ощутил себя настолько монахом, насколько это было возможно в его положении. Ее Величество не стала жаловаться; скорее всего, она хорошо изучила своих родственников, не сомневаясь, что, хотя они и сбежали, но непременно вернутся, причем в самом ближайшем времени. Эрл Годвин вместе с Тостигом отплыл во Фландрию; а вот Гарольд, натура независимая и свободолюбивая, предпочел отправиться с немногочисленными сторонниками в Ирландию.
Преуспев в удалении от трона двух мужчин, доставлявших ему наибольшее беспокойство, король Эдуард решил, будто теперь он в безопасности. Пребывая в состоянии заслуженного умиротворения и благодушия, он исцелил бедную женщину от накожных изъязвлений простым наложением рук, вследствие чего окончательно уверился в том, что обладает чудодейственными способностями.
Именно в этом состоянии скромного торжества и застал его Вильгельм. Когда, соблюдая все церемонии вкупе с ритуалами, герцог Нормандии предстал перед королем, Эдуард сошел со своего трона, роль коего исполняло деревянное кресло с высокой спинкой, и заключил нормандца в объятия, прижав его к своей груди. Со слезами на глазах король попытался разглядеть в стоявшем перед ним суровом привлекательном молодом человеке черты непоседливого мальчугана, с которым он расстался десять лет тому. Его Величество ударился в воспоминания, как неизменно случается со стариками, и принялся пересказывать многочисленные инциденты, регулярно случавшиеся с Вильгельмом с момента его появления на свет. Герцог улыбался в нужных местах, вполуха слушая короля, а сам внимательно наблюдал за происходящим вокруг.
При первой же возможности Эдуард выложил ему все свои новости, не забыв упомянуть также исцеление язв. Его Величество выказал умилительную радость по поводу того, что он полагал мастерским разрешением запутанной ситуации, и, чрезвычайно гордясь собой, поделился своим добрым расположением с молодым человеком, который в возрасте двадцати трех лет от роду уже успел заработать репутацию лорда, способного на самые крайние меры.
Ситуация настоятельно требовала выказать Эдуарду одобрение, что Вильгельм и сделал с улыбкой на губах, чему странным образом противоречило выражение его глаз, которое, при определенном воображении можно было счесть тревогой. Он медленно проговорил:
– Следовательно, мне не удастся встретиться с Гарольдом Годвинсоном.
Эдуард, похоже, счел его замечание отличным поводом для поздравления.
В некотором роде будучи доверенным лицом Вильгельма, Рауль прекрасно понимал причину этой озабоченности. Герцог хотел посмотреть на эрла Гарольда, воина, столь же знаменитого в Англии, как он – в континентальной Европе. Зная и о старинном обещании Эдуарда сделать Вильгельма королем, если сам он скончается, не оставив наследников, Рауль заподозрил своего господина в желании заранее оценить человека, которому в будущем уготовано сыграть важную роль в его жизни. Он, без труда разгадав цель поездки Вильгельма в Англию, решил: догадки его подтвердились, когда узнал, что они увезут с собой в Нормандию двоих близких родственников Гарольда и одного важного тана[22], являющегося его вассалом и владеющего обширными земельными угодьями. Раулю стало совершенно ясно – Гарольд сам вынашивает планы о том, как завладеть короной Англии, а Вульнот, Хакон и Эдгар станут заложниками его примерного поведения.
Юношу охватили дурные предчувствия. Заглядывая в будущее, он видел лишь тучи, застилающие путь Вильгельма, предначертанный ему судьбой. Они грозовые, эти тучи, подумал Рауль, расцвеченные вспышками молний, как и все остальное в жизни герцога. Раулю вдруг страстно захотелось, чтобы Эдуард зачал наследника, потому что Вильгельм все-таки принадлежал Нормандии. Англия была чужой, недружелюбной страной, населенной светловолосыми упорными и настойчивыми людьми, которые смотрели на чужеземцев безо всякой приязни и, словно варвары, носили длинные волосы вкупе с косматыми бородами. По вечерам они напивались допьяна, были неотесанными и необразованными, обитали в примитивных жилищах и строили неприглядные, враждебные города. Рауль слыхал, что они вели разгульный образ жизни. Один нормандец, живущий при дворе короля Эдуарда, рассказал ему несколько скандальных историй. Говорили, что, если наложнице вельможи случалось забеременеть, ее могли запросто продать в рабство восточным купцам. Рауль не поверил этим байкам, но саксы ему тем не менее не понравились, и он рад был видеть, как белые скалы Дувра тают вдали.
Из задумчивости юношу вывело прикосновение чьей-то руки, опустившейся ему на плечо. Оглянувшись, он понял, что из каюты к нему неслышно подошел герцог.
– Вам тоже не спится, монсеньор, – сказал Рауль.
Вильгельм, кивнув, плотнее запахнулся в мантию; с моря дул порывистый холодный ветер.
– Сна ни в одном глазу, – ответил он. На фальшборт легла его рука, перехваченная у запястья массивными золотыми браслетами, тускло мерцавшими в лунном свете. – Я направляюсь во Фландрию, – внезапно объявил герцог.
Рауль, ничего не сказав, улыбнулся. Два года тому, после падения Домфрона, они побывали во Фландрии, оказавшись при дворе графа Болдуина Мудрого в Брюсселе, где имели честь лицезреть леди Матильду, дочь милорда графа. Тогда случилось нечто странное. Леди сидела рядом с отцом, ее остренькое личико обрамляли локоны светлых волос, заплетенные в косы, а руки, словно белые лепестки, лежали скрещенными на коленях. И вдруг она, посмотрев на лицо герцога, окинула его холодным задумчивым взглядом. Глаза ее были похожи на озерца света, зеленые, с теплыми коричневыми искорками. Герцог, не дрогнув, встретил ее взор; Рауль, стоявший позади Вильгельма, заметил, как он напрягся и оцепенел, а рука его помимо воли сжалась в кулак. Во время этой дуэли взглядов герцог принял решение. Немного погодя, будучи в своих покоях, он сказал:
– Я сделаю эту женщину герцогиней Нормандии.
Фитц-Осберн, не удержавшись, выпалил:
– Монсеньор, но ведь она уже повенчана с неким Жербо, фламандцем.
Герцог метнул в сторону Фитц-Осберна нетерпеливый взгляд, словно глядел на досадную помеху.
– Эта женщина будет моей, – безапелляционно заявил он.
Фитц-Осберн, обеспокоенный тем, что лев вздумал отнять добычу у другого хищника, попытался привлечь внимание Вильгельма к сестре миледи – Юдифи, считавшейся более красивой. Он восхвалял прозрачную голубизну ее глаз и пышные формы до тех пор, пока не заметил, что герцог его не слушает. Матильда, стройная и холодная леди с непроницаемым выражением лица, в один миг покорила сердце, в котором прежде не было места для женщины. Перед жарким внутренним взором герцога день и ночь стоял ее образ с таинственными глазами и лукавой улыбкой.
После осторожных расспросов выяснилось: леди овдовела и пока не имела намерений во второй раз выходить замуж. Начались закулисные интриги, были сделаны должные намеки и получены уклончивые ответы. Герцог отбыл обратно в Нормандию, объявив Совету о своем намерении обзавестись супругой. При этих его словах на лицах всех присутствующих, за исключением одного, отразилось удовлетворение. Единственным, кто остался недоволен, был архиепископ Можер, у которого имелись собсвенные причины надеяться, что его племянник останется холостяком. Герцог пошел дальше и назвал имя своей нареченной. Ее сочли достойным выбором: отец этой дамы был вельможей первой величины, к тому же весьма влиятельным; брачный альянс с Фландрией должен был послужить благу Нормандии.
Дело сдвинулось с мертвой точки, и начались приготовления, крайне нерешительные, что дотоле было несвойственно герцогу. Между Руаном и Брюсселем курсировали тайные посольства, не достигшие, впрочем, особых успехов. Граф Болдуин дал ответ, повергший его соседа в состояние жгучего нетерпения. Леди не только овдовела слишком недавно для того, чтобы помышлять о новом замужестве, но между ними существовали и родственные связи, а на них Церковь смотрела весьма неодобрительно.
Архиепископ Можер с жаром ухватился за эту идею. Именно он и выдвинул первое препятствие, сославшись на возражение Папы Римского. По его мнению, о подобном браке и помыслить было невозможно. Зная своего племянника, он наверняка рассчитывал на успех. Герцог питал глубокое уважение к Церкви, а присущие ему упрямство и твердость воли наверняка подвигли бы его, скорее, остаться холостяком, чем жениться на другой женщине, кроме той, что стала его первой любовью. Можер полагал себя знатоком людских душ, но просчитался как раз в оценке силы воли и упрямства Вильгельма, которые, по своему собственному убеждению, так ловко направил в нужное русло.
Лев показал зубы. Служители Церкви, не подозревая о сгущающихся над ними тучах, собрались для обсуждения проблемы, разрываясь, с одной стороны, между Можером, а с другой – энергичным сводным братом Вильгельма, Одо, епископом Байе. Углубившись в дебри духовных аргументов, святые отцы оказались слепы к признакам гнева, уже готового охватить их герцога. Когда мудрейший во всей Европе богослов Ланфранк, настоятель аббатства бенедиктинцев Ле-Бек, объявил – брак невозможен по причине кровного родства между женихом и невестой, грозовые тучи разродились хорошо знакомым всем громом.
Если святые отцы надеялись, будто новорожденная любовь Вильгельма смягчит его крутой нрав, то послание, которое он отправил в Бек, развеяло эту иллюзию. Гонец прибыл на взмыленной лошади и от имени герцога предложил Ланфранку в течение трех дней покинуть пределы Нормандии.
Случай был вопиющий, и для любого другого человека, за исключением Ланфранка, мог бы иметь самые серьезные последствия. Но Ланфранк знал своего герцога. Он в спокойном молчании выслушал повеление и, казалось, погрузился в созерцательное размышление. Взгляд его глубоко посаженных глаз переходил с одного воина в эскорте гонца на другого, пока наконец остановился с просветлением на лице человека, которого он и ожидал увидеть. Повернувшись, Ланфранк удалился в свое аббатство, а узнанный им человек отделился от своих товарищей и последовал за настоятелем в его келью в дальней части монастыря. Преклонив колена перед Ланфранком и поцеловав аббату руку, он выпрямился и взглянул настоятелю прямо в глаза.
– Вы знаете нашего господина, отче, – только и сказал он.
– Да, уж кто-кто, а я хорошо знаю его, – ответил Ланфранк. – Герцог молниеносно поддается гневу, ступая на опасный путь.
– Но гнев его быстро проходит.
Ланфранк одной рукой расправил складки своей сутаны. Его улыбка стала шире.
– Ты готов дать мне совет, Рауль де Харкорт?
– Нет, я не настолько самоуверен, чтобы осмеливаться давать советы самому Ланфранку. Всего лишь скажу, что завтра к вечеру мы поедем по восточной дороге.
Они посмотрели друг на друга.
– Ступай с Богом, сын мой, – мягко произнес Ланфранк.
На следующий день, около полудня, настоятель отправился в ссылку, почти без сопровождения, верхом на жалкой кляче. Он выбрал дорогу, которая показалась очень странной его спутникам-монахам, но, когда они предложили ему более прямой маршрут, отказался, причем в весьма загадочных выражениях, и продолжил путь.
Через час неспешной езды они заметили кавалькаду, приближавшуюся к ним в клубах пыли. Духовник Ланфранка, изрядно встревоженный, зашептал ему на ухо, что злой рок привел герцога на ту же дорогу. Он предложил настоятелю свернуть в сторону и укрыться за деревьями, но Ланфранк смиренно ответил:
– Мы последуем своим путем, а в остальном положимся на волю Господа нашего.
Кавалькада приближалась. Возглавлял ее человек, не узнать которого было нельзя. Ланфранк держался середины дороги, однако натянул поводья, останавливая своего жалкого скакуна, когда герцог поравнялся с ним. Огромный жеребец замедлил бег, перебирая ногами и грозно фыркая. Монахи и рыцари замерли позади своих предводителей. Вильгельм сердито хмурился.
– А, святой отец! – сказал он. – Вы еще не уехали, гордый богослов?
– Монсеньор, – ответил Ланфранк. – Я ехал бы куда быстрее, если бы вы нашли мне подходящего скакуна.
Чело герцога еще не разгладилось, но в глазах замерцали лукавые огоньки.
– Ланфранк, – сказал он, – клянусь Богом, ты зашел слишком далеко!
– Давайте поменяемся конями, монсеньор, и к закату я буду уже далеко.
– Кровь Христова, я не позволю, чтобы мне мешали! – Вильгельм свесился с седла и схватил жеребца настоятеля под уздцы. – Поворачивай, Ланфранк: мы с тобой поедем отдельно.
– Ваш путь для меня не подходит, монсеньор, – ответил Ланфранк, глядя герцогу прямо в лицо.
– Он станет твоим, обещаю. Или ты намерен выступить против меня, аббат?
– Ни в коем случае, – сказал Ланфранк. – Но вы слишком спешите, сын мой.
– В таком случае научите меня сдержанности, отче. Покажите мне достойный путь к осуществлению моих желаний, и я призна́ю, что был неправ и погорячился в отношении вас.
– Нет ничего легче, – согласился Ланфранк и поехал рядом с герцогом во главе процессии обратно в Бек.
Результатом этих переговоров стало то, что Ланфранк отбыл в Рим с поручением от герцога. Он расстался с Вильгельмом в превосходном расположении духа, герцог преклонил колени, дабы получить его благословение, и даже пообещал принять епитимью за свой горячий нрав. Для отвода глаз Ланфранк отправлялся в Рим якобы для того, чтобы принять участие в дискуссии о пресуществлении[23] с неким Беранжье. К несчастью для последнего, ему пришлось состязаться с величайшим схоластом своего времени, но спорил он горячо и долго. Да и вопрос был отнюдь не пустячный, так что быстро решить его не представлялось возможным. Понадобилось пять лет, чтобы доказать несостоятельность утверждений Беранжье, что и было сделано на Совете в Туре. Но мы слишком забегаем вперед. В начале же дискуссии у Ланфранка обнаружились куда более срочные дела, и Беранжье со своей ложной доктриной служил лишь ширмой для тайных переговоров.
Следует признать, что продвигались они ни шатко ни валко; Рим и Фландрия не спешили дать определенный ответ. Герцог отправился в Англию с визитом к Исповеднику[24], и, поскольку Вильгельм более не заговаривал о женитьбе, его люди решили, что он отказался от мысли об этом. Но на корабле, который швыряло с волны на волну, отдаляющемся от Англии, что таяла в темноте за спиной, Вильгельм вдруг заявил Раулю:
– Я еду во Фландрию.
Рауль с улыбкой ответил:
– А мы полагали, вы отказались от этой затеи, монсеньор.
– Ха! И ты тоже так подумал, Рауль?
– Нет, не так. Но у вас есть и другие планы, которые в последнее время занимали ваши мысли, – многозначительно отозвался Рауль.
Вильгельм оглянулся на заложников.
– Ты слышал обещание, которое подтвердил король Эдуард. Я получу Англию.
– Слышал, – медленно проговорил Рауль. – Однако разве он один все решает?
– Нет, клянусь Христом! Есть еще и я! – вскричал Вильгельм.
– Монсеньор, еще есть и Этелинг Эдвард, а затем – его сын, у которого тоже имеются права. Нельзя забывать и о Гарольде Годвинсоне; саксы его любят.
– Англия достанется сильнейшему, – заявил Вильгельм. – Доверься мне: я умею заглядывать вперед.
– Я тоже, – с легкой грустью ответил Рауль. – Впереди вас ждет много крови. А что будет с нашей Нормандией?
Вильгельм ответил не сразу. Рауль видел, как он, хмурясь, смотрит на море, как взгляд его, подобный взору ястреба, нацелен на какую-то далекую, одному герцогу видимую цель. По-прежнему глядя вдаль, Вильгельм сказал:
– Пока я жив, могу держать в страхе Францию и Анжу, которым нужны мои земли, не подпуская их к себе. Но после меня Франция поглотит их, рано или поздно, и мой народ исчезнет, растворившись в сонме французов. Поэтому я намерен выстроить для Нормандии новый оплот, королевство вместо герцогства, созданного моим предком Ролло; землю, которую будет оберегать море, а не какая-нибудь ненадежная крепостца; землю, где мой народ и мое имя будут жить вечно.
– Но тогда Нормандию поглотит не Франция, а Англия, только и всего, – заметил Рауль.
– Может быть. Но, Богом клянусь, нормандцы никуда не денутся!
Оба замолчали. Наконец Рауль заговорил вновь:
– А ведь есть еще и Гарольд, сын Годвина, умелый и отважный народный лидер, как о нем говорят; он тоже вынашивает великие желания. – Юноша мотнул головой в сторону спящих заложников. – Или вы намерены удержать его на столь ненадежном поводке, монсеньор?
– Боже упаси! – со смехом ответил Вильгельм. – Это кузен Эдуард пожелал, чтобы я взял их с собой. Вреда от того не будет.
– Жаль, мы не повидались с эрлом Гарольдом, – задумчиво произнес Рауль. – Судя по всему, он – настоящий мужчина.
– Внешность обманчива, – парировал Вильгельм. – К тому же одного из них я уже запер в клетку. – Герцог кивнул туда, где виднелась светловолосая голова Вульнота, лежавшего на оленьих шкурах. – Можешь быть уверен, я крепко держу вожжи в руках. Их осталось всего пятеро: Свейн, Гарольд, Тостиг, Гирт и Леофвин. Последние двое – совсем еще мальчишки, но в их жилах течет горячая кровь Годвина. Свейн – невоздержанная и распущенная скотина, волчья голова, насильник и похититель аббатис; можно не сомневаться – он своими руками спрядет для себя восковой саван[25]. Еще один, Тостиг, мечется словно взбесившийся дикий кабан с пеной на клыках, сея смерть и опустошение; голову даю на отсечение, его постигнет незавидная участь, к тому же кровавая. Остается последний, Гарольд, которого мы пока еще не видели. Господь рассудит нас, когда придет время. Эдуард страшится его; и у него есть на то причины. – Губы герцога презрительно скривились. – Король Англии! – с отвращением проговорил он. – Король Англии, святые угодники!
Словно в ответ, из темноты прозвучал чей-то голос:
– С вашего позволения, только один святой угодник, братец. «Король, король, против тебя выступила сильная армия», – сказал один из советников Исповедника. «Тише, друг мой, – пробормотал Святой. – У меня есть более важные дела». И вот он накладывает руки на ужасные язвы простолюдинки, а потом падает на колени и начинает истово молиться. Вот таков твой король, братец. – На свет вышел Гале, отвесил шутовской поклон и самодовольно улыбнулся.
– Не смей потешаться над святостью, – сурово оборвал его Вильгельм. – Господь свидетель, Эдуард способен совершать великие чудеса.
– Да, но на самое большое чудо – сделать своей супруге ребенка, который бы правил после него, – он неспособен, – ухмыльнулся Гале. – Или отныне и ты все свободное время вознамерился посвящать исцелению прокаженных, братец?
– У меня нет для этого силы, дурак.
– Увы, святости тебе и впрямь недостает! – заявил Гале. – А ведь как хорошо быть святым! Кузен Эдуард проводит все свои дни в молитве, а по ночам ему являются святые видения. Бедную королеву остается только пожалеть! «Ты согласен обзавестись славным сыночком, который будет королем после тебя, милый?» «Фи, какая гадость! – восклицает кузен Эдуард, – я слишком целомудрен для столь грязных плотских делишек». И вот он без конца перебирает свои четки, молит Господа и Божью Матерь благословить его воздержание, бросая свою Англию, словно кость, на съедение двум голодным псам. И вскоре из-за нее начнется славная собачья свара.
В темноте сверкнули белые зубы. Герцог улыбнулся, но вслух произнес:
– Ты знаешь слишком много, Гале. Берегись, чтобы я не отрезал тебе уши.
– Так, так! – сказал шут. – Значит, мне придется снова побывать в Англии и упросить Исповедника возложить на меня руки. Помяните мое слово, уши у меня вырастут тотчас же, еще лучше прежних.
– Довольно болтать! – коротко бросил герцог. Закинув полу мантии на плечо, он зашагал по палубе. – Я иду спать, – зевнув, сообщил он. – Идем со мной, Рауль.
Вослед им полетел смех шута.
– Да, ложись спать на своем тюфяке у него под бочком, Рауль, – сказал он. – Потому что скоро настанет день, когда тебе уже не будет места в спальне Вильгельма. «Я иду спать, супруженька, – скажет Вильгельм и добавит: – А ты пошел в свою будку, Рауль, в будку!»
Оба расхохотались, но смех герцога быстро оборвался, а чело его вновь нахмурилось. В каюте он бросился на постель и, заложив руки за голову, уставился на раскачивающуюся под потолком лампу.
– Последняя стрела была нацелена не так уж плохо, – сказал Вильгельм.
Рауль задернул кожаный занавес на входе.
– Я отправлюсь в собачью будку с легким сердцем, – уверил герцога юноша.
– Да, но когда? – Взгляд Вильгельма скользнул по его лицу и вернулся к лампе под потолком. – Я начинаю терять терпение. Кровь Христова, я ждал уже достаточно долго! Мне нужен определенный ответ – «да» или «нет». Мы едем во Фландрию.
– Как вам будет угодно, сеньор, но вы еще не научились принимать «нет» в качестве ответа, – широко улыбнулся Рауль.
– До сих пор мне не приходилось иметь дела с женщинами, – парировал Вильгельм. – Что я знаю о них? Что на уме у этой очаровательной холеной дамочки? Что имеют в виду дамы, когда улыбаются, искоса поглядывая на тебя, но вслух говорят холодные слова? Лукавство, сплошное лукавство и тайны! Она похожа на цитадель настолько хорошо укрепленную, что я не могу взять ее осадой. И что же, я должен стоять в стороне и ждать, пока эта цитадель не укрепится еще сильнее? Для этого я слишком хороший военачальник. – Вскочив с постели, он принялся расхаживать взад и вперед по каюте. – Клянусь Гробом Господним, она похожа на неподвижное пламя, холодное, отстраненное, далекое, сдержанное и желанное!
– Неподвижное пламя, – повторил Рауль и поднял голову. – А вы – второе пламя? Очень бойкое, я бы сказал.
– Да, я горю. Ведьма! Гибкая как лоза, тоненькая настолько, что я могу сломать ее одним пальцем, но все равно ведьма! А ведь дойдет и до этого.
– Господи Иисусе! – Рауль не знал, то ли плакать ему, то ли смеяться. – Вы это серьезно? Вот, значит, как вы представляете себе любовь?
– Любовь! – Вильгельм, ухватившись за это слово и покрутив его так и эдак, с презрением отбросил. – Она – моя любовь и моя ненависть, – мрачно заявил герцог. – Я даже не могу сказать, что люблю ее. Знаю лишь одно – она должна быть моей. Моей, клянусь распятием, я должен сжимать ее в своих объятиях, если мне придет такая блажь, и впиться поцелуем ей в губы или сломать – да, сломать и причинить боль, ежели мне того захочется. Она соблазняет, искушает, дает мне отпор и бросает вызов моей мужской силе. Господи Иисусе, моя постель холодна вот уже много дней!
Рауль смотрел, как герцог мечется по каюте словно лев в клетке.
– Какие новости от Ланфранка, сеньор?
– Никаких! Он пишет мне, чтобы я набрался терпения и ждал, ждал, ждал! Будь я проклят, но я получу ее, чего бы мне это ни стоило!
– Монсеньор, думаю, архиепископ тоже не отступится. Вы отправили в Рим Ланфранка, но кого мог послать Можер, чтобы нашептывать на другое ухо Папе?
– Пусть Можер позаботится о себе самом! – гневно вскричал герцог. – Полагаю, окажу себе большую услугу, если избавлюсь от этого хитрого лиса! Кого он хочет посадить на мой трон – своего брата Арка или Мишеля, собственного бастарда?
– Кто знает? Но его следует опасаться, монсеньор! До меня уже дошли слухи о возможном отлучении от церкви. И что тогда с вами будет?
– То же самое, что и сейчас, Богом клянусь! – вспылил взбешенный герцог. – Если Можер считает, будто я обойдусь с ним милостиво по причине нашего родства, то он скоро поймет, что ошибается. Господь свидетель, я всегда стараюсь поступать милосердно, но ежели он станет моим врагом, так тому и быть! – Отстегнув с плеч мантию, Вильгельм отшвырнул ее в сторону. – Я надеюсь на Ланфранка, что с церковью он уладит все миром. – Гнев герцога внезапно сменился улыбкой, и стало видно, что внутри у него по-прежнему сидит озорной мальчишка. – Что до всего остального, мой Рауль, то я буду надеяться на себя, и потому мы едем во Фландрию.
– Хорошо сказано, – согласился Рауль. – Значит, я могу побиться об заклад с Фитц-Осберном насчет исхода этого предприятия.
Герцог вновь улегся на постель и подпер голову ладонью.
– Ты обязательно выиграешь, Рауль, – со смехом сказал он.
– А с чего вы так уверены, монсеньор, на чьей я стороне? – пробормотал юноша.
Герцог резко сел на постели.
– Клянусь головой своего отца, если ты во мне сомневаешься…. – начал было он, но тут же оборвал себя, заметив, что Рауль смеется. Вильгельм вновь простерся на шкурах. – Можешь биться об заклад, как тебе угодно: тот, кто ставит против меня, всегда проигрывает, – заявил он и закрыл глаза. Но в голосе Вильгельма прозвучал вызов, который мог подсказать хорошо знавшему его человеку, что он впервые не уверен в успехе.
Глава 2
Из троих заложников наибольшее впечатление увиденное в Руане произвело на Эдгара, но именно он постарался ничем не выдать своего удивления. Вульнот, со свойственной ему легковерной непринужденностью, не стеснялся на каждом шагу выражать восторг вслух и быстро приспособился к новому образу жизни. Хакон же растерянно моргал, глядя на новый мир, но был еще слишком мал, чтобы предаваться размышлениям по этому поводу. И лишь Эдгар чувствовал себя совершенным изгоем в бурлящей толпе чужеземцев.
Он еще долго будет вспоминать, как впервые увидел Руан, чудесный город, на фоне серых стен которого сверкал и переливался красками двор герцога Нормандии. Замок герцога оказался не уютной домашней постройкой из дерева, а огромным каменным дворцом, поразившим воображение сакса высокими сводчатыми стенами и многочисленными арками, украшенными рельефными шевронами[26]. Дом самого Эдгара в Уэссексе был выстроен из дерева. Внутренние стены были покрыты грубыми рисунками и драпировками, скрывающими необработанные стены, так что переступившего порог гостя встречала теплая, дружеская атмосфера. Во дворце герцога тоже имелись тканые драпировки, однако они разительно отличались от саксонских. Они представляли собой искусно расшитые жесткие гобелены, но даже изобилующие золотой нитью, алыми и пурпурными шелками не могли похвастать тем буйством красок, что были милы саксонскому сердцу. Ими занавешивали арочные проемы или драпировали спальни, не пряча, впрочем, от глаз стены в тех местах, где искусные каменщики украшали их лепниной.
Когда Эдгар шагал по длинным галереям и вслушивался в эхо своей поступи, ему казалось, будто холод камня пробирает его до костей.
Прошло немало времени, прежде чем за столом он перестал высматривать вареное мясо, которого требовал его желудок, наотрез отказывающийся насыщаться яствами, пользующимися популярностью у нормандцев. Эдгар тосковал по бычьей ноге, зажаренной на вертеле, но вместо нее слуги подавали ему серого журавля, нашпигованного острыми специями, морскую свинку со сладкой пшенной кашей, густой суп с мелко нарубленной курятиной и розовыми лепестками, ужасно невкусный, конфитюры, подкрашенные цветками аквилегии, а также прочие опасные для здоровья деликатесы, такие как дельфин в собственном соку, марципан, украшенный фигурками ангелов или белых бекасов с гарниром из листьев боярышника и красной ежевики. Даже голова вепря, поданная к столу под звуки фанфар, оказалась настолько нафарширована специями, что сакс едва распознал ее на вкус. Эдгар отведал павлина, который считался королевским блюдом, но оно понравилось ему куда меньше обыкновенного серого гуся. Он наблюдал за тем, как за столом герцога слуги разделывают лебедей, поливают острым соусом каплунов, тушат кроликов и отрезают ноги жареным цаплям, но всем этим деликатесам предпочел бы добрую оленину или самую обычную вареную баранину.
Мясо подавали на серебряных блюдах; солонки были позолоченными изнутри и снаружи, иногда достигая в высоту целого фута, а их крышки – инкрустированы драгоценными камнями. Столы накрывали изысканными ипрскими скатертями, а вино разливали не в рога, а в золотые кубки или стеклянные бокалы, окрашенные в янтарный, синий и красный цвета, с выгравированным рисунком узорчатой тонкой нитью. Взад и вперед сновали пажи; все удобства придворным обеспечивали сенешали, мажордомы, церемониймейстеры и камерарии. Стулья были украшены искусно вырезанными головами грифонов и орлов; для ног имелись специальные табуреточки, подушки на которых были расшиты львами или цветами; на кроватях лежали соломенные тюфяки, в качестве одеял предлагались искусно выделанные оленьи шкуры, а окна закрывали занавески на кольцах, скользившие по стержням. Даже окна во дворце были забраны хрусталем или бериллом. Эдгар знал, что во дворце короля Эдуарда в Вестминстере, как и в домах знатных эрлов, тоже были такие окна, но в Марвелле для защиты от сильного ветра по-прежнему пользовались деревянными ставнями или роговыми пластинами, вставленными в окна.
В Нормандии мужчины носили длинные туники из богатой ткани; каждого сопровождали оруженосец и пажи, так что дворец буквально кишел людьми, а слуги ссорились и дрались друг с другом за право первенства. Повсюду в глаза бросались роскошь и великолепие, но сердце Эдгара тосковало о куда более простой и естественной жизни в Англии. Здешние нормандцы щедро тратили деньги на украшение своих персон, домов и монастырей, но в Англии не придавали особого значения внешнему виду зданий или богатству сервировки: достаточно было, чтобы столы ломились от яств, а рога – переполнялись до краев. Презрение к экстравагантности здешних жителей сменялось удивлением по поводу их аскетизма и самоограничения. Нормандцы были одновременно и более буйными, и более сдержанными в проявлении своих чувств. Саксонец не видел ничего зазорного в том, чтобы наесться до отвала или напиться допьяна; а вот нормандец, проявивший себя обжорой либо пьяницей, удостаивался лишь нескрываемого презрения своих соотечественников. В Англии разозлить кого-либо было нелегко, зато в Нормандии мечи выхватывались в мгновение ока и ссоры вспыхивали по малейшему поводу. В том, что касается собственных желаний и ненависти, нормандцы вели себя подобно безжалостным варварам, до чего никогда не унизился бы ни один сакс. Но если в Англии обучение и уважение к церкви становились все менее популярными, то нормандцы свято блюли все церковные заветы и каноны, а одного умения читать и писать для представителя высшего сословия было недостаточно.
Все это казалось Эдгару странным и отчаянно чужим. В отличие от Вульнота, который уже через неделю остриг волосы и распорядился удлинить свою тунику, чтобы ничем не отличаться от хозяев, Эдгар упрямо носил длинные локоны и холил свою золотистую бородку, продолжая расхаживать в тунике, которая не доходила ему и до колена. Казалось, он готов невзлюбить всех нормандцев в отдельности, а также вместе взятых, и без труда нашел тех, кто был достоин лишь презрения. В их число попали люди, подобные архиепископу Можеру, безнравственные и сладкоречивые, погрязшие в роскоши, или жестокие и невоздержанные, такие, как молодой милорд Мулен-ля-Марш, истязавшие ради забавы собственных пажей. Но саксу встречались и мужчины пошиба де Гурнея, умные, проницательные, преданные, которые не могли не вызвать к себе уважения, пылкие и порывистые молодые люди вроде Фитц-Осберна, опытные и мудрые политики, такие, как аббат Ланфранк, дружелюбные дворяне типа Рауля де Харкорта или Жильбера Дюфаи, сопротивляться их обаянию было решительно невозможно. Подобно пчелам в улье, они роились перед расширенными от удивления глазами Эдгара; под высокими сводами величественного дворца эхом отдавались великие имена: Тессон Сингуэлиц, Сен-Совер, Жиффар Лонгевилль; Роберт, граф Мортен, сводный брат герцога; Одо, его брат, регулярно наезжающий из Байе во всем великолепии епископской мантии; Роберт, граф д’Э, чей веселый смех странным образом контрастировал с вечной угрюмостью его брата Бузака; Гийом Мале, наполовину нормандец, наполовину сакс; д’Альбини, гладкий и холеный виночерпий; Грантмеснил, Феррьер, Монгомери, Монфор, Этутвилль – имена можно было перечислять бесконечно. Приводящие в замешательство, напыщенные и велеречивые, все до единого – важные и влиятельные сеньоры. Одних делали опасными амбиции, у других руки чесались обнажить меч по малейшему поводу или без него, третьи отличались самоуверенной наглостью, четвертые только и делали, что искали повод для ссоры. Однако все они в равной мере не знали покоя, плели интриги, хватали все, что попадалось под руку, и проталкивались вперед, к новым высотам, в мире, который казался слишком тесным, чтобы вместить их всех. Но даже порожденный ими блеск величия не мог затмить герцога, выделявшегося в любой толпе; человек тысячи настроений, мудрый, как Ланфранк, и порывистый, как Фитц-Осберн, однако неизменно уверенный в себе и ясно видящий поставленную цель. Его можно было ненавидеть, но презирать – никогда. Эдгар, вложивший руки в ладони эрла Гарольда, не смог бы полюбить его и через сто лет, однако помимо воли проникся к нему уважением. Скрепя сердце он воздавал герцогу должное, при этом прекрасно понимая, что Вильгельму не было дела до того, аплодируют ему или его проклинают. В герцоге ощущался стальной стержень, и в этой связи Эдгару всегда вспоминался Гарольд, его обожаемый господин, в груди которого билось живое сердце, умеющий располагать к себе людей даже против их желания. Быть может, великие и впрямь должны держаться чуть в стороне, лишенные простых человеческих слабостей; но любовь Эдгара к Гарольду во весь голос кричала: «Нет! Это неправильно!» Однако по мере того, как он узнавал Вильгельма лучше, в душу его закрадывался страх. Герцог мог пребывать в прекрасном настроении, мог проявить неожиданную доброту, но никто и ничто не способно было встать между ним и поставленной целью. Эдгар подозревал, что он не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего, перевернет небо и землю, отвергнет все моральные препоны и угрызения совести, с ошеломляющей безжалостностью ломая людей и подчиняя их своей железной воле.
Однако при этом герцог вызывал и обожание, обожание таких людей, как Рауль де Харкорт, с которым Эдгар подружился как-то незаметно. Однажды, когда тоска по дому стала особенно нестерпимой, Эдгар сказал:
– Ты думаешь, он ценит твою верность. А вот я уверен, ни дружба, ни вражда ничего для него не значат.
Рауль рассмеялся.
– Ого, как хорошо ты его изучил! А я-то думал, ты слишком горд, чтобы обращать внимание на какого-то нормандца.
– Можешь смеяться надо мной сколько влезет, но ты прекрасно знаешь: это не так, – покраснев, заявил Эдгар.
– Когда ты вот так задираешь подбородок со своей золотистой щетиной, то мне ничего не остается, кроме как смеяться, – отозвался Рауль. – Я и не подозревал, что англичане столь высокомерны и надменны.
Эдгар покраснел еще сильнее.
– Если я проявил неуважение, то прошу прощения, – сказал он.
– Ох, саксонский варвар, теперь ты стал еще смешнее!
Эдгар сжал кулаки.
– Не смей называть меня так, ты, нормандский гололицый!
– Правда? Но я ничуть не возражаю против того, чтобы ты называл меня «гололицым».
Эдгар опустился на табуретку рядом со скамьей, на которой, развалясь, полулежал Рауль, и горестно покачал головой.
– Мне кажется, ты только и делаешь, что ищешь возможность посмеяться надо мной, – сообщил он. – Или заставить потерять душевное равновесие и вести себя подобно варвару, коим ты меня считаешь.
– Ничуть не бывало. Просто я поспорил с Жильбером Дюфаи, что добьюсь того, чтобы ты перестал ненавидеть нормандцев, только и всего, – заверил его Рауль.
– С чего ты взял, что я ненавижу нормандцев? – возмутился Эдгар. – Я уже говорил тебе, моя мать была нормандкой. Я просто их не понимаю. Кроме того, мне неприятно чувствовать себя изгоем в чужой стране, но я не настолько глуп, чтобы ненавидеть человека только потому, что он не является саксом.
– Я слышу слова великодушного человека, – лениво хлопнул в ладоши Рауль. – Этак скоро ты полюбишь нас.
Эдгар с трудом сдержал улыбку.
– Когда ты серьезен, то действительно нравишься мне, о чем тебе давно известно, – сказал он. – И ты, и Жильбер, и многие другие. Вы отнеслись ко мне по-доброму, за что я крайне вам признателен.
Рауль, заметив идущего по зале Жильбера Дюфаи, окликнул его:
– Жильбер, иди сюда. Здесь Эдгар рассыпается перед нами в благодарностях за нашу доброту. Сегодня он необычайно горд.
– Он всегда горд, – заявил Дюфаи, неспешным шагом подходя к ним. – Сегодня утром, когда я позвал его на соколиную охоту, он обозвал меня ленивой собакой. Они в Англии не любят соколиную охоту, Рауль.
– Я не говорил ничего подобного! – запротестовал Эдгар. – Мы любим ее не меньше вас, а может, и больше. Просто тогда я был не в настроении.
Жильбер сел верхом на свободный конец лавки, где разлегся Рауль.
– Что ж, у тебя будет время отдохнуть от нашего общества. Говорят, скоро мы ненадолго уедем. Не так ли, Рауль?
Юноша кивнул.
– Да, это так. Ты избавишься от нас обоих, Эдгар. Герцог отправляется с визитом во Фландрию, и мы едем с ним.
– Жаль, – ответил Эдгар. – Мне вас будет не хватать. Это надолго?
– Кто знает? – отозвался Рауль, пожав плечами.
В глазах Эдгара заблестели лукавые искорки.
– Полагаю, герцог уж точно знает, а если это известно кому-либо еще, так только тебе.
– А ты умнее, чем кажешься, – фыркнул Жильбер. – Разумеется, ему известно, однако заставить его сказать невозможно.
– Я не знаю, – заявил в ответ Рауль. – Или вы думаете, наш герцог Вильгельм поверяет свои тайны всем и каждому? – Он взглянул на Эдгара. – Быть может, мы увидим Тостига, который, как говорят, сейчас пребывает при дворе графа Болдуина.
Эдгар презрительно фыркнул.
– И что мне с того? – сказал он. – Я безразличен к Тостигу.
– Вот как? – Рауль выразительно приподнял брови. – Но Гарольд тебе не безразличен, верно?
– Гарольд не Тостиг, – отрезал Эдгар.
– Сдается мне, ты грезишь этим своим Гарольдом, – с лукавой улыбкой заметил Жильбер. – Для тебя он – то же самое, что его любовь для кого-нибудь другого. – Видя, что Эдгар не ответил, а лишь предательски покраснел, Жильбер с невинным видом поинтересовался: – Каков он собой? Похож на Вульнота?
– Вульнот! – с негодованием вскричал Эдгар. – Гарольд не похож ни на кого. Если вам когда-либо доведется увидеть его, то вы поймете, как глупо сравнивать его с кем-нибудь из братьев. – Словно сожалея о собственной несдержанности, сакс поджал губы и не сказал более ни слова, лишь одаряя Жильбера гневным взглядом из-под насупленных бровей в ответ на его подначки.
Спустя несколько минут Рауль встал с лавки и направился к лестнице, бросив через плечо:
– Идем, сакс, пока ты не вцепился бедному Жильберу в глотку.
Эдгар последовал за ним по лестнице на галерею.
– Ты слишком серьезно ко всему относишься, – мягко заметил ему Рауль. – Жильбер не желает тебе зла.
– Я знаю. – Эдгар привалился мощным плечом к одному из арочных проходов. Волосы его золотом сверкали на фоне серого камня, а глаза поражали голубизной. – Я расстроен, – признался он. – У меня на глазах Вульнот перенял ваши манеры в одежде и поведении, и это меня злит без меры. А еще причиняет боль – вот здесь. – Он легонько коснулся рукой груди.
– Почему? – поинтересовался Рауль, рассеяно глядя на залу внизу. – Он молод и, в отличие от тебя, не считает нас своими врагами. – Повернув голову, юноша обнаружил – Эдгар в упор смотрит на него.
– А ты можешь сказать, что вы не враги нам? – негромко осведомился Эдгар.
– Вот, значит, как ты к нам относишься?
– К тебе – нет. Но твой герцог – мой враг, поскольку я – верный вассал Гарольда и Англии. Мне известно, почему я здесь и почему Вульнот и Хакон со мной. Но вам никогда не удастся удержать Гарольда на таком поводке.
Рауль не ответил. Он с некоторым изумлением смотрел на Эдгара, спрашивая себя, о чем тот знает наверняка или догадывается. Эдгар же скрестил руки на своей широченной груди; волоски на них были золотистыми, как и его кудри или завитая бородка.
– Король Эдвард может, конечно, завещать свой трон кому угодно, – сказал он, – но герцог Вильгельм получит его только после нашей смерти.
Его глубокий, неожиданно хрипловатый голос слабым эхом прокатился по каменной галерее. Вслед за этим воцарилась жутковатая тишина; по спине Рауля пробежал холодок, и на него вдруг снизошло предвидение. Он узрел Эдгара лежащим у своих ног, его золотистые кудри перепачканы запекшейся кровью, а сильные, могучие руки и ноги безвольно раскинуты в стороны. Юноша прикрыл глаза рукой, словно для того, чтобы отогнать ужасное видение.
– Что случилось? – спросил Эдгар.
– Ничего. – Рука Рауля упала вдоль тела. – Я не враг ни тебе, ни Англии. Мои желания простираются совсем в другую сторону.
– Да, но ты пойдешь за своим сюзереном, как я за своим, – возразил Эдгар. – Быть может, тебе не нужно то, чего добивается он, но какое это имеет значение? Мы сделали свой выбор, ты и я, и последуем за этими двумя людьми, куда бы они ни повели нас. И пути назад уже нет. – Он меланхолично пожал плечами. – Что она собой представляет, наша с тобой маленькая любовь и ненависть? Когда придет время, ты отвернешься от меня, чтобы послужить делу Вильгельма.
– Однако дружба может длиться вечно, – возразил Рауль.
Они медленно зашагали рядом по галерее.
– Мне бы хотелось… – начал Эдгар. – Мне бы хотелось… – Он вздохнул и легонько покачал головой. – Мы с тобой не знаем, какими дорогами нам придется пройти, прежде чем все закончится, – сказал он. – Поскорее возвращайся из свой Фландрии; я буду скучать без тебя.
В конце недели герцог покинул Руан и въехал во Фландрию через Понтье. Его сопровождали брат, граф Мортен, Роберт д’Э и Рожер де Монтгомери. Вильгельм со всей возможной быстротой направился в Лилль, где располагался фламандский двор, там он был принят со всеми полагающимися почестями милордом графом и его супругой. Граф Болдуин Мудрый не моргнув глазом выслушал нелепый предлог, предложенный ему в качестве оправдания этого визита. Он приказал своим людям препроводить герцога в отведенные ему покои, не упустив из виду ни одной мелочи, которая могла бы вызвать недовольство столь почетного гостя, как герцог Нормандии. Их беседа длилась целый час, и все это время граф непринужденно рассуждал о вещах, каковые, по его просвещенному мнению, могли бы заинтересовать герцога, но при этом тщательно избегал любого упоминания касательно обручения и свадьбы. Вильгельм нетерпеливо притопывал ногой, однако держал язык за зубами. Они церемонно раскланялись друг с другом, но, не успела дверь за графом закрыться, как Вильгельм хлопнул в ладоши, призывая своего камердинера. Доселе он не уделял особого внимания собственному туалету, так что сопровождающие его рыцари многозначительно переглянулись, узнав, что сегодня он отверг три туники, а цирюльник схлопотал затрещину за то, что во время бритья обжег герцогу подбородок. Так что к ужину Вильгельм сошел вниз при полном параде, в сопровождении своего эскорта и нескольких церемонных фламандцев. Он остановил выбор на длинной малиновой тунике, расшитой золотом. Его черные кудри перехватывал простой золотой обруч, а с плеч до пола ниспадала приличествующая достоинству герцога мантия, заколотая на груди большой брошью из драгоценных камней. Золотые поножи удерживали на ногах свободные штанины его панталон, а там, где заканчивались короткие рукава туники, могучие мускулы Вильгельма облегали массивные золотые браслеты. В столь роскошном наряде он смотрелся величественно и великолепно. Графиня Адела, француженка по происхождению, окинула его одобрительным взглядом и прошептала на ухо своей дочери Юдифи: «Матильда будет последней дурочкой, если упустит столь блестящего вельможу».
Придворные небольшими группками стояли и переговаривались в зале, ожидая появления благородного гостя. Когда же он показался на последней площадке лестницы, граф Болдуин вышел ему навстречу, взяв с собой супругу и двоих сыновей, Роберта и Болдуина. Протягивая руку герцогу, графиня отметила, как он украдкой огляделся по сторонам, и мысленно улыбнулась. Поцеловав кончики пальцев графини, Вильгельм испросил позволения представить ей графов Мортена и д’Э. Веселой, жизнерадостной графине совершенно не понравился честный, но неразговорчивый молодой человек Мортен, зато она с удовольствием разрешила графу д’Э проводить себя к высокому столу.
По жесту отцовской руки вперед выступила леди Юдифь и присела перед герцогом в почтительном реверансе, окинув его зовущим взглядом своих больших глаз газели, но в ответ получила лишь равнодушный поклон. У нее была привычка смеяться негромким гортанным смехом, когда что-либо забавляло ее, и сейчас она рассмеялась.
– Милорд герцог, я счастлива вновь видеть вас здесь, – с притворной скромностью сказала девушка.
Герцог поблагодарил ее и, едва коснувшись губами тыльной стороны ладони Юдифь, отпустил ее руку и повернулся к заговорившему с ним графу Болдуину.
Болдуин, подозвав к себе крепкого, цветущего молодого человека, небрежно развалившегося в одном из кресел, представил его герцогу. Это и был Тостиг Годвинсон собственной персоной, ровесник Вильгельма. Он подошел к ним с важным видом и без стеснения окинул герцога оценивающим взглядом. Лицо его, с неправильными, но довольно приятными чертами, поражало нездоровой краснотой, в гневе переходящей в багровость. Да и вообще, с первого же взгляда в нем можно было различить забияку и драчуна, отнюдь не страдающего отсутствием самомнения. Граф Болдуин сообщил Вильгельму, что совсем недавно он обручился с леди Юдифь.
Глаза герцога вспыхнули.
– Ха! – Протянув ладонь, он крепко пожал Тостигу руку. – Желаю вам счастья в браке и надеюсь, уже скоро вы ответите мне тем же.
При этих словах граф Болдуин погладил бороду, но ничего не сказал. Он подвел герцога к креслу с резными подлокотниками по правую руку от себя, взглянув на занавешенный арочный проход, через который только что вошла его вторая дочь. Герцог проследил за его взглядом; те, кто смотрел на него в этот момент, отметили – Вильгельм напрягся и замер, как гончая, готовая сорваться с поводка, и даже подался вперед, словно собираясь прыгнуть.
А леди Матильда медленно шла через залу, держа в руках церемониальный кубок с вином. На ней было платье зеленой парчи с длинными свисающими рукавами и шлейфом, который волочился по полу, сметая тростник. Под зеленой вуалью, закрепленной на лбу брошью с огромным бриллиантом, белым золотом сверкали ее волосы, заплетенные в две роскошные косы, ниспадающие едва ли не до колен. Глаза ее были опущены и устремлены на кубок, который она держала в руках; ярко-алые губы выделялись на нежном личике, хранящем неподвижное и замкнутое выражение.
Она подошла к высокому столу со стороны герцога и, подняв кубок, проговорила звонким голосом, походившим на журчание лесного ручья:
– Ваше здоровье, милорд герцог!
Подняв глаза, женщина окинула Вильгельма быстрым взглядом. Ему показалось, будто его обожгло зеленое пламя. Когда Матильда преклонила колено и поднесла кубок к губам, герцог вскочил на ноги. Она вздрогнула, испуганно попятившись, но тут же справилась с собой, протягивая ему кубок, и лишь легкий румянец на щеках выдавал ее внезапную тревогу. Похоже, блеск алого с золотом ослепил Матильду, а смуглое, загорелое лицо герцога помимо воли притягивало ее взор.
Вильгельм принял у нее кубок.
– Миледи, я пью за вас, – проговорил он голосом, гулким эхом зазвучавшим у нее в ушах.
Повернув кубок к себе той стороной, к которой прикасались ее губы, – что отметили многие из сидящих за столом, – он приник к нему.
Герцог осушил кубок в полном молчании. Глаза всех присутствующих обратились на него, всех, кроме милорда графа, рассеянно созерцавшего солонку на столе.
Опустив кубок на стол, герцог протянул руку женщине, чтобы подвести ее к месту рядом с собой. Она вложила в нее свою ладошку и, когда его сильные пальцы сомкнулись вокруг руки Матильды, веки ее задрожали. Тишина вокруг взорвалась. Словно вспомнив о хороших манерах, те, кто затаив дыхание наблюдал за происходящим, заговорили вновь и, если и поглядывали на герцога, то с должным соблюдением приличий. Но он не обращал на остальных гостей никакого внимания и вел себя так, словно они вдвоем с Матильдой оказались на необитаемом острове. Герцог сидел, полуотвернувшись от графа Болдуина и облокотившись правой рукой о подлокотник своего кресла; он пытался завязать разговор с леди Матильдой.
Женщина же демонстрировала явное и непонятное отчуждение. По большей части она ограничивалась лишь односложными «да» и «нет», решительно отказываясь смотреть ему в лицо.
А граф Болдуин распределял свое внимание между ужином и графом Мортеном, сидевшим напротив; Тостиг развалился в кресле и в перерывах между блюдами терзал белую ручку Юдифи. Он много пил, поэтому, вскоре раскрасневшись, стал вести себя развязно и шумно. Его громогласный хохот раздавался все чаще, перекрывая гул голосов в зале; он начал произносить заздравные тосты, расплескивая вино из кубка на тунику.
– Waes-hael[27], – выкрикнул Тостиг, с трудом поднимаясь на ноги и покачиваясь. – Drinkhael[28], Вильгельм Нормандский!
Вильгельм повернул голову в его сторону. По лицу герцога промелькнуло презрительное выражение, когда он увидел, что Тостига качает из стороны в сторону, однако он вежливо поднял свой кубок в ответном жесте и выпил за здоровье саксонца. Вновь обернувшись к Матильде, сказал:
– Значит, Тостиг надел обручальное кольцо на палец вашей сестры? А вам известно, с какой целью я вновь прибыл во Фландрию?
– Милорд, я мало что понимаю в государственных делах, – холодным смиренным голоском ответила Матильда.
Если таким образом она надеялась отвадить его, то сильно ошибалась в своем собеседнике. Он лишь улыбнулся.
– Вообще-то, меня привели сюда дела сердечные, миледи, – сказал герцог.
Она, не в состоянии справиться с искушением, ответила:
– Я и не предполагала, что Воинственный Герцог проявляет интерес к таким вещам.
– Клянусь Богом, – заявил Вильгельм, – сейчас меня более ничего не интересует.
Женщина закусила губу. Под скатертью рука герцога внезапно нашла и сжала обе ее ладошки. Под его пальцами судорожно забилась ниточка ее пульса; щеки Матильды окрасил гневный румянец. В улыбке же герцога сквозило удовлетворение.
– Ха, неужели под вашей холодностью скрывается жаркое пламя, моя красавица? – негромко поинтересовался он. – Скажите мне, вы и впрямь холодны как лед или же в ваших жилах течет горячая кровь?
Матильда высвободила руки.
– Если я и горю, то не ради какого-нибудь мужчины, – ответила она, с презрением глядя на герцога, но под его пылким взором вынуждена была вновь потупиться и даже отвернулась.
– Клянусь честью, я заставлю вас пожалеть о своих словах, миледи!
– Милорд герцог, – сказала Матильда, – вы разговариваете с женщиной, которая уже возлежала на брачном ложе.
Но Вильгельма не занимали подобные мелочи; ей показалось, что его смех с головой выдает в нем простолюдина, и она лишь презрительно скривила губы. Но герцог в очередной раз поразил ее.
– Вы уже нашли себе мужчину, способного сокрушить ваши стены, Холодное Сердце?
Она резко вскинула голову и впилась взглядом в его лицо, после чего, содрогнувшись, скрестила руки на груди, словно отгораживаясь от него невидимым барьером.
– Мои стены по-прежнему крепки и, если на то будет воля Господа, останутся таковыми до самого конца, – сказал Матильда.
– Вы что же, бросаете перчатку к моим ногам, миледи? Готовы объявить мне войну? А что вы слышали обо мне, вы, та, которая называет меня Воинственным Герцогом?
– Я не ваша подданная, монсеньор, – заявила леди. – Если и представляюсь вам неприступной цитаделью, то расположена она вне ваших границ.
– Домфрон тоже так полагал, – возразил Вильгельм. – А сегодня он называет меня своим господином. – Герцог умолк, и женщина была вынуждена взглянуть на него. – И вас ждет та же самая участь, Матильда, – медленно, с расстановкой произнес он. – Я поднимаю вашу перчатку.
На щеках у нее вспыхнул жаркий румянец, но она предпочла промолчать. По тому, как Матильда отвернулась от него, выказывая внимание своему брату Роберту, сидящему в нескольких шагах ниже[29], герцог должен был догадаться, что зашел слишком далеко. Но, даже если Вильгельм и понял это, подобные условности его не занимали. Женщина постоянно ощущала на себе его властный взгляд собственника и потому с облегчением встала из-за стола, когда банкет закончился. Матильда в сопровождении графини и своей сестры поднялась наверх, к себе в будуар, и ее спутницы заметили – в глазах женщины застыло отсутствующее выражение и она машинально поглаживает косу, как бывало всегда, когда пребывала в глубокой задумчивости. Графиня заколебалась, решая, заговорить или нет, однако в конце концов удалились в свои покои, так и не сказав ни слова. Фрейлины взялись за вышивание, но, когда одна из них протянула пяльцы Матильде, та раздраженно отложила их в сторону и удалилась к окну, где, погрузившись в невеселые мысли, принялась выбивать пальцами замысловатую дробь по роговой пластинке.
Вскоре к ней присоединилась Юдифь. Обняв Матильду за талию, она с негромким смешком заметила:
– Фи, как ты горяча! Что за тайные разговоры вела за ужином, котик?
– У него манеры бастарда, – медленно, тяжело роняя слова, ответила Матильда.
– Смотри-ка, какой разборчивой ты стала! Бастард-то он бастард, зато весьма благородный, и любовник из него получится – на загляденье. – Юдифь погладила сестру по лебединой шее. – Он смотрит на тебя так, словно готов съесть живьем. Чудовище, готовое разорвать на куски белую кошечку, право слово!
Матильда замерла, не шевелясь и терпеливо снося сестринскую ласку.
– Меня он не получит.
– Думаю, совсем скоро ты будешь рада заполучить его.
– У меня и без него хватает любовников.
Юдифь коротко рассмеялась и крепче прижала ее к себе.
– Такого у тебя еще не было, дитя мое, и я не сомневаюсь, что он уже покорил твое сердечко. – Она помолчала. – Что до меня, то мне представляется, в герцоге Вильгельме больше огня, чем было когда-либо в Гербоде. Нет-нет, он оставался холоден как лед, милая моя; казалось, его невозможно согреть; а ты… Господи, ты достойна настоящего поклонения!
Матильда ничего не ответила, напряженно глядя на сестру.
– Если Папа даст разрешение на брак, – лукаво продолжала та, – думаю, наш отец не станет противиться. Вильгельм – могучий лорд.
– Вот спасибо! – Матильда воинственно подняла подбородок. – Я – дочь Фландрии и рождена в законном браке, – гордо провозгласила она.
– Ну и что с того? – Юдифь потрепала ее по щеке. – Нормандия – достойный куш.
Матильда опасно прищурилась, так что глаза ее превратились в щелочки.
– Клянусь душой, бастард метит слишком высоко! – заявила она. – Моя мать – дочь короля, а не отродье какого-то дубильщика!
– Он – герцог Нормандии, – возразила Юдифь. – Какое это теперь имеет значение?
– Неужели его грязная кровь должна смешаться с моей? – с негодованием спросила Матильда, судорожно сжимая атлас своего платья. – Я говорю – не бывать этому!
Юдифь взглянула на нее со странным выражением в глазах.
– Пусть Господь дарует тебе мужество, сестра, потому что, мне кажется, я разгадала твою тайну.
– Святые угодники! У меня достанет мужества дать отпор Нормандскому волку!
– А дать отпор собственным желаниям ты тоже сможешь, дитя мое? – Юдифь ласково обняла сестру. – В душе у тебя начался ураган, милая. Твое сердечко жаждет любви. Не будет тебе покоя, пока Вильгельм не станет твоим.
Угадала Юдифь ее тайну или нет, но в ту ночь, как и во многие последующие, Матильда боялась разделить свое ложе с любовником. Образ Вильгельма преследовал ее; она очнулась от ночных кошмаров, вся дрожа; ей казалось, что она буквально кожей чувствует, как его воля подчиняет ее себе. Да, он действительно вознамерился заполучить ее во что бы то ни стало. Он продемонстрировал это самыми разными способами, играя с нею, как кошка с мышкой, что было невыносимо для своевольной, упрямой девицы. Матильда уже готова была сдаться и не могла: один Господь знает, что из всего этого выйдет. Она села на постели, освещенная лунным светом, подтянула колени к груди и оперлась о них подбородком, словно белая ведьма, какой он и называл ее. Золотистый каскад волос окутывал ее фигурку, взгляд был устремлен куда-то вдаль и ничего не выражал, но мысленно леди уже плела интриги и заговоры. Холодное Сердце! Неприступная Цитадель! По губам Матильды скользнула довольная улыбка. Она беспрестанно повторяла про себя его слова, словно пробуя их на вкус. Женщина с радостью покорила бы Воинственного Герцога, но он был слеплен из опасного материала; в нем таился демон, которого ему пока что удавалось держать на коротком поводке. Матильда женским чутьем угадала его присутствие, и этого оказалось достаточно, чтобы понять, сколь опасную игру она затеяла с человеком, совершенно непривычным к подобным тонкостям и полунамекам. Грязная кровь! Манеры настоящего бюргера! Она поднесла руку к свету и уставилась на синяк, который на ее коже казался черной тенью. Вот ее пальцы бережно коснулись его. Господи Иисусе, этот мужчина не сознает собственной силы! Матильда покачала головой, с содроганием представляя себе, какой он бывает в гневе, но потом поняла, что не обижается на него за столь грубое обхождение. Если она сумеет разжечь в герцоге пламя и сама сгорит в нем, то не станет винить его за это. Его пальцы сжали ее нежную плоть с такой силой, что Матильда едва сдержала крик боли. Женщина понимала – она оказалась в его власти, но отнюдь не была уверена, что он сумеет правильно распорядиться столь нежным сокровищем. Тем не менее перед лицом его грубой силы Матильда сохраняла спокойствие; страх, который она испытывала, был вызван той неосязаемой властью, которую Вильгельм обрел над ней. Страх неслышно подкрадывался к ней в тишине ее опочивальни, холодными лапками гладя ее по спине, и таился рядом, даже когда герцог был далеко. Пусть она уже успела побывать и супругой, и вдовой, сердечко ее оставалось свободным, пока Нормандец не вошел в зал для аудиенций ее отца и не вперил в нее свой тяжелый взгляд. Матильда заметила, как его темные глаза вдруг зажглись внутренним светом; он пожирал ее взглядом; она почувствовала себя голой, и гнев боролся с бурной радостью в ее душе. Холодное Сердце! Неприступная Цитадель! Ах, если бы это было так на самом деле!
Матильда покачала головой! О, кажущаяся хрупкость бедных женщин! Стиснув зубы, леди принялась возводить бастионы и контрэскарпы, планируя поражение того, кто вознамерился начать осаду. Ей было над чем поразмыслить; подбородок ее вновь уткнулся в колени; лунный свет теперь озарял волшебную фею, плетущую заклинания, неподвижную и очаровательную.
В Матильде жарким пламенем вспыхнула ненависть. Нормандский волк! Безрассудный, наглый, выбирающий себе добычу. Святая Дева Мария, дай ей силы повергнуть его к своим ногам и превратить в бессловесного раба!
Перед мысленным взором Матильды вновь всплыло его сильное, волевое лицо; в жилах ее забурлила кровь, а синяк на руке вдруг налился предостерегающей болью. Она прижала руки к груди, словно для того, чтобы унять разбушевавшееся сердце. О, дикий Воинственный Герцог, сними свою осаду!
Вот так она молилась про себя, в исступленном молчании, но, когда сон пришел за Матильдой, ей снилось, будто она вновь стала невестой.
Глава 3
Игра в кошки-мышки продолжалась; мужчина становился все смелее, а женщина вела себя все более невразумительно и непостижимо даже для себя самой. Что думал об этом Мудрый Граф, оставалось только гадать. Сохраняя невозмутимое выражение лица, он уголком глаза поглядывал на герцога и говорил о чем угодно, только не о браке. Что до миледи, то она смиренно складывала руки на коленях и взирала на происходящее с затаенной улыбкой. Герцога могли бы насторожить искорки, вспыхивающие в ее глазах, но что он знал о женщинах? Ровным счетом ничего, как клятвенно уверял сам: в этом не было никаких сомнений.
Проведя ладонью по ее шее, скользнув по полной груди и остановившись на талии, он пылко вскричал:
– Неужели все это должно пропадать зря? Фи, миледи, здесь вы крупно ошибаетесь: вы буквально созданы для мужчины, клянусь честью!
С этими словами Вильгельм раскрыл ей свои объятия; в его улыбке чувствовалась страсть, готовая покорить женщину даже против ее воли. Она ускользнула от него, что лишь укрепило его уверенность в своей победе. Бастионы Матильды рушились один за другим под натиском куда более стремительным, чем она могла ожидать. Любая другая не столь знатная девушка на ее месте уже давно бы упала в его объятия; но дочь графа Болдуина должна была прислушиваться не только к голосу своего сердца. Если герцог пробил брешь в ее оборонительных укреплениях, это лишь подбрасывало дров в костер ее гордости. Матильда была в ярости: загнанная в угол, она готовилась к отчаянной схватке.
Юдифь, озадаченно наморщив лоб, пробормотала:
– Котенок, этот факел может обжечь тебе пальцы.
– Я заставлю его отступить и сдаться.
Более от Матильды добиться ничего не удалось. Она унизит и отвергнет его. Он ведет себя с излишней самоуверенностью? Она покажет ему, какая пропасть лежит между благородными людьми и низкорожденными бастардами.
А герцог даже не подозревал ни о чем подобном. Другие же могли заподозрить неладное: одним из тех, кто догадывался о том, какой плетью миледи подстегивает собственную враждебность, являлся Рауль. Своим знанием он был обязан леди Юдифь, которая однажды лениво обронила нужные слова и весело рассмеялась, заметив, как он изменился в лице.
– Мадам, – убежденно сказал он, – миледи Матильде нужно быть очень осторожной, если она вздумает затронуть эту тему. Я говорю совершенно искренне: послушайтесь моего совета.
– Не съест же он ее, в конце-то концов, – с полным знанием дела отозвалась Юдифь. Она увидела, что он очень обеспокоен, и решила – настало время рассказать сестре о том, как был воспринят ее намек.
А слова Рауля, в которых прозвучало недвусмысленное предостережение, лишь еще сильнее разожгли аппетит Матильды. Отныне женщина стала обращать на юношу внимание; однажды утром, во время соколиной охоты, даже поравнялась на своей лошадке с его огромным Версереем. Она была достаточно искушена в искусстве светской болтовни, чтобы направить разговор в нужное русло; и после краткой преамбулы со слабой улыбкой сказала:
– Наверняка друзья герцога, мессир[30], посоветуют ему оставить в покое свою новую жертву.
– Миледи, герцогу не дают досужих советов, – с предельной откровенностью выразился Рауль.
Матильда метнула на него оценивающий взгляд из-под густых ресниц.
– Он потерял голову от любви. – Леди выдержала паузу. – Если я вновь выйду замуж, то жених не должен уступать мне в благородстве происхождения. Я говорю столь открыто, потому что знаю – вы пользуетесь доверием герцога, – высокомерно добавила она, однако выглядела при этом словно маленькая девчонка, с замиранием сердца ожидающая родительской похвалы.
Рауль в ответ лишь покачал головой. Встретившись с Матильдой взглядом, он кое-что прочел в ее глазах и ощутил к ней острый прилив жалости, справедливо заподозрив, что женщина разрывается между двумя крайностями, каждая из которых способна погубить ее.
– Миледи, послушайте мой совет, – сказал он. – При всем уважении настоятельно не рекомендую вам использовать это оружие против моего хозяина. Ни ваш пол, ни ваше положение не защитят вас от его гнева.
Улыбка по-прежнему не сходила с губ Матильды; посторонний наблюдатель мог бы даже предположить, что она буквально замурлыкала от удовольствия, пропустив мимо ушей очередное предостережение.
– Он мой сюзерен и добр ко мне, – между тем продолжал Рауль, – но мне хорошо известен его нрав. Миледи, вам останется только уповать на Господа, если вы разбудите в Нормандце дьявола.
Он желал ей добра, однако не преуспел. Выслушав Рауля, Матильда лишь облизнула губы. Спустить с цепи дьявола, сидевшего в герцоге, – о, эта перспектива казалась ей очень заманчивой. А у него внутри сидит дьявол? Разве найдется женщина, способная устоять перед таким соблазном?
В конце недели герцог удалился в собственные пограничные земли. Из Э он отправил посольство в Лилль с официальным предложением руки и сердца Матильде. Вопрос о родстве более не поднимался; ничто из того, о чем твердили ему советники, не могло заставить герцога отложить эту просьбу. Своим посланником он выбрал Рауля и наотрез отказался слушать его мягкие увещевания. Придя в отчаяние, юноша заявил:
– Монсеньор, вам ответят отказом, а вы еще не научились смиряться с этим.
– «Да» это будет или «нет» – я жду ответа, – возразил Вильгельм. – Кровь Христова, эта осада и так уже тянется непозволительно долго! Поезжай и от моего имени потребуй ключи от этой цитадели!
На следующий же день посольство отправилось в путь и в положенный срок достигло Лилля, где его, вне всякого сомнения, ожидали. Благородных гостей приняли со всеми почестями и без задержек препроводили в залу для аудиенций графа Болдуина.
Рауля сопровождал Монтгомери; оба были богато одеты и торжественны, как того и требовало положение.
Зала для аудиенций была полна фламандской знати и советников. В одном ее конце на троне, стоящем на возвышении, восседал сам граф; рядом расположилась его супруга, а на стульчике по левую руку сидела Матильда.
Рауль и Монтгомери вошли в залу в сопровождении своих оруженосцев. Им был оказан самый учтивый и обходительный прием, но леди Матильда на мгновение подняла глаза и послала Раулю взгляд, не суливший ничего хорошего.
Он сразу же перешел к делу, передав предложение руки и сердца герцога погрузившимся в молчание придворным.
Когда юноша умолк, по рядам собравшихся прокатился негромкий ропот, который тут же стих. Граф погладил белый мех горностая, коим была подбита его мантия, и ответил несколькими дежурными фразами. Он польщен честью, оказанной его дочери, заявил Болдуин, но вопрос этот следует решать только после тщательного обсуждения.
– Милорд граф, мой сюзерен герцог Нормандии полагает, вы уже давно отдаете себе отчет в том, каковы его подлинные намерения, – с обезоруживающей улыбкой заявил Рауль.
Граф покосился на дочь. Было совершенно очевидно, что он чувствует себя не в своей тарелке. Болдуин снова затронул было тему родства, и создалось впечатление, будто он готов прикрыться ею как щитом. Но, действуя согласно полученным указаниям, Рауль легко преодолел его оборону.
– Мой сюзерен герцог, милорд граф, имеет все основания полагать, что это препятствие будет преодолено. Вашей милости должно быть известно – настоятель Бек даже сейчас находится в Риме, откуда шлет нам обнадеживающие известия.
Получив подобную отповедь, граф Болдуин разразился пространной речью. Суть же ее сводилась к тому, что он был бы счастлив породнить свой дом с Нормандией, но его дочь, уже не девушка, чтобы сбывать Матильду с рук против ее же воли, может питать некоторое отвращение ко второму замужеству, вследствие чего должна дать собственный ответ.
Пожалуй, один лишь Рауль догадывался о том, каким он будет. Граф, во всяком случае, не подозревал ничего худого, как и графиня, которая попросту была захвачена врасплох.
Леди Матильда медленно поднялась на ноги, присела в реверансе перед отцом и заговорила ясным, холодным голосом. Смиренно сложив руки под грудью, тщательно подбирая слова, она заявила:
– Мой господин и отец, я благодарна вам за проявленную обо мне заботу. Если ваша воля такова, что я должна вновь выйти замуж, будьте уверены, я сознаю свой дочерний долг перед вами и готова повиноваться вам, как подобает моей и вашей чести. – Она умолкла. Пристально глядя на нее, Рауль заметил, что уголки ее губ приподнялись в улыбке, и понял – пора готовиться к самому худшему. Опустив глаза долу, Матильда продолжала: – Но позвольте умолять вас, монсеньор, о том, чтобы вы отдали мою руку тому, чье рождение не уступает моему, и, ради нашей чести, не позволили крови дочери Фландрии смешаться с кровью того, кто происходит из низкого рода бюргеров. – Закончила она столь же холодно, как и начала, а, присев в реверансе во второй раз, вернулась к своей скамеечке и опустилась на нее, упорно глядя в пол.
В зале воцарилась гробовая тишина. Присутствующие обменивались встревоженными взглядами, спрашивая себя, как воспримут посланники Нормандии нанесенное им оскорбление.
Монтгомери покраснел и шагнул вперед.
– Клянусь распятием, это и есть ваш ответ? – требовательно спросил он.
Рауль счел нужным вмешаться, обратившись к графу Болдуину.
– Милорд граф, я не осмелюсь передать такой ответ своему сюзерену, – угрюмо заявил он. Глядя на потрясенное лицо Болдуина, юноша решил, что неуважительный ответ был подготовлен без его ведома. Взглядом призвав Монтгомери к порядку, он сказал: – Милорд, я ожидаю ответа Фландрии на предложение моего сюзерена.
Граф Болдуин обеими руками ухватился за соломинку. Поднявшись на ноги, он как мог постарался разрядить обстановку.
– Мессиры, – заявил граф, – Фландрия осознает оказанную ей высокую честь, и ежели она вынуждена отклонить ее, то, поверьте, делает это с большим сожалением. Мы были бы рады выдать нашу дочь замуж за герцога Нормандии, если бы не отвращение, которое леди Матильда питает к повторному браку.
Он еще долго разглагольствовал в том же духе, пытаясь сгладить впечатление от нанесенного оскорбления. Посланники откланялись, один, пребывая в задумчивости, а второй – кипя гневом и негодованием. Что сказал своей дочери граф Болдуин, осталось неизвестным, но он послал за Раулем де Харкортом в тот же вечер и провел с ним наедине целый час.
– Клянусь Спасителем, мессир Рауль, получилось очень неловко, – в большом волнении заявил граф.
– Молю Бога, чтобы вы не ухудшили дело своими объяснениями, – сухо согласился Рауль.
Это стало плохим утешением для встревоженного хозяина.
– Призываю вас в свидетели, мессир, что слова эти принадлежат не мне.
– Граф, – с улыбкой сказал Рауль, – со своей стороны, полагаю, нам лучше забыть о том, что говорят женщины.
Болдуин испытал явное облегчение, но Рауль многозначительно добавил:
– Помимо меня там присутствовали и другие, милорд.
– Будь я проклят! – в раздражении вскричал граф, – от женщин одни только неприятности!
Услышь его дочь слова отца, она, несомненно, была бы польщена. Выходя из комнаты графа, Рауль на галерее нос к носу столкнулся с Матильдой и едва успел подхватить ее, не дав женщине упасть и увлечь его за собой. Он ощутил, как судорожно бьется под его пальцами жилка у нее на запястье. В тусклом свете лампы лицо ее казалось бледным размытым пятном, но юноша отчетливо различал зеленое пламя ее глаз. Он не выпускал ее запястья, а она терпеливо ждала. Наконец Матильда заговорила шепотом, в упор глядя на него:
– Передайте мой ответ слово в слово, мессир, заклинаю вас.
– Напротив, я постараюсь как можно скорее забыть его, – ответил Рауль и положил руку на ее плечо. – Вы что же, сошли с ума, миледи, раз произносите такие речи? Клянусь честью, вы ступили на опасный путь.
Ответом ему послужил негромкий смех, в котором не было веселья.
– Дайте ему знать, что я думаю о нем. Я ему не достанусь.
Рауль отпустил Матильду. Он не понимал ее, но ему показалось, что поступками женщины движет не только ненависть.
– Сейчас вы смеетесь, но молите Господа, чтобы впоследствии вам не пришлось плакать, – сказал он.
Юноша собрался двинуться дальше, однако Матильда загородила ему проход.
– Передайте ему мой ответ, – повторила она.
– Леди, я тоже желаю вам всего самого хорошего. Какая муха вас укусила? Чего вы добиваетесь?
Она обхватила себя руками за шею.
– Быть может, я слишком женщина, чтобы знать ответ на этот вопрос. – Руки ее упали; она протянула их к Раулю. – Скажите ему, что я все еще нахожусь под надежной защитой! – В голосе ее прозвучал вызов; она встревоженно вглядывалась в его лицо.
– Леди, вы так в этом уверены?
Стрела была пущена наугад, но, похоже, попала в цель. Матильда отпрянула, и он услышал, как она со свистом втянула в себя воздух. Рауль отправился в отведенные ему апартаменты, дивясь леди и страшась за нее.
Немного поостыв, Монтгомери уразумел: то, что они выслушали, ни в коем случае не предназначено для ушей герцога. Он согласился хранить молчание, но всю обратную дорогу в Э кипел негодованием и возмущался по поводу нанесенного им оскорбления. Первой, кого увидел Рауль, была Мабель, супруга Монтгомери, и он едва не выругался от досады. Несмотря на молодость, эта особа, дочь и наследница Тальваса, отправленного в изгнание лорда и властителя Беллема, уже составила себе имя в качестве завзятой интриганки и сплетницы. Рауль ничуть не сомневался, что она непременно заставит беднягу Монтгомери выложить все новости, которые интересуют ее.
Герцог принял своих посланников вполне официально. Рауль передал ему дипломатичный ответ Болдуина, но, как ни вглядывался он в лицо герцога, так и не смог ничего прочесть по его выражению. Несколько мгновений Вильгельм молчал, однако потом, подняв глаза на своих посланников, осведомился:
– Что сказала леди Матильда?
Рожер де Монтгомери занервничал и принялся переминаться с ноги на ногу. Рауль же невозмутимо ответил:
– Она просила меня передать вам, монсеньор, что до сих пор находится под надежной защитой.
Вильгельм коротко рассмеялся.
– Ха! Какие храбрые слова! – Но затем, нахмурившись, уставился на свои сжатые кулаки. – Итак, – задумчиво протянул он. – Итак! – Подняв голову, он быстро распрощался со своими посланцами.
Рауль удалился в сопровождении Жильбера Дюфаи; Рожер, все еще пребывавший в растерянности, отправился на поиски супруги.
Невозможно было понять, чего добивалась Мабель, играя взятую на себя роль. Те, кто ненавидел ее – а таких было множество, – уверяли, что она попросту одержима дьяволом. Но, как бы там ни было, женщина действительно выудила-таки у Монтгомери всю историю и, не теряя времени, воспользовалась ею по своему разумению.
За ужином Мабель уселась рядом с герцогом. Они обменялись несколькими ничего не значащими словами; когда же пиршество близилось к концу и вино умиротворило собравшихся, развязав им языки, женщина, преданно глядя на Вильгельма, поздравила его с тем, что он пребывает в хорошем настроении.
– Почему оно должно быть у меня плохим, леди? – удивился тот.
Мабель обладала медовым, слащавым голоском. Подавшись к герцогу, она проникновенно заявила:
– Монсеньор, кто она такая, эта жестокая красавица, которой так нелегко угодить?
Вильгельм грозно нахмурился, но ответил достаточно сдержанно и вежливо. Мабель провела рукой по подлокотнику его кресла; медленно подняв на него глаза, она прошептала:
– Монсеньор, вы снесли оскорбление от нее с истинно королевским величием. – Пальцы женщины коснулись его рукава, губы ее дрожали, взор затуманился; глядя на нее, можно было поклясться, что Мабель – воплощенная забота и нежность. – Ах, как она посмела? – Сплетница вскинула было голову, словно в порыве негодования, но сразу же уронила ее. – Прошу прощения, монсеньор! Это говорит моя преданность вам.
Сидевший напротив Монтгомери облизнул языком мгновенно пересохшие губы. Он метнул умоляющий взгляд на Рауля, но тот был далеко и ничего не слышал.
Вильгельм со звоном опустил свой кубок на стол.
– Кровь Христова, мадам, что это значит? – спросил он.
Мабель притворилась смущенной.
– Прошу простить меня, монсеньор! Я и так сказала слишком много, – запинаясь, пробормотала она и метнула испуганный взгляд на своего супруга, который уже сидел как на иголках, предчувствуя неладное.
Герцог заметил этот взгляд, на что и был сделан расчет.
– Клянусь Богом, вы сказали слишком много или слишком мало! – заявил он и уставился на Монтгомери. В глазах Вильгельма явственно читалась угроза, но более он ничего не добавил, а потом и вовсе перенес все внимание на графа д’Э. Спустя некоторое время герцог встал и вышел из-за стола, явно пребывая в хорошем настроении, но если Монтгомери надеялся, что его мучения на том и закончились, то вскоре выяснилось – он ошибался. Паж принес ему повеление прибыть к герцогу в его апартаменты; Монтгомери ушел, на прощание метнув укоряющий взгляд на супругу. А та улыбалась, вполне довольная собой, сущий дьявол с ангельским личиком, как с горечью подумал он про себя.
Монтгомери застал Вильгельма одного, расхаживающим по своей спальне. Герцог поманил его пальцем.
– Входи же, мой честный посланец, входи же! Что же такого ты рассказал своей леди, утаив от меня?
Монтгомери пустился в многословные объяснения, сбился и стал умолять герцога послать за Раулем де Харкортом, чтобы тот и поведал ему правду.
Герцог грохнул кулаком по столу.
– Будь я проклят, Монтгомери, я тебя спрашиваю!
Несчастный Монтгомери пролепетал:
– Монсеньор, леди Матильда сказала не подумав, как всегда бывает с женщинами. Ответ мы получили от его милости графа, о чем и доложили вашей светлости.
– Монтгомери, говори! – От звуков голоса герцога Монтгомери вздрогнул.
– Монсеньор, при всем уважения, я был всего лишь спутником шевалье де Харкорта. Именно от него вы и должны узнать о том, что случилось в Лилле. – Встретив бешеный взгляд герцога, он окончательно смешался и поспешно добавил: – Монсеньор, если мы поступили дурно, утаив от вас слова леди Матильды, то сделали это из любви к вашей светлости, а еще потому, что сочли – они не были предназначены для вашего слуха.
– Клянусь Иисусом Христом и его Матерью, Монтгомери, ты поступил очень дурно, когда рассказал своей жене то, что не осмеливаешься повторить мне, – зловещим тоном проговорил герцог.
Против этого возразить бедняге было нечего. Выпрямившись, он со всем достоинством, на которое еще был способен, заявил:
– Я в вашей власти, монсеньор. Полагаюсь на вашу милость.
Герцог ответил:
– Выкладывай, и безо всяких уверток.
– Монсеньор, леди Матильда сказала, что повинуется отцу во всем, но при этом умоляла его: если он намерен вновь выдать ее замуж, то жених должен… он… Монсеньор, леди Матильда отозвалась о вашем рождении в выражениях, которые я не осмелюсь повторить.
– Думаю, лучше тебе повторить их, Монтгомери, – проговорил герцог лишенным всякого выражения голосом, что напоминал затишье перед бурей.
Глядя себе под ноги, Монтгомери пролепетал:
– Леди Матильда попросила своего отца не выдавать ее замуж за того, кто не был рожден в законном браке, монсеньор.
– Ха! Надо же! И это все?
В Монтгомери вновь вспыхнуло давешнее негодование.
– Нет, не все, – заявил он, отбросив всякую осторожность. – Леди отозвалась о вас в крайне оскорбительных выражениях, милорд, и осмелилась даже высказаться в том духе, что ее кровь не должна смешаться с кровью того, кто происходит из рода бюргеров.
Рауль вошел в комнату как раз вовремя, чтобы расслышать эти столь неумные слова. Еще закрывая за собой дверь, он уже понял, что опоздал. Монтгомери по его знаку, благодарно кивнув, исчез, даже не сочтя нужным оскорбиться, когда Рауль одними губами прошептал ему:
– Ступай прочь, болтливый дурак!
Прижавшись спиной к двери, Рауль со спокойной почтительностью переждал первый приступ бешенства герцога. Улучив удобный момент, он произнес:
– Монтгомери дурно пересказал вам всю историю. Это правда, что она действительно использовала такие выражения, но высказала их из женского желания сделать больно тому, кого она слишком близко приняла к сердцу, для собственного спокойствия. Полагаю, вы поступите мудро, если не станете обращать на нее внимания.
– Кровь Христова, я заставлю ее в раскаянии плакать кровавыми слезами! – взревел Вильгельм. – Ах ты гордая вдова! Высокомерная дамочка! – Герцог вновь принялся метаться по комнате. – Она не желает видеть во мне возлюбленного. В таком случае, клянусь распятием, она получит в моем лице врага! – Вильгельм замер у окна и уставился на плывущую по небу луну. Пальцы его стиснули каменный подоконник; внезапно герцог рассмеялся и, обернувшись, бросил: – Я еду в Лилль. Если хочешь поехать со мной, едем! Если же предпочтешь остаться, распорядись, чтобы мой паж Эрранд оседлал своего коня.
– Премного благодарен, монсеньор. Пожалуй, я лучше поеду с вами. Но для чего?
– Леди Матильда недооценила меня, – угрюмо бросил Вильгельм. – Она передала мне послание, словно какому-нибудь ничтожеству, мужчине, не имеющему ни веса, ни влияния. Что ж, я проучу ее.
Более он ничего не пожелал объяснять. Не удалось и отговорить герцога от немедленной поездки в Лилль. Не на шутку встревоженный, Рауль отправился распорядиться насчет лошадей и перемолвиться словечком с графом д’Э. Юноша надеялся, что получасовая задержка хоть немного остудит пыл Вильгельма и заставит его одуматься, но его ждало разочарование. Когда он вновь вернулся к герцогу, тот выглядел уже вполне успокоившимся, однако наотрез отказался выслушивать любые уговоры как Рауля, так и своего кузена д’Э. Роберт же не знал, то ли плакать ему, то ли смеяться, но он достаточно хорошо изучил своего сюзерена, чтобы понимать – никакие слова не подействуют на герцога в момент, когда на лице у него появляется такое вот упрямое выражение, как сейчас. Он опасался, что Вильгельм сотворит какую-нибудь невероятную глупость, от которой тот в силу возраста еще не избавился, и, обменявшись унылым взглядом с Раулем, предложил Вильгельму взять с собой вооруженный эскорт. Но герцог отказался и от этого совета, презрительно щелкнув пальцами. Одним прыжком взлетев в седло, Вильгельм с места послал коня в галоп.
– Черт возьми, я боюсь за него! – промолвил граф Роберт. – Дьявол сорвался с цепи, Рауль!
Юноша, одной рукой перехватив поводья Версерея, улыбнулся.
– Лучше пожелайте нам удачи в этом… любовном приключении! – сказал он и, прыгнув в седло, помчался вслед за герцогом.
Путешествие получилось стремительным. Тот путь, что послы проделали за два дня, герцог покрыл за одну ночь. Остановился он лишь один раз, на рассвете, да и то лишь для того, чтобы сменить лошадей. Он не желал давать себе передышку даже на отдых; герцог перекусил на ходу и в большой спешке. Говорил он мало, но по мере приближения к Лиллю нетерпение охватывало его все сильнее. Рауль, полумертвый от усталости, все же не смог удержаться от смеха. Он слишком утомился, чтобы раздумывать над тем, как намерен герцог обойтись с дочерью графа Болдуина, но чувствовал, что Вильгельм находится не в том состоянии, чтобы предстать перед элегантным двором. Покрытый дорожной пылью и пятнами конского пота, он больше походил на торопящегося гонца, нежели правящего принца, однако говорить ему об этом было бессмысленно. Рауль даже не удивился, когда, не сбавляя ходу, тот понесся по узким улочкам Лилля к дворцовым воротам, которые проскочил без задержки.
У входа в большую залу герцога узнали. Ошеломленный паж с раскрытым ртом уставился на него, после чего окликнул своих приятелей. Когда Вильгельм спрыгнул с седла, к нему навстречу бросилось несколько человек, приветствовавших его поклонами, робкими расспросами и предложениями проводить в спальню. Но герцог безо всяких церемоний отмахнулся от встречающих словно от назойливых мух и велел Раулю взять его коня под уздцы.
– Я задержусь у нее ненадолго, – пообещал Вильгельм, широким шагом направляясь мимо вежливых джентльменов прямо во дворец.
В зале шесть или семь человек ожидали начала ужина. При виде герцога Тостиг воскликнул:
– Кровь Христова, да это же Нормандец! К чему такая спешка, герцог Вильгельм?
К герцогу наперерез бросился один из фламандских вельмож и принялся объяснять, что граф с сыновьями вот-вот должен вернуться с соколиной охоты, но растерянно оборвал себя на полуслове, поскольку было совершенно очевидно, что герцог его не слушает. Звеня шпорами, Вильгельм пересек вымощенный плитами пол залы и поднялся по узкой лестнице прежде, чем кто-либо из присутствующих успел хотя бы протереть глаза. Они, правда, заметили, что на боку у него висел меч, а в правой руке он сжимал хлыст.
Фламандцы в задумчивой растерянности уставились друг на друга. Им казалось, будто герцог Нормандии сошел с ума.
А Матильда сидела на подушечке в своем будуаре, расшивая узорами напрестольную накидку. Другой ее конец держала в руках леди Юдифь, и обе склонились над своей вышивкой. Они пребывали в окружении нескольких фрейлин, которые занимались тем же. В комнате звучал негромкий разговор, резко оборвавшийся, когда дверь в дальнем конце неожиданно распахнулась. Иглы застыли в воздухе; шесть ошеломленных лиц обратились к двери, и шесть пар глаз округлились от изумления.
На пороге стоял Вильгельм, совершенно неуместный в надушенном будуаре. Заметив выражение его глаз, одна из фрейлин, ойкнув, испуганно вцепилась обеими руками в соседку.
Матильда лишилась дара речи. Наружу рвались какие-то эмоции, душившие ее; она не отдавала себе отчета в том, что это – страх или торжество. Глядя на происходящее словно со стороны, леди отметила: сапоги и мантию герцога покрывает густой слой пыли, его лицо побледнело и осунулось от усталости после долгой скачки; по губам Матильды скользнула тень ликующей улыбки.
– Что все это значит? – осведомилась Юдифь, в голосе которой явственно прозвучало изумление. Поднявшись с места, она шагнула вперед, переводя взгляд с герцога на застывшее лицо сестры.
А Вильгельм неспешным шагом подошел к Матильде. Леди сидела неподвижно словно статуя и молча смотрела на него. Наклонившись к ней (ей же показалось, будто в этот момент он набросился на нее словно коршун), Вильгельм рывком поднял женщину на ноги и стиснул оба ее запястья с такой силой, что у нее перехватило дыхание.
– Мне в точности передали ваше послание, – сообщил герцог. – Я пришел ответить на него.
– Господи милосердный! – вскричала Юдифь, которая уже догадалась, что будет дальше.
Одна из фрейлин, заметив, как герцог взмахнул хлыстом, заплакала. Губы Матильды с трудом шевельнулись:
– Вы не посмеете!
– Еще как посмею, мадам, – ответил Вильгельм. Она впервые увидела его улыбку, похожую на злобный оскал. – За то же самое оскорбление, что вы нанесли мне, гордая вдова, мужчинам по моему приказанию отрубали руки и ноги. – Он выволок ее на середину будуара. – Ваши руки и ноги останутся при вас, мадам, а вот бока пострадают, изрядно!
Фрейлины пребывали в полуобморочном состоянии; некоторые выглядели так, словно вообще не понимали, что происходит; одна всхлипывала от ужаса; и все они жались друг к другу, стараясь оказаться как можно дальше от зловещего незваного гостя. Хлыст со свистом рассек воздух; женщина, плача, закрыла лицо руками, вздрагивая всякий раз, когда кожаная плетка вгрызалась в ее плоть.
Леди Юдифь первой вернула себе самообладание. Едва Вильгельм занес над головой ее сестры руку с хлыстом, она стремглав бросилась к двери и прижалась к ней спиной, вцепившись пальцами в потемневшие доски, словно для того, чтобы не дать ей открыться. Старшая из фрейлин, пришедшая в ужас от созерцания своей госпожи, безжалостно избиваемой хлыстом, уже готова была выскочить наружу и позвать на помощь, но была вынуждена отступить перед Юдифью.
– Дура, неужели вы хотите, чтобы весь двор узнал о том, что леди Матильду выпороли? – презрительно бросила ей Юдифь. – Уймитесь! Она не поблагодарит вас за то, что вы разнесете по всему свету весть о ее побоях.
Матильда всхлипывала, закусив нижнюю губу, ничем более не выдавая своего унижения, и лишь слабо постанывала. Платье ее изорвалось, волосы пребывали в беспорядке; пальцы Вильгельма продолжали с такой силой сжимать ее запястья, что ей казалось, будто у нее переломаны кости. Наконец безжалостная порка прекратилась; очевидно, герцог просто устал. Когда он нанес последний удар, ноги Матильды подогнулись, но он, отбросив хлыст в сторону, обхватил ее за талию, не давая упасть, и крепко прижал к себе, грудь в грудь.
– Мадам, вы презрели меня, – сказал Вильгельм, – но, клянусь Богом, вы никогда меня не забудете! – Герцог прижал ее к себе еще крепче, хотя это казалось невозможным; его левая рука разжалась, отпуская запястья Матильды, и он приподнял ее подбородок. Прежде чем она успела сообразить, что сейчас произойдет, герцог крепко поцеловал ее в полураскрытые губы. Она вновь издала слабый стон. А он рассмеялся, внезапно и хрипло, отшвырнул ее от себя и развернулся на каблуках. Едва не лишившись чувств, леди повалилась на пол и осталась лежать без движения.
В дверь настойчиво заколотили; снаружи раздались голоса – они о чем-то спорили и совещались.
– Откройте! – приказал Вильгельм.
Юдифь с любопытством взглянула на него, и на лице у нее медленно расцвела улыбка. Преклонив перед ним колено, она сказала:
– Клянусь честью, Вильгельм Нормандский, вы – храбрый человек. – Отодвинувшись от двери, она распахнула ее.
Сердитые восклицания сорвались с губ тех, кто первым оказался на пороге. Мечи с тихим шорохом покинули ножны; послышался гневный, возмущенный ропот. Герцог оскалился и шагнул вперед, словно хищник, выбирающий жертву перед прыжком. Вельможи инстинктивно попятились и расступились. Он обвел их взглядом, не делая и попытки схватиться за меч, напротив, беззаботно упер руки в бока.
– Итак, господа? – насмешливо поинтересовался герцог. – Итак?
Фламандцы были полны нерешительности, однако не убирали ладоней с рукоятей мечей. Переглянувшись между собой, они наконец обратили взоры на Юдифь. Она, рассмеявшись, сказала:
– Ох, болваны! Отойдите в сторону: он вам не по зубам.
– Боже милосердный, леди… – запинаясь, начал было один из них.
– Леди Матильда! – ахнул другой.
Третий шагнул вперед, и гневные слова уже готовы были сорваться у него с языка.
– Монсеньор, вы поступили очень дурно, клянусь распятием! Ни высокое положение вашей светлости, ни…
– Фу! – обронил Вильгельм.
Рука герцога упала на плечо разгневанного джентльмена и отодвинула его в сторону. Было совершенно очевидно, что он их ни в грош не ставит. Взгляд его повелевал и завораживал; сами не зная почему, достойные джентльмены расступились, и Вильгельм вышел из комнаты с видом победителя.
Тем временем во дворе его с тревогой ожидал Рауль. Он с облегчением вздохнул, когда заметил выходящего из дверей герцога, но в следующий миг увидел сердитые лица людей, теснящихся за спиной Вильгельма, и спросил себя, а не дойдет ли все-таки дело до драки. Впрочем, вскоре стало ясно, что все обойдется. Герцог принял из рук юноши повод и прыгнул в седло. Заметив мужчин, преследовавших его, он неожиданно рассмеялся.
Этого они снести не могли, даже от Нормандца. Пара джентльменов рванулась вперед, чтобы схватить коня герцога под уздцы; Рауль до половины вытащил меч из ножен.
А герцог развлекался от души.
– Нет, друзья мои, думаю, у вас ничего не выйдет! – сказал он и вонзил шпоры в бока своего жеребца.
Тот, фыркнув, рванулся вперед; один из мужчин успел отпрыгнуть, второй замешкался, и конь сбил его грудью на землю. Герцог ускакал, прежде чем кто-либо успел пошевелиться; копыта прогрохотали по каменным плитам и вскоре их звук затих вдали, превратившись в едва слышное эхо.
А в будуаре фрейлины бросились на помощь Матильде, жалобно причитая и всплескивая руками. Женщина же смотрела на синяки у себя на запястьях; фрейлины с тревогой заметили, что она замерла, и в глазах у нее появилось восторженное выражение. Юдифь вытолкала их вон, несмотря на протесты, и с грохотом захлопнула за ними дверь. Подойдя к Матильде, опустилась рядом с нею на колени.
– Дитя мое, ты ведь не желала никого слушать, – сказала она.
Губы Матильды сложились в некое подобие улыбки.
– Ты жалеешь меня, Юдифь?
– Нет, милая. Ты получила по заслугам.
Матильда пошевелилась, и лицо ее исказила гримаса боли.
– Что они с ним сделали? – поинтересовалась она.
– А что они могли сделать с таким человеком, как он?
– Ничего, – ответила Матильда. – Но они могли бы убить его. Интересно, а он думал об этом? – Она поднесла руки к глазам и вновь принялась разглядывать синяки. Спокойствие Матильды улетучилось; она со слезами бросилась сестре на грудь и жалобно запричитала: – Ой, как же мне больно, Юдифь!
Глава 4
Над нормандским двором нависла атмосфера ожидания, сохранявшаяся на протяжении многих недель после стремительного визита герцога в Лилль. Правда о его поступке каким-то образом просочилась наружу, и люди шепотом передавали ее друг другу, следует отметить, в изрядно перевранном варианте. Но обратиться к самому Вильгельму с прямым вопросом никто не осмеливался. Кое-кто со знанием дела вещал, что вот-вот последует объявление войны со стороны графа Болдуина, однако в конце концов выяснилось, что они ошибаются. Никто не знал, о чем подумал или что сказал граф Болдуин, вернувшись в тот роковой день с соколиной охоты в собственный двор и застав дочь избитой, в полной прострации. Граф кипел от бессильной ярости. Но, какие бы чувства им ни владели, он был не из тех, кто позволяет эмоциям безрассудно ввергнуть себя во враждебные действия. Болдуин являлся сильным и мудрым правителем, а не жалким трусом, однако совершенно определенно не желал затевать войну со своим нормандским соседом.
– В мире есть один человек, – заявил граф Болдуин, – в совершенстве владеющий искусством войны, и человек этот – герцог Вильгельм. Я сказал достаточно.
Его вельможи сочли, что он чересчур смиренно отнесся к дерзкой выходке Нормандца; леди Матильда залечивала раны на боках и хранила молчание; граф Болдуин писал осторожные письма герцогу в Руан и тщательно изучал полученные ответы. Он счел разумным сообщить дочери, что ее репутация погибла безвозвратно. Она же подперла подбородок скрещенными руками и взглянула на него без особого уныния.
– Матильда, – заявил ее отец, – найдется ли такой лорд, готовый подобрать то, с чем столь грубо обошелся Нормандец? Клянусь всеми святыми, иногда мне кажется, тебе лучше было бы удалиться в монастырь.
– Найдется ли такой лорд, который протянет руку, чтобы взять то, чего страстно желает Нормандец? – ответила Матильда.
– Здесь ты ошибаешься, дочь моя, – сказал граф Болдуин. – Нормандец потерял к тебе интерес.
– Нет, он не будет знать покоя до тех пор, пока я не окажусь в его постели, – заявила Матильда.
– Полагаю подобный разговор преждевременным и дерзким, – нахмурился граф и удалился.
В Руане же сочли, что герцог отказался от мысли жениться на фламандской гордячке, но Ланфранк так и не был отозван из Рима. Архиепископ Можер, поглощая сласти в своем дворце, долго размышлял над этим, после чего послал весточку брату, графу Арку, который, по причине размещения герцогского гарнизона в своем продуваемом всеми ветрами замке, чувствовал себя настоящим пленником. Можер не знал, как истолковать поведение герцога, однако справедливо опасался свойственных ему упорства и настойчивости.
Возвращаясь обратно в Э, герцог уверенно заявил:
– Я все равно получу ее, но, клянусь Богом, она не найдет во мне мягкости!
– Если вы так к этому относитесь, – язвительно парировал Рауль, – то почему бы вам не подыскать себе невесту, которую сможете полюбить, и почему бы не забыть леди Матильду?
Но герцог ответил:
– Я поклялся получить Матильду и никого более. В любви или ненависти, но она станет моей.
– Битва будет нелегкой, Вильгельм, – только и сказал в ответ Рауль.
– Можешь не сомневаться, я добьюсь победы, – заявил герцог.
На протяжении многих дней это был единственный раз, когда он вспомнил о Матильде. Мысли Вильгельма были заняты другими делами, и, вернувшись в Руан, он с головой окунулся в напряженную работу, на время отложив вопрос о женитьбе. Вплоть до конца года все внимание герцога сосредоточилось на гражданско-церковных реформах, которые вызвали некоторое недовольство его баронов и сдержанное восхищение Эдгара, тана Марвелла. Как-то раз Эдгар медленно проговорил:
– Да, теперь я вижу, что он – настоящий правитель, хотя до сих пор считал его всего лишь безрассудно смелым человеком.
Жильбер Дюфаи, коему было адресовано это замечание, рассмеялся в ответ и полюбопытствовал, что навело Эдгара на подобную мысль. Они сидели у одного из окон верхнего этажа дворца в Руане, которое выходило на Сену и лес Кевийи за ней. Не сводя глаз с деревьев на другом берегу, Эдгар ответил:
– Эти новые законы и то, как он обращается со своими людьми, представляющими собой опасность для его герцогства. Он – очень искусный и тонкий политик.
– А ты, оказывается, внимательно наблюдаешь за ним, мой сакс, – заметил Жильбер.
Эдгар передернул плечами, и по лицу его скользнула тень.
– А что мне еще остается, кроме как наблюдать за поступками других людей? – с горечью осведомился он.
– Я думал, тебе здесь нравится, – сказал Жильбер.
– Нравится? Никогда, – ответил Эдгар. Заметив, что Жильбер уязвлен его ответом, он добавил: – Успокойся, я привык и, пожалуй, уже не так остро ощущаю себя изгнанником, раз у меня есть дружба – твоя и Рауля.
– И не только, насколько я слышал. Но Рауль у тебя всегда стоит на первом месте. – Жильбер приподнял бровь, вопросительно глядя на Эдгара. – Вы с ним стали почти как братья, не так ли? Неужели настолько хорошо понимаете друг друга?
– Да, – коротко отозвался Эдгар. Приподняв край своей мантии, он укрыл ею колени. – У меня никогда не было брата, есть только сестра, Эльфрида. – Сакс подавил вздох. – Она была совсем маленькой, когда я покинул ее, но не сомневаюсь, что она уже выросла.
– Быть может, скоро ты сможешь вернуться в свою Англию, – сказал Жильбер, неловко пытаясь утешить друга, которого явно охватила тоска по дому.
– Может быть, – безо всякого выражения согласился Эдгар.
Однако постепенно в нем угасало желание вернуться в Англию. Невозможно было прожить столько времени в Нормандии, не почувствовав, что она стала для него вторым домом. Эдгар обзавелся друзьями; поневоле начал интересоваться делами герцогства. С некоторой грустью сакс думал о том, что начинает походить на Вульнота, англичанина, ставшего нормандцем, а когда в Нормандии вспыхнул мятеж Бузака, то Эдгар совсем забыл о том, что сам он – англичанин и к тому же заложник. Он помнил лишь о том, что много времени провел при нормандском дворе, и очень часто рассуждал о благоденствии Нормандии, поэтому посягательство на мир в герцогстве повергло сакса в не меньшее негодование, чем его хозяев. Эдгар видел, как прибыл гонец, с ног до головы покрытый пылью, а часом позже встретил Рауля на одной из галерей огромного дворца. Тот поинтересовался:
– Ты слышал о том, что случилось? Гийом Бузак поднял мятеж в замке Э против герцога.
– Кто станет его противником? – с горячностью воскликнул Эдгар. – Лорд Лонгевилль или же сам герцог? Я бы хотел отправиться с ними.
– Сам герцог, – ответил Рауль, намеренно обойдя вниманием намерение Эдгара.
Они вместе зашагали по галерее, обсуждая случившееся и прикидывая, кто из баронов присоединится к Бузаку, а кто выступит против, пока до Эдгара вдруг не дошло, что он рассуждает, как истый нормандец. Он тут же умолк, ощущая себя не саксом и не нормандцем, а всего лишь молодым человеком, который хочет отправиться на войну вместе с еще одним молодым человеком, своим другом.
Герцог в два счета расправился с Бузаком, в чем ему охотно помогли братья мятежника: Роберт, безрассудно доверивший Бузаку замок Э, и Гуго, аббат Люксея, специально прибывший в Руан для того, чтобы убедить герцога принять самые жесткие меры. Но совет этот оказался излишним; герцог уже отправился в Э, где после короткой осады взял замок штурмом, наложил наказание на поверженный гарнизон и отправил Бузака в ссылку. Вскоре им стало известно: Бузак обрел пристанище при дворе короля Франции, приняли его там с распростертыми объятиями, что само по себе было весьма показательно; король начал демонстрировать растущую враждебность по отношению к герцогу Вильгельму.
Мятеж Бузака оказался лишь одним из многих. Теперь, когда события четырехлетней давности в Валь-э-Дюне забылись, Нормандия вновь начала поднимать голову. Герцогство еще не признало Вильгельма окончательно, и сам он прекрасно знал об этом. Его готова была поддержать бо́льшая часть вельмож; все сервы и бюргеры до единого боготворили Вильгельма, поскольку он вел себя с ними как суровый, но справедливый правитель; однако были и те, кто по-прежнему тосковал о временах уходящего в прошлое беззакония. Кое-где еще процветал разбой и грабеж, личные ссоры разрешались поджогами и убийствами, а наглые бароны торопились урвать все, что попадалось под руку, когда считали, что герцог повернулся к ним спиной. Он суровой рукой карал тех, кто нарушал его покой, но на второй год ссылки Эдгара мелкие беспорядки, напоминающие пузырьки пены в кипящем котле, случались постоянно. Это мог быть единичный набег на земли соседа или наглое убийство прямо за свадебным столом, бесчинства шайки грабителей, отчего территория на пятьдесят миль вокруг неожиданно становилась опасной для честных жителей. Однако убийства или грабежи являлись признаками беспорядков, умело и тайно разжигаемых человеком, затаившемся в своем замке д’Арк.
Примерно через год после событий в Лилле они узнали – эрл Годвин объединил усилия со своим сыном Гарольдом. Затем до них дошли известия о том, что король Эдуард соблаговолил восстановить в правах Годвина и обоих его сыновей, а Тостигу, который недавно сочетался браком с Юдифью, пожаловал оставшееся без владетеля графство Нортумбрия. Глаза Эдгара загорелись новым светом; даже превратившийся в нормандца Вульнот хвастал, что король Эдуард не осмелился восстать против своих родственников. Казалось, герцог Вильгельм не обратил особого внимания на эти события, но в уединении собственной спальни грохнул кулаком по столу и в отчаянии воскликнул:
– Кровь Христова, во всем свете не найдется большего ничтожества, чем Эдуард! – Взяв Рауля под руку, герцог тут же добавил: – Хотя я совершенно уверен – не нужно, чтобы кто-нибудь еще узнал об этих моих словах.
Но эрл Годвин недолго радовался своему вновь обретенному положению. Весной нового года стало известно о его кончине, если верить английским купцам, весьма странного характера. Говорили, что гнев Божий обрушился на эрла Годвина прямо за королевским столом. Годвин приказал своему сыну Гарольду подать ему вина на празднестве, устроенном в честь его примирения с Эдуардом. Подходя к нему с кубком в руках, Гарольд едва не упал, споткнувшись обо что-то. Выбросив вперед правую ногу, он сумел удержать равновесие, тогда как эрл, пребывая в отличном расположении духа, процитировал старинную поговорку: «Один брат помогает другому». На что король, настроенный далеко не столь благодушно, мрачно заметил: «Да, так бы ко мне на помощь пришел и мой брат Альфред, останься он жив, эрл Годвин».
Эрл уже наслушался более чем достаточно о смерти Альфреда. Обычно он не обращал особого внимания на упреки в свой адрес, но в тот раз выпил слишком много, и слова короля вызвали его негодование. Преломив ломоть белого хлеба, он гневно взглянул Эдуарду прямо в лицо и заявил: «О, король, если я имею какое-либо отношение к гибели Альфреда, то пусть этот кусочек хлеба застрянет у меня в глотке!» С такими словами он храбро сунул хлеб в рот, но тут с ним приключились конвульсии, наблюдать за которыми были жутко, и он рухнул на пол с пеной на губах и куском хлеба, застрявшим у него в горле. Часом позже Годвин скончался, а король Эдуард лишь покачал головой, словно говоря, что ничуть не удивлен.
Но все эти новости из Англии, даже растущая сила Гарольда, не могли надолго приковать к себе внимание герцога. Он был занят, укрощая своего необъезженного скакуна – Нормандию.
Вспыхнувшие волнения заставили Вильгельма отправиться в неспокойный Котантен; он вновь остановился в Валони, где его и настиг гонец на загнанной лошади, который, свалившись с седла, вручил ему запечатанный пакет.
Герцог как раз намеревался двинуться вместе с Сен-Совером дальше на запад. Он был уже в мантии, с оружием; оруженосец держал под уздцы его гарцующего коня; вокруг него собрались рыцари. Вильгельм вскрыл пакет кинжалом и развернул хрупкие листы тряпичной бумаги.
На двух страницах Фитц-Осберн описывал приключившееся несчастье. Не успел герцог переправиться через Вир, как пленник, затаившийся в Арке, нанес Нормандии подлый удар в спину. Он сумел заручиться расположением гарнизона, оставленного надзирать за ним, и вновь стал полновластным хозяином замка, стремительно опустошая окрестности Таллу.
Лицо герцога потемнело; выругавшись, он скомкал письмо. Неель де Сон-Совер с тревогой поинтересовался у него, что случилось, и получил краткий ответ. Герцог швырнул ему скомканные листы; виконт расправил их и принялся читать, а его люди в это время, перешептываясь, гадали, что же будет дальше.
Герцог принял повод своего жеребца Мале у парнишки, который держал его под уздцы, и взлетел в седло прежде, чем виконт Котантен успел дочитать письмо сенешаля до конца. Конь загарцевал под Вильгельмом, торопясь сорваться в галоп.
– Вот теперь я узна́ю, кто из вас готов! – провозгласил герцог. – Теперь увижу, кто готов последовать за мной! В Арк, мессиры! – Он отпустил поводья Мале, и черный боевой скакун рванулся вперед. Люди бросились врассыпную из-под его копыт; еще через мгновение герцога и след простыл.
Вслед за ним устремилось около пятидесяти всадников; в конце кошмарного путешествия их осталось не более шести. Когда они выехали из Валони и достигли Байе, их оказалось еще меньше. В Байе герцог устроил недолгий совет со своим младшим сводным братом, епископом, и через час вновь выступил в путь. Его рыцари упорно следовали за ним, зная, что подобная спешка отнюдь не напрасна. Прямо сейчас к графу Арку могли подойти подкрепления, а если на помощь ему, по слухам, ускоренным маршем шел сам король Франции, то единственная надежда герцога избежать кровопролитной кампании заключалась в том, что следовало достичь Арка первым.
Они миновали Кан и двинулись в сторону Понт-Одеме. Здесь под Жильбером Дюфаи рухнула загнанная лошадь.
– Эй, Жильбер, ты как? – окликнул друга Рауль.
– Чертова кляча, все, она готова, – отозвался Жильбер. – Кто еще остался рядом с Вильгельмом?
– Неель и двое его людей; де Монфорт тоже старается не отставать, как и виконт Авраншен; я сам и, пожалуй, еще пара человек, может, больше. Но в случае даже недолгого промедления я уже не догоню Вильгельма по эту сторону Сены.
– Тогда скачи. Если я сумею раздобыть себе лошадь, то последую за вами. – Жильбер, помахав Раулю рукой, принялся растирать затекшие руки и ноги.
В Кодбеке конь под юношей пал. Герцог остановил свой маленький отряд на берегу реки, где узнал последние новости от лазутчика, высланного отрядом в триста верных ему рыцарей, выступивших против графа Арка раньше. Рауля отправили в столицу с письмом для Фитц-Осберна, и Сен-Совер решил немного проводить его, пустив своего коня шагом.
– Ступайте с Богом, – улыбнувшись, сказал юноша. – Дайте мне хоть раз сыграть роль Хранителя, как бы вам ни было это неприятно.
В ответ Рауль, покачав головой, признался:
– Нет, у меня больше не осталось сил. Я так устал, что через час все равно бы свалился замертво. Не оставляйте его одного, Главный Сокол, потому что он не остановится, даже если вы все до единого падете на дороге.
– Не волнуйтесь за меня, – пообещал виконт и поехал обратно к Вильгельму.
Переправившись через реку, герцог со всей возможной быстротой устремился к Баон-ле-Комту, а уже оттуда поспешил к Арку, пройдя по разоренным землям.
Примерно в лиге от Арка он встретил тот самый отряд, что выступил на защиту его интересов. Их предводитель был настолько потрясен видом своего сюзерена, который, как он полагал, все еще находится в Котантене, что не сразу обрел дар речи.
– Ну же, любезный! – нетерпеливо бросил ему герцог. – Не смотрите на меня так, словно узрели перед собой привидение! Какие у вас новости о моем дяде Арке?
К верному Герлуину Бондвиллю наконец вернулась способность говорить, равно как и его хорошие манеры.
– Прошу прощения, милорд! Я никак не думал так скоро узреть вас здесь.
– Очень может быть, – согласился герцог, – но теперь вы видите меня перед собой, и я жажду услышать от вас новости, клянусь распятием!
Наконец-то уяснив, что от него требуется, Герлуин принялся подробно живописать трагические события в Таллу. Его лазутчики донесли: граф укрепился настолько сильно, что он решил – будет несусветной глупостью атаковать его всего лишь с тремя сотнями своих людей. К Арку присоединились многие лорды; их поступки выглядят просто омерзительно.
– Монсеньор, – откровенно заявил Герлуин, – умоляю вас отступить обратно к Руану, чтобы собрать под своей рукой сильную армию, и тогда уже выступить против мятежников. Нас здесь всего лишь горстка, и нас изрубят на куски.
– Вы так думаете? – осведомился герцог. – Если позволите, дорогой Герлуин, я возглавлю ваших людей и попробую разбить своих мятежников.
– Милорд, милорд, я не дам вам совершить самоубийство! – в смятении вскричал Герлуин.
– Вы полагаете, вам удастся остановить меня? Почему-то я уверен, что лучше вам даже и не пытаться. – Герцог хлопнул Герлуина по плечу. – Неужели вы настолько слабы духом? Говорю вам, как только мятежники узрят меня перед собой, они не осмелятся противостать мне.
– Милорд, нам известно о появлении в окрестностях большого отряда, от которого мы стараемся держаться подальше, поскольку нас очень мало.
– Ха, наконец-то отличные новости! – провозгласил герцог и спрыгнул наземь с измученного коня. – Подайте мне лошадь! – Взгляд его остановился на гнедой кобыле, которая явно приглянулась ему, и он похлопал всадника по колену своим хлыстом. – Слезайте, мой друг! – приятным голосом скомандовал Вильгельм, и тот, несомненно, повиновался, спрашивая себя, как он будет сражаться пешим.
Но герцог не стал забивать себе голову подобными вещами. Сев верхом на чужого коня, он с ходу внес некоторые коррективы в диспозицию своей маленькой армии. Шесть человек, прискакавших верхом вместе с ним из самой Валони, окружили Вильгельма живым щитом, став его личной охраной, и отряд быстрым шагом двинулся вперед, выйдя вскоре на болотистую равнину, протянувшуюся между берегом моря и холмами, на которых и располагался Арк.
Над этими равнинами, близ слияния рек Ольн и Варенн, господствовала узкая земляная коса, где словно птичье гнездо торчал замок. Слева протянулись меловые скалы, охранявшие подступы к морю; справа, вдалеке, густой лес будто карабкался на холмы Арка.
Замок высился на отвесной скале, а глубокий ров у ее основания служил ему дополнительной защитой. Подняться вверх можно было по одной-единственной узкой тропе, да и та обрывалась у второго рва, выкопанного уже под стенами самого замка.
Когда на место прибыл герцог, сторонники графа Гийома возвращались домой после дневных грабежей. Их отряд, ощетинившийся копьями, выглядел весьма внушительно; Ричард, виконт Авраншен, породнившийся с герцогом после женитьбы на его сводной сестре, обменялся унылым взглядом с Неелем и пробормотал герцогу что-то насчет необходимости соблюдать осторожность.
Вместо ответа Вильгельм, подозвав к себе оруженосца, взял у него собственное копье.
– Братец Ричард, – сказал он, – я прекрасно знаю, что мне делать. Когда эти люди увидят, что я прибыл сюда собственной персоной, весь их мятеж очень скоро закончится. – Вильгельм прокричал приказ идти в атаку, и его войско устремилось вниз, на равнину, к подножию скалы, на которой высился замок.
Люди графа Гийома оказались захваченными врасплох; к тому же им мешала награбленная добыча, но они все-таки сумели выстроиться в боевой порядок. Неель де Сен-Совер первым выкрикнул боевой клич «Герцог! Герцог!», подхваченный многими голосами, и воины Герлуина с громовым ревом обрушились на врага.
Лидеры мятежников услышали крик Нееля, а мгновением позже узрели и самого герцога во главе атакующего отряда. Встревоженный гул прокатился по их рядам; люди увидели, как солнечные лучи отражаются от шлема, увенчанного золотым обручем, и после этого мятежников охватила паника. Если уж герцог, которому полагалось в то время находиться на другом конце Нормандии, пересек всю страну, чтобы лично разобраться с Арком, значит, дела их плохи. Мятежники вмиг растеряли весь боевой дух. И лидеры оказались бессильны сплотить этих воинов перед лицом столь страшного противника: все они прекрасно знали, каков Вильгельм в бою. Ужас, охвативший их при виде нового врага, оказался столь силен, что они попятились, а еще через несколько минут, бросая награбленное, обратились в позорное бегство, изо всех сил спеша подняться по узкой тропе и укрыться за стенами замка.
Герцог преследовал их вплоть до самых ворот донжона. Здесь завязалась отчаянная схватка, и одно время даже казалось, что Вильгельм вот-вот ворвется внутрь. Но подоспевшие изнутри подкрепления оттеснили его, и осажденные успели поднять подъемный мост. Со стен полетели дротики; Неель де Сен-Совер схватил коня герцога под уздцы и оттащил его в сторону, вне пределов их досягаемости.
– Господи милосердный, монсеньор! – изумленно выдохнул Герлуин, глядя на Вильгельма округлившимися от восторга глазами, – они бежали, словно олень от стаи гончих!
– Послушайте, мой друг, – заметил герцог, – все-таки я – военачальник, что, похоже, изрядно вас удивляет.
– Монсеньор, мне все ясно, – заявил Герлуин и поехал рядом с Вильгельмом вниз с холма.
Вскоре к герцогу присоединилась армия, которую возглавлял Вальтер Жиффар из Лонгевилля, и мятежники со стен Арка с растущей тревогой наблюдали за начавшимися приготовлениями к осаде. Граф Арк закусил губу, но, заметив, что его командиры дрогнули и пали духом, хрипло рассмеялся, пообещав, что скоро под стены замка придет король Франции и тогда они вместе разобьют герцога.
Король Генрих действительно предпринял попытку снять осаду, но он рассчитывал объединить усилия с графом Гийомом еще до появления герцога. Его Величество перешел границу, прихватив с собой тестя Арка, графа Понтье, захватил приграничный замок Мулен в Иемуа и передал в руки графа Ги Жоффруа Гасконского. Не встречая сопротивления, он ускоренным маршем направился к Арку и, узнав о том, что там произошло, приказал усилить дозоры, чтобы ненароком не напороться на герцога Вильгельма. Король и не подозревал, что его вассал решил поступить по-иному, сдерживая тех союзников, которые с радостью присоединились бы к графу Гийому.
– Пусть Генрих нанесет первый удар, – заявил герцог. – Я ведь еще не отказался от вассальной клятвы, которую принес ему.
А король продвигался вперед, ободренный тем, что от Вильгельма не было ни слуху ни духу. Зато ему донесли – осаду Арка возглавляет Вальтер Жиффар, а вовсе не герцог, и он обрадованно потирал руки, предвкушая скорый конец кампании. Действительно конец оказался скорым, хотя и совсем не таким, на какой рассчитывал король Генрих. К несчастью, Его Величество попал в засаду, устроенную ему у Сент-Обена, и, хотя сам он уцелел, но потерял там бо́льшую часть своей армии, включая незадачливого графа Понтье, коего зарубили прямо у него на глазах. Король почел за благо отступить и вернуться во Францию, тогда как герцог Вильгельм, прослышав о падении Мулена, вернулся к осаде. Король Генрих с запоздалым раздражением сообразил, что столь поспешным захватом собственности герцога освободил того от вассальной клятвы, которую Вильгельм свято соблюдал до последнего. Итак, король Генрих вернулся домой, строя планы покорения Нормандии, а граф Арк, прекрасно знавший собственного племянника, объявил о своем согласии капитулировать, но на определенных условиях.
Кое-кто из его сторонников возражал, утверждая, что замок вполне способен выдержать многомесячную осаду, на что граф с усталым отчаянием ответил:
– Мы позволили Вильгельму отрезать нас от Франции, и наша последняя надежда умерла вместе с позорным отступлением короля. Неужели вы до сих пор не узнали Вильгельма? – Граф, злясь на себя, яростно хлопнул в ладоши. – Кровь Христова, когда он еще лежал в колыбельке, я в шутку сказал Роберту, его отцу: «Нам придется быть осторожными, когда он подрастет». Мои слова оказались поистине пророческими! Лучше бы я задушил его еще тогда, потому что с тех пор герцог чинит мне препятствия на каждом шагу! Все, со мной покончено. – Закрыв лицо полой плаща, он сел и погрузился в мрачные размышления.
– Мы все еще можем разбить его, – с мужеством отчаяния заявил один из друзей Арка. – Почему вы так легко пали духом, граф?
Тот поднял голову и с горечью ответил:
– О, глупец, я знаю, когда надо лезть на рожон, а когда – играть ретираду[31]. Я рассчитывал застать Вильгельма врасплох, но не преуспел в этом. Я проиграл, и нет смысла ждать, когда вокруг меня люди начнут умирать с голоду, чтобы признать это. Нанес удар, но Вильгельм легко отразил его, а возможности нанести второй он мне не даст. – Граф уныло покачал головой, однако затем, взяв себя в руки, сказал: – Думаю, договорюсь с ним на своих условиях. Он не отличается мстительностью. – Уронив голову на руки, Арк в отчаянии прошептал: – Проклятье! Каким же дураком я оказался, поверив французскому королю! Надо было добиваться победы иным путем!
Он отправил к Вильгельму герольда с посланием, составленным в смиренных выражениях, прося того лишь о сохранении жизни для себя и своих людей. Это был политически умный, расчетливый шаг, пусть даже и вызвавший недовольство друзей графа. Гийом безошибочно оценил характер герцога: Вильгельм постарался бы любыми способами добиться капитуляции дяди, но, стоило ему достигнуть своей цели, а врагу – признать поражение, как всякая безжалостность тут же покидала его. Те, кто поносили герцога, называя тираном, глубоко заблуждались; за исключением случаев, когда удавалось пробудить дьявола в Нормандце, он никогда не унижался до мести побежденному противнику. Вильгельм сразу же дал согласие на предложенные ему условия и, когда перед ним распахнулись ворота Арка, вступил в замок в окружении своих рыцарей, а дядю пригласил для приватной беседы.
Граф Гийом пришел один и без оружия, сильный мужчина, вынужденный смирить свою гордыню. Застав герцога наедине, он понял, что Вильгельм решил избавить его от ненужных унижений, и закусил губу, признавая за своим племянником милосердие и ненавидя его за это еще сильнее.
– Дядюшка Гийом, – внезапно проговорил Вильгельм, окидывая его взглядом с головы до ног, – вы поступили очень дурно, причинив мне множество хлопот, и потому пришло время покончить с вами раз и навсегда.
Граф Арк улыбнулся.
– Тебе грех жаловаться, племянник, – ответил он. – Ты завладел моим замком и по-прежнему сидишь на троне, который по праву мог быть моим – faux naistre![32]
– Что до ваших намеков, – откровенно заявил герцог, – даже если я незаконнорожденный, то, по крайней мере, вы не осмелитесь упрекнуть меня в этом. А вот разве у меня нет причин жаловаться на вас, того, кто поклялся мне в верности у моей колыбели?
Граф, не дрогнув, встретил его взгляд.
– Будь ты проклят, Вильгельм, но я погубил бы тебя, если была бы на то Господня воля! – сказал он.
Герцог улыбнулся.
– Что ж, по крайней мере, это честно. Да и для меня это не тайна: вы всегда оставались моим врагом. Какие у вас были дела со старым графом Мортеном, коего я отправил в ссылку? И с Молотом Анжу?[33]
– Оба – крайне ненадежные людишки, как и король Франции, – холодно отозвался граф. – Один я справился бы куда лучше.
– Нисколько в этом не сомневаюсь. – Герцог окинул графа быстрым оценивающим взглядом, в котором, однако, не было враждебности. – Вы возвели множество препятствий на моем пути, дядюшка, но сегодня, полагаю, наступил конец нашей вражды.
Граф вдруг заявил с высокомерной надменностью:
– Ни Ги Бургундский, ни Мартель, ни даже Франция никогда не представляли для тебя такой опасности, как я, Вильгельм.
– Да, потому что мы одной крови; мы с вами – сильные люди, ведущие свой род от самого герцога Роллона, – согласился Вильгельм. – Но вам никогда не победить меня.
Граф отошел к окну и застыл, глядя с высоты на серые мили продуваемой всеми ветрами страны. Мимо окна в крутом пике скользнула чайка, оглашая окрестности скорбным, заунывным криком. Солнце закрыли тучи, а деревья вдали гнулись под напором сильного ветра. Граф смотрел на них, но не видел.
– Клянусь Богом, не понимаю, почему ты до сих пор жив, – пробормотал он, обращаясь то ли к Вильгельму, то ли к самому себе. – Ты уже давно должен был погибнуть, имея таких-то врагов. – Оглянувшись на герцога, он увидел, что тот улыбается своей знаменитой язвительной улыбкой, говорившей о его безмерной уверенности в себе. Граф, подавив вспышку бессильной ярости, ровным голосом проговорил: – Когда ты родился, ходили слухи о каком-то пророчестве и нелепых снах, что снились твоей матери. Я никогда не придавал этому особого значения; и мне никогда и в голову не приходило, что могу предстать перед тобой – вот так. – Он взмахнул рукой и бессильно уронил ее вдоль тела. – Ты родился под счастливой звездой, Вильгельм.
– Я прошел хорошую школу, – отозвался герцог. – Многие готовы были отнять у меня наследство, и вы не последний среди них, но никому не удастся отобрать у меня то, что по праву принадлежит мне одному.
В комнате надолго воцарилась тишина. С каким-то отстраненным интересом граф Арк рассматривал собственного племянника, раздумывая над его последними словами.
– А как насчет того, что принадлежит другим, – того, что ты успеешь отнять у них, пока пески жизни не утекут сквозь твои пальцы? – поинтересовался граф, впившись пронзительным взглядом в лицо герцога. – Да, я совершил глупость, когда предпринял такую попытку, – сказал он наконец. – И что теперь?
– Я забираю Арк себе, – ответил Вильгельм.
Граф кивнул.
– Ты уже подготовил для меня клетку? – осведомился он.
– Нет, – сказал Вильгельм. – Вы можете идти на все четыре стороны.
Граф цинично рассмеялся.
– Если бы я одержал победу, ты бы тотчас оказался в кандалах, Вильгельм.
– Вы поступили бы мудро, – мрачно отозвался герцог.
– Неужели ты не боишься, что, потерпев неудачу сейчас, я могу предпринять новую попытку? – спросил граф.
– Нет, не боюсь, – отозвался Вильгельм.
– Ты отобрал у меня земли и предлагаешь остаться в Нормандии. Благодарю тебя, Вильгельм.
– Я не предлагаю вам ни остаться, ни уехать. Вы вольны в собственном выборе. Я – герцог Нормандии, но вы по-прежнему остаетесь моим дядей, – смягчившись, заявил Вильгельм.
Граф в молчании выслушал его, и в комнате вновь воцарилась долгая тишина. Д’Арка охватил холод поражения; он вдруг почувствовал себя очень старым и бесконечно уставшим. Метнув беглый взгляд на мощную фигуру герцога, граф понял, что завидует ему. Вильгельм был прав: графу никогда не отнять у него Нормандию. Его жизненный путь близился к концу, амбиции остались неудовлетворенными, и на него снизошла странная апатия: Вильгельм еще не достиг поры своего расцвета; перед ним лежала целая жизнь, которую следовало завоевать, и он покорит ее. Дрожь пробежала по телу графа; он вновь почувствовал зависть, зависть к молодости, силе и воинскому таланту другого. С трудом расправив плечи, граф подошел к столу, подле которого стоял герцог, терпеливо глядя на своего дядю. – Я никогда не смогу жить в мире с тобой, Вильгельм, – сказал граф. – Позволь мне уехать из Нормандии.
Герцог кивнул.
– Думаю, вы сделали мудрый выбор, – сказал он. – В Нормандии нет места для нас обоих.
Граф запахнулся в мантию.
– Ты проявил милосердие, – заявил он, – но я не стану благодарить тебя. – Тяжело ступая, он вышел из комнаты, и вскоре эхо его шагов замерло в каменном коридоре.
Глава 5
Очень скоро во Фландрии тоже узнали об этих событиях, но после той неприятной истории, что случилась в Лилле, при дворе графа Болдуина еще долго избегали упоминать имя мстительного герцога Нормандского.
Матильда стала свидетельницей того, как ее сестра возлегла на брачное ложе, а потом и попрощалась с ней, когда та отплыла в Англию с супругом.
– Сохрани Господь выйти за такое ничтожество! – пробормотала Матильда, глядя на раскрасневшуюся физиономию Тостига.
Графиня же Адела язвительно заметила:
– Успокойся, ты закончишь свои дни вдовой, дочь моя.
Матильда скрестила руки на груди.
– Мадам, можете быть уверены, такой исход устроит меня как нельзя лучше.
– Нет нужды разговаривать со мной в подобном тоне, дочь моя, – ответила графиня. – Я прекрасно знаю, что у тебя на уме.
Храня молчание, Матильда отошла от нее, не поднимая глаз. В последнее время она предпочитала держать язык за зубами: поэты воспевали ее ледяную отстраненность; многочисленные и дурно рифмованные стихи восхваляли колдовские глаза леди. Подобные излияния она выслушивала со слабой и загадочной улыбкой на губах, сводившей мужчин с ума от желания обладать ею. Один менестрель из Франции распевал страстные баллады у ее ног, лишившись сна и аппетита от безнадежной любви к ней; она позволила ему поцеловать свою руку, но затем затруднилась бы ответить, какого цвета у него глаза – голубые или карие. Матильда жалела беднягу, однако, пока он заливался соловьем, вспоминала своего неукротимого возлюбленного Вильгельма, спрашивая себя, чем он сейчас занят и правильно ли она обошлась с ним. Погруженный в печаль и уныние поэт удалился; несколько дней Матильде не хватало его, но, когда ей сообщили, что он отправился ко двору в Булони, она, не испытывая ни удивления, ни сожаления, лишь сказала:
– Вот как!
Бродячий торговец привез ей первые известия о Нормандце. Два раза в год купец отправлялся в поездку из Ренна, через всю Францию и Нормандию, пересекал границу в Понтье, заезжал в Булонь, а уже оттуда медленно двигался на север, во Фландрию. В этом году длинный караван его вьючных лошадей прибыл в Брюссель позже обыкновенного. Он привез тончайшие ткани, искусно ограненные драгоценные каменья в золотой оправе, духи́ с Востока, красивые безделушки из Испании, а также эмаль из Лиможа, отказываясь, впрочем, показать свои товары любопытствующим городским кумушкам, пока дамы во дворце не рассмотрят их первыми и не сделают приглянувшиеся им покупки. Купец раскинул изумительную вышивку перед графиней и ее дочерью; фрейлины обеих восторженно ахнули, но Матильда лишь приподняла край жесткой ткани и небрежно выпустила ее из рук.
– Ба, да я сама способна вышивать куда лучше! – только и сказала она.
Графиня выбрала кое-что из предложенного им товара, предложив разыскать ее казначея для оплаты. После того как она удалилась, коробейник попытался прельстить Матильду серебряными зеркалами с эмалевой обратной стороной, филигранными шкатулками для дамских гребней, двузубыми вилками для мяса и флакончиками с драгоценными духами Аравии. Она же небрежно перебирала их своими белыми пальчиками, пока он расхваливал ей их или же предлагал обратить внимание на особенно изящную безделушку.
– А что покупают леди в Нормандии? – вдруг поинтересовалась Матильда.
Торговец тут же разразился пространной речью, искусно вплетая в нее скандальные слухи и просто сплетни; отсюда уже до более важных дел и вопросов оставался лишь один шаг.
– В Нормандии неспокойно, миледи, и дороги для честного купца все еще остаются небезопасными. В Иемуа, например, я потерял двух вьючных лошадей, а одного из моих бездельников убили разбойники. Но герцог непременно наведет порядок. – Он, вытащив из мешка очередной ковер, разложил его перед женщиной. – Миледи, это я приберег лично для вас. У меня было всего два таких, когда я выехал из Ренна, но один приобрел его светлость герцог. Думаю, он купил бы и второй, однако я придержал его. – Купец принялся расхваливать Матильде достоинства ковра, но она прервала его вопросом:
– Неужели герцог Вильгельм ценит подобные вещи?
– Да-да, – сказал торговец, – ведь он – благородный принц и правитель; он всегда требует только самого лучшего, за что и платит, не торгуясь, в отличие от некоторых других, кого мы не будем называть по имени, как то подразумевают правила приличия. Вот, к примеру, граф Булонь! – Торговец недоговорил, выразительно пожав плечами и скорчив многозначительную гримасу. – А вот герцог Вильгельм совсем не таков. Да, угодить ему намного труднее, зато он не трясется над каждой монеткой. Но в этом году мне не повезло, потому что герцог был занят делами. Великими делами, поверьте, миледи.
И вот тогда она узнала о мятеже Бузака. Матильда впитывала рассказ, открыв рот от изумления и восторга; грудь ее бурно вздымалась в такт биению сердца.
– Он победил? – наконец слабым голосом поинтересовалась она.
– Можете быть уверены, миледи. Он слишком быстр, и его враги попросту не поспевают за ним. Великий человек, мудрый и ужасный правитель. Миледи, прошу вас не обойти вниманием вот эти украшения из бирюзы; прекрасные камни, достойные самой королевы.
Матильда купила у торговца кое-что и отпустила его, а сама, присев у окна, глубоко задумалась. Судя по всему, герцог Вильгельм напрочь выбросил ее из головы и сердца, занимаясь государственными делами. Женщина с легкостью представила себе, как из него фонтаном бьет энергия и он принимается за самые неотложные проблемы, намеренно отодвигая все остальное на второй план. Матильда подперла подбородок ладонями. Вспомнит ли он о ней, покончив с насущными вопросами? Ее охватили сомнения; она не могла найти ответ на этот вопрос и с беспокойством заерзала на сиденье. Он должен вспомнить, должен, пусть даже больше никогда не увидит ее лица.
Шли месяцы. Из унылой Нортумбрии прилетело письмецо от Юдифи, а вот из Нормандии не было никаких вестей. Под фасадом невозмутимого спокойствия в душе Матильды кипели нешуточные страсти. Она сгорала от нетерпения. В своих рассуждениях леди исходила из предположения, что Вильгельм непременно предпримет новую атаку на ее оборонительные редуты, и уже из этих соображений планировала свою тактику, которая должна была сделать герцога ее покорным рабом. Но он не давал о себе знать; почему он так вел себя – чтобы помучить ее неизвестностью и разжечь желание или же потому, что больше не хотел видеть Матильду?
Бродячий торговец появился вновь; она набросилась на него с расспросами, но привезенные им новости оказались неутешительными. Герцог пребывал в прекрасном расположении духа, когда купец видел его в последний раз; его светлость купил женские украшения. Коробейник понимающе подмигнул: наверняка намечалась свадьба. Однако подробные расспросы ни к чему не привели. В Нормандии поговаривали, будто герцог намерен сочетаться браком; кое-кто даже называл потенциальных невест, но разве можно сказать заранее, кому из красавиц повезет стать его женой?
Матильда побледнела еще сильнее и осунулась. Фрейлины заметили, как она не мигая смотрит куда-то вдаль расширенными глазами, ничего не замечая вокруг себя; им стало по-настоящему страшно, потому что именно в такие минуты от нее можно было ожидать чего угодно. Но она не обращала на них никакого внимания, и вскоре к ней вернулось прежнее спокойствие вкупе с самообладанием. Они и не подозревали о том, какой ураган бушует в душе леди. Лишь в горячечных мечтах о том, что герцог Нормандии по-прежнему желает ее, Матильда могла обрести успокоение; разговоры о его женитьбе только разжигали ее собственнические инстинкты. Она скрючила пальцы, отчего они стали похожими на когти: ах, если бы он вдруг оказался здесь и сейчас! Если бы она могла вцепиться ими в лицо этой неведомой красавицы! Матильда была уверена, что ненавидит их обоих, и жадно ловила любые новости, доходившие до нее из Нормандии.
Минул год. Если герцог хранил молчание, дабы наказать ее, он добился своего. Неуверенность в собственных силах не давала ей спать по ночам; Матильда срывалась на своих фрейлин и была непозволительно груба с теми придворными льстецами, что пели ей дифирамбы. Среди них оказался и благородный фламандец, положивший свое сердце к ее ногам; она милостиво улыбнулась ему, и он пал на колени, дабы поцеловать подол платья Матильды, величая ее Снежной Принцессой. Возвышенной, Величественной и Неприступной! Она смотрела на него и видела ястребиные глаза Вильгельма, а вскоре и вообще перестала замечать беднягу. Да, это был никуда не годный способ завоевать любовь женщины, пресмыкаясь у ее ног и захлебываясь слезами любовного экстаза! Мужчина должен драться за обладание тем, чего желает его сердце; он должен брать силой, а не выпрашивать; и крепко держать завоеванное, не выпуская из рук, а не застывать в немом обожании. Неудачливый воздыхатель получил отставку; как только он исчез с ее глаз, Матильда едва ли хотя бы вспомнила о нем.
Очередные новости, дошедшие к ним из Нормандии, не имели никакого отношения к женитьбе, зато вплотную касались военных действий и завоеваний. Граф Болдуин, прослышав о событиях в Арке, конфузе французского короля и бегстве графа Ги Жоффрея из-под Мулена еще до того, как туда пожаловал герцог, дабы вернуть свою собственность, долго гладил бороду, после чего задумчиво изрек:
– Это единственный человек, которого я знаю, способный управлять своей судьбой. Дочь моя, ты поступила крайне неразумно, с презрением отвергнув Вильгельма Нормандского.
Матильда ничего не ответила, зато со всем вниманием прислушивалась к разговорам о победах и достижениях герцога, кои вели придворные отца. Те, кто хоть немного разбирался в хитросплетениях нормандской политики, со знанием дела утверждали, что граф д’Арк на протяжении долгих лет оставался злейшим врагом Вильгельма. Мужчины упражнялись в остроумии, живописуя друг другу, что произошло бы, если б герцог нагрянул в Арк уже после появления там короля Генриха или если бы ему не удалось обратить отряд графа в бегство, вследствие чего тот кинулся искать спасения за стенами замка. Болдуин, выслушав все эти мудрствования, сухо заметил:
– Мессиры, во всем христианском мире есть два человека, которые в своих поступках не полагаются на столь заманчивое слово «если». Один из них – герцог Вильгельм, второй – я.
Получив такую отповедь, его придворные смолкли. Граф Болдуин, стоя у окна, меланхолично взирал на расстилавшиеся внизу мирные поля.
– Мы еще услышим о Нормандце, – предрек он. Оторвав взгляд от пейзажа за окном, милостиво взглянул на придворных. – Да, услышим и много интересного, – сказал он. – Валь-э-Дюн, Мелан, Алансон, Домфрон и Арк: боюсь, он преисполнится самомнения. Впрочем, в этом нет ничего удивительного – пока что он не потерпел ни одного поражения, ни единого. – Граф уныло покачал головой.
Его сын, Роберт Фризский, с многозначительной улыбкой заметил:
– Вы полагаете, король Генрих смирится с поражением, милорд?
– Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь, – вздохнул граф Болдуин.
– Я буду удивлен, если в самом ближайшем будущем Франция не вторгнется в Нормандию, чтобы отомстить и отомстить страшно.
– Вы – дальновидный человек, сын мой, – смиренно отозвался старый граф.
Судя по известиям, доходившим до них во Фландрии, удар, отре́завший Гийома д’Арка от его союзников, практически положил конец беспорядкам в Нормандии. Отрывочные сведения о политических мерах – жестком установлении Мира Божьего[34], изгнании из страны недовольных, возвышении проверенных сподвижников – приходили в Брюссель по различным каналам, наглядно демонстрируя одной встревоженной леди, насколько отдалился от нее герцог Вильгельм. Она видела, что впереди его ждут великие дела и он уже вершит их, увлекаемый приливом собственной неуемной энергии. Матильда потянулась к нему, чтобы он остановился, подхватил ее на руки и унес с собой в это грозное и великолепное будущее. Она дрожала всем телом от этого всепоглощающего порыва окликнуть его и призвать к себе; Холодное Сердце трепетало, чувствуя себя совершенно беззащитным, потому что герцог Вильгельм наконец-то заставил ее бояться; так людей страшит неизвестность.
А события тем временем шли своим чередом. Матильда напрягала слух, чтобы уловить последние сплетни о его женитьбе. Молчание Вильгельма покорило ее; она почти лишилась надежды. Готовясь к тому, чтобы с полным самообладанием встретить известия о его неминуемой женитьбе, женщина вдруг задрожала как осиновый лист, узнав о прибытии в Брюссель послов из Нормандии.
Отец позвал за дочерью, и она твердым шагом направилась к нему, скрывая за безмятежностью бурю, что разразилась в ее душе.
Граф Болдуин без обиняков заявил:
– Дочь моя, к нам вновь прибыл мессир Рауль де Харкорт в сопровождении многочисленных высоких сеньоров, чтобы сделать мне одно предложение. Мне донесли, будто он готов вернуться к делу двухлетней давности, что поистине повергает меня в изумление, клянусь всеми святыми! – Граф умолк и окинул свою дочь непривычно строгим взглядом, в котором, однако, сквозило беспокойство. – Я держу слово, Мальд[35], – сказал он. – Не стану силой навязывать тебе второй брак, но, если ты дорожишь собственной шкурой и моей честью, то да не сорвутся вновь с твоих губ неуважительные слова!
– Что я должна буду ответить? – слабым голосом поинтересовалась Матильда.
– То, чего хочет твое собственное сердце, – подчеркнул граф.
– Клянусь Богом, я сама этого не знаю, – ответила она.
Несколько мгновений граф Болдуин в молчании вглядывался в дочь.
– У тебя было целых два года, чтобы понять это, девочка моя, – сухо заметил он.
Матильда смятенно теребила пальцами толстую косу.
– Дайте мне еще час, милорд, – попросила она.
– Дитя мое, – откровенно заявил граф, – у тебя есть время до того, как посланники не предстанут передо мной, и вот тогда ты должна будешь дать им и мне свой ответ, потому что, Богом клянусь, я не намерен говорить от твоего имени во второй раз!
Матильда удалилась, но ей не пришлось ждать долго, прежде чем граф вновь призвал ее в залу для аудиенций.
С колотящимся сердцем, но размеренным шагом, леди двинулась по зале, отметив, что к ней обращены незнакомые лица, пристально ее разглядывающие. Пальцы женщины судорожно сжались в складках атласной bliaut[36]; украдкой метнув из-под полуопущенных ресниц взгляд, она увидела, что на нее с тревогой смотрит Рауль де Харкорт. Ее вдруг охватило ощущение собственного всесилия; губы Матильды дрогнули и сложились в улыбку. Именно этого женщина и добивалась. Поднявшись по ступенькам трона, она опустилась на свое место рядом с отцом.
Граф Болдуин без предисловий обратился к ней. Словно и не было до сих пор никакого предложения, грубо отвергнутого ею, он сообщил ей, что герцог Вильгельм просит ее руки. Она едва слышала его; все ее мысли были заняты одной-единственной проблемой, настоятельно требующей решения. Она краем уха улавливала лишь обрывки того, о чем говорил граф. А тот сообщил ей о полученном от Папы разрешении на брак: Матильда мельком увидела пергаментные свитки; упомянул он и наложенную епитимью: в случае согласия на брак с герцогом Вильгельмом ей придется выстроить храм; однако она смотрела на него невидящим взором, и граф спросил себя, о чем она думает.
Но вот голос его смолк. Матильда продолжала сидеть, выпрямившись на своем табурете, сложив сплетенные пальцы на коленях. Воцарилась тишина столь зловещая, что ей показалась, будто она карающим мечом нависла над ней. Леди Матильда знала: все они ждут от нее ответа, все эти люди, а она не могла придумать, что сказать им.
Она провела кончиком языка по пересохшим губам. Опустив взгляд на свои руки, сложенные на коленях, словно зачарованная, залюбовалась голубоватыми прожилками вен под прозрачной белой кожей. Сын бюргера, отродье дубильщика! Матильда заметила, что атлас ее платья измялся в том месте, где она тискала его пальцами, и принялась машинально разглаживать складки. Да, но если она и во второй раз ответит отказом, то увидит ли его когда-нибудь снова? Впрочем, женщина не была уверена, что действительно хочет увидеть его; стоило ей зажмуриться, как перед ее внутренним взором вставало смуглое лицо герцога с нахмуренными бровями – таким он запомнился ей с их последней встречи, сопровождавшейся яростной перепалкой. Пылкий любовник и грозный супруг! На одном из своих гладких ногтей она вдруг заметила белое пятнышко и принялась внимательно разглядывать его. Холодное Сердце! Неприступная Цитадель! По жилам ее прокатилась волна жара; ей вдруг показалось, что двухлетней давности синяк вновь проступил у нее на коже и налился болью. Отпустить Вильгельма? Она боялась его и ненавидела; он ее не получит.
Граф Болдуин вновь заговорил:
– Дочь моя, мы ожидаем твоего ответа.
Словно издалека, до нее долетел собственный голос, произносящий невероятные, невозможные слова.
– Монсеньор, я согласна, – запинаясь, пролепетала леди Матильда.
Она почти не помнила, что случилось потом. Немного погодя женщина встретилась с Раулем наедине, он поцеловал кончики ее пальцев и пообещал, что все будет хорошо. Матильда непонимающим взором взглянула на него. Заметив ее растерянность, юноша сказал:
– Миледи, не отчаивайтесь. В этом союзе вы обретете великую радость.
В его взгляде светилась нежность, и она почувствовала, как стихают ее тревоги. Негромким голосом Матильда произнесла:
– Мессир, я не понимаю, почему сказала то, что сказала. Мне страшно.
– Мадам, гоните прочь подобные мысли. Если до сих пор вы видели только суровость и непреклонность моего сюзерена, то уже совсем скоро узнаете его с совершенно другой стороны. Вы разве не хотите передать ему какое-либо послание?
– Нет, – ответила она. – А какое послание от него получила я?
– В нем нет слов, миледи, только это. – Рауль разжал кулак, и она увидела у него на ладони массивный перстень. – Герцог поручил мне надеть кольцо вам на палец от его имени, но я решил подождать до тех пор, пока не увижу вас одну, потому что там внизу, в зале, мне показалось, будто вы ошеломлены и растеряны. Пожалуй, вы испытали на себе чрезмерный нажим. – Улыбка осветила его глаза. – Ну, надевайте же, миледи: перстень – его собственный.
Она позволила юноше взять себя за руку. На печатке были выгравированы львы Нормандии; когда Рауль коснулся ее кожи, Матильда вздрогнула; ей показалось, будто в золотом перстне сохранилась частичка притягательной силы герцога; так бывает, когда выброшенная за ненадобностью перчатка еще долго сохраняет тонкий аромат духов. Дрожа всем телом, она прошептала:
– Он слишком велик для меня и слишком тяжел.
Рауль рассмеялся.
– Мадам, я передам герцогу Вильгельму, что он подарил вам перстень, который совершенно не подходит вашей руке.
– Да, прошу вас, передайте, мессир, – сказала она.
Больше Матильда не видела посланцев. Утром они уехали, и об их визите ей на память остался лишь мужской перстень, оттягивающий тонкий дамский пальчик.
Уже на следующий день фрейлины и камеристки приступили к подготовке свадебных нарядов. Иголки и языки так и мелькали в воздухе, а миледи Адела перебирала отрезы льна и тонкого легкого шелка. Что до Матильды, то она поняла: события пошли своим чередом, и от нее более ничего не зависит. Женщина совершенно отстранилась от предсвадебных хлопот, проводя время в одиночестве, и лишь крутила на пальце перстень Вильгельма.
Она полагала, что герцог лично приедет в Брюссель, но он ограничился тем, что прислал полагающиеся в таких случаях подарки да письма, написанные высокопарным слогом на латыни, подписанные «Ego Willelmus cognomine Bastardus»[37]. Глядя на его подпись, она покраснела, спрашивая себя, уж не написал ли он эти слова специально, чтобы подразнить ее. Впоследствии Матильда узнала, что другой подписи у него не было, и невольно рассмеялась, подумав о том, как это на него похоже – столь бесстрашно ткнуть людям в зубы свое происхождение.
Иных известий от герцога не было; поскольку он выдерживал холодную отстраненность, Матильде ничего не оставалось, как предположить, что его страсть к ней угасла. Подобное отношение лишь уязвило и подстегнуло ее гордость, и, когда свадебный кортеж отправился наконец к границе Нормандии, он увозил с собой настороженную женщину, холодную и опасную, держащую себе в руках и готовую ко всему.
Герцог выслал навстречу ей почетный эскорт, дабы сопроводить свою нареченную в Э, где и должно было состояться бракосочетание. Выглядывая в щелочку между занавесок своего паланкина, миледи Матильда увидела буйное разноцветье мантий и блеск стали. Ослепительная роскошь нормандской кавалькады затмила собой великолепие кортежа графа Болдуина. Леди ошеломленно взирала на роскошные одеяния своих сопровождающих и буквально мурлыкала от удовольствия. Каким бы холодным он ни выглядел, герцог Вильгельм стремился поразить невесту пышностью собственного двора, словно павлин, распустивший перья перед самкой.
В Э их встретило шумное изысканное общество. Лицо Матильды прикрывала вуаль, леди вела себя со скромной сдержанностью, но, хотя она старательно не поднимала глаза, от ее внимания ничего не ускользало. Замок был переполнен благородными лордами, а также их женами, рыцарями и управляющими, пажами, камердинерами и церемониймейстерами. Голова у женщины шла кругом, и она с благодарностью позволила увести себя в предоставленные ей апартаменты.
Здесь личные камеристки Матильды, искоса поглядывая на гранд-дам, назначенных герцогом в услужение их госпоже, искупали ее и переодели для первой встречи с женихом. Она предоставила им нарядить себя так, как они считали нужным. Поглядывая в узкие стрельчатые окна на окружающий пейзаж со сгущающимися серыми сумерками, она подумала про себя, что Нормандия кажется ей блеклой и унылой.
К ужину ее свела вниз графиня Адела, которая зашла к дочери в опочивальню, дабы лично убедиться, что камеристки сделали все как надо. Графиня любезно поболтала с нормандскими гранд-дамами, но Матильде, со страхом ожидающей предстоящей церемонии, голос матери показался зловещим.
Они двинулись по бесконечным каменным галереям, со стен которых на Матильду взирали суровые лица, вышитые на гобеленах. Графиня держала дочь под руку; впереди и позади них стройными рядами шли фрейлины, шлейфы их платьев с легким шорохом скользили по каменному полу.
Матильде показалось, что огромный банкетный зал освещен сиянием тысячи свечей. Бесчисленные огоньки слепили ее; проходя по зале к помосту, установленному под высокими окнами в дальнем конце, она видела лишь желтые язычки. Вот леди поднялась на возвышение; до нее донесся сначала голос отца, а потом и другой, более глубокий; по коже ее пробежали мурашки, когда она узнала его. Ее трепещущая рука легла в сильную ладонь, которая, несмотря на всю свою мощь, тоже подрагивала от волнения; перед глазами Матильды все плыло, но она, однако, смутно различила лицо герцога, когда тот склонился над ее пальчиками, целуя их. Он обратился к ней с формальным приветствием и почти сразу же отпустил ее руку. За столом Матильда оказалась рядом с ним, но разговор поддерживала с Фитц-Осберном, сидевшим по другую сторону от нее. А герцог, похоже, все внимание уделял графу Болдуину и его супруге; к Матильде же он обращался как к незнакомке, однако при этом не сводил глаз с ее лица.
Столкнувшись с подобным обращением, она понемногу начала приходить в себя. Взор ее прояснился, и женщина принялась напряженно наблюдать за всем, что происходит вокруг, мило болтая с Фитц-Осберном и приберегая холодную надменность для герцога. Матильда заметила, что на золотом блюде ей подают самые изысканные яства. Впрочем, ела она немного, пила еще меньше и вскоре встала из-за стола вместе с матерью и своими фрейлинами.
Графиня была в полном восторге от Э, с нетерпением ожидая возможности побывать в Руане, где должны были состояться обещанные после бракосочетания празднества и увеселения. Одобрительно отозвавшись о пышной роскоши и великолепном убранстве, которыми окружил их герцог, она пожелала Матильде счастья в браке со столь благородным женихом.
Матильда едва не утонула в огромной постели, со всех сторон завешенной жесткими занавесями, и негромко проговорила:
– Я всем довольна, благодарю вас, мадам.
Глядя вслед матери, выходящей из опочивальни, она спрашивала себя, что означает эта нарочитая холодность герцога. Заснула Матильда очень не скоро, и сон ее был беспокойным; она несколько раз просыпалась посреди ночи, разбуженная кошмарами.
На следующий день женщина увидела герцога только во время церемонии бракосочетания в церкви собора Нотр-Дам-де-Э. Отец взял ее под руку и провел между рядами вельмож, слетевшихся в Э, чтобы поглазеть на свадебные торжества. На ней было длинное платье, расшитое драгоценными камнями, со шлейфом длиной в несколько элей[38], который несли подружки невесты.
Войдя в церковь, Матильда тут же принялась искать и нашла взглядом Вильгельма, стоявшего у ступеней алтаря вместе со своим сводным братом Мортеном и другими лордами, коих она не знала. Его наряд отливал пурпуром и золотом, на боку висел меч, а шлем венчал золотой обруч. С его плеч до самой земли ниспадала мантия, подбитая золотом, что мерцала и переливалась при каждом его движении.
Церемонию провел Одо, молодой епископ Байе, которому помогали епископы Кутанса и Лизье. Несмотря на то что она была вдовой и, соответственно, уже не девицей, четверо рыцарей держали над головой Матильды вуаль.
После того как были принесены брачные обеты, получено благословение и на головы новобрачных надеты венки из цветов, в замке состоялся банкет, где гостей развлекали шуты и акробаты, а менестрели услаждали их слух музыкой. Между столов водили медведя в наморднике, который нес на плечах обезьянку; зверь шел на задних лапах, а потом под ритмичный бой небольшого барабана исполнил неуклюжий танец. Вслед за ним в залу вбежала труппа акробатов, состаящая из мужчин и женщин, а менестрель затянул хвалебную оду в честь герцогини, аккомпанируя себе на арфе и трубе, заканчивая каждую строфу фанфарами.
Уже с самого рассвета слуги графа д’Э развешивали гирлянды цветов, рассыпали по полу свежий тростник и расставляли на столах кулинарные изыски, на приготовление которых ушло целых три дня. Они предназначались не для того, чтобы их ели, а чтобы ими любовались. Некоторые были окрашены в красный цвет; другие – укрыты золотыми листьями под серебряными узорами. На высоком столе перед герцогиней стоял свадебный торт, макушку которого украшал символ желанного исхода брака – фигурка рожающей женщины. На почетном месте красовался павлин, распушивший перья; глядя на его сверкающее оперение, никому бы и в голову не пришло, что птица под ним зажарена и разрезана для угощения гостей на ломти.
Сигнал к началу банкета был дан, когда слуги внесли на плечах голову вепря, лежащую на зеленом поле и обнесенную изгородью из роз; из пасти у нее торчал свиток с поэмой в честь новобрачных. За нею последовала цапля, оленина в собственном соку и прочие изысканные яства, вызвавшие восхищенные крики гостей герцога. Повара выпекли гербы Фландрии и Нормандии, соединив их печатью, на которой было начертано: «Пируйте на сем празднестве и молитесь за герцога, герцогиню, а также их потомков».
Пажи сбивались с ног, разнося кувшины с вином; мужчины, звеня кубками, с громкими криками поднимали тосты за герцогиню. Она сидела на троне рядом с герцогом, улыбаясь и машинально произнося нужные слова, но время от времени искоса поглядывала на его непреклонный профиль. Ощутив на себе взгляд Матильды, Вильгельм повернул голову и взглянул на нее. В глазах его появился блеск и намек на торжествующую, жестокую улыбку.
– Теперь ты принадлежишь мне, жена, – процедил он сквозь зубы.
Она отвернулась, чувствуя, как жаркий румянец заливает ее щеки. Неужели он женился на ней только ради того, чтобы отомстить? Неужели любовь умерла в его сердце? Матерь Божья, смилуйся над ней, если это и в самом деле так!
Матильда подстегнула свое угасающее мужество. К ней обратился граф Роберт д’Э.
– Миледи, – сказал он, – как удалось склонить вас к браку с моим кузеном, когда он столь жестоко обошелся с вами?
Собрав остатки самообладания, Матильда небрежно ответила:
– Видите ли, граф, я решила, что он – человек отчаянной храбрости, раз отважился прибыть и выпороть меня во дворце моего отца; следовательно, подходящий партнер для меня.
– Хорошо сказано, кузина! – зааплодировал Роберт.
Подняв голову, она заметила, что на нее смотрит герцог. Он услышал ее ответ графу, и в глазах Вильгельма появилось выражение, которое можно было истолковать как восхищение. Его рука дрогнула, словно он собирался сжать ее ладонь, но герцог сдержался и лишь стиснул подлокотник своего кресла. Приободрившись, она решила, что наконец-то начинает понимать его. С живостью и остроумием, которые сразу же пришлись по душе ее новым подданным, Матильда продолжала мило болтать с графом д’Э и Мортеном, взиравшим на нее с неприкрытым обожанием.
Банкет затянулся надолго, и гости развеселились. Наконец, сопровождаемые шутками и смехом, женщины, окружив Матильду, увели ее в супружескую спальню.
Она удалилась с улыбкой; бросив последний взгляд на залу внизу, леди увидела, как джентльмены с беззаботным весельем поднимают кубки за ее здоровье, а Вильгельм застыл рядом со своим креслом, глядя на нее из-под черных бровей.
Камеристки раздели Матильду, отложив в сторону тяжелое подвенечное платье; расплели белое золото ее волос и расчесывали их до тех пор, пока они не окружили ее сверкающей завесой. С веселым хихиканьем и ласковыми увещеваниями леди уложили в постель герцога. Снаружи раздались голоса и шорох шагов. Дамы столпились у двери, широко распахнув ее, стоило жениху приблизиться. Его сопровождала смеющаяся компания друзей; у дверей они оставили герцога одного; дамы вышли в коридор, и дверь за Вильгельмом захлопнулась.
Голоса стали глуше; шаги замерли вдали. Герцог на несколько мгновений застыл у порога, в напряженном молчании глядя на новобрачную. В глубине его глаз вспыхивали искорки; губы его были плотно сжаты, словно он сдерживал себя из последних сил. Вильгельм пересек комнату и подошел к кровати.
– Итак, мадам жена! – проговорил он, и в голосе его прозвучали нотки злорадного вожделения. – Как теперь поживают ваши оборонительные редуты?
Глаза Матильды мерцали в темноте. Желание отомстить ему вдруг покинуло ее. Улыбаясь, она сказала:
– Милорд, вы взяли меня в жены для любви или ненависти? Ответьте, я хотела бы знать.
Вильгельм скрестил руки на груди, словно отгораживаясь от Матильды.
– Я взял вас в жены, мадам, потому что поклялся это сделать, а еще потому, что не терплю неудач. И готов штурмовать вас до тех пор, пока вы не поймете – отныне вашим повелителем стал я!
Она выскользнула из-под одеяла из меха горностая, которым укрывалась, и встала перед ним, стройная, ослепительно белоснежная на фоне темного покрывала.
– Думаю, вы не получите радости от этого завоевания, муж мой, – сказала Матильда, глядя ему прямо в глаза. – Мои редуты рухнули, но сумеете ли вы завладеть моим холодным сердцем?
Она стояла так близко к нему, что, казалось, слышит, какая борьба происходит у него в душе. Он схватил ее за плечи, раздвинув золотую завесу ее волос.
– Клянусь Богом, Матильда, я поклялся, что ты не найдешь во мне мягкости! – срывающимся голосом заявил герцог.
Матильда ничего не ответила, но при виде ее соблазнительной улыбки сердце герцога растаяло. Он подхватил жену на руки и крепко, до боли, прижал к себе, целуя в закрытые глаза и губы до тех пор, пока она не задохнулась от желания. Матильда покорилась ему, лед в ее душе растаял, и по телу пробежал жаркий огонь. Едва не теряя сознание от прилива его страсти, она услышала, как он прошептал:
– Да, я люблю тебя! Кровь Христова, у меня больше ничего нет, кроме этой любви, желанная моя!
Часть третья
(1054–1060 гг.)
Мощь Франции
…Французы бросили вызов нашим рыцарям; так пусть же они пожалеют о своей самонадеянности.
Нормандский герольд
Глава 1
Хуберт де Харкорт увидев, как его сын входит в замок Бомон-ле-Роже, решил, что Рауль стал выше ростом. Впрочем, приглядевшись внимательнее, когда тот встал рядом со своими высоченными братьями, отец понял, что ошибался, и спросил себя, как такое могло произойти.
Роже де Бомон – тот самый, который семь лет назад рекомендовал герцогу взять Рауля к себе на службу, – сегодня приветствовал его с большой теплотой и, положив руку на плечо молодому человеку, сам проводил в залу, так что Хуберт даже испугался, что Рауль может возгордиться. Но сын, едва увидев отца, сразу же подошел к нему и смиренно преклонил колени, чтобы получить благословение, глядя на него снизу вверх и улыбаясь со столь искренней радостью, что Хуберту в который уже раз показалось, будто в чертах сына вновь ожила его покойная супруга. Он что-то недовольно проворчал по поводу багряной мантии Рауля, назвав ее щегольской тряпкой, но при этом преисполнился гордости оттого, что его сын одет с куда большей роскошью, чем даже молодой Ричард де Бьенфет, их сосед, специально приглашенный на эту встречу. Когда Рауль поднимался с колен, Хуберт метнул быстрый взгляд ему за спину и с удовлетворением убедился – он прибыл в Бомон-ле-Роже именно с таким эскортом, который и подобает посланцу самого герцога.
Ни для кого не было секретом, зачем Рауль приехал в Эврецин с мандатом от Вильгельма. Вот уже много недель вороны шумно ссорились в кронах высоких деревьев, растущих вокруг Харкорта, но и без этих зловещих предзнаменований войны вся Нормандия знала, что после осады Арка французский король планирует вторгнуться в их страну, чтобы свергнуть герцога. Купцы и бродяги приносили из Франции вести о ведущихся там больших приготовлениях, и, хотя никто не знал в точности, какие именно силы собирает под своей рукой король, по слухам, к нему присоединились даже принцы Гаскони и Оверни. Ничуть не встревоженные, бароны с гордостью отмечали: мощь Нормандии пробуждает в ее соседях великую ревность и зависть. Бароны ничего так не желали, как встретиться с этими важными принцами на поле брани, поэтому, когда Рауль посвятил их в планы герцога, они обменялись разочарованными, унылыми взглядами и на их лицах отразилось явное отвращение.
Рауль сидел во главе длинного стола для советов рядом с Роже де Бомоном, а по обеим сторонам от них двумя рядами расположились прочие сеньоры Эврецина. Он передал Роже письмо герцога, но схоласт из де Бомона был неважный, поскольку юность его прошла в набегах и стычках с соседями, а не за умными книгами. Посему, к большому облегчению всех пожилых вояк, собравшихся за столом, Роже предложил, чтобы Рауль прочел письмо вслух. Итак, Рауль вскрыл пакет, показал им герцогскую печать, при виде которой они с умным видом покивали головами, и медленно прочел весь текст, начиная с обращения Вильгельма к ames et foyables[39] и заканчивая прощанием, а также пожеланием удачи в самом конце.
Сложив листы бумаги, Рауль положил их на стол и с тоской бросил взгляд на Жильбера Дюфаи.
Жильбер и Эдгар держались чуть в стороне от стола для советов, поскольку вызвались сопровождать Рауля исключительно из чувства дружбы, не имея никакого отношения к доставке послания герцога.
– Оно им не нравится, нашим тупоголовым. Рауль не выдержит и засмеется, если ты взглянешь на него, поэтому смотри в другую сторону.
– Знаешь, наверное, я тоже тупоголовый, – заявил Эдгар, – но на месте герцога Нормандии я бы не позволил французам и шагу ступить на территорию моей страны, разве что для того, чтобы пасть на поле брани.
– А я и не сомневался в твоей тупости, – жизнерадостно заявил Жильбер. – Французы превосходят нас численностью три к одному. Во всяком случае, так думает Рауль.
– Послушай, этот план нравится тебе ничуть не больше, чем всем остальным в Нормандии, – возразил Эдгар. – Я слышал, как ты сам говорил об этом.
Жильбер ненадолго задумался.
– Да, это правда, – признал он. – Разумеется, если бы я командовал кампанией, то встретил бы короля Генриха на самой границе, поскольку никогда не слыхал о другом способе выиграть войну, кроме как устроить сражение. Но я верю в Вильгельма. Ты еще не видел, как он воюет. Голова у него полна всяких странных идей и планов, причем они всегда заканчиваются именно так, как он и говорит, хотя все считают их глупыми. Поэтому, даже если ты уверен, что он ошибается, лучше следовать за ним и выполнять его приказы.
– А я все равно называю это трусостью, – с презрением заявил Эдгар. – Кто когда-либо слышал о том, что надобно отступать перед врагом, не нанеся ему хотя бы одного удара?
В глубине души Жильбер был настолько согласен с саксом, что даже не нашелся с ответом, а лишь подтолкнул Эдгара локтем, призывая его к молчанию, чтобы не пропустить ничего из того, о чем шла речь за столом для совета.
Видя, что его сюзерен молчит, Хуберт подал голос.
– И как это следует понимать? – пожелал узнать он. – Не может же герцог иметь в виду, что мы должны беспрепятственно пропустить французов на свою территорию!
– Клянусь честью, это же совет для трусов и ничтожеств, а не для настоящих мужчин! – вскричал Ричард де Бьенфет. – Или мы и впрямь должны позволить французскому королю вторгнуться в Нормандию, и при этом ни один серв не может сказать ему «нет»?
Эйдес, сидевший по другую сторону от своего отца, перегнулся через него к Раулю и, прикрывая рот рукой, сказал:
– Держу пари, ты неправильно прочел приказ, юный дуралей, хоть и мнишь себя великим книгочеем. Пусть кто-нибудь еще взглянет на это письмо!
– Помолчи, – бросил ему Хуберт. – Что ты в этом понимаешь? – Как бы плохо он ни отнесся к распоряжениям герцога, он не собирался позволить Эйдесу критиковать ни их, ни Рауля.
Подняв глаза от стола, Роже де Бомон медленно проговорил:
– Не стану отрицать, эти новости представляются мне весьма странными и непонятными. Что говорят советники герцога?
– Поначалу, сеньор, – тщательно подбирая слова, ответил Рауль, – они им тоже не понравились, но потом и советники поняли, что нынешняя война не похожа на ту, которую мы выиграли при Валь-э-Дюн. Сейчас дела обстоят гораздо серьезнее и требуют большей хитрости.
– И в чем заключается эта самая хитрость? В отступлении? – с нескрываемым сарказмом осведомился Болдуин де Курсель.
– Вы сможете судить об этом, когда война закончится, – вежливо ответил Рауль.
– Позволить королю вторгнуться в Нормандию? – принялся размышлять вслух де Бомон. – Право, для нас, старых вояк, это что-то новое в военном деле.
– Это – всего лишь способ заманить короля в глубь Нормандии, – поправил его Рауль. – Он вторгнется к нам двумя армиями. Одна, под командованием принца Эда, войдет в Нормандию по правому берегу Сены с намерением захватить Ко и Румуа. Вторая, которую он возглавит лично, двинется на запад от Сены через Эврецин, дабы соединиться с принцем Эдом у Руана. С Эдом идут рыцари Эймса и Суассона, Амьена, Мелана и Брие, а также воины Вермандуа. Думаю, под его знаменем пойдет и граф Ги Понтье, а еще, скорее всего, Ральф де Мондидье и Рено Клермон, фавориты короля.
– Как, Понтье снова поднимает голову? – вскричал Анри де Феррьер. – Графу Ги стоило бы напомнить о том, что сталось с его сюзереном в прошлом году под Сент-Обеном!
Его прервал вопросом Ричард де Бьенфет:
– Мессир Рауль, вы перечислили уже многих людей, но говорите, будто это – всего лишь половина тех, кто выступил против нас?
– Они составили армию принца Эда. Не знаю, кто еще из знатных вельмож присоединится к нему, но можно быть уверенным, что против нас встал и Молот Анжу, а графы Шампани и Пуатье, равно как и герцог Аквитанский, присоединятся к первой или второй французским армиям. Король же поведет рыцарей Буржа, Берри и Санса, а также своих вассалов из долины Луары, Перша и Монлери.
Над столом повисла гробовая тишина, которую спустя несколько мгновений нарушил Роже де Бомон:
– Если это правда, то нам понадобится вся воинская хитрость герцога, чтобы устоять перед такой силищей. Но откуда все это известно? Со слов путешественников или же герцог отправил во Францию шпионов?
Рауль принялся разглаживать складки на листах бумаги.
– В общем… – Он немного помолчал, а потом, подняв голову, улыбнулся. – Говоря по правде, мессиры, я только что сам вернулся из Франции.
Хуберт дернулся, как от удара.
– Ты? – не веря своим ушам спросил он. – А что ты делал во Франции, мальчик мой?
– Старался разузнать все, что только возможно, – пояснил Рауль. – Это было не так уж трудно.
Ричард де Бьенфет с любопытством взглянул на молодого человека.
– Неужели? – сказал он. – По правде говоря я бы не отважился на подобное. И как же вы туда отправились, мессир?
– Под видом бродячего торговца, – ответил Рауль. – Но это все пустое. Так что вы можете быть уверены: силы короля именно таковы, какими я описал их и он намерен раздавить Нормандию подобно гнилому ореху. – Юноша плотнее запахнулся в свою багряную мантию, потому что по зале пронесся порыв холодного ветра. – Теперь, мессиры, вы сами видите, мы не в состоянии дать королю Генриху бой прямо на границе, учитывая, какими он располагает подкреплениями. Вам сто́ит выслушать волю герцога. Пусть сервы угоняют скот в леса; нужно убрать корм и зерно подальше от направления движения Генриха, чтобы он не смог найти провиант для своих людей. То же самое будет сделано и к востоку от Сены: этим займется де Гурней. И когда обе армии, углубившись на нашу территорию, окажутся в ловушке, герцог нанесет удар. А вот если мы дадим бой на границе, то нам придется сражаться так, как того желает Генрих, причем в выбранное им время. Тогда как герцог предпочел бы сам выбрать время и место для нанесения удара.
– Но тогда французы сожгут и опустошат весь юг Эврецина! – возразил де Курсель, в первую очередь имея в виду собственные земли.
– Да, они разорят их, – с ноткой нетерпения согласился Рауль, – но если мы примем ваше предложение и встретим их на границе, то французы разорят все герцогство и мы попросту перестанем существовать.
Кто-то в середине стола подал было голос:
– Все это очень хорошо, но во времена Ричарда Сан-Пера…
– Прошу извинить меня, мессир, – перебил его Рауль, – но времена Ричарда Сан-Пера давно миновали.
Получив столь суровую отповедь, любознательный сеньор умолк. Тогда заговорил Роже де Бомон:
– Мы выполним все приказы и повеления герцога. Он опытный и мудрый воин, и, если его поддерживает де Гурней, – что ж, нам этого довольно!
Рауль, искоса взглянув на Жильбера, тут же опустил взгляд, а тот прошептал на ухо Эдгару:
– Если бы старый де Бомон только знал, что сказал де Гурней, выслушав подобный приказ!
– Как и граф д’Э, и милорд Лонгевилль, мессиры, – негромко добавил Рауль.
Эти звучные имена произвели надлежащее впечатление. Неугомонный Жильбер прошептал:
– Разумеется, Вальтер Жиффар всегда говорит то, что хочет услышать герцог, но они-то об этом не знают.
– Однако, по крайней мере, граф д’Э действительно верит в этот план, – возразил Эдгар. – Кстати, он один. Но как искусно лжет Рауль!
А молодой человек уже приступил к рассказу о Совете у герцога, и по его словам выходило: даже Фитц-Осберн, которого все считали сорвиголовой, поддержал герцога в том, что касалось французской кампании. Судя по лукавым искоркам, то и дело вспыхивавшим в глазах Роже де Бомона, Жильбер догадался: тот отлично представляет себе реальное положение дел, зато остальных рассказ Рауля покорил и вдохнул в них веру, так что после непродолжительного обсуждения план был если не одобрен, то принят. Собравшиеся узнали, что восточный отряд возглавят четыре самых важных местных вельможи: де Гурней поведет в бой рыцарей Бре и Вексена; Жиффар Лонгевилль и Гийом Креспен соберут под свои знамена вассалов из Бека и Ко, а граф д’Э станет вожаком рыцарей из Э и Таллу. Герцог же лично возглавит западное крыло армии, которое и будет противостоять королю Генриху, и к нему присоединятся не только люди Ожа, Иемуа, но также все силы Бессена под предводительством Тессона Сингуэлица, а кроме того, бароны Котантена, возглавляемые Главным Ястребом. Эти прославленные имена заставили Хуберта де Харкорта преисполниться гордости, и совет закончился на оптимистической ноте: все его участники уверовали в победу.
По окончании совета состоялся ужин, и к столу из будуара вышла супруга милорда вместе с дочерями, а также Гизела, жена Гилберта де Харкорта, уговорившая мужа взять ее с собой. Она приходилась дальней родственницей Роже де Бомону. За столом Гизела сидела рядом с Раулем. Пожалуй, она была единственным человеком, которому не хотелось говорить о грядущей войне. И, пока Гилберт де Харкорт яростно спорил с Эдгаром относительно порядка ведения военной кампании, а старый Жоффруа де Берне объяснял соседям, как выигрывал свои войны герцог Ричард Сан-Пер, женщина забросала Рауля вопросами о юном Роберте, наследнике герцогства. У нее самой было уже два сына, и через несколько месяцев ей предстояло родить третьего ребенка, так что, когда Рауль признался, что в последнее время милорда Роберта беспокоит кашель, Гизела незамедлительно посоветовала ему снадобье, о котором герцогиня Матильда (будучи иностранкой) могла и не знать.
– Нужно сорвать веточку белой омелы, выросшей над колючим терновым кустом, – с готовностью принялась объяснять женщина, – замочить ее в молоке кобылы, а потом дать милорду Роберту, и кашель как рукой снимет.
Рауль вежливо поблагодарил ее, а Гизела принялась за бекаса под острым соусом, но съела совсем немного, поскольку ее зоркий глаз приметил на столе множество самых разнообразных деликатесов и она вознамерилась перепробовать как можно больше изысканных блюд. Оглядевшись по сторонам, Гизела вслух поинтересовалась, не научит ли ее леди Аделина готовить яблочный мусс и не стоило ли добавить в него чуточку кубебы[40] для остроты. Один из поварят как раз внес из кухни блюдо с кроншнепами, поэтому женщина поспешно доела то, что еще оставалось у нее на тарелке. Птичек подали в керамическом горшочке, и на какое-то время Гизела примолкла, решая, добавлена ли к ним корица или смесь иных сладких трав. Рауль ничем не мог ей помочь, но она в конце концов решила, что туда добавлено всего понемножку, да еще и несколько молотых яблочных зерен в придачу. Внезапно Гизела заметила, что Рауль замолчал, и, подняв на него глаза, увидела – он отсутствующим взглядом смотрит в свой кубок, где на дне еще оставалось немного вина с пряностями. Этот взгляд молодого человека неизменно повергал ее в трепет. Казалось, он отгородился от реального мира, чтобы никто не мог подслушать его мысли. Гизела украдкой смотрела на него с легкой мечтательной грустью и тоской, а он, словно почувствовав на себе взгляд женщины, поднял на нее глаза и улыбнулся. Гизела вышла замуж за Гилберта, настоящего мужчину, крепкого и сильного как бык, но улыбка Рауля запала ей в самое сердце. Устыдившись подобных мыслей, она поспешно отвернулась, понимая, что он – птица совсем иного полета. На мгновение сердце ее пронзило острой болью, однако Гизела сказала себе, что счастлива с Гилбертом и понимает его куда лучше, чем когда-либо сможет понять Рауля. Подавив легкий вздох, она заговорила с Эйдесом, который уже облизывал жирные пальцы, утробно фыркая в ответ.
Хуберт перегнулся через стол, чтобы спросить у Рауля, собирается ли он провести ночь в Харкорте.
– А твои друзья? – добавил он. Рауль согласно кивнул, и Хуберт заявил: – Мне понравился этот сакс. Жаль, что у тебя нет таких плеч, как у него.
– Я предпочту иметь на этих плечах собственную голову, – с широкой улыбкой отозвался Рауль. Молодой человек бросил взгляд на дальний край стола, где все еще ожесточенно спорили Эдгар и Гилберт де Харкорт, используя куски хлеба и кубки с вином для наглядной иллюстрации собственных представлений о ведении военных действий. – Они с Гилбертом совершенно уверены, что провели бы военную кампанию лучше самого герцога.
– На мой взгляд, – заявил Хуберт, – они говорят сущую правду. А теперь скажи мне, Рауль, раз ты такой умный, что означают приказы герцога? Что у него на уме? И что он намерен предпринять?
– Всего лишь дать отпор французам, – ответил Рауль.
– Для этого он выбрал весьма странный способ!
– Не знаю, что тебе сказать, отец. Вильгельм – совсем не дурак.
Эдгар, расслышав последние слова друга, отставил в сторону свой кубок с вином и громко заявил:
– Да, но если мужчина заботится о благе своей страны, он не позволит захватчикам разорить ее.
– Эдгар, ты на три четверти уже пьян, – заметил Рауль. – Будь твоя воля, мы бы отчаянно атаковали обе французские армии сразу, а закончилось бы тем, что Генрих разорил бы все герцогство, а не один его маленький уголок.
– Не понимаю, что ты имеешь в виду, – заявил Эдгар с упрямством выпившего человека. – План Вильгельма, может быть, и хитроумен, но какое дело воину до хитростей?
Слова эти были встречены одобрительным ропотом; однако тут Роже де Бомон решил, что пора и ему сказать свое веское слово:
– Ты помнишь, Рауль, как в Мелане я сказал тебе, что боюсь нашего герцога?
– Да, еще бы. И король Генрих тоже его боится. Это ведь очевидно, не так ли? И будет бояться до конца дней своих, потому что у него есть на то веские причины.
Роже сухо заметил:
– Хм! Насколько я могу судить, друг мой, сегодня король куда сильнее Вильгельма.
Рауль протянул руку к блюду с марципаном и принялся машинально отщипывать мелкие кусочки.
– Вильгельм уверен в своей победе, – сказал он наконец.
– Слепая уверенность молодого человека, – возразил Роже. – Но я уже давно не зеленый юнец. Говорю тебе, не нравится мне это дело. Слишком многое против нас.
– Да, но у нас есть Вильгельм, – парировал Рауль. – Неужели вы не понимаете? Мы все – и король Генрих тоже – думаем, что победить можно только тогда, когда ты сильнее своего врага. Однако Вильгельм полагает, что на войне не все так просто. Мы противопоставим французам не только свою силу. Речь идет о воинском таланте Вильгельма против таланта Генриха. – Рауль допил остатки вина из своего кубка и со стуком опустил его на стол. – А Генрих начисто лишен таланта, насколько я могу судить, – весело заметил он.
– Что за глупости ты несешь? – возмутился Хуберт, который, озадаченно нахмурившись, прислушивался к разговору. – На войне всегда побеждает сила, можешь мне поверить.
Однако юноша лишь упрямо покачал головой в ответ.
– Нет. Только не в этот раз. Вот увидите. Хитрость Вильгельма, а не мощь Франции или наша доблесть выиграет войну.
– Что ж, будем надеяться, ты прав, Рауль, – сказал Роже. – Но мне бы хотелось послушать, что имеет сказать на сей счет Гуго де Гурней.
Рауль искоса взглянул на Роже.
– Он во всеуслышание поддержал герцога, сеньор, – заметил устало.
– Да-да, он сделал то, что должен был сделать, и я, и все настоящие мужчины последуем его примеру. Тем не менее мне бы хотелось, чтобы нами командовал кто-нибудь более опытный в таких делах.
Часом позже Рауль покинул Бомон-ле-Роже и вместе с отцом и братьями направился на север, к Харкорту. Эдгар неспешно ехал впереди с Хубертом, и, поскольку Жильбер Дюфаи предпочел общество Гизелы, Рауль оказался между двух братьев. Некоторое время они хранили молчание; Эйдес вспоминал только что съеденный ужин, а Гилберт исподтишка изучал профиль Рауля. Гилберт вдруг обнаружил, что не помнит, из-за чего он в детстве потешался над Раулем. Разумеется, тому все так же недоставало богатырской стати, коей должен обладать всякий настоящий воин, и он по-прежнему выглядел так, словно заблудился в этом мире, но при том каким-то образом сумел обрести самообладание и выдержку, что произвело на Гилберта неизгладимое впечатление. К тому же нельзя было отрицать, что, несмотря на свою разборчивость, Рауль оказался способен на поразительные вещи: например, отправиться во Францию под видом бродячего торговца или спокойно возражать богатым сеньорам с таким видом, будто сам был одним из них. Словом, он лишь пуще прежнего представлялся Гилберту сплошной загадкой. Невозможно было понять, о чем он думает, а еще у него, оказывается, очаровательная обезоруживающая улыбка, от которой в глазах юноши начинали плясать веселые искорки, причем в момент, когда все остальные не видели решительно ничего смешного. Тяжеловесно размышляя об этом, Гилберт вдруг вспомнил: он и в детстве не догадывался о том, что скрывается за невозмутимостью и спокойствием Рауля. Вот только в прежние времена ему и в голову не приходило допытываться об этом.
Наконец подал голос ехавший по другую сторону Рауля Эйдес. Он думал совсем не о младшем брате; Эйдес вообще никогда и ничему не удивлялся.
– А у тебя отличный жеребец, – заметил Эйдес. – Впрочем, серые в яблоках лошади мне всегда не нравились.
Рауль ласково потрепал своего Бланшфлауэра по шее.
– С чего бы это? – осведомился он.
– Ну, не знаю, – туманно ответил Эйдес. – Я бы, пожалуй, предпочел гнедого, такого, как твой прежний конь, Версерей. Так что советую тебе для боя оседлать именно Версерея – если он будет, этот бой, – угрюмо добавил Эйдес.
– Кровь Христова, разумеется, будет! – высказал презрение Гилберт. – Что за мысли лезут тебе в голову?
– Да все эти разговоры о воинских хитростях и отступлении, – признался Эйдес. – Я слушал ваши беседы, пока ел пудинг. Молодой Рауль рассуждал о том, что войну можно выиграть хитростью, и, судя по вашим речам, кажется, будто вы вознамерились прогнать французов прочь, не нанеся им ни единого удара. – Он громко фыркнул, выражая свое несомненное презрение. – Что ж, я совсем не такой, как Рауль, и не стану ломать голову над тем, что пишут в книгах, и тому подобном. В общем, я ничего не понял.
– Здесь нечем гордиться, – заметил Рауль. – Сначала мы отступим, а потом ударим. Теперь понимаешь?
Но слова его не произвели на Эйдеса особого впечатления.
– Было бы намного лучше сначала ударить, так, чтобы потом нам и отступать бы не пришлось, – сказал Эйдес.
– А ведь в чем-то он прав, – заметил Гилберт.
– Так я и знал, что ты меня поймешь, – с благодарностью отозвался Эйдес.
А вот Рауль ничего не ответил, и Гилберт подумал: «Да он просто не слушает, словно не считает нужным отвечать». Не выдержав молчания, Гилберт язвительно заметил:
– Эй, ты что, спишь или слишком высокого о себе мнения, чтобы обсуждать с нами подобные вещи?
– Нет, просто я сам понимаю далеко не все, – ответил Рауль.
Смягчившись, Гилберт заявил:
– Там, в Бомоне, ты, похоже, понимал все очень хорошо.
– Видишь ли, там мне пришлось объяснять другим. Нет, я, конечно, понимаю план Вильгельма, но не до конца. Хочу сказать, что не знаю, как можно заманить короля Франции в глубь нашей территории или когда именно наступит подходящий момент для нанесения удара.
Гилберт что-то проворчал себе под нос, и некоторое время они ехали молча. Тишину внезапным вопросом нарушил Эйдес:
– А почему сакс носит бороду? Это что – обет какой-то или епитимья?
– Ни то, ни другое. Все саксы носят бороды, – отозвался Рауль.
На лице Эйдеса отразилось удивление.
– Что за блажь? – заметил он. – Пусть он лучше сбреет ее.
– Не вздумай сказать ему об этом, – оживился Рауль. – Он очень ею гордится.
– Не понимаю, как можно гордиться бородой, – заявил Эйдес. – С нею он похож на варвара.
– Постарайся, чтобы он не услышал и этого, – посоветовал Рауль брату.
Гилберт отстал, поравнявшись с супругой, и, поскольку Эйдесу нечего было больше сказать ни по поводу предстоящего вторжения, ни о бороде сакса, до самого Харкорта они с Раулем не обменялись ни словом.
Уже на рассвете следующего дня Рауль вместе со своим эскортом готовился отправиться обратно в Руан. Гизела дала молодому человеку сумку с едой на дорогу: дамасские пирожки[41], которые она испекла собственноручно, и несколько ломтиков сала, завернутых в чистую тряпицу. Но когда он поцеловал ее на прощание, она вдруг сунула ему в ладонь крошечный предмет, прошептав, что он должен носить его, дабы уберечься от беды.
Рауль опустил взгляд на подарок и увидел маленький мешочек на шелковом шнурке.
– Вот спасибо, сестренка, – сказал молодой человек. – Что это?
– Это оберег на счастье, Рауль, – застенчиво ответила Гизела, робко подняв на него взгляд и тут же снова опустив его. – Ты должен носить его на шее. Там лежит голова жука-рогача, и она спасет тебя от несчастья.
Рауль с опаской покрутил мешочек в пальцах, но, поскольку Гизела явно тревожилась, что он откажется взять его, надел шнурок на шею, а мешочек спрятал под тунику. Сев в седло, он помахал ей на прощание и пустил коня шагом по мосту, направляясь вслед за своими друзьями.
До Руана они добрались быстро, а там уже по мощеным улицам было рукой подать и до дворца, переполненного гостями. Днем ранее туда прибыл виконт Котантен в сопровождении своих главных вассалов, а сегодня утром пожаловал и граф Мортен.
Спрыгнув со спины Бланшфлауэра, Рауль принялся соскребать дорожную грязь с мягких сапожек. Гилберт и Эдгар разошлись по своим комнатам, на прощание крикнув Раулю, что увидятся за ужином. Сам же он легко взбежал по наружной лестнице к главным воротам дворца и вошел в сводчатую залу. Здесь он встретил Мортена, направлявшегося во внутренний двор, и остановился, взмахнув ему рукой.
Грубое лицо Мортена просветлело.
– Кого я вижу! Приветствую тебя, Рауль! А Вильгельм как раз спрашивал, не вернулся ли ты. Слышал, что он собирается сделать? Он все-таки сумел убедить де Гурнея.
– Так я и думал, – ответил Рауль. – А ты сам когда приехал, Мортен?
– Да что-то около часа тому. Своим вассалам я приказал присоединиться ко мне в Эвре. Сан-Совер уже здесь, и Монтгомери тоже, а Грантмеснил прибыл еще вчера. Вильгельм, кстати, сохраняет абсолютное спокойствие. – Мортен медленно улыбнулся, отчего глаза его превратились в щелочки. – Герцогине приснилось, будто новый сокол Вильгельма поймал свою добычу, что, как говорят, является верным предзнаменованием успеха. – Гортанно рассмеявшись, он пошел по своим делам.
Рауль же взбежал по лестнице к себе в спальню и, кликнув пажа, стал снимать забрызганные грязью тунику и штаны.
Смыв с себя дорожные пыль и пот, молодой человек переоделся в чистое, а затем отправился в один из залов для приемов, расположенных наверху, где, как ему сказали, пребывает герцог. Арочный проход был занавешен гобеленом; паж откинул его в сторону, и Рауль вошел, застав герцога в комнате вдвоем с герцогиней.
Молодой человек остановился на пороге, намереваясь тихо удалиться. Вильгельм, нахмурившись, поднял было голову, но, когда увидел, кто пришел, чело его разгладилось, и он добродушно приветствовал своего сподвижника:
– Как раз вовремя, Рауль! Какие новости?
– Они недовольны, монсеньор, но возражать не посмеют. На Роже де Бомона можно положиться в том, что он проследит, чтобы все было сделано как надо. – С этими словами юноша преклонил колено перед Матильдой. Одного быстрого взгляда на ее лицо ему хватило, чтобы понять – она в гневе; но грозовые тучи рассеялись, когда герцогиня протянула ему свою руку. – Мадам, как здоровье милорда Роберта? – вежливо осведомился он.
– С ним все в порядке, – ответила Матильда. По ее губам скользнула торжествующая улыбка. – Он уже больше мальчишки Мортена, а ведь тот старше него на целый месяц, – удовлетворенно заметила леди. Рауль представил себе, как она сравнивает своего первенца с наследником Мортена к неудовольствию супруги последнего, и в глазах у него заблестели смешинки. – Кроме того, мне представляется, – продолжала Матильда, – что он намного красивее. Хотя милорд этого не замечает, я уверена, от твоего внимания это не укроется, Рауль.
Вильгельм же подтолкнул по столу к Раулю стопку каких-то документов.
– Я получил их от Лонгевилля. Он выполняет мою волю, хотя она ему и не нравится, – со смехом заметил герцог. – Как и всем, включая присутствующую здесь Мальд. Она бы уже поссорилась со мной, если бы я пошел ей в этом навстречу, не правда ли, сердце мое?
Герцогиня подошла к столу, придерживая подол своего длинного платья. Мрачное, нахмуренное выражение вновь вернулось на ее лицо.
– Я бы хотела, чтобы ты поступил так, как они предлагают, – со сдержанной страстью заявила Матильда, и пальцы ее сжались в кулачки. – Я хочу, чтобы ты сразился с королем и победил его.
А Вильгельм следил за Раулем, который читал доклад Жиффара.
– Мадам супруга, управляйте своим ребенком, а мне предоставьте править моим герцогством, – беззлобно отозвался он.
– Тебя называют Воинственным Герцогом, – настаивала она. – Мне нравится, когда мужчина ведет сражение с судьбой до последнего.
– Именно так я и делаю, – сказал Вильгельм, не сводя глаз с Рауля.
– Встреть короля лицом к лицу, – упорствовала она. – Не позволяй ему вступить в пределы Нормандии. Ах, если бы я была мужчиной!
При этих словах герцог повернулся и с некоторым изумлением уставился на супругу. В глазах ее горело прежнее голодное пламя. Заметив его, он рассмеялся и взял ее за тонкое запястье.
– Святая Дева Мария, а ты жестока, девочка моя! Успокойся, я прогоню короля прочь.
– Но вы не намерены драться с ним, монсеньор, – негромко проговорила она. – От меня не укрылось это ваше намерение.
Герцог начал раскачивать ее руку взад и вперед. В глазах у него появилось хорошо знакомое сосредоточенное выражение, как будто он пытался заглянуть в будущее.
– Да, я не хочу сражаться с Генрихом, – подтвердил Вильгельм.
Она впилась взглядом в его лицо, силясь понять, что он имеет в виду.
– Значит, он должен отобрать у твоего сына его наследство? – спросила Матильда. – А я говорю, ты не должен уступить ему ни пяди земли, ни единой пограничной крепости!
– Так я и сделаю.
– И что дальше? – Герцогиня наклонилась к Вильгельму, коснувшись платьем его руки.
– Если мне удастся рассеять бельгийское войско принца Эда, – медленно проговорил герцог, – я смогу избежать столкновения с самим Генрихом. Я хорошо знаю его. Помяни мое слово, он со всех ног бросится бежать обратно во Францию. – Пальцы Вильгельма машинально стиснули ее запястье, но она, похоже, не почувствовала боли. Внезапно герцог улыбнулся. – Доверься мне, мы заключим мир, который будет достоин нашего Роберта, – сказал он.
Матильда разочарованно покачала головой.
– Я хочу, чтобы ты сокрушил короля. Ты ведь можешь это сделать. Так почему же сознательно избегаешь его?
Вильгельм отпустил ее руку и вернулся к бумагам.
– Послушай, Мальд, он – мой сюзерен, – нетерпеливо бросил герцог. – Тебе этого не понять.
От двери прозвучал чей-то голос.
– Братец Вильгельм и сам сюзерен. Да хранит тебя Господь, сестра, и сжалится над дураком. – Из-за гобелена выскользнул Гале, уселся, поджав под себя ноги, на пол, усыпанный тростником, и принялся забавляться бараньими костями, бросая их перед собой и вглядываясь в узор, бормоча что-то себе под нос и кривляясь.
– Что это ты делаешь? – с любопытством, к которому примешивалось презрение, поинтересовалась Матильда.
– Предсказываю будущее, хозяйка, чтобы увидеть, какое наследство достанется милорду Роберту. – Склонившись над костями, шут внезапно сгреб их в кучу. – Э-э, оно слишком велико для меня, и слишком велико для него, чтобы он смог удержать его! – вскричал шут и, подпрыгнув, принялся выделывать коленца, пока Вильгельм читал бумаги, а Матильда с тревогой и дурными предчувствиями смотрела на разбросанные по полу кости.
Глава 2
Под звуки фанфар и барабанов, трепет серебристых, красных и голубых стягов король Генрих нарушил границу Нормандии. Он вел за собой цвет своего рыцарства; рядом с ним покачивались в седлах могучие принцы, а в ушах у него отдавался рев труб, звяканье лошадиной сбруи, скрип повозок и тачек.
Под его штандарт стекались вассалы изо всех уголков его доминионов. Здесь были Тибо, великий граф Шампани; молодой герцог Аквитании; принц Невер; вон там трепещет герб Оверни, а рядом ветер развевает полотнище стяга Ангулема. Конные и пешие, лорды, рыцари, оруженосцы и рядовые дружинники стальной рекой текли через границу, разрушая все на своем пути. Они стремились к Руану, который был конечной целью кампании, а наградой в ней должны были стать позор и свержение герцога.
Весь мир, от Вермандуа до Пиренеев, обнажил меч против Вильгельма. Целых семь лет его вассалы наблюдали, как Нормандец сплачивает герцогство в единое целое, отнимает у Мартеля города в Мэне и дает отпор своему сюзерену с большими потерями для последнего, понемногу расширяя границы собственных владений. Те, кто, подобно Жоффруа, графу Гасконскому, и Гийому Овернскому четыре года тому засы́пали Нормандию панегириками и подарками, сегодня отправили туда вооруженных людей. Восхищение сменилось страхом перед растущей силой Вильгельма и черной завистью к его победам. И пусть Молот Анжу не отважился лично явиться на поле брани, его место заняли другие: могущественные графы со всех концов страны, во главе собственных дружин, на благородных конях, разодетые в шелка и бархат, бросающие в лицо Нормандии разноцветье своих стягов.
– Ха, сир! И где же укрывается сейчас Нормандский Бастард? – вскричал Рено де Невер. – Хэй! Хэй! Обложим Волка в его логове!
Под шлемом лицо Генриха выглядело изможденным и землисто-серым.
– Что, Вильгельма нигде не видно? – пробормотал он и принялся выдирать волоски из своей бородки. – Странно, клянусь Девой Марией, очень странно! Неужели он отказался от мысли встретить меня на границе? А ведь герцог – гордец, каких мало!
– Вильгельм отступил к Руану, сир, – уверенно заявил граф Сен-Поль. – Разве может он противостоять нашей армии? Если принц Эд не станет медлить и пройдет от Ко к Руану, мы возьмем Бастарда в клещи и раздавим.
Но в Руане нормандской армии не было; правда, король об этом не знал. К востоку от Сены старый Гуго де Гурней встал лагерем на холмах Дримкура, глядя на пожарища к югу, знаменовавшие медленное продвижение принца Эда; а лазутчики, отправленные графом Робертом д’Э вдоль реки Андель, каждый день доносили о передвижении войск противника, в то время как люди графа все сильнее выражали недовольство его политикой выжидания, наточив мечи едва ли не до остроты бритвы. Принц же Эд переправился вброд через Эпт, и его армия медленно потащилась далее, нагруженная награбленным добром, оставляя за собой кровавый след пожарищ и разрушений.
А к западу от Сены герцог Вильгельм медленно отступал перед королевской армией, одновременно беспокоя ее дерзкими налетами. Легкий успех опьянил французов. Женщин, которые попадались им на пути, они забирали с собой, мужчин, что не успели уйти из домов, убивали на месте или подвергали жесточайшим пыткам. Неудивительно поэтому, что бароны Вильгельма готовы были сорваться с цепи, которую он крепко держал обеими руками. Жизнь обычного жалкого серва не имела для них никакого значения, если только его не убивал чужеземный тиран; но когда такое случалось, нормандские мечи выхватывались из ножен, и сеньоры готовы были защищать соотечественников до последней капли крови. Они могли угнетать собственных холопов невозбранно, ежели им приходила в голову такая блажь, но ни один чужеземец не смел и пальцем тронуть раба либо свободного человека Нормандии. Французский король посмел, и они готовы были наброситься на него здесь и сейчас; даже виконт Котантен, поклявшийся, что последует за герцогом хоть к черту в зубы, полагал его безумцем, не дающим своей армии вступить в бой.
– Сеньор, – в отчаянии заявил он, – люди называют вас трусом!
– Неужели, Неель? – угрюмо ответил герцог. – Но они хотя бы не называют меня Торопыгой-дураком, и на том спасибо!
– Мы ведь можем рассеять врагов, монсеньор. Награбленное добро лишает негодяев свободы маневра, их люди стали неуправляемыми, а лидеры – беззаботными, слишком рано уверовавшими в легкую победу!
– Главный Сокол, сколько людей, по-вашему, мы можем потерять в этой стычке? – спросил Вильгельм.
Неель ответил ему непонимающим взглядом.
– Qi de ceo? Какое это имеет значение? – сказал он. – Мужчины должны погибать в бою. Какое значение будут иметь потери, если мы прогоним короля прочь?
– Отличный совет! – грубо отозвался Вильгельм. – Да подумайте же хоть немного о будущем, виконт! Что вы мне сможете предложить, когда король вернется со свежими силами, чтобы покорить и уничтожить меня, а половина моих солдат останется лежать на этих равнинах? – А потом, видя, что Сен-Совер пристыженно умолк, герцог добавил: – Верьте мне, Неель: я обращу короля в бегство, но это он должен потерять людей в стычке, а не я.
Они взглянули друг другу в глаза. Неель поднес руку к шлему и отдал честь.
– Монсеньор, правы ли вы или же ошибаетесь, я пойду за вами до конца, – сказал он.
Его речи почти слово в слово повторил Тессон Сингуэлиц, когда вернулся из вылазки против фуражиров французской армии; правда, он счел, что сейчас самое время нанести удар.
– Послушайте, монсеньор, мои люди вкусили крови, – сказал Сингуэлиц, снимая латные перчатки. – Как вы думаете, смогу я удержать их и не дать им вцепиться королю в глотку, а?
Но герцог слишком хорошо знал своего верного сподвижника.
– Они что же, чересчур сильны для тебя, Тессон? – с обманчивой мягкостью поинтересовался Вильгельм.
– Богом клянусь, нет конечно! – опешил владетель Сингуэлица.
– И ты для меня тоже не слишком силен, – продолжал Вильгельм. – И я говорю тебе: не дай им вцепиться Генриху в глотку.
Владетель Сингуэлица громко расхохотался.
– Я получил свой ответ. – Он повернулся, когда в шатер вошел Рауль, и кивнул ему. – Что ж, мессир Рауль, как видите, я вернулся. А вот тридцать человек короля к нему больше не присоединятся, – самодовольно сообщил Тессон.
– Да, я слышал, – улыбнулся Рауль. – Постарайтесь не сожрать все войско Генриха, пока я не вернусь, чтобы посмотреть, как вы это делаете.
– А, так вы отправляетесь на восток, друг мой? Вам нужен эскорт?
Рауль лишь отрицательно покачал головой, а Тессон продолжал:
– Что ж, да хранит вас Господь. Привезите нам хорошие известия от Роберта д’Э. – Сингуэлиц вышел, и полог шатра громко хлопнул ему вслед.
Рауль выехал из лагеря на закате, направляясь на северо-восток, в сторону Сены. Он уже не впервые исполнял роль связного между герцогом и командирами его восточных отрядов, но отцу, который провожал сына, вдруг захотелось, чтобы вместо него отправился кто-нибудь другой. Одинокого всадника, едущего по разоренной войной территории, могли подстерегать любые напасти, а его никак не покидало ощущение, что Рауль как раз из тех людей, кто с легкостью может угодить в лапы неприятеля. Отец смотрел Раулю вслед, пока тот не скрылся из виду, а когда медленно повернулся, чтобы идти к себе, то обнаружил – рядом с ним стоит Жильбер Дюфаи. Хуберт не хотел, чтобы кто-нибудь догадался о том, что он переживает из-за сына, посему лишь молодецки расправил плечи и небрежно заявил: надеется, Рауль не заснет и не свалится с коня, прежде чем доберется до лагеря графа д’Э.
Жильбер зашагал рядом с ним и с улыбкой сказал:
– Что за странное все-таки создание Рауль! Он уверяет, будто не любит драться, но, когда требуется доброволец для такой вот поездки, всегда вызывается первым. Ваш сын решил, что в начале года сам должен привезти сведения из Франции. Откровенно говоря, я не думал, что он выйдет из этого дела живым, а что до Эдгара, который считает, будто тот, кто не может поспорить с ним шириной плеч, вообще ни на что не годен, так вот, он принялся оплакивать его, не успел Рауль двинуться в путь.
– Ну, – заявил Хуберт, преисполнившись некоторой важности, – Рауль может, конечно, иногда придерживаться совершенно дурацких идей, но при всем при том у него есть голова на плечах, и, полагаю, он сумеет позаботиться о себе в случае необходимости.
– Вот именно, – согласился Жильбер. – Хотя по его виду этого не скажешь, а послушать его, так можно подумать, будто ему отроду не доводилось держать меч в руке или совершать что-либо необычное. – Он сделал паузу. – Наверное, именно поэтому его все так любят. Он не хвастает, подобно всем нам, и, несмотря на то что уверяет, будто ненавидит проливать кровь, дерется не хуже любого из нас. Я сам видел, как он перере́зал горло с такой легкостью, что залюбуешься, – добавил Жильбер и коротко рассмеялся.
– В самом деле? – спросил явно польщенный Хуберт. – А когда это случилось, мессир Жильбер?
– В прошлом году, под Сент-Обеном, когда мы гнали французов. Мы с ним подобрались к самым передовым позициям, чтобы посмотреть, как расположились французы, и в темноте наткнулись на часового. Рауль зарезал его, так что тот даже пикнуть не успел.
История эта приободрила Хуберта, и в собственные покои он вернулся в приподнятом расположении духа, представляя, как Рауль с легкостью перерезает глотки всем тем, кто вздумает помешать ему в его нынешнем опасном предприятии.
Тем временем французы тяжеловесно и неторопливо продолжали двигаться вперед. Их отряды фуражиров не могли найти зерна, а те, кто отправлялся в леса на поиски угнанного скота, редко возвращались обратно. Однако дома́, монастыри и церкви по-прежнему являли собой легкую добычу, там многим можно было поживиться, посему страх быть отрезанными нормандцами от основных сил не останавливал французскую солдатню, отправлявшуюся в подобные набеги.
А нормандская армия по-прежнему держалась на почтительном отдалении от захватчиков, высылая небольшие карательные отряды, донимавшие короля своими комариными укусами.
Советники Генриха полагали, что им нечего опасаться герцога, и потому его болезненные налеты не слишком их беспокоили. Они не сомневались – именно их продвижение вперед вынуждает его отступать, осталось лишь зажать его в тиски вместе с принцем Эдом, чтобы наконец заставить принять бой. Но Генрих, помня блеск этих ястребиных глаз, сохранял бдительность, приказывая выставлять часовых по ночам и каждый день ожидая, что ему придется отражать одно из внезапных нападений, на которые герцог был большой мастер.
От своего брата, идущего во главе бельгийского войска, Генрих получал лишь отрывочные известия. Многие французские лазутчики, выступившие из лагеря Эда, попросту исчезали без вести, а их донесения нередко попадали в руки герцога Вильгельма.
В лагере нормандцев тревога поселилась в трех сердцах, но король Генрих ничего не знал об этом, как не подумал бы и придать значение тому факту, что об одном нормандском рыцаре вот уже пять дней не было ни слуху ни духу. Однако каждое утро герцог Вильгельм, открывая глаза, первым делом задавал своим людям один и тот же вопрос: «Рауль вернулся?» Когда же они отвечали: «Еще нет, монсеньор», он не подавал виду, что расстроен, и лишь крепче сжимал губы, а потом с головой погружался в ежедневные заботы, так что у него не оставалось времени тревожиться о судьбе своего любимца.
А вот отцу и другу Рауля не удавалось с такой же легкостью скрыть беспокойство. У Хуберта вытянулось лицо, а в груди поселилось недовольство и обида; Жильбер же, по большей части, хранил молчание, предпочитая день и ночь околачиваться вокруг аванпостов лагеря. Однажды Хуберт зашел к герцогу по какому-то делу, и, когда уже выходил из его шатра, Вильгельм обронил:
– Я отправил лазутчиков в Дримкур.
– Какой прок будет от этого моему сыну, сеньор? – ответил Хуберт.
Вильгельм, сделав вид, что не заметил угрюмого уныния в его голосе, пояснил:
– Я должен знать, что с ним случилось.
Хуберт фыркнул. Его негодующий взгляд встретился с глазами Вильгельма; ему показалось, что под маской самообладания герцога он заметил тень снедавшей его тревоги, поэтому мужчина вспомнил – Вильгельм тоже был другом Рауля. Хуберт отвел глаза, прочистил горло и грубовато заметил:
– Я надеюсь, с ним все в порядке.
– Я тоже, – сказал герцог. – Он дорог мне: у меня больше нет таких друзей.
– Я совершенно уверен, что он цел и невредим, – упрямо продолжал Хуберт. – Я не собираюсь лишаться сна из-за Рауля, поскольку мальчик наверняка неплохо устроился в лагере графа Роберта, пока мы его оплакиваем здесь.
Но, несмотря на столь храбрые речи, Хуберт все-таки лишился сна и покоя из-за Рауля. В тот вечер он не пожелал присоединяться к своим друзьям, кои предполагали провести несколько часов за игрой в кости, а улегся на тюфяк, накрывшись мантией и прислушиваясь к звукам, долетавшим снаружи. Они были самыми обыкновенными: вот в лесу к западу от лагеря завыл волк; изредка доносился храп или стоны людей, спавших под звездами, или же негромкий сонный шепот; трещали костры, разбрасывая искры; да время от времени лошади, привязанные к столбам, вбитым в землю, фыркали, переступая ногами, и грызли удила. В этих звуках не было ничего необычного, что могло бы привлечь внимание Хуберта, но вдруг ему показалось, будто он слышит топот копыт коня, галопом приближающегося к лагерю. Приподнявшись на локте, он прислушался: топот стал громче, ошибиться было нельзя; Хуберт вскочил со своего тюфяка как раз в тот момент, когда с ближайшего сторожевого поста донесся громкий окрик.
В волнении он даже не заметил, что закутался в мантию, вывернутую наизнанку, и поспешил в ту сторону, откуда донеслись звуки неожиданной суматохи и оживления. Его догнали Жильбер Дюфаи и молодой Ральф де Тони, игравшие в шахматы при свете факела.
– Вы слышали сигнал тревоги? – спросил Жильбер. – Это французы или Рауль?
Впереди из темноты возник большой шатер Вильгельма. Чувствуя себя полным дураком, Хуберт проворчал:
– Скорее всего, ни то и ни другое. Нет никакого смысла бежать сломя голову и расспрашивать часовых.
Он окинул суровым взглядом Жильбера, и тот тактично ответил:
– Да, согласен, но мы можем подождать здесь и посмотреть, кто это.
Полог шатра герцога откинулся в сторону; в проеме стоял Вильгельм.
– Что это за всадник? – резко бросил он.
– Не знаю, монсеньор, – начал было Жильбер, – но, думаю…
– Ступайте, чтобы узнать, и доложите мне, кто приехал, – распорядился герцог. В лунном свете он заметил стоявшего чуть поодаль Хуберта и властно поманил его к себе пальцем. Заметив, что мантия на старом воине надета наизнанку, Вильгельм ласково сказал: – Если это Рауль, он сразу же придет к моему шатру. Давайте подождем вместе, скоро мы все узнаем.
Вслед за герцогом Хуберт последовал в шатер, где уже сидел граф Мортен, и начал было объяснять, что он вскочил с тюфяка вовсе не за тем, чтобы посмотреть, Рауль это прибыл или нет, а просто случайно оказался возле жилища Вильгельма, когда прозвучал сигнал тревоги. Но договорить ему не дали, потому что уже через несколько минут снаружи раздались шаги, кто-то откинул полог, и внутрь, пошатываясь, вошел Рауль, держась одной рукой за стену шатра и моргая от света ламп, что свисали с центрального шеста. Лицо его посерело от усталости, глаза ввалились и покраснели, а левая рука, безвольно висевшая вдоль тела, была небрежно замотана окровавленным шарфом.
– Хвала Господу! – воскликнул герцог; подойдя к Раулю, он силой усадил его в собственное кресло с подлокотниками, стоявшее у стола. – Последние три дня я уже считал тебя мертвым, друг мой, – сказал Вильгельм. Рука его легонько сжала плечо Рауля; он бросил нетерпеливый взгляд на своего сводного брата. – Вина, Роберт!
Мортен уже и сам наливал вино в рог из походной фляги, стоявшей на столе. Хуберт выхватил рог у него из рук и поднес его к устам Рауля, будто у сына не было сил удержать его самому.
По губам Рауля скользнула слабая улыбка, когда он принял рог и надолго приложился к нему. Испустив тяжелый вздох, он затуманенным взором обвел три склонившихся над ним напряженных лица. Жильбер, тихонько скользнувший в шатер вслед за остальными, заметив, что из-под грубой повязки сочится кровь, быстро сказал: «Сейчас я приведу лекаря!» – и выскочил вон.
– Мне не нужен лекарь, – заплетающимся от усталости голосом проговорил Рауль. Выпрямившись в кресле, он взглянул на герцога. – Я не мог приехать раньше.
– Какие известия ты мне привез, Рауль? – осведомился герцог. – Где остановился принц Эд?
Рауль смахнул влажные пряди волос, прилипшие ко лбу.
– Бежал… вместе со всеми. – Юноша содрогнулся. – В Мортемере остались десять тысяч трупов. Я задержался, чтобы узнать и рассказать, чем все закончилось. – Порывшись в кошеле на поясе, Рауль вынул оттуда запечатанный пакет. – Это от графа Роберта.
– Кровь Христова! – вскричал Мортен. – Десять тысяч погибших?
Герцог взял у Рауля пакет и вскрыл его. Пока он читал донесение, а Мортен и Хуберт донимали Рауля расспросами, Жильбер привел в шатер лекаря; сей достопочтенный эскулап, обнажив уродливый порез на предплечье Рауля, начал его промывать и обрабатывать.
Осмотрев рану, Хуберт заявил:
– Ерунда. Как ты получил ее? Не во время ли этой схватки в Мортемере?
– Эту царапину? О нет, Мортемер тут ни при чем. Я угодил в засаду в пяти лигах от него. – Опустив взгляд на свою руку, которую лекарь держал над миской с водой, он сказал: – Перевяжите ее покрепче, любезный! Я же не могу, как свинья, залить кровью весь шатер герцога.
Вильгельм вернулся к столу, держа в руке донесение.
– Не говори глупостей, Рауль, – сказал он. – Или ты полагаешь, я стану возражать против капельки крови? – Герцог опустился на один из табуретов. – Итак, Роберт пишет, что рассеял бельгийское войско, а Ги Понтье захватил в плен. А теперь расскажи мне о случившемся.
– В голове у меня все перепуталось, – пожаловался Рауль. И вновь дрожь пробежала по его телу. – Мне постоянно чудится запах крови. Я никак не могу отделаться от него, – с отвращением заявил он.
– Не обращай внимания, – подбодрил его Хуберт. – Или ты не видишь, что герцог ждет твоего рассказа?
Рауль улыбнулся Вильгельму.
– О… да! Словом, когда я добрался до графа Роберта, он стоял лагерем на Андели и как раз получил от Ральфа де Мортемера известие о том, что принц Эд вошел в Мортемер-ан-Лион, где и расположился со всем своим войском… Если вы не дадите мне чего-нибудь поесть, больше я вам ничего не скажу. Со вчерашнего дня у меня во рту и маковой росинки не было.
– Будь я проклят! Ты же умираешь с голоду! – Мортен, придя в ужас от вынужденного поста Рауля, поспешно поднялся с табуретки и подошел к столику у стены шатра, на котором стояли остатки ужина герцога.
– Да, но я ничего не смог найти, потому что все сервы в страхе бежали от французского нашествия. – Рауль принял у Мортена ломоть хлеба с мясом и жадно впился в него зубами, продолжив рассказ уже с набитым ртом. – Я передал графу ваши письма, монсеньор. Потом вернулись его лазутчики с донесением – Эд остановился в Мортемере, а Роберт, узнав о том, что французы подвергли город жестокому разграблению, и правильно угадав, что те, кто не напьется допьяну, будут ночью возлежать с публичными девками из борделя, отдал приказ о ночной атаке на город. Одновременно он отправил весточку в Дримкур де Гурнею и лорду Лонгевиллю, в которой сообщил им о своих планах. – Вновь приложившись к вину, Рауль кивнул Вильгельму. – Все было сделано так, как поступили бы вы сами, монсеньор.
– Это было три дня тому? – спросил герцог, сверяясь с донесением.
– Думаю, да. Мы встретились с де Гурнеем на дороге, подошли к Мортемеру еще до рассвета и окружили его. С нами был и Ральф де Мортемер. Он сказал, что замок еще держится, но никакого значения это уже не имело. Эд и прочие военачальники – Понтье и Мондидье, и Герберт Вермандуа, и графы Суассона – о да, и Клермон, разумеется, – устроились с максимальным комфортом. Все было так, как и предполагал Роберт: солдаты или забылись пьяным сном, или забавлялись с девками, так что часовых не было. Мы подошли к ним вплотную, и ни одна живая душа нас не заметила.
– Роберт последовал моему совету? – перебил его герцог. – Пьяные или нет, но их было пятнадцать тысяч, насколько я могу судить.
Рауль поморщился, когда лекарь стал туго затягивать повязку у него на руке.
– Успокойтесь, сеньор, он старался избегать напрасных жертв. Все было проделано в точности так, как мы здесь планировали. Роберт поджег крайние дома, а центр города обстрелял из баллист факелами, смоченными в смоле. – Рауль умолк, глядя прямо перед собой невидящим взором, словно заново переживая этот огненный ад.
– Хорошо придумано! – вскричал Мортен. – Держу пари, город занялся, как миленький!
Рауль, вздрогнув, метнул на него быстрый взгляд.
– Да. – Молодой человек испустил долгий вздох. – Город действительно загорелся очень быстро.
– Но что было потом? – поторопил сына Хуберт. – Они что, поджарились живьем или вышли и стали сражаться?
– Некоторые – те, кто был слишком пьян, чтобы пошевелиться, – сгорели. Многие сбежали из города. Люди Роберта перекрыли улицы, но французы дрались как одержимые. Но у них не было ни времени, ни возможности собраться вокруг своих вожаков и выстроиться в боевые порядки: мы убивали их, пока они пытались прорваться. Валеран Понтье погиб на месте: я сам видел, как он упал; граф Ги попал в плен, как и Мондидье. Эд сбежал; думаю, Рено де Клермон тоже, но не уверен. К полудню от Мортемера остались одни головешки, а запах горелой плоти… – Внезапно Рауль вскочил на ноги. – Я больше не хочу говорить об этом! – сердито заявил он.
– Святые угодники, глядя на тебя, можно подумать, будто ты не хотел убивать французов, – ошеломленно заметил Хуберт.
– Разумеется, хотел! – не оборачиваясь, бросил Рауль. – Я бы поджег город собственными руками! Но они дрались как герои, поэтому, полагаю, я не обязан радоваться, слыша жуткие вопли людей, сгорающих заживо, а?
– Иди спать, Рауль, – сказал герцог. – Мы все знаем, в бою ты дерешься, как лев, но тебя охватывает отвращение, когда все заканчивается.
– Кровь Христова, сейчас меня уже не тошнит! – резко бросил Рауль. – Мы рассеяли французов, а все остальное мне нисколько не интересно. – Направившись было к выходу из шатра, он приостановился и бросил через плечо: – Двоих я зарубил сам, причем очень грязно. Один из них и нанес мне эту рану. – Рауль коснулся рукой своего раненого предплечья, и в глазах у него застыла горькая улыбка.
– Перерезал им дыхательное горло? – с надеждой осведомился Хуберт.
На лице Рауля отразилось удивление.
– Нет, одному выпустил кишки, а второго переехал Бланшфлауэром. Жильбер, я настолько устал, что едва стою на ногах, качаясь, словно пьяный француз. Дай мне руку, чтобы я не опозорился на весь лагерь.
Он вышел из шатра, опираясь на плечо Жильбера; только когда они оказались в своей маленькой палатке, Рауль вытянулся на соломенном тюфяке и заговорил вновь.
– Жаль, Эдгара там не было, – сонным голосом произнес молодой человек. – Ему бы там понравилось куда больше, чем мне.
– Полагаю, во время боя тебе тоже не на что было жаловаться, – невозмутимо заметил Жильбер.
Глаза Рауля уже закрывались, но он тут же открыл их и с сомнением взглянул на друга.
– Да, ты прав – но только отчасти. А в остальном все было ужасно. У многих французов просто не оставалось времени надеть хауберки, и они потеряли оружие, так что их просто изрубили на куски, а некоторых бросали в огонь, чтобы они там сгорели. Тебе бы это не понравилось. Как не понравилось бы и слушать отчаянные крики женщин. А еще там был один ребенок, который голеньким выбежал из дому… Проклятье! Но это война. Однако не хотел бы я, чтобы этот ребенок был одним из наших соотечественников.
– В случае победы французов многие нормандские дети погибли бы, – заметил Жильбер.
– Разумеется. Я рад, что мы отомстили за себя. Французы убивали и жгли все, до чего могли дотянуться во время похода в Мортемер. – Глаза Рауля вновь устало закрылись. – Их надо ненавидеть. Но, когда ты видишь, как они погибают ужасной смертью, то не можешь не испытывать к ним капельку жалости. – Молодой человек вновь открыл глаза, в которых замерцали лукавые искорки. – Полагаю, мои братья были правы и мне действительно самое место в монастыре, – пробормотал он и, повернувшись на бок, мгновенно заснул.
Он был единственным, кто спал в ту ночь. Когда над горизонтом занялся рассвет, французов в лагере разбудил рев боевого рога, жутко и страшно прозвучавший в предрассветной тишине. Часовые крепче перехватили свои алебарды, слушая и пугаясь. Рог проревел снова, а потом и в третий раз. Звуки раздавались совсем близко, но предутренний туман скрывал трубача от посторонних глаз. Солдаты просыпались, поднимая головы; вставали, спрашивая, что происходит и не началось ли наступление нормандцев. А граф Невер, разбуженный суматохой, даже вышел из своего шатра, кутаясь в мантию, наброшенную поверх тонкой туники.
– Рог, милорд, – сообщил ему один из часовых. – Кто-то трубит как раз за нашими позициями. Ого! А это что такое?
К ним вразвалку подошел Фульк Ангулемский, придерживая на поясе расстегнутые штаны.
– Что это? – осведомился он, но Невер поднял руку, заставляя часового умолкнуть.
Вновь заревел рог, оборвав свою песнь на торжествующей ноте.
– Кто бы это ни был, он наверняка стоит вон там, на горушке, – пробормотал Невер, напряженно вглядываясь туда, где в тумане проступали очертания невысокого холма.
Через разделявшее их пространство донесся звонкий голос.
– Меня зовут Ральф де Тони, – прокричал человек. – Я принес вам важные известия!
По рядам французов прокатился ропот; Невер шагнул вперед, напрягая зрение в рассветном полумраке. Ветер сдувал клочья тумана с вершины горы, и сквозь него они едва-едва разглядели фигуру всадника. Совершенно очевидно, что это его голос долетал до них.
– Спешите со своими тележками и повозками в Мортемер, чтобы увезти оттуда своих мертвецов! – прокричал всадник. – Французы бросили вызов нашим рыцарям; так порадуйтесь же исходу! Эд, брат короля, позорно бежал; Ги Понтье захвачен в плен; остальные убиты, или рассеяны, или бегут. Это герцог Нормандии передает послание королю Франции! – Издевательский смех ознаменовал окончание речи всадника; что-то затрепетало на конце его копья: это мог быть флажок. Всадник, развернув коня, исчез в тумане, быстро поглотившем стук копыт.
Несколько французских солдат устремились вперед в тщетной надежде схватить герольда; их фигуры растаяли в тумане, и один из них вдруг тревожно закричал.
Невер бросился за ними.
– Что это? – крикнул он, страшась очередного неведомого зла.
Солдат, поднявший тревогу, побелел от испуга.
– Заяц выскочил у меня из-под самых ног и пересек тропу. Дурной знак, очень дурной! – Он перекрестился, дрожа всем телом, а его товарищи сгрудились вокруг солдата в испуганном молчании.
Солнце уже карабкалось к зениту, когда Рауль вышел из своей палатки; повсюду в лагере царила лихорадочная суета. Зевнув, он зашагал к шатру герцога, чтобы узнать последние новости. Молодой человек застал Вильгельма проводящим совет со своими главными баронами, и, судя по слою пыли, покрывавшему платье одного из них, Гуго де Монфора, он только что привез какие-то важные известия.
– Что происходит? – поинтересовался Рауль у Грантмеснила, стоявшего подле самого входа.
– Король начал отступление, – прошептал в ответ Грантмеснил. – Ральф де Тони отвез ему последние новости; де Монфор говорит, что французы быстро свернули лагерь и теперь идут ускоренным маршем на юг.
– Каков храбрец этот французский король! – коротко рассмеялся Рауль.
Он стал пробираться сквозь толпу, обступившую Вильгельма, и успел услышать, как Тессон Сингуэлиц горячо воскликнул:
– Давайте нападем на него с тыла, монсеньор! Так мы с ним быстро покончим, обещаю вам.
– Пусть себе уходит; у него и без нас теперь достаточно хлопот, – ответил герцог. Но потом, окинув взглядом обращенные к нему разочарованные лица, Вильгельм сказал: – Как, неужели я должен настроить против себя весь христианский мир, подло напав на своего сюзерена? Мы проводим его до границы, Тессон, и отрежем отставших от основной массы, но я не намерен обмениваться с Генрихом ударами. – Заметив Рауля, герцог взял со стола пакет. – Рауль, ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы вновь отправиться в путь ради меня?
– Конечно, монсеньор.
Глаза герцога смеялись. Окинув Рауля многозначительным взглядом, он сказал:
– В таком случае отвези вот это в Руан и передай герцогине Матильде, что я не позволил королю присвоить ни пяди земли, ни единой пограничной крепости из наследства Роберта!
Глава 3
Король Генрих ускоренным маршем миновал Конш, цитадель Ральфа де Тони, спеша на юг в жутком смятении и расстройстве. Когда в шатер к нему ввалился покрытый пылью и потом гонец, подтвердив страшные новости, доставленные нормандским герольдом, с ним случился судорожный припадок, и он повалился наземь с пеной на губах. Но лекарь привел его в чувство, и Генрих голосом, который заставил обступивших его баронов испугаться, уж не повредился ли он рассудком, обрушил ужасные проклятия на голову Эда, что подвел его, и Вильгельма, вновь восторжествовавшего над ним. Затем король застыл и лежал совершенно неподвижно, пока его вельможи шепотом переговаривались между собой, заметив наконец, как в жутком оскале растянулись его посеревшие губы. В конце концов король поднялся с кушетки, на которую его уложили, и, трясясь, словно в лихорадке, принялся отдавать распоряжения. Тем, кто желал сразиться с войсками герцога, он ответил горьким отказом. Генрих решил возвращаться во Францию и приказал сворачивать лагерь. Король в недостойной и позорной спешке покидал Нормандию, непрестанно оглядываясь через плечо, словно его преследовал сам дьявол, прислушиваясь, не раздастся ли позади злобный лай гончих Вильгельма. Генрих быстро миновал Конш, переправился через Итон и перешел границу между двух своих крепостей, Вернеем и Тийером.
Преследуя его по пятам, герцог Нормандии, нахмурившись, окинул взглядом два замка и, покусывая крепкими белыми зубами хлыст, вдруг сказал:
– До лучших времен, пока не почувствую себя тут полновластным хозяином, я прикажу выстроить здесь донжон.
Вот так состоялось рождение замка Бретей, и уже в следующем году на берегу Итона выросли его неприступные стены.
– Поручаю его твоей опеке, Гийом, – весело сказал герцог Фитц-Осберну. – Обороняй его для меня, и я сделаю тебя графом Бретей.
– Клянусь Богом, можете рассчитывать на меня, монсеньор! – поклялся Фитц-Осберн.
Между королем Генрихом и его вассалом был подписан мирный договор. Король оказался вынужден признать все территориальные завоевания Вильгельма и обязался более никогда не предоставлять помощи его врагам, а в назначенном месте встречи обе стороны обменялись «поцелуем мира»: один – высохший человечек с согбенными плечами и мешками под глазами, другой – воин с прямой спиной, пышущий энергией и силой настолько, что король рядом с ним выглядел дряхлым стариком. Они поцеловались, первый – с ненавистью в сердце, второй – совершенно равнодушно. Король Генрих удалился, дабы планировать отмщение. Рауль де Харкорт, просматривая четыре статьи, которые и составляли мирный договор, метнул на герцога быстрый взгляд из-под полуопущенных ресниц и сказал:
– Вы думаете, он будет соблюдать его, монсеньор?
Вильгельм пожал плечами.
– Все может быть. Но если он его нарушит, то формально станет ренегатом, и у меня будут развязаны руки.
А военные действия, между тем, еще не закончились. Хотя Молот Анжу и не встал открыто на сторону Генриха в последнем конфликте, все это время он не сидел сложа руки. Анжу прошел маршем через Мэн, чтобы объединить усилия с Жоффруа Майеннским, после чего они уже вместе разрушили замок в Амбриере, который Вильгельм выстроил после падения Домфрона. Письменное объявление войны настигло Анжу в его собственном логове; нормандская перчатка была брошена к его ногам с такой наглой самоуверенностью, что Мартель побагровел от ярости. Нормандец пообещал – на сороковой день он появится под стенами Амбриера. Повернувшись к Майенну, Мартель разразился богохульствами и поклялся, что если тот позволит Вильгельму захватить Амбриер, то Жоффруа и все остальные могут более не считать его своим сюзереном. Храбрые слова, но сказаны они были в запале и весьма необдуманно. Когда нормандские рыцари подошли к Амбриеру, Анжу и след простыл; следовательно, оспорить их права было уже некому.
Герцог быстро принялся за работу, и гарнизон анжуйцев, понимая, что сюзерен предал их, сдался после первой же попытки штурма. Вильгельм восстановил поврежденную главную башню, укрепил стены и, напрасно прождав несколько недель в надежде, что Мартель, отбросив собственный страх, примет его вызов, отступил обратно в Нормандию. Здесь он распустил свою армию, предварительно приказав воинам быть наготове и вновь собраться под его рукой в течение трех дней после получения от него распоряжения, если в том возникнет надобность.
А она, как и предвидел герцог, возникла. Когда лазутчики донесли ему, что Нормандец наконец убрал меч в ножны, Мартель, набравшись мужества, вступил в альянс со своим пасынком, герцогом Пьером Аквитанским[42], и Одо, дядей юного графа Бретонского. Аквитанец толком еще не пришел в себя после катастрофических событий прошлого года. Он собственными глазами видел, как была наголову разбита огромная королевская армия; если он вел своих людей в Нормандию, демонстрируя презрение к ее незаконнорожденному правителю, то отступление возглавил, уже преисполнившись страха и вновь обретенного к нему уважения. Герцога Пьера посетили смутные подозрения, что в лице презираемого и ненавистного Бастарда Нормандии он столкнулся с единственным человеком во всем христианском мире, который применил стратегический подход к планированию военных действий. Но когда к нему обратился Анжу, армия Вильгельма была распущена. Герцог Пьер собрал людей под своим изрядно вывалянным в грязи штандартом и повел их на соединение с человеком, который давным-давно заработал себе прозвище Молот.
Впрочем, до сих пор удары графа Анжу были направлены лишь на тех врагов, чье жалкое сопротивление и позволило ему счесть себя непобедимым завоевателем. Он прошел по их покорно согбенным спинам и встретил человека, который встал у него на пути с обнаженным мечом в руках, в упор глядя на графа прищуренным ястребиным взглядом из-под черных как смоль бровей. И Анжу, впервые померявшись с ним силами под Меланом, предпочел отступить перед этим непобедимым молодым человеком, с тех пор так и не избавившись от страха, проникшего глубоко под броню его тщеславия.
Трое военачальников – Мартель, Пьер и Одо – смело вторглись в Мэн, рассчитывая, что теперь, когда Вильгельм ушел, гарнизон в Амбриере сдастся после первого же удара. Они попытались взять замок штурмом, но были отброшены, понеся тяжелые потери. Львы Нормандии продолжали гордо реять над квадратной и приземистой главной башней, а с крепостного вала защитники насмехались над Мартелем за то, что он побоялся встретиться с Вильгельмом в назначенный день.
Вельможи решили осадить замок, чтобы теперь уже голодом принудить к капитуляции его оборонцев. Герцог Пьер не находил себе места от беспокойства, держа ушки на макушке и беспрестанно поглядывая в сторону нормандской границы. Мартель внушительно заявил:
– Будь я проклят, если не снесу эти стены в самое ближайшее время!
Через десять дней сплошной блокады гарнизон прислал осаждающим в подарок свежее мясо и вино, и те, кто находился рядом с Мартелем, когда он получил этот презент, испугались, как бы с ним не приключился апоплексический удар. Он никак не мог уразуметь, почему защитники преисполнились отваги, сделав ему столь наглое подношение, ведь, когда Амбриер покорно сдался герцогу Вильгельму по первому же требованию герцога, его гарнизон составляли люди, уже не надеявшиеся на то, что их сюзерен принесет им освобождение. Теперь же замок удерживали воины, которые нисколько не сомневались в том, что герцог не оставит их сражаться в одиночку.
И они не ошиблись. К Мартелю явились лазутчики с шокирующим донесением: герцог Вильгельм уже на марше.
Трое вельмож устроили военный совет, потом еще один и еще, но так и не смогли решить, как же им лучше поступить. А шпионы изо дня в день доносили одно и то же: герцог Вильгельм ведет с собой крупные силы и быстро приближается.
Внезапно герцог Аквитанский увидел всю несостоятельность Мартеля и понял, что ему необходимо срочно, как можно быстрее возвращаться в свои владения. Мартель же во весь голос завопил, что его предали; пошумел немного, похвастался да и отвел свои войска в тот момент, когда Вильгельм находился уже в полудне пути от Амбриера. С ним поневоле вынужден был уйти и Одо, так что по прибытии Нормандец обнаружил лишь дымящиеся костры на том месте, где совсем недавно стояла вражеская армия.
На сей раз он вернулся к себе только после того, как сделал две вещи, оказавшиеся крайне унизительными для самолюбия графа Анжуйского. Он осадил и захватил в плен Жоффруа Майеннского, а затем и отодвинул свою границу от Амбриера на запад, до точки южнее Сее. Жоффруа был отправлен в Руан, где составил компанию еще одному известному пленнику, Ги, графу Понтье; им суждено было оставаться в неволе до тех пор, пока не призна́ют Вильгельма своим сюзереном, а граф Анжу в бессильной злобе издалека наблюдал, как придвигается к нему граница Нормандии.
Вильгельм же распорядился выстроить на господствующей высоте новый замок. Когда перед ним разложили чертежи, он поднял голову и вопросительно взглянул на Рауля, но тот лишь покачал головой в ответ. Они обменялись понимающими улыбками: Вильгельм повернулся к Рожеру де Монтгомери и грубовато-добродушно поинтересовался:
– Ты готов стойко обороняться за меня, Рожер?
– Да, милорд, можете быть уверены, – незамедлительно отозвался Рожер.
Немного погодя Гилберт де Харкорт набросился на Рауля с упреками:
– Фитц-Осберн говорит правду, уверяя, что герцог предлагал тебе эту крепость?
– Да, предлагал.
– Юный глупец! – вскричал Гилберт. – И ты отказался?
– Разумеется, отказался. Во-первых, он и не хотел, чтобы я соглашался, – спокойно пояснил Рауль. – Во-вторых, зачем мне нужна пограничная крепость? Это что, работа для меня?
– Настоящий мужчина не стал бы требовать большего, – заметил Гилберт.
Рауль, рассмеявшись, ответил с толикой лукавства:
– Утешься тем, что герцог найдет для меня применение получше, чем командовать замком на границе.
– Клянусь всеми святыми, а ты высокого о себе мнения, мастер Самовлюбленный Осел!
Заложив руки за голову, Рауль покачался на стуле и лениво сказал:
– Знаешь, меня ведь не зря зовут Хранителем.
Это была чистая правда, но, прозвучавшая из уст Рауля, она вызвала у Гилберта лишь досаду и раздражение, чего и добивался Рауль; Гилберт ушел, сердито ворча себе под нос, что у него не брат, а выскочка.
Монтгомери нарек свой новый замок Ла-Рош-Мабель в честь супруги и немедленно принялся за строительство. Глядя на юг, где в туманной дымке скрывалось графство Анжу, герцог с коротким смешком заметил:
– Если этот пустозвон попробует нанести мне удар в спину, Рожер, пришли мне его голову в качестве Hanguvelle – подарка на Новый год.
Но, похоже, графу Анжу надоело бегать с войском взад и вперед, потому что еще долго о нем не было ни слуху ни духу.
Что же касается герцога, то он вновь вернулся к себе в Нормандию и вошел в Руан как раз вовремя, чтобы услышать праздничный перезвон колоколов в честь рождения своей дочери Аделизы.
По этому случаю были устроены пышные торжества, а в огромном дворе дворца состоялась пантомима и рыцарский турнир. Вильгельм произвел Вульнота в рыцари, потому что юноша достойно проявил себя, сбросив с коня своего противника. Он бы произвел в рыцари и Эдгара, однако Рауль отрицательно покачал головой. Эдгар дрался с нормандцами на турнирах так, как они научили его, и глаза его радостно сверкали огнем схватки, но Рауль полагал, что он не примет рыцарское звание из рук Нормандца.
Выезжая с арены, вспотевший, раскрасневшийся и гордый победой, Эдгар порывисто воскликнул:
– Жаль, что у нас в Англии нет таких состязаний! Чувствовать под собой доброго коня и сжимать в руке копье – да, вот это занятие, которому я обучился с превеликой радостью! Я бы хотел верхом ринуться в битву, по твоему примеру.
Рауль проследил за тем, как Эдгар до последней капли осушил рог с вином.
– Разве вы не сражаетесь верхом? – спросил он.
Сакс, отшвырнув рог в сторону, принялся вытирать лицо и шею.
– Нет, мы не используем скакунов в сражении так, как это делаете вы. А вместо копий у нас, понятное дело, имеются боевые топоры. – Он помолчал, и его радостное возбуждение мгновенно угасло. – Боевой топор лучше, – добавил Эдгар.
– Я тебе не верю, – ответил Рауль просто так, чтобы подразнить его.
– Еще как лучше! – заявил сакс. – Знаешь, приятель, я мог бы отрубить голову твоему Бланшфлауэру одним ударом!
– Грубое варварское оружие, – пробормотал Рауль.
– Лучше молись о том, чтобы никогда не познакомиться с ним поближе, – угрюмо парировал Эдгар.
После этих его слов между ними пролегла тень. Рауль молчал и даже не глядел на сакса. Эдгар, взяв друга под руку, увлек его ко дворцу.
– Сам не знаю, почему я так сказал. Будем надеяться, этого никогда не случится. Мой отец пишет, король послал за Этелингом, чтобы привезти его в Англию, так что может статься, именно он получит корону, а не твой или мой господин.
– Этелинг? Даст Бог, Эдуард действительно назовет его своим наследником! – Лицо Рауля просветлело. Он пожал саксу руку. – А если дело дойдет до этого: твой топор против моего копья… – Рауль оборвал себя на полуслове и умолк.
– Знаю, – сказал Эдгар. – Разве не говорил я этого тебе еще четыре года тому, когда впервые приехал в Нормандию? Что ж, может быть, в конце концов, ничего подобного и не случится.
– Да. Если Эдуард выберет Этелинга. Неужели прошло уже четыре года, Эдгар?
– Четыре года, – повторил сакс, и губы его искривила презрительная улыбка. – Я начинаю чувствовать себя здесь как дома. Подобно Вульноту и Хакону.
Рауль остановился словно вкопанный, пораженный неожиданной мыслью.
– Эдгар, это правда?
Сакс в ответ передернул своими широченными плечищами.
– Мне иногда кажется, будто я стал настоящим нормандцем, – сказал он. – Я сражаюсь с тобой на турнирах, говорю на вашем языке, живу с вами, завел друзей среди вас, горячусь и нервничаю оттого, что не могу поехать с тобой на войну, радуюсь тому, что герцог прогнал французов…
– Я и не подозревал об этом, – прервал его Рауль. – Я думал… Эдгар, герцог был готов посвятить тебя в рыцари, но я сказал, ты не согласишься. Быть может, мне поговорить с ним снова?
– Я премного благодарен герцогу Вильгельму, – без раздумий ответил Эдгар, – но никогда не приму рыцарские шпоры из его рук. Я повинуюсь одному лишь Гарольду. – Решив, что слова его прозвучали чересчур уж невежливо и высокомерно, сакс, стараясь смягчить неблагоприятное впечатление, добавил: – Ну, ты же понимаешь, дело не в том, что мне не нравится герцог Вильгельм. Я не это имел в виду.
– Знаю, – отозвался Рауль. – Или ты думаешь, на твоем месте я не сказал бы то же самое? Но, как бы то ни было, а Вильгельма ты недолюбливаешь, не так ли?
Поначалу ему показалось, что Эдгар не собирается отвечать, но, помолчав немного, тот все-таки заговорил:
– Нет. То есть, да – он мне не нравится. Разумеется, я не могу не восхищаться им, как и все прочие. Однако разве он способен вызвать симпатию у кого-либо? Да, он требует верности; повиновение навязывает силой: но любовь? Подобные вещи даже не приходят ему в голову!
– Пожалуй, ты еще недостаточно хорошо его знаешь, – заметил Рауль.
Эдгар взглянул на друга, и в глазах его промелькнула тень улыбки.
– Ты думаешь, кто-нибудь действительно знает его, Рауль? – После чего, видя, что Рауль молчит, сакс продолжал: – О да, он очень добр к своим друзьям, но я никогда не видел, чтобы он пытался покорить своих людей, как это делает… – Эдгар, оборвав себя на полуслове, умолк.
– Гарольд? – подсказал Рауль.
– Да, – признался Эдгар. – Именно Гарольда я имел в виду. Гарольда обожают все. А Вильгельма не любит никто. Его боятся, его уважают, но сколько людей почтут за счастье умереть за него? Фитц-Осберн, может быть; Сен-Совер, Тессон; его кузен д’Э; ты – те, кто является его друзьями. А вот за Гарольда с радостью отдаст жизнь самый распоследний серв, можешь мне поверить.
Они медленно шли в тени куртины[43]. Оба хранили молчание до тех пор, пока не завернули за угол часовни во внутреннем дворе и не остановились под нависающей главной башней. И тогда Эдгар, глядя на узкие окна, прорубленные в сером камне, произнес уже более примирительным тоном:
– Готов держать пари, что, по крайней мере, здесь сидит тот, кто не питает особой любви к Вильгельму.
Рауль поднял голову.
– Ты имеешь в виду графа Понтье? Да, но ему все равно придется склониться перед волей Вильгельма, любит он его или ненавидит, точно так же, как до него это вынужден был сделать Жоффруа Майеннский.
– А как же архиепископ? – полюбопытствовал Эдгар. – Ему тоже предстоит смириться?
– Можер! – сказал Рауль. – Думаю, его песенка спета.
Они стали подниматься по ступенькам, ведущим к большой двери. Эдгар, коротко рассмеявшись, произнес:
– Вчера Гийом Фитц-Осберн рассказал мне, как застукал Можера, когда в последний раз охранял его. Ты еще не слышал эту историю?
– Нет, но, пожалуй, могу догадаться.
– Она заставила рассмеяться даже нашего вечно всем недовольного Альбини, – сказал Эдгар. – Ты же знаешь, как Фитц-Осберн умеет рассказывать байки. По словам Гийома, он получил предупреждение, будто его преосвященство занят молитвенными бдениями, но все равно вошел, чтобы подождать, пока Можер не освободится. Какой-то идиот привратник, не разобравшись, что к чему, и не слушая, что шепчет ему на ухо управляющий, провел Фитц-Осберна прямиком в кабинет архиепископа и выкрикнул его имя. Ну, Гийом взял да и вошел, успев увидеть, как Можер спихивает с колен свою любовницу и пытается сделать вид, будто пальцы его были заняты перебиранием четок, а не копошились в вырезе ее платья.
– Господи помилуй, прямо в кабинете? – спросил Рауль, которого обуревали негодование и в то же время смех.
– В нем самом, – кивнул Эдгар. – Это была та самая рыжая девчонка, Папия, по пятницам гонявшая свиней на рынок для продажи. Та самая, что сбежала от Мулен-ла-Марша, когда он уже готов был взять ее. Неужели ты ее не помнишь? Ну вот, теперь она живет во дворце Можера, разряженная в шелка и золото, как настоящая герцогиня.
– Грязная шлюха! – с отвращением сказал Рауль. – Вот, значит, что имел в виду Гале, когда резвился вчера вечером! Что ж, Можеру остается только надеяться, что эта история не дойдет до герцога.
– О, герцог непременно услышит ее, – жизнерадостно провозгласил Эдгар. – О ней знает уже весь двор.
– В таком случае, у нас появится новый архиепископ. Наконец-то, – сказал Рауль.
Молодой человек оказался прав, но, чтобы избавиться от Можера, герцог воспользовался вовсе не его любовными похождениями. Несмотря на то что Ланфранк заручился разрешением Папы на брак Вильгельма с Матильдой, а каменщики все еще ломали головы над планами строительства двух монастырей, которые стали платой за его согласие, невзирая на то что в браке у них уже родилось двое детей, архиепископ Можер не унимался, без устали выражая свое неодобрение. Тайные устремления Можера, подорванные падением его брата Арка, воплотились в злонамеренном желании лично сокрушить племянника, обретшего чрезмерное могущество. Поговаривали, что он вступил в переписку с королем Франции; правда это или нет, доподлинно никто не знал, зато, когда известия о бегстве короля достигли Руана, архиепископ изменился в лице, и те, кто стоял рядом, увидели, как в его глазах под набрякшими веками вспыхнула лютая ненависть. В пору расцвета Можер заработал себе славу коварного, хитроумного деятеля, но теперь состарился, и разочарование притупило его разум. Именно в этот столь неподходящий момент он решил объявить о расторжении двухлетнего брака, словно и не существовало полученного в Риме разрешения, а также отлучить герцога Вильгельма от церкви.
Это был тот самый предлог, которого и ждал герцог. Наконец-то на архиепископа обрушилась его тяжелая длань: Можера лишили епархии, обязали покинуть Нормандию не позже, чем через двадцать восемь дней. Его преемником стал некий Маврилий, монах из Фекама, человек чрезвычайно добродетельный и настолько же прославившийся своим целомудрием и воздержанием, как Можер – своими непотребствами.
В день отплытия Можера на остров Гернси, Гале выдернул табуретку из-под Вальтера Фалезского в тот самый момент, когда тот собирался опуститься на нее за герцогским столом, и тучный Вальтер с глухим стуком приземлился задницей прямо на тростник, устилавший пол.
– Кровь Христова, да я тебе башку снесу за такие шуточки, дурак! – прорычал Вальтер, уже замахиваясь для удара.
Но Гале проворно отскочил в сторону и пронзительно заверещал:
– Ага, вот и еще один из дядьев братца Вильгельма повержен!
Уголки губ герцога дрогнули в улыбке; придворные разразились хохотом, а добряк Вальтер поднялся с пола, улыбаясь во весь рот и добродушно покачивая головой.
Глава 4
– Двенадцатилетний благородный олень, монсеньор! – воскликнул один из охотников, перекрывая рев охотничьего рога, оповестившего о том, что добыча повержена. Он склонился над еще дышащим животным и обнажил охотничий нож.
Фитц-Осберн с отвращением воскликнул:
– Бьюсь об заклад, это та самая животина, которую я так и не смог загнать вчера. Вам во всем сопутствует удача, монсеньор.
Но Вильгельм не ответил; он смотрел на свой лук с таким видом, словно впервые увидел его.
– Хотел бы я научиться стрелять так же, как он, – заметил Эдгар, обращаясь к Раулю. – Он же почти никогда не промахивается.
Рауль рассеянно ответил ему что-то. Он не сводил глаз с герцога, спрашивая себя, что с ним сталось, раз он так странно повел себя.
А герцог держал в руке стрелу; положив ее на палец и не давая упасть на землю, Вильгельм о чем-то напряженно размышлял. Фитц-Осберн, тоже обратив внимание на его необычное поведение, поинтересовался, не случилось ли чего. Но герцог, похоже, не слышал его. Еще несколько мгновений он машинально крутил стрелу в пальцах, а потом резко вскинул голову и спросил:
– На сегодня с меня хватит. Рауль, ты едешь со мной?
– Как, мы же едва-едва начали! – вскричал Фитц-Осберн. – Неужели вам уже прискучило, сеньор? Альбини, ты тоже уезжаешь? Эдгар, до сих пор тебе не везло: хоть ты-то останешься?
– Мне нужен один Рауль, – не оборачиваясь, бросил герцог.
Они бок о бок поехали по лесной дороге. Герцог впился зубами в свой хлыст и хмурился, как бывало всегда, когда он напряженно размышлял о чем-либо. Спустя некоторое время Рауль поинтересовался:
– Итак, сеньор? Что случилось?
Вильгельм повернулся к нему.
– Рауль, тебе никогда не приходило в голову, что стрелы можно использовать и в бою?
– Стрелы? – удивленно переспросил Рауль. – Разве такое возможно?
– А почему нет? – герцог пришпорил коня. – Дружинников можно научить стрелять из лука. Они могут носить его вместе с гизармой[44]. – Он смотрел куда-то прямо перед собой, все еще хмурясь. – Нет. Воин, сражающийся копьем или мечом, должен еще держать и щит. Нужен какой-то другой способ.
– Если стрелой можно убить зверя, то и человека тоже, разумеется, – медленно проговорил Рауль. – Но как лучник сможет хорошо прицелиться в толчее боя? Да и его самого наверняка зарубят, потому что он не сможет защищаться.
– Да, если окажется в самой гуще, – согласился герцог. – Но мои лучники могут стрелять с расстояния в сто шагов, и потому у них не будет необходимости защищаться. – Глаза Вильгельма загорелись, и он порывисто воскликнул: – Клянусь Богом, кажется, я разгадал загадку, которая столько времени не давала мне покоя! Полагаю, лучники могут посеять панику в рядах противника.
– Как и копейщики, – возразил Рауль, которому откровенно не нравилась эта затея.
– Но пока мы сражаемся врукопашную, побеждает всегда тот, кто сильнее, – настаивал Вильгельм. – Если король вновь перейдет границу с большой армией, как ты думаешь, я смогу заставить его повернуть обратно? Да, если мне опять удастся заманить его в ловушку. Однако что, ежели мне придется помериться с ним силами в открытом бою, так, как мы сделали это у Валь-э-Дюн? Что тогда? – Герцог ненадолго умолк. – А вот если бы у меня были лучники, способные вести огонь из безопасного места? Клянусь распятием, вот тогда можно было бы и поломать голову над стратегией!
– Да, но если вы отведете этих лучников назад, сеньор, то они будут вынуждены стрелять в спину своим же рыцарям, – возразил Рауль.
Герцог ненадолго задумался.
– Верно. А если я поставлю их так, чтобы они могли вести огонь по вражеским рядам, то они все равно могут попасть и в моих людей, сражающихся в рукопашном бою. – Он вновь обернулся к Раулю, лицо Вильгельма казалось возбужденным, а уголки губ начали приподниматься. – Рауль, поверь мне: я придумал, как можно воевать по-новому!
Рауль изумленно пробормотал:
– Монсеньор, вы ведь не станете посылать нас, своих рыцарей, в бой с луками вместо мечей?
– Нет, но разве ты не видишь, что в сражении могут принимать участие не только рыцари, вооруженные мечами? А что, если первый удар нанесут мои лучники с расстояния, скажем, в шестьдесят или сто шагов?
– Ну да, в таком случае они убьют или ранят многих, – признал Рауль. – Это значит, вы пошлете их вперед? А где будут стоять ваши рыцари?
– Выстроятся позади них в качестве поддержки, – тут же ответил герцог.
Рауль вновь согласно кивнул.
– Враг атакует: как мне представляется, первый удар придется именно по вашим лучникам, и вы можете сказать им прости-прощай!
– Нет, не так. Они отступят за линию кавалерии. Это легко можно сделать. Что думаешь? Ну же, не хмурься: я пока еще не сошел с ума.
– Думаю, – сказал Рауль, – баронам это не понравится. Вы готовы вложить стрелы в руки сервов? Да ваш Совет первым же заявит, что это неслыханно.
– Они говорили то же самое, когда я отступал перед французами, – парировал герцог, послав своего коня галопом к мосту через реку.
Вскоре лучники стали его новой навязчивой идеей. Одни бароны открыто возражали против такого новшества, другие смотрели на него со снисходительной улыбкой, третьи относились к происходящему скептически, хотя и демонстрировали явный интерес. Но герцога ничуть не волновали презрение или одобрение, и он приступил к обучению лучников, без конца выезжая в поле, чтобы лично убедиться, каких успехов они добились, или же сидел у себя в кабинете, планируя военные кампании. Он чертил странные схемы, над которыми его военачальники яростно потирали затылки и скрепя сердце признавали их небесполезными. Представление о том, будто сражение можно вести с помощью пешек с шахматной доски, было настолько новым и непривычным, что вызывало естественные подозрения. Военное искусство в том смысле, как его понимали бароны, представлялось им уделом исключительно конницы, идущей в атаку под грохот барабанов и рев труб; стратегия же ограничивалась лишь самыми общими чертами; выбором места боя, устройством засад или внезапными нападениями. А когда уже начиналось сражение, то побеждал тот, кто оказывался сильнее в рукопашной схватке в смертельной толчее людей и лошадей. Но герцог упорно корпел над своими миниатюрными полями сражений, двигая пешки туда-сюда и медленно разрабатывая куда более сложную концепцию военных действий, нежели та, которую были способны уразуметь его военачальники.
О том, что он готовится отразить очередное нападение своего сюзерена, знали все, и, хотя король Генрих подписал мирный договор 1054 года, никто не сомневался в том, что положения статей его не остановят. На протяжении этих трех мирных лет, последовавших за взятием Амбриера, мужчины то и дело поглядывали в сторону Франции, держа мечи под рукой.
Через два года после сражения у Мортемера Эдуард Этелинг скончался в Лондоне, оставив после себя двух дочерей и младенца-сына, Эдгара, на попечение короля; а в Руане Ги, граф Понтье, наконец-то согласился на условия своего освобождения, выдвинутые герцогом Вильгельмом. С Ги обращались так, как полагалось его рангу, не унижая достоинства графа, но Понтье очень скоро понял: хотя Вильгельм относится к нему с подобающим уважением, он может и не мечтать об освобождении до тех пор, пока не заплатит определенную цену.
Требование выкупа прозвучало и было с негодованием отвергнуто.
– Вы принесете мне оммаж[45], граф, вместо того чтобы платить золотом, – сказал Вильгельм.
– Клянусь Богом, я никогда не преклоню колени перед Нормандией! – с жаром вскричал граф.
– В таком случае, клянусь, вы более никогда не увидите Понтье, – невозмутимо отозвался Вильгельм.
– Я предлагаю вам королевский выкуп! – взъярился Ги.
– А я предпочитаю присягу на верность, – ответил Вильгельм.
– Герцог Вильгельм, вы ошиблись во мне! – с негодованием возопил граф.
Вильгельм улыбнулся.
– Думаю, граф, из нас двоих ошибаетесь как раз вы, – обронил он и вышел.
Граф в ярости уставился вслед герцогу, но после его ухода обхватил голову руками. Впоследствии от него нередко слышали, что если бы он был так же уверен в себе, как Вильгельм, то мог бы покорить мир.
Ги был готов прозябать в кандалах, сидеть в сырой темнице, быть может, даже сносить пытки, но Вильгельм не стремился пробуждать ненависть в тех, кого хотел сделать своими вассалами. К графу относились с должным почтением, и он получал все, чего душа пожелает, за исключением свободы. Прохаживаясь по бастионам, Ги неизменно поглядывал на восток. Там, за равнинами и рекой, что серебряной лентой петляла по ним, за дальними холмами к востоку и северу по-прежнему лежало Понтье, ожидая возвращения своего властителя и защитника. Взгляд графа туманился, когда он смотрел в ту сторону; ему казалось, будто в ушах у него гремит рокот волн, разбивающихся о прибрежные скалы, и он видит серые башни своей столицы. Над его головой на ветру трепетал и хлопал штандарт; подняв глаза, он увидел реющих над ним золотых львов Нормандии.
Целый год Понтье цеплялся за надежду, что у герцога истощится терпение. Он видел, как его товарищ по несчастью, такой же пленник, как и он сам, граф Майенн, принес вассальную присягу Вильгельму и верхом отправился домой. Ги по-прежнему оставался тверд, но теперь знал, что Вильгельм никогда не отступится. Медленно и напряженно прошел второй год; графа подкосило отчаяние, и он больше не смотрел в сторону Понтье.
Вильгельм, в очередной раз навестив его, сказал:
– Мне докладывают, граф, вы занемогли, но, думаю, ни один мой лекарь не возьмется излечить вашу болезнь.
– Это правда, – с горечью ответил Ги.
Герцог подошел к окну и поманил его к себе.
– Идите сюда, Ги Понтье, – сказал он.
Ги несколько мгновений смотрел на Вильгельма, после чего подошел и остановился рядом. Герцог жестом указал на окно.
– Вот эта дорога ведет в Понтье, – произнес он. – Она проходит через Арк и Э; здесь всего-то день пути, граф.
Ги уже готов был отвернуться, но на его плечо опустилась рука герцога.
– Ваши земли остались без хозяина, – сказал Вильгельм. – И скоро настанет такой день, когда вместо вас будет править кто-нибудь другой. Возвращайтесь, пока не стало слишком поздно.
Ги стряхнул с плеча руку Вильгельма и принялся расхаживать по комнате. Герцог же молча стоял у окна, равнодушно глядя на графа.
– Вы можете держать меня пленником до самой смерти, но не заставите принести вам усиленный оммаж![46] – выкрикнул ему в лицо Ги.
– Я и не прошу вас об этом. Мне будет довольно и простого принесения феодальной присяги, как то сделала Бретань.
Граф в молчании продолжил метаться, в сотый раз обдумывая сложившуюся ситуацию. Усиленный оммаж, которого так страшился Ги, означал, что он превратится в такого же вассала, как и любой барон Нормандии, получавший инвеституру[47] своими землями на коленях, лишенный меча и шпор, с непокрытой головой, вложив ладони в руки герцога, давая клятву быть верным слугой Вильгельму отныне и навсегда и служа ему до последнего вздоха. А вот простой оммаж, такой, какой Нормандия принесла Франции, не сопровождался подобными феодальными обязательствами. Ему не надо будет проходить унизительную процедуру ввода во владение, когда сюзерен лично передает своему вассалу земли, и не нужно будет надевать ливрею в хозяйских цветах. Не будет он обязан и оказывать Вильгельму вооруженное содействие на случай войны, как и предлагать себя в заложники для выкупа сюзерена, если возникнет такая необходимость. От него требуется лишь простая присяга на верность. Ги, резко повернувшись, с трудом проговорил:
– Простой оммаж в обмен на мою свободу: так тому и быть!
Вильгельм кивнул и небрежным тоном заметил:
– Завтра мы скрепим наш договор печатью. И тогда вас более ничто не будет удерживать здесь.
Спустя некоторое время после освобождения Ги герцогиня родила на свет третьего ребенка. Утонув в простынях на огромной кровати, Матильда лежала, подложив под щеку руку, отказываясь смотреть на свою светловолосую вторую дочурку, которая, по словам окружающих, как две капли воды походила на нее. Женщина хотела родить еще одного сына, такого же, как милорд Роберт: смуглого, крепкого, темноволосого и столь подвижного и пылкого, что он с кулачками бросался на своих воспитателей, если они осмеливались противоречить ему. Она, с презрением взглянув на свою светловолосую малютку, наконец изрекла:
– Я отдам ее в лоно Святой церкви.
– Хорошая идея, – отозвался Вильгельм. Ему показали малышку, завернутую в родильную простыню; он остановил на ней равнодушный взгляд, но вдруг глаза его загорелись, и герцог со смешком сказал: – Святые угодники, да она – твоя точная копия, Мальд!
– Роберт по сравнению с ней был крепче и здоровее, – заметила Матильда.
Но годом позже у Нормандца родился второй сын, и вновь герцог устроил пышные торжества; почти целую неделю придворные не смыкали глаз, веселясь и празднуя, пока Матильда, лежа в постели, ворковала со своим малышом и мечтала о будущем, которое его ждет. Но он родился ребенком чахлым и слабеньким; мог кричать несколько часов подряд, и даже венок из белой омелы не способен был предохранить его от судорог, что время от времени случались с ним. Лекари не отходили от милорда Ричарда ни на шаг, а сама герцогиня, казалось, вечно прислушивалась, не донесется ли из спальни слабое эхо его плача. Малыш на много месяцев вперед безраздельно завладел ее вниманием; у нее почти не оставалось времени на лучников герцога или даже на известия о возобновившейся тайной деятельности французского короля. А вот ее мужа, кроме двух этих тем, не интересовало практически ничего.
Ему стало известно, что Генрих и Молот Анжу вновь заключили союз против Нормандии. Они опять собирали огромное войско, снова начали строить планы разорения и ограбления герцогства Вильгельма; и опять Вильгельм призвал к себе своих рыцарей, чтобы защитить собственные владения.
Как ожидалось, соединенная армия французов и анжуйцев должна была пересечь границу весной 1058 года, поскольку это время считалось наиболее удобным для ведения военных действий; но король Генрих, тоже знавший о приготовлениях своего вассала, пустился на хитрость и промедлил с нападением еще несколько месяцев.
– Он будет откладывать вторжение до тех пор, пока я не распущу свои силы, – после трехмесячного ожидания сказал Вильгельм. – Что ж, так тому и быть!
И к вящему разочарованию своих советников герцог отдал приказ о роспуске своей армии, оставив при себе небольшую личную дружину.
Мужчины, которые раньше недовольно ворчали насчет того, что содержание бездействующего войска обходится им слишком дорого, теперь лишь качали головами при виде столь рискованной тактики.
– Король вторгнется в Нормандию, и что мы будем делать, лишившись половины своих сил? – пожелал узнать де Гурней.
А герцог вновь разложил на столе свои планы, и стало ясно: перед ним – грубо вычерченная карта его герцогства.
Де Гурней проворчал:
– И какой нам от нее толк?
– Друг мой Гуго, – начал Вильгельм, – мы знаем, что король намерен пройти маршем через Иемуа, не распыляя свою армию, и нанести удар на Байе – вот сюда. – Он упер палец в карту.
– Еще бы это было нам не известно! – де Гурней коротко рассмеялся. – Он больше никогда не отважится атаковать нас двумя колоннами. Если этот француз, которого мы захватили, говорит правду, то Генрих намерен повернуть на восток от Байе, чтобы разорить Ож. И что далее?
Герцог заставил Гуго склониться над картой.
– Я могу перехватить его вот здесь, или здесь, или даже здесь.
– Мы что же, собираемся опять провернуть тот же самый фокус? – полюбопытствовал граф Роберт д’Э. – Король опять пройдет маршем, не встречая сопротивления? Хлеб уже заколосился, Вильгельм: он причинит нам огромный ущерб.
Мортен зевнул во весь рот.
– Мы уже разбили его прежде! Где ты намерен устроить ему засаду, Вильгельм?
– Вот здесь, в моем родном городе.
Они склонились над картой и увидели, что палец Вильгельма упирается в Фалез, город, где он родился. Де Гурней задумчиво потер нос.
– Вообще-то… Однако он обойдет вас к западу, если действительно стремится к Байе.
– Но я встану лагерем между ним и Ожем.
– Ежели он намерен войти в Ож, то ему придется переправиться через Орн и Див, – заметил де Гурней. – Если форсировать Орн, то лишь у Кана, разумеется, а там засаду не устроить. Что до Дива, – Гурней умолк и метнул острый взгляд на Вильгельма. – Ха, неужели вы собираетесь атаковать его у брода в Варавиле, сеньор?
– А где еще он может форсировать Див? – спросил Вильгельм. – Уж наверняка не у Бавана или Кабура. Только у Варавиля; правда, прилив там наступает быстрее, чем предполагает король, именно там мы можем рассчитывать настичь Генриха и эту анжуйскую собаку, Мартеля.
– Нормандцы и французы уже сражались ранее под Варавилем, – заметил Вальтер Жиффар. – Но почему мы должны ждать, пока он не заберется настолько далеко, милорд? Есть же и другие места, где мы можем навязать ему сражение.
– Да, их много, – согласился герцог, – но лучшего все-таки не найти. Если он направляется к Варавилю, как я предполагаю, то окажется у меня в руках, и я смогу сделать с ним все, что захочу. – Встав из-за стола, Вильгельм хлопнул лорда Лонгевилля по плечу. – Потерпи немного, Вальтер, – с улыбкой сказал он. – Я еще ни разу не приводил тебя к поражению.
– Клянусь распятием, у меня и мысли такой не было, монсеньор! – поспешно вскричал Вальтер. Поперхнувшись, он обменялся взглядами с де Гурнеем. – А какую роль во всем этом сыграют ваши лучники, милорд?
Вильгельм расхохотался.
– Доверься мне, они принесут нам победу на блюдечке, мой старый бойцовый пес, – сказал он, глядя, как расходятся его советники, покачивая головами в связи с безрассудным, по их мнению, капризом герцога.
В августе, когда хлеб был уже скошен, король Генрих после четырех лет соблюдения мирного договора вновь перешел нормандскую границу и вторгся в Иемуа, планируя взять Байе. Рядом с ним, раздуваясь от самомнения, умерить которое неспособно было ничто на свете, ехал граф Анжу, тучный мужчина холерического темперамента с лицом багрового цвета. С ним были и два его сына: Жоффруа, его тезка, названный в честь отца, по прозвищу Als Barbe[48], и Фуль Решен по кличке Грубиян, сердитый и неприветливый, готовый одинаково ссориться с врагами и друзьями. Королю Генриху пришлось изрядно постараться, чтобы сохранить хотя бы подобие мира между этой драчливой троицей и своими баронами. Франция могла, конечно, заключить союз с Анжу в борьбе против общего врага, но ни один француз не станет признаваться в любви анжуйцам. Ссоры из-за пустяков стали вспыхивать в лагере союзников с самого начала кампании, противоборствующие стороны не раз выхватывали кинжалы, готовясь пролить кровь обидчиков, а между лидерами царила откровенная вражда.
Анжу требовал разрушать все до единого донжоны, мимо которых они проходили. А король Генрих, глядя на свежевыкопанные рвы, полные воды, и отремонтированные неприступные стены, не желал тратить время на бесполезную осаду. Если он сумеет захватить и разграбить Байе и Кан, а потом опустошить богатые земли Ожа, то сможет диктовать свои условия герцогу Вильгельму. Именно так он и заявил Мартелю, но граф, которому прожитые годы прибавили ослиного упрямства, слишком легко готов был свернуть с намеченного пути при виде крепости, обороняемой кем-либо из его личных врагов. Он настаивал на том, что они должны сделать крюк и отнять у Монтгомери его замок Ла-Рош-Мабель, который вот уже три года уязвлял его гордость одним своим существованием. Сдерживая раздражение, Генрих сумел отговорить его от этой затеи, но, как вскоре выяснилось, только для того, чтобы граф тут же взял новый след. Он давно точил зуб на некоего Вальтера де Лейси, и, поскольку замок последнего лежал прямо у них на пути или очень близко от него, Мартель не видел смысла оставлять его в покое. Он даже разработал план, предусматривающий разделение их войска на два отряда, один из которых намеревался возглавить, чтобы осаждать замки; к их владельцам и комендантам Мартель питал личную неприязнь. А в это время король Генрих во главе второго корпуса мог бы направиться к Байе.
Но вряд ли король, в памяти которого еще свежи были воспоминания о разгроме у Мортемера, согласился бы с таким планом. Мартелю вновь не дали вцепиться в добычу всеми зубами и увлекли дальше на север, пообещав, что захваченные там сокровища сторицей возместят его ожидания.
На марше в Байе французы вели себя привычным образом, всецело полагаясь на то, что за совершенные ими злодеяния получат отпущение грехов. Неукрепленные города, деревушки, жилища крепостных и холопов разрушались и сжигались; прячущихся мужчин находили и зверски убивали, чтобы развлечь солдатню; женщин хватали и отдавали на поругание дружинникам. Никакие религиозные соображения не могли удержать короля от того, чтобы не разграбить монастыри и аббатства, но монахи, предупрежденные герцогом, в большинстве случаев успевали унести все ценное и спрятать его в потаенном месте. Мартель, разъяренный подобной скаредностью, однажды взбеленился и схватил какого-то аббата, заявив, что намерен посмотреть, не помогут ли пытки вырвать у сего доброго христианина признание о том, где он спрятал сокровища. Пришлось вмешаться шокированным французам: дело зашло слишком далеко. Королю Генриху понадобилось все его красноречие, чтобы убедить графа в том, что подобные деяния запросто могут привести его к отлучению от церкви.
Таким вот манером силы вторжения и двигались на север через Иемуа по направлению к Бессану, но, несмотря на грабежи и поджоги, устраиваемые людьми Мартеля, равно как и на беспечность, которая все сильнее охватывала его, король Генрих тщательно следил за тем, чтобы каждую ночь вокруг их стоянки выставлялся надежный караул. Он вовсе не желал, чтобы его подпалили во сне, как тех несчастных, что погибли в Мортемере.
Услышав от своих лазутчиков о часовых, коими старался обезопасить себя враг, герцог Вильгельм расхохотался и насмешливо заявил:
– Как, неужели король полагает, что у меня в запасе имеется только одна хитрость? Ничего, о мой пугливый король, я еще преподам тебе урок!
Французская армия подошла к Байе, нагруженная награбленным, но король вскоре убедился, что город слишком хорошо укреплен, чтобы его можно было взять штурмом. Гарнизоном командовал сводный и весьма воинственный брат герцога Вильгельма Одо, которому божественное призвание не помешало лично возглавить оборону, вооружившись булавой вместо епископского посоха и, подоткнув далматик[49], оседлать коня. Возглавляемые своим пылким молодым епископом, жители Байе отразили первый штурм, засыпав нападающих градом дротиков, метательных копий, камней и кипящей смолы; а когда французы в беспорядке отступили, несколько отчаянных рыцарей и шевалье предприняли неожиданную вылазку, изрядно проредив ряды неприятеля перед тем, как их все-таки заставили укрыться за городскими стенами.
Королю Генриху пришлось отказаться от своего намерения разграбить Байе, и он направился к Кану, разоряя и подвергая огню и мечу всю округу. Епископ Одо, отложив в сторону булаву, взялся за перо, дабы отписать своему брату о триумфе Байе.
Читая в Фалезе написанные по-латыни строки Одо, Вильгельм презрительно скривился:
– Святые угодники, неужели это все, на что способен Генрих? Клянусь распятием, я придумал бы дюжину способов, как взять Байе!
Денно и нощно в Фалез прибывали лазутчики с донесениями о продвижении королевской армии; денно и нощно такие бароны, как порывистый и неудержимый Тессон Тюри-ан-Сингуэлиц или жизнерадостный весельчак Гуго де Монфор, уводили небольшие летучие отряды для нанесения ударов по флангам неприятеля. А Вильгельм следил за каждым шагом короля, словно ястреб, кружащий над своей добычей.
Его Величество ни в коей мере не склонен был недооценивать мощь и силу своего вассала, но он прекрасно знал: Вильгельм распустил бо́льшую часть своей армии, и он был слишком опытным военачальником, чтобы столь малыми силами пытаться атаковать войска вторжения. Король опасался внезапных ночных нападений или же засад, устроенных днем, но при этом полагал, что открытый бой ему не грозит. Во время остановки в Кане караулы по его приказу были удвоены, а пьянство среди солдат каралось смертью. Но Вильгельм как сквозь землю провалился, и король Генрих в конце концов начал прислушиваться к тем, кто уверял, будто нормандцы не рискнут напасть на него. Он продолжал двигаться на восток, и подчиненные заметили, что Его Величество впервые за много месяцев обрел приподнятое расположение духа.
Однако, пока король приближался к броду у Варавиля, человек, который, как он полагал, боялся вступить с ним в открытую схватку, отвел назад свои летучие отряды и призвал к оружию всех свободных землепашцев и холопов региона.
Королевские лазутчики подобрались к Фалезу настолько близко, насколько позволила им храбрость, но не смогли разузнать ничего ценного. Они донесли, что герцог по-прежнему остается в городе, не предпринимая попыток покинуть его. Осмелев, король приказал своей армии двигаться дальше. Он решил, что, форсировав Див, окажется в безопасности: лишь переход по узкой гати, проложенной по болотам, представлялся ему рискованным предприятием. Король неустанно рассылал во все стороны дозоры, которые должны были вовремя предупредить его о появлении герцога, в любую минуту ожидая донесения о том, что тот наконец совершил вылазку из Фалеза. Находясь уже в одном дне пути от Варавиля, Его Величество получил известия – Вильгельм по-прежнему не трогается с места. Рассмеявшись сухим, лающим смехом, он с юмором, что в последнее время случалось с ним редко, заявил Мартелю:
– Наконец-то Волк перехитрил сам себя! Я полагал, услышу о том, что он устроил мне засаду в Варавиле. Призна́юсь, если бы мне донесли, что он вышел из Фалеза, я бы предпочел повернуть на юг, к Аржансу, чем принимать бой у этого предательски ненадежного брода. – Король с довольным видом потер сухие ладони. – Ха, Вильгельм, ты что, заснул? – с интонацией, весьма напоминающей злорадное веселье, сказал он.
Мартель громогласно потребовал подать им вина. Пока он пил с Генрихом за успех предприятия, грубо подшучивая над нормандцами, которые укрылись-де от него за стенами города, полагая себя в безопасности, в Фалезе не осталось ни единого рыцаря или дружинника. Герцог наконец сделал свой ход, когда у короля рассеялись последние страхи на этот счет, и направился на север с такой скоростью, о какой и мечтать не могли французы, нагруженные награбленным добром.
Впрочем, ведомая герцогом армия имела чрезвычайно странный вид. Впереди ехали его рыцари в начищенных доспехах, жарко сверкавших под лучами солнца, и с вымпелами, трепещущими на кончиках копий. А за ними следовала разношерстная толпа копейщиков и сервов; одни были в кирасах и несли настоящие щиты и дротики; другие надели кожаные туники и держали в руках луки; третьи были вооружены косами и топорами, но все сидели верхом на тех клячах, коих сумели раздобыть для себя.
– Кровь Христова! – вспылил Гуго де Гурней, – что за сброд мы ведем за собой?
Французы подошли к Варавилю, когда отлив достиг своей низшей точки. По обширным болотам к броду вела длинная гать; а за ним, на другом берегу, захватчиков ждала совсем иная местность. Там не было топких равнин, сразу же за рекой вздымалась гряда невысоких холмов.
Авангард, возглавляемый королем и Мартелем, медленно переправился через реку и начал подниматься на холмы другого берега. Оставшийся на гати громоздкий и неуклюжий арьергард готовился последовать за ними: конные, пешие, вьючные лошади и фургоны. Когда последняя повозка переправилась через брод, начался прилив. Король Генрих, наблюдавший за происходящим с одной из высот на противоположном берегу, испугался, ведь вода вскоре грозила подняться настолько сильно, что переправа станет невозможной. Король отправил гонца с приказом ускорить движение. Но тут Мартель бесцеремонно схватил его за руку и дрожащим пальцем указал на оставшийся позади берег. Он попытался было заговорить, но издал лишь невнятное клокотанье. Король быстро взглянул в ту сторону и увидел всадников, галопом мчащихся с запада к гати. Его Величество закричал, отдавая приказ, однако не успели слова команды слететь с уст короля, как его фаворит, Рено де Клермон, воскликнул:
– Болота, болота! Клянусь Богом, смотрите, они буквально кишат людьми!
Генрих подался вперед, глядя в сторону, куда указывал Рено. Через заросли тростника и осоки, по одним только им ведомым тропинкам, бежали люди, перепрыгивая с одной кочки на другую, огибая кусты и продираясь сквозь них, но неуклонно приближаясь к гати.
Король отправил гонца к броду с приказом для своих людей, еще остававшихся на деревянном настиле.
– Несколько копейщиков и орда сервов, – пробормотал он, не сводя глаз с болотистой равнины. – Отчего ты так легко ударился в панику, Рено? Сейчас ты увидишь, как мои воины рассеют эту толпу, обещаю тебе. – Генрих перевел взгляд на всадников, остановившихся поодаль, и добавил: – Ага, Волк тоже не спешит подыхать! Ему не нравится вид моих сторонников, мессиры. – Но тут голос Его Величества дрогнул и сорвался. Король резко бросил: – Господи Иисусе, это еще что такое? – Рука его больно стиснула плечо Клермона, а взгляд был прикован к людям, рассеявшимся по болоту. – Лучники! – прошептал он. – Стрелы…
Представшее им зрелище показалось Мартелю настолько нелепым и неправдоподобным, что он воспрянул духом.
– Хо, хо! Бастард решил, будто он – на охоте, да? – с презрением вскричал граф. – Славная шутка!
– Шутка! – завопил король. – Будь я проклят, над чем тут можно шутить? – Он резко развернул коня, одновременно выкрикивая Сен-Полю новые распоряжения.
А лучники Вильгельма уже выпустили с дальнего берега первую тучу стрел. Некоторые не долетели до французов, другие просвистели над их головами, но большинство нашло свою цель. На гати возникло замешательство, град стрел поверг воинов короля в панику. Те же, кто поспешно выстроился в боевые порядки, готовясь противостоять атаке кавалерии, были парализованы ужасом и сбились в кучу на узкой дороге, будучи не в силах пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы отразить нападение, с которым доселе им не приходилось иметь дела. Кое-кто из солдат спрыгнул с гати, чтобы добраться до лучников, но они не знали потайных тропинок, поэтому их поглотила трясина.
Лицо короля залила смертельная бледность, а рука его, сжимавшая уздечку, тряслась, будто в лихорадке. Первой мыслью Генриха было отправить авангард обратно через брод, но не успел он отдать приказ, как военачальники стали умолять его взглянуть и убедиться, что переправа невозможна.
Прилив наступал стремительно; пока Генрих пытался развернуть своих людей, лучники и копейщики с болот выстроились вдоль берега, перекрывая брод.
– Сир, сир, пешие ратники уже не смогут перейти реку! – отчаянно закричал Сент-Поль.
– Моя кавалерия еще может успеть! – оборвал его король.
Но тут вмешался Мондидье.
– Это безумие, Ваше Величество, настоящее безумие! Ничего не выйдет; мы падем жертвами проклятых стрел, пока будем медленно брести против течения. Мы более ничего не сможем сделать! – Он поднес руку козырьком к глазам, закрывая их от солнца. – Ха, Дю Лак сумел подчинить их! Смотрите, Ваше Величество, они готовы сражаться!
– Бастард идет вперед, – заметил Сен-Поль, глядя на всадников на дальнем конце гати. – Он лично возглавил атаку; я вижу золотых львов на его знамени. Господи, помоги нашим людям отразить его нападение! Кровь Христова, неужели никто не способен добраться до этих лучников?
На гать тем временем обрушился новый ливень стрел; зрителям на восточном берегу стало очевидно, что ужас, который сеяла эта несущаяся издалека смерть, поверг французский авангард в безрассудную панику. Нормандские копейщики, пробравшись по болоту к гати, атаковали французов с фланга; лошадь без всадника понесла и врезалась в первые ряды, буквально смяв их. Французы растерялись, не зная, с какой стороны обороняться. В воздухе вновь пропели стрелы; нормандские пехотинцы уже оказались среди них и сошлись с солдатами врукопашную; кавалерия же теснила французов назад, прямо под стрелы лучников и копья ратников, которые удерживали брод за их спинами.
В бессильной ярости король Генрих смотрел, как погибает половина его армии. Он попытался отправить свою кавалерию вброд через предательскую реку, но вода поднималась слишком быстро, и град стрел заставил всадников повернуть назад. Его Величество, ссутулившись, сидел на своем жеребце, не в силах оторвать взгляд от бойни на западном берегу, и видел, как отчаянно сражаются его солдаты, уже не для того, чтобы победить нормандцев, а чтобы избежать смерти, что окружила их со всех сторон.
К Мондидье вернулся дар речи, пока остальные хранили ошеломленное молчание. Заикаясь, он пробормотал:
– Боже милосердный, что это за сражение? Ах, трусы, отбросьте врага! Их всего-то горстка! Кровь Христова, неужели там, внизу, не найдется ни одного вожака? – Он отвернулся, не в силах более выносить зрелище смертоубийства на узкой гати.
В конце концов соратники силой заставили короля уйти оттуда; Генрих безвольно покачивался в седле, заявив, что они могут поступать так, как им заблагорассудится. Из арьергарда не осталось в живых ни единого человека. Сражение переместилось к повозкам и обозу армии; те, кого не зарубили в рукопашной или не пронзили беспощадными стрелами, попытались бежать по болотам. Одни с ужасными криками утонули в трясине, захлебываясь грязью и зеленой водой; за остальными бросились в погоню нормандские крестьяне, после добив либо взяв в плен. Кое-кто кинулся в воды реки в отчаянной попытке доплыть до восточного берега, но тяжелые хауберки утянули их на дно, и выплыть против течения они не смогли. Порозовевшая вода, усеянная трупами, бурлила от отчаянных взмахов рук; на гати громоздились опрокинутые телеги вперемежку с рассыпавшимся награбленным добром. Вот труп лошади перегородил дорогу; в другом месте груда мертвых тел еще колыхалась от слабеющих усилий какого-то несчастного, пытающегося выбраться из-под завала.
Гуго де Гурней вырвал стрелу, застрявшую в толстой коже его туники.
– Премного благодарен, монсеньор, – с мрачным юмором пошутил он.
Жеребец Вильгельма стоял среди кучи разбросанных сокровищ. В пыли блестел смятый золотой кубок; рядом лежал изорванный копытами отрез тончайшего шелка, расшитого золотой нитью; на дороге там и сям виднелись сосуды из серебра, ожерелья из драгоценных камней, сверкающая золотая застежка, забрызганные кровью убитой лошади, труп которой совершенно неуместно покоился здесь же.
Герцог следил за отступлением французского авангарда на другом берегу, но обернулся на голос де Гурнея и увидел стрелу.
– Ты ранен? – спросил он. – Мне очень жаль, Гуго: на такое я не рассчитывал.
– Это всего лишь царапина. Стрела попала в меня уже на излете. Но не могли бы ваши лучники в следующий раз не стрелять в своих, а?
Герцог расхохотался.
– Договорились, это больше не повторится. Но ты же не станешь отрицать – именно мои лучники принесли нам победу?
– Если ими правильно командовать, да еще и обучить, – отозвался де Гурней, осторожно щупая плечо, – то они и впрямь могут пригодиться.
– Как, неужели ты наконец решил поддержать лучников, Гуго? – осведомился граф Роберт д’Э, перешагивая через убитых. Сняв с головы шлем, он не глядя швырнул его оруженосцу. – Если бы эти олухи не опустили луки, когда увидели, что мы схватились с французами врукопашную, то мы потеряли бы не меньше дюжины своих людей. Что скажешь, Вальтер?
Лорд Лонгевиль только фыркнул в ответ.
– Да, я видел, как несколько наших были ранены, но это потому, что безмозглые сервы выстрелили не вовремя. А вот если бы у нас были хорошо обученные лучники, да еще под командой опытного капитана… – Он поджал губы, уже представляя себе формирование такого отряда.
Роберт метнул выразительный взгляд на герцога. Уголки губ Вильгельма дрогнули в улыбке.
– Что ж, выходит, моих лучников можно оставить, Вальтер? – невинно поинтересовался герцог.
Его вопрос отвлек лорда Лонгевилля от приятных размышлений.
– Оставить? Кого… ах, да! Оставить! Да после сегодняшнего урока во всех уголках христианского мира начнут использовать лучников! Неужели вы готовы отказаться от них только потому, что они не обучены, монсеньор? Нет-нет, теперь надо придумать, как использовать их к наилучшей выгоде. – Лонгевилль добродушно кивнул своему молодому сюзерену. – Имейте терпение, монсеньор, и совсем скоро вы увидите в деле уже других стрелков.
Герцог поклонился.
– Большое тебе спасибо, Вальтер, – совершенно серьезно сказал он и пустил своего коня шагом по дороге, пробираясь между завалами мертвых тел. Проезжая мимо графа Роберта, Вильгельм едва слышно пробормотал: – Не пройдет и недели, как Вальтер и старый Гуго де Гурней будут уверять, что идея использовать моих лучников принадлежит им!
Герцог отправился взглянуть, кого именно удалось взять в плен; граф д’Э задержался ровно настолько, чтобы услышать, как закадычные приятели, Жиффар и де Гурней, уже затеяли жаркий спор о том, где лучше расположить отряд стрелков, после чего незаметно удалился.
Остатки королевской армии поспешно отступали. Генриха более не интересовало награбленное, фураж для лошадей и сохранность снаряжения; казалось, после сокрушительного поражения он повредился рассудком. Когда же наконец заговорил, то лишь для того, чтобы отдать приказ ускорить отступление. Что до графа Анжу, то с ним у короля состоялся нелицеприятный разговор. Мартель, хорохорясь, заявил:
– По крайней мере, это не я отдал приказ о трусливом отступлении. Не я, чтоб мне провалиться на этом месте! Если бы я командовал армией, то встретился бы с Бастардом лицом к лицу в бою!
При этих словах с королем случился припадок истерического смеха, и он язвительно напомнил Мартелю о его прежнем отступлении из-под Домфрона и Амбриера. И вот в таком меланхолическом настроении два союзника и разорвали наконец заключенный договор. Потрепанное войско доковыляло до границы и, окунувшись в объятия родной Франции, ощутило себя в безопасности. Его Величество Генрих в последний раз испытал силу собственной армии на нормандском оселке.
Вскоре стало ясно, что крушение несбывшихся надежд короля самым серьезным образом подорвало его здоровье. Создавалось впечатление, будто за один день он постарел на добрый десяток лет, демонстрируя апатию, которая шокировала его придворных. Генрих был вынужден вновь заключить мирный договор с Вильгельмом, и, пока его советники изо всех сил старались смягчить унизительные условия, он, совершенно отстранившись от происходящего, сидел, кутаясь в мантию и глядя перед собой неподвижным взглядом. Ему прочли согласованные пункты; он кивнул, как если бы они ничего более для него не значили. И только когда вслух был зачитан параграф, в соответствии с которым Тийер отходил Нормандии, на лице короля отразилось сожаление. Губы его искривились, а в глазах вдруг загорелось нечто похожее на прежнее старое пламя. Но эта вспышка быстро угасла; Генрих, согласившись на все условия, поручил своим советникам как можно скорее скрепить договор печатью.
А в Руане герцогиня вновь возлежала в объятиях Вильгельма. Она оказалась крепко прижатой к стальным кольцам его хауберка, но, похоже, не чувствовала боли. Зато живо поинтересовалась:
– Значит, вы вернули себе Тийер, милорд?
– Да, как и обещал, я вернул себе Тийер, – ответил Вильгельм.
Матильда вся горела как в огне: глаза, щеки и сердце. Губы ее манили и ждали его ласк.
– Ах, Вильгельм, вы достойны того, чтобы быть отцом моих сыновей! – проворковала она.
Герцог отстранил ее от себя, безжалостно стиснув ей руки.
– И тебя более не отвращает то, что моя бюргерская кровь смешается с твоей, жена? – осведомился он.
В голосе его прозвучали жесткие нотки, но если она и вспомнила о нанесенном ему оскорблении семилетней давности, то лишь на мгновение. Матильда почти не слушала, что говорит Вильгельм; она наслаждалась мгновениями своего триумфа.
– О, Воинственный Герцог, если бы я способна была вновь стать девушкой! – воскликнула она. – Тогда ты мог бы взять меня и я стала бы наградой победителю!
Матильда до сих пор могла воспламенить Вильгельма, вытеснив из его головы все мысли, кроме любви к ней. Он, прижав ее к себе, негромко произнес:
– Неужели только потому, что ты больше не девушка, я не должен более взять тебя, мое Холодное Сердце?
– Я – твоя, – ответила она, кладя ему руки на грудь.
Не прошло и года, как Нормандия избавилась от двух своих злейших врагов. Король Генрих, на которого после подписания мирного договора обрушилась тяжелая болезнь, кое-как протянул зиму и весну, но потом все-таки скончался: его здоровье было окончательно подорвано тоской и горечью поражения. Через несколько недель умер и Мартель. Создавалось впечатление, будто герцог Нормандский попросту лишил обоих жизненных сил.
Свою страну Мартель отдал в наследство двум сыновьям, разделив ее между ними.
– Здесь нам больше нечего опасаться, – узнав об этом, заявил Вильгельм.
Корону же Франции унаследовал Филипп, сын Генриха, но, поскольку он был совсем еще ребенком, то, согласно завещанию короля, регентом до момента достижения им совершеннолетия назначался Болдуин, граф Фландрский. Хотя бы в смерти король Генрих постарался искупить глупости, совершенные им при жизни. Невозможно было найти более подходящего человека, способного взять в свои руки нити управления страной, к тому же честного и дальновидного. Но вассалы в Оверни и Вермандуа, Аквитании и Гаскони, Бургундии и Ангулеме приняли выбор своего короля с разочарованием и раздражением.
Если Францией предстояло править Болдуину, то Нормандия в ее лице теряла своего самого могущественного врага. На протяжении целых тринадцати лет герцогу Вильгельму пришлось обороняться, сначала – от собственных баронов, потом – от Франции и Анжу, угрожавших ему войной. И только теперь, в возрасте тридцати двух лет, он почувствовал себя в безопасности. К востоку от него Понтье принесло ему вассальную присягу; к западу Анжу было разделено на две части по завещанию Мартеля; Францией на юге управлял мудрый граф, приходившийся Вильгельму тестем.
Вассалы съезжались на коронацию Филиппа, дабы присягнуть ему на верность, снедаемые дурными предчувствиями. Последним прибыл Нормандец, и те, кто раньше видел его лишь в доспехах, теперь были поражены грандиозным великолепием и роскошью его свиты, затмившей собой всех остальных гостей. Свиту Вильгельма с великим трудом разместил во дворце гофмейстер.
– Что ж, жена, – безо всяких церемоний заметил Болдуин, – мне представляется, наша дочь сделала правильный выбор, отдав свою руку и сердце Нормандцу.
– На мой взгляд, он стал чересчур уж самоуверен, – ответила графиня-француженка. – И чем все это кончится, милорд?
Граф Болдуин задумчиво погладил бородку.
– Думается мне, – медленно проговорил он, – ничего еще и не начиналось.
– Что вы имеете в виду? – поинтересовалась его супруга.
Задумчиво глядя на нее, граф сказал:
– Мы видели, как он победил всех, кто хотел лишить его наследства. И как он чувствует себя теперь?
– В полной безопасности, слава богу! – ответила графиня.
– Да, – согласно кивнул Болдуин. – Вот только испытывает ли он от этого удовлетворение? Боюсь, что нет, дорогая.
Часть четвертая
(1063–1065 гг.)
Клятва
Гарольд, ты не можешь отрицать, что принес клятву верности Вильгельму на священной реликвии.
Гирт Годвинсон
Глава 1
– А теперь расскажи мне обо всем по порядку, с самого начала, – попросил Эдгар. – Клянусь терновым венцом, ты загорел дочерна! Ты не ранен?
– Ни царапины. – Рауль взял друга под руку. – А как твои дела? Что произошло с тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз?
– О, решительно ничего заслуживающего внимания! – отозвался Эдгар. – После вашего отъезда в Руане стало тихо, как на кладбище. – Друзья медленно двинулись по дворцовым садам. Землю под ногами прихватил легкий мороз, а на траве лежал иней. – Около месяца назад я получил новости из Англии, – сообщил Эдгар. – Мой отец пишет о победах Гарольда. Пока вы покоряли Мэн, он завоевал Уэльс. – Щеки сакса порозовели от гордости. – Обратно в Лондон Гарольд привез голову Гриффида[50] и носовую фигуру его корабля, – сказал Эдгар. – Что ты об этом думаешь? Он хорошо поработал?
– Не просто хорошо, а, я бы сказал, отлично, – согласился Рауль. – Судя по всему, он великий воин. Какие еще новости у тебя есть?
– Почти никаких. Вульнот нашел себе возлюбленную. Теперь твоя очередь рассказывать. Правду ли говорят, что герцог беспрепятственно вошел в Ле-Ман, даже не предприняв попытки штурма?
Рауль кивнул.
– Он отложил его напоследок. Ты же знаешь манеру Вильгельма. Мы не хотели проливать кровь сверх того, что было совершенно необходимо. Но тот, кто удерживает Ле-Ман, владеет всем Мэном.
– Гарнизоном командовал Вальтер Мантский, если не ошибаюсь?
– Нет, там верховодил один из его лучших друзей, Жоффруа Майенн. Так я и знал, что эта собака не заслуживает доверия.
– Ну-ка, ну-ка, расскажи мне, как все прошло! – нетерпеливо вскричал Эдгар. – Все эти долгие и тоскливые месяцы я очень сожалел, что не могу оказаться рядом с тобой.
За три года до этого, после смерти Мартеля, Эриберт, молодой граф Мэн, стал вассалом герцога Вильгельма. Освободившись от власти анжуйского тирана, он, однако, не ощущал в себе достаточно сил, чтобы противостоять двум наследникам Мартеля. Граф обратился к Вильгельму, питая к нему глубочайшее уважение, и предложил соглашение, согласно которому Мэн превращался в феод Нормандии в соответствии с привилегией, дарованной герцогу Ролло еще в глубокой древности. Обе высокие стороны заключили договор; сестра графа Эриберта Маргарет была официально обручена с лордом Робертом, наследником Нормандии, а сам Эриберт принял на себя обязательство предложить руку и сердце старшей дочери герцога Аделизе, как только она достигнет брачного возраста. Герцог Вильгельм оказался сюзереном совсем иного плана, нежели Мартель, причем настолько, что Эриберт, здоровье которого всегда оставляло желать лучшего, решил: ради процветания Мэна он должен завещать свое графство герцогу, если после него самого не останется законного наследника. Так оно и случилось ровно через два года. Граф Эриберт, уже лежа на смертном одре, предостерег своих вельмож от покровительства таких тиранов, как Вальтер Мантский, супруг его тетки Биоты, или Жоффруа, алчный лорд Майенна; после этого он испустил дух, повелев им повиноваться герцогу Вильгельму.
Впрочем, вряд ли можно было ожидать, что жители Ле-Мана объединятся в желании сделать своим графом чужеземца, поэтому довольно-таки сильная партия составилась под знаменем Вальтера Мантского, предъявившего права на трон от имени своей супруги. Его сторонники вошли в Ле-Ман и укрепили город, после чего провозгласили Вальтера и Биоту своими новыми правителями.
Таким образом, летом 1063 года герцогу Вильгельму вновь пришлось надеть доспехи и выступить в поход во главе своей армии, но уже не для того, чтобы обороняться, а чтобы покорять. Как и всегда, Эдгару отчаянно хотелось присоединиться к армии; он даже обратился к герцогу с просьбой взять его с собой, на что тот ответил:
– А что будет, если вы падете в бою, тан Марвелл? Между тем я дал слово, что с вами не случится ничего худого. И как прикажете мне тогда держать ответ перед королем Эдуардом, который доверил вас моему попечению?
Эдгару пришлось смириться, и он, безутешный, отступился, а немного погодя с тоской провожал глазами армию, выступившую из Руана без него. Но теперь кампания закончилась, и дворец вновь кишел придворными рыцарями, а также лордами Вильгельма. При первой же возможности Эдгар утащил Рауля с собой, дабы узнать, что произошло в Мэне, предложив другу прогуляться по прихваченным морозцем садам.
– Расскажи мне все с самого начала! – потребовал он.
– Как раз поначалу не происходило почти ничего интересного! – ответил Рауль. – Мы совершили несколько набегов, чтобы посеять страх в тамошних обитателях, поскольку хотели избежать кровопролития. Задуманное удалось нам легко; они настолько боялись Вильгельма, что обращались в паническое бегство, стоило им завидеть вдалеке блеск его шпор. Мы сожгли несколько домов, захватили провиант для своих людей и двинулись дальше, покоряя те города, которые попадались нам на пути, пока не подошли к Ле-Ману. Откровенно говоря, мы даже не представляли, как подступиться к штурму города, ведь он хорошо укреплен и к тому же расположен на высокой скале.
– Но ведь осады не было? – перебил его Эдгар. – Фитц-Осберн сказал…
– Не было ни осады, ни штурма, – смеясь, ответил Рауль. – Местные жители назвали это Joyeuse Entrée[51]. Можешь мне поверить, к тому времени, как мы подошли к Ле-Ману, бюргеры уже были сыты по горло военачальниками Вальтера. Они прислали к нам парламентеров и, убедившись в том, что мы готовы поддержать их, изгнали из города Майенна и остальных собравшихся там лордов. Вильгельм въехал в ворота по цветам, которые жители бросали под копыта его жеребца.
– Они приветствовали вас с распростертыми объятиями? – не веря своим ушам поинтересовался Эдгар. – Чужаков? Захватчиков?
– Будь уверен, они были рады нам. Ты просто не знаешь Вальтера Мантского или его людей. Мэн стонал под их игом, когда мы пришли, чтобы предъявить свои права. К тому же всем известно, что Вильгельм – справедливый правитель.
Эдгар покачал головой.
– Да, но… Ладно, а что было потом, после вашего Joyeuse Entrée?
– Мы прошли маршем от Ле-Мана до Майенна и, обнаружив, что расположение последнего не позволяет взять его штурмом, попросту подожгли этот город.
– Так же, как Мортемер?
– Да, хотя здесь задача и оказалась сложнее. Все говорили, что, дескать, Майенн взять невозможно, поскольку он хорошо укреплен. А мы заняли его через полдня.
При этих словах пронзительный крик «Держи!» заставил Рауля умолкнуть. В соседних кустах началась какая-то возня, и наружу вывалился Роджер Фитц-Вильгельм, первенец Фитц-Осберна, его по пятам преследовал крепыш, в котором друзья узнали наследника Нормандии.
Роджер остановился, заметив, что по траве ему навстречу идут двое мужчин, и даже попятился, зато Роберт бросился к ним, крича:
– Эй, мессир Рауль! А вы знаете, что отец привез с собой мою нареченную? Ее зовут Маргарет. Но вам, разумеется, уже известно об этом, не так ли? Она станет моей невестой. – Он встал у Рауля на пути и запрокинул красивое лицо, дружески улыбаясь обоим мужчинам.
– Я желаю вам счастья в браке, милорд, – сказал Рауль. – А вы сами уже видели леди Маргарет?
– О да! – ответил Роберт, широко расставив ноги. – Она старше меня, но на вид – такая маленькая и бледная, что этого совершенно незаметно. Мама говорит, воспитываться она будет с моими сестрами, но Аделизе это не нравится, потому что Маргарет ее главнее. Кроме того, она ей завидует, ведь граф Эриберт умер и она больше не обручена. Что до Маргарет, то я сказал Аделизе: она, разумеется, и должна быть главнее, потому что будет моей женой, а когда отец умрет, то я сам стану герцогом Нормандии. – Он начал приплясывать перед Раулем. – А когда я стану герцогом, то превращу каждый день в праздник, а Роджер будет моим сенешалем, и мы станем сражаться на турнирах и охотиться целыми днями напролет.
– А пока что, – прервал его Эдгар, – мне кажется, вы удрали от своего воспитателя, маленький лорд, и скоро вам зададут трепку.
Роджер, переминавшийся с ноги на ногу неподалеку, глуповато ухмыльнулся, но Роберт лишь тряхнул головой, заявив:
– Ну и что? Теперь, когда отец вернулся, я знаю – играть мне не дадут. Пусть уж лучше он снова уезжает на какую-нибудь войну.
– Так говорить нельзя, – строго заметил Рауль. – Как поживают ваши братья? Они, как и вы сами, наверняка выросли с момента нашей последней встречи.
– О, с ними все в порядке, – ответил Роберт. – Вильгельм, конечно, совсем еще глупый малыш, а что касается Ричарда, то он должен быть с нами, но он такой медлительный, что просто не может догнать ни Роджера, ни меня.
– С вашей стороны было не очень хорошо убегать от него, – заметил Эдгар.
– Кажется, я слышу, как он приближается, мессир, – встрял в разговор Роджер. – Мы не собирались бросать его, но, видите ли, мы играли в догонялки.
– Что до меня, – откровенно заявил Роберт, – то я бы с превеликим удовольствием потерял Ричарда. Нет, вы только взгляните на него! Да он больше похож на несмышленого ребенка, чем Рыжий Вильгельм.
Из-за кустов донеслись стоны и причитания милорда Ричарда. Наконец показался и он сам, худенький мальчик со светлыми, как у матери, волосами и бледным цветом кожи. Заметив брата, он тут же набросился на него с упреками:
– Я тебя ненавижу, Роберт! Ты специально спрятался от меня! Я расскажу о тебе отцу, и он отлупит тебя.
– Как и тебя тоже, если ты наябедничаешь герцогу, что мы сбежали с уроков, – парировал Роберт. Он вновь стал приплясывать на месте и потянул Рауля за мантию. – И кто только придумал латынь? Мне бы хотелось учиться одним лишь воинским упражнениям и целыми днями скакать на своей лошади.
– Эй, ты все равно никогда не сможешь ездить верхом так же хорошо, как я, потому что у тебя слишком короткие ноги! – вскричал Ричард. – Мессир Рауль, герцог говорит, Роберта следовало бы назвать Куртгезом[52], потому что у него короткие… – Договорить ему не дали. С яростным воплем «Вонючка!» Роберт ринулся на мальчика, и братья, повалившись на траву, принялись драться, словно дикие кошки.
Эдгар схватил Роберта за шиворот одной рукой и оттащил его в сторону, пока тот разъяренно брыкался. Поверх головы мальчишки сакс бросил:
– Достойные сыновья Воинственного Герцога, нечего сказать, Рауль… Все, довольно, маленький лорд! Вы подняли такой шум, что сейчас сюда сбегутся все ваши наставники.
Так оно и случилось. Глядя, как почетный эскорт уводит всех троих мальчишек во дворец, Эдгар сказал:
– Думаю, герцог воспитал себе наследника, который доставит ему немало хлопот. Роберт уже не признает отцовского авторитета.
Слова эти были произнесены в шутку, но Эдгар и не подозревал, сколько в них правды. Из всех его детей Роберт, первенец, на которого он должен был возлагать свои надежды, был дальше других от сердца герцога и его понимания. Роберт отличался безудержной импульсивностью и не терпел возражений; ему не повезло в том, что отцом его был настоящий деспот и просто властный человек. Характером мальчик пошел в мать, так что с ним трудно было справиться, и он бунтовал против любой дисциплины просто из чувства противоречия. Герцогиня обожала его и по мере сил старалась защитить от гнева отца. Роберт очень рано начал смотреть на герцога как на тирана; он боялся его, но, будучи истинным сыном своей матери, скрывал свой страх под несговорчивой и упрямой наружностью, чем и навлекал на себя неудовольствие Вильгельма по дюжине раз на дню.
Что касается остальных детей, то нельзя же было всерьез ожидать, будто потомство, рожденное от столь бурного и противоречивого союза, сможет долго жить в мире с самим собой. Детские комнаты герцога неизменно оглашали гневные вопли: Роберт дрался с Ричардом; Аделиза выказывала открытое неповиновение своей гувернантке даже под страхом порки; маленькая монашка Цецилия демонстрировала высокомерие и самоуверенность, кои разительным образом не соответствовали ее духовному призванию; и даже трехлетний Вильгельм давал понять окружающему миру, что нрав его вполне соответствует цвету огненной шевелюры.
Глядя на своего сына издали, герцог однажды нетерпеливо бросил:
– Рауль, неужели у меня не будет более достойного наследника, чем Куртгез? Клянусь распятием, в его годы у меня было больше мозгов, чем будет у него, когда он достигнет моего нынешнего возраста!
– Имейте терпение, монсеньор: в детстве вам пришлось пройти суровую школу, – ответил Рауль.
Герцог посмотрел вслед Роберту, уходящему в обнимку с сыном Монтгомери, и презрительно заявил:
– Он слишком податлив; ему обязательно надо, чтобы его любили. Разве меня когда-либо волновали подобные вещи? Можешь мне поверить, Роберт руководствуется чувствами, а не разумом.
Немного помолчав, Рауль ответил:
– Сеньор, вы – решительный и властный правитель, но разве так уж плохо иметь сердце помягче, чем у вас?
– Друг мой, я потому и добился своего нынешнего положения, что никогда не позволял сердцу управлять своими поступками и головой, – сказал герцог. – И если Роберт не усвоит вовремя этот урок, то растеряет все, что мне удалось обрести, когда я отправлюсь к праотцам.
Дальнейшие события лишь подтвердили его правоту. Зимнее умиротворение во дворце нередко нарушалось выходками милорда Роберта и последующей мгновенной отцовской карой. Роберта не пугала порка, но он частенько жаловался, смеясь сквозь слезы, что у герцога Вильгельма чересчур тяжелая рука.
Наступила весна, и мальчик увлекся воинскими упражнениями, которые всегда любил. Между ним и отцом на некоторое время воцарился мир, да и в герцогстве не случилось ничего, способного нарушить непривычно размеренную жизнь в Нормандии. Жильбер Дюфаи как-то даже, зевая во весь рот, заметил:
– О-хо-хо! Хоть бы уж второй граф д’Арк появился, что ли, чтобы мы не сошли с ума от безделья.
– Следи за Бретанью, – посоветовал ему Эдгар. – До меня дошли кое-какие интересные слухи.
– Вечно до тебя доходят какие-то слухи! – сказал Жильбер. – И от кого ты их узнаёшь? От Рауля? Что, Конан Бретонский отказался присягнуть нам на верность?
– Об этом мне ничего неизвестно, – осторожно подбирая слова, сказал Эдгар. – И это был не Рауль. Просто Фитц-Осберн обронил кое-что интересное на ходу, только и всего.
– Что ж, будем надеяться, Господь все же пошлет нам какое-никакое развлечение, – с очередным зевком заключил Жилбьер.
Его молитвы были услышаны быстрее, чем он ожидал, причем так, как никто и предположить не мог. Однажды поздней весной они ужинали за столом, когда за огромными дверьми началась неожиданная возня и послышались сердитые голоса. Герцог сидел за высоким столом на помосте, глядя вниз на залу и вход в нее. С едой было покончено, и вся компания пребывала в приподнятом настроении, а на столе еще оставались вино и сладости.
Когда же шум на заднем дворе усилился, герцог, недоуменно нахмурившись, метнул взгляд на дверь, и Фитц-Осберн поспешил наружу, дабы выяснить причину столь неподобающей суеты. Не успел он пройти и половины расстояния до выхода, как у дверей завязалась настоящая драка и чей-то голос отчаянно закричал на ломаном нормандском:
– Аудиенция! Я прошу аудиенции у герцога Нормандии!
Мгновением позже чья-то рука настолько сильно толкнула церемониймейстера, что тот рухнул спиной на пол, а в залу ворвался оборванный и забрызганный грязью незнакомец, волоча за собой еще двух стражников, которые вцепились в полы его мантии в попытке задержать. На нем была короткая туника, порванная в нескольких местах и заляпанная грязью; шлем свой он где-то потерял, а длинные светлые волосы незнакомца пребывали в беспорядке и прилипли ко влажному от пота лбу. Остановившись посредине залы, он обвел взглядом обращенные к нему лица, на которых читалось удивление. Безошибочно угадав среди них герцога, неподвижно сидящего во главе стола и наблюдающего за происходящим, незнакомец протянул к нему руки и упал на колено.
– Помощи, прошу у вас помощи, милорд герцог! – вскричал он. – Выслушайте меня и явите справедливость!
Эдгар, сидевший на табуретке, вздрогнул как ужаленный, прервав разговор с Гийомом Мале, после чего, словно не веря своим глазам, с изумлением уставился на незнакомца.
Герцог небрежно шевельнул пальцем, и люди, по-прежнему удерживавшие незнакомца на месте, отпустили его.
– Я еще никому не отказывал в справедливости, – сказал Вильгельм. – Говори! Какая нужда привела тебя сюда?
По полу скрежетнули деревянные ножки табурета; Эдгар вскочил на ноги.
– Эльфрик! Господи милосердный, неужели я сплю? – Одним прыжком он перелетел с помоста вниз, на пол, оказавшись рядом с незнакомцем, и стиснул его в объятиях. Оба быстро заговорили о чем-то по-саксонски, не разжимая рук. Повинуясь знаку герцога, один из слуг наполнил кубок медовухой и поднес его мужчине.
– Как ты здесь оказался? – требовательно спросил Эдгар. – Я ведь даже не сразу узнал тебя после стольких-то лет! Ах, друг мой, друг мой! – Он вновь стиснул руку безмолвного Эльфрика и заставил того выпрямиться. – Вот, держи, это вино! Пей! Ты едва стоишь на ногах!
Эльфрик, дрожащей рукой приняв кубок, осушил его до дна.
– Гарольд! – прохрипел мужчина. – Он в опасности! Поговори с герцогом вместо меня, Эдгар! Он меня выслушает?
Эдгар схватил его за запястье.
– Где находится эрл Гарольд? Он не убит, я тебя спрашиваю, не умер?
– Нет, нет, он жив, но ему грозит большая беда. Поможет ли нам Нормандия? Я плохо говорю на их языке: будь моим толмачом!
Придворные замерли в ожидании, глядя на двух саксов; герцог повернул голову и пальцем поманил к себе Гийома Мале, в жилах которого текла саксонская кровь. Гийом, приблизившись к нему, негромко сказал:
– Он говорит, эрл Гарольд попал в беду. И положение его отчаянное. – Гийом перевел взгляд на молодого Хакона. – Ты знаешь, кто это такой, Хакон?
Юноша покачал головой.
– Нет, но его знает Эдгар. Он просит помощи у Нормандии. Говорит, что герцог поступит по справедливости, да?
– Можешь не сомневаться. – Вильгельм откинулся на спинку кресла. – Приведи ко мне чужеземца, тан Марвелл. Почему сакс обращается ко мне за помощью?
– Сеньор, он просит ее не для себя, а для эрла Гарольда! – ответил Эдгар.
Рауль еще никогда не видел сакса в таком волнении. Вновь повернувшись к Эльфрику, Эдгар о чем-то спросил его, и тот начал свой рассказ усталым и прерывающимся голосом, а Эдгар часто перебивал и направлял его вопросами. Герцог, откинувшись на спинку кресла, ждал.
Наконец Эльфрик умолк. Эдгар повернулся к Вильгельму.
– Милорд, эрл Гарольд попал в плен и находится в Понтье. Его жизни грозит опасность… Где это место, Эльфрик? В Борене, милорд, его удерживает там граф Ги. Я не совсем понял, в чем дело: Эльфрик и сам до конца не уверен в этом, но говорит, что у них в Понтье есть какой-то закон насчет потерпевших кораблекрушение. Эльфрик утверждает, будто они вышли в море на прогулку, однако попутный ветер сменился встречным, и их выбросило на скалы у побережья Понтье. Корабль затонул, а сами они вплавь добрались до берега. Но там их взяли в плен какие-то рыбаки – Эльфрик говорит, потерпевший кораблекрушение считается в Понтье законной добычей. Я этого не понимаю. Он говорит, что человека, которого море вынесло на берег, можно захватить и пытать ради получения огромного выкупа. – Эдгар, умолкнув, вопросительно взглянул на герцога.
– Да, в Понтье это в обычае, – ответил Вильгельм. – Продолжай. Как случилось, что граф Ги пленил Гарольда Годвинсона?
Эдгар вновь обернулся к Эльфрику и перевел вопрос.
– Сеньор, он говорит, когда рыбаки узнали, кто такой Гарольд, один из них донес об этом графу, предав нашего эрла ради пригоршни золота! – Руки сакса сжались в кулаки. – Граф прибыл лично, чтобы пленить Гарольда и тех, кто был с ним, заковав их в кандалы… Кто еще был с Гарольдом, Эльфрик?
Выслушав ответ, Эдгар побледнел, облизнул языком мгновенно пересохшие губы и поднес руку к вороту туники, словно ему было нечем дышать. Заговорить он сумел только со второй попытки, проглотив ком в горле, но голос его все равно срывался.
– Милорд, с эрлом Гарольдом было несколько танов, которых я знаю, и его сестра, баронесса Гундред, и… и Эльфрида, моя собственная сестра, сеньор! Она – фрейлина Гундред! Эльфрик сбежал чудом и сразу же верхом прискакал сюда, чтобы умолять вас о помощи. – Внезапно Эдгар преклонил негнущиеся колени и опустился на пол. – Как делаю сейчас и я, милорд герцог. Вы – сюзерен Понтье: помогите Гарольду и тем, кто находится вместе с ним!
Герцог поднял глаза; прочесть их выражение было непросто, но Рауль заметил, как они блеснули.
– Успокойся, – ответил Вильгельм. – Помощь вы получите, и очень быстро. – Герцог подозвал к себе мажордома. – Пусть сакса Эльфрика разместят безо всякого ущерба для его и моей чести. Мы сегодня же отправим в Понтье посланников. – Сойдя с возвышения, герцог на мгновение приостановился подле обоих саксов. Эльфрик, увидев, что Эдгар преклонил колени, последовал его примеру. Герцог коротко бросил:
– Встань, воин! К эрлу Гарольду мы поедем завтра.
Уловив смысл его речи, Эльфрик приложился в поцелуе к ладони Вильгельма. Эдгар медленно выпрямился и застыл, скрестив руки на груди и явно стыдясь взрыва своих чувств. Герцог с легкой улыбкой выслушал скомканные слова благодарности от Эльфрика и вышел, сопровождаемый Фитц-Осберном.
Эдгар быстро наклонился, помогая Эльфрику подняться на ноги, после чего силой усадил его на один из табуретов у стола.
– Он и вправду спасет эрла Гарольда? – с тревогой спросил Эльфрик.
– О да! – ответил Эдгар. – Он дал слово. Однако мне очень хотелось бы знать… – Сакс, умолкнув, присел рядом с Эльфриком. – Но расскажи мне, как поживает моя сестра? А мой отец? Если бы ты знал, как давно я не получал новостей из Англии!
Заметив, что Эльфрик выглядит вконец измученным и умирает от голода и жажды, Рауль, сойдя с возвышения, легонько опустил руку на плечо Эдгара.
– Пусть твой друг поест, Эдгар. Эй, кто-нибудь! Принесите мяса и вина для гостя герцога!
Эдгар взял его руку и руку Эльфрика, соединив их в пожатии.
– Рауль, это – мой ближайший сосед, Эльфрик Эдриксон. Эльфрик, это – Рауль де Харкорт, мой хороший друг. – Подняв глаза, он крепче стиснул кисть Рауля. – Герцог спасет Гарольда из Понтье, – с усилием выговорил он, словно слова дались ему с величайшим трудом. – Но скажи мне… успокой меня… Гарольда не предадут во второй раз?
Рауль, не дрогнув, выдержал его взгляд.
– Откуда вдруг такие дурные мысли?
– Ниоткуда. – Эдгар провел тыльной стороной ладони по лбу. – Но в моем сердце поселилась тревога. Мне показалось, будто в глазах герцога я увидел… торжество. Нет, не обращай на меня внимания. Я говорю глупости.
Перед ними вдруг вспыхнули багряный и желтый цвета́; звякнули колокольчики на колпаке шута, и Гале взмахнул своим жезлом с погремушкой.
– Нет, это было хорошо сказано, – коротко рассмеялся он странным смехом. Проскользнув мимо Эдгара, который с подозрением уставился на него, шут дернул Рауля за полу туники. Губы его шевельнулись, и произнесенные им слова долетели до слуха одного лишь Рауля. – Когда лев выхватывает добычу прямо из пасти лисы, можно ли считать это спасением, как думаешь?
Рауль сердито цыкнул на него и даже замахнулся, чтобы отвесить ему подзатыльник, но шут ловко увернулся и, смеясь, умчался прочь. Смех его жутковато раскатился под потолочными балками; казалось, это издевательски смеется домовой.
Глава 2
В комнате башни, принадлежавшей Эдгару, двое саксов проговорили до глубокой ночи, когда уже давно пробили вечернюю зарю[53]. Паж Эдгара принес им вино, сладкие пироги с печеньем и накрыл на стол, пока Эльфрик, словно завороженный, в молчании разглядывал тканые гобелены на стенах, дорогие меха и серебряные подсвечники. Когда паж ушел, он взял в руки один из кубков и принялся водить пальцем по узорам на его стенках, после чего задумчиво заметил:
– А ты живешь не хуже самого короля, скажу я тебе.
– Да, недурно, – ответил Эдгар, уже настолько привыкший к серебру, золоту и дорогим гобеленам, что они казались ему не сто́ящими упоминания. – Но расскажи мне об Англии! Ты ведь был с эрлом в Уэльсе?
Эльфрик с удовольствием заговорил о валлийской кампании. Эдгар сидел, подперев подбородок руками, но уже очень скоро на лице его появилось озадаченное выражение и, нахмурив брови, он прервал Эльфрика вопросом, услышав который, тот недоуменно уставился на друга.
– Постой, кто такой этот Эдрик, о котором ты говоришь? – пожелал узнать Эдгар. – И Моркар? Это один из сыновей Этельвульфа, живущего у Пивенси?
– Этельвульф! – воскликнул Эльфрик. – Нет конечно! Моркар – сын эрла Эльфгара! Неужели ты забыл?
Эдгар, покраснев, угрюмо ответил:
– Это ты забыл, что вот уже тринадцать лет я живу в изгнании. Значит, у Эльфгара есть взрослый сын? Я и представить себе не мог… Но продолжай: Эльфгар живет в мире с нашим эрлом? Я помню его таким рассудительным и осторожным хитрецом, что он никогда бы не поддержал…
– Эльфгар мертв вот уже два года, – сообщил ему Эльфрик. – После себя он оставил двоих взрослых сыновей, Эдвина и Моркара. Но ни один из них не унаследовал его мудрости. Моркар уже успел поссориться с эрлом Тостигом – полагаю, тебе известно, что он получил Нортумбрию?
– Да, конечно, – ответил Эдгар. – Его жена приходится родной сестрой герцогине Матильде, так что я часто слышал о нем – намного чаще, чем мне бы того хотелось. Он примирился с Гарольдом, или между ними все осталось как прежде?
– Как прежде. Он настолько дурно управляет своим графством, что Гарольд с радостью низложил бы его и объявил вне закона; все к этому идет. Тостиг – наш враг. Он ненавидит эрла и, когда король умрет…
– О, король, король! Боюсь, он еще переживет всех нас! – быстро сказал Эдгар.
– Никогда не думал, что ты питаешь такую любовь к Исповеднику, – сказал Эльфрик, с удивлением глядя на Эдгара. – В Англии мы все, те, кто считает себя людьми Гарольда, ждем не дождемся смерти Эдуарда, чтобы провозгласить Гарольда королем. – Он подался вперед, склонившись над разделявшим их столом. – Эдгар, ты должен знать, что произошло между Исповедником и герцогом Вильгельмом, когда тебя отдали Нормандцу в заложники.
– Я не знаю, – неохотно ответил Эдгар. – То есть до конца не уверен. Ходили слухи, будто король собирался сделать герцога Вильгельма своим наследником. Здесь в это верят все. Но, когда Эдуард послал за Этелингом в Венгрию, я решил, что всем хитроумным планам пришел конец, поскольку Этелинг был законным сыном Эдмунда Железнобокого[54] и единственным наследником английского престола.
– Да, но он умер. Саксы не пожелали признать его. Он был для нас таким же чужим, как и сам Исповедник! Однако, естественно, нашлись и те, кто готов был поддержать Этелинга из-за кровного родства. Хвала Господу, он скончался, а что до сына, маленького Этелинга Эдгара, то он еще ребенок, и на него можно не обращать внимания. Насколько я понимаю, с этой стороны Гарольду ничего не грозит. Он уже обладает всей полнотой власти, Эдгар: тебе следует знать об этом. Полагаю, он должен подозревать нормандского герцога, но за ним стоит вся Англия. Долгие годы он работал не покладая рук, чтобы обезопасить себя. И теперь, если ему удастся избавиться от Тостига, то дело будет сделано. Гирт и Леофвин оба верны ему, а им принадлежит вся южная часть страны. – Эльфрик вдруг умолк. – Почему ты так смотришь на меня? Или ты уже не сторонник Гарольда?
Эдгар вскочил на ноги.
– Что ты такое говоришь?
Эльфрик подлил себе в кубок вина.
– Прости меня. Ты изменился так сильно, что я не мог не спросить.
Эдгар, открыв рот, изумленно уставился на него.
– Изменился? Я? И как же это я изменился?
– Ну… – Эльфрик сделал глоток и принялся крутить в руках кубок. – Откровенно говоря, ты стал очень похожим на нормандца, – прямо заявил он.
Эдгар замер словно статуя.
– На нормандца? На… нормандца? Я?
– Ты прожил здесь столько лет, что этого просто не могло не произойти, – извиняющимся тоном пояснил Эльфрик.
Эдгар даже всплеснул руками от возмущения.
– Господи милосердный! Ты только взгляни на мою бороду или на мою короткую тунику, над которой они здесь потешаются! Неужели я действительно кажусь тебе похожим на нормандца?
Эльфрик несколько мгновений сосредоточенно разглядывал его из-под нахмуренных бровей.
– Дело не в том, как ты выглядишь или одеваешься, – медленно проговорил он. – Просто когда ты говоришь, то используешь нормандские выражения; хлопаешь в ладоши, чтобы кликнуть пажа, одетого в королевские цвета; и считаешь золотые кубки и мясо со специями самыми обыденными вещами, недостойными упоминания, – все это и позволяет мне говорить, что я вижу в тебе нормандца.
Эдгар подошел к столу и, накрыв ладонью руку Эльфрика, крепко сжал ее.
– Ты ошибаешься. Душой и телом я – сакс. Tout diz, tout diz![55]
Эльфрик слабо улыбнулся.
– Правда? А разве эти слова – саксонские? – Спросил он. Но потом, видя, что на лице Эдгара отразилось недоумение, добавил: – Ты уже сам не замечаешь, когда переходишь на нормандский язык, настолько к нему привык.
Покраснев, Эдгар сдавленным голосом пробормотал:
– Даже если я случайно оговорился, это совершенно не важно. А слова те означают «всегда».
Эльфрик рассмеялся.
– Тогда отпусти мою руку, пожалуйста. Или ты хочешь переломать мне кости для того, чтобы доказать, что ты – все еще сакс?
Эдгар разжал руку, но слова Эльфрика, похоже, жгли ему душу.
– Когда ты увидишь Вульнота Годвинсона, то поймешь, что это совсем не я стал похожим на нормандца, – сказал он.
– Я видел внизу Хакона. А где был Вульнот?
– Его здесь нет. Герцог подарил ему дом в Румаре. Он теперь живет там вместе со своими домочадцами и возлюбленной. Кажется, Вульнот получил его в lieslode. – Спохватившись, Эдгар поправился: – Пожизненное владение имуществом, я имею в виду.
– Пожизненное! Впрочем, не беда. Гарольду не нужны его братья в Англии. Пусть Вульнот достанется Нормандии; вреда от того не будет. – Эльфрик встал и потянулся. – Не нравятся мне эти нормандцы. Смуглые, темноволосые, да еще и склонные к похвальбе. Кто тот громогласный мужчина, что вышел вместе с герцогом, а потом вернулся с таким видом, словно он здесь – самый главный? Тот, что ткнул тебе пальцем под ребра и отпустил какую-то шуточку, оказавшуюся недоступной моему пониманию?
– Сам сенешаль, Фитц-Осберн, – ответил Эдгар. – Разве я тебя с ним не знакомил?
– Нет, и у меня не возникает никакого желания пожимать ему руку, – зевая, заявил Эльфрик. – Он – живой портрет одного нормандского любимчика Исповедника. Тот тоже носил малиновые цвета, чтобы ослеплять, драгоценности – чтобы зажмуриваться, и вышагивал с важным видом, как павлин.
Эдгар уже открыл было рот, желая возразить, но тут же закрыл его снова и поджал губы. Не замечая враждебного молчания своего друга, Эльфрик продолжал:
– Я ненавижу мужчин, которые носят шелка, словно куртизанки.
– Ты судишь слишком поспешно, – наконец обрел дар речи Эдгар. – У Фитц-Осберна благородная душа. – Заметив, что Эльфрик скептически улыбается, сакс добавил: – Он – мой друг.
– В таком случае, я прошу прощения. Такое впечатление, что у тебя много друзей здесь, в Руане.
– Но, к большому несчастью, ни один из них тебе не понравился, – заметил Эдгар.
Эльфрик метнул на собеседника острый взгляд и обнаружил, что Эдгар холодно смотрит на него.
– Я не хотел обидеть тебя, – повинился он. – Должно быть, ты привык к этим странным людям и уже не замечаешь их недостатков, бросающихся в глаза мне.
– Я прекрасно вижу их недостатки, – отозвался Эдгар. – Впервые попав сюда, испытывал те же чувства, что и ты сейчас. Но они отнеслись ко мне с величайшей добротой, и забыть это мне нелегко. – Он взглянул на подсвечники, стоявшие на столе. – Свечи почти догорели; наверняка уже поздно. Если мы хотим завтра отправиться в Э, то нам нужно выспаться. – Взяв в одну руку тяжелый подсвечник, Эдгар другой подхватил Эльфрика под локоть. – Я провожу тебя в твою спальню, – сказал он, стараясь ничем не выдать охватившую его скованность. – А завтра мы поскачем верхом вместе, бок о бок, как когда-то в детстве. Помнишь, как мы взяли луки и застрелили оленя с десятью отростками на рогах в угодьях Эдрика Диджера и как нам досталось за это на орехи?
– Еще бы я не помнил бы этого! – отозвался Эльфрик, улыбаясь воспоминаниям детства. – В тот день нам просто дьявольски не повезло, что Эдрик попался на пути. Но как же давно это было! Эдрик пал в Уэльских войнах, да упокоит Господь его душу. Сегодня на тех землях правит сын его брата.
Эдгар, уже взявшийся за дверную задвижку, замер и с удивлением спросил:
– Как такое могло случиться? У него был, по крайней мере, один сын, когда я покинул Марвелл, а я слышал, что его супруга Элгифу снова была беременна.
– Да, он наплодил целую свору отпрысков, но они все до единого больны проказой, – ответил Эльфрик. Выйдя из комнаты, сакс остановился на площадке лестницы. – Я боюсь заблудиться в этом огромном дворце, – пожаловался он. – Меня поселили рядом с тобой?
– Недалеко от меня, – отозвался Эдгар. Он поднял свечу повыше, так, чтобы ее трепетный и неверный язычок пламени освещал им дорогу. – Эта башня построена совсем недавно. Ее закончили всего три года назад. Мне дали здесь комнату, чтобы я жил рядом со своим другом Раулем. Он – тот самый человек с улыбчивыми глазами, которого ты видел в зале. Все эти тринадцать лет он был моим другом. Постарайся полюбить его ради меня.
– Охотно. Однако, думаю, я ненадолго задержусь в Нормандии. Эрл вряд ли захочет потерять время и промедлить. Никто не знает, сколько еще протянет король, а если Гарольда не окажется рядом, когда он умрет, все может сорваться… Но что за холодное и мрачное место! Как ты здесь живешь? Эта махина размерами не уступает дворцу короля Эдуарда в Торни[56], а выглядит ничуть не менее устрашающе, чем то аббатство, что он там строит.
Эдгар повел друга по одной из галерей, после чего начал подниматься по очередной лестнице.
– Отец писал мне про аббатство короля. Большое здание, и строится давно. – Отворив дверь, он шагнул в сторону, пропуская Эльфрика внутрь. Комната освещалась слабым огоньком лучины, но при их появлении сонный паж вскочил с соломенного тюфяка, брошенного на пол в изножье огромной деревянной кровати с резной спинкой, и поднес вощеный фитиль к свечам на столе. – У тебя все есть, что нужно? – спросил Эдгар. – Если тебе надобно что-либо еще, скажи мне, и я переведу твои пожелания мальчишке.
– Нет, все в порядке, – отказался Эльфрик. – Сейчас мне требуется лишь постель. – Он огляделся по сторонам. – Герцог принимает меня с большой помпой. В такой комнате не стыдно поселить и принца.
Эдгар недоуменно нахмурился.
– Ну, если я правильно помню, то однажды когда-то здесь и впрямь ночевал принц. Это был Роберт Фризский, первенец графа Бодуэна, когда приехал сюда вместе со всем фламандским двором на торжества по случаю бракосочетания герцога. – Эдгар внезапно улыбнулся. – В те дни он был буйным и несдержанным малым, можешь мне поверить. Иногда мне кажется, что милорд Роберт, его племянник, пошел весь в него. После очередного застолья мне с Жильбером Дюфаи пришлось изрядно постараться, укладывая его в постель. Он был настолько пьян, что уже ничего не соображал и желал лишь одного: подраться с Мулен-ля-Маршем, чтобы, как он заявил, перерезать ему глотку. Весьма здравое намерение, должен тебе сказать, но, разумеется, ему не суждено было осуществиться. Так что он доставил нам с Жильбером немало хлопот. – Заметив, что Эльфрик улыбается из чистой вежливости, Эдгар сообразил: воспоминания, которые его друг не разделяет, вряд ли могут показаться ему забавными. Вновь взяв в руки подсвечник, он решительно закончил: – Я оставляю тебя; отдыхай. Сон пойдет тебе на пользу. – Поколебавшись, Эдгар неловко добавил: – Ты не представляешь, что это значит для меня – вновь увидеться с тобой после стольких лет.
– И для меня тоже, – с готовностью подхватил Эльфрик. – Прошло столько лет, что мы с тобой встретились словно чужие! Эрл Гарольд должен убедить герцога, чтобы тот отпустил тебя с нами в Англию, а там мы живо заставим тебя забыть свои нормандские замашки. – Сознавая, какая между ними пролегла пропасть, он попытался перекинуть через нее мостик. – Я часто вспоминал о тебе и очень скучал; ты обязательно должен вернуться с нами.
– Мне бы очень этого хотелось, – сказал Эдгар, но в голосе его прозвучало отчаяние. Он направился к двери. – Я слишком долго пробыл в изгнании, – грустно обронил он.
Пройдя по галерее, сакс вышел к витой лестнице и стал подниматься по ней, пройдя мимо комнаты Рауля к своей собственной, которая находилась выше. Но у дверей Рауля он сначала приостановился, а потом, после недолгого колебания, отодвинул задвижку и вошел.
Пламя свечи, поднесенное чуть ли не к самому его лицу, разбудило Рауля. Он заморгал и рывком приподнялся на локте, инстинктивно нашаривая меч.
– Ты же не в поле, на привале, – смеясь, заявил ему Эдгар. – А твой меч, к счастью для меня, лежит вон там, в дальнем углу. Проснись: это всего лишь я, Эдгар.
Рауль, потерев глаза, сел.
– Ох! – С недоумением уставился он на Эдгара. – Что ты здесь делаешь?
– Ничего. Я только что проводил Эльфрика в его комнату.
– Бородатый варвар, и ты разбудил меня только для того, чтобы сообщить об этом? – с негодованием осведомился Рауль.
Эдгар присел на край его кровати.
– Я и сам не знаю, зачем пришел, – признался он. – Ты поедешь завтра с нами в Э?
Рауль вновь откинулся на спину, и в сонных глазах его заплясали смешинки.
– Все саксы горазды выпить, – пробормотал он, – и, когда двое друзей встречаются после долгой разлуки, полагаю…
– Если ты хочешь сказать, что я пьян, гололицый, то ошибаешься, – перебил его Эдгар. – Так ты едешь с нами завтра? Я был бы рад этому.
Рауль, кажется, вновь задремал, но при последних словах широко открыл глаза, в которых не осталось даже тени сна, и в упор взглянул на друга.
– Да, еду. Но я не думал, что понадоблюсь тебе. Ты наверняка найдешь, о чем поговорить с Эльфриком.
– Да, найду, – невыразительным голосом согласился Эдгар. – Но я хочу, чтобы ты поехал с нами и познакомился с моей сестрой и… с эрлом Гарольдом. – Даже для его собственного уха слова эти прозвучали крайне неубедительно. В груди у него поселилась тянущая боль; неужели так бывает, когда ноет сердце? Он очень хотел, но не мог рассказать Раулю о том разочаровании, которое обрушилось на него. Эдгару казалось, Рауль поймет, какую горечь он испытывает, обнаружив, что между ним и другом, которого он был так рад видеть, пролегла настоящая пропасть. Они с Эльфриком стали чужими друг другу. Эльфрик говорил об Англии, представлявшейся самому Эдгару даже более далекой, чем эта родная страна из его воспоминаний. Имена, которые он помнил, там уже канули в Лету; место прежних людей заняли новые, которых он не знал; Эдгар спросил себя, а не забыт ли теперь и он сам? Целых тринадцать лет сакс грезил своей родиной и товарищами юности, твердо веря, что обретет потерянное счастье, соединив их руки со своими и ступив на землю Англии. Ему никогда и в голову не приходило, что между ним и прежними друзьями может возникнуть напряженность и недопонимание. Его пронзила острая боль потери, когда он вспомнил, что тринадцать лет назад у него не было друга ближе, чем Эльфрик. Но воссоединение, которого он так долго ждал и о котором так давно мечтал, принесло с собой лишь усилившееся чувство разлуки. Эльфрик принадлежал давно умершему прошлому. И сейчас перед ним, вопросительно глядя на него, лежал единственный верный друг, разделявший его воспоминания и понимавший, что творилось у него в душе. Эдгар повернулся к Раулю и взглянул на него со слабой улыбкой.
– Помнишь, – спросил он, – когда здесь гостил фламандский двор, то Фриз пытался зарезать Гийома Мулена ножом?
Рауль расхохотался.
– Это когда ты опрокинул кувшин с холодной водой на голову нашего благородного гостя, чтобы он протрезвел? Да, помню. Почему ты спрашиваешь об этом?
– Просто так, – после короткой паузы ответил Эдгар. – А что касается кувшина с холодной водой, то это – очередная байка Жильбера. Мы просто случайно зацепили его, и он опрокинулся, а если Фриз промок, так моей вины в том не было. Кстати, на следующий день он и сам это признал.
– Пусть так, – сонно согласился Рауль. – А теперь отправляйся спать. Сначала ты говоришь мне, что отвел Эльфрика в его спальню; потом спрашиваешь, поеду ли я с вами завтра; а теперь тебе понадобилось узнать, помню ли я забавный случай, приключившийся десять лет назад. Неужели ты разбудил меня только для этого?
– Нет, мне просто не хотелось спать, – сказал Эдгар, – и поэтому…
– И поэтому ты решил, что я тоже не должен. Большое тебе спасибо, сакс.
Эдгар поднялся.
– Эльфрик надеется, что герцога Вильгельма можно будет убедить отпустить меня, – вдруг совершенно не к месту сообщил он. – Как ты думаешь…
– Нет, – сказал Рауль, – ничего не выйдет, потому что я буду умолять его не делать этого. – Он вновь приподнялся на локте. – Эдгар, ты не можешь просто взять и бросить нас! Неужели Эльфрик вытеснил всех нас из твоего сердца? Фитц-Осберна, Жильбера, Нееля, меня?
Эдгар ответил не сразу. Посмотрев долгим взглядом в глаза Рауля, он наконец проговорил:
– Думаю, из всех друзей сейчас у меня остался ты один. Ты мог бы и не спрашивать об этом.
В свои слова он вложил больше, чем способен был выразить вслух; настоящий друг поймет, решил он, и не станет задавать ненужных вопросов.
Последовало короткое молчание, а потом Рауль беспечно заметил:
– Если ты оставишь меня без сна, то у тебя станет еще одним другом меньше, Эдгар als Barbe. Получил?
Нависшая тень отступила; друг не подвел и все понял правильно. Коротко рассмеявшись, Эдгар вышел в коридор, испытывая странное успокоение и бросив на прощание какую-то шутку. А вот Рауль после его ухода еще некоторое время лежал без сна, хмурясь и глядя на луч лунного света, упавший на изножье кровати.
– Вильгельм, мой господин, – негромко сказал он, – лучше бы ты не забирал Эдгара с собой, потому что мне кажется, ты сломал ему жизнь.
Утром все ночные тревоги и опасения показались Эдгару нелепыми и бессмысленными. Он проснулся с убеждением, что отнесся к Эльфрику несправедливо. Через день-другой, решил он, их прежние отношения вернутся; тем временем его сестра и эрл находились от него менее чем в одном дне пути верхом, посему в груди Эдгара нашлось место лишь для непривычного возбуждения, которого он не испытывал с самого детства. Узнав же, что герцог намерен тронуться в путь лишь после обеда, он вообще потерял покой, и его невозможно было убедить в том, что спешка в таком деле ни к чему хорошему не приведет.
– Даже если ты прибудешь к графу раньше, – втолковывал ему Фитц-Осберн, – то какой в этом толк? Ну подумай сам, Эдгар! Если наши посланники прибыли к графу Ги сегодня утром, в чем я не сомневаюсь, то граф должен был уже послать кого-нибудь в Борен с приказом освободить Гарольда, и я буду удивлен, если ты увидишь его раньше завтрашнего полудня.
Эдгар остановил Фитц-Осберна.
– Постой, Гийом! А что если граф Ги не пожелает отпустить Гарольда?
В ответ Фитц-Осберн громко расхохотался.
– Что ж, тогда мы войдем в Понтье целой армией! Успокойся, он не такой дурак, как ты полагаешь.
– И какое же послание отправил ему герцог? – с волнением в голосе поинтересовался Эдгар.
– Очень короткое, – сообщил ему Фитц-Осберн. – Он попросил Ги освободить твоего эрла sur peine de cors et d’avoir[57].
Эдгар озабоченно нахмурился.
– Действительно, короткое… Армия в Понтье. Но почему его так волнует судьба Гарольда? – Сакс отступил на шаг от Фитц-Осберна. – Я чего-то не понимаю; ему грозит какая-то неведомая опасность. Гийом, если ты меня любишь, скажи: не злоумышляет ли герцог против эрла Гарольда?
– Какая чушь лезет тебе в голову, – не раздумывая ни секунды, ответил Фитц-Осберн. – А теперь перестань суетиться и нервничать по пустякам, Эдгар. Насколько мне известно, с твоим Гарольдом ничего дурного не произойдет, а я все-таки здесь сенешаль, так что кое-что знаю, можешь мне поверить.
Перед самым обедом во двор дворца въехал Вульнот Годвинсон в сопровождении нескольких своих придворных. Эльфрик увидел его из окна на галерее и окликнул Эдгара:
– Эй, смотри, какое пугало огородное! В жизни не видал столь разряженного молодчика! Кто он таков? И как ты после этого можешь восторгаться этими нормандцами?
Эдгар взглянул вниз через его плечо. Во дворе Вульнот спешился и сейчас отряхивал воображаемую пыль со своей длинной накидки ярко-красного цвета.
– Никакой это не нормандец, – с мрачным удовлетворением заявил Эдгар. – Это, друг мой, не кто иной, как Вульнот Годвинсон. Так что лучше поспеши вниз и поприветствуй его.
– Вульнот! Этот щеголь! – ахнул Эльфрик. Он последовал за Эдгаром вниз, в залу, не находя слов от возмущения.
Вульнот вошел в высокие двери как раз в тот момент, когда они показались из-за последнего поворота лестницы. Эльфрик заметил, что его ярко-алая накидка подбита зеленым и схвачена на плече изумрудной брошью, оправленной в золото. На юноше была облегающая туника из тонкого шелка с поясом, ниспадающая до самых лодыжек, расшитая по краю орнаментом в виде пятилистника, зеленым на белом. Обут он был в сапожки мягкой телячьей кожи, благоухал мускусом и нацепил на себя великое множество перстней и браслетов. Вульнот приветствовал Эдгара, подняв белую руку.
– Я примчался сюда во весь опор, – сказал он по-нормандски. – Значит, Гарольд угодил в плен у этих берегов! Господи Иисусе!
– Ты помнишь Эльфрика Эдриксона, Вульнот? – безо всякого выражения поинтересовался Эдгар и подтолкнул Эльфрика вперед.
Вульнот протянул Эльфрику руку и обменялся с ним ничего не значащими любезностями. По-саксонски он говорил как чужеземец, и было совершенно очевидно: соотечественник его ничуть не интересует. Вскоре он под первым же предлогом оставил их и поднялся по лестнице на галерею, небрежно помахивая легким хлыстом и напевая себе под нос какой-то развеселый мотивчик.
Вместе с остальными он с Хаконом тоже отправился в Э. Хакон ехал рядом с Эдгаром и Эльфриком, а вот Вульнот умчался вперед со своими нормандскими друзьями. К вящему негодованию Эдгара, на ночь они остановились в Арке, но, несмотря на задержку, на следующий день быстро добрались до Э.
Граф Роберт, заранее извещенный об их прибытии, поджидал всадников с сообщением о том, что делегация из Понтье уже на подходе.
– Мы поедем им навстречу, – заявил герцог. – Он везет с собой всех пленников, как я просил?
– Да, насколько я понимаю, – отозвался граф Роберт. – Около часа тому от Ги прибыл оруженосец с сообщением о том, что тот повинуется. Он лично сопровождает эрла. Мне передали, что они чуть ли не подружились и едут рядом, держа на запястьях соколов, словно собрались на охоту.
Это оказалось правдой. Менее чем через час после выезда из Э они заметили впереди кавалькаду из Понтье, которую возглавляли двое мужчин. Всадники ехали рядом, явно пребывая на дружеской ноге. Обе группы сблизились; ехавший рядом с Раулем Эдгар подался вперед, напряженно вглядываясь в лица, и Рауль услышал, как сакс воскликнул:
– Он все такой же: не изменился ни на йоту!
Небольшая кавалькада герцога остановилась посреди дороги, и все, кто сопровождал его, спешились, за исключением самого Вильгельма. Граф Ги и его спутник пришпорили своих коней, оставив свой эскорт позади, и поскакали вперед в клубах пыли. Сквозь нее Рауль впервые разглядел эрла Гарольда, мужчину гигантского роста, державшегося в седле так, словно он слился с конем воедино. За его плечами по ветру трепетала мантия, отливавшая такой же голубизной, как и его не ведавшие страха глаза; у него была острая золотистая, аккуратно подстриженная бородка; но людей словно магнитом тянули к Гарольду его физическая мощь и сила, равно как и легкая улыбка, мгновенно вспыхивавшая у него на губах.
Осадив коня перед герцогом, он отвесил ему низкий поклон.
– Приветствую вас, Нормандец! – проговорил ясным, приятным голосом; по-нормандски он изъяснялся с едва заметным акцентом.
Герцог же небрежно развалился в седле, уперев руку в бедро и пристально разглядывая сакса. Вот он тронул коленями бока своего коня, и тот шагнул вперед, едва не касаясь лошади эрла.
– Приветствую вас, Гарольд Годвинсон, – сказал Вильгельм. Он протянул эрлу до того лежавшую на бедре руку.
Гарольд крепко пожал ее. На мгновение мужчины сцепили руки. Те, кто наблюдал за ними, отметили, как вздулись мускулы у обоих под кожей, опоясанные золотыми браслетами, сверкающими на солнце. Голубые глаза в упор заглянули в серые. Жильбер Дюфаи вдруг прошептал на ухо Раулю:
– Итак, двое великих людей наконец-то встретились. Как светел один, и как темен другой – прямо по контрасту!
– Гарольд благодарит Нормандию за помощь, – сказал сакс. Он повернулся к графу Понтье, стоявшему чуть поодаль, и с легкой улыбкой добавил: – Граф Ги заставил меня забыть обо всех неудобствах, что мне пришлось вынести. Прошу вас явить ему свою доброту, милорд герцог.
– Твой эрл чересчур щедр, Эдгар, – пробормотал Жильбер. – Я бы, например, просил герцога явить ему свой справедливый суд.
– Эрл Гарольд совсем не таков. Это не в его обычае, – гордо заявил Эдгар.
Вильгельм перевел взгляд на графа Ги, и тот подъехал к ним вплотную.
– Сеньор, я повиновался вам, – с достоинством заявил он.
Вильгельм ответил ему с легкой улыбкой.
– Можете просить у меня любой выкуп, граф: он будет заплачен, – сказал герцог.
Ги даже зарделся от удивления и, запинаясь, пробормотал несколько слов благодарности.
– А вот такое поведение, – торжествующе прошептал Жильбер, – в обычае у герцога Вильгельма, мой сакс.
– Приглашаю вас проехаться с нами в Э, граф: вместе мы обсудим условия, – сказал Вильгельм. – Эрл Гарольд, со мной прибыли трое ваших людей, которых вы наверняка будете рады увидеть вновь. – Герцог поманил пальцем саксов, прибывших в его эскорте, и Гарольд спрыгнул с седла.
– Вульнот! – вскричал он и шагнул вперед, раскрывая объятия младшему брату, которого не видел много лет. Гарольд схватил элегантного Вульнота за плечи и отстранил его от себя, смеющимися глазами глядя на него. – Мой бог, да ты превратился из мальчика в настоящего мужчину! – сказал он. – Ты ли это, Хакон? Мой маленький племянник, а ты вытянулся как верста коломенская, и рядом с тобой я кажусь настоящим карликом! – Обняв их, он вдруг заметил Эдгара, преклонившего перед ним колено. Вульнот и Хакон мгновенно были забыты: Гарольд шагнул вперед и заставил Эдгара выпрямиться. В глазах его появилась теплота, а в голосе зазвучали те самые знаменитые нотки нежности, которые словно магнитом влекли к нему людей. – А вот теперь я вижу того, кто почти не изменился, – сказал он. – Эдгар, друг мой, хвала Господу, что ты остался прежним!
– И вы тоже, милорд, – с трудом выдавил Эдгар: слова застряли у него в горле.
Гарольд по-прежнему не отпускал его рук.
– Я привез с собой твою сестру. Я поступил дурно, подвергнув ее опасности. Но она – храбрая девушка, вполне достойная тебя, и ничуть не пострадала. – Отпустив руку Эдгара, он обменялся рукопожатием с Эльфриком. – Спасибо тебе, Эльфрик: ты хорошо послужил мне.
К ним подъехала свита графа Понтье; среди нормандцев тут и там виднелись незнакомые рыцари. Гарольд подвел герцога Вильгельма к паланкину, привязанному между двух лошадей, и представил ему баронессу Гундред.
– Ну, и что ты об этом думаешь? – шепотом поинтересовался у Рауля Жильбер.
– Ты имеешь в виду эрла? Теперь я понимаю, почему его так преданно любит Эдгар.
– И я тоже, – согласно кивнул Жильбер. – Кто-то говорил мне, что он старше Вильгельма, но по нему этого не скажешь. Но где же Эдгар? А, наверное, убежал к своей сестре!
Однако через несколько мгновений Эдгар вновь оказался рядом с Раулем и просительно взял его за руку.
– Рауль, я хочу представить тебя своей сестре. Она стала взрослой женщиной, а ведь в последний раз я видел ее совсем маленькой! Я даже не представлял себе… но идем же, идем! Я рассказал ей о тебе, и она очень хочет познакомиться с тобой.
Рауль, жестом призвав оруженосца, передал ему своего коня.
– Охотно, – сказал он и последовал за Эдгаром ко второму паланкину.
– Эльфрида, я привел к тебе Рауля де Харкорта, – сказал Эдгар, откинув занавеску паланкина и с гордостью взглянув на Рауля.
– Миледи… – беспечно начал было Рауль, но тут же умолк; у него перехватило дыхание. Приветственные слова замерли на устах молодого человека; легкость манер куда-то улетучилась: Рауль де Харкорт смотрел в самое прекрасное женское лицо, которое когда-либо видел.
– Эльфрида говорит на твоем языке так же хорошо, как и я, – пришел ему на помощь Эдгар, решивший, будто причиной ошеломленного молчания Рауля стало недостаточное знание им саксонского.
Девушка глядела на Рауля, и в ее голубых глазах сияла доверчивая улыбка; краешком сознания он отметил, что еще никогда не встречал такой голубизны. Из-под меховой накидки вынырнула нежная ручка, а негромкий голосок застенчиво произнес:
– Друг моего брата может рассчитывать и на мою дружбу, мессир.
Рауль, протянув руку, пожал ее ладошку. Эдгар с удивлением отметил, что длинные смуглые пальцы рыцаря подрагивают. Вот они со священным трепетом сомкнулись вокруг нежной ладошки Эльфриды.
– Миледи, добро пожаловать, – запинаясь, словно неуклюжий и нескладный мальчишка, пробормотал Рауль.
Глава 3
В Руане Матильда приняла обеих дам с полагающимися почестями, при этом, правда, с явным неодобрением поглядывая на Гундред, высокомерную и властную особу. Герцогиня отлично разбиралась в представительницах слабого пола и потому почти моментально повела себя с Гундред с любезной снисходительностью, призванной показать самоуверенной даме всю глубину пропасти, лежащей между сестрой эрла Гарольда и герцогиней Нормандии.
Но Гундред сдаваться не собиралась; она небрежно упомянула имя своей сестры – королевы Эдгиты. Матильда, выразительно приподняв аккуратные брови, негромко заметила:
– Ах, бедняжка, она так и не смогла подарить своему супругу наследника!
Гундред выразила раздражение, впрочем, вполне понятное и простительное.
– Быть может, вина за это лежит на короле, мадам, – без обиняков заявила она.
Баюкая на руках своего последнего по счету малыша, все еще закутанного в пеленки, Матильда улыбнулась. Улыбка ее могла означать что угодно – вежливый интерес или не менее вежливый скептицизм, но Гундред почла за благо перевести разговор на другую, более безопасную тему.
В отношениях с Эльфридой герцогине не пришлось прибегать к убийственной учтивости. Эльфрида упала на колени, едва завидев милорда Вильгельма, рыжеволосого четырехлетнего малыша, и протянула к нему руки. Способа вернее покорить сердце Матильды не существовало; она даже простила Эльфриде ее длинные золотистые косы, по сравнению с которыми ее собственные локоны выглядели блеклыми.
– А вы, оказывается, любите детей, милочка, да? – заметила Матильда.
– Очень сильно, мадам! – сказала Эльфрида, застенчиво глядя на нее снизу вверх.
– Вижу, мы с вами замечательно поладим, – пообещала ей Матильда.
Так как она была женщиной умной и проницательной, ей не понадобилось много времени, чтобы понять, как обстоят дела у Эльфриды и Рауля де Харкорта. Герцогиня неоднократно строила планы насчет женитьбы Рауля, но он столь ловко избегал расставленные Матильдой ловушки, что она на некоторое время перестала подыскивать ему подходящую невесту. И сейчас, наметанным глазом разглядев явные признаки чувства, зародившегося у него к саксонской девушке, откровенно не знала, радоваться ей или печалиться. Обиняками Матильда разузнала у баронессы Гундред, каково было приданое Эльфриды: оно оказалось вполне пристойным, но, на предусмотрительный взгляд герцогини, все-таки недостаточно большим, чтобы без забот выдать ее замуж за любимца Вильгельма. Она упомянула об этом в разговоре с супругом; тот удивленно воззрился на нее; сам он ничего не заметил. Когда же Матильда уверила его, что Хранитель наконец-то сподобился найти себе иной объект заботы помимо герцога, он лишь рассмеялся и, похоже, испытал явное удовольствие при мысли о том, что Рауль пал жертвой женских чар. Вопрос о приданом ничуть его не обеспокоил.
– Ее замужество – в руках эрла Гарольда, – сказала Матильда. – Но согласится ли он выдать ее за нормандца?
– Прежде чем все закончится, замужество Эльфриды окажется в моей власти, – ответил герцог. – Если Рауль пожелает жениться на девушке, я дам за ней превосходное приданое, обещаю тебе, моя расчетливая супруга.
Встретив в очередной раз Эльфриду, герцог удостоил девушку некоторого внимания. Она заметила, что он пристально рассматривает ее, и ответила ему прямым взглядом, который пришелся Вильгельму по душе. Герцогине он заявил, что Эльфрида показалась ему не робкого десятка, и при первой же возможности заговорил с нею. Герцог, когда ему того хотелось, не внушал страх всем и каждому; Эльфрида же, до сих пор считавшая его ужасным и грозным властителем, обнаружила, что он умеет быть и веселым собеседником, а впоследствии даже призналась брату: еще не встречала людей более добрых и обходительных, чем герцог и герцогиня Нормандские.
Эдгар сначала удивился, а потом и встревожился. В глубине души он надеялся, что Эльфрида выйдет замуж за Рауля, потому что любил их обоих, и вскоре понял, как Рауль относится к его сестре. Но, когда она принялась восхищаться герцогом Вильгельмом, он был шокирован, потому что в его представлении ни один человек, сохраняющий верность эрлу Гарольду, не может питать привязанности к Вильгельму.
Что до самого эрла Гарольда, то он вращался в нормандском обществе с присущей ему легкостью и непринужденностью. Он любил соколиную охоту и травлю дичи с собаками, обладал тонким чувством юмора, мастерски ездил верхом и управлялся с гончими, и потому не было ничего удивительного в том, что он сразу же пришелся по душе баронам. Гарольд выглядел гордо и надменно; с первого взгляда было видно, что он привык повелевать, но при этом никогда не ставил себя выше тех, с кем водил компанию, посему легко заводил друзей, где бы ему ни случилось оказаться. Всю свою жизнь Гарольд оставался в первую очередь мужчиной, которого любили другие представители сильного пола, но при этом обладал репутацией записного ухажера. Говорили, что у него было множество любовниц; Эльфрик даже называл имя одной дамы, настолько красивой, что она заслужила прозвище Лебединая Шейка, тоже павшей жертвой его обаяния. Несомненно, сейчас она изнывала от тоски и страсти в Англии, ожидая возвращения своего несравненного возлюбленного, тогда как сам он отдыхал в Руане, воспламеняя сердца нормандских прелестниц одним лишь небрежным взглядом или внезапной улыбкой. Женщин тянуло к нему с такой силой, словно они были мотыльками, а он – ярким светом, на который они слетались, трепеща крылышками. Дай он себе труд – с легкостью мог бы покорить не менее дюжины сердец, но Гарольд старательно сохранял нейтралитет, не поддаваясь на падкую лесть, избегая ловушек, и лишь у одной дамы была причина полагать, будто он угодил в ее сети. Ею оказалась не кто иная, как сама герцогиня.
Глядя на супругу своего сюзерена, Рауль начал задаваться щекотливыми вопросами, а потом и терзаться подозрениями. Матильда не жалела сил, чтобы привлечь к себе эрла; будучи старше его, она тем не менее все еще сохраняла тот таинственный магнетизм, с помощью которого когда-то покорила и до сих пор удерживала герцога. И вот теперь обратила взор своих колдовских глаз на Гарольда и принялась плести новые чары. Рауль видел все это, и лоб его прочертили морщины озабоченности. Он слишком хорошо знал герцогиню, чтобы подозревать, будто в ее сердце найдется место для кого-нибудь еще, кроме своего супруга и повелителя, а также красавцев-сыновей. Рауль присмотрелся внимательнее; в ее глазах не было любви, зато в них таилась опасность, равной которой он не видел с тех самых пор, как она планировала крах и низвержение Вильгельма.
Однажды вечером, незадолго до ужина, молодой человек был на галерее, глядя вниз, в залу, где небольшими группками собрались придворные. Эрл Гарольд стоял рядом с креслом герцогини, и со стороны казалось, будто они о чем-то мило болтают. Рауль застыл в неподвижности, нахмурившись и напряженно размышляя. Услышав за спиной шаги, он обернулся и увидел, что к нему подошел герцог.
Остановившись рядом, Вильгельм взглянул вниз, в залу, а потом заговорил, не сводя глаз с группы людей, собравшихся вокруг кресла Матильды.
– Ну, что ты об этом думаешь, Рауль? Что за человек этот Гарольд?
– Он из тех, кто не спешит выставлять свои чувства и мысли напоказ, – не раздумывая, тут же ответил Рауль. – Человек большого мужества и таких же больших желаний.
– Думаю, я его раскусил, – заметил Вильгельм. – Он далеко не тот простак, каким хочет казаться; лидер – наверняка, правитель – возможно. Но ему до сих пор не попадался достойный противник.
Герцог смотрел, как Матильда улыбается эрлу; он не терпел соперников; к тому, что принадлежало только ему, не смел более прикасаться ни один мужчина; но сейчас Вильгельма, похоже, ничуть не смущало поведение супруги.
Рауль заметил удовлетворение у него в глазах и понял все.
– Когда эрл отплывает в Англию, монсеньор? – спросил молодой человек, и в голосе его прозвучала несвойственная ему строгость.
По губам Вильгельма скользнула холодная улыбка.
– Неужели я похож на человека, который с легкостью позволит Гарольду проскользнуть у него меж пальцев? – вопросом на вопрос ответил герцог. – Наконец-то он оказался у меня в руках; я не отпущу его, пока не заплатит нужную мне цену за свою свободу.
– Он вверил себя вашему милосердию! – с горячностью вскричал Рауль. – Он поверил вашему слову!
– Друг мой, человек, который вынашивает такие амбиции, какие таятся в груди Гарольда, не склонен верить кому бы то ни было, – отозвался Вильгельм.
Рауль ошеломленно уставился на герцога; на лбу молодого человека собрались морщинки, а лицо помрачнело.
– Монсеньор, когда вы отправили посланников, чтобы освободить Гарольда из Понтье, Эдгар умолял меня убедить его в том, что эрла не предадут во второй раз. А теперь вы заставляете меня поверить в то, будто у него были причины задать мне подобный вопрос! – Рауль заметил, как уголки губ Вильгельма дрогнули в улыбке, и, накрыв рукой запястье герцога, машинально сжал его. – Вильгельм, мой сеньор, я был вашим слугой все эти годы, слепо следуя за вами повсюду и твердо веря в то, что вы не приведете меня к бесчестью. Но теперь вижу, как вы меняетесь на глазах, становитесь жестоким из-за своих чрезмерных амбиций и забываете обо всем, помимо короны. Грозный лорд, если вы намерены причинить зло Гарольду, поверившему в ваше рыцарское благородство, возьмите мой меч и преломите его на колене, поскольку вы перестали быть для меня господином, как и для любого мужчины, кто живет по заветам и обетам рыцарства.
Герцог, обернувшись, окинул Рауля взглядом, в котором читалось изумление.
– О, Хранитель, ты останешься мне верен до самой смерти – моей или твоей, безразлично. Ни Гарольд, ни даже прелестная Эльфрида не сумеют разлучить нас с тобой.
Рауль вздрогнул как ужаленный, но непреклонно ответил:
– Вы сами можете отвратить меня от себя.
– Я не стану этого делать. – Герцог щелкнул пальцем по руке Рауля. – Отпусти меня. Или ты хочешь, чтобы любой зевака мог увидеть, как грубо ты со мной обращаешься? К свободе и досугу Гарольда я буду относиться с таким же пиететом, как и к своим собственным, но из Нормандии он не уедет. – Герцог дружески взял Рауля под руку и увлек его с собой по галерее. – Верь мне. Я не намерен ни в чем его ограничивать; он будет жить в моем дворце на правах почетного гостя – пока что, и развлекать его будет моя герцогиня, как ты сам видел.
– Но если вы не станете ни в чем его ограничивать, – рассудительно заметил Рауль, – он может отправиться к побережью в любой момент, как только пожелает.
– Для этого он слишком умен. Прислуживать ему я приставил доверенных и надежных людей; Гарольд не сможет незамеченным улизнуть от них. Да он и сам прекрасно понимает, что, хотя я предложил ему погостить у нас еще немного, но могу силой заставить его выполнить… мою просьбу. Или ты считаешь его глупцом? Я, например, уверен в обратном. Он не станет рисковать и проверять обоснованность своих подозрений: только сумасшедший рискнет провоцировать Волка в его логове. И потому я держу Гарольда на крепкой цепи, сотканной из его собственных подозрений.
Рауль не смог сдержать широкой улыбки.
– Вильгельм, неужели вы всерьез рассчитываете одурачить меня такими сладкими речами? Или вы думаете, я не знаю вас? Если бы Гарольд готов был поставить все на карту и рискнул бежать, вы схватили бы его еще до того, как кто-либо успел бы крикнуть «Держи его!».
– Очень может быть, – невозмутимо отозвался герцог. – Но я оказал бы себе дурную услугу, открыто ограничив свободу передвижения сакса. Впрочем, в этом и не будет необходимости.
Они подошли к двери, ведущей в покои герцога, и вошли в комнату. Помещение это было маленьким и довольно душным, располагая одним-единственным высоким узким окном, прорубленным в толстой стене. Повсюду висели тканые гобелены с житиями святых; посредине стоял стол с парой стульев по обеим сторонам. Герцог подошел к одному из них и сел, положив локти на стол.
– Вильгельм, вы ведете себя недостойно, – заявил Рауль. – Он пришел сюда без задней мысли и угодил в ловушку.
– Он пришел сюда с открытыми глазами, прекрасно зная, что я – его враг, и рассчитывая лишь на то, что спасу его от куда большей опасности.
– Если он знает о том, что вы – его враг, то почему он сам отдал себя в ваши руки? Откуда ему знать, что вы не подсыпете яда ему в вино или не организуете какой-либо несчастный случай на охоте?
– Ну спасибо, Рауль; хорошего же ты мнения обо мне. Между прочим, полагаю, я заработал себе имя совсем не тем, что избавлялся от своих врагов подобным образом. Подумай хорошенько: если Гарольд погибнет в Нормандии, весь христианский мир укажет пальцем на меня как на его убийцу. И разве поддержит тогда Святая Церковь мои притязания на престол Англии? Или кто-либо еще? Нет, Гарольд знает, что ему нечего опасаться яда либо случайной стрелы. Но и сбежать от меня он тоже не может и также знает об этом.
– И как долго это будет продолжаться? Сколько еще вы намерены удерживать его? Вечно? Ведь таким образом вы настроите против себя всех честных людей.
– Нет, я не стану вечно удерживать его, – отозвался герцог. – Он свяжет себя по рукам и ногам, когда даст клятву поддержать мои претензии на престол Англии. После этого может отправляться отсюда на все четыре стороны.
Рауль подошел к окну и остановился подле него, привалившись плечом к холодному камню. Подняв голову, взглянул прямо в глаза Вильгельму:
– Он никогда не сделает этого.
– Сделает, вот увидишь.
– Такую клятву не вырвать у него даже пытками.
– Да, ни пытками, ни страхом смерти. Но король уже очень стар, и он может – кто знает? – умереть сегодня, завтра или через год. А если Гарольд окажется далеко за пределами Англии в тот момент, когда старика положат в гроб, ты думаешь, не найдутся другие желающие воспользоваться представившейся возможностью и увести у него корону прямо из-под носа? Например, этот боров Тостиг, лишь даром прожигающий собственную жизнь; есть и такие, кто хотел бы посадить на трон несмышленыша Этелинга; в конце концов, есть еще Эдвин и Моркар, сыновья Эльфрика, в жилах которых течет кровь Леофрика. Стоит только Гарольду получить весточку о том, что здоровье короля пошатнулось, и он не станет медлить, прозябая за границей. Он даст клятву, причем мне даже не придется прибегать к угрозам.
– А потом отречется от нее, заявив, что вы принудили его силой. И что вы скажете тогда?
– А вот что. Если он нарушит собственное слово, то перед всем миром выставит себя клятвопреступником. И тогда Церковь открыто поддержит меня, а я не сделаю и шага, не получив благословение Папы Римского. Как только он встанет на мою сторону, я смогу со спокойной душой покинуть Нормандию: в мое отсутствие никто не посмеет нарушить ее границы.
Рауль ничего не ответил. Отвернувшись, он смотрел в окно на небо и облака, бегущие по нему. Молодой человек видел завтрашний день, и ему было страшно. Да, он сулил ему славу, Нормандии обещал будущее настолько блестящее, что Рауль и в самых смелых своих мечтах не надеялся дожить до него; но, прежде чем они осуществятся, придется прибегнуть к хитроумной и подлой политике и пролить море крови.
Два облака, проплывавших за окном, постепенно слились в одно и помчались в сторону заходящего солнца. Рауль провожал его невидящим взором, а рука его, лежавшая на бойнице, машинально сжалась в кулак. Там, далеко за пределами отвратительной и гнусной государственной политики, за морем печали и отчаянной борьбы лежала корона, ожидая того, кто протянет сильную руку и завладеет ею. Герцог, несомненно, отважится на столь отчаянное предприятие, и ни один нормандец, беспокоящийся о будущем своей страны, не посмеет упрекнуть его в безрассудстве. Вильгельм давным-давно уяснил себе опасности и беды, что будут вечно грозить Нормандии, со всех сторон окруженной завистливыми, жадными соседями и охраняемой лишь жалкими пограничными крепостями. Вильгельм увидел перед собой цель, королевство, достойное герцогства его предков, и вознамерился любой ценой добыть для собственных потомков столь славное наследство. Но, чтобы заполучить его, понадобятся не только государственная мудрость, но и темные интриги, кровопролитие, смерть и страдания целого народа; быть может, долгие годы отчаянной борьбы, однако это не смутит и не остановит Вильгельма.
Но сам Рауль был слеплен совсем из другого теста. Грядущие блестящие победы для него меркли перед лицом сегодняшних страданий, разрыва дружбы и бесчестной тайной политики; и пусть все эти методы вознесут Вильгельма как правителя над другими монархами, но как человека они лишат его благородства и чести.
Рауль резко развернулся.
– Мне это не нравится! – сказал он. – Да, я вижу все то, чего вы желаете и что составит славу Нормандии и вашу собственную. Однако у меня есть друг-англичанин, которого я люблю и уважаю вот уже долгие годы. Неужели теперь я должен приставить острие своего меча к его груди? Я был на войне, видел, как захватчики разоряют и опустошают это герцогство; я видел, как пытали мужчин и насиловали женщин, а детей протыкали гизармами. Я видел, как целые города подвергали огню, и слышал крики заживо сгорающих людей. Можете ли вы получить корону Англии, избежав кровопролития? Чтобы достичь трона, вам придется переступить через трупы саксов. Эдгар однажды уже говорил мне это, и теперь я понимаю, что он сказал правду.
– Но я получу этот трон, – заявил герцог. – Ты думаешь о своем друге, о маленьких жизнях и смертях, а я думаю о Нормандии и о том, что будет с ней после того, как я отправлюсь к праотцам. – Вильгельм вперил в Рауля долгий взгляд, и голос его нарушил тяжелое молчание. – Я умру, но оставлю после себя имя, которое будет жить в веках, и людей, которые вследствие моих стараний обретут безопасность.
Рауль, вздохнув, вернулся к столу.
– Это высокая цель, захватывающая и ужасная, – сказал он. – Тем не менее я бы с радостью пожертвовал ею ради мира, потому что счастья вы все равно не обретете.
Герцог рассмеялся.
– Зато ты получишь свое счастье, Рауль, если для тебя оно состоит в том, чтобы возлежать в объятиях женщины; а вот мира я и вправду обещать тебе не могу. Я могу привести тебя к славе, могу привести к смерти, но, хотя мир является моей конечной целью, думаю, при нашей жизни мы его так и не увидим. – Он встал и положил руки на плечи Рауля. – Послушай, друг мой, какие беды нас не подстерегали бы, какая грязная работа нам не предстояла б, мы все равно оставим своим сыновьям достойный задел и славное будущее. – Герцог убрал руки; тон его голоса изменился, и он небрежно заметил: – Возвращаясь к вопросу о твоем личном счастье, о, Хранитель, если я могу выиграть корону, то ты можешь завоевать жену.
– Сеньор, вот уже не в первый раз вы обращаетесь ко мне с такими странными речами, – сказал Рауль. – Полагаю, ее светлость герцогиня уже заинтересовалась моей скромной персоной. – Он метнул пытливый взгляд на герцога и понял, что угадал.
– Я перебросился парой слов с девицей Эльфридой, – ответил герцог. – Она показалась мне честной девушкой, вполне достойной тебя. Так что можешь не сомневаться: я еще отведу тебя к брачному ложу.
Рауль сдержанно улыбнулся, но покачал головой.
– Разве это возможно, если вы планируете завоевать Англию железной рукой? Если вам удастся задуманное, то я предстану перед ней завоевателем, у которого руки по локоть в крови, проклятым и ненавистным врагом.
– Рауль, – мягко сказал герцог, – однажды я просил тебя рассказать мне о том, о чем думают женщины; а теперь настал мой черед сказать тебе, что женщины не похожи на мужчин, и, руководствуясь собственным опытом, возьмусь утверждать: они не испытывают ненависти к тем, кто покорил их. Они нуждаются не столько в нежности, сколько в силе. Ты можешь относиться к ним безо всякой жалости, причем, если мужчина воспылал бы к тебе ненавистью и возжелал бы отомстить, они не стали бы из-за этого думать о тебе хуже. Никогда не рассчитывай покорить женское сердце нежностью: она сочтет тебя слабаком и не захочет более видеть. – В глубине глаз герцога замерцали насмешливые искорки. – Я дал тебе полезный совет, друг мой. Запомни его хорошенько: он тебе наверняка пригодится.
Рауль помимо воли рассмеялся.
– Это жестокий совет, Вильгельм, и дан он тем, кого я полагаю лучшим из мужей.
– Да, но я с самого начала был господином и останусь им до самого конца, – заявил герцог.
Рауль попытался представить себе, что он относится к Эльфриде так, как сам герцог некогда обошелся с Матильдой (и наверняка время от времени обходился до сих пор), но мозг его решительно отказывался вообразить подобную сцену. Герцог яростно любил яростную леди; Рауль же отнюдь не считал Эльфриду яростной. Она была нежной и очень милой, и при виде ее у него в душе возникало непреодолимое желание защитить девушку от всего мира. Он видел, как Вильгельм жестоко сжимал герцогиню в объятиях, не беспокоясь о том, что причиняет ей боль; Рауль же говорил себе, что, если ему когда-либо будет позволено обнять Эльфриду, он ни за что не станет вести себя подобным образом.
Герцог направился к двери. Раулю, распахнувшему ее перед Вильгельмом, вдруг пришла в голову неожиданная мысль, и он поинтересовался:
– Сеньор, а эрл Гарольд знает, чего вы желаете от него?
– Он может догадываться, – ответил герцог. – Я не стану говорить ему об этом открыто, пока не увижу, что ему не терпится срочно покинуть Нормандию. Я знаю, с каким человеком мне приходится иметь дело. Если заговорю об этом сейчас, то в ответ услышу краткое и решительное «нет», и, как только это слово сорвется с его губ, никакие угрозы, страх смерти или политические последствия не заставят его передумать. Сказать «да» вместо «нет» и признать меня своим господином? – Герцог рассмеялся. – Он предпочтет умереть лютой смертью.
– Монсеньор, а ведь он вам нравится, не так ли? – с любопытством осведомился Рауль.
– Да, – без колебаний ответил герцог.
Рауль растерянно заморгал.
– Тем не менее вы готовы использовать его! – Молодой человек прокачал головой. – Нет, такой любви я не понимаю.
– Он – первый из моих врагов, к кому я испытываю уважение, – заявил герцог. – Но я превосхожу его, потому что, по моему мнению, у него есть сердце, в отсутствии которого ты обвиняешь меня, но при этом он – мужчина, а король Франции им не был. И Анжу тоже, и уж, конечно, не был им Ги Бургундский. Но, невзирая на всю его силу и ловкость, ты увидишь – Гарольду меня не победить, потому что он склонен поддаваться велению сердца и действовать импульсивно, отбрасывая в сторону хладнокровный совет ума. Я же не поступаю так никогда. Можешь любить меня меньше, если тебе так того хочется, но одно ты должен признать со всей очевидностью: я не проигрываю.
– Да, вы не проигрываете, – согласился Рауль и улыбнулся. – Но я не стану из-за этого любить вас меньше, мой господин Вильгельм. Однако Гарольд, разве он не спрашивал у вас, почему вы держите его пленником?
– Нет, не спрашивал и не спросит. Ведь я вовсе не держу его в плену; я всего лишь умоляю его задержаться у нас еще на некоторое время, а моя герцогиня позволяет ему приятно скоротать время.
– Да, но он наверняка должен догадываться о том, что именно вам нужно!
– Точно так же, как я не хочу говорить ему об этом, так и он не желает спрашивать меня. Чересчур поспешные речи способны одинаково нарушить и его планы, и мои. Он выжидает, надеясь на озарение или счастливый случай; а я жду, потому что время на моей стороне.
Вильгельм совершенно правильно разобрался в мотивах поведения Гарольда. Прося герцога о помощи, эрл прекрасно сознавал, что добровольно лезет в западню, выбраться из которой будет очень непросто. Любезность герцога отнюдь не обманула его, и когда Вильгельм сказал: «Давайте более не будем говорить о вашем скором отъезде, эрл Гарольд», он понял, в какую ловушку угодил, поэтому не стал спорить и возражать понапрасну, принеся в жертву собственное достоинство. Его ни в чем не ограничивали, он был почетным гостем герцога, но к его персоне были приставлены нормандские слуги, которые, в чем он был твердо уверен, имели строжайший приказ не выпускать его из виду. Гарольд окинул этих господ задумчивым взглядом и в полной мере воспользовался их услугами. Нормандские слуги эрла Гарольда работали не покладая рук, дабы удовлетворить малейшую его прихоть; они стонали в душе, не подавая, однако, вида и втайне подозревали, что он просто потешается над ними.
Казалось, Гарольд умудряется получать удовольствие даже в самых безнадежных ситуациях. Тень тревоги не затмевала его чистое чело, и в его непринужденном общении не чувствовалось и следа ненависти или презрения. То он выезжал с герцогом на ручей, чтобы поохотиться на диких уток, держа на руке сокола; то сопровождал Роберта Мортена на травлю оленя собаками, верхом на прекрасном жеребце, спуская с поводка свору борзых, чтобы те загнали раненое животное; то целыми днями пропадал вместе с Фитц-Осберном или Гуго де Грантмеснилом в дебрях лесов Кевийи, преследуя вепря. Он принимал участие в рыцарских турнирах, показывая, как саксы умеют обращаться с огромным боевым топором; он присутствовал на шумных пирах и смеялся шуткам Гале с беззаботностью человека, не знающего других хлопот в жизни; подарил кошель золотых монет Тайлеферу, любимому менестрелю герцога, и пребывал в прекрасных отношениях со своими хозяевами. Но, улизнув однажды от своих новых знакомых, Гарольд направился в собственные покои с Эдгаром, обняв его за плечи, а когда дверь закрылась за ними и они остались вдвоем, улыбку словно ветром сдуло с его лица и он внезапно заявил:
– Я здесь – пленник. Неслышно подойдя к занавеске, отгораживавшей его спальню, эрл отдернул ее в сторону. За ней никого не оказалось. Окинув опочивальню быстрым взглядом, он вернулся в светелку и опустился в кресло, накрытое шкурками куницы. С презрением погладив густой пушистый мех, Гарольд бросил: – Живу, будто король, мне прислуживают, словно королю, но я все равно остаюсь пленником, как если бы на ногах у меня звенели кандалы, подобно тому, что было в Борене. – Рассмеявшись, он лениво взглянул на Эдгара. – К чему такое уныние на лице? Смейся, друг мой, это хорошая шутка.
– Милорд, Фитц-Осберн, которому я доверяю, поклялся мне, что против вас не замышляют никакого непотребства! – вскричал Эдгар, пропустив мимо ушей слова своего сюзерена.
– Да, конечно, ни малейшего! – согласился Гарольд. – О таком куртуазном обхождении можно только мечтать! В моем распоряжении имеются слуги – кстати, отойди от двери от греха подальше: один из них может подслушивать, – равно как и превосходные лошади, борзые и соколы. Всевозможные забавы придумываются для того, чтобы я приятно проводил время; в мою честь устраиваются пиры; сама герцогиня развлекает меня, чтобы я поменьше задумывался об Англии. Чего же еще мне остается желать? Но ежели я решаю проехаться верхом, за мною по пятам следует шпион.
Эдгар, содрогнувшись, негромко проговорил:
– Если это так, милорд, то умоляю вас не прикасаться к еде или питью, которые не попробовал слуга перед тем, как подавать вам!
В глазах Гарольда зажглись насмешливые искорки.
– Ты полагаешь, меня могут отравить? Не думаю.
– Если Вильгельм держит вас в плену, не доверяйте никому и ничему здесь, в Нормандии! – со сдержанной яростью заявил Эдгар. – Да, герцог не имеет привычки прибегать к яду или нарушать данное им слово, однако он поставил себе целью завладеть короной и не позволит никому встать у него на пути! До сих пор я в это не верил, но говорят, что, когда кто-либо из его врагов внезапно умирает…
– О, да-да! – нетерпеливо прервал Гарольд Эдгара. – Не сомневаюсь, что люди шепчутся, будто герцог посылает своим врагам тайную отраву. Так же шептались и обо мне, и точно так же в этих словах не было ни грамма правды. Оставим яд злодеям помельче: ни Вильгельм, ни я не мараем рук подобными вещами. Опасность угрожает не моей жизни, а моей свободе, что намного страшнее.
Эдгар подошел к эрлу и преклонил колено перед его креслом, схватив Гарольда за руку.
– О, милорд, я бы с радостью отдал за вас свою жизнь или остался бы вечным пленником, чтобы только вы могли обрести свободу! – сказал он и поднес руку Гарольда к губам. – Ах, какое несчастье привело вас на эти берега!
– Эдгар, что ты говоришь? – мягко попытался образумить его эрл. – Твоя жизнь за мою? Мы уедем отсюда вместе и очень скоро, а потом и посмеемся над сегодняшними страхами.
Эдгар поднялся на ноги и принялся расхаживать по комнате.
– Что нужно от вас герцогу Вильгельму? – не оборачиваясь, осведомился он.
Гарольд задумчиво крутил в пальцах длинную цепочку, которую носил на шее.
– Он не сказал мне, – ответил эрл наконец, любуясь игрой света на золотых звеньях. – А я не спрашивал. – Гарольд слабо улыбнулся. – И не думаю, что спрошу когда-либо.
Эдгар замер как вкопанный, изумленно уставившись на эрла.
– Речь идет не об Англии?
– Разумеется, о ней самой, – ответил Гарольд. – Но он не говорит об этом прямо. И вот этого я пока что не понимаю. – Немного помолчав, эрл задумчиво добавил: – А спросить не осмеливаюсь!
– Не осмеливаетесь! – воскликнул Эдгар. – Мне непривычно слышать подобные фразы из ваших уст!
– Фразы вполне здравые и разумные, уверяю тебя. Я надеюсь, что случайно оброненное слово поможет мне разгадать намерения герцога. Он хочет держать меня при себе до того момента, как Эдуард умрет, а его самого коронуют на трон Англии? Не думаю. Ни один сакс не склонит голову перед Нормандцем, пока известно, что Гарольд жив. Нет, Вильгельм не из тех, кто способен допустить столь грубую ошибку. – Эрл задумчиво прикусил зубами одно из звеньев цепочки, прищуренными глазами глядя вдаль, словно пытаясь провидеть будущее. – Он рассчитывает чем-то связать меня по рукам и ногам, – проговорил наконец. – Еще никогда в жизни мне не приходилось действовать с подобной осторожностью. Не исключено, что Понтье все-таки был для меня менее опасным врагом. Зато Вильгельм куда щедрее.
– Если вы призна́ете его своим сюзереном, – сухо заметил Эдгар.
– Ты в нем ошибаешься. Он знает, что на это я не соглашусь никогда. – Гарольд выпустил из рук цепочку и повернул голову, в упор глядя на Эдгара. – Долгие годы я мечтал о том, чтобы встретиться лицом к лицу с Вильгельмом Нормандским; готов биться об заклад: и он думал о том же. Что ж, вот мы и встретились, оценили друг друга и – слушай меня внимательно! – поняли, что пришлись друг другу по душе, потому будем сражаться до победного конца, то есть до смерти. – Он рассмеялся, но тут же вновь стал серьезным. – В одном я могу тебе поклясться: пока я жив, Вильгельм не сумеет вырвать Англию из рук саксов. Если ты увидишь, что он надел на голову корону Англии, значит, меня уже нет в живых. – Заметив, как Эдгар нахмурился, эрл сказал: – Ага, неужели твоя вера в Гарольда столь слаба?
Эдгар оторопело уставился на него.
– Милорд!
– Ты хмуришься.
– Это не от недостатка веры в вас, милорд. Просто вы оказались во власти Вильгельма, и я боюсь за вас, потому что знаю его. Быть может, вы скажете, подобно Эльфрику, что я и сам стал чересчур похожим на нормандца, поскольку отношусь к их герцогу с большим уважением, но…
– Эльфрик – глупец, – прервал его Гарольд. – Я вижу в тебе мало от нормандцев, хотя ты, сам того не замечая, прибегаешь иногда к их языку и даже обзавелся друзьями среди них.
– Эльфрику это не нравится, – сказал Эдгар, радуясь, что может наконец облегчить душу. – Он полагает, будто я сильно изменился и отдалился от него, не желая понимать, что мои нормандские друзья не… Но это не имеет отношения к делу.
– Эльфрик при виде нормандцев так и не отучился хвататься за свой seax[58], – возразил эрл. – Пусть его; вскоре он перестанет скорбеть о тебе и начнет качать своей глупой головой, глядя на меня и думая, что здесь мне нравятся люди, коих я должен был бы изгнать из Англии огнем и мечом. Что до Вильгельма, то его невозможно не уважать. Но я требую такого же отношения и к себе, а потому перестань бояться за меня.
– Есть и еще кое-что, – нерешительно начал Эдгар. – Сестра рассказала нечто, очень не понравившееся мне. Она говорила о каком-то внушающем страх старинном пророчестве. Милорд, какая ужасная судьба уготована Англии?
Гарольд выразительно приподнял бровь.
– Ты придаешь значение подобным вещам? Если бы ты прожил рядом с Эдуардом столько лет, сколько я, то не обращал бы ни малейшего внимания на вещие сны и пророчества, потому что король буквально помешался на них. Когда я видел его в последний раз, ему было видение Семи спящих отроков эфесских, которые повернулись на левый бок после того, как проспали две сотни лет на правом. – В глазах Гарольда заискрился смех. – А он принялся уверять меня, что это дурной знак, сулящий человечеству неисчислимые беды и несчастья, предваряющий землетрясения, чуму, голод, изменение границ королевств, победы христиан над язычниками и во́йны одних народов с другими. И все это, если мне не изменяет память, будет продолжаться ровно семьдесят четыре года, после чего Семеро спящих отроков вновь перевернутся на правый бок, и тогда, полагаю, у нас наступит очередной – недолгий – мир.
– То пророчество, что я слышал, звучит куда как непонятнее, – серьезно возразил Эдгар. – Сестра говорит, оно известно еще со времен Вортигерна[59], короля бриттов. В нем тоже речь идет о видении, явившемся Вортигерну, когда он увидел пруд, что предвещало нашествие саксов в Англию и прочие вещи.
– Как, кто-то вновь вспомнил об этом замшелом пророчестве? – вскричал Гарольд. – Да, я знаю о нем, хотя и не слышал, чтобы в последнее время об этом вновь заговорили. Его сделал Мерлин, один церковник, но в нем не содержится ничего, кроме бессмысленного набора слов. Вортиргерн увидел в пруду красного и белого драконов, которые отчаянно дрались друг с другом, причем красный одержал над белым победу и выгнал его из воды. Там было что-то еще насчет двух ваз и двух рулонов холста, но что они делали в пруду, я затрудняюсь тебе сказать. Говорят, красный дракон олицетворяет нас, саксов, а белый – бриттов, которые правили Англией до нас. Все остальное я благополучно забыл. Пророчество это было записано в каком-то свитке, но на самом деле оно имеет еще меньше значения, чем сны Эдуарда.
– Милорд, сестра рассказывала мне, что по южным графствам ходит какой-то чужеземец, которого одни полагают сумасшедшим, а другие – так и вовсе не человеком, а злым духом. И якобы он являлся людям, вновь пересказывая им древнее пророчество, говоря, что скоро к ним пожалуют другие люди на кораблях и в туниках из железа и отомстят им за порочность, испорченность. – Эдгар умолк, пытаясь вспомнить точные слова, сказанные ему Эльфридой. – «Придут два дракона, – медленно проговорил он, – два дракона…»
– Как, опять драконы? – пробормотал Гарольд. – Они еще хуже демонов, которые, как предрекает Эдуард, будут бродить по нашей земле.
– «Один, – ничтоже сумняшеся, – продолжал Эдгар, – будет сражен стрелой зависти, а другой падет под сенью имени. И тогда явится лев справедливости, от рева которого содрогнутся островные драконы…» Что это может означать, милорд?
– О том ведает один лишь Господь, а не я. – Эрл поднялся на ноги, и Эдгар заметил, что он хмурится. – Не нравится мне это пророчество, – заявил он, – а еще меньше мне нравятся люди, которые разносят его по свету.
– Милорд, что оно предвещает? – приглушенным голосом спросил Эдгар.
– Ничего. Но, когда мужчины начинают прислушиваться к нему, это порождает подозрение и тревогу. Как бы мне хотелось оказаться дома! – Снедавшее Гарольда беспокойство впервые прорвалось наружу. – Надо же случиться такому несчастью, что мой корабль потерпел крушение именно у берегов Понтье! Ты рассказываешь мне байки о человеке или злом духе, которого схватили бы и о котором забыли бы тотчас же, будь я в Англии. Кто знает, какую еще глупость выкинет Исповедник, пока меня держат в клетке здесь, в Нормандии? Гирт и Леофвин слишком молоды, чтобы занять мое место рядом с ним; Тостиг с радостью причинит мне вред, любой вред, какой только сможет; а если король еще и умрет от внезапного… – Он умолк, оборвав себя на полуслове. – Но все эти стенания бесполезны. Эдгар, я должен предупредить тебя! Не вздумай ни с кем говорить о нашем будущем. Всему христианскому миру известно, что я стремлюсь заполучить корону, но сам я вслух об этом не говорил, и меньше всего мне сейчас нужно, чтобы кто-либо из моих людей разглагольствовал о том, что Гарольд станет королем после смерти Эдуарда. Ты понял меня?
– Да, милорд, понял. Но все-таки я не разумею…
– Витенагемот[60] выберет королем меня, потому что я – народный герой. Других прав у меня нет. Если станет известно, что я открыто претендую на корону Эдуарда, то все остальные соискатели поднимут шум и крик, к которому, не исключено, присоединится и сама Святая Церковь. Храни молчание, я приказываю тебе.
Эдгар кивнул.
– Клянусь жизнью. Но если герцог не отпустит вас, милорд, что тогда?
В глазах Гарольда вспыхнул неукротимый огонь.
– Я все равно уеду отсюда, – сказал он. – Я пока еще не знаю, как или когда; зато мне известно, что вновь окажусь в Англии еще до того, как король умрет, потому что от этого зависит все, а я не могу потерпеть неудачу. – В его голосе прозвучали нотки абсолютной уверенности в успехе, когда он решительно заявил: – Чего бы мне это ни стоило, но я найду способ выбраться из ловушки, которую устроил мне герцог Вильгельм.
Глава 4
Рауль оказался не единственным мужчиной в Руане, чье сердце покорила Эльфрида. Очень скоро вокруг нее начали увиваться пылкие джентльмены, которые, к вящему негодованию нормандских красавиц, уверяли, что единственные цвета, подходящие незамужней девице, – голубой и золотистый. Эльфрида, не привыкшая к придворной жизни, поначалу с сомнением отнеслась к своим воздыхателям, стесняясь от оказываемых ими знаков внимания. Ее скромность показалась им неотразимой, и они удвоили усилия в стремлении покорить ее. Букеты роз и шиповника возлагались к ее дверям; стихи в честь Эльфриды оставлялись в тех местах, где она наверняка должна была наткнуться на них; безделушки и украшения вручались ей с преклонением колен. Однажды в обеденный час сам Тайлефер, обладатель золотого голоса, исполнил посвященную ей балладу, после чего ее воздыхатели буквально завалили певца подарками. Но Эльфрида зарделась словно маков цвет и упорно отказывалась поднимать взгляд от рук, смиренно сложенных на коленях.
Одна или две придворные девицы, воспылавшие к ней ревностью, попытались вылить на девушку презрение и высмеять ее, но очень быстро обнаружили, что, несмотря на свою кротость, Эльфрида сохраняла самообладание и оставалась верна себе, если кому-либо случалось пробудить в ней гнев.
Прошло совсем немного времени, и постепенно она привыкла к тому, что ее величают Первой Красавицей, Белой Голубкой и Златовлаской, равно как и перестала приходить в смятение, выслушивая перечисление своих достоинств и прелестей, кои, невзирая на ее румянец, воспевали джентльмены поэтического склада ума. Когда Бодуэн де Мель первым сложил в ее честь вирши, она обратила на него укоряющий взгляд, поскольку он сообщил ей, что ее чресла купаются в солнечном свете, а грудь белее, чем у лебедушки. Но совсем скоро Эльфрида поняла, что он не имел в виду ничего оскорбительного, и приучилась не шарахаться от своих поклонников, словно от чумы, над чем откровенно потешались нормандские дамы.
Уже через пару месяцев мужчины тонули в глубинах ее глаз, лишались чувств от запаха волос или оказывались сраженными наповал этим целомудренным взглядом весталки, не вызывая в ней ничего, кроме воркующего смеха. По всеобщему мнению, это было единственным недостатком Эльфриды – если таковые у нее вообще имелись, как уверяли некоторые. Она обладала совершенно обескураживающей и непреодолимой привычкой хихикать в самый неподходящий момент, когда мужчина воспарял на крыльях своих чувств к ней. Более того, недостаток сей лишь усиливал тот факт, что практически невозможно было удержаться и не присоединиться ко взрыву веселья Эльфриды, таким заразительным оно казалось. Кое-кто, впрочем, не выдерживал и уходил, затаив обиду: оттого она лишь смеялась еще звонче, так что губы неудачливого воздыхателя помимо его воли расплывались в улыбке; в глазах же девушки плясали самые настоящие чертики. Ее смех приходилось терпеть, иногда – даже присоединяться к нему, но поклонники так и не могли уразуметь, что же вызывает в ней столь искреннее веселье. А для Эльфриды, всегда считавшей себя самой обычной девушкой, пикантность ситуации заключалась в том, что ее превозносили до небес, называя несравненной красавицей, многочисленные джентльмены, которым, как она полагала, просто следовало быть умнее.
Эдгар, поначалу взявший на себя роль сторожевого пса, уже к концу первого месяца отказался от нее, всецело посвятив себя служению эрлу Гарольду. Он имел очень невысокое мнение о рыцарях, вальвассорах[61] и просто молодых дворянах, еще не получивших рыцарских шпор, увивавшихся вокруг его сестры. В большинстве своем, они были едва оперившимися молодыми людьми, которых сакс помнил еще совсем зелеными юнцами, и он презрительно отзывался о них как о неискушенных щеголях, что пробавлялись глупыми выходками и фантазиями. Эльфрида, относившаяся к старшему брату с несомненным почтением, смиренно возражала, что, хотя ее поклонники и не пользовались таким влиянием, как вельможные друзья Эдгара, она не представляла, чтобы его приятели, грубовато-добродушные Фитц-Осберн или Гийом Мале, проявили интерес к столь молодой и ничтожной девице, как она. Эдгар, от глаз которого не укрылось воздействие красоты Эльфриды на мужчин всех возрастов, умолк и предпочел более не касаться этой темы, дабы сестра не возгордилась и не возомнила о себе невесть что.
Круг ее поклонников неуклонно расширялся, но был один человек, упорно отказывавшийся войти в него. Окруженная своими подданными, Эльфрида бросала полные тоски и желания взгляды на Рауля де Харкорта, неизменно сохранявшего дистанцию. Изредка, впрочем, ей удавалось обменяться с ним несколькими словами; он не посвящал ей стихов, не восхвалял ее красоту и не боролся за место подле нее. Иногда она встречала его в обществе своего брата; нередко, зная, что он находится у Эдгара, Эльфрида находила предлог, чтобы присоединиться к ним, но он, хотя улыбался и целовал ей руку, почти всегда сразу же уходил, оставляя ее наедине с братом. Подобное поведение пробудило в ней естественное желание разузнать о нем побольше. Если бы Рауль попытался возбудить ее интерес (хотя и мысли такой у него не было), то не смог бы придумать более надежной уловки. Девушка сразу прониклась к нему симпатией: в Понтье Эльфриде довелось пережить немало не слишком приятных минут, и его лицо стало одним из первых, увиденных ею после своего освобождения, на коем отразились доброта и радушие. Поскольку он был другом Эдгара, то мог рассчитывать и на ее расположение; она была готова подружиться с ним. А вот он сам, похоже, отнюдь не горел таким желанием: девушка не знала, как еще можно истолковать его сдержанное поведение. Чем дольше Эльфрида наблюдала за ним, тем больше он волновал девушку и сильнее становилось ее желание узнать его получше. Поначалу она даже решила, будто женщины его не интересуют, и, поскольку он был до сих пор не женат, пребывая, по тогдашним понятиям, в возрасте не первой молодости (ему исполнилось уже тридцать пять лет), сочла, что разгадала его тайну. Но очень скоро обнаружила – он тоже поглядывает на нее, только издали, а потом заметила, что, входя в комнату, в которой находилась и она, Рауль устремляет взгляд к ней, как будто помимо собственной воли. Тогда Эльфрида испугалась того, что этот молодой человек – персона чересчур высокопоставленная, чтобы искать ее общества. Он представлялся ей важной особой, поскольку всегда сидел за столом герцога, и не только ее юные поклонники обращались к нему с подчеркнутым уважением, но и герцог с герцогиней относились к молодому человеку с несомненной любовью. Никто их тех, кто не являлся кровным родственником герцога, – да и далеко не все они – не имел права входить в его покои в любое время дня и ночи. Рауль же такой привилегией обладал.
Среди почитателей Эльфриды, кроме прочих, были обладатели пышных титулов, которые вели себя с большой важностью и самомнением, но она оказалась достаточно умна, чтобы заметить: тихий и незаметный шевалье де Харкорт располагает куда бо́льшим влиянием, чем все они вместе взятые. Очень важные сеньоры называли его своим другом, а надменные бароны наподобие де Гурнея и Тессона Сингуэлица, державшиеся крайне холодно с каждым, кого полагали ниже себя по рождению, обращались с Раулем без малейшего оттенка свойственного им высокомерия. Он пребывает на короткой ноге со всеми могущественными и влиятельными вельможами, думала Эльфрида. Эдгар сообщил ей: у герцога нет соратника ближе, если не считать его брата Мортена или сенешаля Фитц-Осберна. Девушка решила, что не должна ожидать, будто такой высокопоставленный мужчина обратит на нее внимание. Но хотя, будучи особой рассудительной, она сказала себе, что не должна мечтать о том, чтобы Рауль проявил к ней интерес, тем не менее втайне желала этого всем сердцем, поскольку при дворе не было другого мужчины, столь сильно нравившегося ей.
Спокойствие Рауля в глазах Эльфриды лишь прибавляло ему достоинства. Прочие мужчины с важным видом расхаживали по залам, щеголяя мантиями, щедро расшитыми золотом, громко заявляя о собственной умопомрачительной важности и стараясь ослепить бедную девушку-чужестранку блеском своего величия и роскоши; но, по ее мнению, они выглядели бледно рядом с этим стройным рыцарем со спокойным взглядом, который не старался выделиться, почти всегда носил простую солдатскую мантию ярко-красного цвета и практически не повышал голоса.
Она сделала из него настоящего героя, непрестанно упрекая себя за собственную глупость, ведь воображала, будто он стои́т недостижимо выше нее, неизменно сохраняет любезность, однако проявляет к ней, скорее, доброту, нежели дружеское расположение. На самом же деле все это время Рауль был по уши влюблен в Эльфриду и не мог отвести взгляда от ее лица, если ей случалось оказаться в одной комнате с ним.
Между тем молодой человек замечал – она постоянно окружена людьми куда моложе его, будучи очевидно счастливой в их обществе, и наивно полагал, что Эльфрида видит в нем лишь друга своего брата. Он с горечью констатировал: скорее всего, она относится к нему, как к древнему старцу. Начисто лишенный самомнения, Рауль не мог заставить себя важничать наравне с совсем еще неопытными юнцами или добиваться ее внимания в числе прочих воздыхателей.
Дело так и не сдвинулось бы с мертвой точки, если бы не грубость Гийома, владетеля Мулен-ля-Марша, дальнего родственника герцога по женской линии.
Между Раулем и этим сеньором никогда не было особой любви. Милорд Мулен отличался невоздержанностью, чем вызывал у Рауля резкую антипатию, и при этом обладал врожденной жестокостью, обуздать которую даже не пытался. Его пажей частенько видели в укромных уголках, где они заливались слезами навзрыд; ничего необычного не было и в том, что лошадей Мулена нередко уводили на конюшню с окровавленными боками, разодранными его безжалостными шпорами. Он был женат, но супруга не получала удовольствия от пребывания в его обществе, посему то в одном, то другом доме милорда можно было встретить женщин легкого поведения, которых он брал себе в любовницы. Ни одна из них не задерживалась надолго, ведь они быстро ему прискучивали и он находился в вечном поиске очередной обольстительницы.
Мулен прибыл с визитом ко двору, когда Эльфрида провела здесь уже около восьми недель, и ее необычная красота тут же привлекла его внимание. Вряд ли можно предположить, будто он увидел в ней будущую любовницу, но и находиться рядом с такой свежей красотой и очарованием, не попытавшись сорвать их, казалось выше его сил. У него было симпатичное в своей жестокости лицо и манеры, достаточно приятные, когда он того хотел. Мулен начал оказывать Эльфриде знаки внимания; заметив, что она явно боится его, зверь, который, как уверяли недруги милорда, таился в его душе, утробно заурчал и лениво протянул к ней когтистые лапы.
Эльфриду же предостерегли от близкого знакомства с ним. Одна из фрейлин Матильды рассказала девушке несколько жутких историй о злобной мстительности Мулена, посему, сколь бы неприятными ни были ей его ухаживания, она не осмеливалась даже заикнуться об этом Эдгару, дабы не навлечь на него гнев лорда Мулена. Некоторое время Эльфриде удавалось держать его на расстоянии, но однажды ей все-таки выпало несчастье угодить прямо в его объятия во время прогулки по длинной галерее во дворце.
Он сидел на скамье как раз в тот момент, когда она вышла из-за поворота лестницы, спускаясь от покоев баронессы Гундред на галерею. Больше рядом никого не было, и Эльфрида, заподозрив, что он специально расположился здесь, дабы подкараулить ее, заметив мужчину, испуганно отпрянула.
Но Мулен тоже заприметил ее и немедленно вскочил на ноги.
– Прекрасная Эльфрида! – вскричал он, направившись к ней.
– Вы слишком добры, милорд, – еле слышно пролепетала она. Он остановился перед ней, загораживая дорогу, и она сказала: – Я не могу задерживаться: меня ждут.
– Еще бы, моя фея, – улыбнулся Мулен, – это я жду вас. Вы же не оставите меня безутешным? – Он попытался взять ее за руку. – Ого, какая у вас холодная ладошка! Как вам нравится эта безделушка? – И Мулен протянул ей на ладони гранатовое ожерелье.
Девушка с достоинством ответила:
– Благодарю вас, но я не могу принять столь ценный подарок.
– Э-э, дорогая, какие пустяки, – заявил Мулен, – берите, не стесняйтесь. – На мгновение с циничной улыбкой он попытался припомнить, какой из своих любовниц впервые купил его. – Я готов сделать вам куда более ценный подарок, нежели эта безделица.
– Вы очень добры, милорд, но вам следует знать, что я не питаю пристрастия к подобным игрушкам, – твердо сказала Эльфрида. – Позвольте мне пройти. Меня действительно ждут.
Он все-таки завладел ее ладонью и увлек с собой на скамейку, правой рукой вкрадчиво обняв девушку за талию.
– Нет, вы не можете быть столь жестокой, – сказал Мулен. – Неужели мне так и не удастся побыть с вами наедине? Вокруг вас или вечно увивается стайка глупых ребятишек, или же вас окружают фрейлины. А я схожу с ума от желания. – Теперь он уже крепко обнимал ее за талию; свободной рукой погладил ее по щеке, затем игриво ущипнул. Эльфрида зарделась, а Мулен рассмеялся, наслаждаясь смущением девушки, и провел рукой вниз по ее шее.
Она сделала попытку вырваться из его цепких объятий.
– Отпустите меня, милорд! – сказала Эльфрида, отчаянно стараясь, чтобы голос ее не дрожал. – Подобное поведение не делает чести ни вам, ни мне. Прошу вас, отпустите меня немедленно! Меня ждет герцогиня!
– Нет, вы – моя пленница, – Мулен откровенно дразнил ее. – Какой выкуп готовы предложить? За столь прелестную невольницу он должен быть очень большим.
– Милорд, ваши шутки кажутся мне неподобающими. Или я должна позвать на помощь?
Мулен, обхватив горло Эльфриды, наклонился над ней; она еще никогда не видела такого жадного рта, поэтому испуганно ойкнула.
– Я остановлю ваши крики поцелуями, моя красавица. Нет-нет, не отталкивайте меня, я не причиню вам вреда, а всего лишь постараюсь разбудить в вас спящую страсть. – Отпустив шейку девушки, он обхватил ее уже обеими руками и прижал к себе. – Как, неужели я первым отведаю вашей сладости, маленькая недотрога?
Именно в этот, крайне своевременный момент на галерею в дальнем ее конце поднялся Рауль и зашагал к одной из дверей в светелку. Окинув галерею небрежным взглядом, он замер, положив руку на дверной засов и глядя на Эльфриду. Брови его вопросительно взлетели ко лбу.
Заслышав шаги на лестнице, Мулен отпустил девушку, но по-прежнему загораживал ей дорогу. Она же испугалась по-настоящему; голубые глаза Эльфриды наполнились слезами, и она обратила умоляющий взор на Рауля.
Убрав руку с задвижки, мужчина неторопливо, но целенаправленно зашагал по галерее.
– Да, мессир Хранитель? – резко бросил Мулен. В голосе его прозвучали нотки враждебности. – Что вам здесь понадобилось? Если что-нибудь нужно от меня, выкладывайте, и поскорее покончим с этим!
– Премного благодарен, – невозмутимо отозвался Рауль. – Я всего лишь хочу занять ваше место, Мулен, и чем скорее, тем лучше.
Дурной нрав Мулена тут же дал о себе знать.
– Клянусь распятием, как ты смеешь так со мной разговаривать, выскочка? Ты слишком много о себе возомнил! Проваливай отсюда, иначе тебе придется несладко!
– Приберегите этот тон для своих слуг, Мулен-ля-Марш, – безмятежно ответил Рауль. – Миледи, позвольте сопроводить вас в будуар герцогини.
Девушка благодарно шагнула к нему, но Мулен оттолкнул ее назад.
– Оставайтесь-ка на месте, моя красавица: я сам провожу вас. – Злобно оскалившись, он развернулся к Раулю, а рука его поползла к поясу, нащупывая рукоять ножа. – Итак, шевалье! Мой кузен герцог непременно услышит о вашей дерзости.
Эльфрида заметила, как в серых глазах Рауля вспыхнула насмешка.
– Вы найдете его в своих покоях, – произнес он. – Ступайте к нему и скажите, что обижены на меня. Желаю успеха в столь почетной миссии. – В голосе Хранителя явственно прозвучала издевка, но при этом он внимательно следил за рукой Мулена, а его собственная ладонь скользнула к поясу.
Мулен, прекрасно сознавая, что жалоба на Рауля, скорее, обрушит гнев герцога на его собственную голову, чем на фаворита Вильгельма, потерял остатки благоразумия и бросился на Рауля, выхватив из ножен кинжал.
Эльфрида закричала:
– Осторожно! Берегитесь!
Но оказалось, что Рауль готов к яростной атаке. Его рука взлетела вверх; сталь лязгнула о сталь; нож Мулена со стуком полетел на выложенный каменными плитами пол, и Эльфрида заметила, как из глубокой раны на запястье милорда ручьем хлынула кровь.
Рауль же наступил на упавший нож. Металл со звонким треском сломался.
– Убирайтесь отсюда! – проговорил Хранитель резким голосом, таких интонаций Эльфрида до сих пор от него не слышала. – Еще одна подобная выходка с вашей стороны, и я лично обращусь к его светлости герцогу.
Лорд Мулен, которого небольшое кровопускание, по-видимому, привело в чувство, уже и сам устыдился своего подлого нападения. Он сердито заявил:
– Вы сами меня спровоцировали. Можете рассказать герцогу любую байку, какую вам будет угодно: мы с вами еще встретимся. – Зажав запястье пальцами, чтобы остановить кровотечение, он окинул Эльфриду мстительным взглядом и спустился по лестнице вниз.
Эльфрида же подбежала к Раулю, ошеломленная столь стремительной кровавой развязкой, и схватила его за локоть дрожащими руками.
– Ох, Господи Боже, что он теперь сделает? – вскричала она, поднимая испуганный взгляд на лицо Рауля.
Тот успокаивающим жестом накрыл ее ладошки своей рукой.
– Да ничего особенного, леди! Вам не следует бояться его. Я позабочусь о том, чтобы он более не докучал вам.
– Но я боюсь за вас! – воскликнула девушка. Губы ее дрожали. – Он очень злой и жестокий человек, а ведь это из-за меня вы впутались в такую историю, и я знаю… мне рассказывали о том, сколь ужасной бывает его месть.
Удивление на лице Рауля сменилось веселым изумлением.
– Месть Гийома Мулена! Миледи, вам совершенно незачем тревожиться о моей безопасности. Я знако́м с этим сорвиголовой вот уже много лет, и мы с ним не впервые скрещиваем клинки. – Видя, что Эльфрида по-прежнему бледна и напугана, Рауль увлек ее к скамье. – Пожалуй, я снова пущу ему кровь за то, что он так встревожил вас, – сказал Хранитель. – Быть может, вы присядете, чтобы немного успокоиться и прийти в себя? А я побуду рядом с вами и, если что, отгоню это чудовище.
Эльфрида, которую ожидала герцогиня, без долгих уговоров села на скамью и робко улыбнулась своему спасителю.
Рауль же опустился на колени, все еще сжимая ее ладошки в своих.
– Ну вот, он ушел, дитя мое, – сказал молодой человек. – Вы в полной безопасности. Немного погодя, когда перестанете дрожать, я отведу вас к герцогине, и вы забудете об этой гадкой ссоре.
Эльфрида застенчиво взглянула на Рауля. В его глазах теплился свет, при виде которого сердечко девушки затрепетало.
– Мессир, вы очень добры, – пролепетала она. – Я благодарю вас за вашу защиту. В самом деле, у меня… у меня нет слов, чтобы выразить вам… – Голос ее дрогнул и сорвался; она лишь надеялась, что он не сочтет ее безнадежно глупой, но боялась, что это непременно произойдет.
Последовала недолгая пауза. Ее нарушил Рауль, негромко сказав:
– Вам не за что благодарить меня. Я не стал бы просить больше у судьбы, если бы она дала мне возможность послужить вам.
Ладошка Эльфриды дрогнула в его руке; она подняла на него глаза.
– Служить мне? – пролепетала в унисон. – Мне? Я… думала, вы меня недолюбливаете, мессир! – Слова эти сорвались с ее губ прежде, чем она успела сообразить, что же именно говорит. Зардевшись как маков цвет, девушка удрученно понурила голову.
– Недолюбливаю вас, Эльфрида? – Рауль рассмеялся неестественно хриплым смехом. Склонившись над ее рукой, молодой человек бережно поцеловал пальчики девушки. – Кажется, я боготворю вас, – сказал он.
Дрожь пробежала по телу Эльфриды; он не мог разобраться в выражении ее лица, но руки́ она не отняла.
– Если я отправлюсь в Англию, чтобы поговорить с вашим отцом, – сказал он, в упор глядя на нее, – вы смогли бы выйти замуж за нормандца?
Натиск Рауля оказался для Эльфриды слишком стремительным. Еле слышным голоском она пролепетала:
– Право слово, мессир… я должна идти к герцогине, которая ожидает меня.
Он тут же вскочил на ноги, боясь, что напугал и растревожил ее. Они медленно двинулись по галерее. Рука Эльфриды лежала на сгибе его локтя. Она украдкой взглянула на мужчину, страшась, что вот сейчас он скажет что-нибудь еще, и боясь, что он промолчит. Девушка отчаянно старалась найти какие-нибудь слова, которые дали бы ему надежду, но при этом не уронили бы ее девичью честь. Но так ничего и не придумала. Они подошли к дверям покоев герцогини. В отчаянии она заявила:
– Мой отец обещал мне, что не выдаст меня замуж до тех пор, пока мой брат не вернется в Англию. Я дала этот обет Деве Марии много лет назад, мессир.
Рауль, остановившись, развернулся к ней лицом.
– Но что будет, когда он действительно вернется, Эльфрида?
– Не знаю… Не думаю, что отец хотел бы, чтобы я вышла замуж за пределами Англии, – застенчиво сказала девушка.
Она выглядела настолько очаровательно и соблазнительно, что Рауль едва удержался, чтобы в тот же миг не расцеловать ее. Эльфрида отняла у него свою руку и подошла к двери будуара. Когда ее пальчики легли на задвижку, девушка обернулась, желая вновь взглянуть на Рауля. Поколебавшись, с затаенным дыханием от собственной смелости, но с очаровательной улыбкой на губах сказала:
– Сама же я… не испытываю предубеждения к нормандцам, мессир.
Рауль порывисто шагнул вперед, но она исчезла раньше, чем он успел дотронуться до нее, и дверь с гулким стуком захлопнулась за ней.
Тем же вечером, когда по улицам катился колокольный звон, возвещавший наступление вечерней зари, Рауль явился в гости к Эдгару. Тот сидел у стола в своей комнате, при свете свечей рассматривая наконечник охотничьего копья. Узрев друга, он поднял голову и улыбнулся.
– Привет, Рауль! – Эдгар ногой подтолкнул к нему табурет. – Присаживайся! Я не видел тебя весь день.
Заметив, что Рауль многозначительно взглянул на пажа, который как раз собирал в охапку оружие после охоты, Эдгар положил руку мальчишке на плечо.
– Ступай, Герлуин, – сказал он. – Забирай снаряжение с собой и смотри, когда я в следующий раз отправлюсь на охоту, чтобы на копье не было ни пятнышка.
Герлуин, смиренно ответив «Да, господин», исчез.
Эдгар вопросительно взглянул на друга.
– Что-то случилось, Рауль?
– Да, – ответил тот. Он не стал садиться на табурет, а, немного побродив по комнате, подошел к окну, словно набираясь решительности.
Эдгар наблюдал за ним, и в глазах его плясали лукавые искорки.
– Что же за несчастье приключилось, о котором ты собираешься рассказать мне? Ты сегодня ездил на моем Берберийце в Лилльбонн, и он охромел? Или же дело в том, что твой достойный отец не пришлет из Харкорта гончую, которую обещал для меня?
Рауль улыбнулся.
– Ни то ни другое. – Отвернувшись от окна, он вернулся в комнату. – Эдгар… как ты отнесешься к тому, если твоя сестра выйдет замуж за нормандца?
При этих словах Эдгар подпрыгнул словно ужаленный и схватил Рауля за плечи.
– Эй, парень, так вот как обстоят дела? Нормально отнесусь, если этим нормандцем будешь ты.
– Спасибо. А твой отец?
Эдгар, неохотно убрав руки, уронил их вдоль тела.
– Может быть, и он даст согласие, если я замолвлю за тебя словечко. Но сказать наверняка я пока что ничего не могу. – В голосе его послышались нотки беспокойства, а в глазах промелькнула тень тревоги.
– Я в состоянии предложить немногое, – неловко выговорил Рауль, – потому что я не стремился приобрести землю и титулы. У меня есть лишь мой участок, за владение которым и несу рыцарскую службу, но, думаю, герцог с легкостью дарует мне и все остальное, если я его о том попрошу. У нас уже заходила речь на эту тему, но я предпочел остаться рядом с ним, поскольку не видел проку от владений, которыми он готов был наделить меня. Однако если я женюсь… – Он умолк и серьезно взглянул на Эдгара. – Ну, что ты скажешь?
Эдгар долго молчал, не говоря вообще ничего. Похоже, сакс никак не мог найти нужных слов, чтобы выразить свою мысль. Когда же наконец заговорил, запинаясь и колеблясь, то слова его прозвучали нерешительно.
– Дело не в этом. Ни один человек в Нормандии не сравнится с тобой в том, что касается возможности обрести могущество и богатство. Мне прекрасно известно: сто́ит тебе только пожелать, как герцог даст и то и другое. Так что я ничуть не опасаюсь, что у тебя не найдется средств, дабы сделать подарки и содержать супругу. – Он широко улыбнулся, но улыбка тут же угасла. – Дело не в этом, – повторил Эдгар. – Мы с тобой стали друзьями много лет назад, и я не знаю другого такого человека, которому бы с подобной радостью отдал руку Эльфриды в браке – нет, я желаю этого всей душой. – Он машинально приподнял край тяжелого полога вокруг кровати и принялся загибать его складками. – Но это все мечты, Рауль: глупые и неосуществимые.
Рауль молчал, ожидая продолжения. Эдгар поднял голову, теперь он уже не комкал занавеску в пальцах.
– Между нами пролегла целая пропасть! – проговорил с таким видом, словно умоляя Рауля догадаться обо всем, что он не может выразить словами.
– Но ты сам часто говорил мне – твой отец привез себе невесту из Нормандии, – возразил Рауль.
– Да. Но тогда все было по-другому. – Эдгар плотно сжал губы, отказываясь объяснить очевидное.
– Следовательно, ты запрещаешь мне ухаживать за твоей сестрой? – прямо спросил Рауль.
Эдгар покачал головой.
– Я бы ничего так сильно не хотел, как назвать тебя братом, – ответил он. – Сердцем я с тобой, но страшусь того, что может уготовить нам будущее. Да и обручение, – сакс слабо улыбнулся, – устраивается совсем не так. Ты и она не простые вольные крестьяне, которые могут жениться по любви.
Рауля вдруг охватило нетерпение.
– Клянусь честью, если миледи Эльфрида доверит мне свое сердце, я получу ее, невзирая на все препоны!
– Вот слова истинного нормандца, – негромко заметил Эдгар. – Мародера и хищника, помечающего свою территорию и жертву!
В душе Рауля вспыхнул гнев, однако он не дал ему вырваться наружу, а постарался взять себя в руки и сказал:
– Я этого не заслуживаю. Хотя сейчас изъясняюсь сумбурно, ты прекрасно знаешь, что не совершу ничего недостойного.
– Я не сомневаюсь в тебе, – согласился Эдгар. – Но дорога будет нелегкой.
В теле Рауля пела весна, и сомнения вместе с дурными предчувствиями показались ему настолько неуместными и нелепыми, что он вновь ощутил укол сильнейшего раздражения.
– Кровь Христова, Эдгар, можешь ты хоть ненадолго забыть об этом? Какое дело нам, простым смертным, до того, что наши вожаки лелеют свои амбиции? Заявляю тебе: я решительно отказываюсь впадать в уныние!
Эдгар слабо улыбнулся.
– В таком случае Бог тебе в помощь, – произнес он. – Ты понимаешь, что это означает, Рауль. Мне более нечего тебе сказать.
Вырвав у Эдгара разрешение ухаживать за Эльфридой, Рауль не стал терять время зря. Девушка выказала застенчивость, но не оттолкнула его. Когда он входил в комнату и направлялся к ней, она встречала его неизменной улыбкой, а если во время утренней соколиной охоты его жеребец случайно оказывался рядом с ее лошадкой, Эльфрида ухитрялась даже отъехать немного в сторону от остальных.
Прошло совсем немного времени, и он вновь заговорил с ней о любви; и на сей раз она не убежала. Эльфрида знала, что ей не сто́ит выслушивать мужчину, который еще не заручился согласием ее отца; она знала, как должна вести себя и что говорить скромная девушка, но, не удержавшись, легонько наклонилась в его сторону. И кто после этого станет обвинять Рауля в том, что он поймал Эльфриду в объятия?
Вот так и получилось, что они поклялись хранить друг другу верность. Держа ее руки в своих, Хранитель сказал:
– Я могу отправить письмо в Англию, твоему отцу, но мне это не нравится. Я ведь наверняка получу холодный ответ, верно?
– Боюсь, что так, – ответила она. – Да, моя матушка и вправду была нормандкой, но отец недолюбливает нормандцев с тех пор, как король начал отдавать им явное предпочтение в Англии. А вот если Эдгар замолвит за нас словечко, то он может и смягчиться.
– Эдгар останется моим другом. После твоего возвращения я приеду в Англию так скоро, как только смогу. – Внезапный страх вдруг ледяной лапой сжал ему сердце. – Эльфрида, ты ведь не связана обещанием с кем-нибудь другим?
Зардевшись, она покачала головой и тут же принялась сбивчиво объяснять, как такое могло произойти; ведь девушка, которой уже сравнялось двадцать лет, незамужняя, не удалившаяся в монастырь и даже не обрученная, являла собой столь необычное зрелище, что факт сей бросал порочную тень на ее репутацию. Но, заглянув в улыбающиеся глаза Рауля, она с долей достоинства заявила:
– Моей вины в том нет, мессир.
Улыбка Рауля стала шире; он принялся целовать ее пальчики, пока она не укорила его в том, что в любой момент на галерею может войти еще кто-нибудь и увидеть их. Тогда Рауль отпустил руку Эльфриды, но обнял девушку за талию. На это она ничего не возразила; быть может, оттого, что они сидели на скамье, его поддержка показалась ей даже желанной.
– Расскажи мне, почему в том не было твоей вины, сердце мое, – прошептал Рауль ей на ушко.
Совершенно серьезно, с благоговейным трепетом в голубых глазах, она поведала ему о том, что еще ребенком была обручена с Освином, сыном Гундберта Сильного, владельца восьмидесяти хайдов[62] земли в графстве Уэссекс.
– Он тебе нравился? – прервал ее вопросом Рауль.
Эльфрида почти не знала его. И никогда не виделась с ним с глазу на глаз, поскольку в Англии не принято, чтобы девушка оставалась наедине с мужчиной до тех пор, пока она не окажется связанной с ним узами брака. Он был вполне достойным молодым человеком, вот только умер ужасной смертью, едва она вступила в брачный возраст. У него вышла ссора с неким Эриком Ярлессеном, свирепым чужеземцем, переселившимся в Уэссекс из северо-восточной части Британии, где в то время действовали датские законы. Эльфрида не знала, из-за чего они поссорились, но полагала, что Освин нанес датчанину определенный ущерб. Однако потом, на масленицу, Освина неожиданно свалила какая-то изнуряющая лихорадка; кое-кто уверял, что это была желтуха, ведь кожа его приобрела желтоватый оттенок; и, хотя он проглотил девять вшей, голодавших девять дней, а на запястье ему посадили живую лягушку, пойманную вечером накануне Ивана Купала, чтобы она оттянула у него жар, все было напрасно. Лихорадка не уменьшалась; с каждым днем ему становилось все хуже и хуже, пока однажды он не умер после долгой болезни; смерть унесла его в расцвете сил.
– После этого, – продолжала Эльфрида, инстинктивно сунув ладошку в руку Рауля, – нашлись люди, которые выдвинули против Эрика обвинения, и среди них – Гундберт, отец Освина. Говорили, что Эрика изгнали из северо-восточных графств, потому что он творил там всякие непотребства и даже занимался колдовством. – Девушка быстро перекрестилась, и дрожь пробежала по ее телу. – Эти люди утверждали, будто уверены, что он применил против Освина stacung. Ты не знаешь значения этого слова? Это когда человек создает образ своего врага, а потом втыкает в него терновый шип, молясь о его смерти.
– Черная магия! – заметил Рауль. – Фу! И что же сталось с тем Эриком?
– Когда состоялся очередной совет графства, он предстал перед главным магистратом и отрекся от обвинений, потребовав справедливого суда. Священник взял в руку две деревянные палочки, на одной из которых был начертан Святой крест, а на другой не было ничего; а Эрик, помолившись Господу о том, чтобы Он свершил правосудие, стал тянуть жребий. – Эльфрида крепче прижалась к Раулю. – На той палочке, что он вытащил из руки священника, не было ничего, поэтому все поняли: Господь объявил его клятвопреступником и это он повинен в смерти Освина через посредство stacung, то есть, колдовства.
– И что же было дальше? – спросил Рауль.
– Одни начали говорить, будто он должен заплатить вергельд[63] – то есть виру, устанавливаемую за голову человека, если он убит. Освин был таном короля, как и мой отец, поэтому денежная компенсация за его убийство исчислялась двенадцатью сотнями шиллингов, которые Эрик, скорее всего, не смог бы заплатить. Но главный магистрат постановил: преступление слишком уж черное и тяжкое, чтобы его можно было искупить серебром, и приказал забить Эрика камнями, что и было сделано во вторник выкупа[64]. Сама я этого не видела, но мне рассказывали. Вот почему я до сих пор даже не обручена.
Рауль прижимал обе ладошки Эльфриды к своей груди, щекой касаясь ее щеки.
– Ты жалеешь об этом, птичка моя? – спросил он.
– Нет, – призналась она. – Теперь не жалею.
Глава 5
Недели складывались в месяцы, а эрла Гарольда по-прежнему с почетом и уважением развлекали в Руане. Для него придумывали всевозможные забавы, и никто даже не заикался о его отъезде. Равным образом и он не делал попытки сбежать, хотя кое-кто в его окружении считал, что возможностей для этого было предостаточно. Когда эрл отправился с визитом к Вульноту в Румар, Эльфрик даже составил план, как им ускользнуть незамеченными из дома Вульнота и верхом доехать до границы. Гарольд, прекрасно понимая, что за каждым его шагом следят, и будучи вполне уверенным в том, что во все порты и сторожевые посты на границе давно разослано предупреждение о его возможном появлении, отклонил этот план без малейшего сожаления. От Эдгара, получавшего письма из Англии, он знал: король Эдуард по-прежнему пребывает в добром здравии, а в стране царит спокойствие. Он мог позволить себе ожидание, и даже если куртуазное заточение и раздражало его, то он был не тем человеком, чтобы проявлять свои чувства на людях. Маска, которую носил, оказалась настолько убедительной, что даже Эльфрик уверовал: Гарольд погряз в праздной беззаботности, и в отчаянии заламывал руки, терзаясь горькими сомнениями. Но эрл отнюдь не страдал беспечностью. Как-то он сказал Эдгару: нынешнее пребывание в Нормандии полезно уже хотя бы тем, что позволило ему узнать герцога Вильгельма и его ближайших сподвижников настолько хорошо, насколько он и мечтать не мог. Через полгода эрл Гарольд близко познакомился почти со всеми высшими сановниками Вильгельма. Понаблюдав за воинственными баронами, к числу которых принадлежали виконты Котантен и Авранш, он обронил:
– Отличные бойцы, но не более того.
Эрл постарался установить дружеские отношения с советниками герцога Фитц-Осберном, Жиффаром, де Бомоном и прочими.
– Верные и преданные люди, – сказал Гарольд, – однако они всего лишь выполняют волю своего господина.
Наблюдая за баронами рангом пониже, такими как знаменосец герцога Ральф де Тони и лорды Каани, Монфике и л’Эгля, он заметил:
– Порывистые и неуправляемые господа, которым нужна твердая рука.
Сведя с ними знакомство, Гарольд выбросил их из головы. А вот когда настоятель собора Герлуина в Беке Ланфранк пожаловал с визитом в Руан, эрл Гарольд отозвался о нем в совершенно другом тоне:
– Этот человек опаснее всех остальных вместе взятых, – негромко сказал он.
Эдгар изрядно удивился.
– Я думал, вам понравится приор, милорд, – заметил он.
И вот тогда эрл сказал нечто такое, что показалось его верному тану чем-то непостижимым.
– Хотел бы я, чтобы он был моим советником, – обронил Гарольд.
Эдгар нахмурился.
– Да, я знаю, что он очень умен. Говорят, это настоятель устроил свадьбу герцога. По-моему, он иногда дает советы Вильгельму.
Эрл с мягкой улыбкой взглянул на него.
– Я тщетно искал среди всех благородных вельмож Нормандии того, кто стои́т за плечом герцога и потихоньку нашептывает ему советы. Теперь я знаю, кто этот человек, и можешь мне поверить – я боюсь его.
– Советник! Разве герцог нуждается в нем? – удивился Эдгар.
– Не для того, чтобы управлять страной, пожалуй, и уж, конечно, не для того, чтобы вести боевые действия, а вот для тайной искусной работы, интриг – да, советник ему просто необходим, – ответил Гарольд.
– А как насчет Ансельма? – предположил Эдгар. – Он тоже славится мудростью суждений.
Но Гарольд лишь покачал головой.
– Святой человек, истинный подвижник, однако чрезмерная святость не позволяет ему давать такие советы, на какие способен изощренный ум Ланфранка.
Эрл более ничего не добавил, но слова его запали Эдгару в душу. Сакс даже как-то заметил Жильберу Дюфаи, что полагает, будто Ланфранк пользуется огромным доверием герцога, и по тому, как засмеялся в ответ Жильбер, заключил: и здесь эрл Гарольд оказался прав. Дурные предчувствия охватили тана с новой силой; он понял, что его повелитель окружен врагами, которые не стесняются прибегать к тайному оружию, а собственная неспособность и бессилие помочь Гарольду вновь сделали его таким же раздражительным и нетерпимым по отношению к тем, кто приютил его, как и тринадцать лет тому.
Поскольку и Рауль, и Эдгар знали, какие планы вынашивают их хозяева, и не имели возможности заговорить об этом, между ними начало нарастать невидимое отчуждение. Под их дружеским разговором скрывалось осознание того, что у них появились тайны друг от друга. Эдгар, стараясь, чтобы разногласия их лидеров не положили конец дружбе между ними, с горечью думал: Рауль более не интересуется никем и ничем, кроме Эльфриды. Рауль же, понимая, какая тяжесть лежит на сердце Эдгара, старался через разделявшую их пропасть протянуть ему руку, будучи уверенным в том, что преданность сакса и ревностное служение своему господину превращают дружбу во вражду.
Однажды, взяв Эдгара за плечи, он заявил:
– Что бы ни случилось, какой дорогой мне ни предстоит пройти, ты знаешь – не я выбрал для себя этот путь, Эдгар.
Сакс, стряхнув с себя его руки, угрюмо ответил:
– Ты – нормандец и друг Вильгельма. Разумеется, должен хотеть того же, что нужно ему.
Рауль, молча окинув Эдгара долгим взглядом, отвернулся. Он ушел, а сакс остался стоять у окна, глядя вниз из-под насупленных бровей; Рауль мог лишь догадываться о том, что под гнетом недовольства и гнева в сердце Эдгара звенели струны гордости за свой народ и верности своему сюзерену. Немного погодя, когда они столкнулись на лестнице, Эдгар, развернувшись, зашагал рядом с Раулем, с неловкостью проворчав:
– Прости меня: в последнее время я что-то сам не свой.
Руки их соединились в крепком пожатии.
– Знаю, – ответил Рауль. – Но, что бы ни случилось, перед лицом Господа нашего, Девы Марии и Фазана[65] клянусь: я был, есть и всегда останусь твоим другом.
Осень сменилась зимой; легкий снег укрыл крыши домов. Эдгар отправился в Харкорт вместе с Раулем, чтобы поздравить старого Хуберта с семидесятилетием, и Эльфрик с отвращением заметил Сигвульфу:
– Эдгара волнуют лишь его нормандские друзья, я полагаю, он с радостью предпочтет их нам, своим соотечественникам. Он презирает Вульнота за то, что тот перенял их манеры, но, несмотря на свою бородку и короткую тунику, вечно оставляет нас, чтобы проехаться верхом вместе с Фитц-Осберном или повидаться с этим громогласным бароном, люди которого, встретив тебя на дороге, кричат «Ату его! Ату!».
После Нового года случилось событие, одинаково занимавшее умы и нормандцев, и саксов. В Бретани молодой граф Конан, годом ранее разогнавший своих воспитателей и советников, начал демонстрировать признаки порочного упрямства и неуправляемости. Одним из первых его самостоятельных деяний стало заточение в темницу своего дяди Одо, предварительно закованного в кандалы. В Нормандию доходили известия об этом и прочих сумасбродствах графа. Похоже, он обещал стать таким же тираном, как его отец или дед, и знающие люди шептались, что он при первой же возможности намерен денонсировать клятву вассальной верности Нормандии.
В начале весны 1065 года Конан прислал письменное уведомление герцогу Вильгельму, со всем пылом и хвастовством юности объявив, что более не считает себя вассалом Нормандии и готов сразиться с герцогом на границе в назначенный им день. Полагали, будто основным объектом нападок Конана должна стать пограничная нормандская крепость Сен-Жак, и посыльные вскоре привезли известия о том, что он выступил маршем к городу Мон-Доль, принадлежавшему герцогу.
Вильгельм принял вызов Конана, не выказав ни малейшего удивления или гнева.
– Все они одним миром мазаны, эти бретонские властители, – только и сказал он. – Я ждал чего-то подобного.
К тому времени как внизу, под лестницей, был накрыт ужин, по всему дворцу уже разнеслась весть – Нормандец вновь собирается на войну. Герцог Вильгельм занял свое место за столом и, сняв пробу с первого блюда, повернувшись к Гарольду, сказал:
– Что скажете, эрл Гарольд? Хотите сразиться в битве на моей стороне?
Это было настолько неожиданно, что все саксы как один удивленно вскинули головы. Эрл же не спешил с ответом и отведал блюдо, которое один из слуг, преклонив колено, протянул ему. Наблюдая за ним, Рауль спросил себя, какие расчеты сейчас с быстротой молнии проносятся у него в голове. По глазам его, впрочем, ничего нельзя было прочесть; по губам скользнула легкая улыбка. Эрл вытер пальцы о салфетку.
– Отчего же нет? Охотно, – спокойно ответил он. – У вас найдется место для меня, герцог Вильгельм?
– Я отдам под ваше начало один из своих отрядов, – пообещал герцог.
Эдгара, уже хорошо знакомого с правилами рыцарства, предложение герцога удивило далеко не так сильно, как его соотечественников-саксов. Сразу же по окончании ужина он поднялся вслед за эрлом наверх и стал умолять его уговорить герцога, чтобы тот позволил и ему принять участие в походе. Ожидая ответа Вильгельма, сакс сгорал от нетерпения и, едва завидев Гарольда, вперил в него жадный вопросительный взгляд.
Гарольд кивнул в ответ на невысказанный вопрос.
– Ты едешь, – сказал он. – Поначалу герцог не хотел давать согласия, но тут твой друг Рауль присоединил свой голос к моему, предложив себя в заложники на случай твоей гибели, и его поддержали Фитц-Осберн, а также Гуго де Монфор. Итак, с шутками и прибаутками, вопрос был решен. Вульнот и Хакон должны будут остаться здесь. Хакон с удовольствием присоединился бы к нам, а вот Вульнот… – Эрл умолк и пожал плечами. – Кажется, он – единственный из нас шестерых, у кого в жилах нет ни капли крови Годвина, – сказал Гарольд. – Но пусть его: он ничем нам не поможет. – Оглянувшись, эрл удостоверился – их никто не слышит. – Ты ожидал, что герцог Вильгельм сделает мне подобное предложение?
– Нет, – немного подумав, признался Эдгар. – Тем не менее так часто поступают. Но что у него на уме, милорд?
– Если бы я знал, что у Вильгельма на уме, то у меня не было бы нужды бояться его, – легкомысленно отозвался Гарольд.
Эдгар недоуменно нахмурился.
– Вы ведь не боитесь его, милорд, – сказал он.
– В самом деле? – Эрл негромко рассмеялся. – Что ж, может быть, ты и прав. Полагаю, он хочет посмотреть на меня в сражении, чтобы понять, каков из меня военачальник. – Гарольд выразительно приподнял бровь. – А поскольку я желаю узнать то же самое о нем – согласился сразиться на его стороне. Таким образом, мы заключили взаимовыгодное соглашение.
– А вы не думаете… – Эдгар запнулся, подбирая слова, – не подозреваете ли его в том, что он желает вам смерти в бою?
– Нет. – Гарольд задумался. – Нет, не думаю. – Его стремительная, летящая улыбка вспыхнула и погасла. – А если Вильгельм питает подобные надежды, то его ждет разочарование. Я не намерен погибать на этой войне.
Эльфрида, узнав о предстоящей экспедиции, встревожилась до крайности, когда же Эдгар принялся потешаться над ее страхами, кинулась искать утешения у Рауля, будучи уверенной, что больше не увидит их живыми.
– Но, сердце мое, я уже побывал на многих войнах и вышел из них целым и невредимым, – рассудительно заметил молодой человек. – Эта кампания будет недолгой, и мы вернемся раньше, чем ты успеешь соскучиться.
Этого она не могла допустить ни при каких обстоятельствах. Спрятав лицо на груди Рауля, Эльфрида сдавленным голосом сообщила возлюбленному, что начинает скучать по нему в ту же секунду, как расстается с ним. На это мог быть только один ответ, и молодой человек дал его. Но девушка еще не покончила со своими страхами. Подняв на Рауля встревоженные глаза, она умоляла его беречься более обыкновенного, поскольку ему предстояло сразиться с ужасными людьми, рожденными исключительно для войны.
Ее слова заставили Рауля рассмеяться; он пожелал узнать, кто вложил подобные мысли ей в голову, и она тут же пересказала ему небылицы о бретонцах, услышанные от бабок и прочих сомнительных личностей. Эльфрида заявила: всем известно, что в Бретани полно свирепых воинов, которые ведут себя подобно варварам, и что у каждого из них бывает по десять жен и пятьдесят детей одновременно, а промышляют они исключительно насилием и кровопролитием. Когда же Рауль, не выдержав, расхохотался, девушка обиженно нахмурилась и ушла, воинственно задрав свой маленький подбородок, но затем простила его и даже признала, что не все из услышанных ею баек могут быть правдой.
Чтобы добраться до Бретани, нормандская армия двинулась на юг, к Авраншу. Путь ее пролегал по местности, изобилующей садами и пастбищами. Далее они перешли через зыбучие пески под Мон-Сен-Мишелем в том месте, где река Куэнон впадает в залив. Этот переход таил в себе множество опасностей; один из воинов, в нагруднике и с тяжелым щитом в руках, сделав неверный шаг, до пояса провалился в невидимую яму, куда его стремительно засосали предательские зыбучие пески. Товарищи попытались вытащить его, но пески оказались сильнее, и несчастный копейщик лишь погрузился еще глубже, так что на виду оставались только его плечи да отчаянно цепляющиеся за жизнь руки. Он принадлежал к отряду эрла Гарольда, и сам эрл проезжал рядом, внимательно и осторожно высматривая дорогу. Увидев само происшествие и бесплодные попытки спасти жертву, Гарольд в мгновение ока спрыгнул с седла. Товарищам бедолаги-копейщика показалось, будто неведомая сила разметала их в стороны; эрл широко расставил ноги, упираясь ими в твердую землю на краю предательской воронки, и наклонился вперед, к тонущему в песках человеку. Руки несчастного мертвой хваткой вцепились в руки Гарольда; стоящие вокруг люди увидели, как напряглись мускулы на предплечьях эрла, и как с сочным треском лопнул один из браслетов у него на запястье. Сильные мышцы канатами вздулись у него под кожей; пески издали хлюпающий звук, словно им ужасно не хотелось отпускать свою жертву; эрл всем телом откинулся назад, и копейщик вырвался из смертельных объятий трясины, а потом и вскарабкался на твердую землю.
Бедняга ползал у эрла в ногах, целуя его сапоги и размазывая по щекам слезы; солдаты, видевшие все происходящее от начала до конца, разразились восторженным ревом. Рауль, наблюдавший за происшествием издалека, понял, почему мужчины любят эрла Гарольда настолько, что с радостью готовы умереть за него.
А эрл не обратил на приветственные крики ни малейшего внимания. Сняв с руки лопнувший браслет, он отшвырнул его в сторону и, поймав уздечку своей лошади, вновь взлетел в седло.
Когда Гарольд поднялся на противоположный берег, то обнаружил, что здесь его поджидает герцог.
– Клянусь Богом, эрл Гарольд, вы были великолепны! – сказал Вильгельм. – Я впервые воочию увидел силу, которая превосходит мою собственную. – Рассмеявшись, он окинул сакса одобрительным взглядом. – Но прошу вас в следующий раз не рисковать своей жизнью ради простого копейщика, друг мой, – добавил герцог.
– Там не было никакого риска, – беспечно отозвался эрл. – Однако я не мог допустить, чтобы этот бедолага погиб.
В тот день рыцари и солдаты говорили только о поступке эрла и его чудовищной силе. Подвиг Гарольда произвел неизгладимое впечатление на умы всех, кто видел это. Герцог Вильгельм обратился к своему брату Мортену:
– Окажись я на его месте и сделай то же самое, это была бы чистой воды политика, чтобы те, кто идет за мной, воспламенились бы моей доблестью. Эрл же Гарольд действовал без задней мысли, но результат получился тем же самым. – Герцог ткнул большим пальцем в сторону его отряда. – Теперь они готовы умереть за него, чего раньше не было и в помине. Вот увидишь, они будут драться, как львы.
Мортен презрительно фыркнул.
– Глупо рисковать собственной жизнью ради какого-то копейщика.
Рауль, ехавший по другую сторону от Вильгельма, вмешавшись в разговор, с любопытством поинтересовался:
– А те подвиги, что вы совершили под Меланом, за которые солдаты прозвали вас героем – это тоже была политика?
Герцог рассмеялся.
– Это произошло в годы зеленой юности. Да, политика, по большей части.
Вильгельм оказался прав, когда сказал, что переданный под командование Гарольда отряд теперь был готов умереть за эрла. Если поначалу солдаты выражали недовольство тем, что ими командует чужеземец, то теперь прежние обиды были забыты и они клятвенно уверяли: он – настоящий вожак. Его отряд проникся таким воодушевлением и подъемом, что, когда армия пересекла границу и вошла в Бретань, подойдя маршем к Долу, герцог, не колеблясь ни минуты, отправил эрла Гарольда освобождать город.
Сам Вильгельм наблюдал за штурмом из лагеря, разбитого на склоне холма неподалеку, вслух комментируя происходящее.
– Настоящий лидер, – сказал герцог, – как я и думал, а в бою он сохраняет холодную голову.
Анализируя тактику Гарольда, Вильгельм, кивнув, заметил:
– Да, именно так поступал и я сам, пока не нашел более надежный путь.
Немного погодя, глядя, как Гарольд бросил в атаку свой правый фланг, герцог улыбнулся.
– Он не имеет привычки командовать конницей, и мои лучники, похоже, ему только мешают. Господи Иисусе, что за жуткое оружие этот его боевой топор!
Саксы пошли в бой, подвесив к седлам свои топоры. Герцог орудовал секирой, держа ее обеими руками, повергнув нормандцев в ступор, и Рауль собственными глазами увидел, как сбылось давнее хвастовство Эдгара. Одним ударом Гарольд перерубил шею лошади своего противника.
Сражение продолжалось совсем недолго, поскольку граф Конан оказался неопытен в ведении боевых действий, да и враги превосходили его числом. Отведав на собственной шкуре умелую ярость Гарольда, он отступил и поспешил обратно к своей столице, Ренну.
Тем вечером Эдгар сидел в палатке Рауля, любовно полируя свой боевой топор. Было совершенно очевидно, что он наслаждался сражением и с радостью принял бы участие в новом бою.
– Что ж, твои желания сбудутся, – лениво проговорил Рауль. – Мы будем преследовать Конана, не изволь сомневаться. Отдал бы ты свой топор оруженосцу, и пусть он его чистит.
– Нет уж, я предпочту сделать это сам, – ответил Эдгар. Сакс поднес топор к свету, любуясь тем, как хищное лезвие заблестело отраженным огнем. – Ну что, разве это не оружие мужчины? Да, старый друг, я рад вновь ощутить твою крепость в своих руках!
Рауль распростерся на соломенном тюфяке, заложив руки за голову, и с усмешкой наблюдал за Эдгаром.
– На твоем месте я бы тоже радовался, если бы мне надо было завалить быка, – насмешливо проговорил он.
– Быка! – с негодованием вскричал Эдгар и погладил толстое топорище. – Ты слышишь, Тот, Кто Пьет Человеческую Кровь?
Рауль многозначительно скривился.
– Помолчи, варвар! Если ты намерен и дальше разговаривать с этим жутким оружием, ступай куда-нибудь в другое место! Мне лично не нравится ни кровь, ни битвы.
– Рауль, ты не должен так говорить, – упрекнул друга Эдгар. – Если тебя услышит кто-нибудь, кто еще не знаком с тобой…
– То непременно сочтет, что я говорю правду? – перебил его Рауль.
– Да, а почему нет?
– Ну так я действительно говорю правду, – ласково ответил Рауль и смежил веки.
Подобное признание не на шутку встревожило Эдгара, он попытался заставить Рауля отказаться от этой глупой и неуместной привередливой разборчивости. Но, похоже, слова его не возымели решительно никакого действия, потому что через двадцать минут серые глаза сонно приоткрылись и Рауль, зевнув, заявил:
– А-а, Эдгар! Ты еще здесь?
Эдгару ничего не оставалось, как подняться на ноги и с достоинством удалиться к себе.
Однако вера его в Рауля восстановилась довольно быстро, поскольку герцог, подойдя к Динану, взял город огнем и мечом. Эдгар, настырно лезущий в самую гущу сражения, обнаружил – Рауль неизменно идет в первых рядах атакующих и кровавая бойня ничуть не мешает ему продвигаться вперед. Они бок о бок вошли в пролом в одной из крепостных стен. Здесь Рауль, поскользнувшись на россыпи мелких камешков, упал; топор Эдгара принялся описывать над ним сверкающие круги, и сакс взревел на родном языке:
– Прочь, пошли прочь!
Какой-то бретонец бездыханно свалился на Рауля, заливая его хауберк кровью. Рауль, столкнув с себя еще дергающееся в агонии тело, с трудом поднялся на ноги.
– Ты как, цел? – крикнул ему Эдгар, напрягая голос, чтобы перекричать шум битвы.
Рауль кивнул. И только когда сражение закончилось и нормандская армия полностью заняла город, они вспомнили о случившемся. Оба потеряли друг друга из виду в пылу боя, а встретились только несколько часов спустя, на рыночной площади. Рауль командовал отрядом солдат, которому было приказано потушить пожары в городе. Уже сгущались сумерки, когда на него наткнулся Эдгар; Хранитель стоял, озаренный пламенем пожара, мокрый от пота, с ног до головы покрытый сажей и копотью, но целый и невредимый.
Эдгар подождал, пока Рауль отдаст приказание одному из своих людей, и только тогда положил руку ему на плечо.
– А я искал тебя по всему городу, – сообщил он и со свойственной ему невыразительностью добавил: – Я уже начал думать, что тебя убили.
– Мог бы спросить у Нееля; он подсказал бы тебе, где меня найти, – отозвался Рауль. – Эй, там! Отойдите от стены! Она сейчас рухнет!
По булыжной мостовой босиком мчался какой-то малыш в рваной обгорелой тунике, ища маму и пронзительным криком оглашая воздух. Рауль, подхватив его на руки, передал Эдгару.
– Подержи ребенка! – скомандовал он, – иначе его завалит обломками. Этот дом обречен.
Эдгар сунул перепуганного мальца под мышку и недоуменно поинтересовался, что ему с ним делать. Но Рауль уже отошел, чтобы руководить спасением другого дома, на противоположном краю рыночной площади, к которому огонь только подбирался. Эдгар остался на месте, не зная, как успокоить заливающегося слезами мальчонку. К его облегчению, пронзительные крики малыша привлекли какую-то женщину, которая со всех ног бросилась к нему. Она буквально вырвала ребенка из рук Эдгара, прижала его к груди и разразилась непонятной скороговоркой на своем языке. Поскольку бретонского наречия Эдгар не знал, то и понять, что она говорит, не мог, но свирепое выражение ее лица и голоса не оставляли в том никаких сомнений. Он попытался объяснить ей, что не причинил мальчишке никакого вреда, но из его слов женщина поняла не больше, чем он из ее, и лишь угрожающе шагнула к Эдгару, выставив перед собой скрюченные пальцы, словно намереваясь выцарапать ему глаза. Сакс поспешно укрылся за грудой обгорелых бревен, где и обнаружил его Рауль, правда, уже после того, как женщина удалилась, разразившись напоследок очередными проклятиями в адрес Эдгара.
Рауль же согнулся пополам от смеха.
– О бесстрашный герой! О храбрый сакс! Идем, злобный враг отступил.
Эдгар со смущенной улыбкой выбрался из-за груды обломков.
– Нет, а что мне оставалось делать? Это не женщина, а сущая дьяволица. Чума и мор на твою голову, гололицый: это ведь ты сунул ребенка мне в руки.
Рауль начал вытирать пыль и грязь с лица и шеи. Перестав смеяться, он наблюдал за своими людьми, которые выстроились цепочкой, передавая друг другу полные ведра воды.
– Дьявольская работа. А тебе она нравится! – Он, переведя взгляд на Эдгара, вдруг сказал: – А ведь ты спас мне жизнь там, на стенах.
– Когда? – недоуменно нахмурился сакс.
– Когда я споткнулся, тупица.
– А, тогда! – Эдгар на мгновение задумался. – Да, пожалуй, действительно спас, – признал он, и лицо его просветлело. – Редкой красоты получился удар, прямо в место соединения плеча с шеей. Оказывается, за годы ссылки я еще не растерял своего мастерства.
– Что ж, прими мою искреннюю благодарность, – сказал Рауль. – Хвала всем святым, сегодняшняя драка положит конец войне. Конан лично сдал город герцогу.
– Да, – согласился Эдгар, но в голосе его прозвучало легкое сожаление. – Я иду ужинать, – заявил он. – Пойдешь со мной?
– После того, как увижу, что мы погасили последнюю искру. Где сейчас герцог?
– Наверху, в замке, вместе с эрлом и де Гурнеем. Конан делает хорошую мину при плохой игре и сегодня вечером ужинает за столом герцога. Так, во всяком случае, сказал мне Фитц-Осберн. Хотя на месте Вильгельма я бы заковал его в кандалы. – Эдгар, повернувшись, двинулся прочь, но тут же остановился, не пройдя даже трех шагов, и, не оборачиваясь, сообщил: – Герцог производит эрла Гарольда в рыцари. – После чего, не дожидаясь ответа Рауля, сакс широкой поступью пересек рыночную площадь и скрылся из виду.
Рауль долго смотрел ему вслед.
– А тебе бы хотелось, чтобы эрл Гарольд отказался, – негромко проговорил Хранитель и вернулся к работе.
Церемония посвящения в рыцари состоялась на следующее утро. Эрл предстал безоружным перед Вильгельмом, у которого на изукрашенном драгоценными каменьями поясе висел меч, на голове красовался шлем, а в руке герцог держал копье. Положив правую руку на плечо Гарольда, он произносил освященные временем и обычаем слова клятвы.
После того как Конана вынудили повторно принести вассальную присягу Нормандии, герцог решил вернуться в Руан и, перейдя границу, вступил в Авранш. Они с эрлом Гарольдом ехали бок о бок и, судя по всему, пребывали в наилучших отношениях, деля один шатер на двоих и проводя долгие часы за дружеской беседой.
В Сен-Жаке у самой границы они остановились на ночь, и, как бывало всегда, когда весть о присутствии герцога разносилась по окрестностям, в лагерь к нему потянулся местный люд. Одни – с жалобами, другие – чтобы взглянуть на него из чистого любопытства, третьи – рассчитывая получить щедрую милостыню от богатых лордов, сопровождавших его. Подавляющее большинство просителей составляли калеки или прокаженные, и звон их колокольчиков[66] весь день разносился над лагерем. Подобным личностям редко дозволялось приближаться к Вильгельму, но, когда в Сен-Жаке герцог обедал с эрлом Гарольдом подле своего шатра на свежем воздухе, к нему подошел Фитц-Осберн и бесцеремонно заявил:
– Монсеньор, я хотел бы предложить вам полюбоваться на невероятное зрелище, которое только что видел своими глазами! Ничего подобного я в жизни не встречал!
– И что же это за зрелище, Гийом? – снисходительно осведомился герцог, за годы знакомства слишком привыкший к восторженному энтузиазму Фитц-Осберна, чтобы легко поддаться ему.
– Это женщина, у которой все, вплоть до пупка, наличествует в двойном размере, – сообщил ему Фитц-Осберн. – Сеньор, вы улыбаетесь, но, клянусь честью, у нее два туловища, две головы, две шеи и четыре руки. Все это, соединяясь на поясе, поддерживается единственной парой ног. Рауль, час назад ты обходил внешние посты: неужели ничего не видел?
– Да, видел, – сказал Рауль, и на его лице отразилось отвращение. – Зрелище и впрямь удивительное, но одновременно ужасающее.
Герцог, повернув голову, взглянул на своего фаворита, стоявшего позади его кресла.
– Это и в самом деле диковинка, мой Хранитель, или же очередная небылица Гийома?
Рауль улыбнулся.
– Нет, зрелище и впрямь необычное, но вас может стошнить, когда вы все увидите сами.
– У меня крепкий желудок, – ответил Вильгельм. – Что скажете, эрл Гарольд? Взглянем на это чудо?
– Я бы многое отдал, чтобы увидеть его, – сказал эрл. – Женщина с двумя головами! И обе могут говорить? Или одна говорит, а вторая молчит?
Шут Гале, скорчившись, сидел у кресла Вильгельма; герцог толкнул его ногой.
– Вставай, Гале! Ступай и приведи мне эту диковинку.
Фитц-Осберн тем временем ответил на вопрос эрла:
– Нет, но еще недавно они могли говорить вдвоем. Отец этого создания, здешний простолюдин, рассказывал мне, что одна половина ела, пока вторая говорила, или спала, пока другая бодрствовала. Но около года тому назад одна половина умерла, а вторая осталась жива, и это кажется мне самым необычным и даже удивительным.
– Одна половина мертва, а вторая жива! Неужели такое может быть? – Гарольд явно не верил своим ушам. – Я испытываю большое желание повидать эту странную и ужасную женщину.
Рауль в свойственной ему манере негромко заметил:
– Смотрите, чтобы вам не стало дурно от ее вида и запаха, милорд.
Гарольд вопросительно взглянул на него, но Рауль ограничился тем, что ответил:
– Вы сами все увидите; на мой взгляд, зрелище не из приятных.
Герцог отложил в сторону косточку каплуна, которую обсасывал.
– Советую вам прислушаться к Раулю, эрл Гарольд. Одни называют его Хранителем, зато другим он известен под именем Привереда, а также Друг Того, у Кого Нет Друзей. Я говорю правду, Рауль?
– В общем, да. Но я не предполагал, что вы знаете об этом, монсеньор.
Герцог улыбнулся.
– Тем не менее ты знаешь меня не хуже других, – загадочно обронил он. Заметив приближающегося шута, Вильгельм поманил его к себе. – Ну, ты привел мне диковинку сенешаля, приятель?
– Да, братец, вот она идет. – Гале ткнул пальцем в ту сторону, откуда к ним ковыляющей походкой приближалась нелепая, закутанная в тряпки фигура под вуалью, которую вел за собой серв, держа ее за руку.
Герцог отодвинул тарелку в сторону и облокотился о стол.
– Иди-ка сюда, любезный, и приведи мне свою дочь, чтобы я мог собственными глазами взглянуть на то, какой создал ее Господь, – милостиво сказал он.
Из глубины вороха одеяний донесся тонкий безжизненный женский голос:
– Милорд, меня создал дьявол, а не Господь Бог в неизреченной милости своей.
Герцог нахмурился.
– Что за кощунственные речи ты ведешь, женщина? – Вильгельм сделал знак рукой. – Подойди ближе и сними эти покровы. Ты показывала себя за деньги моим солдатам: теперь покажись и мне.
Она подошла к столу едва ли не вплотную, распространяя вокруг себя тошнотворный запах разложения и гниющего мяса. Эрл Гарольд внезапно поднес к носу салфетку.
– Теперь вы сами увидите, говорил ли я правду, монсеньор! – заявил Фитц-Осберн.
Отец женщины, непрестанно кланяясь герцогу, принялся разматывать грубые тряпки, скрывавшие бесформенную фигуру. Закончив, он отступил на шаг и гордо произнес:
– Вот такой она и была с самого рождения, милостивый господин.
– И единственной частью ее организма, которая обрадовалась этому, был ее живот, воскликнувший: «Хвала Господу, свой голод я могу утолять отныне двумя ртами!» – воскликнул Гале и ткнул своим шутовским жезлом эрла Гарольда. – Эй, кузен, тебя что, тошнит?
Эрл быстро вскочил на ноги и принялся нашаривать кошель, который носил на поясе. Он изменился в лице, когда женщина предстала перед ним обнаженной, и при виде ее мертвой половины, свисавшей набок и тянувшей ее к земле, желчь подступила к горлу Гарольда. Тело ее покрылась гнилостными язвами и струпьями; высохшие руки свешивались вниз, при каждом ее движении раскачиваясь из стороны в сторону; голова подпрыгивала и болталась, а плоть выглядела изъеденной червями и отваливалась от костей.
Эрл отбросил салфетку в сторону, словно сердясь на себя за то, что она ему вообще понадобилась, и подошел к женщине, положив ладонь на ее печальную живую голову.
– Да смилуется над тобой Господь, бедное создание, – мягко сказал он, вложив ей в ладонь кошель и сомкнув вокруг него ее безжизненные пальцы, после чего, не оборачиваясь, зашагал прочь.
Герцог смотрел ему вслед.
– Да, от ее вида его затошнило, но он смог заставить себя коснуться ее, преодолев собственное отвращение, – пробормотал Вильгельм. На краткий миг герцог встретился с Раулем взглядом. – В нем и впрямь есть величие. – Вильгельм повернулся к Фитц-Осберну. – Передай этой женщине кошель и от меня, Гийом. – Он окинул ее критическим взглядом. – Девочка моя, кажется, чистилище тебя ждет уже здесь, на земле. Ступай с Богом. – Глядя на удаляющуюся пару, Вильгельм коротко сказал: – Фу! Ну и запашок! Подай мне свою розу, Гийом. Какая влюбленная дурочка подарила тебе ее?
Фитц-Осберн, расхохотавшись, вытащил цветок из-под застежки, что удерживала на плече его мантию, и протянул цветок герцогу.
Вильгельм поднес розу к носу.
– Ты был прав, Рауль: зрелище действительно ужасающее, – заметил он.
Гале, уже некоторое время хранивший молчание и рисовавший в пыли какие-то фигурки, подняв голову, вперил взгляд в Вильгельма. Глаза его засветились неземным светом; на лбу выступил пот; чужим голосом шут произнес:
– Братец, ты только что видел загадку, разгадать которую у тебя не хватит мозгов.
– Что ж, разгадай ее для меня, шут, – отозвался Вильгельм, по-прежнему вдыхая чистый и сладкий аромат розы.
– Ты только что видел Англию и Нормандию, братец, две разные страны, но объединенные одним правителем; некогда обе были сильными и здоровыми, однако теперь одна умерла, гниет и разлагается, неподъемной ношей отягощая другую, которая пока еще в состоянии поддерживать ее своей силой и богатством.
– Чушь! – презрительно бросил Фитц-Осберн.
Герцог же не отрывал взгляда от бутона розы, которую держал в руке.
– Продолжай, друг мой Гале. И какая же из них, по-твоему, Нормандия?
Шут вытянул костлявый палец, и они увидели, что он дрожит.
– А ты разве не знаешь, братец Вильгельм? Не-ет, тебе это прекрасно известно, с твоим-то орлиным взором! Нормандия – это и есть та гниющая плоть, что вытягивает жизненные соки из Англии. Потому что Англия заберет у Нормандии все, что та может дать, и оставит ее увядать и умирать; ты сам это видел сегодня – да, и это увидят твои сыновья в грядущие годы, к своей неизбывной горечи!
У Фитц-Осберна отвисла челюсть; Рауль же во все глаза смотрел на герцога, который метнул на шута быстрый взгляд из-под насупленных бровей.
Воцарилось тяжелое молчание. Наконец Вильгельм отвел взгляд от лица шута.
– Да будет так, – размеренно проговорил он и вновь склонил голову к бутону розы, нюхая его.
Глава 6
Они направились на запад, к Сен-Ло, расположенному на реке Вир, в пустынном и малонаселенном уголке графства Котантен. Здесь их и встретили гонцы из Руана, привезшие с собой письма для герцога. Он быстро пробежал их глазами и задержался лишь на одном, где речь шла об Англии. Наконец протянул его эрлу Гарольду со словами:
– Полагаю, это и вас касается.
Пока эрл читал письмо, герцог продолжал вскрывать остальные депеши, ни разу не взглянув на Гарольда, чтобы понять, как тот воспринял известия, содержащиеся в кратком донесении, которое он держал в руке.
Но на лице эрла не дрогнул ни один мускул. Он читал не спеша, и в глазах его застыло задумчивое выражение. Письмо сообщало о том, что здоровье короля пошатнулось: он все реже выезжал на охоту, проводил все больше времени в молитвах и размышлениях, раздражался из-за каменщиков, работающих над возведением аббатства, которое должно было увековечить славу святого Петра на острове Торни, расположенном на окраине Лондона. Этому аббатству полагалось стать местом последнего упокоения короля, и он вбил себе в голову, что строители не успеют закончить здание к тому моменту, как тело его нужно будет придать погребению.
Далее письмо сообщало о беспорядках на севере, где правил Тостиг. Эрл Гарольд, аккуратно сложив его, вернул Вильгельму. Герцог же, взяв перо и чернила, принялся писать ответ в Руан. Рука его двигалась быстро и уверенно, оставляя характерный росчерк.
Не отрывая взгляда от тряпичной бумаги под рукой, он сказал:
– Знаете, друг мой, я бы не стал долго терпеть таких буйных людей, как ваш брат.
– Я тоже, – мрачно отозвался эрл.
Еще некоторое время Вильгельм продолжал писать, не говоря ни слова. Дойдя до конца страницы, посыпал ее мельчайшим песком и, наконец, стряхнул его на пол. Отложив письмо в сторону, герцог вновь окунул перо в чернильницу.
– Думаю, – с расстановкой, выводившей эрла из себя, проговорил он, – думаю, вам пришло время возвращаться в Англию, эрл Гарольд.
Эрла вдруг охватило непреодолимое желание вскочить и пробежаться по тесной комнате. Он подавил его и остался сидеть, не сводя глаз с лица Вильгельма.
– Время пришло не только для этого, – тщательно подбирая слова, сказал Гарольд.
Он смотрел, как перо герцога коснулось бумаги – раз, другой, третий. Эрл вдруг заметил, что пальцы его выбивают дробь по резному подлокотнику кресла, и крепко стиснул ими твердое дерево, чтобы не выдать себя. Он ждал, что герцог заговорит, но Вильгельм продолжал писать. Эрл мысленно взвешивал одну фразу за другой и тут же отбрасывал их. Наконец резко бросил:
– Будьте со мной откровенны, герцог Вильгельм: что вам от меня нужно?
При этих его словах герцог поднял глаза и отложил перо в сторону. Оттолкнув от себя бумаги, сцепил руки в замок на столе и сказал:
– Эрл Гарольд, много лет назад, когда я был совсем еще мальчишкой и находился под присмотром опекунов, король Эдуард гостил у меня при дворе в качестве моего друга. В те дни он пообещал мне, что если когда-нибудь станет королем Англии, но не сумеет зачать собственного наследника, то оставит трон мне. – Вильгельм сделал паузу, но эрл молчал. Гарольд откинулся на спинку кресла, упираясь затылком в твердое резное дерево, и на лице его не отражалось ничего, кроме вежливого интереса. Герцог окинул его явно одобрительным взглядом. – Четырнадцать лет тому, – продолжал он, – я побывал в Англии с визитом у короля, и он повторил свое обещание, передав мне в качестве заложников Вульнота, Хакона и Эдгара, сына Эдвульфа. Полагаю, это вам известно?
– Я слышал об этом, – спокойно подтвердил эрл, лицо которого по-прежнему ничего не выражало.
– Король пребывает в весьма почтенном возрасте, – заметил Вильгельм, – а я не единственный, кто хочет занять его трон.
Глаза эрла блеснули, но он предпочел промолчать.
– Например, Эдгар, несовершеннолетний Этелинг, – после едва заметной паузы продолжал Вильгельм. – У меня нет сомнения, что многие хотели бы усадить на трон именно его.
– Очень может быть, – согласился Гарольд. Он шевельнул рукой так, чтобы солнечный луч упал на перстень с рубинами балэ у него на пальце, и, полузакрыв глаза, любовался игрой света.
– Мне нужен человек, который действовал бы от моего имени в Англии, – сказал герцог, – представляя мои интересы до тех пор, пока Эдуард не отправится к праотцам… и после этого.
– Вы имеете в виду меня? – осведомился эрл, и в голосе его звякнула сталь.
– Вас, – согласился Вильгельм, – если вы дадите клятву поддержать мое право на трон.
Эрл улыбнулся. Оторвав взгляд от перстня, он обнаружил, что Вильгельм в упор смотрит на него. Гарольд не дрогнув встретил его взгляд, и дуэль эта длилась столько, что посторонний наблюдатель успел бы досчитать до пятидесяти. В комнате царило молчание, нарушаемое лишь веселой трелью жаворонка, доносившейся откуда-то из высокой голубой дали.
– Значит, вот почему вы удерживали меня, – безо всякого удивления или гнева проговорил наконец эрл.
– Именно поэтому, – отозвался Вильгельм. – Призна́юсь вам откровенно, эрл Гарольд, окажись вы другим, я бы не прилагал к этому столько усилий. Я заявляю вам совершенно прямо и честно, что в вашем лице впервые за долгие годы встретил человека, к которому питаю… уважение.
– Польщен, – с иронией откликнулся Гарольд.
– И имеете на то полное право, – с намеком на юмор ответил герцог. Он смотрел, как последние песчинки провалились в трубочку часов на столе, и перевернул их.
– И чем же вы намерены подкупить меня, милорд герцог? – поинтересовался Гарольд.
По губам Вильгельма скользнула презрительная улыбка.
– Эрл Гарольд, вы можете считать меня кем угодно, но только не дураком. Подкуп я приберегаю для менее достойных людей.
Гарольд едва заметно наклонил голову.
– Премного благодарен. Хорошо, я задам свой вопрос следующим образом: какую награду вы готовы предложить сыну Годвина?
Герцог несколько мгновений молча смотрел на него.
– Гарольд, стоит вам только захотеть, и вы станете вторым после меня человеком в Англии, – сказал Вильгельм. – Я отдам вам в жену свою дочь Аделу, и вы сохраните все свои нынешние владения.
Если предложение взять в жены девочку, которая была младше его собственного ребенка от первого брака, и показалось эрлу нелепым и смехотворным, он ничем не выдал этого.
– Что ж, это благородно с вашей стороны! – пробормотал Гарольд и вновь принялся разглядывать свой перстень. – А если я откажусь?
Герцог, понимая, что всякие увертки в разговоре с таким человеком уже стали бесполезными, ответил:
– Говоря прямо, сын Годвина, если вы откажетесь, я не позволю вам покинуть берег Нормандии.
– Понятно, – сказал Гарольд. Он мог бы добавить, что ему все стало понятно еще много месяцев тому и что с тех самых пор он, взвешивая свои шансы на побег, готовил ответ на требования герцога. Но сейчас в его глазах не было улыбки, а губы сложились в суровую линию. Гарольд глубоко вздохнул, словно завершая борьбу, которая дорого обошлась ему, однако голос его прозвучал легко и приятно, как всегда, ничем не выдавая чувств, обуревавших его. – Похоже, у меня нет выбора, герцог Вильгельм. Я дам вам клятву, – сказал он.
Тем же вечером он поведал Эдгару о том, что сделал. Эдгар проводил эрла в спальню и уже собирался проститься с ним у двери, когда Гарольд коротко заявил:
– Подожди: я должен кое-что тебе сказать. – Отпустив сонного пажа, который вощеным фитилем зажигал свечи на столе, он с размаху опустился в кресло, стоявшее у стены, вне пределов круга света. – Закрой дверь, Эдгар. Через неделю или чуть больше я отплываю в Англию и беру с собой тебя и Хакона. Вульнот останется здесь.
Эдгар застыл у двери словно статуя.
– Отплываете в Англию? – тупо переспросил он. – Вы хотите сказать, герцог смилостивился? – Сакс явно отказывался поверить своим ушам, но потом, очевидно, какая-то мысль пришла ему в голову, и он взволнованно спросил: – Это оттого, что вы так хорошо послужили ему в Бретани, милорд? Я, конечно, знал – ему по душе мужество, но не думал… – Эдгар оборвал себя на полуслове, услышав, как эрл презрительно рассмеялся. Сакс быстро шагнул вперед, чтобы рассмотреть выражение лица своего повелителя. – И какова же цена свободы? – требовательно спросил он, с такой силой вцепившись в край стола, что костяшки его пальцев побелели.
– Я дал обещание принести ему клятву верности и поддержать его претензии на английский престол, – ответил Гарольд. – После смерти короля официально передать ему замок Дувр и жениться на его дочери Аделе, когда она достигнет брачного возраста.
– Господи Иисусе, вы не шутите? – Эдгар схватил со стола тяжелый подсвечник и поднял его высоко над головой, отчего свет упал на лицо эрла. – Вы повредились рассудком, милорд? – хрипло спросил он. – Господи, да вы рехнулись!
Эрл выставил перед собой руку, защищая глаза.
– Нет, я не сошел с ума, – ответил он. – Я выбрал единственный путь, ведущий к свободе.
– Отказавшись от короны, которая была для вас целью всей жизни! – Канделябр в руке Эдгара дрожал. – А как же мы, люди, верившие вам, следовавшие за вами, умиравшие за вас? Клянусь распятием, неужто я слышу речи сына Годвина?
Эрл беспокойно заерзал в кресле.
– Глупец, неужели ты не понимаешь, что, если бы я не согласился принести клятву, Вильгельм никогда не отпустил бы меня отсюда? И что бы тогда сталось со всеми вами, кто поверил в меня? Разве я не обманул бы ваши ожидания? Отвечай!
Эдгар с громким стуком опустил канделябр на стол.
– Милорд, у меня просто нет слов, и я окончательно запутался. Говорите со мной прямо, умоляю вас!
– Я уже сказал тебе: я выбрал тот единственный путь, что мне еще оставался. Если бы отказался, то навсегда остался бы пленником и потерял то, к чему стремился всю жизнь. – Сделав паузу, Гарольд многозначительно добавил: – Или ты забыл, как год тому я пообещал тебе, что вырвусь из этой ловушки, чего бы мне это ни стоило?
– И что она вам даст, эта свобода в кандалах? – с горечью спросил Эдгар, но тут же сообразил, что имеет в виду эрл, и повалился на табурет у стола, обхватив голову руками. – Боже милостивый! – вырвалось у него. Он запустил пальцы в волосы и взъерошил их. – Я и вправду глупец, – с горечью заключил сакс, – если полагал, что Гарольд Годвинсон скорее даст разорвать себя на куски, чем станет клятвопреступником. Простите меня! Я мечтал о несбыточном.
Эрл встал и остановился перед своим таном, упершись обеими руками в стол, разделявший их.
– Скажи мне, кого я должен обмануть и нарушить данное слово: Вильгельма или Англию? – сурово осведомился он. – Говори! Мне предстоит выбор из двух зол. Должен ли я устрашиться запятнать свою честь и предать нашу Англию этому нормандскому тирану? Ты этого от меня хочешь? И такой поступок полагаешь достойным Гарольда Годвинсона? Клянусь Евангелием, если ты так обо мне думаешь, забудь об этом, знай, что я таков, каков есть на самом деле, а не плод твоих фантазий! Я выбираю Англию и буду защищать ее до последнего вздоха. Можешь думать обо мне, что твой душе угодно: я нарушу слово, данное всем остальным, но останусь верен Англии. Какое мне дело до того, что душа моя будет проклята и попадет в ад, если обо мне скажут – мое деяние пошло во благо Англии? – Голос его эхом отразился от стен; он умолк, и в комнате воцарилась глубокая тишина. Свечи горели ровным пламенем, и языки их не колебались от сквозняка; за окном в темном небе сияла яркая звезда.
Тишину нарушил крик совы. Эдгар, вздрогнув, поднял голову, опущенную на скрещенные руки.
– Простите меня! – уже совсем другим голосом произнес он. Лицо его потемнело. – Вас заманили в дьявольски хитрую ловушку! Но и на это найдется достойный ответ! Милорд, а он не может догадаться о том, что вы задумали? Разве не может он заподозрить, что вы вовсе не намерены связывать себя клятвой?
– Догадаться! Да он знает об этом наверняка, – ответил Гарольд и начал ходить кругами по комнате. – Ланфранк! – сказал он. Расстегнув пояс, швырнул его на стол. – Как, ты еще ничего не понял? Подумай, когда корона Англии будет возложена на мою голову, какой шум и крик поднимет Вильгельм в отношении Гарольда, посмевшего нарушить данную ему клятву!
– Все очень плохо, милорд, – негромко сказал Эдгар. – Это оскорбление Господа Бога и рыцарства, несмываемое пятно на щите вашей чести и достоинства. – Сакс вдруг вскочил на ноги, оттолкнув табурет. – А я-то думал, он питает к вам добрые чувства! Все эти недели, пока вы спали, ели, сражались вместе… Ах, он двуличный дьявол, Волк!
Гарольд прервал бесцельные метания по комнате и сел, с любопытством глядя на Эдгара.
– Ты ошибаешься, полагая, будто он притворялся, что любит меня. Нет, я действительно нравлюсь ему и, если склонюсь перед его волей, могу рассчитывать на его дружбу. Подумать только, он даже предложил мне… Впрочем, это не имеет значения. Я выбрал путь, по которому должен пройти. – Гарольд подошел к Эдгару и взял его за руки. – Сердце подсказывает тебе, что впереди нас ждут нелегкие времена: неужели ты думаешь, будто у меня на душе легко? Встань рядом со мной и поддержи меня; поверь мне еще раз, хотя я беру на себя тяжкий грех клятвопреступления. Но сейчас мне нужно, чтобы ты вновь поверил в меня, как раньше.
Он разжал руки. Эдгар упал перед ним на колени и сложил ладони в молитвенном жесте.
– Господь свидетель, я верю вам, милорд, и вы знаете об этом. Будь что будет – я последую за вами до конца.
Эрл обхватил ладонями сложенные руки Эдгара.
– Да, знаю. – Он заставил своего тана подняться на ноги. – Уже поздно, да и говорить здесь более не о чем. Оставь меня и молись, чтобы Вильгельм не потребовал от твоего сюзерена настолько торжественной клятвы, что я, нарушив ее, лишил бы себя возможности вымолить у Церкви прощение.
На следующий день они вновь тронулись в путь. Эдгар ехал рядом с Гарольдом, старательно держась в стороне от своих нормандских друзей. Фитц-Осберн поначалу даже подшучивал над его холодностью, но быстро угомонился, встретив многозначительный взгляд Рауля. Пустив своего коня галопом рядом с лошадью Хранителя, он поинтересовался:
– Что его гложет? Вот уже много лет я не видел его таким мрачным.
– Оставь его в покое, Гийом! – устало сказал Рауль. – Неужели ты не можешь понять, как сильно он нас ненавидит?
– Ненавидит нас! – воскликнул Фитц-Осберн. – Неужели только из-за этой клятвы, которая будет принесена в Байе? Нет-нет, не может быть! Ему-то какое до этого дело?
Рауль испустил тяжкий вздох.
– А какое бы нам было дело, если бы сегодня на месте Гарольда оказался Вильгельм? О, я нисколько не сомневаюсь, что Эдгар по-прежнему любит своих друзей, однако в сердце его поселилась жгучая ненависть к нашей нации. Оставь его: ты ничем не можешь ему помочь.
– Но я не вижу к тому никаких причин, – упорствовал Фитц-Осберн. – К эрлу не применяли силу; вопрос этот решен между ними так, как бывает между теми, кто хорошо понимает друг друга. Какого дьявола ты смеешься?
– Не применяли силу? – повторил Рауль. – Господи милосердный, Фитц-Осберн, неужели единственная сила, которую ты признаешь, – это пытки? Давай больше не будем говорить об этом.
В надлежащее время они прибыли в Байе, где их встретил епископ. Если эрл и высматривал среди собравшихся приора собора Святого Герлуина, то он его не обнаружил. Эрл Гарольд пребывал в обычном жизнерадостном расположении духа, весело болтал с герцогом и Одо, смеялся шуткам с видом человека, совесть которого ничем не омрачена. И лишь лица его сподвижников – Эдгара, Эльфрика, Сигвульфа, Эдмунда, Освина и Арнульфа – оставались мрачнее тучи, и они провожали своего сюзерена беспокойными взглядами. Каждому из них он доверился, каждый поклялся хранить молчание, но, хотя они вслух заявили о том, что подобная клятва, данная под принуждением, ни к чему его не обязывает, их терзали дурные предчувствия, а в душах поселилась смутная тревога.
Первый вечер их пребывания в Байе прошел мирно и спокойно, но уже на следующее утро в Зале заседаний совета в замке состоялась церемония принесения клятвы.
Герцог восседал в троне с короной на голове и обнаженным мечом в руке, держа его острием кверху. За его спиной столпились рыцари и вельможи; перед ним, посреди залы, стояла большая лохань, накрытая золотой парчой, которая полностью скрывала ее от любопытных глаз. Рядом с ней, в окружении нескольких священников и своего духовника, застыл в ожидании епископ Одо.
Утро выдалось ясным, и в лучах солнечного света, вливающихся в окна, танцевали пылинки; вся зала буквально купалась в их золотом блеске, наполняясь теплом, а в незастекленные окна проникал шум города.
Последним прибыл эрл в сопровождении своих сторонников. На нем была его обычная кольчуга с короткими рукавами, но голова осталась непокрытой. С плеч его ниспадала голубая мантия, а запястья украшали золотые браслеты. Раулю вдруг показалось, будто он принес с собой солнечный свет.
Эрл на мгновение приостановился на пороге и быстро огляделся. Герцог, сидящий на троне в отдалении, стоящие рядом с ним Фитц-Осберн, Мортен, Грантмеснил, Тессон, Сен-Совер, де Гурней, де Монфор, Жиффар – он окинул их всех одним быстрым взглядом. Они неподвижно застыли, положив руки на рукояти мечей, глядя на него мрачно и, как ему показалось, с угрозой.
Эрл неспешно вышел вперед; он был бледен, но совершенно спокоен. Между бровей его пролегла легкая морщинка, а губы он плотно сжал. Позади него полукругом выстроились саксы.
Занавес на одном из арочных входов раздвинулся, и в залу вошел священник, держа в руках два реликвария[67], которые он и опустил благоговейно на накрытую лохань перед Одо. Ни один мускул лица Гарольда не дрогнул, когда он посмотрел на них, после чего вновь устремил взгляд на герцога.
Эдгар облегченно вздохнул: реликварии оказались не такими значительными, как он опасался.
Герцог пошевелился и подался вперед, не вставая с трона; по краю его меча пробежал солнечный зайчик, а тяжелая мантия, которую он накинул на плечи, упала с руки, обнажив подбивку из меха горностая. Голос Вильгельма гулко раскатился по зале, так что собравшиеся расслышали все до последнего слова.
– Эрл Гарольд, – сказал он, – вы прибыли сюда с целью, которая вам известна. Я требую, чтобы перед этим благородным собранием вы подтвердили клятвой данные мне обещания: действовать в качестве моего представителя при английском дворе до тех пор, пока король Эдуард остается жив; сделать все, что в ваших силах, дабы обеспечить мне передачу скипетра после его смерти; передать мне замок Дувр и прочие замки, кои могут мне понадобиться для размещения в них нормандских гарнизонов. Таковы ваши обещания.
– Да, таковы мои обещания, – машинально подтвердил эрл.
Епископ сделал шаг вперед, но эрл Гарольд не обратил на него никакого внимания. Он смотрел в дальний конец залы, на герцога Вильгельма и его двор, пытаясь разобраться в выражении сумрачных смуглых лиц, глядевших на него. Он заметил, что Рауль де Харкорт не отрывает взгляда от рукояти меча, который сжимает обеими руками; увидел, как хмурится Фитц-Осберн, словно снедаемый неким душевным неудобством, а в глазах Мортена проскакивают искорки нетерпения. Гарольд быстро перевел взгляд на Вильгельма, но на сильном и уверенном лице герцога было написано непроницаемое выражение.
Гарольд сразу же заподозрил, что за тяжким молчанием и устремленными на него пристальными взорами что-то кроется, поэтому перевел взгляд на реликварии. Нет, они были самыми обычными, значит, ловушка таилась в другом месте. В душе у него заворочался червячок сомнения и зазвучал тревожный внутренний голос; он вновь окинул залу внимательным взглядом, снова ощутил атмосферу напряженного ожидания и подспудной тревоги, означавшей нечто большее, чем видел глаз. Он уже готов был отступить, но тут же встряхнулся, взял себя в руки и решительно подошел к реликвариям, искрящимся в лучах света на золотой парче.
Гарольд простер над ними руку, и в следующий миг ему показалось, будто по зале пронесся легкий вздох. Но теперь было уже поздно отказываться от принесения клятвы. Эрл, глубоко вздохнув, начал повторять условия, на которые согласился.
Рука его не дрожала; голос оставался ясным и звонким.
– …Сделать все, что в моей власти, для передачи вам скипетра Англии; передать вам замок Дувр, равно как и другие, буде вы сочтете это необходимым. – Гарольд умолк; после короткой паузы голос его зазвучал вновь, набирая силу. – И да поможет мне Бог и все святые! – закончил он.
Слова клятвы прозвучали строго и торжественно, эхо, подхватив их, унесло к самым потолочным балкам.
В воздух взметнулись мечи; бароны дружным хором провозгласили:
– Да поможет ему Бог!
Голоса их громом отдались в ушах эрла. Рука его вновь упала вдоль тела; все увидели, что он смертельно побледнел и дышит коротко и часто.
Он вновь, теперь уже безошибочно, услышал вздох и увидел на лицах, доселе тревожных и напряженных, улыбки тайного злорадства.
Герцог подал знак брату. Епископ жестом приказал двум своим помощникам выйти вперед, и они, убрав реликварии с золотой парчи, подняли ее. В ноздри эрлу Гарольду ударил запах тлена и плесени: лохань, которую скрывала от глаз парчовая ткань, была полна человеческих костей, и ему не понадобилось объяснение, данное негромким голосом Одо, что это кости святых.
Гарольд, содрогнувшись, попятился, закрыв лицо руками. Позади него сталь с шипением покинула ножны, и раздался крик Эдгара:
– Обман! Подлая уловка! Ко мне, нормандские псы!
Эрл быстро пришел в себя и, словно клещами, сжал запястье Эдгара.
– Назад! Клятва уже принесена. – Гарольд вновь развернулся лицом к герцогу. – Что еще мне нужно сделать? – хрипло спросил он.
– Более ничего, – ответил тот. – Вы принесли клятву на костях святых. Дело сделано.
Несколько мгновений они смотрели друг на друга через разделявшее их пространство; затем эрл резко развернулся на каблуках и быстро вышел из залы.
А там вновь заскрежетала сталь. Мортен, обернувшись словно ужаленный, увидел, как Рауль со стуком вогнал меч в ножны.
– Ради всего святого, дайте мне пройти! – сказал он. Голос его дрожал от сдерживаемого гнева. – Меня уже тошнит от всего этого! – Оттолкнув плечом ошеломленного графа, Хранитель быстрым шагом направился к узкой лестнице, исчезнув за поворотом.
Грантмеснил пожал плечами и прошептал на ухо Мортену:
– Когда-нибудь Хранитель доиграется. Он и так зашел уже слишком далеко. Интересно, стерпит ли герцог столь грубую выходку с его стороны?
А герцог не подал виду, что заметил уход Рауля. Передав свой меч главному судье, он распустил двор, после чего удалился и сам, в сопровождении братьев и Фитц-Осберна.
Наверху Рауль в узком проходе столкнулся с Эдгаром. Оба замерли на месте от неожиданности, не говоря ни слова; Эдгар скрестил руки на груди; глаза его пылали. Наконец негромким голосом, дрожащим от едва сдерживаемой ярости, он проговорил:
– Так вот он каков, твой герцог! Вот он каков, Волк Нормандии! Грязный, жалкий обманщик!
Рауль только плотнее сжал губы да нахмурился, по-прежнему не говоря ни слова.
– Подлый заговор, чтобы обмануть эрла Гарольда! А ведь ты знал! Да, ты знал, как и все вы, и стоял молча, пока эта дьявольская задумка не удалась!
– Довольно! Я не подвергаю хуле твоего господина, который приносил клятву, уже зная в душе, что нарушит ее, поэтому и ты не смеешь поносить моего!
– Что ты имеешь в виду? – быстро спросил Эдгар. – Кто говорит, что Гарольд замыслил клятвопреступление?
– А почему же он тогда в таком смятении отшатнулся от святых мощей? – с упреками Рауль набросился на друга. – О, успокойся, я не стану никому говорить об этом! Но чей позор сильнее: моего господина, задумавшего это действо, или твоего, который принес торжественную клятву, намереваясь нарушить ее как можно скорее? Давай более не будем говорить об этом! Наши слова не приведут ни к чему, кроме ссоры.
Рауль прошел бы мимо, если бы Эдгар не остановил его.
– Ты поддерживаешь герцога Вильгельма? Ты?
– До самой смерти! – яростно ответил Рауль. – А теперь пропусти меня!
Создавалось впечатление, что гнев Эдгара угас.
– Неправда, тебе не нравится то, что произошло. Я же знаю тебя, друг мой. Ах, Рауль, какой конец всем нашим надеждам, нашей дружбе, когда мы с тобой оказались по разные стороны реки! – Он протянул было руку, чтобы положить ее Раулю на плечо, но тут же бессильно уронил ее. – Между нами лежит обнаженный меч. Я рад, что мы дрались вместе в Бретани. – Он уставился себе под ноги, но вскоре снова поднял голову и сказал: – Да, мы с тобой оба связаны, но когда я думаю о том, что осталось в прошлом – о дружбе и маленьком счастье, изведанными мной, – в моем сердце заходится криком тоненький голосок, которому нет дела до клятвы верности: «Уж лучше бы у меня вовсе не было господина!»
– Бог свидетель, и в моем сердце тоже! – сказал Рауль. Он, криво улыбнувшись, протянул Эдгару руку. – На мече… – начал было, но умолк.
Эдгар крепко пожал ее и отпустил не сразу. Кажется, ему трудно было говорить, и он не мог найти слов. Наконец вымолвил:
– Ты мог бы поехать с нами в Англию, Рауль. Но только не теперь. Я думал, провожу тебя к брачному ложу, однако случившееся сегодня убило эту мечту, как и все остальное, что было нам дорого.
– Знаю, – ответил Рауль. – Но все-таки позволь мне лелеять надежду! Эдгар… – Голос Хранителя сорвался, и он лишь сжал руку сакса. – Я не могу сказать этого. Я должен еще раз увидеться с ней. Когда вы отплываете? Как можно скорее? – Он неуверенно рассмеялся. – Клянусь распятием, без вас в Руане будет скучно!
Они выехали из Байе на следующее же утро. Эрл ехал рядом с Вильгельмом, как неизменно бывало на протяжении многих недель. Ни один не вспоминал о клятве, но, когда они прибыли в Руан и вновь остановились во дворце, был решен и вопрос о помолвке эрла. Он торжественно обручился с леди Аделой. Она не доставала ему и до локтя, разрываясь между гордостью за своего будущего супруга и благоговейным страхом перед ним. Он же легко находил общий язык с детьми, поэтому подхватил ее на руки и поцеловал в щеку. Память о его улыбке останется с ней на всю ее короткую жизнь.
Более ничто не удерживало Гарольда в Нормандии. Через день после своего обручения эрл направился к побережью, и среди прочих его сопровождал Рауль де Харкорт, державшийся рядом с паланкином Эльфриды.
Расставание их было грустным. Она лежала в его объятиях, всхлипывая, словно маленькая девочка, а он гладил ее по голове и шептал ей о мужестве и надежде.
– Я приеду за тобой, – сказал Рауль. – Перед Господом клянусь – приеду. – Он крепко прижал ее к себе. – Жди меня и верь! Наша разлука не будет долгой. В какой личине я ни предстал бы перед тобой, помни – я люблю тебя и отдам жизнь, чтобы уберечь от боли и страданий! Всегда помни об этом, моя маленькая любовь!
Она пообещала, вглядываясь в его лицо и спрашивая себя, что он имеет в виду.
А он продолжал:
– Больше я ничего не могу сказать тебе. Но помни обо мне! И, хотя будущее таит в себе боль и печаль, знай одно: как и Эдгар, я тоже связан узами, которые не могу разорвать.
– Я боюсь! Мне страшно! – прошептала Эльфрида. – Разве может быть печаль сильнее нашего расставания? О какой боли ты еще говоришь? Рауль, Рауль!
– Ни о какой, если так будет угодно Богу! – ответил он. – Но знай одно, сердце мое: если случится так, что прийти к тебе я смогу лишь с мечом в руке, то, Господь свидетель, я пройду по этому пути до конца!
Часть пятая
(1066 г.)
Корона
…Для отступления пути нет.
Вильгельм Завоеватель
Глава 1
После отъезда Гарольда прошло совсем немного времени, как в Нормандию из Англии пожаловал очередной гость. Это был не кто иной, как Тостиг, эрл Нортумбрии, прибывший вместе с супругой и детьми в состоянии крайнего раздражения. Представ перед двором герцога Вильгельма, он поведал запутанную историю предательства, ненависти и совсем не братских поступков. Правда это была или вымысел, понять затруднительно, однако один факт выглядел непреложной истиной: правление эрла Тостига в Нортумбрии отличалось чрезвычайной жестокостью, поэтому завершилось тем, что подданные, все как один, восстали против него и столь же единодушно признали своим правителем Моркара, сына Эльфгара. Их, кстати, поддержал и эрл Гарольд. Именно на этом моменте связный рассказ о событиях обрывался, становясь чрезвычайно запутанным и невнятным.
Герцог Вильгельм, окинув своего гостя ироничным взглядом, не пожелал более тратить на него время. Юдифь, впрочем, уединившись с сестрой, оказалась более разговорчивой и сообщила некоторые подробности.
Она изрядно растолстела, и в ее каштановых волосах уже посверкивали серебряные пряди. Обзаведясь весьма удобной привычкой сохранять непреклонную безмятежность, Юдифь бо́льшую часть дня занималась тем, что в чудовищных количествах поедала сладости, а выходки и капризы собственного супруга и повелителя оставляли ее совершенно равнодушной, как и все остальное в ее мирке. Окинув Матильду ленивым взглядом, Юдифь заметила:
– Э, дорогая, я вижу, ты сумела сохранить стройность! Кстати, скольких детей ты родила своему супругу – семерых или восьмерых?
– Восьмерых, причем трое из них – сыновья, – гордо ответила Матильда.
– Они очень похожи на него, – заметила Юдифь. – Сколько лет прошло с тех пор, как Воинственный Герцог ворвался в наш будуар в Лилле и отхлестал тебя своей плетью?
Но воспоминания о прошлом не могли нарушить покой Матильды.
– Столько же, сколько прошло после того, как я провела тебя на брачное ложе с эрлом Тостигом.
Юдифь положила в рот очередной леденец и тщательно облизала пальцы.
– Что ж, ты оказала мне медвежью услугу. Тогда он был просто глупцом, а теперь еще и превратился в изгоя. – Она зевнула. – Быть объявленным вне закона – неподходящий способ борьбы с Гарольдом. Во всем виновата эта гладкая кошка Эдгита.
– Королева? – Матильда на мгновение оторвала глаза от вышивки.
– В прошлом году она с Тостигом составила заговор, чтобы умертвить Госпатрика. Король поначалу не имел ничего против, но потом твой супруг отпустил Гарольда, и тот быстро прибрал всю власть к рукам. Тостигу пришлось распрощаться с графством всего через месяц после возвращения Гарольда. – Юдифь на мгновение задумалась. – У Тостига большие планы. Впрочем, у всех сыновей Годвина непомерные желания. Однако я сомневаюсь в том, что мой супруг – тот самый человек, который способен успешно претворить их в жизнь. Больше я ничего не скажу.
Герцогиня подумала о собственном муже, слепленном совсем из другого теста, и про себя улыбнулась. Юдифь откинулась на спинку кресла, сонно глядя на сестру.
– Да-да, кисонька, – сказала она. – Ты полагаешь, что сделала куда более удачный выбор, нежели я. Что ж, не стану спорить. Герцог Вильгельм – настоящий мужчина. Помнится, ему было нечего сказать мне, когда он увивался за тобой.
Эрл Тостиг провел несколько недель при дворе, изливая свое недовольство судьбой, но встречать Рождество отбыл во Фландрию. Сестры тепло обнялись на прощание, однако прежняя близость ушла безвозвратно. У каждой появились свои секреты, и ни одна не сожалела о расставании.
Рождество прошло тихо и неприметно. Рауль съездил на юг навестить отца, вспоминая, как часто Эдгар составлял ему компанию в поездках в Харкорт. Он пустил лошадь рысью, пытаясь отогнать горькие воспоминания, но тень Эдгара двигалась рядом с ним, и ему казалось, что он слышит эхо брунанбургского марша[68], который тот частенько напевал. В Харкорте Хуберт справился о саксе и, похоже, удивился, узнав, что Эдгар вернулся домой в Англию. Память у Хуберта была уже не та, однако он не любил, когда ему напоминали об этом.
– Сдается мне, у него была еще и сестра? – поинтересовался Хуберт, довольный тем, что сумел вспомнить такие подробности, и с усилием принялся рыться в памяти в поисках ее имени. – Эльфрида! – торжествующе воскликнул он наконец.
От звуков ее имени, произнесенного спустя столько месяцев, Рауль вздрогнул. Ему казалось, оно живет лишь в его мечтах. На щеках мужчины выступил румянец, и он ответил:
– Да, у него есть сестра.
– Никогда ее не видел, – заявил Хуберт. – А вот самого Эдгара я знал хорошо, да, и он мне нравился. Что же грызло его, если он решил-таки вернуться в Англию?
– Он – сакс, отец, – мягко сказал Рауль.
– Я прекрасно помню об этом, – с раздражением заявил Хуберт. – Но он прожил среди нас столько лет – достаточно, чтобы Нормандия стала для него домом. Он собирается вернуться сюда?
Рауль покачал головой и отвернулся, помешивая дрова в очаге, чтобы отец не смог прочесть выражение его лица.
– Жаль, – заметил Хуберт.
Отец Рауля погрузился в забытье, столь характерное для стариков, и застыл в неподвижности, глядя на огонь, словно видел там картины славного прошлого. Он улыбался чему-то и кивал головой, а потом как-то неожиданно легко заснул. Проснувшись, начисто забыл об Эдгаре, теперь его интересовал только ужин.
Герцог встретил Рождество в Руане, пребывая в хорошем расположении духа и проведя эти дни в молитвах и на охоте.
Милорд Роберт устроил ловушку за полуоткрытой дверью из мешка муки для своего дородного двоюродного дедушки Вальтера. А когда в этом обвинили шута, счел, что день был прожит не напрасно.
После Рождества ударил легкий морозец; в сточных канавах дворца замерзла вода, свинцовую крышу припорошило снегом. Мужчины расхаживали в подбитых мехом мантиях, а сыновья герцога устроили ледяную горку во дворе замка; она оказалась развлечением еще более забавным, чем они ожидали, поскольку на нее случайно наступили никак не меньше трех благородных джентльменов.
Холодная погода, которая у других мужчин вызывала лишь стремление оказаться поближе к огню, в герцога, напротив, вдохнула новые силы. Он целыми днями пропадал на охоте, и по лесам катилось звонкое эхо охотничьих рогов, оповещающих об очередном удачном завершении погони. Компанию в этих экспедициях ему составляли наиболее закаленные, стойкие придворные, однако все заметили, что самый верный его друг в некотором смысле предал его. Шевалье де Харкорт кутался в свою ярко-красную мантию, вздрагивая от порывов ледяного ветра, и умолял герцога извинить его.
– Рауль не в духе, – насмешливо заявил Грантмеснил, – потому что лишился своей прекрасной дамы сердца.
Ответом ему послужил взгляд, холодный, как лед на реке. Оттого, что в насмешке была доля правды, она не стала приятнее для шевалье.
Впрочем, если правда имелась в его утверждении о том, будто он ненавидит пронизывающий ветер, то Рауль был не одинок в своих жалобах. Как-то после Нового года герцог отправился на другой берег Сены, желая поохотиться в тамошних лесах Кевийи на оленя, и оказался единственным, кто не ворчал по причине леденящего холода. Голые ветки деревьев покрылись тонким слоем льда; земля промерзла и потрескалась от мороза, а пар от дыхания клубами повисал в воздухе. Людям приходилось топать ногами, чтобы хоть немного согреться, и Грантмеснил, согревая дыханием озябшие пальцы, пробурчал:
– Никудышная погода для охоты.
Герцог завалил оленя с двенадцатью отростками на рогах. Такое впечатление, что он совершенно не чувствовал холода; щеки его раскраснелись, и он даже сбросил мантию, чтобы она не стесняла его движений. Егеря́ загоняли новую дичь; Ральф де Тони начал накладывать на лук стрелу, но со смехом пожаловался, что пальцы его онемели и потеряли чувствительность. Гийом де Варенн, выстрелив, промахнулся. Герцог наложил стрелу на тетиву и прицелился.
Однако выстрела не последовало; ему неожиданно помешали. На взмыленной лошади прибыл гонец из Руана; бросившись к герцогу, он преклонил перед ним колено, не дав Вильгельму спустить тетиву. Кожаная туника и сапоги гонца были покрыты пятнами от соленого пота; очевидно, он прискакал издалека и в большой спешке.
– Милорд, – задыхаясь, проговорил он, – мне сказали, я найду вас здесь!
Герцог, нетерпеливо выругавшись, опустил лук. Повернувшись, он недовольно нахмурился, глядя на гонца сверху вниз. С губ Вильгельма готов был сорваться сердитый упрек, но он сдержался. Сунув лук в руки лесничему, подал знак своим рыцарям отойти в сторонку, чтобы они не могли подслушать их.
– Говори! Какие новости ты привез мне из Англии? – резко бросил герцог.
– Милорд, король Эдуард мертв и похоронен на Крещение. Состоялись отпевание и поминовение. Вместо него на престол коронован Гарольд Годвинсон.
– Коронован! – Герцог побледнел. – Это правда?
– Да, милорд, чистая правда. Архиепископ Стиганд миропомазал Гарольда, сам будучи отлученным от церкви. Сегодня в Англии правит Гарольд. – Гонец умолк, явно не зная, как продолжать.
– Итак? – резко бросил герцог. – Что еще?
– Милорд, Гарольд взял в жены Элдгиту, вдову Гриффида и дочь эрла Эльфгара, – запинаясь, пробормотал гонец.
Он заметил, как руки герцога сжались в кулаки, и съежился, но удара не последовало. Развернувшись, Вильгельм направился к своим охотникам, с тревогой и удивлением наблюдавшим за ним. Не обратив на них никакого внимания, грубо вырвал свою мантию из рук пажа, державшего ее, и набросил себе на плечи. В молчании, которое было страшней любого взрыва ярости, быстро зашагал прочь по тропинке, ведшей к реке.
Его внезапный молчаливый уход был настолько странным и неожиданным, что никто ничего не понимал. Гуго де Грантмеснил тупо уставился на де Тони; Гийом де Варенн озадаченно пробормотал:
– Что случилось? Я еще никогда не видел, чтобы он вел себя так. Давайте лучше догоним его, только не говорите ничего.
Трое баронов передали свои луки оруженосцам и в недоуменном молчании последовали за герцогом к реке. Они видели, как он грозно хмурит брови и без конца завязывает и развязывает тесемки своей мантии, но никто из них не рискнул обратиться к нему с вопросом. Лодка ожидала его на месте высадки; он шагнул в нее столь небрежно, что она опасно закачалась на воде, после чего уселся на корме, по-прежнему молча и ни на кого не глядя. Грантмеснил, украдкой наблюдавший за ним, отметил, как подергиваются уголки его губ, и многозначительно подтолкнул локтем де Тони. Именно так они подергивались у герцога несколько лет тому, когда он прогнал эту парочку со своих глаз долой. Де Тони, поежившись, приложил палец к губам. Пусть сегодня упрекнуть их было не в чем, оба видели признаки надвигающейся бури и страшились гнева своего сюзерена.
Когда днище лодки заскрежетало по гальке на другом берегу, де Варенн перебрался через борт и протянул руку герцогу, чтобы поддержать его. Но Вильгельм выпрыгнул на землю, не замечая предложенной ему помощи, и быстрым шагом направился ко дворцу.
Спутники его в таком же гнетущем молчании потянулись следом за ним. Но он по-прежнему не обращал на них никакого внимания, словно их здесь и не было.
Широким шагом герцог ворвался в холл дворца. Слуга, поспешивший ему навстречу, чтобы принять накидку и перчатки из меха куницы, под его тяжелым взглядом испуганно шарахнулся в сторону. Герцог прошел мимо него, словно он был пустым местом, и простерся на скамье под одной из каменных колонн, накинув на лицо полу мантии.
В зале находились несколько джентльменов, коим, очевидно, была известна причина столь необычного поведения герцога. Один из них принялся нашептывать что-то де Варенну; де Тони, краем уха уловив слова «Гарольд короновался на трон Англии», понимающе крякнул.
Грантмеснил ткнул большим пальцем в сторону кладовой, и церемониймейстеры, переминавшиеся с ноги на ногу, на цыпочках дружно потянулись в ту сторону.
Воробей, влетевший в одно из незастекленных окон наверху, заставил баронов вздрогнуть. Де Варенн прошептал:
– Может, нам заговорить с ним? Или уйти?
Прежде чем Грантмеснил успел ответить, тишину нарушили совершенно неуместные звуки. Кто-то спускался по лестнице, мурлыча себе под нос развеселый мотивчик.
Де Тони непроизвольно метнул взгляд на герцога, но Вильгельм не пошевелился. Из-за поворота показался Фитц-Осберн, позади которого шел Рауль. Сенешаль придерживался одной рукой за веревку; на пальце его поблескивал перстень с аметистом; браслет на предплечье посверкивал теми же камнями. Окинув веселым взором группу мужчин у дверей, он залихватски подмигнул им и возвысил голос на последнем куплете.
Де Варенн отчаянно замахал руками, показывая, чтобы он замолчал, после чего кивнул в сторону герцога. И Фитц-Осберн, и Рауль огляделись; песня мгновенно оборвалась; сенешаль подошел к герцогу и бесстрашно положил ему руку на плечо.
– Вставайте, монсеньор, вставайте! – жизнерадостно провозгласил он. – Что это вы здесь разлеглись? Хранить молчание бесполезно: новости разнеслись по двору еще до того, как вы вернулись с охоты.
Герцог откинул полу мантии; нахмуренное выражение исчезло с его лица; но он, похоже, пребывал не в самом миролюбивом настроении.
– Гийом, Гарольд Годвинсон стал клятвопреступником и сейчас правит Англией.
– Знаю, – отозвался Фитц-Осберн. – Неужели вы поверили ему, монсеньор?
– И очень сильно, – проворчал Вильгельм. Поднявшись с лавки, он принялся расхаживать по зале. Вот взгляд его упал на кучку джентльменов у двери; он нетерпеливо воскликнул: – Кровь Христова, вы что здесь делаете?
– Монсеньор, позвольте нам удалиться, – поспешно взмолился Грантмеснил.
Герцог коротко хохотнул и продолжил свои метания по зале. Джентльмены выскочили наружу; Фитц-Осберн, засунув большие пальцы рук за свой украшенный драгоценными камнями пояс, изрек:
– Монсеньор, что-то вы уж слишком разнервничались. Вы же с легкостью можете завоевать Англию. Что скажешь, Рауль?
Хранитель застыл у одного из длинных столов на козлах, скрестив руки на груди.
– Ничего, – ответил он. – Герцог знает, что я обо всем этом думаю, и знает уже давно.
Вильгельм, не оборачиваясь, бросил в ответ:
– Успокойся, друг мой, ты получишь свою Эльфриду под звуки военных труб.
Совсем не так он рассчитывал получить ее. Но что делать, если другого выхода не оставалось?
– Ах, если бы жизнь действительно была такой простой, как мы полагали в молодости! – устало сказал Рауль. Медленно подойдя к очагу, он остановился, застывшим взглядом глядя на тлеющие поленья.
За своей спиной Хранитель слышал быструю скороговорку герцога и Фитц-Осберна. Сенешаль предлагал немедленно начать приготовления к войне; в его воображении корона Англии уже была у Вильгельма на голове. Он рассуждал о кораблях, вооружении; слушая его, Рауль вдруг понял: какая-то часть его уже устремилась вперед, обогнав Фитц-Осберна в этой кровавой кампании, пытаясь как можно скорее добраться до любимой по пути, усеянному трупами врагов. А был ли другой путь? Нет, сказал он себе. Но когда Рауль услышал, как Фитц-Осберн предлагает отправить Гарольду объявление войны, вторая его половина рассердилась, и он повернулся к ним, резко бросив:
– Глупый торопыга! Когда это герцог наш Вильгельм нуждался в том, чтобы его подталкивали к бою? Подумай немного, прежде чем давать подобные советы, или лучше вообще помолчи. Клянусь распятием, неужели ты видишь впереди только победу?
Фитц-Осберн оторопело уставился на Хранителя.
– Как, ты сомневаешься в том, что мы одержим победу? – спросил он. – Да разве найдется во всем христианском мире воин более великий, чем Нормандец?
– Ну, спасибо тебе, Гийом! – со смехом заявил герцог. – Ну что, найдется такой, Рауль?
– Нет, – ответил Хранитель. – А когда дело закончится, то не найдется и более забрызганного кровью.
– Знаю, знаю, – отмахнулся герцог. – Но мы уже много раз обсуждали это, Рауль, и сейчас ты не заставишь меня свернуть с избранного пути. – Вильгельм взглянул на Фитц-Осберна. – Я отправлю посланников в Англию, – сказал он. – Без объявления войны – пока.
– Ради чего? – возразил Фитц-Осберн. – Чего еще вы ждете, монсеньор? Он нарушил священную клятву и с презрением отверг леди Аделу, вашу дочь. Что еще вам нужно, ради всего святого?
Но герцог пропустил пылкие речи Фитц-Осберна мимо ушей.
– Мне нужен Ланфранк, – сказал он. – Гийом, через час гонец должен быть готов отправиться с пакетом в Бек. – Заметив, что по-прежнему сжимает в руке перчатки, Вильгельм положил их на стол. Первый приступ ярости миновал; теперь перед ним встала проблема, которую следовало решить, а герцог был не из тех людей, что любят терять время попусту. – Когда, по словам моего гонца, умер Эдуард?
– На пятый день января, – ответил Фитц-Осберн, – аббатство же, в котором его похоронили, было освящено на День избиения младенцев[69].
– Значит, две недели тому. – Герцог выбил пальцами легкую дробь по столу. – Времени прошло достаточно. Если у Тостига есть шпионы в Лондоне, то он уже знает обо всем, и вскоре мы увидим его в Руане.
Рауль поднял голову.
– Почему? – непонимающе спросил он.
В глазах герцога заблестели смешинки.
– Чтобы попросить у меня помощи, друг мой, или совета. Думаю… да, думаю, я могу положиться на Гарольда в том, что с Тостигом он разберется.
– Но не может же Тостиг оказаться таким дураком! – воскликнул Рауль.
– Ставлю своего жеребца против твоего гнедого, что окажется, – заявил Вильгельм.
– Того самого жеребца, которого Жиффар привез вам из Испании? – уточнил Рауль. – А что скажет на это старина Вальтер?
– Ничего не скажет, потому что я выиграю, – подмигнул Вильгельм Хранителю.
– Если Тостиг обратится к вам за помощью, это будет означать, что он спятил. По рукам, сеньор: ваш испанский жеребец против моего гнедого.
Но Рауль проиграл своего коня. Не успели посланцы герцога отплыть из Нормандии в Англию с его первыми осторожными письмами к Гарольду, как Тостиг пожаловал в Руан на взмыленной лошади в сопровождении нескольких танов, бежавших вслед за ним из Нортумбрии. Он заикался от ярости и, будучи слишком упрямым и недалеким, чтобы хранить молчание, готов был излить свой гнев вкупе с амбициями тому единственному человеку, которого ему следовало по-настоящему опасаться.
И ни одна живая душа из окружения герцога не обронила ни словечка, что могло бы прояснить Тостигу истинное положение дел. Он ничего не знал о посланцах, отправленных в Англию, как и не подозревал о собственных притязаниях Вильгельма. Выложив историю своих злоключений, не замедлил попросить у Нормандии помощи для свержения Гарольда.
Герцог управился с ним без особых усилий, однако сказал Раулю, когда они остались вдвоем:
– Уму непостижимо, как Годвин, который, по слухам, был человеком чрезвычайно способным и здравомыслящим, мог породить такого глупца. Просить помощи у Нормандии? Господи Иисусе, да я – единственный человек, от которого ему следует держаться подальше!
Герцогиня, наблюдавшая за тем, как ее сыновья играют в саду, отвернулась от узкого стрельчатого окна с остроконечной арочной перемычкой и поинтересовалась, уж не намерен ли Тостиг сам стать королем.
– Намерен, как и многие другие, – ответил ей герцог.
– И просит помощи у тебя? – Матильда сердито рассмеялась. – Нет, это великолепно! Воспользоваться Нормандией, чтобы решить проблемы Тостига! И что ты намерен делать?
– Использовать Тостига для решения собственных проблем, – угрюмо отозвался герцог. – Я дал ему совет, который он считает очень ценным. Сбыв с рук твою сестру, он отплывает в Норвегию, чтобы заинтересовать своим предприятием Харальда Гардрада[70]. – Протянув свою квадратную ладонь, Вильгельм взял Матильду за подбородок, запрокинул ее голову и улыбнулся. – Вот стратегия, которая доставит удовольствие столь изощренному уму, как твой, моя Мальд. Тостиг может с моего благословения отправляться на войну с Гарольдом. Таким образом, он не будет путаться у меня под ногами, а исчезнет, поскольку я совершенно уверен в том, что из этой авантюры ему живым не выйти. Он всего лишь расчистит для меня путь. – Подняв голову, Вильгельм заметил, как Рауль смотрит на него. – Мой Хранитель, я знаю, что ты скажешь. Это – та самая коварная интрига, которую ты так не любишь, но она приведет меня к моей цели.
Рауль же ничего не сказал. Он смотрел на герцогиню, спрашивая себя, как может она одобрительно относиться к стратегии, которая, скорее всего, сделает ее сестру вдовой. Хранитель вспомнил, как в прежние времена в Лилле она и Юдифь были неразлучны и подле рыжей головки всегда можно было увидеть златовласую, а зеленые глаза поверяли тайны голубым.
Внезапно под окном раздался голос милорда Роберта, призывающего Рыжего Вильгельма; Рауль увидел, как Матильда повернула голову, прислушалась, улыбнулась, и мгновенно понял – она совершенно не думает о Юдифи. Воспоминаниям о сестре и днях юности уже не было места в ее хитроумных планах, они растворились в туманной дымке прошлого. Матильде нужна была корона, быть может, для Вильгельма, быть может, для себя, но прежде всего – для своего красавца-сына. Рауль догадался, что она уже считает ее по праву принадлежащей ему; не исключено, если бы ее отец протянул руку к этому призу, дочь превратилась бы для него в столь же безжалостного врага, коим стала и для Тостига.
Матильда заговорила, отвернувшись от герцога и вперив напряженный взгляд в Хранителя.
– Ты против нас, Рауль?
Он покачал головой. Но ей показалось этого мало, и он видел, что она обеспокоена.
– Нет, миледи, – сказал Хранитель, – я – ваш покорный слуга. – Он не мог доверить ей сомнения, одолевавшие его, как не мог и раскрыть глаза на то, что стремление заполучить корону уже стало навязчивой идеей для герцога. Она бы просто не поняла его; подобно Вильгельму, Матильда всегда видела цель впереди; будучи женщиной, она еще меньше, чем ее супруг, беспокоилась о том, какими средствами эта цель будет достигнута.
Рауль вдруг подумал: «Если бы я мог стать похожим на них, видеть впереди только один выход, который стоил бы любых страданий и жертв, тогда не терзался бы и не изводил себе душу рассуждениями о том, будто все могло быть иначе. И не опасался бы того, что вкус победы отдает на губах горечью, потому что цена, которую мне пришлось заплатить за нее, оказалась слишком высока и надорвала мне сердце!»
Однако Рауль понимал – он никогда не станет похожим на них; он всегда будет видеть в первую очередь маленькие радости и горести, что дарит ему жизнь, и считать их куда дороже далекой, пусть даже блестящей, цели. «Во мне нет ни капли величия, – подумал он. – Те, кто называет меня мечтателем, безусловно, правы. Но к чему приведут мои мечты, хотелось бы мне знать? Ни к чему, скорее всего. Пока я пробираюсь на ощупь в потемках, железная воля Вильгельма освещает ему путь и он безжалостно перешагивает через препятствия, повергающие меня в сомнения. Но сейчас я боюсь за него. О, Вильгельм, мой господин, не отрекись от всего, что я любил в тебе, ради этой проклятой короны!»
Словно в ответ на его мысли, герцог вдруг сказал:
– Верь мне, Рауль. Быть может, тебе не нравится моя тактика, но я ведь вижу, что в конечном итоге мы с тобой желаем одного и того же.
– Я желал только мира в Нормандии, – ответил Рауль, выдержав взгляд Вильгельма. – Только этого… раньше.
– И безопасности для всех нормандцев, и достойного будущего, – настаивал герцог.
Рауль ответил ему со слабой улыбкой:
– Да, сеньор, и этого тоже. Но это – ваши мысли, а не мои. Я никогда не загадывал так далеко, пока вы не указали мне путь. Даже сейчас мне кажется, что вы видите сияющую звезду, недоступную моему взору. Я же слепну от темноты, что ждет нас впереди.
Глаза герцогини округлились от удивления.
– Рауль, ты заговорил, как поэт, который однажды слагал для меня рифмы. – Она лукаво добавила: – Скажи мне, это Эльфрида так на тебя повлияла? Неужели ты и впрямь превратился в стихоплета?
– Нет, мадам, – легкомысленно откликнулся Рауль. – Я – всего лишь несчастный рыцарь, которого терзают сомнения. И, подобно Гале, могу лишь воскликнуть: «Пожалейте бедного дурака!»
Глава 2
После возвращения посланников из Англии события понеслись вскачь. Гарольд ответил на письма герцога именно так, как и ожидал Вильгельм. Он признал, что дал клятву в Байе, но заметил: поскольку она была вырвана у него силой, то он не считает себя ни в коей мере связанным ею. Эрл заявил: корона Англии не является его собственностью, каковой он мог бы распоряжаться по своему усмотрению, а принадлежит народу; следовательно, только последний имеет право возложить ее на чью-либо голову. Что до леди Аделы, то эрл Гарольд уведомлял герцога о том, что не имеет возможности сочетаться браком с кем-либо без одобрения своего Совета, а члены его выступили категорически против женитьбы эрла на иностранке.
Герцог внимательно прочел полученный ответ, после чего передал его в руки Ланфранка. Письмо предназначалось Риму, исключительно для этой цели его и выманили у Гарольда.
Ланфранк читал послание в полном молчании. Наконец он сказал:
– Лучше и быть не может. Гарольд признает, что давал клятву.
Убрав письмо в ларец, Ланфранк запер его золотым ключиком, который всегда носил на цепочке на шее. Задумчиво поглаживая сутану исхудавшей рукой, он погрузился в размышления. Спустя некоторое время поднял глаза на герцога и медленно проговорил:
– Думаю, сын мой, вы поступите мудро, если назначите Жильбера, архиепископа Лизье, своим посланником в Риме.
– А я намеревался отправить туда вас, святой отец, как уже бывало раньше.
– Нет-нет. – Ланфранк сложил ладони домиком. – Я обрел слишком большую известность, сын мой. Пусть едет Жильбер, а я буду наставлять его. И тогда кардиналы не станут кричать: «Бойтесь Жильбера! Он слишком хитроумен для нас».
Герцог рассмеялся.
– В таком случае дайте ему указания, которые сочтете необходимыми. В данном вопросе я полагаюсь на вас.
После этого настоятель испросил позволения удалиться и, поднявшись на ноги, величественной походкой вышел из комнаты, унося под мышкой и ларец.
Вильгельм же созвал на совет своих ближайших сподвижников, но о чем шла речь, никто так и не узнал. На нем присутствовали его сводные братья, Роберт и Одо; супруг сестры, виконт д’Авранш, и его кузены – д’Э и Эвре. Помимо родственников, приглашения получили сенешаль герцога, знаменосец, а также лорды Бомон, Лонгевилль, Монфор, Варенн, Монтгомери и Грантмеснил. Поскольку эти джентльмены оказались единодушны в своем мнении с герцогом, следующий совет, уже в расширенном составе, было решено созвать в Лилльбонне, огромном новом дворце в нескольких милях от Руана, сооруженном специально для подобных мероприятий.
Каменщики совсем недавно закончили работу во дворце, так что его белая громада резко и внушительно выделялась на фоне голубого неба. В центре располагалась огромная зала под сводчатым куполом, из которой несколько дверей вели в различные покои. Свет в нее проникал через сдвоенные окна наверху, разделенные пилястрами и арками. Стены были задрапированы новыми гобеленами, вышитыми яркими нитками темно-красного, зеленого и лазурного цветов; каменный пол устилал тростник, к которому для придания приятного аромата добавили розмарин и болотный мирт. Но повсюду еще ощущался стойкий запах известкового раствора, и, несмотря на жаркое пламя, ревевшее в вентиляционных трубах, во дворце по-прежнему было сыро и холодно. «А со временем он еще и обветшает, – думал Рауль, глядя на величественное сооружение, белизна которого резала глаз. – Зато лепнина выглядит потрясающе».
На возвышении в одном конце залы был сооружен трон под балдахином из золотой парчи, расшитой в стиле четырехлистника. Перед ним стояла скамеечка для ног. На ее обивке герцогиня собственноручно вышила золотых львов, дабы ноги герцога, когда он вздумает дать им отдохнуть, опирались бы на герб Нормандии.
На помосте также располагались и кресла для главных советников герцога, а для менее важных персон в самой зале были расставлены скамьи.
Лилльбонн кишел вассалами, стекавшимися к назначенному месту сбора в ответ на призыв герцога. Жильбер Дюфаи, вместе с Раулем не отходивший от герцога ни на шаг, раздраженно заявил – ни минуты не может побыть в уединении. Жильбер оставил дома жену, пребывавшую на последнем месяце беременности, и сейчас вынашивал надежду, что после шестерых дочерей она наконец сподобится подарить ему сына. Каждый день он отправлял к супруге гонцов, дабы справиться о ее самочувствии, потому что перед самым его отъездом она увидела в саду ежика, а всем известно – более дурного знака, предвещающего выкидыш, попросту не существует. Раздражение Жильбера возрастало еще и оттого, что ночевать он был вынужден в зале на полу вместе с сотней других рыцарей.
Рауль, с одного взгляда оценивший положение вещей, решительно, хотя в глазах его и поблескивали лукавые искорки, заявил: поскольку герцогиня осталась в Руане, он намерен ночевать на соломенном тюфяке в ногах кровати герцога.
– Святые угодники, ты что, до сих пор опасаешься покушения на меня? – изумился Вильгельм.
– Нет, – откровенно ответил Рауль, – но боюсь, что другого места для ночлега мне попросту не найти, монсеньор.
В назначенный для совета день бароны и вальвассоры с раннего утра собрались в зале, переругиваясь, стремясь занять места получше, а также громогласно обмениваясь мнениями насчет того, что понадобилось от них герцогу. Те, кто уже знал об этом, просвещали несведущих, поэтому ко времени, как герцог вошел в залу через дверь позади трона, в помещении стоял такой невообразимый гам, что человеку из-за всеобщего шума было трудно расслышать собственный голос.
Впереди герцога вышагивал церемониймейстер. Как выяснилось, он обладал зычным басом, коим и воспользовался по прямому назначению. Все разговоры прекратились словно по мановению волшебной палочки; вассалы замерли в почтительном молчании, ожидая, когда к ним обратится герцог.
Его сопровождали члены Совета и все старшие прелаты герцогства. Завидев сутаны епископов, собравшиеся в зале поняли: им предстоит стать участниками небывалого действа. Раздалось приглушенное перешептывание; те, кто оказался в задних рядах, вытягивали шеи, чтобы лучше видеть; джентльмены невысокого роста вставали на цыпочки, пытаясь разглядеть хоть что-либо поверх плеч своих более высоких сотоварищей.
Герцог надел кольчугу, голову его украшал церемониальный шлем с короной. Выбор парадного одеяния был не случаен; Гилберт де Харкорт, прибывший на собрание от имени Хуберта, проворчал себе под нос:
– Ого! Неужели война?
Вильгельм поднялся по ступенькам к трону и окинул взглядом залу, словно считал собравшихся по головам. Когда же те, кто сопровождал его, расселись по местам на возвышении, он обратился к своим баронам с речью.
Они выслушали герцога в полнейшей тишине. Голос его был сильным, и эхо подхватывало окончания слов Вильгельма, донося их до самых укромных уголков. Собравшиеся замерли; никто не переступал с ноги на ногу и не перешептывался; было очевидно – он застал своих вассалов врасплох; впрочем, явствовало также то, что многие слушали его с тревогой и неодобрением.
Находясь по правую руку от трона, Рауль отчетливо видел почти всех собравшихся в зале. Хранитель упер свой обнаженный меч острием в пол, положив обе руки на рукоять. Он даже взглянул украдкой на Жильбера, стоявшего в точно такой же позе слева от герцога, но тот не оценил лукавых искорок, вспыхнувших в глазах Рауля. Жильберу было не до того – он явно тяготился своей нынешней ролью и положением.
Герцог, закончив речь, сел и стиснул подлокотники трона. Еще несколько минут, казавшихся бесконечными, в зале царила мертвая тишина – никто не смел пошевелиться или заговорить. Но вот кто-то зашептал на ухо соседу; его примеру последовали другие; по зале прокатился приглушенный ропот, который постепенно нарастал и становился громче.
Герцог вновь поднялся; на него устремились полные подозрения взгляды.
– Мессиры, – сказал он, – я удаляюсь, дабы предоставить вам полную свободу посовещаться друг с другом и обсудить мое предложение. – Подав знак своим братьям сопровождать его, Вильгельм вышел.
Не успела за ним захлопнуться дверь, как поднялся грандиозный шум, словно все дьяволы преисподней сорвались с цепи. Кое-кто тут же попытался продемонстрировать собравшимся всю неосуществимость требований герцога; несколько сеньоров помоложе, раздувая ноздри, словно боевые кони, заслышавшие звук трубы, вознамерились перекричать гул всеобщего неодобрения; собравшиеся, что было вполне естественно, разбились на группы, насчитывающие от пяти до сотни рыцарей, столпившихся вокруг нескольких ораторов.
Фитц-Осберн первым покинул возвышение. Сойдя с последней ступеньки, он принялся локтями прокладывать себе дорогу, то беря кого-либо под руку, то похлопывая очередного боевого товарища по плечу.
Со своего стула поднялся и де Монфор. Подмигнув Раулю, он сказал:
– Будь я проклят, они негодуют! И что теперь?
– Я остаюсь, чтобы послушать, о чем пойдет речь, – ответил Рауль. Сунув меч в ножны, он взял де Монфора под руку. – Идемте, Гуго, подобной забавы мы еще лет двадцать не увидим.
Они вместе сошли с возвышения и начали переходить от одной группы к другой.
– Рауль! Подожди минутку! Герцог что, спятил? – Сеньор Этутвилль схватил Рауля за край мантии. Анри де Феррьер оттолкнул его в сторону. – Рауль, что все это значит? Отправляться за тридевять земель, чтобы сразиться с чужеземцами на их собственной территории! Это неслыханно!
– Да мы все просто сгинем на море! – с негодованием подхватил Жоффруа де Берне. – Вспомните, что сталось с Гарольдом в Понтье! Короны! Королевства! Господи милосердный, что за дикий план?
– Отпустите меня, это не я его придумал! – запротестовал Рауль. Его оторвали от де Монфора, но он пробился сквозь толпу и оказался в группе мужчин, обступивших Фитц-Осберна.
Сенешаля любили все, чем он и пользовался, беспрепятственно высказывая собственное мнение. Рауль улыбнулся про себя, слушая его убедительные аргументы. У Фитц-Осберна был звучный голос; бароны один за другим поворачивались к нему лицом. На проклятия он отвечал шутками; незаметно подняв настроение собравшимся, постепенно внушил им, что предлагаемое мероприятие – вовсе не такая безнадежная затея, как они решили поначалу, и призвал их, вспомнив о своем долге, спокойно обсудить план герцога. Кто-то крикнул ему, чтобы он высказал собственное мнение о требованиях герцога; его ответ оказался уклончивым, однако понравился всем присутствующим. Бароны сочли, что поступят здраво, если предоставят ему говорить от их имени.
Рауль проскользнул сквозь толпу в комнату, где его ждал герцог. Войдя в нее, он увидел – Вильгельм стоит подле очага, выставив перед собой ладонь и прикрывая ею лицо от огня. Мортен откинулся на спинку кресла, ковыряясь в зубах, а епископ Одо, никогда не отличавшийся терпением, сидел за столом и барабанил по нему пальцами.
Герцог поднял глаза на вошедшего Рауля, приветствуя его слабой улыбкой. Хранитель же торжественно сообщил:
– Благодарю вас за сегодняшний день, монсеньор. Давно я уже не получал такого удовольствия.
– Что они говорят? – спросил Одо, метнув на него быстрый взгляд своих темных глаз. – Клянусь Богом, им надо преподать урок куртуазности!
– Ну, они говорят, что многочисленные победы герцога сделали его безрассудным, милорд, – ответил Рауль.
– Глупцы! – спокойно констатировал Вильгельм, не поднимая головы.
– Жалкое сборище ничтожеств! – бросил Одо. – Слишком долго в Нормандии царит мир. Мужчины отрастили животы, посадили печень и полюбили покой больше славы. Ну, я им покажу!
Мортен, прекратив ковыряться в зубах, внушительно осведомился:
– Они собираются ответить герцогу отказом, Рауль?
Хранитель рассмеялся.
– Когда я уходил, они уже готовы были выбрать Фитц-Осберна своим представителем, так что одному Богу известно, какой ответ вы получите. Но их сердца подсказывают им, что надо сказать «нет». Они говорят, вы не имеете права требовать от них помощи в чужой стране, монсеньор. Я же лично думаю, многие просто боятся поездки за море.
Герцог, повернувшись к Раулю, спросил:
– Неель Котантен там?
– Еще нет. Но Тессон уже прибыл, и он настроен решительно против вашего плана.
Зубы Вильгельма сверкнули в усмешке.
– Я могу заставить Тессона сделать все, что мне надо, – пообещал он.
Кто-то поскребся в дверь; Рауль отворил ее и обнаружил на пороге Жильбера Дюфаи, на лице которого была написана тревога.
– Не будет ли герцог столь любезен, чтобы вернуться в залу? – спросил Жильбер. – Все присутствующие согласились с тем, чтобы дать возможность Фитц-Осберну выразить их озабоченность и возражения как можно более полно и убедительно.
В зале действительно восстановилось некое подобие порядка. Герцог вновь опустился на трон; его братья встали по обе стороны от него, а Рауль остановился у опорной колонны за их спинами.
– Итак, мессиры? Вы готовы дать мне ответ? – осведомился герцог.
Фитц-Осберн поднялся со стула.
– Да, монсеньор, готовы; именно мне выпала честь говорить от лица всех, кто присутствует здесь сегодня.
По зале прокатился негромкий рокот согласия; благородные джентльмены с признательностью поглядывали на своего представителя, ожидая услышать, как он смягчит их решительный отказ.
– В таком случае говори, Фитц-Осберн, – разрешил герцог. – Я слушаю.
Сенешаль, поправив мантию на плече, поклонился.
– Сеньор, мы выслушали ваши предложения и воздаем должное вашему мужеству, которое позволяет вам считать, что это предприятие легко осуществимо.
Его слушатели благодарно закивали головами. Подобное начало, безусловно, понравилось им; не помешает привести герцога в хорошее расположение духа и подсластить ему пилюлю, прежде чем он распробует горькое лекарство.
– Вы желаете получить скипетр и королевство, монсеньор; мы же знаем, что вы их достойны. Вы просите нас, своих верных вассалов, помочь вам в этом деле. Сеньор, вам должно быть известно: в соответствии с клятвой верности, вы не можете требовать от нас воинской службы на заморской территории.
Фитц-Осберн сделал паузу, но герцог хранил молчание. Вассалы вновь закивали головами: сенешаль прекрасно справлялся со взятой на себя ролью.
А он тем временем продолжал:
– Вы просите нас последовать за вами в чужую страну, населенную нашими злейшими врагами – чего никогда не делал еще ни один герцог Нормандии. Мы не привыкли к морским плаваниям; не исключено, они не придутся нам по вкусу; к тому же наши жены, которые со слезами на глазах проводят своих мужей на битву в чужедальней стороне, могут потребовать от нас внимания и защиты собственной земли здесь, в Нормандии. Но вот что говорят наши сердца, мой сюзерен: вы долгие годы успешно правили нами и вели нас от одной победы к другой. Вы всегда исполняли обещанное. Монсеньор, каждый ваш вассал верит в вас; каждый вассал вкладывает свои руки в ваши ладони, и вот вам ответ вашего верного слуги: мы последуем за вами, куда бы вы ни повели нас, будь то Англия или Аравия, и тот, кого долг обязывает выставить вам двадцать вооруженных солдат, с радостью удвоит их количество.
Фитц-Осберн умолк. Собравшиеся уставились на него словно зачарованные. Рауль увидел, как какой-то мужчина открыл было рот, но тут же вновь закрыл его и сделал глотательное движение. Сенешаль, воспользовавшись всеобщим замешательством, отважно заявил:
– Я сам готов снарядить для этого предприятия шестьдесят кораблей! Сеньор, мы готовы повиноваться вам! Располагайте нами!
Это было уже слишком. Взбешенные вассалы наконец-то обрели дар речи; приличия были моментально забыты; десятки разъяренных голосов взревели дружное «Нет!». Анри, лорд Сент-Илер де Феррьер, протолкался вперед, к самым ступенькам возвышения и, злобно глядя на сенешаля, выкрикнул:
– Ложь! Ложь! Это твои слова, а не наши! Мы не поплывем за моря!
Уголки губ герцога дрогнули; он повернул голову и в упор взглянул на оратора. В дальней части залы Ричард де Бьенфет, с грохотом вскочив на скамью, заорал:
– Стыд и позор! Стыдись, Анри де Феррьер! Все настоящие мужчины согласны с тем, что сказал Фитц-Осберн.
– Неправда! – воскликнул Фульк дю Пен и попытался стащить сенешаля вниз. – Это выходит за рамки нашей вассальной присяги!
– Как, неужели мы боимся? – вскричал молодой Гуго д’Авранш. Он запрыгнул на скамью рядом с Ричардом де Бьенфетом и взмахнул мечом над головой. – Пусть ответят молодые мужчины!
Но герцог ничего не сказал; он смотрел на Рауля Тессона, который, не проронив ни слова, спокойно стоял в стороне, привалившись плечом к одной из колонн. На лице его было написано непреклонное выражение, он не дрогнув встретил взгляд герцога, и в его глазах читалось явное неодобрение.
Роберт Пико де Сей, последовав примеру де Бьенфета, взгромоздил свою тушу на скамью.
– Нет, нет! – прогрохотал он. – Давайте не забывать об уважении, которое мы должны оказывать его милости герцогу! Это недостойно. Тем не менее со всем почтением я должен сказать…
Но его голос потонул в дружном хоре. У вассалов окончательно лопнуло терпение, поэтому они не стали дожидаться, пока он закончит свои утомительные разглагольствования. Ив де Васси локтями проложил себе дорогу в первый ряд и громко заявил:
– Туда, куда зовет нас долг, мы пойдем обязательно, но долг не призывает нас воевать за морем. Как! Неужели мы оставим свои границы открытыми для Франции, а сами отправимся в увеселительную прогулку за тридевять земель?
Внезапно к самому краю возвышения решительно шагнул Одо. Глаза его метали молнии; пальцы нервно теребили складки сутаны.
– Нормандские псы! – с горечью воскликнул он. – Неужто священник должен указывать вам путь?
Герцог пошевелился на троне. Сказанное им не расслышал никто, кроме епископа. Но Одо сердито повел плечами и отрешенно плюхнулся в резное кресло рядом.
Вильгельм поднялся на ноги. Понадобилось некоторое время, чтобы шум стих, потому что стоявшие в первых рядах сочли необходимым предупредить криком задних, чтобы те замолчали, поскольку будет говорить его светлость герцог, а еще трое посчитали себя обязанными стащить с лавки Ричарда де Бьенфета.
Герцог же невозмутимо ждал, пока в зале не воцарится спокойствие. А когда наступила полная тишина и собравшиеся с тревогой и волнением воззрились на него, он взглянул прямо на лорда Тюри-ан-Сингуэлица и властно произнес одно-единственное слово:
– Тессон!
Владетель Сингуэлица вздрогнул и, нахмурившись, шагнул вперед. Для него освободили проход; он подошел к подножию возвышения и снизу вверх угрюмо взглянул на герцога.
На губах Вильгельма заиграла слабая улыбка; он ласково попросил:
– Проводи меня, Рауль Тессон.
– Монсеньор…
– Проводи меня, Тессон.
Лорд Сингуэлиц нехотя поднялся по ступеням на возвышение и угрюмо последовал за герцогом прочь из залы. Оставшиеся, удивленно переглянувшись, выразили общее мнение, что никто не может предугадать, как намерен поступить Вильгельм.
А в соседней комнате Тессон занял оборонительную позицию у самых дверей, искоса поглядывая на герцога.
Вильгельм же расстегнул на плече застежку мантии, сбросил тяжелую, подбитую мехом накидку и не глядя протянул ее на вытянутой руке. Лорд Сингуэлиц, шагнув вперед, принял ее.
– Итак, друг мой? – начал герцог.
Тессон, сложив мантию, перебросил ее через спинку кресла.
– Монсеньор, вы не заставите меня сказать вам «да», – прямо заявил он. – Вы еще молоды, но я уже оставил позади скороспелую порывистость юности.
– Ты готов выступить против меня, Тессон, и отказать мне в помощи? – осведомился герцог.
– Говоря простым языком, – да, монсеньор. Если вы намерены отправиться в этот безумный поход, идите один.
– Вот, значит, как? – мягко проговорил Вильгельм. – Но я все еще помню воина, который подъехал ко мне на равнине Валь-э-Дюн и ударил меня перчаткой по щеке, заявив: «Никогда более, сеньор, я не причиню вам зла».
Тессон покраснел, однако упрямо покачал головой.
– Так и есть. Если я и отказываю вам, то лишь ради вашего собственного блага, милорд, путь даже это вам не по вкусу. Молодые горячие головы могут последовать за вами, если хотят…
– Разве я похож на сорвиголову, Тессон?
Лорд Сингуэлиц набычился.
– Нет, сеньор, я этого не говорил. Но вы чересчур часто одерживали победы и от этого стали беспечным. А я, изнуренный в ратных подвигах и поседевший, говорю вам, что не стану участвовать в этой безумной затее. Заметьте, я не сказал об этом там, посреди шума и гама, но теперь, когда вы спросили меня, даю вам свой ответ.
– Годы летят, Тессон. – Герцог подошел к очагу. – Я забыл, что ты стал слишком старым, чтобы сражаться рядом со мной.
Тессон моментально ощетинился.
– Старым? Как бы ни так, мой повелитель! Кто говорит, что я стар? Я все еще способен принять посильное участие – и не только – в любом турнире либо сражении. И вы называете меня стариком? Что, мои руки ослабели? Или вы полагаете, будто мои мускулы заплыли жиром, мои силы иссякли, а моя кровь стала похожа на воду? Матерь Божья!
– Не я, Тессон.
В голосе герцога прозвучали снисходительные нотки. Глаза Сингуэлица налились кровью; брызгая слюной, он заявил:
– Кровь Христова! Назовите мне имя того опрометчивого наглеца, что посмел так отозваться обо мне! Обещаю вам: я покажу ему, сколько сил у меня еще осталось! Старик? Ха, клянусь Господом!
Герцог, повернувшись, положил руки на плечи Тессона.
– Нет, друг мой, никто не сомневается в твоей удали. Тем не менее, я думаю, ты постарел душой и полюбил покой сильнее, чем раньше. Никто не посмеет упрекнуть тебя в этом: твои славные деньки остались в прошлом. Забудь, что я просил тебя о помощи. Быть может, если я поведу армию в Англию, ты присоединишься к тем, кто останется здесь править герцогством.
Лорд Сингуэлиц набрал полную грудь воздуха.
– Сеньор, – заявил он, вперив в герцога пылающий взгляд, – чего вы требуете от меня?
– Ничего, – ответил Вильгельм.
Владетель Сингуэлица шумно глотнул слюну.
– Я выставлю двадцать кораблей и всех людей Тюри! Этого довольно?
– Да, вполне. Кто поведет твоих вассалов?
– Кто поведет их? – переспросил Тессон, словно не веря своим ушам. – Кто поведет?.. Кровь Христова, я и поведу их! Можете так и передать моим насмешникам!
– Непременно, – с лукавой улыбкой пообещал герцог. Услышав щелчок дверного замка, он оглянулся. – Неель! – воскликнул, протягивая вошедшему руку. – Главный Сокол, я уже отчаялся увидеть тебя!
Сапоги виконта Котантена были забрызганы грязью, и он все еще сжимал в руке хлыст и перчатки. Годы припорошили его каштановую шевелюру сединой, но он сохранил былую стройность, и на его теле по-прежнему не было ни капли жира. Быстрым шагом Неель пересек комнату и крепко пожал герцогу руку.
– Прошу прощения, монсеньор. Я приехал издалека и так быстро, как только смог. Ваш посланец застал меня вдали от дома. Но к делу. Чем могу служить вам? Фитц-Осберн рассказал мне кое-что, однако посоветовал найти вас, чтобы узнать все подробности.
Владетель Сингуэлица, несколько поостыв, проворчал:
– Безумная затея, право слово. Беги отсюда стремглав, пока он лестью не уговорил тебя, как только что поступил со мной. – Тессон мрачно покачал головой. – Ох, я же знаю вас, сеньор! Вы очень хитры и привыкли добиваться своего. Но, клянусь Богом, господин мой Вильгельм, вы прекрасно знаете, что вам не обойтись без людей Тюри!
Герцог расхохотался, по-прежнему не выпуская руки́ Сен-Совера из своей.
– Неель, я собираюсь в Англию, чтобы отобрать у Гарольда Годвинсона королевство, которое было обещано мне. Ты мне нужен: поедешь со мной?
– Да, конечно: я всей душой с вами, – ответил Неель. – Давайте скрепим это на бумаге. Вам нужны корабли? Что ж, я могу снарядить несколько. Пошлите за своим писцом, монсеньор, и попросите его записать мое имя. Ты тоже едешь, Тессон?
– Неужели ты думал, что я буду стоять и смотреть, как ты рвешься вперед, Главный Сокол? – поинтересовался лорд Сингуэлица, вновь выпячивая грудь. – Сколько человек ты можешь выставить? Я готов предложить больше.
С трудом сохраняя серьезность, герцог ударил в гонг, стоявший на столе, и кликнул своего клерка. Имена Сен-Совера и Тессона были должным образом записаны под их печатями; они вышли, и герцог послал за владетелями Муайона, Трегоза и Манвилля.
Один за другим лидеры собравшихся уединялись с герцогом. Список имен становился все более внушительным; отказать герцогу – означало проявить нелояльность; волей-неволей бароны ставили свои печати под вырванными у них обещаниями, и те, кто покорился воле Вильгельма, уже сами стремились к тому, чтобы оставшиеся разделили с ними взятые на себя обязательства. Совет в Лилльбонне в конце концов увенчался полной победой герцога. Неохотное согласие его вассалов сменилось даже некоторым энтузиазмом. Для них стало делом чести не дать соседу превзойти себя в обещаниях; началось обсуждение строительства флота. Жильбер, архиепископ Лизье, отбыл в Рим, получив необходимые наставления, а через несколько недель герцог на церковном соборе, который состоялся в том же Лилльбонне, назначил Ланфранка аббатом монастыря Сент-Этьенна, сооруженного в Кане в качестве епитимьи за его женитьбу.
Глава 3
Кардиналы, собравшиеся на конклав в Риме, выслушали Жильбера. Обсуждение затянулось на много дней, однако с самого начала стало ясно – вопрос о клятвопреступлении склонил чашу весов не в пользу Гарольда Годвинсона. Была оценена и святость реликвий, и само письмо Гарольда, которое тоже стало предметом оживленной и длительной дискуссии. Но Рауль, прослышав об этом, язвительно заметил:
– Вильгельм – верный сын Святой Церкви, а нормандцы строят монастыри там, где саксы устраивают пиры. Не это ли повлияло на суждение Папы, хотел бы я знать?
– Рауль! – воскликнул шокированный Жильбер Дюфаи.
Однако Хранитель в ответ лишь нетерпеливо дернул плечом.
– Знаешь, меня уже тошнит от этого дела. В конце концов, все упирается в интриги и подкуп, а грохот корабельных верфей день и ночь отдается в моих ушах.
– Что за глупости ты несешь! – улыбнулся Жильбер. – Здесь, в Руане, вообще ничего не слышно.
– Нет, слышно, и еще как, – упорствовал Рауль. – В моей голове, в мозгу! Ладно, оставим это! Раз уж водоворот затянул меня, придется идти до конца.
Наконец архиепископ вернулся в Нормандию, сопровождаемый папским легатом с большой помпой. Герцог принял высокопоставленного клирика с отнюдь не напускной почтительностью. Вильгельму было даровано благословение, а в его сильные руки передан освященный стяг. Полотнище, богато расшитое драгоценными каменьями и золотой нитью, тяжело свисало с древка. Ральф де Тони благоговейно принял стяг из рук герцога и застыл навытяжку, пока легат доставал из ларца перстень, в оправе которого был заключен волос самого Святого Петра. Преклонив колени, герцог выставил руку. Перстень скользнул ему на палец; легат благословил Вильгельма.
Выяснилось, что в случае успеха Вильгельм пообещал сделать Англию феодальной вотчиной Рима, выплачивая ежегодный оброк.
– Есть ли кто-нибудь в этом мире, кто полагает себя выше взяток? – не обращаясь ни к кому конкретно, спросил Рауль де Харкорт.
Не успел легат отправиться в обратный путь в Рим, как в небе было замечено странное, необычное явление. На восемнадцатый день апреля в западной части горизонта взошла комета и поплыла на юг, внушая трепет и восхищение всем, кто видел ее. «Предзнаменование», – шептались люди, но дурное или доброе – об этом спорили все пророки и мудрецы Нормандии.
Меж тем в Нормандию вернулись изгнанники, те нормандские фавориты короля Эдуарда, коих изгнал из Англии Гарольд. Они привезли с собой известия о том, что саксы сочли огонь в небе знаком Божьим. Многим он внушил страх и дурные предчувствия, поскольку те, кто разбирался в подобных вещах, объявили: Господь гневается на Гарольда за то, что тот узурпировал трон, по праву принадлежавший Эдгару Этелингу.
В Нормандии же общее мнение было таково: явление сие следовало считать звездой Вильгельма, сулящей ему удачу. Некоторые клирики с одобрением отнеслись к подобному толкованию; а вот те, кто не верил в успех английской экспедиции, утверждали обратное, говоря, что герцог должен воспринять этот знак как предупреждение свыше и остановиться в своих приготовлениях. Сам же герцог поддержал тех, кто счел появление кометы добрым знаком, но Фитц-Осберну заметил: если она и впрямь обещает ему победу в Англии, то по небу движется в неверном направлении.
Впрочем, у Вильгельма не было времени предаваться размышлениям о вопросах перемещения небесных тел. На верфях строились его корабли; в лесах раздавались удары топоров дровосеков; срубленные деревья доставляли к побережью на телегах, запряженных быками. И уже здесь корабелы и плотники брали их в работу, пока оружейники изготавливали мечи и наконечники копий, а шорники шили куртки для лучников.
Герцог отправил несколько посланий во Францию, предъявив свои требования благоразумному регенту и сделав ряд предложений. Граф Бодуэн задумчиво прочел их, после чего показал супруге.
– Твоя дочь, скорее всего, наденет корону королевы, жена, – только и сказал он.
Недоверчиво воскликнув, графиня поспешно пробежала глазами депешу герцога и заметила:
– А он метит высоко, этот внук дубильщика! А как же Тостиг и моя вторая дочь? Честное слово, Мальд всегда была хитрой и скрытной кошечкой! Подумать только, она ни словом об этом не обмолвилась, пока Юдифь гостила у нее в Руане!
Граф Бодуэн отобрал у супруги письма и спрятал их в надежное место.
– Скажу вам откровенно, мадам, если мне придется выступить в поддержку одного из моих зятьев, им будет не Тостиг, – сухо ответил он. – Но это не тот случай, когда Франция должна вмешиваться. Можешь быть спокоен, сын мой Вильгельм: Франция не нарушит твоих границ, пока ты будешь отсутствовать, однако другой помощи ты от нее не получишь. – Он принялся рассеянно поглаживать рукой бородку. – И все-таки я не стану настаивать на этом. – Его ласковый взгляд остановился на лице супруги, и он медленно произнес: – Если кто-нибудь возжелает последовать за Нормандцем, надеясь заполучить добычу в Англии, я не стану их останавливать. Эти голодные, жадные джентльмены и так доставляют Франции изрядно беспокойства: пусть они ищут славы и возвышения в другом месте.
Выяснилось, что искать счастья в Англии желают многие. Герцог Вильгельм разослал подобные письма в немало стран, суля земли, деньги и титулы любому, кто захочет присоединиться к нему. Объятый ужасом и отвращением, Рауль смотрел, как рассылаются эти опасные депеши. Хранитель попробовал было выразить негодование, но герцог не пожелал его слушать. Он должен заполучить Англию любой ценой.
На зов Вильгельма стекались человеческие отбросы со всей Европы. Из Бургундии, Лотарингии и холмов Пьемонта хлынули поиздержавшиеся авантюристы, пряча за наглостью и бравадой дыры на своих потертых штанах. В Нормандию прибыли хорошо одетые благородные рыцари Аквитании и Пуату; скромные владетели вели за собой подданных, готовые рискнуть жизнью за шанс обзавестись владениями в Англии. Евстахий де Гренон, тот самый граф Булонский, над которым некогда поиздевались жители Дувра, прислал уведомление, что лично возглавит своих людей; Ален Фержан, кузен графа Конана, клятвенно обещал набрать целое войско в Бретани; из Фландрии пришло письмо от шурина герцога Вильгельма, в котором тот намеками выспрашивал, какую награду он может получить за свои услуги, если рискнет собственной драгоценной особой на поле брани.
Его письмо застало герцога в Руане. Вильгельм находился у себя в кабинете, два клерка быстро писали что-то под его диктовку, а на столе перед веером были разложены бумаги. Герцог оторвался на минуту от других дел, чтобы взглянуть на план своего флагманского корабля «Моры»; корабельный мастер смиренно стоял рядом в ожидании замечаний. За дверью, в приемной, еще двое мужчин корпели над списками снаряжения и провианта, которые они намеревались показать герцогу, а старший плотник спрашивал себя, одобрит ли Вильгельм план деревянных замков, которые сам же и потребовал построить.
Герцог, вскрыв пакет, полученный от Бодуэна, пробежал глазами написанное. Коротко рассмеявшись, он небрежно скомкал его.
– Пергамент! Подать мне чистый свиток пергамента! – распорядился Вильгельм и обмакнул перо в чернильницу. – Рауль, ты где? Разверни мне этот свиток и приложи к нему мою печать. Тебе понравится эта шутка. Прочти письмо молодого Бодуэна, тогда ты все поймешь. – И герцог принялся что-то писать на ярлыке.
– Но на пергаменте ничего не написано, милорд, – рискнул напомнить ему один из клерков.
– Да, дурак, ничего. Готов, Рауль? В таком случае обвяжи это двустишие вокруг свитка и распорядись отправить его со всей возможной быстротой моему благородному шурину. – Вильгельм передал ярлык в руки Рауля и вернулся к корабельных дел мастеру.
Рауль, прочтя двустишие, рассмеялся. Герцог начертал всего лишь две короткие строчки:
…Мой любезный брат, в Англии вы станете тем,
Что обнаружите внутри этого свитка.
– Прекрасный ответ, монсеньор, – заключил Рауль, повязывая послание вокруг свитка. – Было бы весьма кстати, если бы вы дали его и всем остальным соискателям такого сорта.
Но герцог не ответил, и Рауль с тяжелым сердцем принялся смотреть, как он работает. Немногие властители, решил Хранитель, составили себе славу честным и справедливым отношением к людям. О герцоге всегда говорили, что его нельзя купить и он никого и никогда не возвышал незаслуженно. Любой серв мог рассчитывать на его справедливое правосудие с не меньшим основанием, нежели барон, а его расправа с разбойниками и грабителями неизменно была короткой. Но сейчас, когда навязчивые мысли о короне завладели всем существом Вильгельма, он, казалось, стал беспечным и даже бессердечным. То, что герцог решил вести нормандскую армию в Англию, было плохо уже само по себе, думал Рауль. Но то, что он собирался спустить с цепи на эту страну орду беспринципных наемников, которые присоединились к нему не из преданности, а движимые лишь жаждой наживы, опозорит его имя на многие десятилетия вперед.
Немного погодя Хранитель сказал Жильберу Дюфаи:
– Неуправляемые, прожорливые свиньи, роющие землю в поисках трюфелей. Господи, что за армию мы собрали под свои знамена!
Жильбер миролюбиво заметил:
– Знаю, но славная нормандская кровь усмирит это отребье.
– Еще бы тебе не знать, – отозвался Рауль. – Тебе прекрасно известно и о том, что даже Вильгельму не под силу обуздать этот сброд, как только они почуют запах добычи.
– Что ж, мне это тоже не нравится, – рассудительно заметил Жильбер. – Я везде и всегда предпочитаю Нормандию, но, как мне представляется, связан клятвой верности и обязан сражаться за герцога, будь это здесь или за морем. Что до тебя, – он, подняв голову, печально взглянул на Рауля, – ты связан дружбой, и это, по-моему, не нравится тебе больше всего. – Жильбер наморщил лоб, пытаясь выразить словами и самому ему до конца не ясную мысль. – Ты ведь очень беспокоишься о Вильгельме, не так ли? Да, я тоже предан ему, но никогда не был его другом. Иногда я завидую ему, но при этом уже понял, что ты выбрал для себя нелегкий путь. Лучше не иметь в друзьях такого человека, как Вильгельм, Рауль.
– Это измена, друг мой, – беспечно отозвался Рауль.
– Нет, всего лишь правда. Какой прок от такой дружбы? Или утешение? Никакого. Вильгельм думает о королевствах и завоеваниях, а не о тебе, Рауль, или о ком-либо еще.
– Согласен. – Хранитель мельком взглянул на Жильбера и тут же отвел взгляд. – Я и сам это знаю. Вильгельм всегда один. Но в этой дружбе я не искал выгоды. Много лет тому, когда мы с ним были еще мальчишками, я поступил к нему на службу, веря, что он принесет мир и славу Нормандии. Тогда я верил в него, но еще не был дружен с ним. Дружба пришла позже.
– Но он действительно принес и мир, и славу, и силу.
– Да, ты прав. Больше него для герцогства не сделал никто. Ты можешь смело вверить ему свою душу и тело и не бояться, что тебя предадут.
– Тем не менее, Рауль?
– Всегда, – безмятежно отозвался тот.
Жильбер покачал головой.
– И все-таки я думаю, амбиции меняют человека.
– Ты ошибаешься. Я знаю его настолько хорошо, насколько это вообще возможно, Жильбер. Он, конечно, может стремиться заполучить корону, но, помимо этого, есть и кое-что еще. Теперь ты видишь, какой я глупец – зная и понимая все это, я тем не менее сожалею о том, что он взял в руки оружие, недостойное его рыцарской чести.
Жильбер с любопытством уставился на Хранителя.
– Вот скажи мне, Рауль, что заставило тебя отдать ему свое сердце? Я часто задаюсь этим вопросом.
В серых глазах Хранителя засветилась улыбка.
– Одну маленькую его частичку? Вот, значит, какими ты видишь наши отношения? Нет, Жильбер, Вильгельму нет дела до подобных нежностей. В юности я обожал его. С мальчишками такое частенько случается. Но обожание не могло длиться вечно. Оно сменилось уважением, глубоким и неизменным. А потом появилась и дружба: странная, быть может, но тем не менее дружба. – Он поднялся на ноги и шагнул к двери. – Сердца вверяются только в обмен – одно на другое. Во всяком случае, мое покинет грудь лишь тогда.
– Но… Рауль, мне странно слышать от тебя такие речи. Я и не подозревал… Если он и любит кого-нибудь, так только тебя. Я уверен в этом.
– Увы! – Хранитель задумчиво уставился на дверной замок. – Я бы выразил это иначе: Вильгельм любит меня так, насколько вообще способен любить других. – Рауль, подняв голову, оглянулся. – Вот почему, Жильбер… – Он оборвал себя на полуслове, и улыбка его стала шире. – Вот так, – сказал и вышел.
Все лето в Нормандии кипела деловая активность, и все разговоры велись только о предстоящей экспедиции. Строительство флота, насчитывающего почти семьсот кораблей, было закончено, и он стоял на якоре в устье Дива. Армия разрослась до поистине гигантских размеров; несмотря на то что к ней присоединились тысячи чужеземцев, она, по крайней мере, на две трети состояла из нормандцев, и, как бы ни собирались вести себя наемники в Англии, в Нормандии они свято блюли дисциплину, не допускавшую ни бунтов, ни грабежей окрестных сел и деревень.
В начале августа герцог получил из Норвегии вести, которых так долго ждал. Тостиг и Харальд Гардрада намеревались отплыть на север Англии в середине сентября. Они планировали отобрать Нортумбрию у Моркара, после чего двинуться на юг, рассчитывая, что к ним по пути присоединятся другие английские подкрепления.
– Ты оказываешь мне услугу, о значении которой даже не догадываешься, дружище Тостиг, – сказал герцог. – Гарольд будет совсем не тем, кем я его склонен считать, если не двинется на север, чтобы разгромить твою армию.
Четыре дня спустя, двенадцатого августа, герцог выехал из Руана и направился к Диву. Там собралось двенадцать тысяч конников и двадцать тысяч пехотинцев, а в устье реки на приливной волне мягко покачивались несколько сотен кораблей. Среди них выделялось флагманское судно «Мора», подаренное Матильдой супругу. На мачтах вздувались малиновые паруса, а на носу красовалась фигурка мальчика, вот-вот готового выстрелить из лука. Щели в судне были законопачены волосом, борта покрыты позолотой, а на корме возвышалась каюта, окна и дверной проем которой были завешаны ткаными гобеленами, освещенная серебряными лампами.
Рядом с «Морой» стояли на якоре корабли Мортена, общим числом сто двадцать штук, чтобы было на двадцать больше снаряженных Одо. Граф Эвре выставил восемьдесят судов, все – с полной оснасткой, а граф д’Э – шестьдесят.
В Див Вильгельма сопровождали герцогиня и милорд Роберт. Роберт раздувался от гордости, ведь его имя вместе с именем Матильды было вписано в документ о полномочиях регентства, которые герцог делегировал им на период своего отсутствия. Тем не менее юноша предпочел бы отправиться с армией; бывая в лагере, ослепленный блеском солнечных лучей на стали, или поднимаясь на борт «Моры», Роберт преисполнился такой зависти, что наконец не выдержал и заявил отцу о своем желании присоединиться к нему и попросил позволения сделать это.
Но герцог в ответ лишь покачал головой. При любых других обстоятельствах этого было бы достаточно, но сейчас Роберта охватило отчаяние.
– Я уже не ребенок. Мне сравнялось четырнадцать, милорд. Это мое право, – заявил он, обиженно глядя на герцога.
Вильгельм окинул его взглядом, в котором не было неудовольствия от подобной горячности сына. Матильда, которая сидела позади Роберта, вдруг до боли стиснула лежавшие на коленях руки.
– Успокойся, жена, – со смешком сказал герцог. – А ты еще слишком молод для подобного предприятия, сын мой; кроме того, ты мой наследник. Если я не вернусь – станешь вместо меня герцогом Нормандии.
– Вильгельм! – Герцогиня, побледнев, вскочила на ноги.
Герцог сделал знак Роберту оставить их одних.
– Что, Мальд, страшно?
– Почему ты так сказал? – Она подошла к нему вплотную и положила руки на его кольчугу. – Ты победишь. Ты всегда побеждал. Вильгельм, мой господин и повелитель!
– В самом деле? – задумчиво спросил герцог. Он обхватил ее обеими руками, но взгляд его был устремлен куда-то вдаль.
Герцогиня же дрожала всем телом; никогда раньше она не видела, чтобы он был так не уверен в себе.
– Вас гложут сомнения, монсеньор? Вас? – Матильда настойчиво вцепилась ему в плечи.
Он взглянул на нее сверху вниз.
– Просто я знаю, девочка моя, что это будет самая жестокая и самая трудная моя битва. Я рискую всем в этом предприятии: жизнью, карьерой и благосостоянием моего герцогства. – Брови его сошлись на переносице. – Нет, я не терзаюсь сомнениями. Это было предсказано.
Запинаясь, она переспросила:
– Предсказано?
– Да, представь себе. Моей матери на последнем месяце беременности приснился сон: из ее лона выросло дерево, настолько огромное, что ветви его простерлись над Нормандией и Англией, так что обе страны оказались под его сенью. Я и есть это дерево, Матильда.
– Я слыхала эту историю, – призналась она, – и считаю ее божественным предвидением, милорд, а не фантазией беременной женщины.
– Может быть. – Он наклонился и поцеловал жену. – Скоро мы все узнаем.
Флот задержался в устье реки еще на целый месяц. Некоторые суда оказались не приспособлены к морскому плаванию; плотники не успели соорудить деревянные замки, которые герцог в разобранном виде собирался перевезти в Англию, а оружейники по-прежнему день и ночь трудились над изготовлением хауберков, шлемов и кольчуг. Солдаты начали проявлять беспокойство; участились случаи дезертирства и грабежа соседних сел и деревень. Но герцог приказал казнить виновных безо всякой жалости, запретил пешим солдатам покидать лагеря, и бесчинства прекратились.
На двенадцатый день сентября, когда все наконец было в порядке и задул попутный ветер, герцог, распрощавшись с Матильдой, благословил сына и поднялся на борт «Моры» вместе с сенешалем и виночерпием в сопровождении Рауля, Жильбера Дюфаи, а также своего знаменосца – Ральфа де Тони.
Стоя возле узкого окна дома, в котором она поселилась на берегу, Матильда, напрягая зрение, смотрела, как на мачты медленно поднимаются флаги. Вот на фоне ясного голубого неба засияла богатством цветов освященная эмблема Святого Петра; рядом храбро зареяли на ветру золотые львы Нормандии. Герцогиня сцепила пальцы и глубоко, со всхлипом, вздохнула.
– Якорь поднят! – воскликнул Роберт. – Смотрите, миледи! «Мора» двинулась с места! Видите, как весла окунаются в воду? Ах, если бы я мог оказаться сейчас на ее борту!
Матильда не ответила; «Мора» заскользила вниз по течению под развевающимися флагами; зарифленные паруса[71] на мачтах сверкали малиновым цветом.
– Следующим идет мой дядя Мортен на «Счастливом случае», – продолжал Роберт. – Смотрите, вон виден его штандарт! А это – корабль графа Роберта, а рядом с ним – виконта Авранша. О, как будут завидовать мне Ричард и Рыжий Вильгельм, ведь они пропустили такое зрелище!
Герцогиня по-прежнему хранила молчание; сомнительно, что она вообще слышала сына. Взгляд ее не отрывался от «Моры»; она думала: «Он уплыл. Святая Дева Мария, помоги ему! Помоги!»
Матильда не двигалась до тех пор, пока «Мора» не стала точкой на горизонте. Роберт, стоя на коленях на скамье, которую он подтащил к окну, продолжал болтать без умолку и показывать пальцем, но герцогиня не обращала на него ни малейшего внимания. Она думала о том, как вышить эту сцену на гобелене, чтобы получился настоящий шедевр, достойный ее искусства. Матильда решила, что сама изготовит его, вместе со своими фрейлинами, разумеется, пока они будут прозябать в одиночестве и ожидании в притихшем Руане. Она начала составлять план. Перед ее мысленным взором поплыли яркие образы: вот Гарольд приносит клятву на святых реликвиях в Байе; смерть Исповедника; похороны короля – вот это полотно будет потрясающим, с аббатством с одной стороны, и гробом, который несут восемь человек, – с другой. Мысль ее напряженно заработала, глаза заблестели. Она изобразит и коронацию Гарольда; сейчас герцогиня видела гобелен целиком, как наяву; вот он сидит на троне в центре полотна, а рядом стоит лишенный сана Стиганд и воздевает руки, готовясь благословить его. Для мантии Стиганда понадобятся яркие нитки; она вышьет ее сама, как и лицо Гарольда, а ее фрейлины могут взять себе задний план и трон. Дальше будут видны приготовления Вильгельма ко вторжению; это полотно окажется непростым в работе, с оружием, кольчугами и припасами, которые грузят на корабли; а затем она вышьет сегодняшнее отплытие, выбрав яркие нитки, чтобы показать блеск щитов, голубизну моря и малиновые паруса «Моры». Времени, безусловно, уйдет много, но конечный результат будет стоить затраченных усилий. А если Бог смилостивится над ними, то предстоит вышить еще много полотен: сражение, коронацию – только бы Он смилостивился.
Герцогиня оторвала взгляд от горизонта; взяв Роберта за руку, спокойно сказала:
– Идем, сын мой. Мы сегодня же возвращаемся в Руан; меня там ждет работа.
Стоя на корме «Моры», Рауль смотрел, как тает вдали берег Нормандии. К нему подошел Фитц-Осберн.
– Что ж, наконец-то мы отплыли, – удовлетворенно заметил сенешаль. – Я получил донесение о том, что шкипер боится неблагоприятной погоды, но мне она представляется прекрасной. – Облокотившись о позолоченный поручень, Фитц-Осберн уставился вдаль, на тонкую линию побережья. – Прощай, Нормандия! – шутливо вскричал он.
Рауль содрогнулся.
– Эй, ты замерз, друг мой? – осведомился Фитц-Осберн.
– Нет, – коротко ответил Рауль и отвернулся.
Они плыли на север; к полуночи ветер, постоянно усиливавшийся, перешел в настоящий ураган. Высокие валы перекатывались через палубу, шпангоуты стонали от нагрузки, а полуобнаженные моряки, обливаясь потом и стряхивая с себя соленую воды, начали спускать и брать рифы у парусов. Стараясь перекричать рев ветра, они работали не покладая рук и бесцеремонно отталкивали в сторону высокородных господ, если те путались у них под ногами.
Фитц-Осберн поник, погрузившись в непривычное молчание, и вскоре забился в какой-то темный угол, чтобы уединиться со своей морской болезнью. Д’Альбини поначалу презрительно фыркал в его адрес, но огромный вал, куда выше всех предыдущих, быстро отправил его вслед за сенешалем. Ив, паж герцога, свернулся жалким клубочком на своем тюфяке в каюте и закрыл глаза, чтобы не видеть разбушевавшейся стихии. Услышав, как засмеялся его господин, он содрогнулся, но глаз не открыл, даже в ответ на просьбу герцога.
Сам же Вильгельм поднялся со своего ложа из шкур и, закутавшись в накидку из грубой ворсистой шерстяной ткани, вышел на палубу. Рауль и Жильбер стояли подле входа в каюту, держась за стенки, чтобы не упасть. Рауль схватил герцога за руку.
– Осторожнее, сеньор. Минуту тому Жильбера едва не выбросило за борт, прямо в море.
Герцог всмотрелся в темноту. Огни прыгали на волнах; он сказал:
– Нынче ночью мы потеряем несколько малых кораблей.
Ударившая в борт волна окатила их дождем брызг.
– Монсеньор, оставайтесь в каюте! – взмолился Рауль.
Герцог смахнул влагу с волос и лица.
– Я останусь там, где стою, Хранитель, если только меня не смоет за борт, – заявил он, цепляясь за поручень.
Перед самым рассветом ветер унялся и в сером зареве показалось море цвета свинца, на котором мертвая зыбь угрюмо качала «Мору». Утомленные штормом корабли медленно вошли в гавань Сен-Валери в Понтье, встав там на якорь.
Уже наступила ночь, когда герцог наконец подвел точный итог потерям. Несколько малых кораблей действительно затонули, равно как и несколько лошадей и кое-какие припасы смыло за борт, но в целом ущерб оказался не слишком значительным. Герцог, распорядившись не распространять панические настроения, созвал капитанов кораблей вместе с плотниками на совещание, чтобы выяснить у них, какой ремонт необходимо провести, прежде чем флот снова сможет выйти в море.
Когда с этим было покончено, случилась очередная задержка, вызвавшая недовольство солдат. Ветер переменился и устойчиво задул с северо-востока, так что никакое судно, вышедшее из Понтье, не смогло бы достичь Англии. Дни проходили за днями, а встречный ветер упрямо не желал менять направления. Люди начали искоса поглядывать на герцога, перешептываясь, что поход этот явно затеян против воли Господа.
Дурные предчувствия охватили и многих баронов; среди солдат даже случилась попытка мятежа, и недовольное перешептывание сменилось открытыми проклятиями.
Герцог же не проявлял ни малейшего нетерпения или тревоги. С мятежниками он разобрался одним махом, положив конец открытому неповиновению, а на встревоженные взгляды своих баронов отвечал жизнерадостной бодростью, которая изрядно поднимала им настроение. Но положение постепенно ухудшалось, и на десятый день стоянки в порту Вильгельм призвал к себе графа Понтье, поделился с ним кое-какими соображениями и устроил пышную церемонию для своей армии.
Были выкопаны останки праведника Святого Валерия; их пронесли во главе процессии вокруг всего города. Перед святыми мощами шли епископы Байе и Кутанса в парадных мантиях; состоялась торжественная служба, во время которой клирики воззвали к святому с мольбой изменить направление ветра и таким образом подтвердить праведность всего предприятия.
Воины, преисполненные одновременно надежды, скептицизма и благоговейного страха, преклонили колени. На город опустилась мертвая тишина; люди не сводили глаз с трепещущих штандартов в гавани; они облизывали пальцы и поднимали их над головами, проверяя, откуда дует ветер. Так прошел час. Солнце превратилось в раскаленный алый шар, тонущий за горизонтом на западной стороне неба. Собравшиеся начали перешептываться; их голоса походили на утробный рык злобного чудовища. Рауль исподтишка метнул взгляд на герцога и увидел, что тот стоит на коленях, молитвенно сложив ладони, и наблюдает закат солнца.
Зарево угасло; на ряды коленопреклоненных участников похода начала наползать ночная прохлада; ворчание становилось громче, и время от времени его пронизывали отдельные недовольные голоса.
И вдруг Фитц-Осберн вскочил на ноги.
– Смотрите! – вскричал он, показывая на гавань. – Ветер стих!
Тысячи голов повернулись туда; армия замерла в молчании, и посторонний наблюдатель успел бы досчитать до шестидесяти. Штандарты бессильно обвисли на мачтах; ветер умер вместе с солнцем.
Герцог, метнув в ту сторону один быстрый взгляд, поднялся на ноги.
– Святой сказал свое слово! – провозгласил он. – Возвращаемся на корабли! На рассвете задует попутный ветер, который и пронесет нас через море к цели.
Похоже, святой и впрямь сказал свое веское слово. Грядущий день занялся ясным, безоблачным, а с юго-запада подул устойчивый ветер. Флот, быстро подняв якоря, в строгом порядке покинул гавань Сен-Валери.
Прекрасная погода дала «Море» полную возможность наглядно продемонстрировать свое превосходство. К закату она намного опередила остальные корабли эскадры, а ночью вообще потеряла их из виду.
Утром герцога разбудила встревоженная депутация, сообщившая ему, что «Мора» осталась одна. Он, зевнув, заявил в ответ:
– Надо не забыть рассказать герцогине, как безупречно проявил себя подаренный ею корабль.
– Милорд, сейчас не лучшее время для шуток, – возразил Ральф де Тони. – Мы опасаемся, что наш флот перехватили корабли Гарольда.
– Мой славный Ральф, – ответил герцог, – в Диве я получил донесение – английский флот вынужден был вернуться в Лондон для пополнения запасов продовольствия. Пришли-ка ко мне моего камердинера и не шарахайся от каждого куста, как та пуганая ворона.
Вскоре он, выйдя из каюты, обнаружил, что встревоженные бароны собрались на корме, пытаясь разглядеть вдали хоть какие-нибудь признаки остальных кораблей эскадры. При виде баронов Вильгельм расхохотался; они, обернувшись словно ужаленные, увидели, что он преспокойно поглощает свой завтрак. В одной руке герцог держал кусок холодной оленины, а в другой – ломоть хлеба, попеременно впиваясь в них зубами.
Д’Альбини, шагнув к нему, сказал:
– Сеньор, умоляю вас, давайте повернем назад! Здесь мы оказались совершенно беззащитны; к тому же мы уверены, что с нашим остальным флотом произошло какое-то несчастье.
Не прекращая жевать, герцог с набитым ртом ответил:
– О, заячье сердце, какого предзнаменования ты устрашился на сей раз? Никакого несчастья не случилось; мы просто обогнали другие корабли. – На глаза ему вдруг попался моряк, стоявший неподалеку и взиравший на него с благоговейным трепетом. Вильгельм крепкими белыми зубами оторвал еще один кусок оленины и кивком головы подозвал его к себе.
Подталкиваемый своими товарищами, моряк несмело приблизился и упал перед герцогом на колени.
– Послушай, любезный, – начал Вильгельм, – в такой позе мне от тебя будет немного толку. Ну-ка, лезь на самый верх мачты и скажи, что ты видишь.
Глядя, как матрос карабкается по вантам на самый клотик мачты, герцог забросил в рот последний кусочек хлеба и отряхнул с ладоней крошки.
Д’Альбини коснулся локтя Вильгельма.
– Монсеньор, вы можете, конечно, веселиться, если хотите, но мы, ваши покорные слуги, беспокоимся о вашей же безопасности.
– Можно подумать, я этого не вижу, – проворчал герцог и запрокинул голову, глядя на макушку мачты. – Эй, приятель! Какие новости?
– Милорд, передо мной только небо и море! – крикнул в ответ моряк.
– Тогда мы ложимся в дрейф, – решил герцог. Вновь бросив взгляд наверх, он распорядился: – Когда увидишь еще что-нибудь, дружище, слезай и доложи мне.
– Сеньор! – В голосе д’Альбини прозвучало отчаяние.
– Идем ко мне в каюту, Неель, – сказал Вильгельм, беря Сен-Совера под руку. – Мы с тобой должны сыграть партию в шахматы, я и ты.
В полдень герцогу подали обед на раскладном столике прямо на палубе. Кое-кто из его баронов напрочь лишился аппетита, зато сам герцог от души угостился свежевыловленными угрями, поджаренными в белом соусе, мелко нарезанным мясом морской свиньи с белой пшеничной кашей и солониной, поданными с трубчатым луком-батуном, а также ломбардской горчицей.
«Мора» лениво покачивалась на водной глади; матрос на клотике мачты вдруг пронзительно закричал и кубарем скатился вниз на палубу, доложив герцогу, что заметил вдали четыре корабля.
Вильгельм швырнул ему золотой.
– У тебя острый взор, друг мой. Продолжай наблюдать, пока не увидишь остальные мои корабли.
Фитц-Осберн, привстав из-за стола, принялся вглядываться в морскую даль.
– Я ничего не вижу, – сообщил он.
– Скоро увидишь, – успокоил его герцог, разорвал надвое мясной пирог и принялся уминать его за обе щеки.
Прошло совсем немного времени, как с макушки мачты в большом возбуждении вновь спустился матрос.
– Милорд, я вижу на горизонте целый лес мачт! – выкрикнул он.
– В самом деле? – небрежно осведомился герцог, облизывая пальцы. – Что ж, идем, Фитц-Осберн. Давай сами испытаем зоркость наших глаз.
Еще через пару часов основная часть эскадры поравнялась с ними, и «Мора» вновь подняла паруса, направившись в сторону Англии.
Ближе к вечеру на горизонте появилась туманная полоска суши, которая постепенно становилась все более отчетливо видимой. На фоне синего моря яркой голубизной выделялись меловые скалы; люди, столпившиеся на носах кораблей, уже различали зеленые деревья и приземистые постройки. Вражеские суда так и не преградили путь флоту, да и на берегу не было заметно никаких признаков жизни. «Мора» приблизилась к Певенси, и ее выбросило носом на покатый берег.
Солдаты уже готовы были прыгать в воду, но командиры тут же призвали их к порядку, и они поспешно выстроились в две шеренги. Герцог прошел вдоль строя, оперся о плечи Рауля де Харкорта и легко вспрыгнул на фальшборт. Прикинув на глаз расстояние, он оттолкнулся и перепрыгнул. Над палубой прокатился разочарованный стон. Герцог, поскользнувшись на мелководье, упал; ноги его остались в воде, а верхняя часть туловища оказалась на суше.
– Дурной знак! Очень дурной! Господи милосердный, он упал!
Но Вильгельм в мгновение ока вскочил и, повернувшись, показал полные пригоршни песка и гальки. Его уверенный голос заглушил разочарованный ропот.
– Нормандцы, я завладел земельной собственностью в Англии! – крикнул герцог.
Глава 4
Нормандцы высадились в небольших бухточках и на взморье вдоль всего побережья от Певенси до Гастингса.
В Певенси не обнаружилось ни души, только тлеющие в очагах угли свидетельствовали о том, что жители деревушки бежали, завидев приближающийся флот. Солдаты разбили лагерь, окружив его наспех вырытым рвом и частоколом из вбитых в землю кольев. Затем герцог приказал возвести на невысоком холме, возвышающемся над гаванью, один из привезенных ими с собой деревянных замков; закипела работа, а сам он отправился на рекогносцировку местности, чем вселил тревогу в своих друзей. Он так и не избавился от того самого безрассудного бесстрашия, что много лет тому подвигло его на сумасбродную эскападу у Мелана. В сопровождении всего лишь горстки рыцарей Вильгельм иногда пропадал из лагеря на несколько часов. Окружающая местность показалась ему дикой и необжитой, изобиловавшей предательскими болотами и холмами, густо поросшими лесом. Дороги зачастую были попросту непроезжими, изрытыми ямами и колдобинами. В лесах водились волки и медведи, а по долинам бродили стада диких быков.
Население было крайне немногочисленным, поскольку здешние территории принадлежали почти исключительно короне, лишь вдоль побережья то здесь то там разместились небольшие городки и деревни. Чужих солдат поблизости, очевидно, не было, однако нормандские бароны, видя, как их повелитель изо дня в день разъезжает по окрестностям в сопровождении всего лишь двадцати рыцарей, пребывали в постоянном страхе оттого, что он может попасть в руки враждебно настроенных крестьян. И, когда однажды с наступлением сумерек он не вернулся в лагерь, на поиски отправился целый отряд во главе с Гуго де Монфором. Герцога они встретили в тот момент, как он беззаботно возвращался пешком, неся на плече, помимо своего собственного, еще и хауберк Фитц-Осберна. Судя по виду Вильгельма, он ничуть не устал и лишь беззлобно подшучивал над сенешалем, который уже валился с ног; сам герцог при этом оставался свежим, словно всего лишь прогулялся по полям в окрестностях Руана.
Гуго де Монфор, забрав у него лишний хауберк, сердито заявил:
– Монсеньор, неужели вам никогда не приходило в голову, что здешние обитатели могут напасть на вас?
– Нет, Гуго, никогда, – беззаботно отозвался герцог.
В ходе его экспедиций вскоре обнаружилось, что Гастингс, расположенный в нескольких лигах к востоку, являет собой куда более удачный опорный пункт, нежели Певенси. Этот город словно оседлал дорогу на Лондон, да и гавань его выглядела более подходящей для размещения эскадры. Оставив в Певенси гарнизон, герцог повел свое войско на восток, приказав плыть следом и половине флота с тем, чтобы потом встать на якорь под меловыми скалами Гастингса. Вскоре на возвышенности, окруженной частоколом, вознесся и второй его замок, состоявший из одной-единственной деревянной башни. У подножия холма был вырыт ров, а гладкий участок за ним превратился во внутренний двор, где наспех соорудили сараи, а также навесы для размещения людей и лошадей. Все это обнесли еще одной канавой с бруствером, на котором установили ограждение с башней поменьше для защиты подъемного моста.
Солдаты все еще трудились над завершением оборонительных сооружений, когда к герцогу прибыл гонец с посланием от некоего Роберта, нормандца по происхождению, живущего неподалеку от побережья. Он привез поклон от своего господина и несколько листов тряпичной бумаги, исписанных убористым почерком. В письме содержались сведения большой важности. Тостиг и Гардрада, писал герцогу его доброжелатель, высадились на сушу на севере и в жестоком бою под Йорком нанесли поражение молодым эрлам Эдвину и Моркару. Гарольд, призвав под свои знамена танов и хускарлов[72], ускоренным маршем прошел на север за две недели до высадки герцога и, встретив захватчиков у моста Стэмфорд-Бридж на двадцать пятый день сентября, наголову разбил их армию. В том сражении пали и Тостиг, и Гардрада. А теперь гонцы уже во весь опор умчались в Йорк, где стоял лагерем Гарольд, дабы уведомить его о высадке нормандских войск. Доносчик советовал герцогу не высовывать носа за пределы своих укреплений, поскольку король Гарольд, по его словам, уже выступил на юг со своей армией, поклявшись погибнуть в бою, но не позволить нормандцам ни на лигу углубиться на территорию Англии.
– Передай своему хозяину, – сказал Вильгельм курьеру, – что я намерен дать Гарольду бой при первой же возможности. – Подождав, пока тот не удалится, герцог обернулся к Раулю. На губах его играла мрачная улыбка. – Идет маршем на юг, – негромко повторил он и вновь бросил взгляд на письмо. – Ему советовали укрепиться в Лондоне и ждать меня там. Это очень хороший совет, Гарольд Годвинсон, но ты ему не последуешь. – Швырнув письмо на стол перед собой, он откинулся на спинку кресла и задумчиво проговорил: – Храбрые слова, однако они продиктованы отнюдь не его разумом. Друг мой Рауль, значит, я верно разгадал характер эрла Гарольда, когда сказал тебе, что он будет действовать, повинуясь зову сердца. Он встретится со мной здесь, на побережье, как я и планировал. – Брови Вильгельма сошлись на переносице. – Ба, да ведь он – глупец!
– Он также еще и очень храбрый человек, – заметил Рауль, глядя на герцога.
– Храбрый! Да, аки лев, но из-за этой глупости Гарольд потеряет Англию. Он не позволит мне и лиги пройти по земле своей страны, видите ли! Кровь Христова, да он, напротив, должен был постараться заманить меня вглубь, как можно дальше от побережья и моих кораблей, чтобы я оказался на совершенно незнакомой мне территории, где можно с легкостью окружить мою армию. Если помнишь, именно так поступил я сам, когда Франция нарушила мои границы. Я не произношу пылких речей, дабы воспламенить сердца своих воинов, зато планирую, как лучше всего уберечь и сохранить свою страну. Но Гарольд не позволит моей ноге ступить на землю, которую он поклялся защищать! Это говорит его сердце: гордое и благородное, если угодно, исполненное доблести, однако совершенно не прислушивающееся к советам, которые дает ему разум. Право слово, Рауль, останься он в Лондоне, мог бы уничтожить меня.
– Тем не менее вы готовы были рискнуть и в этом случае?
Вильгельм рассмеялся.
– Нет. Со дня самой первой нашей встречи с ним я понял, что его стратегии можно не опасаться.
Когда замок в Гастингсе был закончен, а корабли вытащены из воды на берег под ним, бароны послали своих людей в отряды фуражиров. Они на много лиг вокруг опустошили южное побережье, и лишь в Ромни местные жители попытались дать им организованный отпор. Войско, наспех сколоченное из сервов и бюргеров, вооруженных чем попало, отразило нападение Гуго д’Авранша с большими потерями для последнего. Вот так нормандцы впервые изведали на себе ярость саксов.
Тем временем герцогу доставили второе послание от неизвестного соотечественника. В первый день октября в Йорке Гарольд получил известие о высадке нормандцев. Седьмого числа он прибыл в Лондон в сопровождении своих танов и хускарлов, оставив эрлов Эдвина и Моркара собирать свои потрепанные войска и приказав им со всей возможной быстротой присоединиться к нему.
Гийом Мале, зная, какое расстояние отделяет Йорк от Лондона, не поверил своим ушам.
– Всего за семь дней вместе с целой армией! – вскричал он. – Совершить такой подвиг не в силах человеческих!
Но вскоре эта новость получила подтверждение. Гарольд покинул Йорк сразу же после того, как узнал о высадке нормандцев, и сумасшедшим маршем повел свою армию на юг, в результате чего его люди спали только урывками по несколько часов, да и то не каждый день.
В Гийоме Мале горделиво вскричал сакс:
– Сердце Христово, да они – настоящие мужчины, эти английские таны! Когда же они отдыхают? Когда находят время, чтобы поесть? Упорные и бесстрашные враги, достойные стали наших мечей!
Он обращался к Раулю, но тот ничего ему не ответил. Перед внутренним взором Хранителя проходили легионы светловолосых, бородатых мужчин, одним из которых был Эдгар. Они шли и шли вперед, шли день и ночь, чтобы защитить свою землю от врагов. Они наверняка устали от войны, у многих еще не зажили раны, полученные в сражении у Стэмфорд-Бридж; на ногах вздувались кровавые мозоли; они шатались и слепли от усталости, но неукротимо шли вперед. Ему вдруг показалось, будто он слышит размеренный топот тысяч и тысяч ног, который все приближался; перед ним из тумана проступило лицо Эдгара, упрямое, насупленное и усталое; глаза его глядели прямо перед собой, а губы были плотно сжаты – таким он навсегда запомнил друга.
В Лондоне Гарольд провел четыре дня, собирая под своими знаменами фирд – англосаксонское ополчение, составленное из свободных людей и землевладельцев. Они стекались к нему со всех сторон, крестьяне, бюргеры, фермеры; он вышел из Лондона одиннадцатого октября, и на всем пути к нему присоединялись все новые и новые новобранцы, кто в кольчуге и со щитом, а кто вооруженный лишь палкой с привязанным к ней камнем или же прочими привычными орудиями своего ремесла.
Через два дня герцогу доложили: саксонская армия подошла к окраине Андредсвельда, огромного леса, и встала лагерем в трех лигах от Гастингса, где лондонский тракт поднимался на холм равнины Сенлак.
Герцог немедленно отрядил в лагерь англичан посланника, монаха по имени Гуго Майгро, владеющего саксонским наречием. На закате Гуго вернулся в Гастингс; его проводили в шатер герцога, где он подробно описал все, что с ним произошло.
Сунув руки в широкие рукава своей сутаны, он начал:
– Монсеньор, когда я пришел в лагерь саксов, меня прямиком препроводили к Гарольду Годвинсону. Он сидел за столом под открытым небом со своими братьями, Гиртом и Леофвином, а также прочими танами. Эрл принял меня с подобающей любезностью, милорд, и предложил мне изложить ему свое дело. Я по-латыни передал ему порученное мне послание и от вашего имени потребовал, чтобы эрл вручил вам скипетр Англии. Я вновь повторил ему ваше предложение, сказав, что ему достанутся все земли к северу от Хамбера[73], равно как и графство Уэссекс, которым правил еще его отец Годвин. Пока я говорил, эрл слушал меня со слабой улыбкой на губах; но те, кто сидел вокруг него, часто прерывали меня насмешливыми выкриками и словами, оскорбительными для вашей светлости. Когда я закончил, таны, сидевшие за столом с Гарольдом, подняли заздравные рога и кубки с криками: «За здоровье!», «За победу!», после чего, осушив их, провозгласили новый тост: «Смерть нормандским собакам!» – и выпили снова. Поскольку слова эти произносились на саксонском наречии, то те, кто находился неподалеку, услышали их и собрались вокруг, подняв громовой рев, который могли издать только сто тысяч глоток. «Смерть! Смерть нормандцам!» звучало со всех сторон, но я, стоя твердо и непоколебимо, убежденный в праведности своей миссии, молчаливо ждал, какой ответ даст мне эрл.
Гуго Майгро умолк.
– Ну, а что было дальше-то? – нетерпеливо спросил Мортен.
Монах откашлялся.
– Пока длилось это безумие, эрл преспокойно сидел во главе стола, слегка откинув голову и глядя не на своих танов, а на меня. Но в конце концов он поднял руку, и крики тут же стихли. Тогда он обратился ко мне: «Ты получил свой ответ». – И вновь монах сделал паузу. Рауль тихо отступил к выходу из шатра и остановился, глядя в сгущающиеся сумерки. Гуго Майгро, сделав долгий судорожный вздох, продолжил: – Тогда я снова заговорил с ним, взывая к его благоразумию и напомнив ему о том, что на святых мощах он дал клятву поддерживать вашу светлость. Услышав эту фразу, те, кто понимал мою речь, угрожающе заворчали, бросая в меня злобные взгляды и гневные слова. Я не обращал на них внимания, а лишь еще сильнее принялся увещевать Гарольда, но он сидел совершенно неподвижно и слушал меня, не открывая рта и не поворачивая головы. Когда я закончил, он еще некоторое время хранил молчание, не сводя глаз с моего лица, однако мне казалось, он не видит меня. Затем Гарольд громко произнес, так, чтобы окружающие слышали его, что предпочтет пасть в кровавом бою, нежели отдать свою страну захватчикам. Его клятва, сказал он, была вырвана у него силой и потому не может связывать его. Гарольд велел мне передать вам свое послание – он никогда не сдастся, никогда не склонит перед вами голову, до последнего вздоха будет преграждать вам путь, и да поможет ему Бог! И тогда саксы разразились приветственными криками, принялись подбрасывать мечи в воздух; все мужчины в один голос вскричали: «Вон, вон! Ату!» – таков боевой клич саксов. И вновь я принялся ждать, пока возбуждение не уляжется, наблюдая за поведением танов. Мне показалось, они горят желанием вступить в бой, косматые, свирепые люди с упрямыми лицами, в коротких туниках варварских расцветок, самодельных кольчугах и шлемах из дерева и бронзы. Они ели и пили вволю; многие раскраснелись от медового вина, и руки их сжимались на рукоятях ножей, которые они называют seax. Некоторые с угрозой смотрели на меня, но я не двигался с места, и тогда Гарольд вновь потребовал тишины, чтобы я мог говорить дальше. И вот, убедившись, что все они затаили дыхание в ожидании моих слов, я простер свою руку к эрлу и сказал: за свое клятвопреступление он отлучен от Святой Церкви, а Святой Отец объявил дело его никем не почитаемым и греховным. Когда я закончил, за столом воцарилась мертвая тишина. Эрл стиснул подлокотники своего кресла; я увидел, как побелели костяшки его пальцев; глаза его затуманились, но на лице не дрогнул ни один мускул, и он по-прежнему хранил молчание. Однако те, кто окружал его, пришли в явное смятение, многие крестились, с содроганием слушая слова церковной анафемы. Я заметил, как у одних побледнели щеки, а другие в великой тревоге обратили свои взоры на эрла. Но он не подал виду, что обеспокоен. И тогда со своего места поднялся Гирт Годвинсон; полагая, быть может, что я не владею саксонским наречием, он громким голосом обратился к танам, сказав следующее: «Соотечественники, если бы герцог Нормандии не боялся наших мечей, он бы не стремился затупить их папской анафемой; будь Вильгельм уверен в своих рыцарях, он не стал бы досаждать нам своими посланниками. Неужели герцог предложил бы нам земли к северу от Хамбера, если бы не страшился последствий своей поспешной и безумной затеи? Или вел бы переговоры, если был бы уверен в правоте своего дела? Не дадим обмануть себя, чтобы не стать жертвами его подлой хитрости! Он пообещал ваши дома своим сторонникам; можете мне поверить, Вильгельм не оставит ни пяди земли ни вам самим, ни вашим детям! И будем ли мы просить милостыню в ссылке или станем защищать свои права с мечом в руке? Говорите!» И тогда, подбодренные его храбрыми словами и мужественным выражением лица, таны вновь испустили свой боевой клич, прокричав: «Победа или смерть!» А Гирт, повернувшись к Гарольду, заговорил теперь уже с ним, пылко заявив: «Гарольд, ты не станешь отрицать, что принес клятву Вильгельму на святых реликвиях, и не имеет значения, по своей воле ты это сделал или нет. Но к чему тогда рисковать исходом войны, имея на совести клятвопреступление? Я никому не приносил клятвы, как и мой брат Леофвин тоже. Для нас эта война – справедливая, потому что мы сражаемся за родную землю. Позволь нам одним сойтись лицом к лицу с нормандцами; если мы потерпим поражение, ты можешь прийти к нам на помощь; если погибнем, ты отомстишь за нас».
– И какой же ответ дал эрл? – поинтересовался герцог, когда монах, переводя дыхание, в очередной раз умолк.
– Милорд, он поднялся со своего места и, взяв Гирта за плечи, ласково привлек его к себе, после чего с мягким упреком сказал: «Нет, брат; неужели ты думаешь, что Гарольд боится вступить в бой? Пусть я паду в бою и умру, не получив отпущения грехов, но все равно поведу своих людей вперед, и над их головами будет реять мой стяг, а не чей-либо иной. Но не падайте духом! С нами правда; мы победим и прогоним инсургентов с нашей земли. Кто из вас пойдет за Гарольдом? Пусть каждый выскажется свободно и прямо!» И тогда Эдгар, тан из Марвелла, которого знает ваша светлость, вскочив на скамью, закричал: «Мы последуем только за Гарольдом и больше ни за кем! Саксы, обнажим мечи!»
Рауль вдруг судорожно стиснул полог шатра. Повернув голову, он с болезненным вниманием уставился на монаха.
А Гуго Майгро продолжил свой рассказ:
– С громовым ревом они выхватили свои мечи, провозгласив: «Мы идем за Гарольдом, нашим подлинным королем!» После чего Гарольд, тронутый, как мне показалось, таким порывом чувств, отстранил брата и, зна́ком показав мне, чтобы я подошел ближе, заговорил со мной на хорошей латыни, предлагая мне удалиться и передать вашей светлости, что он встретится с вами в бою, и пусть тогда Господь решит, кто прав, а кто виноват. Я покинул лагерь, задержавшись ненадолго лишь для того, чтобы перемолвиться с монахами аббатства Уолтем. Милорд, рекруты Эдвина и Моркара еще не присоединились к армии эрла Гарольда.
Он поклонился, умолкнув на сей раз окончательно. Несколько мгновений все молчали; затем герцог обронил:
– Да будет так. Мы выступаем на рассвете.
Бо́льшую часть ночи нормандцы исповедовались и причащались. В лагере начались приготовления, которые не прекращались вплоть до самой полуночи. Только тогда воины легли прямо на землю, укрывшись накидками; медленно расхаживали взад и вперед часовые, и звездный свет отражался на их шлемах; священники до самого рассвета отпускали грехи, но Одо, епископ Байе, громко храпел в своем шелковом шатре. За его спиной на шесте висела кольчуга, а под рукой лежала булава.
Герцог же до полуночи совещался с баронами, но затем улегся на свое ложе и вскоре забылся легким сном. Рауль лежал на тюфяке в собственной палатке, однако сон бежал от него. Он встал, вышел в ночь и начал смотреть в сторону темной линии холмов, лежавшей между Гастингсом и лагерем саксов. Где-то за этими поросшими лесом высотами был сейчас Эдгар. Пожалуй, он тоже не спит и думает о завтрашнем дне. Рауль попытался представить себе его: исповедался ли он в своих грехах? Или же проводил ночь в пиршестве, как, по его словам, было принято у саксов перед боем?
Завтра, думал Рауль, завтра… О Господи, только не дай мне встретиться с Эдгаром! Дай мне не запомнить его, не увидеть его лица перед собой, не отражать выпады его меча, горя́ желанием убить соперника!
В ночной тишине внезапно раздался вой, жуткий и заунывный. Рауль, вздрогнув, невольно перекрестился, но это оказался всего лишь один из волков, что бродят по ночам вокруг лагеря, охотясь за объедками, выброшенными на мусорные кучи.
На рассвете, после того как отслужили мессу, герцог приказал свернуть лагерь и повел свою армию тремя колоннами к холму под названием Телхэм. Перевалив через него, войска подошли к опушке Андредсвельда.
Первую колонну, образующую правый фланг армии герцога и почти целиком состоящую из французов, фламандцев, жителей Понтье, Булони и Пуа, возглавил граф Евстахий Булонский. В его войске отрядом в тысячу нормандцев командовал молодой Роберт де Бомон. Это было первое настоящее сражение де Бомона, и он горел желанием проявить себя. Под ним приплясывал горячий чистокровный жеребец, а на щите жарко горел герб его дома.
Второй колонной, до последнего человека составленной из нормандцев, командовал сам герцог. Он ехал на коне, которого привез ему из Испании Вальтер Жиффар. На герцоге была простая кожаная туника с нашитыми на нее металлическими кольцами, свободные рукава которой заканчивались чуть ниже локтя и по́лами до середины бедра, с разрезами спереди и сзади, дабы облегчить ему свободу движений. Хауберк и шлем, которые вез оруженосец герцога, тоже отличались незатейливой простотой, лишь конической формы шлем был снабжен двумя защитными накладками – на носу и шее. Из оружия Вильгельм предпочел копье и булаву, прикрепленную к седлу.
Рядом с ним на коне покачивался его брат и епископ Кутанса. Он надел свою епископскую мантию, а в руке сжимал полагающийся ему по сану посох; правда, Одо поверх белой сутаны надел еще и кольчужную рубашку, вооружившись внушительной деревянной дубинкой.
Войска Котантена возглавляли граф Мортен и Неель де Сен-Совер. Именно его оруженосец вез хоругвь Святого Михаила, привязанную на конце копья.
За ними по пятам следовал Рожер де Монтгомери во главе внушительного отряда Беллема. От него не отставали и ветераны, Жиффар и Гурней, как и Гийом Фитц-Осберн с рыцарями Бретея и Бек-Креспена. Никто из воинов не спешил надевать доспехи, поскольку вес хауберков грозил лишь добавить тягот и без того нелегкому маршу.
Третья колонна образовывала левый фланг. Ее возглавили Ален Фержан и граф Хайме де Туар, а составлена она была из бретонцев, жителей Ле-Мана, Пуату и земель по берегам притоков Рейна.
Дорога вела по склонам холмов, у подножия которых простирались болота Певенси. Солнце поднялось в зенит, поэтому мужчины обливались потом, а длинная вереница копий блестела словно железная змея, ползущая по тракту.
Когда они поднялись на вершину холма Телхэм-Хилл, впереди наконец показалось войско саксов. Нормандская армия, остановившись, устроила привал в тени огромных деревьев. Герцог проехал еще немного вперед в сопровождении графов Евстахия и Алена, чтобы разведать позиции англичан и местность, что простиралась между ними.
Гарольд водрузил два свои штандарта на противоположной высоте, являвшей собой узкий холм примерно с милю длиной, полого спускавшийся в долину Сенлака у его подножия. На самой вершине росла огромная, старая, раскидистая яблоня, подле которой развевался личный штандарт Гарольда – его стяг Воина[74]. С противоположной стороны долины нормандцы видели сверкание золотых складок знамени; рядом на фоне голубого неба рдел алый Дракон Уэссекса.
Казалось, весь холм сплошь усеян вооруженными людьми. Нормандцы, до рези в глазах вглядывавшиеся в него, принялись перешептываться: им казалось, что их поджидает целый лес копий.
– Слушай меня, граф Евстахий! – сказал Вильгельм. – Если Господь дарует мне сегодня победу, на том месте, где сейчас развевается флаг, я построю монастырь. – Герцог указал на другой край долины. – В этом я клянусь перед Богом и Фазаном.
Развернув коня, Вильгельм галопом поскакал к своим солдатам. Надев хауберк, он протянул руку и, приняв у оруженосца шлем, опустил его на голову, с опозданием сообразив, что надел его задом наперед. Заметив, что те, кто смотрел на него, сочли это дурным предзнаменованием, он со смехом воскликнул:
– Добрый знак! Мое герцогство превратится в королевство так же легко, как я сейчас переверну вот этот шлем.
К тому времени армия пришла в движение, рассредоточиваясь по склонам холма. Лучники выдвинулись вперед, за ними выстроилась шеренга тяжелой пехоты, а рыцарская кавалерия оказалась в арьергарде. Звякали конские доспехи; шипы и проволочные силки[75] брызгали в глаза острыми лучиками света; над головами с треском реяли вымпелы и флаги.
Герцог, кивком подозвав к себе де Тони, протянул ему свое знамя.
– Неси его, де Тони, – сказал Вильгельм, – потому что я не могу не оказать тебе эту честь, ведь твоя семья исстари была знаменосцем Нормандии.
Де Тони подъехал вплотную к герцогу.
– Премного благодарен вам, монсеньор, за признание нашего права, но умоляю вас вручить свой стяг сегодня кому-нибудь другому! Сеньор, я прошу вас освободить меня от этой почетной обязанности всего на один сегодняшний день, поскольку намерен послужить вам в другом качестве и выступить против англичан в бою бок о бок с вами.
Герцог рассмеялся.
– Как пожелаешь, де Тони, – сказав это, он огляделся по сторонам, и взгляд его остановился на старом Вальтере Жиффаре. – Лорд Лонгевилль, – обратился к нему Вильгельм, – я не знаю никого более достойного нести мое знамя в бой, чем ты.
Но Вальтер яростно затряс головой и подал коня назад.
– Смилуйтесь надо мной, монсеньор, и взгляните на мои седины! – взмолился он. – Силы мои уже не те; я задыхаюсь. Да вот, возьмите хоть Тостена. Гарантирую, он будет рад.
Тостен Фитц-Рой ле Блан, рыцарь из Ко, зарделся и благодарно взглянул на герцога. Герцог Вильгельм протянул ему свое знамя. От волнения у Тостена перехватило дыхание, и он крепко стиснул древко.
Герцог же затем обратился к армии с короткой прочувствованной речью.
– Пришло время продемонстрировать мужество, которым вы наделены в избытке, – заявил он солдатам. – Сражайтесь как мужчины, и победа останется за вами, а в награду вы получите почести и богатство! Если же дрогнете и потерпите поражение, то погибнете все до единого или станете рабами для безжалостных врагов. – Голос его зазвенел, набирая силу. – Отступать некуда. С одной стороны нам противостоит чужая армия и враждебно настроенная страна; с другой – путь к бегству преграждает море и английские корабли. Но мужчины не имеют права бояться. Скажите себе, что для отступления пути нет, и вскоре сердца ваши возрадуются торжеством победы.
Свою недолгую речь Вильгельм закончил на уверенной ноте; Фитц-Осберн, теребивший в руках поводья, верхом подъехал к нему и в свойственной ему порывистой манере воскликнул:
– Монсеньор, мы и промедлили непозволительно долго! Allons! Allons![76]
Теперь уже и рыцари облачились в доспехи; воины перехватывали древка пик поудобнее и продевали руки в энармсы больших треугольных щитов; еще через несколько мгновений прозвучал приказ к наступлению, и шеренги двинулись вперед по склону холма.
Им предстояло пересечь неровную равнину, отделявшую холм Телхэм-Хилл от высоты Сенлак. Местами она превращалась в болото, обильно поросшее кугой[77], а на возвышенных участках густо росли деревья и кустарники. Ветки цеплялись за туники и куртки лучников, всадникам частенько приходилось нагибаться, чтобы не ударится головой о низко нависающие над землей ветви. По мере того как они все ближе подходили к подножию кряжа на противоположной стороне долины, нормандцы постепенно начали различать силуэт Воина, украшавший трепещущий стяг Гарольда, подмечая блеск драгоценных камней, которыми он был расшит. Солдаты, не заметив в рядах саксов всадников, при виде столь необычного пешего порядка громкими криками выразили удивление. Те немногие, кто был лучше осведомлен на сей счет, передали по рядам, что саксы не имеют привычки к конным сражениям.
– Вон, гляди, как твердо они упирают в землю флагштоки своих знамен! – проворчал какой-то копейщик, поправляя щит на руке. – Так было и тогда, когда еще мой отец сражался за короля Эдуарда под командой лорда Лонгевилля и брата короля Альфреда. Войска, которые они именуют хускарлами, выстраиваются вокруг благородных лордов, обороняющих штандарт в середине, и больше не двигаются с места. Ха, сегодня мы покажем саксам, что такое настоящая война!
– Как, разве они не пойдут на нас в атаку? – спросил его сосед по строю.
– Нет конечно. Видишь, как они укрепили свои позиции?
Перед шеренгами саксов был наспех вырыт ров, отсыпанный бруствер которого по всей длине завалили вязанками лозы и валежника. В центре развевались флаги, вокруг которых и выстроились таны с опытными хускарлами в полном вооружении – кольчугах-бэрни[78], шлемах из дерева, бронзы и железа, с круглыми щитами, утыканными шипами и расписанными варварскими узорами, а также гербами. Каждое крыло армии почти целиком состояло из новобранцев английских графств, представителей народного ополчения, непривычных к войне. Одеты они были в простые шерстяные туники, кое-кто гордо потрясал топорами, молотами, серпами и даже железными лопатами.
На расстоянии примерно в сто ярдов конница остановилась, и лучники, поднявшись еще выше по склону, дали первый залп. В ответ на них обрушился град метательных снарядов: дротиков, копий и топориков с коротким топорищем. Бруствер с наваленными поверх связками ивы и валежника принял на себя почти весь первый ливень стрел, и, хотя некоторые все-таки нашли свою цель, львиная их доля застряла в заграждениях, дрожа оперением. Лучники, пройдя сквозь град метательных снарядов, снова дали залп. Он возымел немногим бо́льший успех, чем первые выстрелы, а под лавиной дротиков и топоров, обрушившихся на них сверху, ряды их дрогнули и попятились. Вот один из лучников упал – топор застрял у него в плече; над головами других засвистели булыжники и острые камни; они дали очередной залп. В передней линии саксов образовались одна или две бреши, но на место павших быстро встали новые воины. Тяжелые метательные снаряды вынудили лучников отступить; они поспешно ретировались, оставив своих раненых и убитых лежать на склоне; спотыкаясь о валуны, камни и дротики, которыми теперь была буквально усеяна земля у них под ногами, они бросились бежать, чтобы оказаться вне досягаемости броска саксов.
Посыльные герцога галопом проскакали вдоль шеренг; на передовую позицию вышла тяжелая пехота – копейщики в полном вооружении с длинными щитами, – которая сомкнула строй.
Уклоняясь от нового града метательных снарядов, теряя убитых и раненых, спотыкаясь о трупы, лежащие на земле, они выставили перед собой щиты и попытались прорваться через бруствер. Зазвенела сталь; воздух наполнился дикими криками и стонами; вверх взметнулись двуручные саксонские топоры и опустились с ужасающей силой, разрубая нормандские хауберки настолько легко, словно те были сделаны из бумаги. Вот с плеч слетела чья-то голова и покатилась, подпрыгивая, вниз по склону; обезглавленное тело, качнувшись вперед, свалилось в ров; вот еще кто-то поскользнулся на мокрой от крови траве, и его затоптали свои же товарищи. То здесь то там в оборонительных порядках саксов возникали бреши, но они быстро смыкались; кое-где завалы на брустверах оказались сметены напрочь; вдоль всей линии фронта ров быстро заполнялся мертвыми телами и окровавленными внутренностями.
Нормандская тяжелая пехота была отброшена; она в беспорядке отступила вниз по склону, а вслед ей полетел новый град дротиков, которые враги метали сверху. Рыцарской коннице, неподвижно стоявшей на дне долины, были хорошо видны раненые, оставшиеся на склоне; одни – без рук, другие – с обрубками ног пытались отползти в сторону; третьи, сохранившие конечности, но с ужасными ранениями на теле, спотыкаясь, брели вниз, а кровь хлестала из ран, заливая их туники и штаны.
Командиры все-таки сумели остановить паническое бегство своих солдат и вновь выстроить их в боевой порядок. По рядам кавалерии пролетела команда; теперь в атаку пошли конники.
Пехотинцы отошли в тыл; вперед вырвался одинокий всадник и запел Песнь Роланда, подкинув меч высоко в воздух и поймав его на лету; это был Тайлефер, обладатель золотого голоса. Он прокричал боевой клич, и нормандские рыцари дружным ревом подхватили последние слова припева. Опередив их, Тайлефер на своем коне первым поскакал вверх по склону, по-прежнему жонглируя мечом. А за его спиной земля задрожала под тяжелой поступью рыцарской конницы. Вот он поймал меч в последний раз, перехватил его поудобнее и направил скакуна прямо через бруствер. Завал из связок ивняка разлетелся под копытами его коня; Тайлефер ворвался в самую гущу врагов, разя их мечом направо и налево; голос его звенел в победной песни на самой высокой ноте; вокруг Тайлефера замелькали мечи, и он упал, получив с десяток ран.
Вслед за ним на врага обрушились рыцари с баронами. Лошади валились в ров; громовой гул «С нами бог!» и «Тюри!» наталкивался на не менее яростный ответ – «Ату их! Ату!». На правом фланге Роберт де Бомон заслужил славу в бесчисленных атаках; ближе к центру лорд Мулен-ля-Марш дрался со свирепой яростью, за которую впоследствии получил прозвище Вепрь.
В первых рядах сражающихся гордо реяли золотые львы Нормандии; Тостен старательно держался рядом с герцогом, стиснув зубы и до боли сжимая в руках древко стяга Вильгельма. Рядом с братом дрался Мортен; ни взмахи топоров спереди, ни напор конников сзади не могли оттеснить его от Вильгельма, но ужасный удар, нацеленный в него, перерубил шею его коня, и жеребец рухнул под ним на землю. Мортен вовремя успел соскочить; Рауль, завидев это, воскликнул:
– Возьми моего, Мортен! В седло, в седло!
Вырвавшись из гущи боя, Хранитель соскользнул со спины своего жеребца. Мортен наспех поблагодарил его, схватил уздечку и взлетел в седло. К Раулю пробился один из его собственных людей, сунув ему в руки повод.
– Держите, хозяин!
Рауль сел на подведенную лошадь.
– Молодец, спасибо. Выбирайся из этой толчеи. – Хранитель вонзил шпоры коню в бока и вновь ринулся в самую гущу схватки.
Шеренга остановилась. На левом фланге бретонцы и леманцы, которыми командовал Аллен Фержан, дрогнув, попятились. Им противостояло лишь ополчение, но сейчас этих мирных тружеников переполняла жгучая ненависть, и ярость их ударов вселяла панический страх в сердца бретонцев. Разрывая ряды, они отступили; командиры криками пытались остановить воинов, а потом и принялись колотить их коней по крупам лезвиями мечей плашмя, подгоняя вперед, но град обрушившихся на них камней и метательных дротиков сделал свое дело. Левый фланг развернулся и сломя голову обратился в бегство, растоптав собственную пехоту, которая только-только выстроилась в боевые порядки ниже по склону за их спинами.
– Сеньор, сеньор, бретонцы бегут! – Рауль все-таки сумел пробиться к Вильгельму. – Назад, ради всего святого! Отступаем!
А центр и правое крыло уже не выдержали убийственной ярости саксонских боевых топоров. Герцог, отдав приказ к отступлению, спустился по склону к месту, откуда мог видеть все поле боя. Его рыцарская конница пятилась, сохраняя боевые порядки, но конь под Тостеном пал, пронзенный в грудь копьем, и люди более не видели золотых львов, реющих над их головами. Со скоростью лесного пожара распространился слух, что герцог погиб; солдат охватило смятение; по шеренгам прокатился стон отчаяния.
– Он жив, жив! – закричал Жильбер Дюфаи.
Вильгельм сорвал с головы шлем и галопом помчался вдоль строя, крича:
– Смотрите, вот он я! Я жив и с Божьей помощью одержу победу! – Над его ухом просвистел острый обломок камня; Фитц-Осберн схватил коня Вильгельма под уздцы и потащил за собой вниз по склону, в безопасное место.
Кто-то подвел Тостену свежего коня; львы вновь воспарили в воздухе, и по рядам солдат прокатился восторженный рев.
В тылу же те, кто отвечал за свежих лошадей и амуницию, увидели, как обратилось в бегство левое крыло и, сами поддавшись панике, начали отступать. Вслед им устремился белый конь, а на ветру затрепетал белый подризник.
– Стойте! Остановитесь! – проревел епископ Байе. – Мы еще одержим победу! – Махнув дубинкой своим людям, он приказал: – Остановите этот сброд! Пусть стоя́т насмерть!
А слева нарастала и катилась какая-то волна. Это ополченцы, поняв, что враги в панике бегут, с торжествующими воплями стали перелезать через бруствер и, сбившись в кучу, бросились за ними.
Герцог, заметив прорыв, развернул свою кавалерию. Центр, возглавляемый Неелем Котантеном и Гийомом, лордом Муайоном, устремился в атаку и, обрушившись на фланг ополченцев, подчистую вырубил несколько сотен крестьян. Сервы, плохо вооруженные, не имея доспехов для защиты, погибли чуть ли не все до единого; паническому бегству бретонцев удалось положить конец; командиры кое-как вновь выстроили их в боевые порядки и направили вверх по склону, где они приняли участие в бойне, которая, впрочем, скоро завершилась. Более половины правого крыла англичан пало в этой короткой сече; нормандская конница остановилась, и эскадроны, развернувшись, вновь галопом вернулись в центр.
Пока бретонцы перестраивались и приводили себя в порядок, наступила долгожданная передышка, а те, кто потерял коней в первой атаке, оседлали свежих лошадей, которых подали им оруженосцы. Ряды нормандцев поредели, понеся серьезные потери; Гийом де Випон был убит; погиб сын Тессона Рауль, как и многие другие, тела которых усеивали склон холма. Гилберт де Харкорт получил рану в бедро, но не особенно огорчился по этому поводу, наспех перевязав ногу шарфом.
К Раулю на гнедом жеребце подъехал Эйдес и проворчал:
– Ну и рубка, разрази меня гром! Полагаю, ты-то уже привык к таким сражениям, а?
– Более жестокой схватки свет еще не видывал, – ответил Рауль. Он вытер красные пятна с лезвия своего меча; рука его подрагивала; на щеке красовалось кровавое пятно; на плече хауберка появилась вмятина.
Вдоль рядов промчались посыльные; горны протрубили вторую атаку; и вновь кавалерия рванулась вверх по склону. Брустверы с завалами, уже и без того прорванные во множестве мест, были сметены окончательно, однако рыцарей встретила стена щитов. Передняя шеренга дрогнула; ров был завален отрубленными конечностями, смятыми шлемами, изуродованными до неузнаваемости телами. То и дело к трупам нормандцев присоединялся очередной мертвый сакс, но брешей в стене щитов так и не появилось, и топоры, взлетая, опускались с прежней яростью.
Сакс, стоявший в первом ряду, вдруг бросился прямо на герцога, изо всех сил ударив топором огромного испанского жеребца под ним. Тот, заржав в предсмертной агонии, упал; герцог успел соскочить, так и не выпустив из рук булаву, и нанес нападавшему удар, который в лепешку смял его бронзовый шлем, отчего противник бездыханно повалился на землю. На миг перед герцогом промелькнуло чужое лицо, поразительно похожее на эрла Гарольда; откуда-то со стороны вдруг докатился отчаянный крик:
– Гирт! Гирт!
Из рядов саксов вырвался молодой человек и упал на колени рядом с мертвым телом. На него с криком налетел рыцарь.
– Сан-Маркуф! Сир Сан-Маркуф!
Но чудовищной силы удар топора разрубил его почти надвое. Еще несколько мгновений Рауль видел, как молодой сакс отчаянно защищает тело Гирта; однако затем нормандцы сомкнулись вокруг него, и он, упав, исчез под копытами коней.
Из сотен саксонских глоток вырвался яростный рев, который прорезал чей-то одинокий голос:
– Гирт и Леофвин! Оба, оба! Ату, нормандские душегубы! Ату!
Герцог поскользнулся на омерзительной каше лошадиных внутренностей и схватил под уздцы проезжавшего мимо жеребца. В седле сидел какой-то рыцарь из Мэна; он попытался оттолкнуть герцога, крича:
– Отпусти мой повод! Богом прошу, дай мне проехать!
Мышцы на руке Вильгельма напряглись словно стальные канаты. Он рванул упирающегося жеребца на себя.
– Кровь Христова, разуй глаза! Я – твой сюзерен! – сказал герцог. – Слезай! Я – Нормандец!
– Сейчас каждый за себя! Не слезу! – бесстрашно отмахнулся рыцарь.
Глаза герцога яростно блеснули.
– Ах ты собака!
Схватив рыцаря за пояс, он с легкостью выдернул его из седла, словно тот был не тяжелее пушинки. Отчаянный вояка кубарем покатился по земле; герцог же запрыгнул жеребцу на спину и вновь рванулся в самую гущу свалки.
Прямо перед ним затрепетали ласточки на знамени Гийома Мале; откуда-то из центра шеренги до него докатился яростный боевой клич рыцарей Сингуэлица – «Тюри!». Совсем рядом солдаты призывали Сен-Обера, своего святого покровителя. Шум схватки перекрыл голос лорда Лонгевилля:
– Жиффар! Жиффар!
Это старый Вальтер, пешим порядком сражавшийся с тремя саксами сразу, был ранен и упал на колени, успев выкрикнуть свой клич.
Герцог, пробившись сквозь столпотворение, атаковал врагов лорда Лонгевилля.
– Поднимайся, поднимайся, Вальтер, я с тобой! – окликнул он его.
Вот булава Вильгельма опустилась на деревянный шлем; мозги сакса брызнули на взрытую землю; лошадь под герцогом захрипела и попятилась, он твердой рукой усмирил ее; саксы бросились врассыпную, и Жиффар с трудом, но поднялся на ноги.
– Иди в тыл, старый боевой пес! – скомандовал ему герцог, перекрикивая шум боя.
– Ни за что! Пока я еще могу держать копье! – задыхаясь, крикнул в ответ Жиффар, затем схватил под уздцы пробегавшего мимо жеребца без всадника и вскарабкался в седло.
Тысячи саксов лежали мертвые на поле брани, но стена щитов стояла нерушимо, как и прежде. Полдень уже давно миновал, и солнце нещадно палило изнемогающих от жары ратников. Нормандская кавалерия, выбившись из сил, поредела; всадники откатились назад во второй раз, видя над собой изломанные, но все такие же непобедимые боевые порядки саксов.
Над долиной стоял тошнотворный запах крови; земля настолько пропиталась ею, что стала скользкой, и склон холма был усеян ужасными свидетельствами жестокой схватки: кистями, по-прежнему цепко сжимающими древки копий; целыми руками, отрубленными у плеча; головами, превращенными в бесформенную массу, с вытекшими мозгами. Здесь же лежал чей-то палец, вон там – лошадиное ухо, чуть дальше – половина лошадиной ноздри, когда-то отличавшейся бархатистой гладкостью, а теперь липкой от запекшейся крови.
Измученные и потрепанные эскадроны выстроились вне досягаемости метательных снарядов саксов, что продолжали лететь в их сторону. Рыцари сидели на своих лошадях неуклюже и понуро, словно мешки с мукой; сами же кони стояли, широко расставив дрожащие ноги; губы и уздечки их покрывала пена, а бока, разорванные шпорами всадников, пузырились кровью.
Все мысли об Эдгаре напрочь вылетели из головы Рауля, чему он был только рад. В мире осталась только кровь: фонтаном бьющая из разорванных артерий, медленно текущая из глубоких ран или засыхающая на обезображенных телах, коими было усеяно поле боя.
Хранитель выпустил скользкий повод, упавший на шею Бертолена, и попытался вытереть ладони о штаны. Он тупо спросил себя, кто из его друзей остался в живых; Раулю показалось, что в гуще боя он расслышал голос Фитц-Осберна, и тут же ему на глаза попались Грантмеснил и Сен-Совер, утиравшие пот со своих лиц.
Кто-то потянул его за рукав.
– Вот, глотни немного, – предложил Эйдес со свойственной ему флегматичностью.
Рауль поднял голову. Брат совал ему в руки бутылку с ушками для подвязывания к поясу; он был грязен до неузнаваемости и забрызган кровью, но при этом по-прежнему сохранял невозмутимость.
– Да благословят тебя все святые, Эйдес! – благодарно отозвался Рауль и сделал большой глоток крепкого вина. – Я устал как не знаю кто. И что теперь? Тебе все еще нравится война?
– По-прежнему, – безмятежно ответил Эйдес. – Но теперь у меня появился зуб на одного оболтуса из Ко, столкнувшего меня в ров во время последней атаки, так что меня едва не затоптали. Когда все это закончится, он дорого заплатит мне за свою выходку. У него на флажке изображена обрезанная по уши голова оленя. Ты, случайно, не знаешь его?
– Нет, – прыснув от смеха, ответил Рауль. – Не знаю.
Вдоль шеренги рыцарей галопом промчался всадник; бароны, совещавшиеся с Вильгельмом, разъехались к своим местам. По рядам прокатилась команда; эскадроны перестроились и застыли в ожидании.
Правое крыло двинулось в атаку вверх по склону, и то, что невольно случилось на левом фланге, теперь намеренно повторяли солдаты Булони под командой графа Евстахия. После яростного обмена ударом с английским ополчением войска́ дрогнули и сломали ряды, а потом побежали вниз по склону, изображая паническое отступление. Таны на вершине холма, разбросанные по позициям крестьян, тщетно пытались удержать их от преследования. Сервы обезумели от жажды крови; бойни на правом фланге они не видели, и теперь перед ними остался лишь бегущий враг. Не слушая своих командиров, сервы разразились торжествующими воплями и хлынули вниз, через бруствер, преследуя отступающих врагов. В воздух взлетели топоры, дубинки, дротики; тысячи крестьян самозабвенно кричали: «Виктория! Виктория! Ату их, ату! Мы победили!»
Нормандский центр вновь развернулся, перестраиваясь; громовой рев «С нами Бог!» заглушил крики ополченцев, и кавалерия обрушилась на фланг англичан. Нижние склоны холма моментально были усеяны телами павших; раненые корчились под копытами коней и пытались подняться на ноги; якобы панически отступающие солдаты остановились, развернулись и вновь бросились в атаку по всему фронту. Англичане с вершины холма видели, как сотнями гибнут ополченцы. Нескольким удалось бежать, кое-кто прорвался обратно на кряж, но на взрыхленной земле в лужах крови и внутренностей остались лежать тысячи трупов, раздавленных и обезображенных промчавшейся по ним кавалерией.
Однако удачная военная хитрость обернулась трагедией для правого фланга нормандцев. Мнимое паническое бегство тех, кто в деланном беспорядке отступал вниз по склону, вскоре превратилось в настоящее. Путь им преградила глубокая канава, вырытая у подножия холма и скрытая от глаз пластами дерна и зарослями кустарника; один за другим нормандцы валились в нее, пока она до отказа не заполнилась массой тел, пытающихся выбраться наружу. Всадники, скакавшие позади, не смогли остановить бега своих коней и промчались прямо по ним, раздавив десятки своих же товарищей, перебивая позвоночники, круша черепа и ломая им руки и ноги. Те, кто оказался на дне рва, погиб от удушья, и тела их были раздавлены тяжелой массой навалившихся сверху людей и лошадей.
Восторженные крики прокатились по рядом саксов. Они сильно поредели, но плотная масса воинов вокруг штандартов по-прежнему стояла насмерть. Ров был завален павшими, бруствер с заграждениями разрушен и растоптан, однако нормандскую армию все так же была готова встретить стена щитов.
Теперь начались атаки на центр обороны англичан. Одна волна нападающих накатывалась за другой; нормандские кони перепрыгивали через заваленный трупами ров; копья и мечи сталкивались с топорами; шеренга англичан прогибалась под натиском нормандцев, но всякий раз успех был временным и кавалерия вынужденно отступала с тяжелыми потерями.
Под Вильгельмом убили второго коня; граф Евстахий, в горячке боя оттесненный с правого фланга, оказался рядом с ним и предложил герцогу своего жеребца.
– Берите моего, Нормандец, – сказал он, слезая с седла. – Если армия не увидит вас живым и верхом на коне, битва проиграна. Кровь Христова, эти саксы будто сделаны из железа! Неужели они так никогда и не дрогнут?
Щиты саксов плясали перед глазами нормандцев; варварские цвета смешивались и двоились в жарком мареве; ряды стояли насмерть; лезвия топоров, покрасневшие от крови, взлетали и опускались с такой силой, что одним смертельным ударом рассекали хауберк и плоть под ним. Шлем герцога покрылся вмятинами; удар копья едва не пронзил его насквозь; саксонский клинок вспорол брюхо его третьему коню, и тот повалился с жалобным ржанием, едва не придавив собой седока. Но герцог успел выдернуть ноги из стремени и спрыгнул; над ним вдруг встал на дыбы чей-то жеребец, грозя копытами размозжить ему голову, однако всадник с такой силой натянул поводья и развернул его, что конь, присев на задние ноги, чуть не опрокинулся.
– Кровь Христова, монсеньор! – Рауль спрыгнул с седла, стоило герцогу встать. – Я едва не затоптал вас своим конем! В седло! Берите повод! – Он сунул уздечку в руки Вильгельма и побежал назад, виляя и уклоняясь, чтобы не быть сбитым скачущими навстречу всадниками.
Кавалерия вновь отступила; герцог приказал своим лучникам выдвинуться на передовые позиции, и в саксонские ряды полетели стрелы. Но очередной град метательных снарядов отогнал стрелков; они отступили в тыл, а по склону в атаку вновь пошла конница.
В течение примерно часа кавалерийские атаки чередовались с огнем лучников; запасы метательных снарядов у саксов иссякли; пока лучники натягивали тетивы и спускали стрелы, английские шеренги неподвижно стояли в полном молчании, а кавалерия у подножия холма собиралась с силами для очередного штурма.
Солнце багровым шаром опускалось за деревья на западной стороне неба. Отчаянная битва продолжалась весь день и стихать пока не собиралась. Саксы стояли насмерть, явно рассчитывая продержаться до наступления ночи или же до тех пор, пока к ним на помощь не подойдут запоздавшие подкрепления Эдвина и Моркара. Их оборонительные порядки выглядели жалко, зияя огромными брешами; укрепления были разрушены, фланги сметены начисто, но штандарты по-прежнему упрямо реяли на самой высокой точке холма, и таны стояли вокруг них неприступной стеной.
Ральф де Тони, взглянув на солнце, заметил:
– Через час наступит темнота, а у нас почти не осталось сил. Они – сущие дьяволы, эти саксы!
– Их топоры вселяют ужас в наших людей, – обронил Грантмеснил, перетягивая шарфом свежую рану на руке. – А герцог лишь напрасно тратит стрелы: они застревают в саксонских щитах, не причиняя врагу вреда.
Вильгельм, пришпорив коня, приблизился к лучникам; их командиры бросились к нему навстречу и остановились у его стремени, слушая, что он им говорит. Герцог сделал нетерпеливый жест, схватил лук и натянул его, показывая лучникам, чего от них хочет. К нему подъехал Фитц-Осберн, о чем-то встревоженно спросил его, и капитаны побежали вдоль строя своих стрелков, объясняя что-то и наставляя их.
Теперь лучники нацелили свои стрелы высоко в небо. Они взлетели вверх, минуя первый ряд щитов, и смертельным дождем обрушились на танов в самом сердце обороны.
У саксов же запасы метательных снарядов иссякли; им ничего не оставалось, как просто стоять стиснув зубы, а падающие сверху стрелы выкашивали их ряды. Когда и у лучников закончились стрелы, они отступили назад, чтобы вновь наполнить колчаны, а кавалерия в очередной раз устремилась вверх по склону в атаку на поредевшие ряды. И вновь зазвенела сталь, и вновь оборонительные шеренги прогнулись, но выровнялись, отражая штурм. Конница билась об стену англичан, не в силах прорваться сквозь нее; саксы стояли плечом к плечу сплошной массой, так что им уже трудно было размахивать оружием. Рыцари опять отступили; на обороняющихся вновь обрушился град стрел, сея бесшумную смерть.
Перерывы между атаками губительно сказывались на и без того натянутых нервах саксов. Они видели, как у подножия холма нормандская кавалерия выстраивается в боевые порядки позади лучников, ожидая, пока те вновь не израсходуют запас стрел. Эти моменты напряженных молчаливых пауз были куда страшнее самых яростных атак. Саксы стояли не шевелясь. Под срезами шлемов виднелись хмурые, осунувшиеся лица, изможденные усталостью и долготерпением, и глаза, провожающие взглядами последние лучи заходящего солнца. Отупевшие от утомления головы сверлила одна-единственная мысль: осталось совсем немного, еще чуть-чуть, и все.
Над болотами в долине поднимался густой сырой туман; на поле брани наползала серая тень, несущая с собой ночную прохладу. Град стрел оборвался; по рядам саксов прокатился вздох; воины перехватывали щиты поудобнее, упираясь ногами во взрытую землю и готовясь отразить очередную атаку.
Кавалерия с грохотом и лязгом помчалась вверх по склону; ряды саксов содрогнулись от таранного удара; почти единственным движением в их войске стало падение мертвых тел.
А нормандцы были измотаны ничуть не меньше англичан. Лишь немногие сражались с прежней ловкостью и отвагой; среди них – сам герцог, его сенешаль, лорд Мулен, с ног до головы забрызганный кровью тех, кого зарубил на поле боя, и Роберт де Бомон, силы и отвага которого казались неистощимыми. Но бо́льшая часть бойцов билась уже по инерции, словно лунатики, механически отражая удары и совершая выпады.
У Рауля не осталось сил держаться рядом с герцогом; Мортен же упрямо не отходил от него ни на шаг, а вот Хранителя постепенно оттеснили в сторону. Но ему было уже все равно, и в висках у него стучала одна мысль: я должен убивать, или убьют меня. Его охватила вялая безрассудная ярость, придавшая новые силы его усталым мышцам. С меча его капала кровь, рукоять липла к ладоням, а руны исчезли под коркой, в которую превратилась засохшая кровь. Вот, вырвавшись из толчеи, к нему бросился какой-то сакс; Рауль увидел блеск ножа, устремившегося к брюху его коня, и с размаху ударил мечом сверху вниз, яростно зарычав и переехав конем еще дергающееся в агонии тело. Копыта жеребца Хранителя скользили и разъезжались в лужах крови и внутренностей, конь в ужасе фыркал, раздувая ноздри и бешено вращая расширенными зрачками; Рауль направил его прямо на стену щитов впереди, восклицая «Харкорт! Харкорт!».
Ему навстречу метнулся щит; перед утомленным взором расплылось знакомое осунувшееся лицо с ввалившимися от усталости щеками; глаза, которые он так хорошо знал, на краткий миг встретились с ним взглядом. Он уронил руку с мечом.
– Эдгар! Эдгар!
Чья-то лошадь оттеснила в сторону коня Рауля; он не скоро опомнился, бледный как смерть и дрожащий словно в лихорадке. Вокруг него свирепствовала сеча; по его щиту скользнуло копье; Хранитель машинально парировал удар.
И вдруг общий шум прорезал голос графа д’Э:
– Нормандия! Нормандия! Убивайте за Нормандию!
– Да, – тупо подхватил Рауль. – За Нормандию! Я тоже нормандец… нормандец…
Он крепче стиснул рукоять меча; рука, казалось, налилась свинцом до самого плеча. Перед его глазами возник чей-то смутный силуэт, он ударил наискось, не целясь, и фигура повалилась на землю.
Какой-то ожесточенный шум привлек его внимание, и он скосил глаза налево. Там Роже Фитц-Эрней, отбросив копье, вооружился щитом и мечом и, словно обезумев, направил своего коня прямо на шеренгу саксов. Он прорвался через нее; Рауль видел, как Роже отчаянно орудует клинком, рубя направо и налево. Вот он пробился к самому штандарту и перерубил древко. Но к нему тут же устремилась дюжина копий, и он упал.
Его героическая попытка вдохнула мужество в сердца нормандцев; они вновь устремились вперед, и саксы, наконец дрогнув, попятились под их натиском, пока ряды обороняющихся и наступающих не сошлись в такой тесной давке, что раненые и мертвые не могли упасть на землю, зажатые между еще живыми товарищами.
Жеребец Рауля споткнулся о труп какой-то лошади, передние ноги его подогнулись, и он упал, сбросив седока вперед, через голову. Хранитель едва не угодил под копыта коня лорда Боэна, однако успел вскочить и отпрыгнуть в сторону. До слуха Рауля донесся зов труб; кавалерия отступала; он вдруг обнаружил, что весь дрожит и качается, словно пьяный.
Хранитель побрел вниз по склону холма, спотыкаясь об останки, которыми тот был усеян. В глаза ему бросилась чья-то отрубленная голова, лежавшая в выемке так, словно росла в ней; остекленевшие глаза невидяще уставились на него, а губы разошлись в зловещей мертвой ухмылке, обнажая окровавленные зубы. Рауль засмеялся нервическим, припадочным смехом. Кто-то схватил его за руку и потащил за собой; перед ним замаячило лицо Жильбера Дюфаи.
– Рауль! Рауль! Прекрати, ради Бога!
– Но я ведь знаю его! – возразил Рауль. Он ткнул дрожащим пальцем в сторону жуткой головы. – Говорю тебе, я знаю его, а теперь он лежит там. Смотри, это же Ив де Бельмонт!
Жильбер встряхнул молодого человека.
– Прекрати! Прекрати, идиот! Идем отсюда! – И он силой потащил друга вниз по склону.
Лучники выдвинулись вперед, и стрелы, вновь взмыв в воздух, отвесно обрушились на танов. Дневной свет померк, сгущались сумерки, поэтому раскрашенные щиты превратились в темные пятна, преграждавшие путь к врагу. Из двадцати тысяч человек, которых привел с собой на битву Гарольд, осталась жалкая горстка. Ополчение было вырублено едва ли не подчистую; более половины танов уже простерлись на земле, раненые, мертвые или умирающие; вокруг штандартов остатки войска саксов приняли последний бой.
Но в конце концов стену саксонских щитов прорвала не нормандская кавалерия, а одна-единственная случайная стрела. Крик горя и отчаяния прокатился по рядам саксов: король Гарольд упал мертвый у основания своего штандарта.
Воины опускались на колени рядом с его телом, горестно окликая своего вожака по имени. Но он был уже мертв; смерть наступила мгновенно. Стрела, скользнувшая в темноте, пробила ему глаз и вошла в мозг. Его подняли на руки; саксы не могли поверить в то, что он мертв. Кто-то, вытащив стрелу, попытался остановить кровь; Гарольда гладили по холодеющим рукам, умоляя заговорить. И все это время с неба смертельным дождем продолжали падать стрелы.
– Он мертв. – Один из хускарлов отпустил безвольную руку, которую сжимал в ладонях. – Мертв, и битва проиграна!
– Нет, нет! – Эльфвиг, дядя эрла, обхватил тело Гарольда обеими руками. – Он не мог умереть! Только не сейчас, когда конец уже так близок! Гарольд, не молчи! Говори, заклинаю тебя! Не для того ты прожил весь этот день, чтобы умереть вот так! Неужели все было напрасно? Увы мне, увы! – Он, выпустив тело из рук, вскочил на ноги. – Все кончено! Король, ради которого мы сражались и погибали, мертв, и у нас не осталось другой надежды, кроме как сражаться до конца! Кого мы теперь охраняем? Никого, потому что Гарольд погиб! – Эльфвиг шагнул вперед, пошатнулся и наверняка бы упал, потому что был тяжело ранен, если бы его не подхватил оказавшийся рядом тан.
Наступавшие снизу нормандцы увидели, как ряды саксов у них над головой дрогнули; лучники отошли назад, и началась последняя атака. Гийом Мулен-ля-Марш, выкрикивая свой боевой клич, повел отряд рыцарей прямо на саксонские щиты со свирепой яростью, которая позволила им прорваться сквозь строй врагов к древкам штандартов.
А саксы уже разбегались с вершины холма. Лорд Мулен перерубил древки, они упали, и восторженный рев прокатился по рядам нормандцев. Золотистый стяг Гарольда лежал на земле, быстро набухая кровью и грязью; двое рыцарей, охваченные безумной яростью, не уступавшей бешенству их лорда, принялись рубить мечами бездыханное тело эрла.
Остатки саксонского войска спасались бегством, направившись на север, к густым лесам, начинавшимся сразу же за холмом. Его склон был не пологим, а обрывистым, и у подножия притаился глубокий овраг. Таны стремительно сбега́ли вниз, цепляясь за траву; нормандская же кавалерия, с разбегу перескочив бруствер, устремилась за ними в погоню, не разглядев в сумерках подстерегавшую их опасность. Края предательского оврага осы́пались под весом лошадей и всадников, и они кубарем покатились на самое дно, где саксы, остановившись и собравшись с силами в последний раз, в краткой стычке зарубили всех до единого. Затем, не дожидаясь, пока к врагу подоспеют подкрепления, они растворились в темноте, и густые леса поглотили их, скрыв от посторонних глаз.
Глава 5
Шум скоротечной схватки у подножия холма достиг ушей тех, кто стоял наверху, и вселил неподдельную тревогу, по крайней мере, в одного из них. Граф Евстахий Альс Гренон, решив, что это подошли ополченцы Эдвина и Моркара, верхом подъехал к герцогу бледный от страха и, схватив под уздцы его коня, настоятельно посоветовал Вильгельму укрыться в безопасном месте.
Но герцог стряхнул его руку и, окинув графа полным невыразимого презрения взглядом, приказал разбить свой шатер на том самом месте, где весь день реял штандарт Гарольда.
– Расчистите мне место, – распорядился он. – Я проведу ночь здесь.
Слуги уже принялись за дело, когда к ним, кипя от негодования, подъехал лорд Лонгевилль.
– Монсеньор, что это вы затеяли? – спросил он. – Неужели вы не придумали ничего лучше, чем остановиться на этом кладбище? Вам следует расположиться на ночь где-нибудь в другом месте, под охраной тысячи или двух солдат, потому что мы не знаем, какие еще опасности могут подстерегать нас. Кроме того, здесь, среди павших, лежит много саксов, истекающих кровью, но еще живых, и они с радостью отдадут свою жизнь за возможность убить вас. Уйдемте отсюда, сеньор!
– Ты что, боишься, Вальтер? Я – нет, – холодно ответил герцог. – Можешь присоединиться к Альс Гренону, если тебе страшно. – Окинув взглядом поле брани, он гневно добавил: – Скажи командирам, пусть следят за своими людьми. Я не потерплю мародерства. Каждая сторона должна похоронить своих павших, но ты найдешь тело эрла Гарольда и со всеми почестями доставишь к моему шатру. Рауль, ты мне нужен.
Прошел еще целый час, прежде чем Рауль освободился вновь. Сняв доспехи, он смыл с себя пот и кровь. Его оруженосец, ретивый молодой парнишка, буквально обожающий хозяина, принес ему воды, чистую шерстяную тунику и длинную алую мантию.
Затягивая пояс, Рауль кивнул на груду грязной одежды, лежавшую в углу палатки, и коротко распорядился:
– Сожги ее. Хауберк тоже выброси; он пробит на плече. Ты почистил мой шлем?
Оруженосец без слов протянул ему шлем и меч, уже начищенные до блеска.
– Молодец. Застегни на мне перевязь. – Рауль встал и накинул себе на плечи мантию, скрепив ее застежкой на груди, пока оруженосец опустился на колени, поправляя меч на его поясе.
Герцог ужинал в компании своих братьев и графов Евстахия, Алена и Хайме. Шатер освещали свечи, а к столу подавали такие блюда, словно герцог находился в одном из своих дворцов. Войдя сюда, невозможно было представить, что вокруг лежат груды мертвых или умирающих людей на изрытой и залитой кровью земле. Герцог, усталость которого выдавала лишь его немногословность да скорбная складка меж бровей, ел и пил мало, зато благородные графы, уловив ароматы специй, которыми были щедро сдобрены кушанья, жадно причмокивали губами, стараясь хотя бы за пиршеством позабыть о тяготах минувшего дня.
Рауль, улизнув из шатра при первой же возможности, зашагал между палаток к тому месту на холме, где, как ему казалось, в гуще боя он в последний раз видел Эдгара.
С собой Хранитель прихватил светильник из рога да деревянную бутылку с вином для подвешивания к поясу. По всему склону метался свет факелов и светильников, взошедшая луна заливала холодным призрачным светом тела павших, превращая их в нереальные силуэты из ночных кошмаров.
Рауль заметил, что среди раненых ходят священники и монахи, как английские, так и нормандские. Какой-то монах из Бека поднял на него глаза, когда он проходил мимо, и, узнав, посоветовал не бродить по полю брани безоружным.
– Многие саксы еще живы, мессир Рауль, – сказал он, – а это опасные люди.
– Я не боюсь, – ответил Рауль, направив свет своего факела на скорчившуюся фигуру, лежавшую лицом вниз у его ног. Широкие плечи живо напомнили ему Эдгара; Рауль наклонился и дрожащей рукой перевернул тело. Нет, не Эдгар. Облегченно вздохнув, Хранитель двинулся дальше.
Вдруг нога его поскользнулась на чем-то; он знал, на чем именно, но сегодня видел и пролил столько крови, что вид ее более не внушал ему отвращения. Хотя, быть может, Рауль слишком устал, чтобы обращать внимание на такие вещи. Только теперь он заметил, как ноют у него руки и ноги, а веки налились тяжестью. Сейчас ему больше всего на свете нужен был сон, сон и забытье, но им придется подождать, пока он не выяснит, что сталось с Эдгаром. В груди его теплилась зыбкая надежда, что Эдгар мог оказаться среди тех, кому удалось скрыться в северных лесах. Рауль уже долго бродил в поисках того проклятого места, но все было тщетно. Как будто в мире не осталось ничего, кроме тел павших, навеки застывших под звездами. Их были тысячи, высоких и низкорослых, молодых и старых – тысячи саксов, но Эдгара среди них не оказалось.
Кое-где украдкой сновали наемники, снимая с трупов украшения и драгоценности. «Нет, – думал Рауль, – такую армию, как наша, удержать от мародерства невозможно».
Он прошел мимо священника, стоявшего на коленях рядом с умирающим хускарлом. Святой отец проводил его взглядом, в котором читалась легкая тревога, зато глаза воина сверкнули ненавистью. Рауль увидел, как рука его поползла к ножу на поясе; из ноздрей и рта у него хлынула кровь; в следующий миг он бессильно откинул голову и умер, а священник бережно закрыл его глаза.
На холме царила тишина, особенно жуткая и непривычная после шума и лязга, звучавших здесь целый день. Единственным звуком, нарушавшим ее, был легкий стон, исходивший, казалось, от самой земли. Иногда он обретал силу одинокого голоса; иногда чье-нибудь растерзанное тело начинало шевелиться, шепча «Воды! Воды!», но по большей части звуки оставались смутными и неясными, составленными из множества невнятных оттенков.
Чья-то рука вцепилась в лодыжку Рауля, однако в негнущихся пальцах уже не было силы. Молодой человек заметил, как блеснуло в лунном свете стальное лезвие, однако нож упал на землю. Хранитель поспешил дальше. Вот еще что-то зашевелилось у самых его ног; он направил туда свет факела и увидел чье-то изуродованное, но еще живое тело. Рауль перешагнул через него; подобное зрелище более не могло ужаснуть его или вызвать отвращение. Хранитель вспомнил, как его стошнило на Валь-э-Дюн при виде куда менее жестоких ран, и решил, что он или очерствел душой или же усталость притупила его нервы. «Если только я буду уверен, что Эдгар скрылся с поля битвы, мне не будет дела до тех, кто еще остался лежать здесь, в долине Сенлака», – подумал он.
А потом Рауль нашел Эдгара. Стоило ему увидеть его, как он понял – все это время знал, знал с того самого момента, когда давным-давно в Руане его посетило предвидение, что именно так все и случится. Он найдет Эдгара лежащим у своих ног, со светлыми волосами, перепачканными засохшей кровью, и безвольными руками и ногами, раскинутыми в стороны.
Упав на колени, Рауль бережно приподнял Эдгара, пытаясь расслышать биение сердца под разорванной кольчугой-бэрни. В свете факела, воткнутого им в землю рядом с собой, были видны многочисленные раны, из которых текла кровь. На лбу Эдгара меч оставил глубокий порез, кровь из него запачкала волосы и стекала вниз по виску; бородка его слиплась от нее.
Раулю вдруг показалось, что кончиками пальцев он ощущает слабое трепетание сердца. Он сорвал с пояса бутылку и прижал горлышко к губам Эдгара. Вино медленно потекло струйкой по стиснутым зубам, собралось в уголках губ и пролилось на грудь.
Рауль отставил фляжку в сторону и быстро отстегнул от плеч мантию, после чего одной рукой свернул ее наподобие подушки и подложил Эдгару под голову. Опустив на нее друга, принялся отрывать полосы от своей туники, чтобы перевязать его глубокие раны. Эдгар пошевелился и поднес руку к голове. Рауль наклонился над ним, силясь разобрать произнесенные слабым шепотом слова.
– Что-то попало мне в глаза… Я не могу открыть их.
Рауль стер с век кровь и, как мог, забинтовал рану на лбу друга. Взяв Эдгара за руки, принялся растирать их. Язык Хранителя онемел от горя, но в глубине души уже поселилась обреченность. Он вновь взялся за бутылку и силой влил еще немного вина в горло Эдгара.
Голубые глаза сакса широко открылись; Эдгар в упор взглянул на Рауля.
– Фирд не устоял, – сказал он.
– Знаю, – ответил Рауль. Голос его прозвучал негромко и уверенно. – Не думай об этом. – Оторвав от своей туники очередную полоску, он попытался остановить кровь, что текла из глубокой раны на плече Эдгара.
В глазах сакса засветилось прояснение памяти.
– Рауль, – сказал он. – Я видел тебя. Ты ехал на меня, твое копье против моего топора; все, как ты когда-то и говорил. Как давно это было!
– Я узнал тебя, только когда подъехал вплотную. Ох, Эдгар, Эдгар! – Рауль понурился и сокрушенно покачал головой.
– Что ж, все уже кончилось, – задумчиво проговорил Эдгар. – Гарольд погиб. – Сакс повернул голову, словно пытаясь унять внезапный приступ боли. – Вскоре я тоже пойду лебединой тропой вслед за ним.
– Никуда ты не пойдешь! – Рауль принялся разрезать тонкие кожаные ремни, стягивающие кольчугу-бэрни Эдгара. – Нет, Эдгар, нет! Ты не умрешь! – Но Хранитель понимал, что говорит неправду. Он знал, уже нет смысла перевязывать раны или пытаться влить вино между этих крепких зубов.
Эдгар же продолжал:
– Помнишь, как я однажды сказал тебе, что герцог Вильгельм получит трон только через наши трупы? Это было много лет тому; не знаю точно, когда именно. Но теперь ты сам видишь, что так оно и получилось. – Он умолк, и глаза его закрылись. Рауль снял с него кольчугу и теперь пытался остановить кровь, текущую сразу из трех ран. – Оставь это, Рауль. О Боже, неужели ты думаешь, что я хочу жить?
Рауль взял его за руку.
– Я не могу позволить тебе умереть. Я все понимаю… Можешь ничего не говорить мне. Я тоже хочу умереть, потому что сердце мое давно мертво!
– Нет. – Эдгар приподнялся на локтях. – Нет, ты не должен умирать. У тебя есть Эльфрида. Позаботься о ней. Обещай мне! У нее больше никого не осталось. Мой отец погиб вместе с дядьями, они сражались рядом. Я – последний. Это было уже слишком, и Господь разгневался. Тостиг пришел вместе с Гардрадой. Мы разгромили их и убили под Стэмфордом. Это было давно. – Эдгар поднес руку к лицу. – Борода у меня вся липкая – а, это же кровь! Впрочем, какая разница? Я надеялся, что ты придешь, Рауль. Дружба и вправду способна выдержать любые испытания. Когда мы узнали о вашей высадке, я подумал, между нами все кончено, но теперь все изменилось, или же я просто слишком устал, чтобы ненавидеть. – Он накрыл руку Рауля своей безжизненной ладонью. – Мы шли к Лондону, лига за лигой. Не помню. Спустя какое-то время я видел только дорогу, которая все тянулась и не кончалась. А потом мы отправились на юг, не дожидаясь Эдвина и Моркара. Гарольд помолился в своем аббатстве в Уолтеме, и тогда мы поняли: Господь разгневался, потому что, когда эрл вышел, башня церкви обрушилась. Гирт готов был повести армию вместо него, но он не мог допустить этого. – Из уголка губ Эдгара побежала тоненькая струйка крови. – Как же здесь холодно… А солнце садилось так медленно. Нам была нужна темнота, и мы молились, каждый из нас по отдельности, чтобы Господь послал нам ее вовремя. Но Он разгневался и задержал приход ночи. Если бы только Эдвин и Моркар остались верны нам! Если бы Гарольд не погиб! Мы могли бы продержаться до темноты! Могли, Рауль!
– Знаю. Никто и никогда не сражался так доблестно, как вы. – Рауль вновь приподнял Эдгара и, прижимая к груди, другой рукой закутал его в свою алую мантию.
– Нас оттеснили, но щиты не сломались, так ведь? Ты помнишь Эльфрика? Он дрался рядом со мной, и его убило стрелой, но давка была такая, что он не мог упасть. Это был уже почти самый конец, там, возле штандарта. Теркилл сказал, битва проиграна, но это было не так. Мы бы победили, если бы удержали холм, и Гарольд остался бы жив, пусть даже мы не могли пошевелиться в этой давке. – Дрожь пробежала по его телу. – Хуже всего было, когда начали падать стрелы. Однако сумерки сгущались, и мы думали… Но потом Гарольд все-таки погиб. Вильгельм хитро придумал, когда приказал стрелять вверх.
Глаза Эдгара закрылись; казалось, он погрузился в забытье. Кровь уже проступила сквозь повязку у него на лбу и теперь вновь потекла по лицу. Рауль опустил друга на землю, попытавшись потуже затянуть ткань. Эдгар жалобно застонал и очнулся; Рауль увидел, что он улыбается.
– Гарольд отправил двух лазутчиков наблюдать за вашим лагерем. Они вернулись с донесением: герцог собрал целую армию священников, потому что волосы у вас коротко подстрижены, а бород нет вовсе… гололицый.
Рауль не мог говорить. Спустя несколько мгновений Эдгар сказал:
– Я видел Фитц-Осберна. И Нееля. Они живы?
– Да, они остались живы, – прошептал Рауль.
– И Жильбер тоже? Я рад. Они были моими друзьями. Не Эльфрик, и не Теркилл. Все эти годы, что я провел в Нормандии, мне так хотелось вернуться домой, но, когда герцог отпустил меня, здесь все изменилось… хотя, может, это изменился я сам. Не знаю. Скоро я умру, и все кончится… вся эта тоска, и боль в сердце, и горечь. – Он, глядя на Рауля, широко открыл глаза. – Я бы убил даже тебя, если бы это уберегло Англию от герцога Вильгельма. Но я не смог; ничего не вышло у самого Гарольда. Я ненавидел вас. Я ненавидел всех нормандцев, которых когда-либо знал. Я хотел только одного: убивать и убивать, не щадя никого из вас. – Эдгар вздохнул, и голос его понизился до шепота. – Но сейчас я очень устал, и ты рядом, и теперь я помню только, как мы ездили в Харкорт, и как твой отец подарил мне птенца сокола, и как мы охотились в Кевийи, и как ты сунул мне того мальчишку, когда мы захватили город в Бретани. – Он, нашарив руку Рауля, легонько пожал ее и снова вздохнул, почти удовлетворенный. – Я пытаюсь думать об Англии, какой она будет под пятой Вильгельма, но не могу. Я в состоянии думать только о том, как мы шутили друг над другом в Руане, как ты называл меня Als Barbe и варваром, ты и Жильбер. – Сакс негромко рассмеялся, но смех его перешел в кашель, а изо рта хлынула кровь.
Рауль бережно вытер ему подбородок.
– Ох, Эдгар, мой сердечный друг, уходя по лебединому пути, возьми с собой только эти мысли и никаких других! – сказал Хранитель.
Руки друга стали очень холодными в его ладонях; он попытался согреть их у себя на груди.
– Эльфрида… – едва слышно прошелестели губы Эдгара.
– Я позабочусь о ней, – решительно заявил Рауль. – Я отдам за нее жизнь. Ты знаешь об этом.
– Да. Ты говорил, что получишь ее, несмотря ни на что. И так и будет. Что ж, я всегда мечтал о том, как назову тебя братом. – У Эдгара перехватило дыхание; он попытался приподняться на локте. – Но теперь я не смогу сделать этого: уже слишком поздно. Но ты будешь добр к ней и, пожалуй, так даже лучше. – Задыхаясь, Эдгар все-таки приподнялся на локте; он смотрел куда-то мимо Рауля, и глаза его расширились; сделав над собой чудовищное усилие, Эдгар освободился из объятий Рауля. – Осторожно, Рауль! Берегись! – крикнул он и упал спиной на землю.
Рауль невольно оглянулся. К нему ползла какая-то темная тень; в свете факела блеснуло лезвие ножа. Хранитель схватился за него, почувствовал, как сталь режет ему руку, перехватил запястье и резко вывернул его. Нож упал на землю, Рауль, отбросив нападавшего в сторону, поднял клинок. Не беспокоясь более о том, что неизвестный сакс может вновь напасть на него, он поспешно обернулся к Эдгару.
Но, еще не успев коснуться его, понял, что тот мертв. Эдгар отдал последние силы, чтобы предупредить своего друга-нормандца об опасности, грозившей Раулю от руки одного из англичан.
Рауль еще долго сидел рядом, держа безжизненную руку друга. Несмотря на кровь, обезобразившую его лицо, он выглядит умиротворенным, решил Хранитель.
В сердце у него поселилась тоска, но он знал: будь у него возможность вернуть Эдгара к жизни, он не стал бы этого делать. Ничто более не удерживало Эдгара здесь, на земле; все, к чему он стремился, ушло вместе с Гарольдом. Саксонская Англия умерла на поле Сенлака; сейчас рождалась нормандская Англия, и в ней не было места таким, как Эдгар.
Вот к чему привела их дружба: к горечи, кровопролитию и смерти. Рауль бережно опустил руку Эдгара на землю и закутал его в свою алую мантию. Ее полой он прикрыл ему лицо: не таким он хотел запомнить своего друга, израненным и залитым кровью.
К Раулю приближалось пятно света; он выпрямился и, скрестив руки на груди, стал ждать. Факел нес саксонский монах, медленно пробиравшийся по полю, помогая раненым и отпуская грехи умершим. Судя по его черному капюшону и белой рясе, он принадлежал к ордену бенедиктинцев. Заметив незнакомого рыцаря, неподвижно застывшего подле мертвого тела, он остановился, с некоторым испугом глядя на него.
Рауль обратился к нему по-латыни:
– Идите сюда, святой отец. Я не причиню вам зла; я пришел не для того, чтобы мародерствовать.
– Я и сам это вижу, сын мой, – ответил монах, подходя ближе. – Но увы! Среди вас нашлись многие, кто не чурается обобрать мертвых.
– Многие, – согласился Рауль и опустил взгляд на закутанное в мантию тело Эдгара. Монах, с любопытством наблюдая за ним, подумал, что никогда еще не видел такой печали у кого-либо на лице. – Святой отец, вы знаете деревню под названием Марвелл? По-моему, она находится неподалеку от Винчестера.
– Я хорошо знаю ее, – отозвался монах.
– Вы сможете отвезти туда тело и похоронить его там?
– Конечно, сын мой. – Голос монаха прозвучал торжественно и строго. Рауль поднял на него глаза, и праведник заглянул в них, после чего подошел еще ближе и поднял факел выше, глядя Раулю в лицо. – Чье тело я должен отвезти в Марвелл? – спросил он.
– Тело, которое лежит у ваших ног, святой отец. Это – Эдгар, тан Марвелла. – Рауль смотрел, как монах опускается на колени и откидывает в сторону полу мантии, чтобы взглянуть на лицо Эдгара. – Закройте его, – сказал Рауль. – Но потом смойте с него кровь. – Заметив, что монах начал молиться, Хранитель подождал, пока тот вновь не встал на ноги. – Вы передадите тело его сестре, – сказал он. – Я не хочу, чтобы она видела эти уродливые раны. Вы омоете их?
– Будь покоен, сын мой, мы сделаем все, чего ты желаешь, – ответил монах. Голос у него был добрым; он явно спрашивал себя, что кроется за такой просьбой и почему нормандский рыцарь проявляет столь большой интерес к этому тану.
Рауль снял с пояса кошель и протянул его священнику.
– У вас возникнут расходы на дорогу, – пояснил он, – а еще я хотел бы заказать мессы за упокой его души. Вы возьмете у меня деньги?
Монах заколебался.
– Прошу вас, возьмите, – взмолился Рауль.
Уронив кошель в подставленную ладонь священника, он вновь опустился на колено рядом с Эдгаром. Приподняв край мантии, Хранитель долго всматривался в лицо друга. Кровь и раны, поблекнув, исчезли; он видел перед собой лишь спящего Эдгара, не более того.
– Прощай! – негромко сказал Рауль. – Когда мы снова встретимся, между нами не будет ни горечи, ни вражды, ни печали. Прощай, мой лучший друг!
Он выпрямился; к ним подошли двое послушников и остановились, тупо глядя на него. Рауль спросил:
– Они позаботятся о теле?
– Они перенесут его в безопасное место, сын мой, и уже оттуда оно будет доставлено в Марвелл. – Монах окинул взглядом порванную тунику Рауля и мантию, в которую был закутан Эдгар. – А твоя накидка? – с сомнением протянул он.
– Пусть он в ней и останется, – ответил Рауль. – Мне она больше не нужна.
Повернувшись, он медленно зашагал обратно к палаткам нормандского лагеря. Там горели огни, а вокруг костров на земле сидели и лежали люди. По пути к своей палатке Рауль прошел мимо двух таких групп. Солдаты выглядели усталыми, но довольными, посмеиваясь над своими ранами и обсуждая награды, которые получат сразу же после того, как герцог будет коронован.
Рауль, приподняв полог палатки, что он делил с Жильбером, вошел внутрь. Жильбер не спал, лежа на своем тюфяке, и, нахмурившись, разглядывал опорный шест. Завидев Рауля, он сел.
– Ага, вот наконец и ты, – сказал Жильбер. – Где тебя носило столько времени? Эй, да ты порвал свою тунику! – Внезапно во взгляде его вспыхнуло подозрение. – А где твоя мантия? Чем это ты занимался? – забросал он Рауля вопросами.
Рауль не ответил. Опустившись на край своего тюфяка, он уронил голову на руки, глядя на смятую траву под ногами.
– Понятно, – с сожалением протянул Жильбер. – Ты искал Эдгара. И как… нашел?
– Да.
– Рауль, он жив?
– Нет. Больше нет.
Жильбер с размаху ударил кулаком по своему тюфяку.
– Кровь Христова, я уже сыт по горло этой проклятой войной! – заявил он. – Земли в Англии? Мне они не нужны! У меня есть владения в Нормандии, которым нужен я, и вот что я тебе скажу, Рауль: когда герцогу надоест воевать, я вернусь к ним и постараюсь забыть об этих горестных и скорбных берегах. – Жильбер умолк и всмотрелся в Рауля через разделявшее их пространство. – Что там у тебя на руке? Да это же кровь!
Рауль опустил взгляд на свою ладонь.
– Да. Какой-то сакс подполз ко мне со спины, пока я стоял на коленях подле Эдгара. Эдгар увидел его и умер, предупреждая меня об опасности. – Между ними повисло долгое молчание; наконец Жильбер откашлялся, и Рауль поднялся, подавив зевок. – Знаю, – сказал он. – Дай мне свою мантию. Я должен вернуться к герцогу.
Жильбер кивнул туда, где она лежала.
– Ты отдал свою…
– Да, – безо всякого выражения подтвердил Рауль. – Ему было очень холодно. – Застегнув на плечах тяжелую накидку, Хранитель вышел из палатки.
У входа в шатер герцога его встретил Фитц-Осберн и схватил за руку.
– Вильгельм спрашивал о тебе, но я догадался, куда ты исчез, и сказал ему об этом. Рауль, ты нашел Эдгара?
– Да. Он мертв.
– Он умер до того, как ты подошел к нему? Рассказывай!
– Нет. Он был ранен, но еще жив.
– И ты не смог принести его сюда? – воскликнул Фитц-Осберн. – У нас есть хирурги, которые могли бы вылечить его!
– Ох, Гийом, неужели ты ничего не понимаешь? – ответил Рауль. – Эдгар не хотел больше жить. Думаю, он был очень тяжело ранен, но даже если бы это было не так… нет, все получилось, как и должно случиться. Эдгар поговорил со мной немного перед тем, как умереть. Он сказал, что видел тебя во время боя, и спросил, остался ли ты в живых. Когда я ответил ему, что да, остался, он сказал, рад этому, ведь ты – его друг.
При этих его словах Фитц-Осберн заплакал.
– Как я жалею о том, что не повидался с ним! Но герцог был занят, и я не мог оставить его. Эх, бедняга Эдгар! Неужели он думал, будто я забыл его? Неужели он решил, что я разлюбил его, раз не пришел к нему?
– О, нет! А теперь пропусти меня. Как-нибудь в другой раз я расскажу тебе о том, как он умер; но только не сегодня.
– Постой! – воскликнул Фитц-Осберн. – Его следует похоронить с почестями. Только не говори мне, что ты оставил его тело на растерзание волкам и прочим хищникам!
– Нет, этого я не сделал. Я передал его тело заботам монаха, который пообещал отвезти его в Марвелл.
Фитц-Осберн был явно разочарован.
– Ты должен был привезти его сюда. Герцог устроил бы ему похороны со всеми почестями, а мы могли бы в скорби пройти за его гробом.
– Но ведь он не был нормандцем, – возразил Рауль. – Или ты думаешь, он хотел бы этого? А я поступил так, как сделал бы и он сам. – Освободившись от хватки Фитц-Осберна, Хранитель вошел в шатер герцога.
Вильгельм поднял голову.
– Итак, друг мой? – сказал он. – Ты отсутствовал дольше обыкновенного. – Он окинул проницательным взглядом лицо Рауля. – Если Эдгар Марвелл мертв, мне очень жаль. Но я не думаю, что он смог бы жить со мной в мире.
– Нет, не смог бы, – согласился Рауль и прошел на середину шатра. – Вы один, монсеньор.
– Наконец-то. У меня только что были двое монахов из Уолтема, умолявшие отыскать тело Гарольда и предлагавшие десять марок золота, если я разрешу им увезти его отсюда. Но этого я позволить не могу. – Он подтолкнул к Раулю по столу какой-то документ. – Вот первый список погибших. Не хочешь взглянуть? Мы знаем пока не обо всех. Энгенуф де л’Эгль – один из них.
– Вот как? – Рауль пробежал список глазами.
В шатер вошел лорд Сингуэлиц, изнуренный и мрачный.
– Мы нашли тело, – сказал он. – Оно изрублено мечами, каковой поступок я, в свою очередь, полагаю достойным самого сурового наказания.
– Кто это сделал? – требовательно спросил Вильгельм.
– Не знаю, но предполагаю, что двое рыцарей Мулена.
– Узнай их имена и доложи мне. За столь неподобающий поступок я сорву с обоих рыцарские шпоры. Или они хотят, чтобы моим именем пугали детей?
Рауль смотрел на лорда Сингуэлица. После паузы он спросил:
– С тобой все в порядке, Тессон?
Лорд избегал взгляда Хранителя.
– Со мной все в порядке. Но мой сын лежит мертвый. Однако это не имеет значения. У меня есть и другие. – Он резко повернулся, заслышав звук шагов, и откинул полог шатра.
Четверо рыцарей внесли на грубых носилках тело Гарольда и осторожно опустили посередине шатра. Герцог, поднявшись с места, шагнул вперед.
– Снимите накидку.
Гийом Мале откинул плащ, которым было накрыто тело. Оно лежало прямое и окостеневшее, со сведенными вместе ногами и руками, скрещенными на рукояти меча.
Несколько минут герцог стоял неподвижно, глядя на человека, который с упрямым мужеством противостоял ему. Рука Вильгельма медленно потянулась к застежке, скреплявшей его собственную мантию, и расстегнула ее. Сняв мантию, он протянул ее Гийому Мале, по-прежнему не сводя глаз с Гарольда.
– Заверните его в мою накидку, – приказал Вильгельм. – Даже нарушив клятву, он остается великим и храбрым воином. – Герцог умолк и ненадолго задумался. – Гийом Мале, поскольку в твоих жилах течет саксонская кровь, я вверяю это тело твоему попечению. Ты похоронишь Гарольда с рыцарскими почестями на побережье, которое он столь мужественно охранял. Если кто-нибудь возжелает проводить его в последний путь, я даю на то свое позволение. А теперь поднимите его и унесите отсюда.
Рыцари наклонились, но, прежде чем они успели поднять носилки, кто-то вошел в шатер и остановился, дико озираясь по сторонам.
Воцарилась гробовая тишина. Вновь прибывшим оказалась женщина, высокая и стройная. Лицо ее было искажено горем, но даже в печали оставалось прекрасным и одухотворенным. Она куталась в накидку; ее длинные золотистые волосы пребывали в беспорядке, но она, совершенно очевидно, не была простолюдинкой, поскольку на изящной белой шее у нее красовалось ожерелье из драгоценных камней, а на руках позвякивали браслеты.
За ее спиной замерли двое монахов, Осгод Кноппе и Эльрик Скулмастер. Они явно нервничали, однако уходить не собирались. Женщина, отведя волосы со лба, обвела взглядом обращенные к ней лица. Рот ее приоткрылся; она явно пребывала в отчаянии, беспрестанно заламывая руки.
Но тут взгляд женщины привлекло тело, закутанное в королевский пурпур на носилках, и она рванулась к нему с горестным криком. Упав на колени, убрала полу мантии с его лица.
Было невыносимо наблюдать за тем, как женщина гладит мертвые щеки, и видеть, как она нашептывает что-то тому, кто уже никогда не услышит ее. Нормандцы застыли словно громом пораженные. Первым тягостную тишину нарушил Вильгельм.
– Кто эта женщина? – пожелал узнать он.
При звуках его голоса она вскинула голову и взглянула на него, после чего заговорила по-саксонски. Гийом Мале взялся переводить.
– Она спрашивает, кто из нас Нормандец? Потому что не видит здесь никого, кто был бы одет с подобающей роскошью.
– Скажи ей, что Нормандец – это я, – велел Вильгельм, – и поинтересуйся, кто она такая, жена или сестра, и что ей нужно.
Женщина молча выслушала Гийома Мале, но, когда он умолк, выпрямилась, подошла к герцогу и обратилась к нему с пылкой и страстной речью.
Он оглянулся на Мале. Тот, с жалостью и удивлением выслушав ее, сказал:
– Монсеньор, она – та самая Эдита по прозванию Лебединая Шейка, mie[79] Гарольда. Она искала его тело на поле брани, дабы отвезти его в Уолтем и похоронить по христианскому обычаю, она умоляет вас оказать ей эту честь и передать ей тело.
– Mie Гарольда! Передай ей, что я сам прослежу за тем, чтобы эрл Гарольд был предан земле со всеми подобающими почестями, – сказал Вильгельм.
Но женщина гневно запротестовала, как человек, уязвленный до глубины души, и вновь упала на колени, сорвав с шеи ожерелье и протягивая герцогу драгоценные камни на вытянутых руках.
– Она предлагает золото, монсеньор, поистине королевский выкуп, – проворчал Мале, которого эта сцена явно тронула.
– Страсть Господня, кем она считает меня – купцом, способным продать тело за пригоршню золотых? – с раздражением заявил герцог. – Скажи ей, что она лишь напрасно теряет время, и попроси удалиться вместе со своими святошами. – Взглянув на женщину сверху вниз, герцог смягчился и добавил: – Или она боится, что я не окажу ему должных почестей? Передай ей – Гарольд будет похоронен в пурпуре, вместе со своим мечом, чтобы он мог вечно охранять эти берега.
Женщина выслушала его, глаза ее сверкнули, и она заговорила резким пронзительным голосом, сплетая и расплетая пальцы.
– Монсеньор, она полагает, вы насмехаетесь над ней.
– Ничуть. Уведите ее отсюда. – Герцог отвернулся, и женщину вывели из шатра. Она порывалась вернуться, не желая уходить, и все протягивала руки к неподвижному телу на носилках, снова и снова окликая своего возлюбленного по имени.
Но Гарольд лежал мертвый, закрыв глаза и скрестив руки на рукояти своего меча.
Глава 6
Дорога, что вела к Марвеллу, оказалась плохой, изрытой ухабами, и крестьянин, взявшийся проводить Рауля, очень боялся нормандцев, поэтому от страха лишился последних остатков разума. Родом он сам был из Винчестера, но окружающую местность, судя по всему, знал плохо. Весь путь занял куда больше времени, чем ожидал Рауль, однако он только радовался этому, поскольку было маловероятно, чтобы солдаты, занимавшиеся грабежами и мародерством, забрались в такую глушь.
А ему не терпелось поскорее добраться до Марвелла; минуло уже много недель после сражения в долине Сенлака, но раньше расстаться с Вильгельмом у него не получилось.
Из Гастингса герцог направился к Ромни и Дувру. Последний сдался сразу же, но кое-кто из чужеземных наемников поджег дома, причинив городу ненужный ущерб. К удивлению горожан, герцог щедро возместил им убытки золотом из собственного кармана, продемонстрировав, что и впредь намерен вершить справедливость. Подойдя к Кентербери, в местечке Гринхайт, на плесе Темзы, Вильгельм столкнулся с ополчением Кента, выстроенным в боевые порядки под предводительством некого Эгельсина, местного аббата, который от их имени потребовал от него сохранения старинных вольностей Кента. Герцог подтвердил их, заявив:
– Я пришел в Англию не для того, чтобы уничтожать ваши законы и привилегии.
Жители Кента, исполнившись воодушевления, препроводили его в Рочестер, где и объявили своим правителем. Из Рочестера часть своих войск Вильгельм отправил для организации осады Лондона, который провозгласил своим королем Эдгара Этелинга. Сам же он маршем двинулся к Винчестеру, но, подойдя к городу, узнал – в нем находится королева Эдгита, эта роза, рожденная на кусте шиповника, поскольку Винчестер составлял часть ее приданого. В одном из неожиданных приступов щедрости герцог из уважения к королеве пообещал, что не станет вступать в пределы городской черты, если жители присягнут ему на верность. Они повиновались, и он, верный своему слову, отвел войска от его стен и отправился назад, дабы лично возглавить осаду Лондона.
Рауль покинул его в Баркинге, где Вильгельм вступил в переговоры с посредником, выбранным горожанами, – увечным ветераном прошлых войн по имени Ансгард. Вильгельм отпустил Рауля, но, недовольно поморщившись, заметил:
– Полагаю, отныне я уже не могу безраздельно рассчитывать на твое внимание, мой Хранитель. – После чего добавил: – Другие целыми днями требуют от меня награды, Рауль, а ты молчишь. Что я могу даровать тебе?
– Мне ничего не нужно, – ответил молодой человек. – Если бы вы послушались моего совета, Вильгельм, то не отдали бы и пяди английской земли тем, кто с пеной у рта шумно домогается ее.
– Я верен своему слову, – ответил Вильгельм и окинул своего фаворита долгим задумчивым взглядом. – Да, ты ничего не просишь у меня и всегда оставался таким. А ведь я готов был пожаловать тебе графство. Что ж, тем не менее, думаю, могу дать тебе кое-что, чему ты наверняка будешь рад. Зайди ко мне перед отъездом: к тому времени все будет готово.
Когда Рауль явился к нему несколько часов спустя, герцог держал в руке пергаментный свиток. Он протянул его Раулю и лукаво улыбнулся.
– Я пока еще не король Англии и до сих пор никому ничего не пожаловал. Сохрани его до того дня, когда он обретет законную силу. И да поможет тебе Бог в этой поездке, друг мой.
Вильгельм вручил Раулю дарственную на земли Марвелла и пожаловал титул барона.
Жильбер Дюфаи вызвался немного проводить друга. Его терзали сомнения; он не находил себе места, и вот уже в который раз повторил:
– Мне не нужны владения в Англии. А ведь я готов был поклясться, что и ты скажешь то же самое.
– Нет. – Рауль слегка покачал головой. – Да, это правда, что я вовсе не желал этого похода, но дело сделано, Жильбер, и не в нашей власти изменить что-либо. Да, я прекрасно понимаю, какие чувства ты испытываешь, однако если все настоящие мужчины, подобно тебе, откажутся от здешних земель, то они достанутся таким субъектам, как Роберт Белем по прозванию Дьявол, или Гуго Волку и прочим.
– Эта война у меня в печенках сидит, – упрямо продолжал Жильбер. – Англия принадлежит саксам, а не нам. А я – нормандец, и Нормандия вполне меня устраивает. Я вижу, как вокруг Вильгельма уже собралась стая голодных волков, пускающих слюни в ожидании награды, и скажу тебе прямо – не желаю становиться одним из них.
– Смотри дальше, – посоветовал ему Рауль. – Мы должны жить будущим, которое хочет обеспечить нам Вильгельм. И оно ждет нас здесь, в Англии. Говоришь, ты – нормандец. Я же думаю, в конце концов мы все станем англичанами. Нет, не ты и не я, но сыновья наших сыновей – наверняка.
– Мои – уж точно нет, поскольку вырастут на своей земле.
– А вот мои будут расти в Англии, – сказал Рауль, – чтобы после смерти своего отца земли, захваченные мной, достались бы наследникам, рожденным на английской земле. Оставайся, Жильбер. В этой несчастной стране предстоит много работы.
– Остаться, чтобы разорять Англию, подобно какому-нибудь разбойнику? Нет уж, благодарю покорно, Рауль.
– Чтобы вернуть справедливость, правосудие и порядок, которые нравятся тебе ничуть не меньше меня. Вильгельм намеревается сделать эту страну домом для грядущих поколений нормандцев. Однажды, много лет тому, он сказал мне, что завоюет королевство для своих потомков, на страже которого встанет море, а не жалкие приграничные крепости. Что ж, он добился своего, и нравится оно тебе или нет, от этого ничего уже не изменится. Люби Нормандию, как и все мы, поскольку она – наша родина, но давай научим своих сыновей считать собственным домом Англию. Потому что, в конце концов, между Англией и Нормандией начнется борьба. И я думаю, Англия победит, а Нормандия погибнет, как в том пророчестве, что мы с тобой слышали в Сен-Жаке. – Он, сделав паузу, продолжил: – Ты помнишь слова Гале? Я часто думаю о них.
– Помню, конечно. Но это все ерунда.
– В самом деле? Вильгельм намерен удержать и Англию, и Нормандию; быть может, ему удастся задуманное, на то он и Вильгельм. А вот после него… Что ж, пожалуй, мы не доживем до тех времен. Ступай своей дорогой, Жильбер.
– А ты? – Жильбер с неожиданной грустью взглянул на Рауля. – Мы с тобой еще увидимся в Руане?
– Ну конечно! – воскликнул Рауль. – Если все будет хорошо, герцог собирается вернуться в Нормандию после Нового года, и я, скорее всего, поеду с ним, если только… – Он сбился и покраснел.
– Если только не женишься, ты хотел сказать?
– Пожалуй. Видишь ли, я считаю, что должен остаться рядом с Вильгельмом. Я служу ему. Если увидишь моего отца, Жильбер, передавай ему привет и поклон от меня и скажи… не знаю. Скажи ему, что я получил баронство в Англии. Ему будет приятно услышать такие вести.
Жильбер кивнул.
– Хорошо, передам. Это – Марвелл, полагаю. Смею предположить, Эдгар был бы рад узнать, что его земли достались тебе, а не какому-нибудь чужаку. Счастливого пути, Рауль. Ты выбрал новый путь; я вернулся на старый. Быть может, когда-нибудь мы узнаем, кто из нас оказался прав. Но, в общем-то, меня это не очень интересует. Пока существует Нормандия, я принадлежу ей. Прощай и береги себя!
Они на прощание крепко пожали друг другу руки. Жильбер, повернув коня, отправился обратно в лагерь; Рауль смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду, и только тогда дал команду своему эскорту двигаться дальше.
Путь был нелегким, часто им приходилось ехать по бездорожью, а один раз они даже заблудились, так что только на третий день Рауль прибыл в Марвелл. Он не встретил никакого сопротивления в дороге, хотя местные жители провожали его угрюмыми взглядами и он знал, что будь с ним отряд поменьше, на него непременно напали бы. Крестьяне вели себя смирно, однако в глазах самого последнего серва сверкала жаркая ненависть. Рауль сказал себе: «Пройдет еще немало лет, прежде чем эти люди забудут о том, что мы – захватчики. Впереди нас ждет нелегкий путь, господин мой Вильгельм».
К югу от Винчестера на много лиг раскинулись зеленые луга и густые леса. Марвелл лежал в низине, в окружении невысоких пологих холмов; по его полям петляла неширокая речушка. Вокруг господского дома сгрудились хижины сервов; сам же дом, построенный из бревен, со сланцевой крышей и наружной лестницей, ведущей в покои на втором этаже, стоял на небольшом огороженном участке. Рядом виднелась скромная часовенка и несколько хозяйственных построек. Вся территория была обнесена частоколом, но ворота стояли распахнутыми настежь, и было очевидно, что нормандских визитеров здесь никто не ждал. Когда Рауль въехал в поместье, на часовне зазвонил колокол, возвещающий о возношении Святых Даров. Вокруг не было ни души, но стоило ему спрыгнуть с седла, как из дверей часовни высунулись любопытные лица, а потом выбежали и мужчины, на ходу хватая все, что могло сойти за оружие.
Рауль не двинулся с места. Не сделал он и попытки обнажить меч, хотя не оборачиваясь отдал короткий приказ своим людям, после чего те выехали вперед; блеснула сталь, и толпа сервов поспешно отступила.
Рауль обратился к ним на своем ломаном саксонском:
– Я пришел с миром. Но если вы нападете на моих людей, прольется кровь. – Он двинулся дальше один, не обращая внимания на ненавидящие взгляды, которые жгли ему спину, и вошел в часовню.
Дрожащими руками священник держал гостию[80]. Рауль остановился, снял шлем, преклонил колено и перекрестился.
У ступеней, ведущих к алтарю, в окружении служанок застыла Эльфрида. Все они со страхом смотрели на незнакомого рыцаря, а какая-то полная дама даже покровительственно обнимала Эльфриду обеими руками.
Рауль окликнул ее. Она же смотрела на него так, словно не узнавала, но, когда услышала его голос, сомнения девушки, похоже, рассеялись, чело прояснилось, и она неуверенно шагнула к нему, протягивая руки.
– О, ты пришел ко мне! – сказала Эльфрида. – Я так ждала тебя, Рауль!
Женщины с изумлением смотрели, как она идет к незнакомцу и глаза ее светятся любовью и лаской, но тучная дама, похоже, понимала нормандское наречие, потому что резко и укоризненно одернула девушку.
Рауль шагнул было навстречу Эльфриде, однако, едва он сжал ее руки в своих, как она отпрянула от него.
– О боже, твоя алая мантия! – прошептала она и закрыла лицо руками. – О, нет! Только не это!
Священник дрожащим голосом проговорил:
– Заклинаю тебе, нормандец, если ты почитаешь Господа нашего, уйди из этого святого места!
С таким же успехом, он мог бы и вообще не раскрывать рта, поскольку Рауль не обратил на него ни малейшего внимания. Он ласково проговорил:
– Что случилось, моя маленькая любовь? Ты же не думаешь, будто я пришел причинить тебе зло? Взгляни на меня, сердце мое, взгляни внимательней: я пришел за тобой, как и обещал.
Эльфрида попятилась от Рауля, не сводя широко раскрытых глаз с его рук.
– Ты не должен прикасаться ко мне. На твоих руках кровь. – Девушка указала на них дрожащим пальчиком. – Они до сих пор красные! – прошептала она. – Ты не можешь отмыть их. Я знаю. Я пробовала. О Боже милосердный!
Рауль, побледнев, развел руки в стороны, ладонями кверху, чтобы она могла видеть их.
– Посмотри еще раз, – сказал он. – На моих руках нет крови.
– Да, но я видела ее, – сказала девушка. – У тебя кровь, кровь, которую не смыть никакими слезами. О, только не прикасайся ко мне!
– На них нет никакой крови, – размеренно повторил он. – Мои руки чисты. В противном случае я бы не пришел к тебе.
Казалось, она всей душой хочет, но не может поверить ему.
– На тебе нет крови Эдгара? Это не его кровь, Рауль? – Она принялась заламывать руки. – Его привезли ко мне домой, закутанного в алую мантию. На груди брата зияли алые раны, а на лбу багровел шрам. А теперь я знаю, что то была твоя мантия.
Рауль стоял не шевелясь, глядя ей прямо в глаза.
– Это действительно была моя мантия, но, Богом клянусь, Эдгар принял смерть не от моей руки, – сказал он.
Дородная женщина попыталась втиснуться между ними.
– Если вы – тот самый Рауль де Харкорт, о котором я столько слышала от своего племянника, ответьте мне прямо и без уверток! Это вы отправили его тело к нам, закутанное в алую мантию?
– Да, я, – подтвердил Рауль.
– Но ты не убивал его, – сказала Эльфрида. Ее била крупная дрожь. – Нет, Рауль, нет! Ты не убивал Эдгара!
– Я уже сказал тебе. Я не убивал его, но он умер у меня на руках, и это я, завернув его в свою мантию, распорядился отвезти тело Эдгара обратно в дом, который он так любил. Я стал искать его среди павших после того, как битва закончилась, и нашел, когда он был еще жив. Эльфрида, между нами не было ни крови, ни ненависти. Клянусь в этом святым распятием. Мы говорили о прежних временах в Руане, вспоминали старые забавные шутки. Мне трудно рассказывать об этом. Но, умирая, он сказал: дружба способна выдержать любые испытания.
По щекам Эльфриды потекли слезы.
– Ты не убивал его. Нет, ты не мог этого сделать. Но он лежит между нами, и ты не можешь взять его. – Девушка выставила руки перед собой, не давая Раулю приблизиться. – Взгляни, что встало между нами! – сказала она. – Все кончено, Рауль, и та мечта, что мы делили вдвоем, разбилась вдребезги.
Он опустил глаза. Под простым могильным камнем покоился Эдгар. На несколько долгих мгновений Рауль замер, склонив голову, но потом все-таки заговорил снова:
– Ты ошибаешься. Эдгар не хотел бы стать преградой между нами. Когда он произнес твое имя в последний раз, то просил меня позаботиться о тебе.
Эльфрида покачала головой.
– Ты – мой враг, – сказала она. – Нормандцы убили всех, кто был мне дорог. Все кончено.
В голосе Рауля зазвучали жесткие нотки. Он сказал:
– Даже если бы я зарубил Эдгара собственными руками, я все равно взял бы тебя. Я пришел к тебе дорогой войны, потому что другого пути не было. – Рауль перешагнул через могилу и схватил девушку в объятия. – Неужели ты все забыла? – спросил он. – Неужели забыла, как обещала верить мне, даже если я вот так приду к тебе?
Она не сопротивлялась, но и поддаваться не желала. Мадам Гита разгневанно заявила:
– Вы забываетесь, шевалье. Вы ведете себя неподобающе, что недопустимо в таком месте. Моя племянница не хочет иметь с вами дела.
В ответ он лишь крепче прижал Эльфриду к себе, так что кольца его кольчуги впились ей в щеку.
– Ты готова сказать, что не желаешь меня видеть? О, сердце мое, я способен умереть, только бы избавить тебя от этой боли и скорби! Или ты действительно веришь, что я мог бы взять тебя так, как сказал только что? Тебе прекрасно известно, что нет!
– Вокруг нас одна лишь смерть, – приглушенным голосом ответила Эльфрида. – И ты смеешь говорить о любви?
– Да, смею. – Он крепко взял ее за руки и отстранил от себя, глядя на нее сверху вниз. Еще никогда она не видела такого строгого и сурового выражения в его глазах. – Ты – моя, Эльфрида, – сказал Рауль. – Я не отпущу тебя и не отдам никому.
Мадам Гита потянула его за рукав.
– Отпустите ее немедленно! – провозгласила она. – Или ты забыл, нормандский волк, что Эльфрида потеряла отца и брата? Разве может она сейчас думать о замужестве, бедняжка? Она намерена вверить себя Святой Церкви, шевалье, что сулит ей куда более надежное прибежище, чем ваши объятия!
Рауль отпустил Эльфриду; лицо его помрачнело.
– Скажи мне об этом сама, Эльфрида! – попросил он. – Ну, давай же, я хочу услышать эти слова из твоих собственных уст! Иначе я им не поверю.
Девушка посмотрела на тетку, потом перевела взгляд на священника.
– Я действительно так говорила, – пролепетала она. – Кругом так темно и страшно, и повсюду смерть… смерть! В монастыре я вновь обрету покой.
– А счастье? – осведомился он.
Она горько улыбнулась.
– Нет, это мне не грозит. Я потеряла надежду на счастье, зато могу обрести покой.
– Вот, значит, как? – Он скрестил руки на груди и окинул ее взглядом, в котором больше не было ни доброты, ни жалости. Да он их и не чувствовал. Эльфрида была его женщиной, а теперь вдруг вздумала отрицать его право взять ее. Рыцарское благородство и галантность, которыми он руководствовался всю жизнь, куда-то исчезли, и на смену им пришло куда более примитивное чувство. – В таком случае откажись от клятв, которые ты мне давала! – хрипло повелел он. – Предай свою любовь, Эльфрида! Ну же, давай! Если ты меня больше не любишь, то наверняка можешь сказать об этом!
Под его взглядом она поникла; он увидел, как по щекам ее потекли слезы, но выражение лица Рауля не смягчилось. Мадам Гита уже готова была раскрыть племяннице свои объятия, но он выбросил руку, схватил ее за запястье и грубо оттолкнул.
– Не подходите к ней! – рявкнул Хранитель.
Эльфрида взмолилась:
– Сжалься надо мной, Рауль! Мне столько пришлось вынести. О, нет, ты не можешь быть таким жестоким сейчас! – Она робко взяла его за локоть, но он не пошевелился.
– Я чувствую к тебе не жалость, – сказал он, – а одну лишь любовь, которая сильнее жалости. Эдгар умер, но мы-то должны жить дальше, а счастье – вот оно, рядом, сто́ит только протянуть руку. А ты готова с презрением отвергнуть его, заточив себя в монастырь. Кстати, у меня есть письменный акт дарения, которым мне пожалован Марвелл; если я – твой враг, говори смело, я порву его, и покончим на этом. Потому что, хотя я могу взять тебя силой, но не сделаю этого. Мне не нужна невеста, которая придет ко мне против своей воли.
Мадам Гита раскраснелась и преисполнилась негодования.
– Скажи ему, что ты ненавидишь всех нормандцев, Эльфрида! Дай ему свой ответ!
– Я не могу. Это неправда. – Эльфрида в отчаянии заламывала руки. – Я не смею сказать этого.
– Тебе страшно? Ты боишься? – спросил Рауль. – Но, по крайней мере, хотя бы одного нормандца ты любишь?
Она не ответила. Он коротко рассмеялся и резко развернулся на каблуках.
– Понятно. Сказать это мне в лицо ты не осмеливаешься, но и прийти ко мне тоже не можешь. В таком случае прощай: между нами все кончено.
За спиной прозвучал ее голос, растерянный и дрожащий.
– Ты уходишь? – словно не веря своим глазам, спросила она. – Ты оставляешь меня одну?
– Можешь быть покойна: поскольку ты меня не любишь, то больше и не увидишь никогда, – отрезал он.
– Золотые слова! – провозгласила почтенная матрона.
– Рауль! Ох, Рауль, постой!
Голос Эльфриды прозвучал едва слышно, но Хранитель остановился и оглянулся.
– Да?
– Не оставляй меня одну! – жалобно взмолилась Эльфрида. – У меня не осталось никого, кроме тебя. Ох, Рауль, сжалься надо мной! Сжалься!
– Эльфрида, ты выйдешь за меня замуж?
Она впилась взглядом в его лицо и поняла, что он не отступит. Он уйдет, если она не скажет ему «да», а она не могла допустить, чтобы он оставил ее одну.
– Я выйду за тебя замуж, – беспомощно сказала девушка. – Я сделаю все, что ты захочешь. Только не уходи!
Он протянул к ней руки.
– Тогда иди ко мне, сердце мое. Я никогда не оставлю тебя одну.
– Эльфрида, не смей! – вскричала мадам Гита. – Ты что, сошла с ума, девочка?
Но Эльфрида уже не слушала ее. Рауль сказал: «Иди ко мне, сердце мое», и в глазах его вспыхнула прежняя, ласковая улыбка, которая согрела ее сердце и прогнала печаль. Она пришла в его объятия; ни тетка, ни священник не могли остановить ее; и поверх могилы, что лежала между ними, ее ладошка отыскала его руку. На несколько мгновений оба замерли, глядя на могильную плиту, а потом, уже по собственной воле, Эльфрида перешагнула через нее и прижалась к его груди. Он крепко обнял ее; она глубоко и удовлетворенно вздохнула; а Рауль подхватил возлюбленную на руки и, прижимая к сердцу, вынес из сумрачной часовни во двор, где сияло солнце.
Эпилог
Когда перестает петь труба, меч возвращается в ножны.
Саксонская поговорка
(1066 год)
В Лондоне выпал снег, и с карнизов крыш и срезов водосточных труб свисали тоненькие сосульки. Внутри аббатства холод заставлял мужчин плотнее кутаться в мантии либо украдкой согревать дыханием озябшие пальцы. Руки архиепископа Йоркского легонько подрагивали; он нервничал, не смея повысить голос во время службы. Ему было не по себе. Он думал о том, что герцог изгнал Стиганда, архиепископа Кентерберийского, и, машинально выполняя ритуал, вспоминал Гарольда, которого Стиганд короновал в этом самом аббатстве меньше года тому назад. Тогда все было совсем по-другому, в другой жизни, так теперь ему казалось. Архиепископ не мог забыть, как лучи весеннего солнца золотом искрились на волосах Гарольда. «Очень странно, – сказал себе он, – возлагать корону Англии на голову столь темную, как у Вильгельма».
Герцог выбрал для своей коронации Рождество. Аббатство Святого Петра в Вестминстере было битком набито людьми, нормандцами и саксами, в равной мере, а снаружи его взяли в плотное кольцо нормандские рыцари, чтобы защитить герцога от любого нападения, которое могли устроить горожане. Но, похоже, нападения не будет. Лондону не пришлось выдерживать долгую осаду; город пошел на уступки и принял условия герцога Вильгельма, правда, после длительных переговоров, которые вел от его имени Ансгард, посредник, сновавший между двумя высокими договаривающимися сторонами. Герцог проявил недюжинное терпение, но его огромная армия окружила столицу, отрезав ее от внешнего мира и помощи, посему, хотя он принимал Ансгарда любезно и вежливо, не пытаясь штурмовать стены, Лондон знал: Вильгельм держит его в кулаке и готов сжать, если город откажет ему. Наконец ворота распахнулись перед ним, и Этелинга передали ему в руки. Эдгару сравнялось всего десять лет от роду, и, когда Альдред Йоркский и Вуфстан Вустерский подвели его к Вильгельму, он, испугавшись, крепко ухватился за ладонь архиепископа. Но герцог поднял его на руки и поцеловал, а потом немного поговорил с ним о его нормандских кузенах, Роберте, Ричарде и Вильгельме, так что вскоре мальчик совершенно успокоился и ушел с Фитц-Осберном, вполне довольный тем, что сможет обменять корону на лакомства, которые были обещаны ему, и дружбу сыновей герцога.
Эрлы Эдвин и Моркар первыми принесли Вильгельму вассальную присягу. Следом за ними явился Стиганд, медоточивый и скользкий, но герцог был не из тех, кого можно покорить сладкими речами. Он лишил архиепископа должности, выбрав Альдреда, чтобы тот возложил ему на голову корону.
Его Святейшество Папа Римский публично высказался в поддержку Вильгельма. Альдред старался не забывать об этом. Будучи клириком, он поддерживал притязания Вильгельма, но сакс в его душе напоминал ему о том, что Вильгельм – нормандец, чужеземец и захватчик.
Рядом с герцогом стоял граф Роберт д’Э. Когда он слушал, как бормочет на латыни Альдред, ему вдруг показалось, что он перенесся на много лет назад и вновь стоит в полной дыма зале Фалеза, глядя на младенца, крошечными ручонками сжимавшего рукоять огромного меча. У него в ушах вновь зазвучали слова, сказанные в тот памятный день: «Вильгельм Воин!» – они принадлежали графу Роберту Нормандскому. Но кто-то еще прошептал: «Вильгельм Король». Наверное, это была Герлева, вспоминавшая тот странный сон, что приснился ей. «…И раскинуло древо свои ветви, пока и Англия, и Нормандия не оказались под сенью его». Граф забыл, что она там еще говорила. Красивая была женщина, эта Герлева, подумал он. «Интересно, наблюдает ли за ними сейчас ее душа и радуется ли исполнению своей мечты?» – спросил он себя. И тут прозвучал еще чей-то голос: «Вильгельм Бастард». Роберт д’Э попытался напрячь память – кто бы это мог быть? Внезапно перед его внутренним взором всплыло лицо старого лорда Беллема, и он вспомнил, как Тальвас проклял малыша. Бастард, Воин, Король – так называли Вильгельма, пока он лежал в колыбели. Граф Роберт вспомнил, как они смеялись тогда: и он, и Эдуард, который тоже был королем, и Альфред, павший от руки эрла Годвина. Как давно это было: после таких воспоминаний он почувствовал себя стариком. Странно, подумал граф, что они тогда могли смеяться. Но ведь они еще не знали Вильгельма: он был всего лишь незаконнорожденным младенцем, сжимавшим рукоять отцовского меча.
Архиепископ тем временем обратился к саксам на их родном языке. Граф Роберт, вздрогнув, вернулся к действительности. Архиепископ спросил, согласны ли люди признать Вильгельма своим королем? Они прокричали «Да!»; пожалуй, это прозвучало дружно и без принуждения, подумал старый Гуго де Гурней, переступая с ноги на ногу. Он спросил себя, сколько пройдет времени, прежде чем вся страна признает Вильгельма, и много ли им предстоит драться. Взглянув на Вильгельма, де Гурней с одобрением отметил – герцог держится прямо и не мигая смотрит строго перед собой. Что ж, может быть, он и бастард, подумал де Гурней, но из него получится настоящий король.
Вперед вышел епископ Кутанса и по-нормандски обратился к подданным герцога. Он спросил у них, согласны ли они с тем, что Вильгельм примет корону. Так же, как и саксы, они криками выразили свое согласие.
«А действительно ли я хочу этого?» – спросил себя Рауль после того, как слова слетели с его губ. Бог его знает! Он заметил, как нахмурился Гийом Мале: тот тоже не жаждал этого, но, разумеется, дал свое согласие. А вот Фитц-Осберн буквально лучился торжеством; Жиффар выглядел довольным, да и Тессон тоже. Неель же был мрачен, как, кстати, и Грантмеснил: пожалуй, они еще не забыли пророчества в Сен-Жаке и слова Гале.
За обеими декларациями последовали молитвы; ритуал шел своим чередом. Архиепископ обеими руками поднял золотую корону, держа ее над головой герцога, и присутствующие разразились громкими приветственными криками.
Епископ Лондона, взявшись за елей, подошел к Альдреду, но вдруг заколебался и недоуменно оглянулся на двери.
Что-то происходило за стенами аббатства. Оттуда доносились крики, лязг стали, боевой клич и призыв к оружию.
Чей-то голос воскликнул: «Измена!» – и мужчины бросились к дверям.
Герцог преклонил колени. Его волнение выдавала лишь внезапная смертельная бледность да быстрый взгляд, который он метнул на двери.
«Впервые за двадцать лет, – подумал Рауль, – я вижу, как он испугался».
Ему тоже было страшно, но он не пошевелился. Рауль, подумав об Эльфриде, ожидавшей его за пределами Сити, принялся мысленно решать внезапно возникшую проблему. «Если против нас восстал весь Лондон, как мне лучше добраться до нее?» – размышлял он.
Шум стал громче; в аббатство проник запах горящего дерева.
– Кровь Христова, мы здесь заперты, как крысы в ловушке! – пробормотал Раулю на ухо граф Мортен.
Герцог упрямо стиснул челюсти; архиепископ умолк просто на середине богослужения, он застыл, дрожа всем телом и со страхом ожидая развязки.
Люди толкались у входа, чтобы первыми выскочить наружу и отразить предполагаемое нападение. В аббатстве уже не было никого из саксов, да и нормандцев осталось совсем немного. У самого алтаря застыл Фитц-Осберн, а рядом с ним стояли Роберт д’Э, де Гурней, Мортен и Рауль.
Епископ Байе, порывисто шагнувший было к дверям, встретил взгляд герцога и вовремя спохватился. Он прошептал что-то на ухо архиепископу. Альдред облизнул языком пересохшие губы и принял елей из рук Уильяма Лондонского.
В опустевшем аббатстве, под звуки схватки, доносившиеся снаружи, свершилось миропомазание Вильгельма. Он протянул руку, чтобы взять Евангелие. Альдред подставил ему крест; руки его дрожали. Герцог преклонил колени и поцеловал крест, после чего звонким и сильным голосом принес клятву. На голову ему опустили корону, а в руку вложили скипетр. Он встал, и складки тяжелой мантии зашуршали по каменным плитам пола.
Фитц-Осберн закричал:
– Да здравствует Вильгельм, король Англии! – и голос его гулким эхом прокатился под сводами пустой церкви.
Герцог встретился взглядом с Раулем; Вильгельм едва заметно кивнул головой в сторону двери, и брови его чуточку приподнялись в немом вопросе.
Рауль выскользнул из аббатства. Поблизости жарким пламенем полыхало несколько домов; открытое пространство было заполнено людьми, но, хотя повсюду виднелись следы недавней стычки, судя по всему, она уже закончилась.
Заметив Ральфа де Тони, Рауль подошел к нему и взял под руку.
– Ради всего святого, что здесь произошло? – спросил он.
Де Тони огляделся по сторонам.
– Ничего. Я решил было, что лондонцы собрались напасть, разве нет? Но нет, ничего подобного и в помине не было. Похоже, наши люди ошиблись, однако все обошлось без особого вреда: зарубили нескольких человек, но не более дюжины, как мне представляется. Насколько я понимаю, стража решила, будто саксы в аббатстве напали на Вильгельма, когда услышали наши приветственные крики, и потому незамедлительно кинулись поджигать дома в округе, напав на собравшихся горожан. Остановили беспорядки Тессон и Неель. Боже милостивый, Рауль, призна́юсь тебе, я испугался до полусмерти! Вильгельм покинул аббатство? Где он?
– Герцог только что коронован на трон Англии, – ответил Рауль.
– Коронован! А здесь никто ничего не видел! – И де Тони принялся проталкиваться сквозь толпу, во весь голос выкрикивая новости.
Рауль же вернулся в аббатство. Вильгельм молился, но вот он поднялся на ноги и обменялся взглядами с Раулем: последовал вопрос, и был получен ответ.
Снаружи вновь долетели приветственные крики. В дверях показался лорд Сингуэлиц, он выкрикнул:
– Да здравствует король!
Бароны, окружившие Вильгельма, дружным хором подхватили этот клич.
Перед внутренним взором графа д’Э вновь промелькнули воспоминания. Ему показалось, будто в ушах у него опять зазвучал голос герцога Роберта: «Он еще маленький, но подрастет». Странно, что он запомнил его слова; в конце концов, Роберт тогда всего лишь пошутил.
Граф опять взглянул на Вильгельма, спрашивая себя, о чем тот сейчас думает. Но угадать это было решительно невозможно: король смотрел прямо перед собой, его смуглое лицо оставалось непроницаемым, а рука крепко сжимала скипетр Англии.