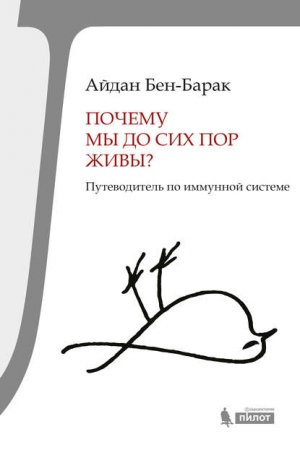
Моей маме
Вселенная полна волшебных вещей, которые терпеливо ждут, пока мы поумнеем.
Иден Филпотс. Прохождение тени
© Idan Ben-Barak 2014
© Лаборатория знаний, 2016
Введение
Несметное множество невидимых глазу бактерий таится повсюду, куда ни взглянешь, чего ни коснешься. Они только и ждут подходящего случая, чтобы заявить свои права на эту сказочно-изобильную живую глыбу теплого, сочного, податливого белка и доступной энергии – человеческое тело. Может, мы и рады бы забыть, что они всегда рядом, но вездесущая телевизионная реклама всяких моюще-чистящих средств и пестрящие в выпусках новостей сообщения про разную гадость, которую то и дело обнаруживают на дверных ручках, магазинных тележках, компьютерных клавиатурах, кухонных разделочных столах, подушках, без устали напоминают, что зараза окружает нас на каждом шагу. Наслушавшись гигиенистов, невольно начинаешь удивляться, как это мы вообще до сих пор живы. Просто чудо какое-то!
Это и правда чудо. Фантастическое, озадачивающее, непростое чудо. А имя ему – иммунная система. И моя книга – о ней. Но сначала одна важная оговорка. Эта книга не поможет вам принимать более осознанные решения насчет вашего здоровья. Она не сделает ваш рацион более калорийным, не придаст больше блеска вашей шевелюре, не продлит вам молодость, не уменьшит ваши страдания при ежегодном зимнем гриппе, не улучшит баланс вашей кредитной карты. Кроме того, эта книга специально написана так, чтобы не способствовать школьной успеваемости. У меня аллергия на всякого рода полезную информацию, так что я включил сюда как можно меньше таких сведений. Среди моих любимых особенностей иммунной системы – тот факт, что ее работа обычно не требует нашего постоянного внимания. Система эта тихонько действует где-то на заднем плане, подобно деликатной уборочной службе. Мы замечаем ее, лишь когда что-то пойдет совсем уж не так.
Если вы все-таки желаете получить инструкцию касательно того, как улучшить свое здоровье, то вот она: хорошо питайтесь, хорошо спите, больше двигайтесь, пейте умеренно, не курите даже разрешенное законодательством, делайте прививки и не особенно напрягайтесь насчет грязи. Если вы заглянете в секцию «Здоровье» в ближайшем книжном или в местной библиотеке, вы обнаружите там огромное количество изданий, где все эти пункты разъяснены во всех подробностях.
Что же касается реальных плюсов для самочувствия, то, как я надеюсь, чтение этой книги время от времени будет вызывать у вас смех (который, как показывают клинические эксперименты, полезен). Не исключено даже, что она поможет вам понять некоторые вещи и задумываться о них чуть серьезнее (правда, не знаю, насколько это полезно). Вот, в общем, и всё. Уж извините.
На самом-то деле вы уже и без того неплохо разбираетесь в иммунологии. Да-да, незачем отрицать, я сразу догадался: ведь вы еще дышите. Даже если вы не в состоянии с ходу ответить, в чем разница между антигеном и антителом или для чего нужны цитокины, в вас есть штуки, которые отличнейшим образом умеют определять, что есть что и что с чем соединяется, они прекрасно помнят, что было раньше, и отлично знают, что когда делать. Если бы вы – на некотором глубинном уровне – не разбирались в иммунологии столь блестяще, вы были бы мертвы. Всё просто.
Почему же мы до сих пор живы?
На столь общий вопрос может существовать несколько типов ответов. Ясно, что вы не мертвы, поскольку вам лично пока удавалось избегать встречи с мчащимися на вас грузовиками или с пулями, свистящими вокруг (все эти штуки создают большие неудобства). Но в данной книге речь не об этом. Я намерен поговорить о заболеваниях (они-то в конечном счете как раз и убивают подавляющее большинство людей), в особенности о заболеваниях инфекционных, и задаться вопросом, как же так получается, что при всех этих страшных, ужасных недугах, способных сразить нас наповал, некоторые из нас не только еще живы, но даже могут преспокойно расхаживать туда-сюда и заниматься всякими делами, а не лежать в постели, издавая жалобные стоны.
Ответ на этот вопрос также можно дать на разных уровнях. Каждая глава книги дает свой тип ответа на основной вопрос, обозначенный в заглавии. А вместе, как я надеюсь, они дают более или менее всесторонний взгляд на те взаимоотношения между организмом и средой, которые определяются иммунной системой.
Первая глава, по сути, дает такой ответ: «Мы до сих пор живы благодаря тому, что у каждого из нас есть эта вот иммунная система, которая состоит из нескольких рубежей обороны против инфекции». Я вкратце покажу, какие компоненты и механизмы иммунной системы позволяют нам жить и радоваться.
Ну ладно, может, это и удовлетворит ваше любопытство. Но если мы говорим: «У меня просто есть эта штука, вот и всё», таким объяснением могут остаться недовольны некоторые люди в некоторых обстоятельствах (сразу же приходят в голову полицейские, налоговики, родители). Возможно, им захочется выяснить, каким же образом в нашем распоряжении оказался такой объект. Поэтому ответ второй главы сводится к следующему: «Мы до сих пор живы, потому что наша иммунная система постепенно развивалась начиная с момента нашего зачатия, и в этом ей помогали внутренние и внешние стимулы[1], вот как она пришла к своему теперешнему состоянию». За существенную часть этого процесса отвечают матери, и к концу второй главы у вас появится новый взгляд на материнство. Если что, я вас предупредил.
Следующая глава делает еще один шаг вперед, за границы отдельного организма, в царство видов и нашей эволюционной истории. В большинстве учебников и научно-популярных руководств по здоровому образу жизни наша иммунная система показана как данность, как функционирующая система, которая просто есть у человека. Научно-популярные издания иногда пытаются научить нас, как поддерживать ее в рабочем состоянии. Медицинские пособия учат профессионалов, как поступать, если она застопорилась. В лучшем случае такая книга будет содержать описание того, как иммунная система развивается в течение нашей жизни. Отлично, превосходно: вполне объяснимый подход, настоящее воплощение здравого смысла. Но, мне кажется, мы могли бы с пользой для себя взглянуть на дело шире. Вот почему третья глава дает такой ответ: «Мы до сих пор живы, поскольку наша иммунная система эволюционировала на протяжении веков и тысячелетий, еще с тех пор, как наши дальние предки представляли собой мельчайшие вихляющиеся существа, и эволюционировала она путем бесчисленных взаимодействий с окружающей нас (и тоже постоянно эволюционирующей) средой, в результате чего и появилась ошеломляюще-сложная система, которой мы обладаем сегодня».
Наверное, можно не останавливаться на этом и продолжать как-нибудь так: «Мы до сих пор живы, так как 14 миллиардов лет назад возникла Вселенная и…», но это будет чересчур даже для самого вольного понимания термина «иммунология». Поэтому четвертая глава иначе смотрит на нашу борьбу за жизнь и здоровье. На основной вопрос она дает такой ответ: «Мы до сих пор живы, поскольку ученые выясняют все новые и новые подробности насчет болезней, здоровья и иммунных процессов, тем самым давая человечеству возможность уменьшать заболеваемость и смертность».
Похоже, это более спорный и менее всеобъемлющий ответ, чем предыдущие: в конце концов, человечество отлично выживало и до того, как хотя бы один человек хоть что-то понял о природе здоровья и болезней. Но если мы обратимся к устрашающей статистике смертности на протяжении человеческой истории, то у нас не останется сомнений: большинство из нас, живущих сегодня, не были бы живы, не достигни медицина таких успехов в борьбе с инфекционными заболеваниями, главным образом благодаря открытию и совершенствованию антибиотиков и вакцин[2]. Я рассмотрю некоторые из наиболее интересных достижений, споров и ошибок (о да, было и это), которые в конечном счете привели иммунологию к ее нынешнему состоянию. Между прочим, это состояние по-прежнему весьма далеко от совершенства.
Эти строки я пишу в одной мельбурнской библиотеке, в нескольких минутах ходьбы от Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, где много лет трудился Фрэнк Макфарлейн Бёрнет. С 1949 года он развивал здесь идеи «своего / не своего» в селективном иммунном отклике, которые принесли ему Нобелевскую премию и которые с тех пор играют определяющую роль в иммунологии, обеспечивая эту сферу науки мощнейшим теоретическим инструментарием. Однако сама идея «своего» в иммунной системе подвергается сомнениям в свете недавних открытий. Действительно ли иммунная система разделяет всё, с чем она приходит в соприкосновение, на «свое» и «чужое»? В четвертой главе я как раз и собираюсь поговорить о Бёрнете. Впрочем, о трениях и разногласиях, которые существуют в иммунологических исследованиях (и способствуют им), будет упоминаться на протяжении всей книги.
Пятая глава развивает ответ «мы живы благодаря научным изысканиям» и говорит: «Значительная часть людей до сих пор не умерла, поскольку мы умеем помогать друг другу жить дальше». Мы втыкаем в некоторых иглы; мы пересаживаем одним органы других[3]; мы кормим кого-то, целуем кого-то, нарочно на кого-то кашляем; мы убеждаем кого-то, что они чувствуют себя лучше, даже когда они и не должны бы (в итоге они действительно начинают чувствовать себя лучше, и это отдельный разговор); и так далее, и тому подобное. Кое-что из этого мы обсудим в пятой главе.
И наконец, в эпилоге я сделаю краткий обзор того, какие шансы на выживание у нас есть в будущем. Разумеется, при условии, что мы до этого будущего вообще доживем. Оставайтесь с нами.
Глава 1. Время встречаться
Считалось, что это очень простая штука.
В древности недуги ниспосылались богами, или Богом, или же – если вы рациональный, трезвомыслящий, прогрессивный, любящий медицинские опыты и научные доказательства человек и/или общество, – происходили от дисбаланса четырех соков (гуморов)[4] тела. Гуморальное объяснение казалось вполне логичным. Оно было практичным и работоспособным. Оно дало возможность разрабатывать способы лечения. И оно было ошибочным во всем.
С тех пор наука несколько продвинулась вперед, как вы наверняка заметили. Об этом прогрессе мы кое-что расскажем дальше, пока же достаточно сообщить, что человечество сегодня обладает по крайней мере частичным пониманием механизмов и причин заболеваний – и, как выяснилось, все это совсем не так просто. Если бы кто-нибудь из ученых далекого прошлого вдруг прочел наш современный учебник медицины, его, пожалуй, больше всего поразило бы то, какими до смешного сложными, озадачивающе-запутанными мы считаем здоровье и болезни. На смену демонам, божественному промыслу или избытку желчи пришел удивительный мир бактерий и вирусов, токсинов и свободных радикалов, лейкоцитов, антигенов и антител, цитокинов и хемокинов, молекул ГКГС (главного комплекса гистосовместимости), V(D) J-рекомбинации, гипервариабельных антигенных петель, CD25+-регуляторных Т-лимфоцитов – и прочего, и прочего. От таких штук у всякого закружится голова.
Мало того, заболевания бывают наследственными (генетическими) или инфекционными, а еще они могут возникнуть в результате тех или иных нарушений в работе организма. Причина же большинства болезней – комбинация любого числа приведенных факторов. К примеру, нельзя заразиться раком, если не считать определенных типов этой страшной болезни (о них я поговорю в главе пятой). Малярию человек подхватывает из-за комариных укусов, если только у него нет врожденного иммунитета к этой болезни благодаря определенному аллелю в его ДНК. И так далее, и так далее. Чем больше мы обнаруживаем, тем менее четкой представляется нам картина.
Наш воображаемый ученый древности, читая все эти описания в сегодняшнем учебнике, мог бы задаться вопросом: отчего Природа действует столь изощренными путями, заставляя недуги порождаться невидимыми существами и передаваться от человека к человеку через других существ (иногда через два вида других существ последовательно)? Какой во всем этом смысл?
«Ничто в биологии не имеет смысла, пока мы не рассмотрим это в свете эволюции», – писал Феодосий Добржанский[5]. Чарлз Дарвин дал нам теоретические основы для того, чтобы мы смогли единственным удовлетворяющим нас способом объяснять невероятное разнообразие природы[6]. Вот и иммунологи применили дарвиновский метод к своей области знания, дабы понять, почему иммунная система выглядит и действует именно так. Я к этому еще вернусь.
Пока же передо мной стоит одна проблема. Собственно, с ней сталкивается каждый автор, которому хочется внушить читателю, что нечто устроено сложно. Если просто сказать «это штука сложная», не передашь никаких особенностей предмета, да и вообще это какой-то ленивый подход. С другой стороны, моя книга рассчитана на вас – студента или заинтересованного дилетанта. Это не учебник, и хотя мучительно-подробное изложение всех сложностей действительно передало бы нужную мысль, читателю пришлось бы страдать, а читатели в наше время с таким отношением к себе не мирятся. Меня могут запросто отправить обратно на полку, а там очень тесно, знаете ли.
Как же мне объяснить, насколько сложна иммунная система?
Зайдем-ка с другого конца. Я не буду рассказывать вам, как сложна иммунная система. Я скажу, какой сложной она должна быть, чтобы мы оставались живыми, а дальше уж вы сами сообразите. Возьмите карандаш с блокнотом и попытайтесь спроектировать систему, которая защищала бы ваше тело от опасностей и вреда.
При проектировании примите во внимание следующие условия: иммунная система ограждает тело от всего, что могло бы обитать внутри него или на его поверхности. Так что, например, если за вами погнался разъяренный бык, пускай об этом заботится ваша физиологическая реакция «бей или беги», а не ваша иммунная система[7]. Если вас начнет пожирать крокодил, на это тоже не распространяется юрисдикция иммунной системы, ибо крокодил, извините, начинает снаружи и прогрызается внутрь. А вот если бы существовал вид крошечных крокодильчиков, норовящих проникнуть в ваше тело, вторгнуться в кровеносную систему или в какой-нибудь из ваших внутренних органов, обосноваться там, добывая внутри вас пропитание и выращивая потомство, – тогда этим возмутительным фактом, конечно, занялась бы она, иммунная система, и паразитического микрокрокодила пришлось бы добавить в длинный список разнообразнейших видов, с которыми ей приходится иметь дело.
Кроме того, основную защиту от химических токсинов обеспечивает не иммунная система (да, она по-своему помогает, но главным образом эту задачу выполняет печень, а печень не считается органом иммунной системы), так что ей нужно беспокоиться лишь о таких биологических агентах, как бактерии, паразиты и вирусы. Вы уже знаете, что каждый кубический сантиметр окружающей нас среды буквально кишит миллиардами микроорганизмов, постоянно ищущих способ в нас проникнуть, так что следует принимать это во внимание. Но речь не только о возбудителях инфекционных заболеваний: к примеру, иммунные «бойцы» выискивают и уничтожают собственные, родные клетки тела, которые почему-либо «испортились». Кроме того, не можете же вы просто отторгать все, что проникает в вас извне. Пища, которую мы едим, охотно принимается нашим телом, как и кислород, которым мы дышим. В самом начале нашего существования каждый из нас стал желанным гостем в утробе собственной матери, поэтому следует запланировать, что время от времени внутри женского тела будет вырастать другое человеческое существо и иммунная система женщины не будет приходить в ярость и атаковать это чужеродное тело (каковым оно для нее и является, если подходить к делу буквально). Более того, мы постоянно играем роль гостеприимных хозяев для триллионов бактерий, живущих преимущественно в нашем кишечнике и на поверхности нашей кожи. Так что иммунная система, которую вы проектируете, должна всегда уметь отличать вас самих от друзей, эмбрионов, врагов.
Врагов она тоже должна уметь различать между собой. Существа, от которых она должна отгораживаться, обобщенно именуются патогенами (болезнетворными, патогенными микроорганизмами) (от двух греческих слов, означающих «порождающие болезнь»), однако они могут отличаться друг от друга так же разительно, как мы сами отличаемся от них. Бактерии – одноклеточные организмы, микроскопические и независимые. Простейшие – тоже независимые и одноклеточные, но они наши более близкие родственники, поэтому иммунной системе куда труднее отличать их клетки от наших (и находить способы уничтожать их, не нанося особого вреда нашему телу). Вирусы, с другой стороны, вообще не являются клетками. По сути, это просто умные кусочки генетического материала в белковой обертке. Чтобы размножиться, им нужно проникнуть внутрь клетки-хозяина и захватить ее изнутри, подчинить ее себе, заставив отказаться от ее обычной функции и обратив ее в фабрику, производящую вирусы. Существуют и многоклеточные паразиты, такие как кишечные черви. Существуют грибковые инфекции. Мало того, я уже упоминал о тех клетках человеческого тела, которые могут взбунтоваться, забыв о своих внутренних ограничителях и решив предаться буйному размножению. Если им это удастся, возникнет опухоль.
Иммунная система не может реагировать на все это одинаково, поскольку речь идет о весьма различных созданиях, которые могут находиться в разных местах и с которыми следует справляться при помощи самых разных способов. Скажем, с бактериями, блуждающими в крови, в легких или где-нибудь еще, нужно обращаться не так, как с вирусами, проникшими в клетку-хозяина, и не так, как с червями-паразитами в кишечнике. Иммунная система вынуждена приспосабливать свой отклик к каждому типу угрозы. Похожая задача стоит перед медиками, когда они ищут методы лечения, вакцины и препараты для борьбы со всеми существующими заболеваниями.
Итак, иммунная система должна правильно распознавать всевозможных опасных существ и реагировать на каждый вид такой угрозы по-особому[8]. И знаете, что принесло бы большую пользу? Если бы система умела запоминать патогены, с которыми она встречалась прежде, и каким-то образом записывала эту информацию, чтобы сэкономить время, когда ей придется снова с ними сражаться. Кроме того, она должна быть постоянно готова и к отражению тех захватчиков, с которыми никогда не сталкивалась прежде: такова жизнь. А еще иммунная система должна быть готова к борьбе с совершенно новыми, неведомыми инсургентами, с которыми никто в истории человечества не имел дела прежде, поскольку патогены с течением времени эволюционируют. При этом система должна действовать экономно, чтобы организм в случае необходимости всегда мог ее применить. И не особенно мешать другим системам, чтобы организм мог нормально функционировать. И конечно же, она должна каждый раз проделывать все очень быстро, иначе организм заполонят враги, ведь патогены множатся чертовски бурно.
Надеюсь, вы согласитесь, набрасывая схему возможной иммунной системы и прикидывая бюджет и требования к персоналу проекта, что все это – задача чрезвычайно сложная. И в самом деле, наша иммунная система несовершенна. Иногда она отказывает, и мы заболеваем, но затем, к счастью, выздоравливаем. А иногда система не в состоянии справиться со слишком сложной задачей, и пациент не выздоравливает. Довольно часто сама иммунная система дает сбой или реагирует слишком активно, и тогда пациент страдает от так называемых аутоиммунных заболеваний. Однако большинству людей основную часть времени все-таки удается пережить огромное число опасностей, с которыми сталкивается иммунная система. По-моему, это замечательное достижение. У вас очень славная иммунная система, правда? Можете одобрительно похлопать ее по тимусу.
Тайные элементы
Не похлопали? Потому что не знаете, что такое тимус, чем он занимается и где он находится? Не вините себя. Иммунная система – уникальная всепроникающая штука, ее органы и функции прячутся в самых разных уголках тела[9]. Неудивительно, что мы, люди, потратили до смешного много времени, чтобы заметить, что она вообще у нас имеется.
Посмотрим на дело так. Если сердце перестанет работать как полагается, медицина готова предложить, так сказать, замену: кардиостимуляторы или даже пересадку этого органа. Если откажут легкие, пациента подключат к аппарату искусственного дыхания. Работу почек может выполнять диализная система. Существуют протезы рук и ног. Если ваши уши работают плохо, на помощь приходит слуховой аппарат. Если вы плохо видите, к вашим услугам очки и коррекционная хирургия. Мы умеем пересаживать печень (хотя искусственной замены для этого замечательного органа у нас пока нет). И хотя мозг и нервную систему мы еще не скоро научимся протезировать, хирург все-таки может взять скальпель и кое-что там поправить.
Однако никакого механического способа починки или замены неработающей иммунной системы нет! Можно давать такому пациенту лекарства, стимуляторы и вакцины, но ведь все эти внешние воздействия должна обработать сама иммунная система. Мы не умеем заменять или пересаживать никакую часть иммунной системы (примечательное исключение здесь – пересадка костного мозга, которая применяется в некоторых особых случаях). Врачи могут сделать с пациентами, лишенными помощи собственной иммунной системы, лишь одно: поместить их в стерильную среду.
Иммунная система состоит из многочисленных типов молекул, клеток, тканей и органов, распределенных по самым разным участкам тела и находящихся в сложном взаимодействии между собой и с другими системами организма. Ее боевой отряд постоянно курсирует по всему организму, готовый откликнуться на любой сигнал об опасности[10]. Я не стану вдаваться в детали, описывая все компоненты системы, но полезно взглянуть на эту машину в действии. Возможно, интересно будет попробовать испытать ее работу с противоположной стороны.
Что увидел микроб
В начале нашей экскурсии по иммунной системе попробуем себе представить, как она воспринимается с точки зрения вторгающегося в нее патогена. Разумеется, мне придется слегка разбавить это описание, поскольку, даже если бы мы могли вообразить себе, как патогены чувствуют себя в своей среде (а мы этого не можем, ибо наша повседневная жизнь, честно говоря, не учит нас думать как кишечные паразиты), микроорганизм, попадающий в наше тело, сталкивается с ошеломляющим залпом самых разных угроз (которые кажутся не связанными друг с другом), и все они нацелены на уничтожение этого пришельца. Так что время от времени я буду пояснять, что происходит. Кроме того, я буду относить различные отклики к различным типам патогенов. А теперь начнем игру.
Присоединимся к бактерии в тот момент, когда она впервые контактирует с возможным организмом-хозяином – человеком. Большинству бактерий плевать на людей, они нас не трогают и с нами не связываются. Однако небольшая часть бактериальных видов со временем специализировалась, приспособившись к жизни в тканях человека. Эти бактерии надеются получить какие-то преимущества, сражаясь с невзгодами, на которые их обрекает такой образ жизни[11]. Для тех, кому все-таки удается прорвать наши оборонительные рубежи, человеческое тело становится невероятно богатой добычей, практически неистощимым источником пищи, тепла, стабильности и вообще всего, что только может пожелать бактерия.
Бактерии могут проникать внутрь организма в любом месте, но, скорее всего, первой точкой контакта будет кожа. С технической точки зрения кожа считается частью иммунной системы, поскольку она представляет собой плотный, многослойный и обычно весьма эффективный физический барьер. Многие виды бактерий здесь и останавливаются. Они либо отказываются от дальнейшей борьбы и гибнут, либо ухитряются разбить лагерь на поверхности кожи; питаются они маслами, которые мы выделяем, а также любыми другими питательными веществами, какие сумеют найти. Иногда такие бактерии становятся причиной сыпи и кожных инфекций, но в нормальном состоянии наша кожа кишит бесчисленными бактериями, которые ползают по ней, не причиняя нам ни малейшего вреда. Проблемы возникают, когда нарушается целостность кожного покрова: ранки, царапины, ссадины, укусы насекомых, ожоги дают болезнетворным агентам возможность проникнуть в глубь тела.
Еще один очень популярный метод проникновения – через рот. Одни захватчики пробираются в легкие и другие части респираторной системы, другие же предпочитают попытать счастья среди процветающей общины бактерий кишечника (именуемых его микрофлорой или бактериями-симбионтами). Третьи пытаются вторгнуться в организм на том или ином участке пищеварительного тракта, используя эпителиальные клетки его слизистой оболочки.
А некоторые бактерии стараются зайти с другого конца и проникнуть внутрь через мочеполовой тракт (бр-р-р). Такой маршрут сопряжен с большим риском, но имеет и свои преимущества, обеспечивая прямую и непосредственную связь между двумя человеческими телами. Для некоторых патогенов сие очень важно (в этом смысле известнее всего ужасный ВИЧ), поскольку они погибают практически сразу же после того, как окажутся на свежем воздухе, а значит, им приходится выжидать, пока организм-хозяин не начнет производить некие маневры, которые мы именуем сексом: тогда у патогенов появляется шанс перейти к новому хозяину, не опасаясь немедленной гибели.
Микробом быть непросто, выживаемость их ничтожна. Лишь очень немногие достигают пункта назначения. Подавляющее большинство гибнет в пути. Гибнет, вообще не приходя в соприкосновение с человеческим организмом-хозяином и в результате оказываясь на земле, на стене, в океане, в носовом платке, сунутом в карман. Гибнет от неблагоприятных температур среды, от неприятных веществ на коже, от кислот и пищеварительных ферментов в желудке и кишечнике, от воздействия других видов бактерий, которым нет никакого дела до благополучия новоприбывших и которые конкурируют с ними за пищу, а иногда активно нападают на них. Бактерии-симбионты, обитающие в кишечнике, даже рады донести телу на патогены, посылая химические сигналы слизистой оболочке человеческого кишечника. Эти сигналы заставляют ее укрепляться, тем самым затрудняя проникновение врагов.
Тех микробов, которые все-таки еще не погибли, отпихивает перистальтика кишечника, смывает моча (если они пытаются вскарабкаться по соответствующему пути), или слезы (в глазах), или слюна (во рту), или же их убирают с дороги бдительные реснички эпителия (крошечные волоски, действующие как своего рода ковшовая цепь и выбрасывающие инородные частицы из дыхательных путей и легких).
Патоген, который после всех этих несчастий окажется по-прежнему живым и бодрым, готовым на завоевание человеческого тела, вполне может обратиться к своим уцелевшим собратьям с пламенной речью, как Генрих V в одноименной шекспировской пьесе, вдохновлявший свою армию словами «о нас, о горсточке счастливцев»[12]. Но микробы такого не делают, поэтому их победной речи мы не услышим. Однако, как и у армии этого короля, злоключения выживших бактерий тут только начинаются.
Сумев проникнуть за физическую границу, состоящую из клеток эпителия, вторгшийся микроб тут же испытывает на себе гнев системы врожденного иммунитета – баррикады разнообразных клеток и молекул, любовно сплоченных эволюцией для того, чтобы уничтожать проникающих врагов всевозможными способами. Патогену кажется, что вокруг него разверзся настоящий ад: ферменты и маленькие антибактериальные пептидные молекулы норовят проесть внешние слои бактерии; группа белков, которую мы называем системой комплемента, присоединяется к ее поверхности и образует там структуру, которая проделывает зияющую дыру в мембране бактерии (эта дыра носит впечатляющее название комплекса для атаки мембраны, или мембранатакующего комплекса). Если и эти стражи упустят захватчика, к его телу прилепятся особые белки, умеющие распознавать бактерии, тем самым помечая врага для последующего поедания несколькими типами особых клеток, пожирающих бактерии (такие клетки называются фагоцитами): они пытаются заглотить неприятеля и затем переварить его с помощью обжигающих химикатов.
Разновидность фагоцитов, именуемая макрофагом, не только пожирает бактерии, но и выделяет сигнальные молекулы, провоцирующие воспалительную реакцию. Благодаря ей кровеносные сосуды близ места попадания инфекции становятся более проницаемыми, а кроме того, к этому месту стягиваются другие фагоциты. Для бактерии это означает внезапное появление еще более противных штук, которые намерены ее убить. Клетки в буквальном смысле вылезают из стенок расширившихся кровеносных сосудов и устремляются к врагу.
Вирусы и самоубийство с посторонней помощью
Если патоген представляет собой вирус, а не бактерию, то он будет изо всех сил стремиться заразить клетку-хозяина и не попасться иммунной системе, которая может обнаружить его и поднять тревогу. В таком случае на врага ополчаются антивирусные элементы, незараженные клетки получают предупреждение усилить защиту от вторжения вирусов, а клетки, которые уже заражены, подталкиваются к самоубийству. Этот естественный процесс именуется запрограммированной клеточной смертью, или апоптозом.
Организм действует по правилам чести: ожидается, что каждая клетка сама подаст сигнал, если она заражена или иным образом необратимо повреждена. Молекулы ГКГС (главного комплекса гистосовместимости) класса I, которые имеются на внешней поверхности у большинства типов клеток нашего тела, связывают пептиды (небольшие белковые фрагменты) и выставляют их наружу определенным способом, который понимают иммунные клетки. Это означает, что когда клетка вашего тела инфицируется вирусом, она тут же отправляет иммунной системе послание: «На помощь! Скорее! Я заражена! Велите мне убить себя, сейчас же!» И иммунная система рада внять этому посланию.
Столь упорядоченное саморазрушение зараженных клеток – в интересах иммунной системы, поскольку их «взрывная» насильственная смерть привела бы к высвобождению вирусных частиц (поскольку клетка при этом лопается), а не к их уничтожению, а нам бы этого не хотелось. Впрочем, иногда такой порядок вещей подрывают патогены, которые вторгаются в клетку и ухитряются помешать ей поднять флаг «Заражено»[13]. Результат – инфекционное заболевание, несущее с собой проблемы[14].
Чтобы гарантировать, что такие захваченные клетки, производящие вирусы, не будут оставлены в живых, специализированные клетки – естественные киллеры (ЕК) – выискивают их и уничтожают.
Хитроумные тактические приемы проникновения
После того как все это происходит на протяжении нескольких часов, можно быть почти уверенным, что нормальная, здоровая иммунная система, имеющая дело с не очень серьезной инфекцией, сумела взять ситуацию под контроль[15]. Как я уже упоминал, большинство микробов, обычно проникающих в человеческий организм, оказывается там случайно, и существенная часть работы иммунной системы – в том, чтобы побыстрее избавиться от этих нечаянных туристов, прежде чем те начнут множиться и создавать неприятности.
Однако некоторые пришельцы вовсе не так безвредны. Проникновение в человеческое тело – то, чем живут эти патогены, именно так они добывают себе пропитание. В их арсенале – все необходимые навыки и инструменты. Например, бактерии Mycobacterium tuberculosis пожираются клетками-макрофагами легких, но порой они обманывают макрофагов: едва макрофаг поглотит бактерию, та манипулирует им, мешая ему переместить бактерию в свою лизосому. M. tuberculosis совершенно не желает попадать в лизосому, ибо «лизосома» – невинное название того, что бактерия могла бы назвать «плавучей кислотной камерой смерти». Это внутреннее отделение макрофага – как раз то место, где он переваривает добычу. В сущности, это своего рода его желудок.
Вместо попадания в смертоносную для нее лизосому бактерия остается в другом отсеке макрофага, кормится и размножается внутри этого отсека, превращая охотника в жертву. Когда же бактерии размножатся настолько, что истощат ресурсы клетки, они взорвут ее изнутри и выйдут наружу. Организму человека очень трудно воспрепятствовать им в этом, вот почему туберкулез – такое тяжелое заболевание.
У других патогенов есть не менее хитрые приемы. Собственно говоря, практически для каждой меры воздействия, которую применяет иммунная система, защищая наше тело, существует тот или иной патоген, способный спрятаться от этого оружия (или, в случае туберкулеза, внутри самого оружия), обойти систему защиты, остановить ее воздействие, использовать ее в собственных гнусных целях или же уничтожить это оружие. Почти каждый коммуникационный сигнал, применяемый иммунной системой, может быть перехвачен, ненужно усилен или как-нибудь искажен. Так, одна из разновидностей стрептококковых бактерий умеет собирать клеточные белки из своего окружения, тем самым маскируя свою истинную бактериальную сущность и не давая себя опознать; малярийные паразиты прячутся внутри красных кровяных телец; вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему как таковую, атакуя Т-лимфоциты (скоро мы о них поговорим) и сея панику среди бойцов иммунного отклика[16]. Chlamydia trachomatis проникает в клетку и затем мешает ей подать сигнал о заражении. Neisseria gonorrhoeae выделяет белковую молекулу, которая подавляет иммунный отклик клетки, по сути, заставляя ее посылать ложный успокаивающий сигнал, который, в свою очередь, препятствует активизации иммунной системы.
У каждого зловредного патогена имеется своя коварная тактика манипулирования иммунной системой, иначе патоген не был бы зловредным. Иначе он был бы легко управляемым, легко побеждаемым патогеном, которого иммунная система побеждала бы без особых усилий. Если бы все патогены относились к этой категории, человечество никогда не знало бы таких недугов, как туберкулез, малярия, СПИД, хламидиоз, гонорея.
Вынюхивая подозрительное
Во время учебы в университете я слушал факультативный курс под названием «Революционные открытия в микробиологии». Вместе со мной его слушали еще около дюжины студентов. Каждому из нас раздали по статье, которая в то или иное время стала поворотной в развитии этой области науки. Все статьи были разные, и раздавали их наугад. По ним мы должны были сделать краткий доклад. Почти все работы были написаны десятилетия назад, поэтому меня они тогда не очень заинтересовали[17], и я возликовал, когда обнаружилось, что мне досталась совсем недавняя публикация, ей было всего несколько лет. Можно сказать, только-только из типографии! К тому же вышла она не где-нибудь, а в почтенном журнале Nature. В ней обсуждались толл-подобные рецепторы (ТПР, ТП-рецепторы) – молекулы, которые можно обнаружить в клетках иммунной системы. Авторы статьи показывали, что определенный тип ТПР, под названием ТПР-2, отвечает за идентификацию молекул определенного типа, которые имеются на внешней оболочке почти всех бактерий, тогда как у небактериальных клеток таких молекул на внешней оболочке не бывает никогда. Речь идет о бактериальном липополисахариде (ЛПС). Так что когда ТПР-2 обнаруживает присутствие ЛПС, можно с уверенностью сказать, что где-то рядом бактерии и необходим иммунный отклик. Так было написано в статье.
Ну ладно. Я прочел статью, сделал резюме главных результатов, изложенных в ней, и решил поискать более свежие работы по данному вопросу, чтобы в своем докладе дать нужный контекст, как положено всякому прилежному студенту. Тут-то я и столкнулся с трудностями. Что-то было не так, хоть я и не мог понять, что именно. В статьях, которые я читаю, сообщаются странные вещи, которые не очень-то вписываются в мой доклад. Прошло несколько недель, полных разочарований, и наконец я сообразил, в чем причина моего смущения: эти статьи казались мне странными, потому что они решительно противоречили тому, что содержалось в статье из Nature, которую мне дали. Дело в том, что ТПР-2 вообще не обнаруживает ЛПС, а обратное утверждение – ошибка. В действительности ЛПС обнаруживается другим толл-подобным рецептором – ТПР-4. Я знаю, что с виду это не очень-то важное заявление, но в 2011 году этот маленький фактик удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Экспериментаторы, представившие ту публикацию в Nature, оказались недостаточно тщательны. Они использовали недостаточно очищенный раствор липополисахарида, содержащий весьма небольшое количество других бактериальных компонентов, которые и вызвали отклик ТПР-2. Наш преподаватель, этот хитрый старикан, нарочно дал ошибочную статью, чтобы показать: научные работы не всегда непогрешимы, в них случаются просчеты, это неизбежно в науке (я так и не решился сказать ему, что это, по-моему, был с его стороны блестящий педагогический прием).
Та статья не была каким-то намеренно сенсационным материалом, творчески перевранным в колонке «Новости науки» местной газетенки. Нет, речь шла о серьезном исследовании уважаемых специалистов, опубликованном не где-нибудь, а в Nature. И оно оказалось ошибочным. Я не сразу избавился от содрогания при мысли о том, что было бы, если бы я не выяснил подробности. Я мог бы сделать доклад, утверждая, что в статье все верно, и выставил бы себя на посмешище, а мне этого наверняка не спустили бы. Исследования, даже те, что публикуются в престижных журналах, могут порождать – и порождают – ошибки. Рано или поздно об этом так или иначе узнаёт каждый ученый, так что мне еще повезло: я узнал об этом в университетской аудитории, а не позже, в мире настоящих научных изысканий.
Эта маленькая история не только преподает нам едва ли не самый важный для науки урок, какой я только могу себе представить, но и знакомит нас с толл-подобными рецепторами, а кроме того, служит своего рода метафорой, описывающей роль этих самых рецепторов и их собратьев: система врожденного иммунитета должна быть постоянно настороже, чтобы всегда вовремя сообщать, когда что-то не в порядке, вынюхивать подозрительное и передавать эту информацию по назначению. Невнимательности нам не спустят.
Чего не увидел микроб
В предыдущих главках я показал, что испытывают микробы-завоеватели, приходя в соприкосновение с нашим телом. Как только это происходит, вокруг них начинаются сложнейшие процессы идентификации и принятия решений: в дело вступает система врожденного иммунитета. Она должна отличать собственные клетки и компоненты нашего тела (которые имеют полное право находиться там, где они находятся) от чужеродных (которые такого права, в общем-то, не имеют) – и реагировать соответствующим образом. Кроме того, она должна сообщить нужным подсистемам как можно больше о природе и уровне угрозы.
Среди ключевых элементов иммунной системы – большой набор разнообразных молекул-рецепторов. Каждый вид рецепторов настроен на свой определенный сигнал. Эти молекулы имеют различную форму и размеры, но, поскольку их задачей является распознавание патогенов, они обобщенно именуются рецепторами распознавания патогенов, или РРП. Они действуют как система раннего предупреждения. При вторжении в организм чужеродных объектов РРП первыми должны идентифицировать их и активировать первичный иммунный отклик. Их реакция влияет также на адаптивный иммунный отклик, о котором я тоже вскоре расскажу.
ТПР-2, над которыми я столько ломал голову, как раз относятся к разряду таких РРП. Они входят в почтенное и весьма полезное семейство ТПР[18]. Самые разные иммунные клетки по всему нашему телу имеют ТП-рецепторы, в том числе кардиомоноциты сердца, эндотелиальные клетки кожи, эпителиальные клетки кишечника и многие другие.
ТП-рецепторы идентифицируют разнообразные объекты, объединенные общими свойствами: 1) такие объекты специфичны для микроорганизмов и не присутствуют в клетках организма-хозяина, то есть в данном случае – человека; 2) они обычно имеются у широкого диапазона микроорганизмов; 3) они жизненно необходимы для существования микроорганизма, поэтому не может появиться некий «ускользающий мутант» (микроорганизм, в котором имеет место мутация, заставляющая его утратить выдающий его преступный фрагмент и тем самым избежать распознавания ТП-рецепторами). Рискуя перегрузить аббревиатурами ваш усталый мозг, все же сообщу, что эти фрагменты микробов, запускающие сигнал тревоги у нас в организме, обобщенно именуются патоген-ассоциированными молекулярными образами (сокращенно – ПАМО).
ПАМО может быть чем угодно, что обычно имеется у бактерий (или у вирусов), но не у человека: скажем, частью бактериальной клеточной стенки, или определенным фрагментом ДНК, или даже каким-то белком, который есть лишь в жгутиках бактерий. Одни и те же ПАМО зачастую распознаются иммунными системами млекопитающих, беспозвоночных и даже растений. К сожалению, они не специфичны для одних только опасных патогенов и свойственны также бактериям-симбионтам, а значит, должен существовать физический барьер (или какое-то другое средство защиты) между клетками организма-хозяина, которые ощетинились ТП-рецепторами, и микрофлорой тела, иначе наш организм постоянно атаковал бы собственные полезные микроорганизмы.
Как только молекула ТПР, расположенная на внешней поверхности клетки системы врожденного иммунитета, идентифицирует бактериальный фрагмент, она посылает сигнал во внутреннюю часть этой иммунной клетки, которая тут же активируется. Дальнейшее зависит от ее природы. Если это фагоцит, он готовится поймать и съесть бактерию. Но у других клеток врожденной иммунной системы другие роли. Дело усложняется, так что я избавлю нас от деталей, большинства терминов и сокращений. Попросту говоря, компоненты иммунной системы обмениваются между собой настоящей лавиной молекулярных сигналов, сообщая: 1) о том, что в организм проникла инфекция; 2) о том, где это происходит. Все одновременно общаются со всеми[19]. Клетки и молекулы сбегаются на место битвы. Другие иммунные клетки хватают куски разорванных ими бактерий – или же те куски, которые они обнаружили плавающими поблизости, – и отправляются в лимфатические узлы. Сотни таких узлов распределены по всему телу. Особенно их много в районе шеи, подмышек, груди, живота и паха. Там, в лимфоузлах, можно будет оценить специфику инфекции и принять решение об адекватном ответе.
Если почитать работы по иммунологии, особенно сравнительно давние, складывается впечатление, что отклик системы врожденного иммунитета – это какой-то «младший брат-дурачок». Он считается… нет, не совсем глупым, но каким-то простеньким, менее специфичным, будничным механизмом. Я говорил о клетках и рецепторах, которые улавливают широко распространенные сигналы и откликаются единообразно. Они хорошо подходят для легких случаев и мостят дорогу для настоящего иммунного отклика, который дает зрелая, тонко настроенная адаптивная иммунная система.
Но тут сделаем оговорку. Как позволяют предположить недавние исследования, организм все-таки куда гибче, изобретательнее и вообще интереснее, чем мы привыкли думать. Похоже, интегрируя комбинации сигналов от различных своих рецепторов, иммунные клетки действительно могут установить, какого рода ПАМО содержатся в окружающей их среде: плавающие там и сям кусочки разорванных бактерий, или неотделенные части погибших (но целых) бактерий, или фрагменты живых и неопасных бактерий[20], или же фрагменты живых и опасных бактерий[21]. Каждая из перечисленных разновидностей ПАМО представляет угрозу все более высокого уровня и требует своего уровня отклика. И система врожденного иммунитета отвечает и, как правило, весьма достойно. И стабильно.
Кое-какая специфика
Пока я описывал довольно-таки универсальный, неспецифичный иммунный отклик. Организм обнаруживает: что-то не в порядке, чужеродные существа находятся там, где им не следует быть. В результате активируется неспецифический иммунный отклик. Как я уже говорил, зачастую этого достаточно: система врожденного иммунитета берет на себя все заботы, и статус-кво замечательным образом восстанавливается. Однако если вторгающиеся захватчики чрезвычайно многочисленны и/или хитроумны и если система врожденного иммунитета с ними справиться не в состоянии, в дело вступает адаптивная иммунная система. Она именуется адаптивной, поскольку умеет адаптироваться (приспосабливаться, приноравливаться) к конкретному патогену.
С точки зрения несущего инфекцию микроба дело обстоит так. Избежав в течение нескольких дней столкновений с грубой реальностью в лице системы врожденного иммунитета, захватчик начинает чувствовать себя как дома (ну, почти) и активно размножаться. Но тут среда, в которой он находится, внезапно становится значительно враждебнее, чем прежде. Откуда ни возьмись появляется множество клеток, которые изо всех сил пытаются уничтожить чужака. Мало того, жидкость, где чужак плавает, заполняется крупными белками, специально сделанными так, чтобы соединиться с захватчиком. Безжалостная атака идет до полного уничтожения (имеется в виду, конечно, уничтожение патогена).
На адаптивную реакцию требуется время. По сравнению с мгновенным откликом системы врожденного иммунитета адаптивный иммунный ответ на новую угрозу приходит мучительно медленно: время здесь измеряется днями, а не часами и уж тем более не минутами.
Послания, оповещающие адаптивную иммунную систему о непорядке, поступают сравнительно рано. Реагируя на инфекцию, система врожденного иммунитета практически сразу же сообщает посредством сигнальных молекул: происходит что-то не то. На второй стадии этого процесса антигенпредставляющие клетки (АПК) приносят в лимфоидную ткань захваченные ими фрагменты патогена – антигены. Собственно, антиген – общее название для любого вещества, которое стимулирует адаптивный иммунный отклик. Функция АПК – продемонстрировать эти остатки патогенов адаптивной системе, чтобы она проанализировала их, готовя специфичный ответ. Так вся эта система готовится к наступлению, и, когда она активируется, ее действие весьма избирательно направлено на конкретную инфекцию.
При этом важно, чтобы иммунная система активировала свои специфичные отклики лишь в строго определенное время. Иначе любая незначительная инфекция спровоцирует полномасштабную иммунную реакцию, а это дело дорогое и хлопотное. Более того, адаптивный иммунный ответ, по ошибке обрушивающийся на собственные компоненты организма, может оказаться катастрофическим. Вот почему клетки адаптивной иммунной системы так строго придерживаются протокола: все должно быть правильно, все надлежит представить в нужном формате. Они требуют стимуляции сразу от нескольких источников (если хотите, это что-то вроде процесса независимой верификации), лишь тогда они убедятся, что действительно следует объявлять чрезвычайное положение.
Адаптивная иммунная система главным образом состоит из всего двух видов белых кровяных телец – B-лимфоцитов и T-лимфоцитов. Они называются лимфоцитами, поскольку обычно находятся в лимфатических тканях и органах. В-лимфоциты вырабатывают антитела, а Т-лимфоциты занимаются по большому счету всем остальным. Оба типа клеток действуют весьма избирательно: у каждого отдельного Т– или В-лимфоцита имеется на внешней мембране своя уникальная молекула рецептора. Подобно замку, который открывается лишь определенным ключом, каждый рецептор откликается лишь на определенный сигнал.
Рассмотрим сначала Т-лимфоциты. В нормальном состоянии они являются наивными: они еще не полностью созрели и лишь ожидают активации. Когда же инфекция выходит из-под контроля и система врожденного иммунитета уже не может с ней справиться, АПК демонстрируют наивным Т-лимфоцитам антигены, и наивные Т-лимфоциты, возмужав, превращаются в эффекторные Т-лимфоциты, готовые действовать.
Главная особенность адаптивной иммунной системы именно в том, что активируются не все Т-лимфоциты. Для каждого конкретного антигена существует лишь несколько специфических для него наивных Т-лимфоцитов, умеющих распознавать его и активироваться при его присутствии. А значит, в вашем организме имеется несметное множество различных Т-лимфоцитов, каждый из которых настроен на определенный вид антигена, и в каждый конкретный момент активируется лишь несколько Т-лимфоцитов (если они активируются вообще). Большинство наивных Т-лимфоцитов так и останутся наивными, за всю вашу жизнь организм не использует их ни разу. АПК (обычно принадлежащая к разновидности так называемых дендритных клеток) садится на лимфоузел и демонстрирует молекулу антигена (подобно владельцу лавочки, нахваливающему товар) проплывающим Т-лимфоцитам, которые постоянно совершают круговорот в лимфе. Подавляющее большинство таких показов оканчивается сухим «извините, мне это не интересно» со стороны Т-лимфоцита.
Тех же немногочисленных Т-лимфоцитов, которые при этом активируются, явно слишком мало, чтобы справиться с инфекцией, поэтому стартует процесс пролиферации: они начинают быстро множиться, создавая точные копии самих себя. Когда под рукой оказывается достаточное число клеток, они дифференцируются на несколько типов: существуют Т-киллеры, или цитотоксические Т-лимфоциты (они убивают), Т-хелперы (они главным образом помогают другим иммунным клеткам убивать, направляя их на нужное место, служа им проводниками и всячески ободряя), регуляторные Т-лимфоциты (они регулируют все эти убийства, дабы гарантировать, что процесс не выйдет из-под контроля) и Т-клетки памяти (запоминающие эти убийства для следующего боя: скоро я об этом расскажу подробнее). Затем все они выбрасываются в кровь, чтобы исполнить свои обязанности. Они движутся по следу химических сигналов к участку заражения. Отметим: с момента самого заражения прошло уже несколько дней.
Обратимся теперь к В-лимфоцитам. Их основная задача – не участвовать в ближних боях, а вырабатывать большое количество крупных белков, именуемых антителами. Каждый В-лимфоцит после активации и пролиферации (это происходит в общем-то так же, как и у Т-лимфоцитов) вырабатывает специфичные антитела, ориентированные на одну конкретную угрозу, и выбрасывает их в кровь или в инфицированную ткань. Там эти антитела плавают, пока не встретятся с тем антигеном, который они приучены распознавать. Тогда они прикрепляются к патогену и остаются прикрепленными к нему (зачастую в самых неудобных для патогена местах), чтобы нарушить его функционирование. Более того: так как у каждого антитела имеется по несколько «рук» (от двух до десяти в зависимости от типа), одно антитело иногда может схватить сразу две бактерии. И достаточно скоро бактерии окажутся покрыты антителами, слипнутся друг с другом, образуя крупные и вполне безвредные шарики-глобулы, которые содержат десятки беспомощно дергающихся бактерий и от которых организм может затем избавиться. Кроме того, антитела (возможно, это даже более важная их функция) действуют как метки, маркируя патоген для его последующего разрушения системой врожденного иммунитета.
Существует своего рода разделение труда: с бактериальными патогенами обычно работают антитела; вирусы же проводят вне клеток гораздо меньше времени, а потому не так долго находятся перед хищным взором антител. Поэтому с вирусами борются главным образом цитотоксические Т-лимфоциты, которые, во многом так же, как и система врожденного иммунитета, заставляют клетку-хозяина совершить самоубийство.
Вот так выглядит полномасштабный адаптивный иммунный отклик. Для организма эта штука затратная и часто даже вредная (пусть этот вред и носит временный характер). Для патогена вся эта баталия обычно означает конец пути. Если вы в данный момент не больны (или не несете в себе какой-то скрытый или хронический недуг), тогда можно сказать, что все многочисленные инфекции, с которыми вы сталкивались в жизни, окончились именно так.
После окончания битвы большинству иммунных клеток незачем болтаться без дела. Они тут же совершают самоубийство, весьма эффективно и без лишнего шума, оставляя после себя лишь воспоминания.
Живая память и первородный грех
Специфичность адаптивного иммунного отклика – не единственное его замечательное свойство. Наша иммунная система еще и способна запоминать собственную историю. Среди множества клеток, вырабатываемых в рамках адаптивного иммунного ответа на инфекцию, есть Т-клетки памяти и В-клетки памяти. Они не принимают участия в непосредственной реакции, зато остаются в нашем организме на долгое время, а иногда и навсегда.
Если когда-нибудь объявится патоген, с которым мы уже сталкивались, и если его удастся опознать клеткам памяти, он вызовет вторичный иммунный отклик, более быстрый и решительный по сравнению с первичным. Вот в чем смысл вакцинации: прививка создает иммунную память, обеспечивая первую встречу нашего организма с патогеном в контролируемых и максимально безопасных условиях, так что если вы встретитесь с этой инфекцией «по-настоящему», ваш организм сможет быстро и эффективно отреагировать на нее.
Вообще-то человечество уже тысячи лет знает о феномене вторичного иммунного ответа. Древнегреческий историк Фукидид писал об этом явлении еще в 430 году до н. э. Вторичный иммунный отклик используется уже сотни лет, однако понимать его мы начали только в XX веке (об этом пойдет речь в четвертой главе). Разумеется, такой отклик тоже не всегда достаточен. Как вы хорошо знаете, существует множество болезней, для которых пока нет эффективных вакцин. Нам еще предстоит научиться «разговаривать» с человеческой иммунной системой так, чтобы она поняла, чего мы от нее хотим – каких действий, знаний, памяти.
К примеру, сейчас уже в общих чертах понятно, что длительность иммунной памяти по отношению к определенному антигену зависит от типа антигена и клетки памяти, от того, подвергается ли организм повторному воздействию данного патогена, и от многих других факторов. Вот почему для одних вакцин требуется повторная иммунизация (ревакцинация), а для других – нет. Не так давно ученые обнаружили, что существуют короткоживущие и долгоживущие клетки памяти. Короткоживущие В-клетки памяти и короткоживущие Т-клетки памяти присутствуют в организме лишь в течение нескольких недель после заражения (на случай, если микроб объявится снова), тогда как долгоживущие клетки памяти способны жить в организме десятилетиями. Разрабатывая вакцины, следует иметь это в виду.
И наконец, еще один эффект, о котором мне хочется рассказать (не только из-за его названия): первородный антигенный грех. Предположим, человек заражается вирусом гриппа, выздоравливает, но сохраняет в себе память об этой инфекции. Позже человек снова подхватывает грипп, однако на сей раз это уже другой штамм вируса (вирусы гриппа мутируют с невообразимой скоростью). Клеткам памяти удается распознать белки вирусной оболочки и не только отреагировать на инфекцию (что само по себе хорошо), но и помешать новым клеткам отреагировать на нее (что плохо, поскольку новая разновидность вируса может обладать неведомыми неприятными белками, о присутствии которых иммунная система не знает и не может узнать, ибо по глупости полагает, что уже все это знает). Такое может происходить снова и снова, пока в организм не попадет совершенно новый штамм вируса, который иммунная система не сумеет распознать, а значит, не сможет и адекватно отреагировать на него.
Вот один из недостатков иммунной системы. Увы, далеко не единственный.
Сбои в системе
Чем сложнее система, тем больше спектр возможных неполадок. Иммунная система – не исключение. Ей приходится выполнять несметное количество деликатнейших задач, и она может отказать в любой момент. Иной раз ее ошибки весьма показательны. Вот лишь самый краткий их обзор.
Даже оптимальная иммунная реакция не проходит даром для организма. В пылу иммунной битвы с инфекцией, когда иммунные клетки гоняются за увертливыми бактериями (которые множатся с головокружительной скоростью) или пытаются правильно и вовремя идентифицировать зараженные вирусом клетки нашего тела, когда повсюду плавают опасные ферменты и куски патогена, неизбежен какой-то побочный эффект. И в самом деле, зачастую патоген сам по себе не так уж вредоносен, и основной причиной наших неприятностей становится чрезмерно бурная реакция иммунной системы. В таких случаях невинные ткани, находящиеся в нормальном состоянии, очень страдают от ущерба, который наносит эта охота иммунных клеток на патогены. Особенно серьезная ситуация возникает при хроническом заболевании, когда патоген умело скрывается от врага и постоянно оказывается в организме. Иммунная система снова и снова на него реагирует, и организм вынужден страдать от последствий.
Заболевания, связанные с иммунодефицитом, возникают, когда какой-то компонент иммунной системы отсутствует или же неисправен. Иногда речь идет о генетическом заболевании, то есть о результате мутации; иногда причина – факторы, действующие в окружающей среде. Несомненно, самый известный среди этих недугов – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), результат воздействия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), атакующего Т-лимфоциты, тем самым существенно ограничивая иммунную реакцию, а значит, подвергая организм повышенному риску заражения любыми инфекциями[22].
Будучи элементом нормального иммунного отклика и процесса выздоровления, воспалительный процесс – результат действия белковых сигналов, призывающих клетки и антибактериальные компоненты из крови на место заражения и усиливающих приток крови и лимфы[23] к этому участку, дабы облегчить адаптивную иммунную реакцию и гарантировать оптимальный ответ на заражение. Беспокоиться следует, когда по тем или иным причинам воспаление не спадает, продолжая вызывать боль и наносить ущерб организму.
Поскольку иммунная система в принципе способна отреагировать на все, возможна иммунная реакция, направленная против практически каждого типа молекул или клеток, которые окажутся в нашем организме. Определенный процесс отбора не позволяет иммунной системе бороться с вашим же организмом (мы подробнее обсудим это во второй главе), но если процесс пойдет не так, возникнет аутоиммунная реакция: иммунная система начнет бороться с каким-то из компонентов родного организма. Если она борется с вырабатывающими инсулин клетками поджелудочной железы, возникает диабет первого типа; если она ополчается против других типов клеток, может возникать ревматоидный артрит, волчанка, рассеянный склероз, аутоиммунный гепатит, тяжелая псевдопаралитическая миастения, болезнь Крона… – список очень длинный. Аутоиммунные заболевания не только хорошо известны, но и, к сожалению, широко распространены.
Иногда иммунная система оказывается чересчур чувствительной и устраивает переполох из-за безвредного антигена. Иммунная реакция определенного типа, чья эволюционная роль сводилась к борьбе с гельминтными инфекциями, порой бьется с не заслуживающим внимания соперником.
На границе
Некоторые участки тела более уязвимы, чем другие. «Обычная» (систематическая) иммунная система действует в достаточно стерильной среде, однако некоторые области нашего тела в силу своих функций регулярно подвергаются воздействию внешней среды. В тело должны поступать пища, вода, воздух, свет; из тела должны выводиться всевозможные вещества. Соответствующие пограничные пункты вынуждены иметь дело с колоссальной бактериальной и антигенной нагрузкой. Поток чужеродных организмов и материалов не прекращается. Иммунная система слизистых оболочек расположена как раз на тех поверхностях тела, которые чаще всего взаимодействуют с окружающим миром.
Основная особенность этих оболочек (как подсказывает название) – в том, что они покрыты слизью, достаточно влажной, чтобы ее клетки были нужным образом смазаны, но и достаточно плотной и при этом клейкой, чтобы служить грозной физической преградой для вторгающихся патогенов. Слизистой оболочке приходится покрывать немалую площадь: так, поверхность нашего кишечника составляет около 500 квадратных метров, а ведь мы еще не учитываем глаза, рот, нос, респираторный тракт. Пожалуй, по общему количеству своих клеток иммунная система слизистых оболочек больше всех остальных иммунных барьеров организма вместе взятых. Участки, содержащие иммунные элементы, погружены в слизистую оболочку. Эти элементы должны не только быстро реагировать на возникающие проблемы, но и собирать информацию о возможных инфекциях.
Сами по себе элементы иммунной системы слизистых оболочек – во многом такие же, как и те, о которых мы уже говорили: уже знакомые нам клетки системы врожденного иммунитета и адаптивной иммунной системы находятся во внутренней оболочке кишечника и на других слизистых поверхностях. Эти клетки организованы в специализированные ткани и структуры и действуют полуавтономно, не всегда требуя системной реакции «остального организма».
Поскольку дело происходит на границе, иммунная система слизистых оболочек ведет себя по-особому. На всех прочих участках организма инфекция – исключение из правил, примечательное и опасное событие, которое требует решительных действий. А для иммунной системы слизистых оболочек контакт с инфекциями – норма, поэтому она и работает иначе. Если я в очередной раз уступлю искушению применить военную аналогию, можно будет уподобить иммунную реакцию широкомасштабной войне (по окончании которой снова воцаряется мир), а иммунную систему слизистых оболочек сравнить с отрядом, постоянно вовлеченным в непрекращающиеся мелкие пограничные стычки, к тому же поддерживающим запутанные отношения с гражданским населением, которое в каждый момент может таить в себе враждебные элементы.
К примеру, в нормальном состоянии внутренняя оболочка кишечника может содержать в себе активированные Т-лимфоциты, охотящиеся на зараженные клетки, и иметь зрелые В-лимфоциты, выбрасывающие антитела в кишечник. Как мы уже видели, в любом другом случае это означало бы, что организм атакуют враги и что он развернул свою адаптивную иммунную систему во всю мощь. Здесь же, на границе, это вполне рутинная операция. Подобное состояние постоянной иммунной готовности и активации могло бы привести к непрекращающемуся воспалению кишечника. Чтобы это предотвратить, регуляторные клетки и соответствующие механизмы держат иммунную активность под контролем, поддерживая тонкое равновесие.
Сто триллионов слонов в посудной лавке
Начну эту главку с двух слов. Вот они: фекальная трансплантация.
Да-да. Люди это делают. Имеется в виду как раз то, о чем вы подумали. Этот метод лечения появился еще в 1930-е годы, но недавно снова вернулся в медицинский обиход. Мы о нем скоро поговорим.
А пока вот что. Думаю, вы уже слышали это, однако не помешает повторить: на каждую клетку нашего тела приходится 10 микроорганизмов, которые сидят в ней или на ней. Слово «микроорганизм» в данном случае носит обобщающий характер: нам первым делом приходят в голову бактерии, но здесь мы имеем дело со всевозможными разновидностями микроорганизмов, в том числе и с вирусами. Большинство этих микроорганизмов обитают в длинной изогнутой трубке – нашем кишечнике. В следующей главе я расскажу, как они туда попали, пока же давайте просто примем как данность, что они там уже есть.
Бактериальное сообщество у нас в кишечнике состоит из примерно сотни триллионов отдельных экземпляров, принадлежащих примерно к тысяче видов. Его состав у каждого человека свой. Ваша бактериальная экосистема отличается от моей, потому что на протяжении жизни мы подвергались воздействию разных факторов и объектов, мы ели разное, наши иммунные системы и подробности их прошлого также слегка отличаются. В свою очередь, наши бактериальные компаньоны оказывают воздействие на нашу жизнь. Приведу один нашумевший пример, о котором много рассуждали несколько лет назад. Теперь уже почти установлено, что микрофлора нашего кишечника играет определяющую роль в том, какова масса нашего тела: проще говоря, толстые мы или худые.
Обо всем этом мы узнали сравнительно недавно. До того, как изощренные методики секвенирования ДНК[24] стали доступными (и дешевыми), никто по-настоящему не знал, насколько сложна эта экосистема. Да и, откровенно говоря, на нее обращали не так уж много внимания. Для иммунологов бактерии – просто-напросто враг, а бактерии-симбионты – небольшое исключение из правил. Но сейчас становится все яснее, что в этой области нам еще многое предстоит узнать. И что узнать это необходимо.
О наших взаимоотношениях с нашими микроскопическими спутниками можно говорить долго. Иммунология задает в связи с этим несколько вопросов. Какую роль играют эти бактерии в нашем самочувствии, насколько сильно они на него влияют? Как иммунная система, которая все-таки предназначена для борьбы с бактериями, справляется с этим огромным бактериальным бременем, вечно пребывающим в кишечнике, и как она отличает безвредные бактерии от опасных?
Чтобы ответить на эти вопросы, многочисленные ученые проводят многочисленные исследования. Находки и открытия льются рекой, однако все специалисты убеждены, что пока мы коснулись лишь краешка проблемы. Сегодня нам только известно, что наша иммунная система находится в сложном взаимодействии с бактериями, проживающими у нас в кишечнике Они борются, сотрудничают, регулируют поведение друг друга и вообще всячески друг друга формируют. Когда все в порядке, они достигают состояния динамического равновесия, которое выгодно обеим сторонам. Бактерии только рады пребывать в этой безопасной, стабильной и весьма питательной среде. Оставаясь в ней, они позволяют нам сохранять здоровье, поскольку конкурируют за ресурсы с вредоносными патогенами, которые попадают в кишечник. Благодаря этому врагам трудно разбить лагерь и причинить нам вред[25].
Ясно и то, что при нарушении баланса могут происходить самые разные неприятности. Воспаления, хронические заболевания, язва желудка, синдром раздраженного кишечника – это лишь несколько примеров. Самое время вернуться к фекальной трансплантации.
Идея достаточно проста. Если естественная микрофлора кишечника у человека не в порядке и вызывает серьезные проблемы, ее можно заменить. Вполне очевидный метод, если представить себе микрофлору просто как еще один орган (и, кстати, довольно большой: общая масса кишечных бактерий у взрослого человека – около двух килограммов). Вам понадобится лишь здоровый донор и противоотечная аптечка. Донор понятным способом дает образец, этот образец смешивают с теплой водой, и врач закачивает смесь в ректум, в прямую кишку пациента, прямиком в кишечник. Звучит как чертовски мерзкая процедура, но по своему принципу она не так уж сильно отличается от питья всяких там пробиотических йогуртов, которые вечно рекламируют по телевизору. Описанная нами процедура весьма эффективна для усмирения бунтующего кишечника. Утешительная мысль[26].
Но все равно, знаете… Бр-р-р.
Глава 2. Время развиваться
Вам случалось присутствовать при родах?
Ну да, ну да, вы правы. Я имею в виду – не считая ваших собственных. При собственных присутствовали все, куда деваться.
Мне вот довелось посетить такое событие дважды – когда рождались два моих сына. Оба раза все прошло как нельзя лучше. Впечатления у меня остались незабываемые. Как от встречи с настоящим чудом. Столько бурных чувств, усталости, восторгов, радости, боли, слез, крови и других телесных жидкостей, а также красноватых и лиловатых фрагментов разного размера и консистенции, а также этой черной дряни, которая всюду липнет, а также всего прочего, что сопутствует процессу, при котором одно человеческое существо исторгает из своей тазобедренной области другое человеческое существо. Что и говорить, роды – вещь удивительная и волшебная[27], однако мы вынуждены признать: это довольно глупый способ явить миру новое живое создание. Вспомним, как это проделывают растения, насекомые, птицы – да и вообще любая другая часть природы. Что-то мы не видим, чтобы они часами корчились в агонии.
В этой главе я собираюсь вкратце рассмотреть некоторые из наиболее интересных аспектов развития иммунной системы на протяжении первых лет жизни человека – начиная практически из ничего и заканчивая созреванием этой системы, которое у младенцев наступает не при рождении, а спустя несколько месяцев после появления на свет, в не очень-то предсказуемое время.
Но сначала давайте вместе воздадим хвалу матерям всего мира. Может, у вас и есть свои недостатки, мамаши, но все вы пережили сущий кошмар, производя на свет нас, маленьких жалких дуралеев. Благословенны будьте. Мы всем сердцем с вами. Заодно благословим и вашу иммунную систему, которая не приняла нас за инфекцию и не попыталась расправиться с нами, еще когда мы представляли собой всего-навсего крошечный сгусток клеток. Вы молодцы, чего уж там.
Мамаша и чадо
Люди пытались заняться переливанием крови еще давным-давно – в начале XVII века. Разумеется, тогда никто и понятия не имел о группах крови и других важнейших особенностях материала, который лекари бодро выкачивали из тел своих пациентов или закачивали в них[28], поэтому вполне простительно представление тогдашних медиков, что кровь – она и есть кровь (ее разделение на группы, знакомое нам сегодня, появилось лишь в 1900 году). Проводились опыты самого разного рода: кровь животных переливали другим животным, кровь животных переливали людям, кровь одних людей – другим людям… Результаты получались, мягко говоря, сомнительные. После одной-двух смертей пациентов переливание крови законодательно запретили во Франции, и на полтора столетия оно практически исчезло из медицинской практики. В XIX веке эту процедуру начали постепенно вводить вновь. В наши дни она вполне безопасна, важно лишь заранее убедиться, что вы переливаете пациенту кровь подходящей группы.
Так обстоит дело с кровью, которую вообще-то относительно легко переносить из одного тела в другое. Перемещать от человека к человеку клетки или ткани другого типа гораздо труднее. В наши дни технология трансплантации развилась до такой степени, что в случае необходимости удается пересаживать донорское сердце, почку, печень и другие органы. Однако организм этому сопротивляется. Иммунная система реципиента (получателя донорского органа) сразу же понимает, что в организм проник здоровенный кусок чужеродного вещества, и пытается с ним бороться. Даже в случае самой удачной совместимости с донором пациенты вынуждены принимать препараты, подавляющие иммунитет, дабы усмирить иммунную реакцию на «вторжение». Человеческий организм в нормальном состоянии отнюдь не является гостеприимным хозяином, радушно принимающим чужеродные объекты. Собственно, я всю предыдущую главу описывал лишь некоторые из многочисленнейших и разнообразнейших путей, какими наше тело изо всех сил пытается избавиться от непрошеных визитеров.
Про эту борьбу все было давно известно, однако лишь в 1953 году ученые решили всерьез рассмотреть тот факт, что многие люди регулярно месяцами расхаживают, имея внутри себя другого человека, и, судя по всему, особенно не страдают от негативных эффектов[29]. Легко видеть, что дети – совсем не копии своих матерей. Иммунологические профили эмбриона и роженицы не одинаковы: как известно, половину своих генов плод получает от отца, и эта генетическая смесь дает в значительной степени иного человека[30]. Как же мать переносит присутствие другого организма в своей утробе?
Наша репродуктивная стратегия основана на методе «Человек – инкубатор для другого человека», и тут-то возникают менее очевидные и более озадачивающие вопросы. Даже сегодня не до конца понятно, как достигается эта толерантность между эмбрионом и матерью. Мы знаем, что материнский организм по-прежнему нормальным образом реагирует на все прочие чужеродные объекты и что зародыш физически не полностью отделен и не полностью защищен от материнской иммунной системы. Похоже, между мамашей и малышом происходят какие-то особые и довольно сложные взаимодействия.
Возможно, начинается это уже при зачатии, когда тело матери вынуждено привыкать к присутствию отцовских генов[31]. Затем, на самых ранних стадиях беременности, между развивающимся плодом и окутывающими его материнскими тканями налаживается весьма сложный диалог. Эмбрион не просто прячется за плацентарным барьером от материнской иммунной реакции: он вырабатывает молекулы, которые намеренно торпедируют самые опасные иммунные клетки матери и помогают от них избавляться. Материнские ЕК-клетки (естественные киллеры) и Т-лимфоциты бродят по плаценте, но вместо того, чтобы уничтожать клетки эмбриона, они переключаются в регуляторный режим и начинают выделять сигнальные вещества, которые подавляют иммунную реакцию и обеспечивают безопасное перемещение эмбриона в матку (а заодно и способствуют прорастанию в матку кровеносных сосудов, что весьма полезно). Клетки зародыша, кроме того, пытаются избежать обнаружения иммунной системой, не показывая ей молекулы ГКГС (главного комплекса гистосовместимости) класса I, что чертовски смущает иммунные клетки (такой же трюк используют некоторые инфекционные вирусы, пытаясь избежать обнаружения и уничтожения). Кроме того, материнская иммунная система соображает, какие белки имеются в эмбрионе, и учится терпимому отношению к ним.
Происходит и более широкое подавление материнской иммунной системы. Нет, не очень масштабное, беременные тоже могут сопротивляться инфекциям, но при этом более тонкое. Уровень бдительности иммунной системы как бы сдвигается на одно деление вниз. Кстати, именно поэтому женщины с аутоиммунными заболеваниями (которые, если помните, являют собой результат чрезмерного иммунного энтузиазма) иногда обнаруживают, что во время беременности чувствуют себя гораздо лучше, чем обычно.
Сейчас ученые постепенно приходят к мысли, что при беременности целый набор взаимодействующих клеток и сигналов делает материнскую утробу иммунологически привилегированным местом, менее склонным к воспалению (среди других иммунологически привилегированных мест человека – мозг, глаза, яички). Между эмбриональными и материнскими иммунными клетками ведется активное общение, в результате которого те и другие научаются сосуществовать на всем протяжении беременности.
Конечно, что-то здесь может пойти не так, и иногда это случается. Тогда организм матери начнет проявлять иммунную реакцию по отношению к эмбриону. В острых случаях это может стать причиной женского бесплодия: на ранних стадиях беременности привести к спонтанному выкидышу, на поздних – стать причиной воспалительной реакции, которая именуется преэклампсией и часто оказывается весьма опасной как для матери, так и для ребенка.
И наконец, вот вам странный факт: клетки зародыша могут выбираться из плаценты и вторгаться в материнскую кровеносную систему. Существует теория, согласно которой они якобы даже снижают чувствительность материнской иммунной системы, приучая ее к своему присутствию (возможно, это составляющая того самого диалога между матерью и ребенком). Однако в последние годы ученые показали, что происходит нечто большее: некоторые из этих эмбриональных клеток можно обнаружить в материнской крови даже после родов, более того – и спустя много лет после, в чем нет никакого иммунного смысла. Эти клетки обнаруживали в материнских тканях: в печени, в сердце, даже в мозгу. После своего перемещения туда они развивались в обычные клетки печени, или сердца, или мозга, после чего и дальше как ни в чем не бывало оставались в материнском организме. Еще раз: у меня есть дети от моей жены, и у нее благодаря этому есть клетки с моими генами, проникшие в самые разные места ее тела, даже в мозг. Это явление называется эмбриональным микрохимеризмом. Почему оно происходит, никто не знает.
Костяная машина
Те из вас, кому известно, кто такие The Pixies, могут догадаться, что эта главка названа вслед за первым треком с Surfer Rosa, дебютного диска группы, вышедшего в 1988 году[32]. Это один из моих любимых альбомов, и меня приятно удивило, что среди немногочисленных строк, какие мне удалось разобрать, содержится правда жизни, а заодно и научная точность:
Ну да, я понимаю, что выражение «bone machine» здесь может нести в себе (как, вероятно, и планировалось) дурацкий сексуальный подтекст[33], но я предпочитаю игнорировать его, ибо утверждаю, что моя интерпретация – куда более глубокая.
Чтобы понять, о чем я толкую, следует обратить внимание на то, как человек растет и развивается. Эмбрион начинает свое существование как оплодотворенная яйцеклетка. Одна-единственная клетка, переполненная информацией и возможностями, но при этом лишенная практически всего остального – например, костей. Исходная клетка делится, процесс деления повторяется снова и снова, и получающиеся клетки начинают дифференцироваться. Специалисты по биологии развития прослеживают возникновение систем организма на всех стадиях – от этих скромных зачатков до полностью сформировавшегося ребенка.
Прародительница иммунной системы – гемопоэтическая стволовая клетка (ГСК). Клетки этого типа в процессе дифференциации (специализации) способны превращаться в клетки крови, причем любого типа. ГСК появляются у эмбриона уже на третьей неделе беременности, в зародышевом желточном мешке. Недели две спустя они мигрируют к печени и селезенке, а к третьему (и последнему) триместру беременности их можно обнаружить в костном мозге, где они главным образом и остаются на протяжении всей нашей жизни (и отлично там себя чувствуют). Наша костяная машина постоянно вырабатывает свежие кровяные клетки, приходящие на смену старым. Стволовые клетки начинают специализироваться, развиваясь в предшественников (незрелые версии) знакомых нам иммунных клеток. Затем они покидают кость и мигрируют в кровеносную систему, направляясь к своим пунктам назначения. Во что превратится конкретная ГСК – в красное кровяное тельце (эритроцит), в Т-киллера, в Т-лимфоцит или еще в какой-то вид клеток? Это зависит от сигналов, которые она получает из окружающей ее среды.
Между тем наши иммунные органы также начинают формироваться, подготавливая те места, где будут созревать иммунные клетки и где будут осуществляться иммунные реакции. Первый этап развития иммунных клеток идет главным образом в первичных органах иммунной системы, этих «фабриках» иммунной системы. Т-лимфоциты названы так по первой букве тимуса – железы, где они производятся из своих предшественников[34]. Вы можете подумать, что B-лимфоциты названы так, поскольку зарождаются в костном мозге (bone marrow), где они, несомненно, и возникают, но на самом деле они названы так в честь bursa of Fabricius – фабрициевой сумки (которой у человека вообще нет), лимфатического органа кур: именно в нем впервые были обнаружены В-лимфоциты.
После своего возникновения еще не до конца созревшие клетки направляются во вторичные органы иммунной системы – селезенку, лимфатические узлы, миндалины, а также в некоторые другие специализированные ткани, рассеянные по важнейшим участкам тела (скажем, во внутреннюю оболочку кишечника или в носовой ход), где они и останутся. Там и будут происходить иммунные реакции (все идентификации, пролиферации и коммуникации, о которых я рассказывал в первой главе). Существуют и третичные органы иммунной системы – меньшего размера ансамбли клеток, при необходимости собирающиеся в местах заражения и рассеивающиеся, когда (и если) с инфекцией удается справиться.
Если хорошенько вглядеться в детали, можно удостовериться, что это безумно сложный процесс, но от биологии развития как-то не ждешь ничего другого. Действующий человеческий организм – это какофония неумолкающих разговоров[35]: практически каждая клетка пытается отдавать распоряжения всем окружающим клеткам. Представьте себе сумасшедший дом, сплошь населенный психами, каждый из которых убежден, что он – единственный нормальный и к тому же принадлежит к числу персонала. Развивающийся человеческий организм – что-то вроде такого вот сумасшедшего дома, который с нуля строят такие вот психи, причем они возводят его внутри другого, уже существующего, и в какой-то момент новый дом должен выйти наружу. Если взглянуть на дело так, то развитие иммунной системы не покажется вам чем-то особенно примечательным.
Однако и тут есть чему подивиться. Например…
Безумцы во всеоружии
Представьте, что вы блуждаете в бесконечном мраке, кружите по пульсирующим коридорам, высматривая, ожидая, неустанно ища Одно – то Одно, которое (как было решено еще до вашего рождения) является причиной вашего существования. Вместе с вами кружит бесчисленное множество ваших собратьев, и каждый из них тоже разыскивает свое уникальное Одно. Многие из них гибнут, и на смену им приходят другие. И мало кто находит то, что искал. Для многих Одно даже не существует. Если же вы каким-то чудом найдете свое Одно, вы сделаете все, чтобы убить его.
По-моему, готовый сценарий для душераздирающего фантастического триллера-антиутопии. Только вот это наша повседневная реальность.
Вашему телу, как я уже указывал в предыдущей главе, необходим какой-то способ защищаться от неизвестного, поэтому оно вырабатывает огромную армию В– и Т-лимфоцитов (клеток, относящихся к категории белых кровяных телец), каждый из которых обладает уникальной молекулой – рецептором антигенов, белком, который прилепляется к поверхности клетки и который специально создается для избирательной связи с одним (и только одним) из многомиллионного количества эпитопов – молекулярных комбинаций. Они (согласно логике нашего организма) когда-нибудь могут обнаружиться на поверхности какого-то пока неведомого микроба, нагло вторгающегося в наше тело, и если он объявится, мы будем готовы отразить его вторжение, да еще как! Когда молекула антигенного рецептора все-таки встречает свой специфический эпитоп (который ей нахваливает АПК), она посылает сигнал клетке, а та устремляется в лимфатический узел, где не жалеет усилий, чтобы гневно запустить иммунную реакцию. Как только организм получит независимое подтверждение от других своих систем и удостоверится, что он действительно имеет дело с инфекцией, клетка принимается с бешеной скоростью штамповать свои копии (этот процесс называется клонированием – да, вот откуда взялся термин); затем армия клонов мчится на битву, дабы отыскать и уничтожить захватчиков.
Впрочем, такая встреча с захватчиком почти никогда не происходит. Новым антигенам, располагающимся на новых, замечательно-зловредных патогенах, практически никогда не удается проникнуть к нам в организм. Большинство лимфоцитов, предназначенных для борьбы с ними, просто бесцельно циркулируют в крови и лимфе, ожидая, пока что-нибудь произойдет. А затем они умирают, и на смену им приходит новый отряд, проделывающий то же самое. Уровень избыточности в этой системе колоссален: таков оптимальный метод защиты от новых угроз. Клетки глупы, они не умеют определять, опасен или нет встреченный ими объект. Так что ваш организм вынужден постоянно заниматься этим почти бессмысленным делом, потому что когда-нибудь его усилия окупятся сторицей, хотя окупаются они весьма редко. Не будь у нас такого защитного механизма, инфекционный агент, сумевший проскользнуть через систему врожденного иммунитета, стал бы хозяйничать в нашем организме.
Но постойте.
Тут есть одна проблема, правда? Или даже не одна.
О случайности
Вот первая проблема. Человеческий геном, как теперь достоверно известно, состоит приблизительно из 20 тысяч генов (первоначальная оценка была куда выше – 100 тысяч). Будем считать, что один ген – это фрагмент генома, кодирующий единичный белок[36]. Иммунная клетка имеет на поверхности белковый рецептор, который соответствует определенному антигенному эпитопу, и умеет его распознавать. А значит, нам потребовались бы миллионы генов лишь для того, чтобы синтезировать эти белки. Каким же образом организм создает даже не тысячи, а миллиарды различных комбинаций?
Несколько десятилетий назад ученые, начав по-настоящему разбираться в иммунной системе, обнаружили, какое огромное количество типов лимфоцитарных рецепторов существует в человеческом организме. Одни только В-лимфоциты представляют сотню миллиардов комбинаций. Пришлось радикальным образом пересмотреть принцип «один ген – один белок». Как выяснилось, иммунные клетки грубо нарушают это правило[37].
Лимфоциты обмениваются генами. Каждый лимфоцит имеет ту же ДНК, что и любая другая клетка вашего тела, но он проделывает что-то странное с генами, которые кодируют белок его антигенного рецептора.
Взглянем на В-лимфоцит. Как и все иммунные клетки, он зарождается в костном мозге в виде чрезвычайно незрелой ГСК. По мере медленного созревания этого лимфоцита что-то начинает происходить с его геномом: к нескольким сотням из его генов, ответственным за выработку антител, приближаются особые ферменты, умеющие манипулировать ДНК. Эти ферменты принимаются кромсать ДНК, отсекая от нее фрагменты, перемешивая их, добавляя или вынимая несколько случайно выбранных нуклеотидных оснований, соединяя цепочку вновь, – иногда довольно небрежно, что лишь усиливает элемент случайности, – и в результате мы имеем череду по-новому расположенных генов.
Может показаться, что в таком процессе рекомбинации[38]нет особого смысла. Но заметьте: кромсающие ферменты делают свое дело случайным образом, что даже хорошо, ибо это означает, что и результаты будут случайными. А значит, у каждого лимфоцита определенная часть генома окажется уникальным образом перетасованной, и когда для клеток придет время произвести антигенные рецепторы, каждая клетка будет считывать свою ДНК и вырабатывать свой уникальный вид рецептора.
Разумеется, совершенно случайная рекомбинация может оказаться очень скверной штукой. Большинство из наших генов должны оставаться строго на своем месте, иначе клетки понятия не имели бы, как им выживать и функционировать. Вот почему процесс рекомбинации ограничивается несколькими изменчивыми участками генома, и происходит он лишь в созревающих лимфоцитах. Иными словами, мы имеем дело с жестко регулируемой анархией.
Мало того, гены тасуются и в случае активации клетки. Если В-лимфоцит встречает-таки свой эпитоп и мигрирует в лимфатический узел, чтобы созреть, он претерпевает дальнейшие генетические изменения. Этот процесс именуется соматической гипермутацией[39], и в результате несметное количество клонов зрелых В-лимфоцитов[40], распространяющихся по телу, вырабатывают не единичный тип антитела, а целый ряд «вариаций на тему». Эта вторая стадия варьирования гораздо изощреннее первой: мутации происходят очень быстро, но лишь в строго определенных участках генов. В итоге мы получаем набор рецепторов, не очень-то отличающихся друг от друга.
Цель этой повторной редактуры – тонкая настройка и оптимизация: когда в организме уже имеется определенный антиген, иммунная система приноравливается к нему, чтобы его одолеть. К лимфатическим узлам (и в другие места, где собираются В-лимфоциты) стягиваются клетки, уже захватившие некоторые антигенные молекулы, и начинают подгонку. Связь между В-лимфоцитом и антигеном поначалу оказывается довольно шаткой, так как первая примерка обычно не очень-то удачна. Это и понятно: мы имеем дело с участком связывания, который выстроен случайным образом, так что мы и не можем ожидать точного совпадения с первого же раза. По сути, В-лимфоциты конкурируют друг с другом за антигенные молекулы. Те лимфоциты, рецепторы которых лучше подходят к вторгшемуся антигену, остаются соединенными с ним, да еще и захватывают его собратьев. Поскольку на них оказывается больше антигенов, эти В-лимфоциты имеют больше шансов на то, что их выберут Т-лимфоциты, побуждающие их к дальнейшей пролиферации и к повторению этих циклов тонкой настройки. Те же В-лимфоциты, которые не настолько хорошо подогнаны к антигену, не осуществляют такую бурную пролиферацию и либо проходят еще один цикл мутации, либо гибнут. Спустя несколько дней этот процесс настройки, отбора и улучшения обеспечивает наш организм В-лимфоцитами, которые вырабатывают антитела, по-настоящему хорошо связывающие данный антиген[41].
Случайный характер этого процесса рекомбинации означает, что его продукты оказываются по большей части ни на что не годными. Громадное количество создаваемых таким путем рецепторов бесполезны: они специфичны для объектов, которых вообще не существует в природе, или же для тех, которые не встречаются на поверхности инфекционных микроорганизмов. Такую цену приходится платить за круговую оборону.
Кстати, у этого процесса есть и интересный побочный эффект, которым, зная механизм процесса, мы можем воспользоваться. В последние четыре десятка лет ученые применяют этот процесс отбора и пролиферации (должным образом оптимизированный) для производства всевозможных видов антител, что приносит огромное благо. Мы обсудим это в пятой главе.
То, что творится в тимусе, не выйдет за его пределы (ну, почти)
Итак, с проблемой разнообразия мы, кажется, разобрались. Но здесь возникает второй вопрос. Опять-таки, представьте себе этот гигантский набор разнообразных иммунных клеток, способных откликаться буквально на все. Эти клетки не плавают в стерильных колбах. Они кишмя кишат в вашем теле, контактируя с бесчисленными биомолекулами на поверхности ваших клеток.
Я сказал, что большинство их рецепторов бесполезны. Но некоторые из них не просто бесполезны, они хуже, чем бесполезны. Если эти рецепторы действительно создаются случайным образом, почему же тогда иммунные клетки (хотя бы некоторые) не устремляются на битву с другими клетками нашего тела?
Иногда такое случается, и результатом становится аутоиммунное заболевание: иммунные клетки принимают обычный эпитоп невинной человеческой клетки за патогенный антиген, атакуют его и сеют панику среди клеток с таким же маркером, серьезно нарушая их функционирование. К счастью, это скорее исключение, чем правило, иначе мы не выжили бы. Мы до сих пор не умерли, потому что у большинства из нас регуляторные механизмы почти постоянно отфильтровывают вредоносные лимфоциты, которые могут обрушиться на наши собственные клетки. Таких лимфоцитов много: свыше 90 % Т-лимфоцитов вообще никогда не покидают пределов тимуса, а около половины В-лимфоцитов всегда остаются в костном мозге, не выходя из него.
Незрелые лимфоциты знакомятся (это необходимый этап их взросления) с аутоантигенами – молекулами, которые они могут встретить в клетках нашего собственного тела. Если лимфоциты начинают бороться с этими аутоантигенами, их побуждают подвергнуть свои гены дальнейшей правке, превратиться в регуляторные клетки, стать анергическими (как бы «отключающимися») или, если они реагируют на антиген слишком уж бурно, покончить с собой. Весь этот процесс называется формированием иммунологической толерантности.
Тимус и костный мозг не в состоянии продемонстрировать лимфоцитам каждый тип молекул, который можно встретить в организме. Различные типы клеток производят всевозможные виды особых молекул, в том-то и смысл существования разных типов клеток. Мы же не хотим, чтобы, к примеру, печеночные ферменты болтались где-нибудь в костном мозге. Поэтому лимфоциты проходят еще один этап отбора – уже после того, как созреют и покинут орган, где возникли. Прибыв в свой пункт назначения на том или ином участке организма, они подвергаются сходному процессу знакомства с «местными» аутоантигенами.
А вот еще одна мера предосторожности против излишнего рвения зрелых Т-лимфоцитов. Распознавание антигенов, которое не согласуется с параллельным стимулирующим сигналом, приводит к подавлению такого Т-лимфоцита, поскольку есть подозрение, что он все же реагирует на аутоантиген, несмотря на процесс отбора, которому лимфоцит подвергся в тимусе. Есть и другие меры предосторожности: честно говоря, их слишком много (и они, чего уж там, слишком сложны), чтобы я начал о них здесь распространяться. Говоря еще честнее, не все из них мы сейчас хорошо понимаем. От масштабов и сложности иммунной регуляции захватывает дух.
Таким образом, мы видим, что организм идентифицирует потенциальных захватчиков удивительно кружным путем. Сначала происходит изощренная перетасовка генов, цель которой – создать клетки со всевозможными видами рецепторов. Затем в ходе безжалостной проверки качества большинство этих клеток отбраковывается и уничтожается. Над оставшимися ведется строгое наблюдение – на случай, если все-таки выяснится, что они способны бороться с нормальными клетками тела. Система может показаться нелепой, но она работает!
Необходимость случайности
У этого процесса, идущего как бы с помощью метода проб и ошибок, есть и более глубинные причины. В предыдущей главе мы видели, как клетки проходят случайную реаранжировку ДНК, затем подвергаются отбору со стороны окружения, а те, что прошли отбор успешно, производят больше собственных копий по сравнению с менее удачливыми коллегами. Случайная мутация, а затем отбор. Что-то знакомое, не правда ли?
Да, лимфоциты проходят через эволюционный процесс. Конечно, ограниченный, и его результаты остаются в организме и не распространяются за его пределы, но основная динамика процесса – именно эволюционная.
Может показаться, что для нашего тела разумнее с самого начала сделать стабильный, фиксированный набор лимфоцитов, которые умеют избирательно распознавать существующие угрозы. Родители передавали бы потомству способность противостоять всем существующим инфекционным заболеваниям, подобно тому, как они передают по наследству свое умение дышать, есть, видеть. И вся иммунная система стала бы тогда, в сущности, расширенной версией системы врожденного иммунитета. И нам не понадобилась бы адаптивная иммунная система, вырабатывающая весь этот мусор и не застрахованная от ошибок, ведущих к аутоиммунным заболеваниям.
Другие системы нашего организма устроены так, чтобы действовать в довольно узком диапазоне условий окружающей среды. Мы дышим только кислородом, причем он должен присутствовать в воздухе лишь в определенной концентрации. Если его там слишком мало или чересчур много, у нас будут неприятности. Наши легкие, как известно, в случае чего не сумеют переключиться на потребление углекислого газа, диоксида серы или оксидов железа. Наши мышцы и кости хорошо работают лишь при земном уровне гравитации[42]. Наши глаза не могут приспособиться к непривычным длинам волн. Наш желудок и кишечник не в состоянии синтезировать новые виды ферментов, которые позволят нам переваривать бензин или хлопок. Нам нужно есть жиры, углеводы и белки, иначе мы будем голодать. А значит, всем соответствующим системам не требуется проходить этот сложнейший процесс отбора, сопряженный с постоянным бдительным наблюдением.
Лишь иммунная система изначально обладает встроенной способностью в принципе справляться с чем угодно – в том числе с объектами, которые вообще никогда не попадались ни одному живому существу. Почему? Потому что лишь иммунной системе приходится реагировать на других живых существ. Когда ребенок появляется на свет, он жестко ориентирован на существование в строго определенных физических и химических условиях, но к условиям биологическим он может адаптироваться. На протяжении всей истории человечества концентрация кислорода в воздухе и уровень гравитации не изменялись. А вот патогены меняются постоянно и зачастую очень быстро, поэтому и механизм нашей иммунной системы должен быть гибким, ведь ему нужно противостоять таким изменениям. Эволюционные возможности вашей иммунной системы – отражение эволюционных возможностей тех угроз, с которыми она вынуждена бороться.
Выходим наружу
С иммунологической точки зрения наше рождение – событие очень важное. Ведь до сих пор мы пребывали в относительной безопасности, в стерильной среде, защищенной от внешнего мира и его разнообразных опасностей. С инфекциями справлялась мамочкина иммунная система. Зловредные патогены, которым все же удавалось проскользнуть внутрь, сталкивались на своем пути не только с физическими преградами, но и с антибактериальными молекулами в матке и околоплодных водах.
Теперь же мы выходим в мир и делаем свой первый вдох. К нам внутрь вместе с первой порцией забортного кислорода хлынет первый вал разнообразных микроскопических обитателей этого мира. С этой минуты они будут атаковать нас постоянно.
Какие инструменты у нас есть для обороны?
Иммунная система эмбриона должна быть готова к тем опасностям, которые подстерегают младенца по ту сторону родовых путей. Может показаться, что оптимальный вариант – до максимума увеличить мощность иммунной машины, чтобы ребенок появлялся на свет во всеоружии, готовый биться с миром и со всеми его микроскопическими негодяями. Но это упрощенный подход.
Прежде всего, пока эмбрион находится в материнском теле, материнская иммунная система несколько ослабляет бдительность, чтобы не повредить ребенку, а значит, и иммунная система плода должна вести себя относительно миролюбиво, чтобы не повредить мамаше. Однако и после рождения иммунная система ребенка должна пребывать в режиме благожелательного обучения. Среди множества новых для нее веществ, с которыми она вскоре столкнется, лишь некоторые представляют опасность; подавляющее их число относится либо к невинно-нейтральным, либо к полезным. Чересчур возбудимая иммунная система, готовая бросаться в бой при малейшей провокации, оказалась бы вариантом неподходящим.
Как известно всем родителям, младенцы обучаются новому удивительно быстро. Мозг новорожденного растет и развивается, каждую минуту сталкиваясь с новыми стимулами, анализируя информацию и накапливая ее для последующего использования. При этом иммунная система ребенка проделывает в точности то же самое, только еще быстрее: с самого рождения для нее начинается долгий период знакомства с миром. Она учится быть его частью.
Появляясь на свет, младенцы несут в себе мудрый прощальный подарок матери. Этот подарок – антитела. Во время второго и третьего триместра беременности, исходя из вполне разумного предположения, что опасности, с которыми мать столкнулась в прошлом, могут подстерегать и ребенка, материнская иммунная система накапливает набор антител и отправляет их в кровеносную систему эмбриона. Там эти белки будут оставаться в течение нескольких месяцев после родов, защищая новорожденного от инфекций.
Это хорошо, поскольку адаптивная иммунная система, та самая, которая необходима для выработки антител и специфичных реакций, в этот период еще не совсем сформировалась. Да, в случае необходимости она может сочинить кое-какой ответ на инфекцию, но этот ответ будет не очень мощным и не очень качественным.
Наш путь в мир, кроме того, в буквальном смысле смягчен: младенцы рождаются в мягкой воскоподобной оболочке, именуемой vernix caseosa (в переводе с латыни – «сыровидная смазка»). Название подсказывает, что смотреть на нее или прикасаться к ней не так уж приятно, однако она помогает младенцу проходить по родовым путям и сохранять тепло после рождения (что немаловажно для новорожденного), а кроме того, предохраняет кожу младенца от высыхания и растрескивания и к тому же содержит защитные антибактериальные молекулы. Вот почему некоторые родители запрещают мыть своих отпрысков сразу же после их появления на свет.
Колонии микробов, процветающие в нашем кишечнике и у нас на коже и столь необходимые для нормального самочувствия ребенка, до рождения у него отсутствуют. И тут опять-таки дарительницей выступает мать – уже в процессе самих родов. Характерно, что дети, рождающиеся, так сказать, обычным способом, приобретают свою кишечную флору, проходя через родовые пути, а значит, хорошая мать должна (хоть это и не афишируется) чуть ли не первым делом снабдить отпрыска своими вагинальными и фекальными веществами[43]. Напротив, дети, появившиеся на свет благодаря кесареву сечению, обладают иным составом микрофлоры: их кишечные компаньоны приобретены путем непосредственного контакта с окружающей средой. Конечно же, у всех детей состав этой микрофлоры не является неизменным в течение жизни: те вещи, которые младенцы едят или просто суют в рот, приносят в кишечник новые интересные микроорганизмы, и к тому времени, когда ребенок начинает есть твердую пищу, у него внутри уже складывается более или менее стабильный состав микрофлоры.
Итак, этими путями в организм ребенка прибывают бактерии-колонизаторы, и им должно быть оказано хотя бы минимальное гостеприимство. Реакция организма на бактериальные компоненты (такие как липополисахарид) намеренно притуплена, иначе поток колонизаторов вызывал бы состояние постоянного острого воспаления[44]. Клетки системы врожденного иммунитета, находящиеся в коже и в кишечнике, изучают новоприбывших и передают информацию для дальнейшего анализа, а в это время иммунные клетки слизистых оболочек начинают завязывать отношения с этими новыми жильцами.
Поскольку адаптивная иммунная система так сосредоточена на развитии и на сборе информации, вполне понятно, что в первые месяцы жизни играет важнейшую роль система врожденного иммунитета. В этот период особенно важно то, что она выступает как первая линия обороны и как сборщик чужеродных антигенов (которые она будет демонстрировать адаптивной иммунной системе). Семейство ТП-рецепторов системы врожденного иммунитета (с ними мы познакомились в предыдущей главе) имеет на этой стадии ключевое значение: они улавливают сигналы, активируют и деактивируют, а также вовсю занимаются регулировкой всего, что нужно.
В последующие недели и месяцы система врожденного иммунитета немного успокаивается, а адаптивная система постепенно созревает, становясь все более активной. Вот, кстати, почему лишь очень немногие прививки делаются при рождении или вскоре после него: вакцины создаются для того, чтобы спровоцировать реакцию со стороны адаптивной иммунной системы и оставить о себе долгое воспоминание в В-клетках памяти. Однако в первые несколько месяцев нашей жизни реакция адаптивной иммунной системы не будет при этом особенно сильной, к тому же эта реакция может оказаться совсем не оптимальной.
Это не единственная причина. Младенец по-прежнему несет в себе антитела, которые подарила ему мать еще до его рождения, а кроме того, нередко его дополнительно защищает частое и регулярное поступление свежих порций иммунитета извне.
Деликатные материи
Кормление грудью.
Да-да. Ну что ж, приступим.
Когда мне пришло в голову написать книжку по иммунологии, я подумал, что с вопросом о грудном вскармливании меня ждут известные трудности, поскольку мы, парни, иной раз сущие идиоты, когда речь идет о женской груди. Но оказалось, что эта тема не представляет для меня особых проблем. Видимо, я успел как-то незаметно повзрослеть. Кто бы мог подумать.
И все равно мне, знаете, не так уж просто начать разговор о грудном вскармливании, потому что это вопрос не только научный. Биологический аспект лактации человека – лишь один из многих аспектов неутихающей дискуссии о кормлении грудью в современном обществе. Следует принимать во внимание эпидемиологические ограничения, экономические последствия, моральные и/или религиозные воззрения, этические доводы, феминистические и постфеминистические взгляды. Здесь у каждого свое мнение, вот в чем штука.
У меня, разумеется, есть мнения по всем перечисленным вопросам, но эти мнения касаются лишь моего собственного поведения. Как я уже предупреждал в самом начале, эта книга – не учебник здорового образа жизни. Я не рискну утверждать, что правильно, а что нет. Современная жизнь требует постоянного уравновешивания всякого рода соображений, ограничений и зон ответственности, к тому же разные семьи пребывают в разных обстоятельствах, у разных родителей разные приоритеты. Сосредоточусь на иммунологическом аспекте проблемы. И тогда, быть может, мне удастся избежать особых хлопот.
Сейчас уже хорошо известно, что материнское молоко – не только пища и питье, но и богатейший набор иммунных компонентов. Оказывается, в придачу к антителам материнское молоко содержит широкий набор молекул-иммуномодуляторов, которые способны уменьшать воспаление, а кроме того, помогают налаживать «диалог» в кишечнике между иммунными клетками и местными микроорганизмами, а еще препятствуют пролиферации патогенов, блокируя их подход к железу и другим питательным веществам; умеют они и атаковать патогены напрямую. Как и состав питательных веществ в материнском молоке, состав иммунологически активных компонентов в этой жидкости меняется со временем и в зависимости от характера использования.
Еще до родов, приблизительно в начале третьего триместра беременности, иммунные В-лимфоциты начинают мигрировать к груди со своих обычных позиций в кишечнике и бронхиальном дереве матери. С собой они несут данные об иммунном опыте матери, особенно в том, что касается инфекций кишечника и дыхательных путей – двух областей, где новорожденные наиболее уязвимы. В материнской груди эти клетки созревают и к моменту рождения младенца готовы к доставке антител.
В первые часы после родов организм матери вырабатывает молозиво – уникальную форму концентрированного молока, битком набитую питательными и иммунными компонентами, а кроме того, помогающую в создании кислотной среды, которая отпугивает бактерии. В обычном материнском молоке также имеются иммунные клетки – на протяжении первых нескольких дней после рождения ребенка. Главным образом это клетки системы врожденного иммунитета (фагоциты, готовые сражаться с вирусными инфекциями), но попадаются и Т-лимфоциты.
На протяжении всего периода грудного вскармливания материнское молоко бесперебойно снабжает младенца продуктами иммунологического опыта роженицы – как прошлого, так и формируемого в реальном времени. Однако по мере того, как проходят месяцы и иммунная система ребенка становится все более зрелой, дитя получает с молоком матери все меньше иммунной помощи: иными словами, эта помощь постепенно сходит на нет.
Трудно с уверенностью говорить о таких вещах, как состав материнского молока в нашем далеком эволюционном прошлом, но большинство ученых сходится во мнении, что иммунные компоненты присутствовали в этой смеси с тех самых пор, когда сотни миллионов лет в ходе эволюции возник процесс лактации. Первым шагом к грудному вскармливанию, возможно, стало изменение функции какой-то увлажняющей железы (подобных тем, что до сих пор имеются на коже у земноводных): изначально она выделяла жидкость, которая препятствовала высыханию и охлаждению яиц. Нам известно, что животные (в том числе и люди) обладают кожными железами, выделяющими антибактериальные вещества, так что подобные вещества вполне могли бы являться частью этого лосьона для яиц. А тут и питательные вещества подтянулись. Существует целый ряд конкурирующих друг с другом возможных сценариев того, как лактация приобрела свой современный вид. Но факт остается фактом: в той или иной форме она присутствует в природе уже по меньшей мере десятки миллионов лет. Достаточный срок, чтобы успеть пройти немалую эволюцию.
Теперь вы, наверное, понимаете: рождение человека, при всей необычайной важности этого явления, отнюдь не означает окончания непосредственного участия матери в иммунных делах ее чада. В некоторых кругах можно даже встретить термин «диада мать – дитя», описывающий это состояние, в котором роженица и ребенок еще не до конца отделились друг от друга, не являются двумя совершенно независимыми людьми. Если за родами следует вскармливание грудью (как это неизменно случалось с матерями и детьми на протяжении всей истории млекопитающих), младенец и мать поддерживают иммунологическое общение неделями, месяцами, даже годами. Иммунные компоненты материнского молока не только способствуют защите ребенка от инфекции в ходе развития его собственной иммунной системы, но и помогают направлять это развитие, основываясь на собственном иммунном опыте матери. На этой стадии жизни ребенка природа, по-видимому, все еще исходит из предположения, что мать и дитя находятся в одной и той же среде, а значит, материнская иммунная история предоставляет хорошие средства для выработки методов борьбы с опасностями, которые могут подстерегать младенца. Таким образом, если мать подверглась воздействию патогена, она передаст своему отпрыску защитные элементы, настроенные на противостояние этому патогену. По сути, она действует как иммунная система собственного ребенка.
Это иммунное общение носит двусторонний характер: информация может распространяться и в другую сторону. Так, обнаружено, что вакцинация ребенка может приводить к выработке соответствующих антител у кормящей матери. Как же это происходит?
Ребенок всасывает молоко из млечных протоков – крошечных трубочек, которые расположены в соске и вокруг него. Неизбежным образом слюна младенца попадает в эти протоки[45]. Тут возникает интригующее предположение: возможно, это действительно своего рода метод общения, ведь слюна – сложная многокомпонентная смесь, несущая в себе массу информации о том, что творится в организме. Слюна ребенка абсорбируется и анализируется иммунной системой матери, и состав материнского молока изменяется в соответствии с поступившими сведениями. Мать способна сформировать и осуществить специфическую иммунную реакцию даже на заболевание, которого у нее нет.
И наконец, не будем забывать, что иммунитет – это не только антитела и Т-лимфоциты. К грудному вскармливанию можно подходить более целостно. В эпилоге я еще скажу кое-что о связях между нашим поведением, эмоциональным состоянием и иммунной системой, пока же предложу вам высказывание доктора Шаррон Брансбург-Забари из Тель-Авивского университета, специалиста по биохимии и биоинформатике и консультанта по проблемам лактации:
Речь не идет о выживании. В нашем обществе ребенок, которого не кормят грудью, все равно, скорее всего, будет жить и расти. В западном мире это более вероятно, в восточном – чуть менее, однако обычно это так. Человеческие детеныши нуждаются в грудном питании не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы процветать, чтобы раскрыть свой потенциал. Мы предпочитаем свести к минимуму то количество энергии и ресурсов, которые организм вкладывает в противостояние иммунным угрозам, и направить сэкономленные ресурсы на развитие тела и мозга. В сущности, мать берет на себя множество иммунных ролей, чтобы позволить ребенку лучше развиваться. Она вырабатывает собственные иммунные продукты и правильный иммунный фон.
В развитии иммунной системы младенца играет роль не только получение материнского молока. На маленьких детей влияет и стресс. К примеру, плач – мощный пожиратель калорий и подавитель иммунной системы. Мы знаем, что телесный контакт расслабляет, что он замедляет метаболизм и помогает экономить энергию. Сам акт кормления грудью в целом обеспечивает ребенка той средой, которая способствует его процветанию, как общему, так и иммунному. Мы рекомендуем даже тем матерям, которые испытывают проблемы с грудным вскармливанием, все равно ласкать своих детей, прижимать их к груди, чтобы телесный контакт длился нужное время. Грудное вскармливание дает оптимальную возможность для такого контакта. Ребенок должен касаться кожи матери (или отца), его иммунная система нуждается в этом. Такое прикосновение снимает у ребенка стресс и способствует его хорошему самочувствию.
Я поведал вам о механизмах, которые мы, млекопитающие, выработали в процессе эволюции, дабы обеспечить наше потомство эффективными средствами защиты. Формирование этих механизмов у человека начинается, еще когда мы представляем собой крошечный комочек клеток, и заканчивается примерно в шестилетнем возрасте, когда наша иммунная система достигает зрелости.
Но ведь сами эти средства защиты тоже должны были эволюционировать. Когда-то, давным-давно, наши далекие предки сами были крошечными комочками клеток. Наши пращуры эволюционировали, и вместе с ними (и внутри них) эволюционировала их иммунная система, не переставая защищать их от опасностей. Вкратце мы обсудим это в следующей главе.
Глава 3. Время эволюционировать
Представьте себе, если можете, это презренное создание – вирус простуды.
Собственно, это не какой-то там абстрактный вирус, а одна из примерно 200 разновидностей, причем все они вызывают схожие симптомы[46]. Но вирусы простуды сами по себе практически не вносят никакого вклада в эти симптомы. Все наше чихание и сморкание – главным образом результат воспалительной реакции нашей иммунной системы, которая страшно злится из-за довольно-таки безвредного вируса.
Простудные болезни – вещь неприятная, однако это лишь сравнительно невинный пример иммунной реакции, которая пошла наперекосяк. На другом конце спектра – вещи куда более серьезные. Например, аутоиммунные заболевания, которые составляют немыслимо большую долю среди тех несчастий, что обрушиваются на современное человечество. Иммунная система слишком бурно реагирует на невинные заболевания или на еще более невинные – самые обычные – вещи из окружающей нас среды. Или же, что хуже всего, она вдруг начинает по ошибке атаковать собственные клетки организма.
Виной тому три фактора. Начнем с того, что в наши дни многие из нас живут в среде, которая в значительной степени свободна от инфекционных заболеваний. До недавнего времени самой распространенной причиной смертей служили именно инфекционные болезни. Мы предприняли кое-какие шаги, чтобы с этими недугами расправиться (об этом в следующих главах), а значит, тем людям, которые в былые эпохи умерли бы от чумы, туберкулеза, оспы и тому подобного, сегодня удается выжить, и у них попросту больше времени для того, чтобы стать жертвой аутоиммунных болезней (сюда входят и онкологические заболевания, и сердечно-сосудистые, и многие другие).
Второй фактор: наша иммунная система тысячелетиями развивалась, приспосабливаясь к жизни в среде, в которой довольно много микробов. Внезапное исчезновение этого бремени (а с эволюционной точки зрения оно и правда внезапное – прошло максимум несколько поколений) порядком сбивает систему с толку.
Третий фактор в общем-то прост, но его нелегко принять, если вы не привыкли мыслить эволюционно. Нас едва ли удивит сообщение о том, что наша иммунная система не всегда работает идеально: было бы глупо ожидать чего-то иного. Иммунная система человека развивалась постепенно, ею никто не руководил, кроме постоянных колебаний окружающих условий. Наша иммунная система в ходе своего развития стремилась стать достаточно хорошей, а не совершенной. Она сформировалась для того, чтобы при разумном расходовании ресурсов организма гарантировать: тело, частью которого она является, имеет неплохие шансы пережить младенчество, детство, подростковый период и часть взрослого периода, достаточную для того, чтобы человек мог в ходе размножения произвести новых людей с иммунными системами.
Когда специалисты задаются вопросом, каким образом наша иммунная система обрела свою нынешнюю форму, они не могут опираться на большое число реальных физических доказательств. Эволюцию иммунных систем трудно изучать, ведь иммунные компоненты, даже крупные, не бывают твердыми как кость. Это мягкие, склизкие штуки, они не образуют окаменелостей, так что никакие раскопки не позволят нам отыскать образцы иммунных систем наших древних предков. Мы не можем видеть, какими были эти системы в древности. Мы можем разве что посмотреть «вбок» – на то, что наблюдаем ныне у других видов. Да, мы волей-неволей вынуждены полагаться лишь на это. Мы отмечаем сходства и различия между системами и на этом основании строим догадки по поводу наших общих предков. Это не самый простой путь изысканий. Картина все равно остается неполной – и останется такой в обозримом будущем. Пока мы еще не до конца разобрались с собственной иммунной системой, с тем, как она действует и из чего состоит. Что же касается исследования иммунных систем других видов, то здесь работа только-только началась. Однако даже то, что нам уже удалось выяснить, довольно ценно.
В какой-то момент наша эволюционная ветвь отделилась от других, которые в свое время привели к возникновению иных форм тела, иного образа жизни в иной среде – и, конечно же, иных иммунных систем, которые всему этому под стать. Я попробую проследить этот эволюционный путь вспять и немного поговорить об иммунных системах тех ветвей древа жизни, от которых некогда отделились наши предки. Какие линии обороны они воздвигали против инфекции? Что общего у этих способов защиты с нашими? А чем они отличаются от наших? И есть ли у них какая-то сквозная тема, которая бы их всех объединяла?
(Внимание, спойлер! Да, есть.)
Дальше я намерен обсудить еще более интересные аспекты иммунитета и эволюции: ускользание от механизмов иммунологического надзора (те способы, какими патогены реагируют на развитие иммунного отклика в организме-хозяине), гигиеническую теорию (которая пытается объяснить, почему в нашем мире, который стал в последнее время гораздо чище и безопаснее, люди чаще страдают от аллергии), и наконец, я хочу поговорить о поведенческом иммунитете – методах, какими организмы защищают себя от инфекции, не полагаясь на антитела, Т-киллеров и другие вещи, о которых я уже рассказывал, а изменяя свое поведение.
Ты не такая уж особенная, детка
Лет 15 тому назад я вдруг стал слушать курс программирования. До сих пор не знаю, почему так вышло. Я не писал программ ни до этого, ни после. Так или иначе, в рамках нашего завершающего проекта мы разбились на пары, и нам предоставили полную свободу творчества. Мы с моим соратником Роном придумали идею славной квазиэволюционной игры, в которой можно, попросту говоря, почувствовать себя Богом. Вы создаете гипотетический биологический вид, задаете для него ряд параметров (какого размера будут эти существа? вы хотите, чтобы они летали? вы хотите, чтобы у них росла шерсть?), а затем выпускаете ваше творение в мир и наблюдаете, насколько успешно оно существует в этой среде на протяжении нескольких миллионов (виртуальных) лет, после чего вам разрешается модифицировать придуманный вами вид (вот почему игра – эволюционная) и снова выпустить его на волю.
Мы провозились с этой забавой несколько недель. Программной частью в основном занимался Рон, а я отвечал за игровую механику и за своевременную доставку пищи (между прочим, сейчас Рон – руководитель группы в Intel). В конце концов мы сдали программу, которая худо-бедно работала, и больше ею не занимались. Десяток лет спустя на рынок компьютерных игр триумфально вышла Spore («Спора»). Идея у нее была во многом такая же[47], но в ней имелись существенные отличия. Вот одно из самых очевидных: вид, который конструируется игроком, начинает свою жизнь как одноклеточное существо, которое должно питаться, развиваться и затем эволюционировать в более сложное создание, что открывает игроку следующий уровень. На дальнейших этапах ваш вид становится разумным, создает общество и летит в космос. Игру не выиграть, если вы останетесь одноклеточным или, даже став многоклеточным, просто будете торчать в своей луже, занимаясь лишь собственными делами.
В основе игры лежит идея так называемой телеологической эволюции: иначе говоря, эволюция при этом понимается как процесс, который имеет некую конечную цель. Обычно такая цель – создание разумной жизни, что довольно лестно, поскольку так уж совпало, что люди (не смейтесь) – существа разумные, а значит, цель всей эволюции – создание людей!
(А также, видимо, горилл, шимпанзе, дельфинов и осьминогов[48].)
Мысль, может, и соблазнительная, однако эволюция работает совсем не так. Уж извините. Я не хочу ругать Spore: это хорошая штука, да и вообще компьютерная игра не обязана соблюдать научную точность[49]. Впрочем, нелишне иметь в виду, что в реальном мире подавляющее большинство существ на нашей старушке Земле отлично живут-поживают, даже не удосужившись доэволюционироваться до того, чтобы сформировать у себя позвоночник, не говоря уж о сколько-нибудь заметном интеллекте. Вот и мы поднимаем столько шума вокруг действительно необычайных возможностей нашей адаптивной иммунной системы, хотя она дорогостоящая и сложная, к тому же ей требуется время, чтобы развиться и созреть. Большинство видов не заморачивается созданием настоящей адаптивной иммунной системы, они вполне довольны более дешевыми аналогами. До недавнего времени среди иммунологов принято было считать, что система врожденного иммунитета служит отражением более примитивных этапов нашего эволюционного прошлого, а адаптивная иммунная система, с ее изощренностью и избирательностью, в ходе эволюции появилась у млекопитающих сравнительно недавно, став чем-то вроде второго эшелона обороны. А значит, вряд ли можно ожидать, что у «низших» организмов мы встретим какие-то сложные иммунные механизмы.
Только вот природа не обязательно удовлетворяет нашим ожиданиям. Даже те существа, которые мы могли бы считать «примитивными», скажем, бактерии или беспозвоночные, соседствуют с нами и в XXI веке, а значит, они пережили столько же лет эволюции, сколько и мы сами. Если же считать не годами, а поколениями (что более разумно, когда речь идет об эволюции), то у этих форм жизни заметное преимущество, ибо краткость их жизненного цикла позволила им пройти через гораздо большее число циклов мутации и отбора по сравнению с нами.
Я мог бы начать это путешествие, сопоставляя иммунные системы млекопитающих, но различия здесь не так уж велики. Отправимся подальше в прошлое: как выглядят иммунные системы пресмыкающихся и птиц? Сравним их с нашей.
Да, отличия видны сразу: в некоторых деталях регуляторных путей, во времени, которое требуется для запуска производства антител (у рептилий процесс идет дольше, у птиц быстрее). Отклик системы врожденного иммунитета, по-видимому, мощнее, чем у млекопитающих. Иммунные реакции пресмыкающихся зависят по своей силе от температуры тела животного (она меняется в довольно широком диапазоне) и времени года. Тем не менее основные компоненты нашей иммунной системы есть и у этих существ. Они, эти компоненты, очень напоминают наши, а значит, мы уже, скорее всего, находимся в той точке эволюционного древа, где наша ветвь еще не отделилась от других. Несомненно, у тираннозавра T. rex имелись Т-лимфоциты.
Погрузимся в прошлое еще на триста миллионов лет. Как там с земноводными? Все те же очень знакомого вида клетки, антитела и тому подобное. Любопытно: система врожденного иммунитета у них очень разветвленная, она состоит из множества антибактериальных пептидов – небольших белковых молекул с названиями вроде «дефенсины» или «магаинины». Такие пептиды вообще-то широко распространены в природе. У человека они тоже имеются, особенно на коже и в слизистых оболочках: скажем, лизоцим, способный убивать бактерии, можно обнаружить в наших слезах и соплях. Однако такие пептиды играют наиболее существенную роль у амфибий – или, по крайней мере, у них они наиболее изучены.
Кстати о пептидах. Человеческая система комплемента, о которой мы говорили в первой главе, также состоит из антибактериальных пептидов, которые действуют сходным образом. Похожие системы с похожими компонентами и похожими регуляторными механизмами можно обнаружить и у многих других видов, в том числе у беспозвоночных (скажем, у кораллов или актиний). Видимо, эта система берет начало в глубокой древности.
У земноводных есть также иммунная память, во многом напоминающая нашу. Они тасуют свои гены, вырабатывающие антитела, и проходят через стадии клонирования и отбора клеток, как и мы. Недавно ученые обнаружили странную вещь: судя по всему, у некоторых рептилий, амфибий и костистых рыб имеется что-то вроде В-лимфоцитов (они названы В1-лимфоцитами), способных вырабатывать антитела, как и наши, но умеющих еще быть фагоцитарными, то есть способными пожирать бактериальные клетки (наши обычные В-лимфоциты этого не умеют). Возможно, это означает, что в далеком прошлом В-лимфоциты произошли от фагоцитов, постепенно утрачивая способность пожирать бактерии, а взамен развивая умение вырабатывать антитела, предоставляя работу по поеданию бактерий сотрудникам системы внутреннего иммунитета – макрофагам и другим фагоцитам. В1-лимфоциты уже обнаружены у самых разных видов, от насекомых до людей. Не далее как в 2012 году фагоцитарные В1-лимфоциты найдены у мышей, а это усиливает подозрения, что наши собственные В1-лимфоциты также могут оказаться фагоцитарными. По-видимому, клетки этого типа – что-то вроде живых окаменелостей, оставшихся с тех времен, когда адаптивной иммунной системы еще не существовало.
Отпрыгнем в прошлое еще примерно на 55 миллионов лет. Мы в пучине океана, откуда некогда произошло все живое. В этот период наша ветвь отделилась от рыбьей. Как выглядят иммунные системы рыб?
Опять-таки у них есть и В-лимфоциты, и Т-лимфоциты, и обмен генами, отвечающими за выработку антител. Все те же узнаваемые компоненты, кодируемые все теми же узнаваемыми генами и выполняющие все те же узнаваемые задачи.
Сделаем еще один шаг назад: тут-то и начинается интересное. Возможно, вы слыхали, что в море водится много разных рыб. Что ж, не станем скрывать: это правда. Но все они делятся на две разновидности, сильно отличающиеся друг от друга. Давным-давно у одной разновидности стали развиваться кости. Это те рыбы, от которых мы с вами произошли, и они именуются телеостами, или костистыми рыбами. А есть рыбы, в теле которых нет ни единой косточки. Скелет у них состоит из хрящей, поэтому они называются хрящевыми. И особенно среди них выделяются акулы.
Челюсти
Вы, возможно, уже слышали: акулы никогда не болеют раком. Иммунная система у них вообще почти идеальная. Она защищает их практически от всех недугов. Система эта не менялась на протяжении сотен миллионов лет. Потрясающе, правда?
Впрочем, это все чушь. Да, у акул любопытная иммунная система, в ней есть интересные и вполне эффективные антибактериальные и антивирусные молекулы, курсирующие по их телу, и они реже страдают от рака, чем можно было бы ожидать. Однако у акул все же возникают всевозможные заболевания, и опухоли у них возникают тоже. Более того, каждый год миллионы акул гибнут от глупости. Нет, не от своей (у акул с интеллектом все в порядке), а от глупости людей, которые покупают всякие средства из хрящей акул как «стимуляторы иммунитета», противовоспалительные или противораковые шарлатанские снадобья. Идею об акульем абсолютном иммунитете продвигают изготовители и продавцы этого сомнительного товара, желающие зашибить деньгу, торгуя хрящевыми зельями, придуманными на основе подозрительных псевдонаучных изысканий. Реальные научные исследования целиком и полностью опровергли эту идею, однако на акул все равно вовсю охотятся, извлекая из них скелеты и делая из этих скелетов бесполезный порошок.
Насчет «неизменной» иммунной системы акул – тоже брехня. Изучение окаменелостей показывает, что нынешние акулы действительно с виду очень похожи на своих предков, живших сотни миллионов лет назад. Очевидно, некоторые сделали вывод, что и во всех прочих отношениях эти существа не менялись. Но разница есть. Форма акульего тела решает задачу движения в воде. Иммунная система акулы решает задачу противостояния патогенам. Вода не эволюционирует. А вот патогены эволюционируют постоянно. Ну, вы поняли, к чему я клоню.
У акул все же имеется адаптивная иммунная система, в ней есть вполне узнаваемые Т-лимфоциты, В-лимфоциты, антитела и прочие бойцы. Между адаптивной иммунной системой акулы и человека существует множество различий[50] (все-таки две наши эволюционные ветви уже давно разошлись), однако во многих фундаментальных деталях они настолько сходны, что можно с уверенностью заключить: какого-то рода адаптивная иммунная система уже существовала и функционировала более 400 миллионов лет назад, когда две наши ветви разделились. Акулы предпочли оставаться в воде, вырастить острые как бритва зубы и охотиться на рыбу, а мы (по крайней мере, те из нас, кто не остался костистой рыбой) вылезли на сушу, утратили жабры, вырастили конечности, а позже вернулись в море, чтобы снимать там ужастики об акулах с острыми как бритва зубами. Но наши иммунные системы напоминают, что мы все-таки дальние родственники, просто редко видимся и забыли родство.
Впрочем, сделаем еще один шаг назад по нашему эволюционному пути. Мы приходим к моменту, когда все позвоночные разделились на две резко отличающиеся группы – челюстноротых и бесчелюстных позвоночных. Может быть, вы и не догадывались, что бесчелюстные позвоночные вообще существуют. Честно говоря, в последнее время эта линия нашего родословного древа не очень-то процветает. Вымирания удалось избежать лишь двум семействам – миноговым и миксиновым. Выглядят они потешно: как будто изо всех сил стремились стать рыбами, но у них это не совсем получилось. До недавних пор считалось, что адаптивной иммунной системы у них вообще нет.
Может, она им и не требовалась: первые челюстноротые позвоночные наверняка были хищниками[51], а хищники имеют тенденцию жить дольше, оставлять меньше потомства и вообще обращать внимание скорее на качество, чем на количество. Вполне понятно, что в процессе эволюции у них сформировалась более эффективная защита от инфекций. Все мы, челюстноротые позвоночные – акулы, люди, рыбы, – обладаем тимусом и селезенкой, которые у всех у нас, представителей этих разнообразных видов, выглядят и функционируют во многом одинаково. А вот с миногами и миксинами не так. Специалисты проверили, нет ли в геномах бесчелюстных позвоночных генов, которые отвечают за Т– и В-лимфоциты или за такую рекомбинацию антигенных рецепторов, как у нас, и ничего такого не нашли. Но в том-то и загвоздка: как выясняется, адаптивная иммунная система у них все же имеется, просто она не такая, как у нас.
Это довольно-таки важное открытие. Мы-то думали, что наша адаптивная иммунная система – штука почти уникальная, но оказывается, у позвоночных адаптивная иммунная система независимо возникла (и развивалась) дважды.
Вероятно, это классический пример конвергентной эволюции. Например, крылья птиц и крылья летучих мышей развивались по совершенно разному пути. Вот и бесчелюстные позвоночные использовали механизм случайной перетасовки своих генов, служащих рецепторами антител, чтобы создать то разнообразие, которое нас так поражает. Однако при этом они использовали совершенно иной набор генов, нежели мы, все остальные позвоночные, и их тасующий механизм задействовал иные ферменты, проделывающие иные вещи с иными генами. Лимфоциты у них тоже не такие, как у нас: эти животные обладают особыми типами лимфоцитоподобных клеток. И все это, похоже, работает не хуже наших иммунных компонентов[52].
RAG-тайм
Итак, что мы можем сказать после всех этих изысканий? Мы знаем, что на каком-то этапе после возникновения позвоночных две большие эволюционные линии разошлись. Имелись ли у них тогда, в момент расхождения, способности к генетической рекомбинации антигенных рецепторов? Есть основания так считать, однако эти механизмы очень уж отличаются друг от друга. С уверенностью здесь пока ничего утверждать нельзя. У представителей обеих линий после этого появились две системы рекомбинации, в чем-то схожие, но в чем-то и различные. Мы пока толком не знаем ни того, как это получилось, ни того, почему так вышло. Возможно, этот механизм – лучший способ противостоять патогенам, если вы – сложно устроенное многоклеточное, но мы ведь уже видели, какие проблемы вызывает наличие такого механизма, взять хотя бы аутоиммунные заболевания.
До обнаружения этой неведомой прежде адаптивной системы существовала теория, согласно которой на неком этапе, уже после расхождения с линией бесчелюстных позвоночных, их челюстноротые родичи подверглись какому-то «эволюционному Большому взрыву» – периоду стремительного эволюционного развития иммунитета, когда в относительно короткое время появились все основные компоненты адаптивной иммунной системы. Но теперь мы в этом совсем не так уверены.
Несомненно одно: примерно 500 миллионов лет назад с иммунной системой наших предков случилось какое-то очень интересное масштабное событие. Возможно, причиной стала пара генов, лежащих в основе механизма рекомбинации: это гены RAG1 и RAG2. Они имеются лишь у челюстноротых позвоночных. Возможно, эти гены проникли в организм нашего далекого предка откуда-то извне (скажем, при инфекции, будучи частью вируса) и постепенно вошли в число наших родных иммунных генов, а в результате вся система начала резать и переставлять гены[53].
Должно быть, вы заметили: по мере движения в прошлое я все чаще употребляю оговорки типа «возможно» или «очевидно». Ну да, не так-то просто понять, что произошло 500 миллионов лет на основании того, что мы наблюдаем сейчас. Более того, и само это исследование пока делает лишь первые шаги. До самого последнего времени иммунология занималась почти исключительно человеком, ведь нас интересует прежде всего собственное здоровье. Идея эволюционных иммунных исследований – сравнительно новая, она возникла благодаря инструментам секвенирования генома, которые появились у ученых совсем недавно. Пока мы лишь едва-едва начали эту работу: нам предстоит изучить большое число видов и выяснить о них многое.
А это ведь мы еще не погрузились в изучение совершенно особой сферы – совместной эволюции (коэволюции) видов и их обитателей-микробов. Так сложилось, что виды, обладающие сложно устроенной адаптивной иммунной системой, одновременно являются хозяевами сложно утроенных колоний бактерий-симбионтов. Совпадение?
Как бы там ни было, иммунные системы миноговых и миксиновых показывают: возможно, наш адаптивный иммунитет не так уж уникален.
О бесхребетности
«Беспозвоночные» – термин довольно странный. Неужели позвоночник – такая уж расчудесная вещь? Зачем было называть подавляющее большинство многоклеточных по отсутствию этой черты? Потому что нам самим посчастливилось иметь хребет?
Насекомые, пауки, морские звезды, устрицы, медузы и все прочие извивающиеся, неразумные, бесхребетные создания, жужжащие, или ползающие, или сидящие на подводном камне, вяло полоща отростками… Маленькие размеры, краткая жизнь, почти нет мозгов. На что им вообще иммунная система? Их и без того слишком много.
Эти бесхребетные твари весьма разнообразны. Они бывают всевозможных форм и размеров, принадлежат к множеству отдельных эволюционных линий, ведут самый разный образ жизни, и продолжительность жизни у них очень отличается. К тому же некоторые из них (особенно осьминоги и каракатицы) поразительно умны. Нас не должно удивлять, что и внутренние системы защиты у них столь же многообразны. То, что мы обнаружим у одного вида, вряд ли будет таким же у другого. Не говоря уж о том, что многие беспозвоночные вообще не живут как «один вид». Симбиоз у них – обычное дело. Сосуществование двух или большего количества видов – интересная картинка с иммунологической точки зрения. Но для упрощения, просто чтобы заложить основу для дискуссии, я упомяну лишь о некоторых открытых нами особенностях, присущих всей этой группе. Речь пойдет главным образом о насекомых, но лишь потому, что их иммунная система изучена лучше, чем у других беспозвоночных.
Иммунная защита у насекомых не только существует, но и зачастую кажется нам очень знакомой. Так, вы можете припомнить, что в первой главе мы много обсуждали толл-подобные рецепторы (ТПР). Толл-ген, давший толл-подобным рецепторам их уродливое название, впервые был обнаружен у плодовых мушек-дрозофил. У них он кодирует белок, распознающий грибковое заражение. У толл-гена есть несколько родственных генов в геноме дрозофилы, но они не имеют отношения к иммунитету: это гены развития. Возможно, здесь и содержится ключ к пониманию того, как впервые появилась система врожденного иммунитета? Пока ученые это отрицают: семейство толл-генов обнаружено и у растений, где оно выполняет исключительно иммунные задачи. Похоже, толл-гены раньше все отвечали за иммунитет, а затем их привлекли для того, чтобы они помогали дрозофилам взрослеть.
Обычная плодовая мушка, Drosophila melanogaster, – одно из самых широко исследуемых объектов в мире. Дело не в том, что ученым так уж необходимо побольше узнать о плодовых мушках. Скорее причина в удобстве, поскольку этих мушек легко содержать в неволе, а главное – легко разводить. Генетикам требуется несметное их количество. Иммунологов не очень-то заботит размножение животных, однако они изучают иммунитет дрозофил как модель иммунитета насекомых вообще.
В иммунитете беспозвоночных играют важную роль антимикробные пептиды. Эти небольшие молекулы часто обнаруживаются в организме насекомых. У дрозофил имеется набор из 20 (как минимум) таких пептидов, принадлежащих к 7 различным типам. Забавно: обнаружив в каком-то существе интересный антимикробный пептид, мы иногда выясняем, что у нас он тоже имеется.
Другой защитный механизм нам еще более знаком: речь идет о фагоцитозе. Фагоцитарные клетки насекомых очень похожи на наши. Называются они гемоцитами и патрулируют гемолимфу (что-то вроде упрощенного варианта нашей кровеносной системы), где отвечают за окружение и пожирание захватчиков. Иногда патоген (скажем, червь-паразит) оказывается слишком крупным, и его не удается проглотить целиком. Тогда за дело берутся несколько гемоцитов, окружающих его со всех сторон.
У насекомых существует также механизм выбрасывания токсичных молекул, преграждающих путь вторгшемуся патогену. При этом другие молекулы прилепляются к патогену, сильно осложняя ему жизнь. Кроме того, зачастую в пищеварительной системе беспозвоночных обитают бактерии-симбионты, как и у нас. Ученые замечали, что некоторые виды кальмаров, осьминогов и креветок покрывают свои яйца слоем «полезных» бактерий, чтобы помешать «плохим» бактериям добраться до яиц. Кроме того, у беспозвоночных есть штука под названием «интерферирующая РНК», но разговор о ней я приберегу на потом.
Короче говоря, патогены, которые атакуют насекомых, вынуждены вести осаду мощной крепости. Насекомые не так просты, как может показаться, к примеру, биологам, изучающим их тело, с его нехитрой физиологией и органами понятного назначения, общего для многих насекомых. Геномы у них такие же сложные, как у нас, а иногда и гораздо сложнее. В конце концов, насекомое способно менять все свое тело – от яйца к личинке, от личинки к куколке, от куколки к взрослой особи (или задействовать какую-то вариацию на эту тему). Впечатляет, если вдуматься. Иммунитет насекомых (и вообще иммунитет беспозвоночных) еще может принести нам сюрпризы.
Бесхребетное усложнение
Но все перечисленное лежит в области систем врожденного иммунитета. Логично предположить, что врожденные способности беспозвоночных достаточно эффективны, чтобы приличное количество этих существ могло иметь достаточно большую продолжительность жизни. Если бактерии, грибки и другие патогены эволюционируют в сторону более эффективного заражения (а они это, несомненно, делают), тот вид беспозвоночных, на который нацелена атака, вероятно, способен улучшить свою иммунную реакцию, усовершенствовать регуляторные механизмы или же положиться на свои родные микробы, которые должны противостоять захватчикам и лишать их пищи.
Насекомым и другим беспозвоночным не нужна адаптивная иммунная система. Ее у них и нет.
Во всяком случае, в привычном нам виде.
Стоп. Возможно, мы поторопились с выводами.
То и дело поступают новые сведения. Кажется, у беспозвоночных все же имеется какая-то штука… или какие-то штуки… не очень-то похожие на детали адаптивной иммунной системы позвоночных (с челюстями или без), однако есть какой-то намек на неведомый нам раньше уровень специфичности. В связи с чем возникает много вопросов:
Некоторые беспозвоночные устроены довольно сложно и могут жить десятилетиями. Не правда ли, разумно предположить, что и их иммунитет тоже сложно устроен?
Если рассмотреть геном дрозофилы сразу же после акта инфицирования, мы увидим, что в этом геноме активируются самые разные гены, о чьей роли мы пока ничего не знаем. Чем они занимаются?
Гены, с виду очень похожие на RAG1 и RAG2 (на этих зачинщиков адаптивного иммунного отклика), обнаружены у пиявок и морских ежей – беспозвоночных со сравнительно большой продолжительностью жизни. Зачем им эти гены?
Как недавно выяснилось, системы иммунной защиты у насекомых (упомянутые в предыдущей главке) действуют не так уж независимо: до известной степени они регулируют друг друга, в итоге давая удивительно эффективную иммунную реакцию, приспособленную к тому типу патогена, с которым сталкиваются. Своего рода специфичность, не так ли?
Беспозвоночные часто имеют взаимовыгодные отношения с бактериями. Мы уже упоминали о бактериях-симбионтах пищеварительной системы и о том, как они покрывают яйца слоем микроорганизмов. Но беспозвоночные и бактерии совместно занимаются массой других дел: так, широко известно, что одна из разновидностей кальмаров использует биолюминесцентные бактерии Vibrio fischeri для – вы угадали – освещения. Все эти взаимоотношения показывают, что организм-хозяин должен уметь отличать желанные бактерии от нежелательных. Как это делается?
Фибриноген-подобные белки (класс молекул, имеющихся у моллюсков) не только похожи на привычные нам молекулы-антитела и не только реагируют на инфекцию, но и, как обнаружилось, могут быть весьма различными, скажем, у двух улиток. Возможно, гены, отвечающие за выработку иммунных молекул, больше подвержены мутациям, а значит, мутируют со скоростью, превышающей обычную, тем самым закладывая основы соматической рекомбинации – создавая ее грубое подобие, в принципе довольно схожее с аналогичным процессом, протекающим у человека в В-лимфоцитах. Может быть, адаптивный иммунитет зародился именно так?
Будем иметь в виду все эти вопросы. Учтем и ту сложность, специфичность, адаптивность, которые мы обнаруживаем во «врожденных» иммунных системах беспозвоночных. Вспомним, что даже у млекопитающих такие типы клеток, как естественные киллеры (среди прочих), судя по всему, занимают своего рода серую зону между «врожденным» и «адаптивным»[54], так что специалисты по сравнительной иммунологии задаются более серьезным вопросом: может быть, устоявшийся взгляд на четкое различие между врожденным и адаптивным иммунитетом – не самый полезный подход к изучению иммунитета?
Впрочем, в иммунной памяти беспозвоночных еще предстоит найти некий важный элемент (и неизвестно, принадлежит ли он к какой-то отдельной «адаптивной» системе). Вот один пример: губки. Ученые полагают, что губки – самая древняя и примитивная форма животных. Они обладают замечательной способностью вновь собираться после разборки: возьмите губку, разделите ее на несколько кусков, и они сумеют срастись обратно. Возьмите две губки, разделите обе, перемешайте куски – и они соберутся в две исходные губки, потому что знают, кто есть кто. Если попытаться привить кусок одной губки к другой, получатель отторгнет такой «трансплантат», поскольку губки при этом не теряют способности отличать себя от других. У позвоночных попытки повторить не удавшуюся с первого раза пересадку (взяв материал от того же донора) приведут к более быстрому и решительному отторжению благодаря иммунной памяти. С губками такого не происходит, а значит, можно предположить, что настоящей иммунной памятью они не обладают. Как полагают ученые, такой памятью не наделены и все прочие беспозвоночные. Благодаря все новым и новым открытиям становится труднее считать нашу иммунную систему такой уж уникальной, однако (по крайней мере, пока) способность адаптивной иммунной системы самообучаться на опыте предыдущих инфекций представляется нам свойством, которым обладаем лишь мы – «высшие» организмы.
Бегущая интерференция
С меня рассказ об еще одном слое иммунитета, довольно-таки новом, а вернее, недавно открытом. Теперь, когда мы о нем знаем, нам, как ни странно, удается обнаружить его чуть ли не у каждого организма, от грибов до растений и животных, от насекомых до людей. Речь идет о так называемой РНКи, где «и» означает «интерферирующая», поскольку эта РНК интерферирует с другими РНК.
Во всех живых клетках РНК – чрезвычайно важная молекула, она выполняет множество ключевых функций. Самая известная ее форма – иРНК (информационная РНК): ее молекулы представляют собой так называемые транскрипты – многочисленные копии, которые постоянно производятся на основе ДНК клетки. Эти транскрипты доставляют инструкции о том, какой белок должен синтезироваться, в рибосомы, машины по сборке белков, поэтому вполне понятно, что иРНК подвергается строжайшему контролю и регуляции: именно посредством иРНК клетки реагируют на среду. Если клетке внезапно понадобится больше белка Х, регуляторные механизмы обеспечат производство большого количества иРНК-копий гена х, а это, в свою очередь, позволит быстро синтезировать белок Х. Многие регуляторные механизмы известны уже долгое время, однако об интерферирующей РНК мы узнали только недавно: причина такой задержки – во многом в том, что с РНК, как известно, очень трудно работать, особенно с короткими цепочками. Молекулы РНК быстро распадаются и легко загрязняются.
Теперь, разработав технологию, позволяющую как следует анализировать такие молекулы, мы все больше выясняем об интерференции РНК. Небольшая молекула интерферирующей РНК «пристраивается» к подходящей информационной РНК, прикрепляется к ней и мешает ей делать свою работу (это явление в данном случае и называется интерференцией). Теперь информационная РНК бесполезна, и соответствующий белок не удастся синтезировать.
Такова роль интерферирующей РНК в «мирное время»: это еще один механизм обратной связи, регулирующий работу клеток. Однако некоторые транскрипты интерферирующей РНК специфичны не к клеточной информационной РНК, а к вирусной РНК.
Все организмы могут страдать (и страдают) от атак вирусов. Сами по себе вирусы размножаться не умеют: им для этого требуется захватить клетку-хозяина. И для того чтобы начать себя воспроизводить, все вирусы, захватив клетку, производят РНК. Для некоторых вирусов генетическим материалом служит ДНК (как и для нас с вами), другие (скажем, ВИЧ) используют РНК. В обоих случаях, инфицировав клетку, вирусная частица вбрасывает в нее свою РНК и начинает делать копии, которые будут использоваться для того, чтобы взять под контроль клетку-хозяина, а в случае РНК-вирусов – для упаковки в белковую оболочку и производства новых вирусов, которые станут затем искать новые клетки для заражения, и т. д., и т. п. В свою очередь, клетка-хозяин может распознать, что эта новая РНК – не ее собственная, а какой-то захватчик, и начать кромсать ее (to dice it up: группа белков, занимающихся этим, так и называется – дайсеры, «кромсатели»). Затем клетка использует разрезанную вирусную РНК, чтобы помешать осуществлению планов вируса, предотвратить захват клетки и победить врага.
Однако проблема в том, что вирусы переняли этот фокус (а может, они сами его первыми изобрели) и способны сами вырабатывать свою интерферирующую РНК, подавляя клеточную активность ради своих коварных целей. Игра продолжается, по клетке плавают маленькие молекулы РНК и ферменты, регулируя процессы правильно и ошибочно, в ту или другую сторону. Соперники пытаются обойти друг друга в этих маневрах и взаимных подавлениях активности. А мы примерно до 1989 года даже не подозревали об этих жарких боях!
Транскрипт интерферирующей РНК должен соответствовать параметрам своей мишени, чтобы суметь к ней прикрепиться. А значит, у всех этих «примитивных» видов – растений, насекомых, грибов – антивирусные процессы весьма специфичны. Одно из недавних исследований дрозофил показало, что зараженная вирусом клетка может еще и подавать сигнал о заражении другим антивирусным системам организма-хозяина, делая реакцию системы врожденного иммунитета и специфичной, и строго регулируемой.
Никуда тебе не деться
Дальше я собирался рассказать об иммунной системе растений, но вы, наверное, уже понимаете, к чему я клоню. Разумеется, у растений тоже есть иммунная система, ведь и на них нападают самые разные вредители, большие и малые, и несчастным представителям флоры нужно как-то бороться с этими врагами, ведь наши зеленые друзья не могут удрать куда-нибудь в более благоприятную среду. Растения проявляют главным образом врожденную иммунную реакцию, весьма эффективную и нередко специфичную к определенному типу патогена. А еще растения проявляют так называемую системную приобретенную устойчивость, что-то вроде иммунной памяти, только менее избирательную, однако эта способность может (вероятно) сохраняться на протяжении поколений. Иммунные системы растений подозрительно сходны с иммунными системами животных и даже используют вариации тех же молекул (например, ТП-рецепторов). Они умеют отличать собственные клетки растения от инфекционных агентов. Они умеют отличать безвредные или полезные микробы (чья концентрация особенно высока в корнях, где микробы и растения сотрудничают) от микробов опасных – посредством двухуровневой сети сигналов и эффекторов. И наконец, как в случае всех других организмов, о которых шла речь, про растения нам еще многое предстоит узнать (скажем, разобраться в удивительном явлении – мозаицизме… Нет, не подначивайте меня).
Правда, есть и различия. К примеру, растения не обладают какими-то специальными иммунными клетками, которые циркулировали бы по их телу. У них каждая клетка способна давать иммунный отклик и сигнализировать собратьям о приближении опасности. Но, думаю, вы согласитесь: сходства поразительные.
Все это вообще-то не должно бы нас удивлять, потому что мы и так знаем, что растения – сложно устроенные существа со множеством органов и систем. Вполне логично, что у них есть какие-то иммунные функции. Но как обстоит дело у по-настоящему примитивных – простейших – существ, этих одноклеточных созданий на дальнем конце шкалы? Как там у микробов? Они тоже проявляют какой-то свой иммунитет?
У них тоже есть эта штука!
Разумеется, проявляют. Потому-то они до сих пор и не вымерли.
У всех живых существ, в том числе и у микроорганизмов, есть паразиты, а следовательно, эти существа должны обладать адекватными способами борьбы с ними, или этот вид существ очень быстро исчезнет. Иммунологи привыкли рассматривать бактерии как врагов иммунитета, а не как его обладателей. Однако исследование того, как эти мельчайшие формы жизни взаимодействуют со средой, нас многому способно научить.
Конечно, весьма небольшие размеры одноклеточных подразумевают, что их иммунная защита будет как-то отличаться от клеточной или молекулярной защиты многоклеточных. Однако основополагающие принципы действия таких систем могут оставаться схожими. Показательный пример бактериальной иммунной системы – так называемая система рестрикции-модификации, с помощью которой бактерии защищаются от бактериофагов (вирусов, заражающих бактерии). Эта система использует особые ферменты для модификации бактериальной ДНК, благодаря чему она начинает отличаться от ДНК бактериофага. Когда происходит заражение бактериофагом, рестрикционные ферменты, опознав немодифицированную ДНК бактериофага, разрубают ее на куски. Кроме того, бактерии изменяют свои поверхностные молекулы, пытаясь воспрепятствовать тому, чтобы бактериофаги нашли их и проникли внутрь. В экстремальных случаях инфицированная бактериальная клетка даже совершает самоубийство, чтобы защитить своих сородичей от заражения (чем-то это напоминает поведение зараженных клеток человека, подающих сигнал иммунным клеткам, чтобы те их уничтожили). Недавно у бактериофагов были обнаружены генетические последовательности, называемые диверсификационными ретроэлементами: по-видимому, это сверхизменчивые участки (подобные аналогичным участкам генов, отвечающих за выработку антител) дают своим хозяевам-бактериям способность разнообразить (диверсифицировать) свой геном. Иными словами, это своего рода высокооктановые ускорители эволюции, дающие защиту от бактериофагов, передаваясь от бактерии к бактерии как раз через бактериофаги – вероятно, просто по доброте последних. Честно говоря, мы пока не очень понимаем, что там у них творится.
Еще один широко распространенный механизм, именуемый CRISPR[55], открыт всего несколько лет назад. Ученые успели выяснить, что он действует у многих видов бактерий (и у многих видов архей – одноклеточных микроорганизмов, которые бактериями не являются). Работа CRISPR чем-то напоминает работу интерферирующей РНК. Система эта отсекает короткие фрагменты чужеродной ДНК (от таких вторгающихся врагов, как вирусы), после чего собирает и каталогизирует их в особых местах, чтобы помочь бактериальной клетке идентифицировать (по сути, «запомнить») инфекции, а значит, и бороться с ними. Такое знание может передаваться следующим поколениям.
Сделаю маленькую паузу и отмечу, что это совершенно замечательный факт. Получается, у бактерий есть не только иммунная функция как таковая, но и адаптивный иммунитет. У них есть иммунная память. Иммунные представления о себе (и соответствующая память), которые обнаруживаются на всем эволюционном пути живого, проявляются даже в этих (в буквальном смысле микроскопических) масштабах, у самых корней эволюционного древа, пусть механизмы, имеющиеся у разных существ, и не всегда связаны. В этом понятии о своем Я есть нечто основополагающее.
Однако характерно то, что микробы не всегда обращаются с чужеродной ДНК как с чем-то устрашающим и подлежащим уничтожению. Совсем напротив: многие микробы активно поглощают чужие ДНК из самых разных источников и в самых разных формах. Они используют ее, порой даже подбирают гены из внешней среды и включают их в свой – бактериальный – геном, как будто чтобы посмотреть, что из этого выйдет[56]. Пример (несомненно, знакомый вам) – как бактерии подбирают гены, чтобы выработать устойчивость к действию антибиотиков. Бактериальная клетка не всегда отторгает эти мобильные генетические элементы (транспозоны, плазмиды, ДНК бактериофагов). Такая открытость бактерий по отношению ко всякому новому (и зачастую опасному) опыту – одна из важнейших причин их колоссального успеха.
Но как же так? Бактериальные клетки защищаются от инфекций, но при этом открыты постороннему влиянию?
Возможно, тут мы имеем дело с самой настоящей войной. Чужеродные элементы ДНК пытаются паразитировать на бактерии ради собственного размножения и распространения (и больше ни для чего), являя собой классический случай проявления известной идеи «эгоистичного гена». Бактериальная клетка старается, в свою очередь, отразить это нападение, заставив врагов отклониться от выбранного пути. Однако примитивный паразитизм – не всегда оптимальная стратегия для паразита (не говоря уж об организме-хозяине). Возможно, здесь имеет место более тонкая форма взаимосвязи, когда обе стороны что-то приобретают друг от друга. Чем-то похоже на наши собственные отношения с бактериями, которые живут на нас, внутри нас, рядом с нами.
В первой главе я отмечал, что иммунная система слизистых оболочек (элементы которой расположены на участках контакта нашего тела с внешним миром, а значит, вынуждены постоянно иметь дело с микроорганизмами) на самом деле больше по масштабам, чем «классическая» иммунная система, на которую обычно обращают основное внимание. Вполне может статься, что иммунная система слизистых оболочек – не только более крупная, но и некая первоначальная иммунная система: вероятно, ее появление предшествовало развитию иммунных реакций, которые протекают в более стерильных уголках нашего тела.
При разговоре о бактериальном Я следует иметь в виду следующее: бактерии находятся друг с другом в таких запутанных отношениях, что любая «мыльная опера» покажется тривиальной по сравнению с этими сюжетами. Иной раз в некоторых бактериальных колониях какая-то бактериальная клетка распространяет вокруг себя токсин, уничтожая своих же собратьев по виду, которые не относятся к тому же штамму (а значит, не имеют нужного антитоксина), и тем самым предоставляя больше ресурсов для самых близких своих родичей. Известно также, что бактерии нередко жертвуют собой ради блага своего штамма. Кроме того, многие бактерии способны чувствовать, сколько вокруг таких же, как они, и принимать на основании этих сведений важнейшие решения, касающиеся своего образа жизни.
Дойдя до бактерий и архей, мы ушли по эволюционному пути далеко в прошлое, дальше уже некуда. Надеюсь, я убедил вас, что происхождение иммунных компонентов человека можно проследить на сотни миллионов лет назад: родичи лимфоцитов обнаруживаются у акул; молекулы, похожие на антитела и гены, отвечающие за выработку антител, можно встретить у улиток (и у многих других существ[57]), а ТП-гены и интерферирующая РНК вообще есть буквально повсюду. Даже если конкретный набор элементов иммунной системы не у всех видов одинаков, все виды в процессе эволюции решали схожие проблемы, поэтому разные варианты иммунной памяти, специфичности и адаптивности в разных формах появлялись у многих видов. А в совокупности они образуют картину живого мира, каждый представитель которого пытается сбалансировать собственную целостность, собственную стабильность и необходимость реагировать на среду, которая постоянно меняется и постоянно таит в себе угрозу.
Откуда такая подозрительность?
Получается, все дело в Я – не-Я, в своих и чужих? Такое разграничение приемлют не все. Например, Полли Метцингер и ее коллеги выдвинули альтернативную точку зрения на иммунитет. Они назвали эту гипотезу моделью опасности.
Согласно данной гипотезе, вместо того, чтобы вырабатывать терпимость к своим, аутоантигенам, и охотиться на чужеродные антигены, иммунные клетки откликаются на сигналы, поступающие от поврежденных клеток тела. Когда клетка кожи, печени, мышечной ткани (или клетка любого другого типа) оказывается под неблагоприятным воздействием и получает повреждения, ее содержимое выплескивается в окружающую среду, рассылая химические сигналы с посланием «У нас проблемы» и порождая иммунную реакцию. Таким образом, иммунную реакцию запускает не присутствие чужеродного агента (вируса, бактерии, червя, токсина и т. п.), а ущерб, который он причиняет.
С этих позиций взаимоотношения между нашими тканями и нашими бактериями-симбионтами выглядят более логичными: организму не приходится постоянно (и активно) атаковать эти бактерии. Он переносит их присутствие без особых волнений и хлопот – до тех пор, пока они не повреждают клетки. Похожая история с эмбрионами, с пищей и с любыми другими внешними элементами, которые контактируют с нашими тканями[58]: наш организм готов мириться с ними, пока они ведут себя хорошо. Наше тело «по умолчанию» находится в режиме доверия, а не в режиме подозрения. Такой подход позволяет лучше понять, как вообще природа допустила возникновение симбиозов и других кооперативных взаимодействий и взаимосвязей.
Модель «Я и остальные» утверждает: представления нашего организма о своем и чужом в значительной степени устанавливаются уже к тому времени, когда нам несколько месяцев от роду и когда основная часть наших В– и Т-лимфоцитов созрела. Но в течение жизни человеческое тело меняется. Беременность, лактация, наступление половой зрелости – все эти периоды сопряжены с синтезом молекул, которых у нас не было в младенчестве, однако наша иммунная система на них не реагирует. Что вполне согласуется с принципом «живи сам и давай жить другим», выдвигаемым в рамках модели опасности, поскольку при этом не наносится ущерб клеткам.
Кроме того, мы знаем, что растения и бактерии (наряду со многими другими существами) способны передавать собратьям информацию о неблагоприятном воздействии (стрессе). Некоторые растения подают сигналы, подвергшись нападению паразитов, и эти сигналы побуждают другие растения организовать защиту против этого паразита. Могут ли человеческие клетки вести себя так же?
Как предполагают Метцингер и ее коллеги, такие сигналы об опасности могут улавливаться определенным классом иммунных клеток – дендритными клетками (ДК). Ученые долго не обращали на них особого внимания, но в последние несколько лет эти клетки активно изучаются. Теперь уже повсеместно признано, что они играют центральную роль в иммунной регуляции. Согласно модели опасности, они умеют ощущать, что клетки рядом с ними попали в беду, и предупреждать иммунную систему, чтобы она воздействовала на этот участок.
Метцингер с коллегами предложили эту модель еще в конце 1990-х, но с тех пор они ее существенно расширили и развили. Ученые полагают, что иммунные реакции более специфичны и тоньше подстраиваются под угрозы, нежели мы привыкли думать. Поврежденные ткани не только предупреждают иммунную систему об опасности, но и способны определять конкретный тип (эффекторный класс) реакции, необходимой для ответа на данную угрозу. А значит, иммунную реакцию можно подгонять под конкретный патоген и определенное место. Более того, иммунные реакции не обязательно должны протекать полномасштабно: интенсивность отклика регулируется сигналами об опасности. Первоначальный иммунный ответ может оказаться локальным и сравнительно мягким, но если сигналы об опасности не затихнут, реакция усилится – пропорционально степени угрозы.
Из метцингеровского описания иммунитета следует модель не какой-то там большой системы, которая оказывается почти созревшей, когда нам несколько месяцев, а целого набора локальных реакций, специфичных для той или иной ткани. Каждая такая реакция служит откликом на определенные сигналы, которые посылает определенная ткань при повреждении. Каждая реакция предназначена для борьбы с определенного рода повреждением. С этой точки зрения, иммунитет – не какой-то отряд специальных полицейских клеток, защищающих другие – пассивные – клетки от патогенов, а свойство всех клеток организма, позволяющее им при необходимости звать помощь или же отзывать эту помощь, когда в ней нет необходимости. Модулирование иммунной функции в разных тканях проходит по-разному, и присутствие бактерий-симбионтов там регулируется тоже по-разному.
Впрочем, массу фактов модель опасности пока может объяснить лишь частично или же лишь теоретически. Что это за сигналы стресса, как они работают? Ученым хочется увидеть конкретные данные, конкретные результаты. Что служит причиной аутоиммунных заболеваний? Метцингер и ее сподвижники полагают, что такие недуги вызваны неверным прочтением сигнала об опасности (а не «аутосигналом»), или же они вообще не являются аутоиммунными, представляя собой результат действия каких-то коварных инфекций, не обнаруженных организмом[59]. Почему ткани и органы отторгаются при пересадке, если мы считаем, что проблемы «свой – чужой» в организме не существует? Метцингер считает, что пересаживаемые ткани, будучи вырезанными из тела-донора, по-прежнему содержат в себе сигналы об опасности и активированные ДК, а это может спровоцировать иммунную реакцию в организме-реципиенте. А как укладывается в эту модель иммунная реакция на онкологические заболевания? Клетки опухолей не испытывают стресс. Возможно, именно поэтому (если следовать модели опасности) иммунная система и упускает из виду некоторых из них. Но как обстоит дело с теми, которые она все-таки засекает? Короче говоря, сторонникам модели опасности еще предстоит большая работа.
Не берусь судить о сравнительных преимуществах конкурирующих моделей или тем более делать здесь какие-то определенные умозаключения. Возможно, вы уже заметили, что я втайне болею за модель опасности и надеюсь, что она окажется справедливой. Ну, или по крайней мере полезной: в сущности, это самое большее, чего можно ждать от научной модели[60]. Меня бы порадовало, если бы выяснилось, что наш организм работает именно так. Но природе, честно говоря, плевать на наши предпочтения, желания и фейсбучные лайки. Как в конце концов поступит научное сообщество – отвергнет эту гипотезу, смирится с ней, включит ее в состав более общей? Время покажет.
Зловредная коммуникация
Случалось ли с вами, что, переключая телеканалы, вы попадали на уже давно идущие детектив или судебную драму и, посмотрев какое-то время, понимали, что как-то странно себя чувствуете, не зная, кто здесь «хорошие парни»?
А случалось ли вам слушать рассказ друга о его споре с идиотом-коллегой, когда вы понимаете, на какой стороне ваш приятель, лишь по тому, что он представляет свою сторону эдаким спокойным, рассудительным голосом, а соперника – голосом громким и глупым («Я ему говорю: послушай, старина, может, попробуем сделать вот так и посмотрим, что получится? А он такой: нет, это тупость, я не хочу, потому что та-та-та, та-та-та, бур-бур-бур»)? Не правда ли, вы были уверены, что в другом доме тот же самый разговор пересказывался в этот момент точно так же, но с диаметрально противоположным распределением голосов?
Полезно с самого начала знать, чью историю вы слушаете.
Я уже некоторое время повествую вам об эволюции иммунной системы, и нелишне напомнить нам обоим, что все это – лишь одна сторона истории. Взглянув на дело иначе, я мог бы с таким же успехом рассказать вам о том, как эволюционировали (и продолжают эволюционировать) микробы, чтобы выживать внутри своих хозяев. Не всегда легко понять, что же мы, собственно, наблюдаем, обнаруживая то или иное взаимодействие микроба с иммунной системой. Что это – сбалансированная непрекращающаяся борьба? Шаткое перемирие, с трудом удерживаемое сторонами? Гармоничное сосуществование? Динамичная взаимозависимость? Хроническая болезнь? Последний вздох обреченной попытки инфицировать? Мнимая победа хозяина, которая потом окажется частью коварного плана, придуманного микробом? Истина в таких случаях далеко не всегда очевидна.
Как я уже говорил, инфицирование людей (да и любых других форм жизни) – занятие трудное и неблагодарное. Но экологическая ниша есть экологическая ниша. В ней всегда найдется чем поживиться, если не сдаваться.
Список хитростей, обманов, уловок, приемов маскировки и неприкрытого насилия, применяемых микробами, длинен, как… ну, как учебник клинической микробиологии. Можете почитать, если хотите. Пока же позвольте мне выбрать для вас некоторые из наиболее интересных стратегий, дающих кое-какое представление о злокозненности и коварстве микробов.
Как я уже упоминал, Mycobacterium tuberculosis, микроб туберкулеза, попадая в легкие, затем идентифицируется и поглощается макрофагами. M. tuberculosis не имеет ничего против, это входит в его планы. Он преспокойно нарушает пищеварительные процессы макрофага и уютненько устраивается в клетке, будучи защищен от внешней среды. После чего принимается размножаться и заражать другие макрофаги.
Многие патогены умеют вырабатывать молекулы, подражающие сигналам иммунной системы. Эти микроскопические хакеры, вторгающиеся в систему, способны по своему желанию менять ход иммунной реакции. Так, бактерия Yersinia pseudotuberculosis может вырабатывать белок YopJ, модулирующий воспалительную реакцию. Она распыляет этот белок вокруг себя, и в результате иммунная система успокаивается, позволяя микробу вершить его черное дело.
Когда человеческие клетки атакуются патогенами, на поверхности клеток появляется предупреждающий сигнал – так иммунная система узнает о возникших проблемах, дабы принять необходимые меры. А вот хламидии умеют блокировать эти сигналы, оставаясь скрытыми внутри зараженной клетки.
Такие бактерии, как Neisseria meningitides (способная вызывать менингит) или Haemophilus influenzae (возбудитель болезни, напоминающей грипп), умеют покрывать свою внешнюю оболочку сиаловыми кислотами, которые неплохо препятствуют иммунной реакции против этих захватчиков.
А вот еще одну бактерию, Streptococcus pneumoniae, имеющуюся у многих здоровых взрослых, не удается провести никакими из трюков, о которых мы только что рассказывали. Она сдирает сиаловые кислоты с замаскированных жуликов, оставляя их на милость иммунной системы. Судя по всему, она еще и способна обдавать их перекисью водорода (отбеливающий агент, довольно опасная штука). Так она побеждает конкурентов, а заодно и помогает нам (скорее всего, бессознательно). Ну и кто здесь самый умный микроб?
Виды E. coli и Salmonella способны подражать действию ТП-рецепторов, провоцируя в человеческом организме иммунные реакции, чтобы избавиться от других микробов.
Паразиты Neisseria gonorrhoeae, Giardia, а также несколько видов Mycoplasma (и ряд других) периодически случайным образом меняют покрытие своей оболочки. Специфический иммунный ответ, ориентированный на этих микробов, вдруг оказывается устаревшим и неэффективным. А когда иммунная система подстроится к этим изменениям, микроб уже совершит очередную трансформацию.
В тканях, изнутри выстилающих наши легкие, желудок и тому подобное, передний фронт представляют эпителиальные клетки. Упакованы они плотно, свободного пространства между ними мало. Их форма и структура определяется своего рода внутренними подпорками-лесами (если хотите, «скелетом»), сделанными из белка под названием актин. Когда клетке нужно поддержать или изменить форму, в нужные места добавляются актиновые подпорки (или же они убираются из нужных мест). Бактерии Listeria monocytogenes способны перехватывать управление этим механизмом актиновой полимеризации в эпителиальных клетках кишечника, чтобы обрушиться на стенки клетки-хозяина и проткнуть их. После чего бактерии спокойно могут проникнуть в соседнюю клетку и заразить ее, не будучи обнаруженными иммунной системой.
Некоторые патогены сбрасывают с себя поверхностные молекулы или выделяют молекулы-антигены, обладающие мощным действием. Эти свободные молекулы действуют как отвлекающий маневр, загружая иммунную систему несущественными делами и тем самым мешая ей заняться микробом. Когда иммунные клетки или антитела прикрепляются к личинкам Toxocara canis (собачьего круглого червя), личинки попросту скидывают с себя «кожу» – поверхностные белки, на которые отреагировал иммунитет. Так ящерицы отбрасывает хвост, когда вы пытаетесь ее схватить.
Это лишь случайная выборка. Каждый патоген обладает целым набором фокусов, позволяющих ускользать от иммунных стражей. Точнее, каждый патоген, по сути, представляет собой набор таких фокусов. На сегодняшней, столь высокой, стадии их эволюции это – единственная жизнь, какую они знают.
Уравновешивающие черви
Приведя в предыдущей главке пример с круглым червем, я остановил себя: мне хотелось назвать и другие механизмы, применяемые паразитическими червями – гельминтами (кишечными червями). Многочисленные представители этой группы паразитов отлично умеют перенаправлять действия иммунной системы в нужную им сторону. Для этого они используют целый ряд трюков, позволяющих им безбедно существовать внутри человеческого тела. Столь впечатляющий арсенал им просто необходим, поскольку гельминты – крупные паразиты, и иммунная система вряд ли их проворонит. Даже более мелкие виды гельминтов, всего несколько миллиметров длиной, громадны по сравнению с вирусами или бактериями[61].
Гельминты причиняют неисчислимые страдания жителям бедных регионов планеты, где хорошая санитария – редкость. По оценкам специалистов, примерно четверть населения Земли несет в себе гельминтное заражение того или иного рода. Организации, занимающиеся здравоохранением, пытаются противостоять этим недугам при помощи профилактики, мер гигиены и санитарии, а также антипаразитарных препаратов. В развитых странах к нынешнему времени почти расправились с гельминтами. Мы добились в этом больших успехов.
Возможно, слишком больших.
Иммунные реакции могут проявляться в различных формах. Две наиболее хорошо изученные – Th1 и Th2 (где Th означает T-хелпер, немаловажный тип Т-лимфоцитов). Детали этих процессов сложны, но основная идея здесь в том, что каждый отклик имеет дело со своей разновидностью инфекции. Скажем, клетки Т-хелпера типа Th1 посылают активирующие сигналы фагоцитам и цитотоксическим Т-лимфоцитам. Получив приказание действовать, эти воинственные клетки выдвигаются на битву, дабы отыскать и уничтожить те клетки организма, которые оказались инфицированы вирусами или определенными разновидностями бактерий. Реакция Th2, наоборот, нацелена против патогенов, не заражающих клетки тела. Клетки Th2 активируют иммунные клетки под названием эозинофилы, уничтожающих гельминтов[62]. Когда один тип Th-реакции включается, другой выключается. Этот благоразумный механизм позволяет экономить ресурсы организма и снижать побочные эффекты иммунных реакций.
Гельминты явно провоцируют Th2-реакцию. Согласно некоторым теориям, именно из-за таких провокаций жители стран, где по-прежнему высок уровень гельминтных заболеваний, куда меньше страдают от всевозможных аллергий, так мучающих население развитых стран вот уже несколько поколений. Эпидемиологическая карта вполне ясно показывает: там, где правят паразитические черви, аллергии распространены мало.
Как выясняется, гельминты модулируют иммунную систему – и своим присутствием, и той тактикой уклонения и регуляции, которую они применяют. Одним из результатов как раз является подавление воспалительной реакции. А в этом мире немало людей, которые не отказались бы от ослабления воспалительных реакций[63].
Вот и получается, что значительное число людей, страдающих хроническими аутоиммунными заболеваниями (например, синдромом раздраженного кишечника), сейчас лечат при помощи гельминтной терапии (ну, то есть при помощи глистов). Проводятся клинические испытания таких методик для лечения многих других воспалительных заболеваний.
Словно адепты какой-то диковинной секты, люди добровольно заражаются кишечными червями-паразитами (более того, настаивают на таком заражении). Отправляются к врачу, который дает им выпить жидкость с яйцами глистов, и затем возвращаются домой. В желудке из яиц вылупляются личинки. Потом что-то такое происходит, и пациент чувствует себя лучше. Эти глисты не держатся в организме очень уж долго (понятно, что пациентам специально дают те виды круглых червей, которые не чувствуют себя в кишечнике человека слишком уютно), так что вскоре пациенты повторяют эту процедуру заражения, чтобы поддерживать здоровый иммунный баланс в организме.
Конечно, лучше бы этих червей вообще удалось вынести за скобки, давая пациентам какой-нибудь «глистоэкстракт» в виде таблетки или укола, где содержались бы лишь вещества, которые улучшают самочувствие, и больше ничего. Но пока никто не знает, что это за вещества. Возможно, для того, чтобы эффект возымел действие, необходимо присутствие живого паразита.
Вся эта ситуация с гельминтами – лишь одно из проявлений так называемой гипотезы старых друзей. Это усовершенствованный вариант гигиенической гипотезы (с последним термином вы, вероятно, сталкивались). Гигиеническая гипотеза существует уже давно, однако впервые ее по-настоящему серьезно сформулировал в 1989 году Дэвид Страчан, чьи эпидемиологические исследования показали, что дети, растущие на фермах или возле них, меньше страдают от аллергий, чем их городские сверстники. С тех пор гигиеническая гипотеза в том или ином виде применялась для самых различных теорий, в разной степени подкрепленных конкретными фактами и экспериментами.
Гипотеза старых друзей по большому счету сводится к идее о том, что наша иммунная система складывалась в мире, где человек постоянно находился в непосредственном контакте с большим количеством микроорганизмов. Мы уже знаем о тесных связях нашей иммунной системы с кишечными микробами-симбионтами, но такие отношения могут связывать ее и с патогенами. Иммунная система привыкла к определенному содержанию активных микроорганизмов. В современном западном обществе, которое лучше отмывается, отчищается и дезинфицируется, чем любое другое общество в истории человечества, инфекционная нагрузка куда меньше, и это грозит разбалансировкой системы. Наша иммунная система приспособлена для противодействия сопротивлению определенного уровня. Уберите атакующих врагов, и система даст сбой, подобно тому, как человек, толкающийся в преграду, может свалиться лицом в грязь, если преграду внезапно уберут. Так что маленьких и больших детей, возможно, лучше подвергать воздействию достаточного количества достаточно разнообразных бяк.
Конечно, вы не хотите тыкать своего ребенка лицом в холерные вибрионы, и тот факт, что туберкулез (как показывает одно исследование 2000 года) помогает в профилактике астмы, вряд ли может считаться веским основанием, чтобы заразить ваше дитя чахоткой. Но детям принесет пользу всякая бытовая дрянь, содержащая сравнительно безвредные разновидности обычных патогенов. Не исключено, что без нее они подвергаются большему риску развития иммунных заболеваний – скажем, аллергий или аутоиммунных недугов.
Что такое «слишком чисто»? Что такое «чересчур грязно»? Понятия не имею.
Все мы делаем это
Нетрудно сообразить: лучший способ победить болезнь – не заболевать. Для того чтобы стараться избегать инфекции, не нужно особого ума, вот почему такое поведение демонстрируют даже виды с крошечным мозгом или вообще без оного. Вероятно, это еще один уровень иммунитета. В последние годы его изучают как поведенческую иммунную систему. Легко утверждать, что это не совсем часть иммунной системы: здесь не задействованы ни лимфоциты, ни ТП-рецепторы, ни другие подобные штуки, о которых мы говорили выше. Однако поведенческая тактика действительно позволяет противостоять инфекциям и вносит свой вклад в здоровье организма. К тому же поведенческие характеристики наследуются (по крайней мере, частично), а значит, можно рассуждать об их эволюции[64].
Безусловно, на некоторые аспекты нашего поведения оказывают влияние гены. Уж это-то мы можем утверждать с уверенностью. Но зачастую так легко запутаться, пытаясь выявить, какие компоненты человеческого поведения являются результатом нашего генетического состава, а какие – нет. Решению этого вопроса многие ученые посвящают всю свою профессиональную жизнь. Человека трудно понять. Оставим эту задачу на потом, а пока начнем с поведенческих особенностей более примитивных существ[65].
Многие организмы инстинктивно понимают, как распознавать инфекционные агенты и избегать их. Например, мы. Или насекомые. Большинство гусениц, если им предоставить выбор, предпочтут есть листья, не зараженные патогенным вирусом (даже если они впервые столкнулись с таким типом зараженного листа), подобно тому, как более крупные животные (в том числе и люди) сторонятся протухшего мяса или гнилых фруктов, предпочитая не употреблять их в пищу.
Некоторые насекомые принимают лекарства: после заражения они едят то, что явно не имеет для них пищевой ценности, зато сражается с инфекцией. Другие насекомые делают это даже в здоровом состоянии, в качестве профилактической меры. Бабочки-монархи порой откладывают яйца на листья ядовитых растений, тем самым предотвращая развитие паразитов на поверхности яиц. Как вы помните, есть существа, которые старательно покрывают свои яйца слоем бактерий-симбионтов, чтобы добиться такого же эффекта.
В других случаях насекомые поступают противоположным образом и намеренно едят меньше, когда заболевают. Ученые не до конца разобрались, почему такое происходит. Возможно, насекомые пытаются таким образом тратить больше ресурсов на борьбу с заболеванием, не отвлекаясь на переваривание пищи. Может быть, так объясняется и то, что при простуде я отказываюсь от еды.
Некоторые холоднокровные животные любят поиграть температурой собственного тела, осложняя жизнь инфекционному патогену, который они подцепили. При необходимости они перемещаются в более жаркую или более прохладную среду.
Одно из главных правил жизни у общественных насекомых – ставить интересы колонии превыше интересов отдельного существа. Члены колонии привычно жертвуют своими нуждами (а часто и своей жизнью) ради большего (генетического) блага, то есть ради блага колонии. Многие ученые рассматривают такие колонии как «суперорганизмы», где единичное насекомое является скорее компонентом системы, нежели индивидуальным существом. Пчелы убирают мертвых личинок из улья, подобно тому, как люди выносят покойника из дома – и подобно тому, как иммунные клетки изымают из оборота погибшие или опасные клетки.
Любопытно отметить, что у общественных насекомых, судя по всему, имеется меньше генов для «обычных» иммунных функций по сравнению с насекомыми не-социальными. Например, медоносные пчелы, похоже, лишены многих иммунных генов, какие можно обнаружить у мух и комаров. Возможно, это означает, что пчелы в ходе долгой эволюции обнаружили: им незачем возиться с дорогостоящими иммунными функциями, поскольку они, пчелы, развили у себя отличное гигиеническое поведение. В результате естественного отбора избыточные иммунные гены постепенно исчезли[66].
Это не означает, что поведенческий иммунитет обходится организму бесплатно или дешевле. Гены и биофизиологические пути, контролирующие инстинктивное поведение, тоже имеют свою цену. До сих пор ученым не удавалось выявить какие-то совсем уж решающие преимущества поведенческого иммунитета по сравнению с «обычным». В конце концов, не исключено, что это вообще не две отдельные системы. Подобно тому, как системы врожденного и адаптивного иммунитета подают друг другу сигналы и регулируют друг друга, поведенческий иммунитет может являться частью масштабного иммунного общения, которое происходит внутри организма как реакция на заражение.
Вернемся к нам с вами. Как известно, людям часто удается не заболеть и не заразить других. Для этого существуют самые разные способы: к примеру, мы моем руки перед едой и регулярно чистим зубы. Многим из этих моделей поведения мы научились в процессе взросления (маленькие дети, как правило, не моют руки без указаний взрослых, даже если в принципе способны это делать), однако есть модели поведения, которые впечатываются в нас еще до рождения.
Признаться, я не большой поклонник сферы исследований, именуемой эволюционной психологией. Ее цель – ухитриться выяснить наследуемые особенности человеческой психологии и поведения. Цель достойная и разумная, но я не особенно поддерживаю довольно-таки спекулятивные рассуждения тех, кто занимается такими вещами. Так или иначе, думаю, можно с уверенностью утверждать, что в процессе эволюции у нас сформировалась способность распознавать болезни у соплеменников и реагировать на эти недуги. В частности, одно из исследований показывает, что даже рассматривание фотографий больных активизирует нашу иммунную систему. В рамках другого исследования ученые пытались составить карту наших «реакций отвращения», помогающих нам держаться подальше от вещей, вид которых наводит на мысль, что в них могут содержаться инфекционные агенты или еще какие-то подобные опасности[67]. Фактор брезгливости – вещь глубокая. Хороший пример такого возбудителя иммунной реакции – гной. Чем больше что-то походит на гной (продукт инфекционного заболевания, полный вредоносных микроорганизмов), тем меньше человек склонен приближаться к такой штуке.
Более спорные исследования вроде бы позволяют предположить (спешу отметить: это в высшей степени спекулятивная идея), что и некоторые особенности нашего культурного поведения также могут испытывать на себе влияние поведенческих иммунных реакций. Не инстинкт ли заставляет вас шарахаться в вагоне поезда от грязного, вонючего, заходящегося кашлем незнакомца, чей вид наводит на мысль, что в нем может гнездиться что-то нехорошее? Возможно, на протяжении всей истории человечества наша поведенческая иммунная система убеждала нас держаться подальше от людей, чей вид показывает, что они, возможно, явились откуда-то издалека, а значит, могли принести с собой в нашу среду какие-то незнакомые (а значит, очень опасные) патогены?
Так и вижу заголовок: «Ученые утверждают: ксенофобия – у нас в генах» (стыд и позор). Нет-нет, я ничего такого не заявляю, да и никто не заявляет. Эта идея – лишь демонстрация того, насколько глубоко в нас может проникать иммунитет.
Некоторые люди демонстрируют особое поведение, которое имеет далеко идущие последствия, касающиеся иммунитета нашего вида в целом. Речь идет о тех, кто изучает и практикует иммунологию. По-видимому, это довольно редкая модель поведения, и она явно не наследуется, но мне все же хотелось бы посвятить ей отдельную главу.
Глава 4. Время исследовать
В детстве я отказывался есть овощи. Мама придумывала всевозможные уловки, чтобы впихнуть в меня хоть какие-то витамины, но почти всегда терпела поражение.
Лет в девять я провел пару летних недель у бабушки и дедушки с отцовской стороны. Бабушка у меня была типичной старомодной бабулей, обожавшей внуков, и неудивительно, что ее постоянно беспокоило мое питание. Все мои кузены были ребята деревенские, жили они на фермах и за ремонтом трактора жевали стручки перца в виде обычной закуски, а тут я, видите ли, поднимал шум из-за обычного салата. Как я мог выжить в таких условиях? В первый же день моего пребывания у бабушки, за обедом мне предложили овощи. Я вежливо отказался. После того как мы обсудили целый список соответствующих продуктов, чтобы определить, не соглашусь ли я что-нибудь из них отведать, бабушка осведомилась: «Что же, мама тебе вообще никаких овощей не давала?»
Я ответил: «Она мне делала томатный сок». Истинная правда. Мне эта штука не нравилась, но в летнюю жару мама все равно давала мне холодный томатный сок, и я с ним кое-как мирился. Бабушка просияла и принялась за работу. Вскоре мы уселись за маленький кухонный стол: бабушка с одной стороны, дедушка – с другой, а между ними – я, с большим стаканом свежевыжатого, холодного домашнего томатного сока. Я сделал осторожный глоток.
В этот момент мне открылась истина: я понял, что все те стаканы томатного сока, которые мама делала для своего привередливого сыночка, сильно разбавлялись водой и подслащивались сахаром. Но эта громадная емкость, эта гигантская штуковина, которую я держал в руке теперь, содержала 100 % томатного сока, то есть 100 % ужасной мерзости.
Я едва не свалился от потрясения. Но у меня хватило присутствия духа осознать, что на карту поставлена честь моей семьи. Если бы я объяснил бабушке правду или просто скорчил гримасу, это укрепило бы бабушку в ее и без того невысоком мнении о маме. Признаться? Или все-таки снова поднести к губам цикуту?
Неважно, что там было дальше[68]. Важно само ощущение при встрече с новой информацией, заставляющее вас пересмотреть свой взгляд на прошлое. В науке такое происходит сплошь и рядом. Плоды ее зачастую горьки, хотя в конечном счете они нередко оказываются полезны.
Я хочу немного поговорить о прошлом иммунологии, но настоящее продолжает вмешиваться в мой рассказ. То, что мы сейчас знаем об иммунитете, то, о чем я сообщал вам на протяжении трех предыдущих глав, по-своему окрашивает прошлое. Появляется искушение упоминать лишь о триумфах, изображая открытие известных нам сейчас фактов как следствие последовательных усилий блестящих, самоотверженных людей. При взгляде в прошлое у всех идеальное зрение. Эта демонстративная зоркость мешает понять, как выглядел процесс исследований для тех, кто ими занимался. Она мешает понять людей, пытавшихся одолеть проблемы, решения которых мы сейчас уже знаем (возможно, в самом начале книги мне следовало поместить крупное предупреждение: «Осторожно, спойлеры!»).
Если мы подойдем к истории науки слишком небрежно, окажется, что она вся состоит из тех, кто понял все правильно (им мы аплодируем), и тех заблуждающихся тупиц, которые поняли все неправильно (к ним мы испытываем жалость – возможно, даже слегка высокомерную). Представьте себе астрономов до Коперника (да и некоторое время после него), вовсю пытающихся осмыслить движение звезд и планет во Вселенной, которую они честно полагают геоцентричной. Вообразите себе множество людей с мозгами не хуже наших с вами: эти люди всем сердцем верили, что мухи могут «спонтанно зарождаться» в гниющем мясе. Подумайте о врачах, пытавшихся понять – и лечить – болезни, не опираясь на какие-либо знания о том, чем на самом деле занимается сердце или любой другой орган, чем занимается кровь и почему она циркулирует по телу. Считать таких людей идиотами – такой же грех, как и считать тех, кто понял дело правильно, безупречными героями науки.
В иммунологии происходили и происходят свои конфликты и трения. Она – отпрыск практической медицины и фундаментальной науки, двух различных сфер, преследующих разные цели и подразумевающих разные мировоззрения. Иммунология помнит битвы между сторонниками клинической и фундаментальной науки, приверженцами клеточной теории и гуморализма, между теориями инструкционизма и теориями отбора, между иммунохимией с ее упором на специфичность иммунной системы и иммунобиологией с ее упором на неспецифические элементы иммунитета. Некоторые из этих противоречий уже разрешены, другие же продолжают полыхать в той или иной форме.
Изучать иммунную систему человека начали сравнительно недавно – чуть больше полутора веков назад. Наука о болезнях – такая же древняя, как само человечество, но иммунология как таковая зародилась ближе к концу XIX столетия, когда ученые осознали, что микроорганизмы способны вызывать болезни. Первым делом посмотрим, что происходило до этого момента, а затем уже выясним, как иммунология стала чем-то отдельным и что с ней случилось дальше.
Всю историю я вам рассказывать не собираюсь, ведь она довольно длинная. Да это и не один сюжет, а сложное переплетение взаимосвязанных сюжетов и событий: есть история иммунитета в контексте здравоохранения и эпидемиологии; есть история иммунитета в политической сфере; есть история иммунитета применительно к промышленности; есть социальная история иммунитета – рассказ о таких научных учреждениях, как парижский Институт Пастера, или немецкий Институт Коха, или Рокфеллеровский фонд в США, и о том, как финансирование влияет на характер исследований… Даже если мы уберем все «лишнее» и ограничимся рассказом о том, что происходило в лабораториях и клиниках, все равно это очень трудоемкая и сложная задача: нам неизбежно пришлось бы говорить о множестве бородатых немецких профессоров со сложными именами. История иммунологии изложена в толстенных томах, где не оставлены без внимания и дискуссии, то и дело вспыхивающие в этой науке. Кое-что из этих книг я перечисляю в списке для дополнительного чтения (можете заглянуть в конец). А в этой главе я поведаю лишь о нескольких эпизодах, которые считаю заслуживающими внимания.
Иммунитет, иммунные роли, иммунные функции – о существовании всего этого ученые знали уже в последние десятилетия XIX века. Однако идея иммунной системы – куда более недавняя. Само слово «система» подразумевает совместные действия, общение, взаимосвязи, регуляцию, интеграцию, общую цель или функцию. Как подчеркивает историк Анн-Мари Мулен, термин «иммунная система» появился лишь в конце 1960-х. Мы еще увидим, что заставило мало сопоставимые идеи иммунных ролей в конце концов объединиться в современную идею иммунитета.
Опередившие свое время
Венецианец Джироламо Фракасторо полагал, что офтальмию (воспаление глаз) больной может передавать другому человеку, просто глядя на него, подобно тому, как взгляд собакообразного существа под названием катаблефа способен убивать на расстоянии мили[69]. Он считал, что игра на барабане, обтянутом волчьей шкурой, разорвет барабан, обтянутый шкурой ягненка. Его объяснение причин сифилиса включает, наряду со многим другим, олимпийских богов и влияние солнечных лучей на Землю.
Нам сейчас все это кажется явным абсурдом, чем-то совершенно чуждым нашему нынешнему мышлению. Однако сегодня этот человек знаменит благодаря своим замечательно-прозорливым идеям.
Фракасторо, родившийся в 1478 году, был, что называется, человеком Возрождения. Врач, геолог, поэт, астроном, математик… – это мы еще не упоминаем некоторых других его занятий. Конечно же, эти ярлыки мы наклеиваем на него сами: Фракасторо, типичный представитель Возрождения, мог бы не согласиться. К примеру, его известная работа «Сифилис» посвящена одноименному заболеванию (которому, кстати, именно он дал название), но представлена в форме длиннейшей трехтомной поэмы.
Для Фракасторо заражение (контагия) – это разложение, которое распространяется от одного тела к другому схожему телу, подобно тому, как гниль переходит от одного фрукта к другому. Древесные болезни передаются от одного дерева к другому, а человеческие хвори – от человека к человеку. Разложение, по мысли Фракасторо, может перемещаться различными путями: некоторые болезни передаются на расстоянии, некоторые – лишь при тесном соприкосновении, есть и такие, что распространяются не напрямую, а посредством semina или seminaria – «семян» или «семечек» болезни (для каждого недуга семена свои). Такие семена способны таиться в зараженных предметах и затем размножаться внутри хозяина.
Эта последняя идея кажется очень знакомой, правда? Замените «семечки» на «микроорганизмы», и вы получите современную микробную теорию, с ее специфичностью причин (а значит, и специфичностью лечения), с ее переносчиками болезни и прочим. Фракасторо натолкнулся на правильное объяснение за три столетия до Пастера и Коха. Он писал о своих идеях в 1546 году, когда еще не было микроскопов и он не мог ничего знать о микроорганизмах. Черт побери, да в то время люди даже не знали, что кровь циркулирует по телу (я об этом уже упоминал). Они лишь за три года до этого обнаружили, что Земля, возможно, вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И большинство из них этому не поверили. Считать ли Фракасторо гением? Может быть, человечество избавилось бы от столетий страдания, если бы вовремя к нему прислушалось?
Болезни всегда казались людям тайной. Что происходит при недугах? Откуда они берутся? Почему поражают одних и обходят стороной других? Почему существуют разные виды болезней? И самое главное: как сделать так, чтобы болезнь прошла? Множество важнейших вопросов. В зависимости от эпохи и отвечающего, даже если ограничиться исключительно европейским обществом и не обращать внимания на остальной мир, мы получим целый ряд разных ответов на каждый вопрос. Причиной болезни считали волю Бога (богов) и/или неуравновешенность четырех соков (гуморов) тела: последней гипотезы придерживались и древнегреческий Гиппократ, и древнеримский Гален, да и вообще она дожила до середины XIX века. Зачастую подозревали демоническое влияние на недуги. Зловонные ядовитые испарения в воздухе (миазмы, буквально – «дурной воздух») повсеместно считались повинными в заболеваниях: они якобы просачивались в тело и вызывали его гниение. Медики, ученые и мыслители Античности, Средневековья, Возрождения, раннего и позднего Нового времени пытались как-то осмыслить все это и придумать эффективные средства лечения для своих пациентов.
Современные врачи и исследователи тоже этим занимаются, только в наши дни речь идет о генетических факторах, о воздействии окружающей среды, о пациентах с ослабленным иммунитетом и тому подобном. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что на этом фронте достигнуто зримое продвижение. Мы знаем, как распространяются инфекционные заболевания, знаем механизмы инфицирования. Мы знаем о микробах, поскольку можем видеть их в микроскоп. А вот Фракасторо догадался об их существовании, просто думая о них.
Впрочем, догадался ли? Действительно ли seminaria Фракасторо – микроорганизмы? Следует с большой осторожностью приписывать значение словам, сказанным много лет назад. Слова мутируют, их смысл меняется. Читая работу Фракасторо, понимаешь, что он не имел в виду живых существ. Семечки, распространяющие недуги, он считал неодушевленными сущностями, подобно частицам, заставляющим наши глаза слезиться, когда мы режем луковицу (если воспользоваться одним из примеров, которые приводит сам Фракасторо). Они могут множиться в организме-хозяине, но при этом они появляются с неба и возникают при изменениях в атмосфере или под воздействием планет. Если копнуть поглубже, мы увидим, что объяснение Фракасторо берет начало в философии, основанной на принципах симпатии и антипатии в природе, – идее, согласно которой некоторые вещи естественным образом сродны друг другу, тогда как некоторые естественным образом противоположны друг другу. Нам эти представления кажутся не очень-то понятными. Фракасторо, при всех своих талантах, был человеком своего времени. Его не назовешь сияющим маяком во тьме невежества.
Кроме того, Фракасторо не первым заговорил о заражении как о причине распространения болезней. После Черной смерти, унесшей в XIII столетии треть населения континента, европейским мыслителям пришлось под напором лавины фактов признать, что первопричина болезни – не всегда внутри тела. Выдающиеся умы пытались осмыслить мир и в результате приходили к самым различным выводам. Так, многие современники Фракасторо толковали о заражении. Его по-прежнему считали проявлением воли Господней (в то время никто не дерзал это отрицать), однако воля Господня проявлялась в данном случае через физические средства. Фракасторо не был первым, кто решил, что болезни – некие отдельные сущности, а не просто «волнение гуморов»: такую же идею выдвигали и до того, как он ее высказал, взять хотя бы Парацельса, жившего в ту же эпоху.
Теория Фракасторо стала лишь одной среди многих соперничающих теорий, так или иначе рассматривавших механизмы заражения. Она оказала некоторое влияние и на его современников, и на тех мыслителей, которые пришли позже, но получила и свою долю критики. Задним числом кажется, что некоторые из его идей довольно близки к верному объяснению, но хоть они и оказались рядом с истиной, это не значит, что они истинны. Пожалуй, так обстоит дело со всеми подобными идеями. Они зарождаются среди той шумной и неустанной битвы умов, которую мы и именуем наукой.
Эдвард Дженнер
Прыгнув вперед на пару столетий в поисках корней иммунологии, мы обнаружим, что идею заразности некоторых заболеваний к тому времени довольно широко приняли. Среди этих болезней – оспа, тысячелетиями мучившая человечество. Тогда уже знали на основании наблюдений, что переболевшие оспой не могут подхватить ее снова. В разных местах и в разные эпохи людям приходила в голову идея прививки (или вариоляции, от латинского variola – «оспа»): из гнойника больного оспой выкачивали немного гноя и затем вводили под кожу здорового человека, чтобы он переболел оспой в легкой форме и после этого был бы навсегда от нее защищен.
Вариоляция пришла в Британию из Турции еще в начале XVIII столетия. Потребовалось немалое время (и настойчивость леди Мэри Уортли Монтегю, жены британского посланника в Турции, приказавшей сделать прививку своим собственным детям), чтобы убедить британских докторов принять новую процедуру. В 1722 году сделали прививку шести узникам. Результаты оказались вполне удовлетворительными[70]. Убедившись, что процесс безопасен для детей (доктора привили население целого сиротского приюта!), члены королевского семейства сочли, что теперь они могут привить и собственных отпрысков. Для британцев это стало наилучшей рекомендацией. К тому времени, как на медицинской сцене появился Дженнер, короли вовсю прививали своих воинов, чад и самих себя. Подданные последовали их примеру.
Вариоляция оказалась довольно эффективной для защиты человека от оспы, если только, разумеется, прививка не вызывала полномасштабное заболевание (иногда такое случалось). Кроме того, сама по себе процедура порой приводила к заражению другими инфекциями, ведь выполнялась она отнюдь не в стерильных условиях. Понятия стерильности тогда и вовсе не существовало. Вариоляция несла определенный риск для детей, особенно подверженных оспе. И все равно вероятность умереть от прививки оказалась вдесятеро ниже, чем вероятность умереть от самой болезни. Тогда это выглядело как вполне хорошее соотношение.
У вариоляции появилось немало противников. Многие медики полагали саму практику введения зараженного вещества в здоровое тело опасной и противоречащей духу общепринятой медицинской науки. Привитые могли распространять болезнь среди непривитых, а поскольку речь шла о дорогостоящей процедуре, получалось, что богатые заражают бедных. Следует учитывать и религиозный взгляд на вещи: оспа считалась наказанием за грехи, и борьба с ней приравнивалась к сопротивлению воле Господней. Мало того, сам акт вариоляции многими воспринимался как греховный, ибо Иисус говорил: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Марк 2:27). В 1721 году американский пастор Коттон Мэзер и доктор Забдиэль Бойлстон[71] пытались одолеть вспыхнувшую в Бостоне эпидемию оспы с помощью вариоляции (которой Мэзер научился от раба, вывезенного из Африки). Они встретили массовое сопротивление, и на пике враждебности кто-то даже швырнул в дом Мэзера гранату. (Да-да, тогда гранаты уже существовали!)
Однако вариоляция постепенно входила в повседневную практику. Когда разразилась американская война за независимость, солдатам Континентальной армии Джорджа Вашингтона строго запрещали прививаться, поскольку Вашингтон не мог себе позволить, чтобы его армия месяц приходила в себя после прививок. Он предпочитал бороться с оспой при помощи карантинов[72]. Между тем британские войска все были привиты – или же обладали иммунитетом к оспе, поскольку переболели ею естественным образом. Так что в 1776 году армия Вашингтона не смогла отнять Квебек у британцев, поскольку в ее рядах свирепствовала оспа. К следующему году всех бойцов Вашингтона прививали уже при зачислении в войска.
И вот на сцену выходит вакцинация. Британец Эдвард Дженнер повсюду превозносится как родоначальник этой технологии. Да, он сам ее придумал и сам испытал в 1796 году, однако он не был первым! Его соотечественник, фермер по имени Бенджамин Джести опередил его более чем на 20 лет: он привил свою семью таким способом еще во время эпидемии 1774 года. Их истории необычайно схожи. Оба – сельские жители, оба знали, что доярки, ежедневно находящиеся в тесном контакте с коровами, а значит, подверженные воздействию коровьей оспы, редко заболевают оспой обычной. (Сей факт был хорошо известен всем обитателям мест, где занимались молочным животноводством). Оба пришли к выводу, что заражение коровьей оспой может защитить человека от оспы обычной. Оба стали проверять эту гипотезу. Джести получил свежую жидкость из оспины зараженной соседской коровы и при помощи вязальной спицы заразил и жену, и обоих своих маленьких детей (двух и трех лет) прямо в поле. Дженнер взял гной у молочницы, а не у коровы, и испробовал новый вид прививки на Джеймсе Фиппсе, восьмилетнем мальчишке скромного происхождения, жившем неподалеку.
Впрочем, дальше истории этих родоначальников вакцинации расходятся. Фермер Джести продолжал вести прежнюю жизнь. Его жена в результате процедуры заболела, но потом выздоровела. Ему порядком досталось от соседей (в рассказе современника это называется «громогласные упреки»), ибо некоторые соседи считали его сумасбродом, безрассудно подвергшим семью опасности самым отталкивающим и неестественным образом. Впрочем, другие соседи отнеслись к его поступку более благожелательно, и есть свидетельства, что он привил еще кое-кого из местных жителей. Официальное признание пришло к нему лишь в 1805 году, через 30 лет после первой вакцинации и через несколько лет после того, как Дженнер обнародовал результаты своей работы. Джести пригласили в Лондон, чтобы он выступил в Институте оспенных вакцин с докладом о своих опытах. Он прибыл туда вместе с взрослым сыном Робертом, согласившимся, чтобы его подвергли воздействию оспы. Так он продемонстрировал эффективность отцовского лечения. Официальный художник даже написал портрет Джести. Кстати, портрет этот дожил до наших дней. На нем Джести изображен в своей обычной деревенской одежде (он не внял требованию семейства облачиться во что-нибудь более подобающее визиту в большой город). Эта малая толика признания да безопасность семьи – вот и все, что он приобрел благодаря своему открытию.
Но Дженнер-то был врач, человек ученый. Он записал результаты своих экспериментов и отослал их в Королевское научное общество. После того как там отвергли его первоначальное сообщение, он вакцинировал еще нескольких детей, в том числе и собственного младенца. Второй его отчет приняли. После этой статьи Дженнер развернул целую кампанию в поддержку вакцинации. Кампания продолжалась до конца его жизни и сделала его заметной фигурой как в родной стране, так и за ее пределами. Огромное количество ядовитых стрел выпустили в него противники вакцинации, однако это не помешало Дженнеру получить парламентское пособие[73]. Вот так человечество обрело счастье вакцинации.
Интересно, что произошло бы, вздумай Джести поделиться результатами своих опытов с миром. Приняли бы его всерьез? Или же вакцинацию должен был даровать человечеству обладатель хорошей профессиональной репутации, уважаемый член общества, иначе его предложение не стали бы рассматривать? Подозреваю, что так. Есть указания на то, что в практической вакцинации и Джести не был первым предшественником Дженнера. Историки науки знают по меньшей мере еще об одном человеке, который пытался проделать такой же трюк с коровьей оспой. Возможно, древнегреческие пастухи сходным образом использовали козью оспу. Общественное положение Дженнера заставило мир прислушаться к его идее.
Прежде чем мы двинемся дальше, в XIX век, к настоящей иммунологии, мне хотелось бы отметить кое-какие детали, на которые вы, возможно, не обратили внимание, читая эту главку. Начнем с того, что многие из ранних экспериментаторов предпочитали ставить опыты на детях, особенно на своих. В каком-то смысле это понятно: им приходилось испытывать свои изобретения на тех, кто раньше не подвергался воздействию данной инфекции (даже слабому), и для детей такое более вероятно. Леди Монтегю, Дженнер, Джести (и Джордж Вашингтон) все когда-то уже болели оспой и при всем желании не могли бы заразиться. Кроме того, испытания на собственных детях – ход очень убедительный. С другой же стороны, вся эта идея – совершенно варварская: как можно поставить на карту жизнь собственного ребенка?
В наши дни подобная практика, разумеется, строжайше запрещена. Существуют права человека, права ребенка, и нельзя вот так взять да и использовать своих детей (да и чьих угодно) для медицинских экспериментов. И это хорошо. Но тут же появляется тревожная мысль: если бы общество в XVIII веке оказалось более просвещенным и запрещало такое поведение, то мы понятия не имели бы ни о вариоляции, ни о вакцинации. В лучшем случае эти методы появились бы гораздо позднее. Совершенно неэтичные с сегодняшней точки зрения испытания в конечном итоге спасли бесчисленное множество жизней. Я много об этом думал, но так и не пришел к определенному выводу.
Вторая особенность, которую вы могли заметить: прививки неизменно сразу же встречают противодействие. Неприятие вакцинации – явление отнюдь не новое, оно возникло вместе с вакцинацией. Едва ли не каждую попытку внедрить вариоляцию или вакцинацию принимали скептически, а зачастую и вовсе враждебно. Им нередко сопротивлялись. Но вот ведь какая штука: прививки впервые появились именно как элемент народной медицины, и врачебная элита вначале считала их суеверным вздором. А в наши дни именно врачи и ученые – самые стойкие адепты вакцинации. Что изменилось?
На протяжении многих десятилетий после того, как вакцинация получила одобрение официальной медицины и стала широко распространенным методом, не существовало никакого объяснения, каким же образом она действует. Пионеры вакцинации не опирались ни на какую теорию. Как объяснить, что, подвергая себя воздействию обычной оспы или коровьей оспы, вы защищаетесь от последующего заражения? Теперь-то нам известно, что причина такой защиты – в иммунной памяти. Мы многое можем сказать о В-лимфоцитах, которые остаются в организме после его первоначальной реакции на вирус Variola, и т. д., и т. п. Но Дженнер и его современники понятия не имели даже о существовании иммунной системы. Они делали свои умозаключения, просто наблюдая коров и молочниц да еще слушая о всякого рода чужеземных обычаях.
Практикующих медиков тогда не очень-то смущала нехватка теорий. Врачи предпочитают конкретные результаты, и зачастую их не особенно беспокоит то, что они не знают, почему пациенты не больны, лишь бы лечение хорошо справлялось с болезнью (или, цинично говоря, лишь бы казалось, что лечение хорошо справляется с болезнью). Практику вакцинации против оспы приняли благодаря хорошим эмпирическим результатам. Однако никто по-прежнему не мог толком объяснить, почему эта штука так хорошо работает, вот почему этот метод не удавалось применить при других заболеваниях. Вакцинация против оспы стала счастливой аномалией в медицинской науке. Приходилось ждать, когда ученые поймут ее механизм.
Червячки идеи
Середина XIX века – благодатное время для биологии. Загадку жизни, этот вечный пазл, постепенно собирают из кусочков. Клеточная теория (идея о том, что все живые организмы состоят из отдельных клеток) возникает в лабораториях (главным образом в прусских) и укореняется в умах. Клетка становится для биологии во многом тем же, чем станет для физики атом – фундаментальной единицей, структурной и функциональной. Теперь в фокусе научных исследований именно клетка, а не орган или ткань. Оказывается, клетка – сложное образование, она состоит из субъединиц (органелл), умеющих воспроизводить себя. К 1855 году Рудольф Вирхов смог обобщить эти открытия своим знаменитым афоризмом «Omnis cellula e cellula» («Каждая клетка происходит только от клетки»). Если клетки столь важны для понимания жизни, то они должны быть важны и для понимания болезней.
Другие новости эпохи: набирает силу микробная теория. Роберт Кох, Джозеф Листер, Эмиль фон Беринг, Луи Пастер и другие бактериологи утверждают: болезни вызывают микробы, а точнее, определенные бактерии служат причиной определенных заболеваний. Пастер показал также, что бактерии происходят только от других бактерий, разгромив давно державшуюся в науке идею спонтанного зарождения жизни из неживой материи[74]. Между тем в 1859 году Чарлз Дарвин в Британии публикует свой труд «Происхождение видов», подарив биологии ее основополагающий принцип.
Следует заметить, что движение по этому пути оказалось не таким уж гладким. Достаточно вспомнить, как двое из главных действующих лиц этой истории относились друг к другу. Вирхову не нравилась идея о микробах как о болезнетворных агентах. Он считал, что первичная причина болезней в том, что клетки перестают работать как полагается. Кроме того, Вирхов не очень-то поддерживал теорию Дарвина, считая, что ей не хватает доказательств и, мало того, что она может привести к распространению социализма – идеологии, которую наряду с религиозными институтами Вирхов, этот политический активист, социальный реформатор и пропагандист здорового образа жизни, терпеть не мог. Пастер также выступал против дарвиновской эволюционной теории, считая, что это та же идея спонтанного зарождения жизни, только в новом обличье. Более того, католик Пастер считал, что эта теория идет вразрез с библейским рассказом о сотворении мира. Короче говоря, все они очень удивились бы, сообщи им случайный визитер из будущего, что взгляды всех этих трех ученых мужей, в сущности, справедливы.
Все эти достижения в биологии я упомянул, поскольку они неразрывно связаны с дальнейшим развитием иммунологических представлений. Я еще поговорю о важности эволюционного мышления. Пока же отметим, что клеточная теория предоставила ученым, помимо всего прочего, идеологию (понятийный аппарат) изучения клеток и их функций. Без нее ученые, возможно, никогда не обнаружили бы иммунитет, который распространяется на весь организм и не сосредоточен в каком-то одном хорошо различимом органе. И наконец, микробная теория подарила медицинской науке неоценимую вещь – четко поставленный вопрос. Итак, существуют объекты, являющиеся причиной болезни. И их можно детально исследовать – как внутри живого организма, так и вне его.
До тех пор никто не изучал иммунную систему, поскольку не было особых причин подозревать, что такая штука вообще существует. Когда выяснилось, что микробы могут заражать организм и причинять ему всевозможный вред, потребовалось объяснить, что же им мешает этот вред причинять.
Карьера Пастера дает нам характерную картину тогдашних медицинских изысканий. По образованию и профессии он был не врачом, а химиком. В мир биологии и медицины он попал благодаря своим исследованиям процессов брожения[75]: Пастер обнаружил, что это не химический, а биологический процесс. С тех пор он стал развивать и продвигать микробную теорию, утверждая, что микробы служат причиной болезней человека и животных. Шли годы. Он научился излечивать одну из болезней шелковичных червей, затем – сибирскую язву домашнего скота, куриную холеру. И наконец – знаменитый случай, который мог бы, обернись дело иначе, принести ему серьезное наказание за медицинскую практику без лицензии: Пастер спас ребенка, укушенного бешеной собакой, дав ему вакцину против бешенства, которую проверял как раз на собаках.
Надеюсь, вы согласитесь: в целом карьера ослепительная. Но Пастеру и без меня давно и часто поют хвалу. Я же хочу подчеркнуть, что великий Пастер, тем не менее, как и его предшественники, и не подозревал, что организм, атакуемый микробами, может что-нибудь против них предпринять. В 1880 году он представил теорию, объяснявшую приобретенный иммунитет – явление, которое он столь успешно демонстрировал прежде.
По легенде, при экспериментальном заражении цыплят микробами холеры Пастер случайно использовал старую культуру возбудителя. Инфицированные цыплята не заболели; более того, они оказались устойчивыми к холере. Что это? Проявление приобретенного иммунитета, во многом похожее на то, что еще давным-давно наблюдалось у больных оспой. Только в этот раз речь шла о болезни животных, а не человека, так что можно было с чистой совестью приняться за опыты. Как выяснилось, культура, сообщающая устойчивость к болезни, была аттенуирована («ослаблена») из-за того, что слишком долго подвергалась воздействию кислорода[76]. Пастер вознамерился искусственно воссоздать такое ослабление – так родилась современная вакцинация. Раньше делали лишь вакцинацию против обычной оспы, ибо лишь для нее существовала удобная форма вакцины – коровья оспа. Теперь же, сообщал Пастер человечеству, можно производить вакцины против любых болезней, просто ослабляя их возбудителей!
Возможно, он смотрел на дело чересчур оптимистично. Не все заболевания так удобны и склонны к сотрудничеству, и разработка вакцин – зачастую весьма трудная задача. Но обнаруженный им принцип остается действенным. С тех пор вакцины так и создаются – путем ослабления или уничтожения возбудителя (бактерий или вирусов) с последующим введением этой культуры в организм.
Все это очень вдохновляет и очень полезно, спору нет. Но почему это вообще происходит? Пастер давал такое объяснение. Определенный микроб заражает организм, обустраивается в нем и принимается размножаться. Для этого микробам нужны питательные вещества, которые захватчик и забирает из окружающей его среды. Поскольку каждая разновидность микробов обладает своими особыми потребностями по части питания (в том числе и потребностями в незначительных количествах так называемых следовых питательных веществ, жизненно необходимых микробам), в конце концов захватчики исчерпывают запас этих веществ в организме-хозяине и погибают от голода. Когда тот же организм снова инфицируется таким же микробом, новоприбывшие не могут найти для себя нужной пищи, а значит, не могут и выжить. Поскольку различные виды микробов имеют разные потребности по части пищи, то, что вырабатывает иммунитет к одному виду микробов, не оказывает воздействия на другие их виды.
Пастеровская теория исчерпания питательных веществ (не первая теория такого рода) напрямую увязывалась с тем, что он наблюдал у себя в лаборатории. Новые усовершенствования бактериологических методов впервые позволили ученым выращивать чистые культуры, своего рода резервуары, содержащие лишь одну-единственную разновидность бактерий, которую затем можно изучать. Это был многообещающий научный прорыв. Он навсегда изменил биологию – и, полагаю, мир как таковой. В пастеровских лабораторных культурах разным бактериям действительно требовались разные питательные вещества, иначе эти бактерии не могли расти (на заботу о питании бактерий даже в нынешних лабораториях уходит масса трудов). Если поместить бактериальную клетку в химический стакан или на пластинку, где содержится питательная среда (субстрат), которую она предпочитает, бактерия поведет себя в точности по Пастеру: станет неудержимо размножаться, а когда запас питательных веществ истощится, все бактерии умрут. Пастер просто перенес то, что наблюдал в лабораторных условиях, на человеческий организм, который не воспринимал как исполнителя активной защитной роли: организм для него служил просто еще одним резервуаром, похожим в этом отношении на обычную чашку Петри.
Теория Пастера не продержалась долго. Он сам поспешил отвергнуть ее, когда в 1880-е годы ученые совершили новые открытия (выяснив, например, что погибшие микробы, которые уже явно не могут истощать никакие ресурсы, все же способны наделять организм иммунитетом). Мне хотелось рассказать вам об этом, потому что для меня здесь стоит последняя веха преиммунологии. Пастера часто именуют отцом иммунологии, и во многом это верно, однако он был бактериологом и придумал теорию иммунитета как бактериолог. Бактерии в его теории выполняют главную (и вообще единственную) роль, тогда как человеческий организм в этом смысле, по его мнению, пассивен.
Клетки против гуморов
Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1908 года разделили Илья Мечников и Пауль Эрлих, что символично: они представляли два конфликтующих течения в иммунологических исследованиях.
Давайте сначала обратимся к Мечникову, поскольку у него более впечатляющая борода. Этот русский зоолог тихо и трудолюбиво изучал на Сицилии пищеварительные системы морских беспозвоночных. Однажды, в 1882 году, разглядывая под микроскопом личинок морской звезды, он вдруг подумал, что подвижные клетки, которые он увидел внутри личинки, могут защищать этот организм от инфекции – подобно белым кровяным тельцам, которые (ученые тогда об этом уже знали) собираются вокруг воспаленных участков тела человека. Он воткнул в личинок шипы и на следующее утро обнаружил, что эти подвижные клетки перестали бесцельно плавать, а все сосредоточились вокруг мест укола. Дальнейшие эксперименты, сначала на беспозвоночных, а затем на кроликах, подтвердили его правоту: определенные белые кровяные тельца способны при определенных обстоятельствах атаковать, поглощать и переваривать захватчиков, тем самым защищая организм от инфекции. Он назвал такие клетки фагоцитами («поедающими клетками»).
Мечников не первым заметил это явление. Ученые и раньше обнаруживали бактерий внутри клеток, однако не понимали, что они там делают. Мечниковская фагоцитарная теория позволила связать воедино эти разрозненные наблюдения, дав первое логичное объяснение иммунитета, над которым бились Пастер и другие. Идея иммунитета как свойства организма в целом (а не как локализованных индивидуальных реакций, происходящих в месте заражения) не так уж очевидна. Благодаря Мечникову иммунология стала больше напоминать науку, а не просто область практической медицины.
Более того, Мечников первым сумел взглянуть на воспалительный процесс в нужном контексте. Ранее воспаление считалось «вредоносным» процессом, проблемой, которую нужно преодолевать. Мечников понял, что само по себе воспаление может и не быть проблемой, скорее, оно – часть процесса исцеления. Конечно, воспаление может приносить и вред (мы до сих пор используем противовоспалительные препараты), но отнюдь не потому, что оно дурно по самой своей сути, а потому, что иногда выходит из-под контроля.
Редкий ученый свободен от чрезмерного энтузиазма при оценке возможностей своей новой теории. Мечников не стал исключением. Он пустился объяснять при помощи своей теории самые разные вещи. Для него воспаление служило универсальным ответом организма на любые затруднения, внешнего или внутреннего происхождения. Фагоциты, по его мнению, отвечали за пожирание нейронов при нейродегенеративных заболеваниях и за пожирание пигмента в волосах (вызывая седину).
В основе мечниковских идей лежали теории Вирхова о клеточных причинах болезней. Им бросало вызов новое воплощение древней медицинской теории – гуморализма.
Ушли в прошлое представления о «четырех телесных гуморах», царствовавшие в медицине много веков. На их место пришло представление о том, что какие-то неклеточные элементы в крови отвечают за оборону организма против инфекционных агентов. В 1886 году Йозеф Фодор обнаружил, что сыворотка крови (жидкость, получаемая после того, как из крови отфильтруют все клетки) способна повреждать бактерии. Эмиль фон Беринг в 1890 году выяснил, что компоненты этой сыворотки (позже названные антителами) могут служить защитой от токсинов.
Последовали дальнейшие открытия. Завязалась жаркая научная битва. На одной стороне оказались целлюларисты («клеточники») – Мечников (который к тому времени уже работал в парижском Институте Пастера), его студенты и коллеги, по большей части французы. Они подчеркивали первостепенное значение клеточного иммунного отклика на инородные антигены. На другой стороне оказались гуморалисты, главным образом немцы. Они подчеркивали важность действия компонентов сыворотки – антител – и того, что мы называем теперь комплементарной реакцией.
Два лагеря разделились, грубо говоря, по государственным границам (отметим, что Франция и Германия тогда находились в весьма недружественных отношениях) и по границам междисциплинарным. В массе своей (встречались и исключения) целлюларисты вели рассуждения с биологической точки зрения. Для них иммунитет являлся результатом взаимодействия живой клетки с чужеродным антигеном. Гуморалисты же, напротив, скорее рассматривали иммунитет с химических позиций, уделяя главное внимание антителу. Откуда оно взялось? Как оно образуется? В чем причины его специфичности по отношению к антигену? В ту пору как раз пристально изучали специфичность белковых молекул, особенно ферментов, и антитела служили здесь очередным немаловажным примером.
Иммунобиологи и иммунохимики выделяли два разных круга проблем и применяли разные методы. Оба лагеря шагнули далеко вперед в понимании иммунных механизмов и применении этих знаний для решения клинических задач. Первая Нобелевская премия по физиологии и медицине (1901 года) присуждена фон Берингу – за разработку метода иммунной терапии дифтерита – за противодифтеритную сыворотку. Исследования в области иммунитета еще не раз награждались главной научной премией. Однако уже в первые годы XX века стала очевидна польза и целлюларистского, клеточного, и гуморалистского подхода. Вот почему Нобелевскую премию 1908 года разделили сторонники обоих. Иммунология считалась тогда модным направлением, и Нобелевские премии раздавались иммунологам направо и налево. Больше всего в этом смысле повезло гуморалистам.
Гуморалистский подход вообще впечатляет больше. Долгое время гуморальный иммунитет вообще занимал главное место в науке, а иммунитет клеточный ютился где-то на обочине. Во многом так происходило из-за того, что с антителами работать гораздо легче, чем с клетками. Их проще производить, анализировать, количественно оценивать. Проще изучать и их реакции. Клетки – сложные автономные образования, тогда как антитела – единичные молекулы (по общему мнению, правда, крупные). Так рассуждали ученые. Вот почему в течение нескольких десятилетий исследования антител приносили куда более интересные результаты.
Сегодня мы понимаем, что клеточный и гуморальный подход дополняют друг друга. Подобно слепцам, ощупывавшим слона в известной притче, первые иммунологи пытались определить «форму» иммунной системы по различным ее частям. Мы до сих пор не знаем во всех подробностях, как же выглядит этот слон. Может статься, это и не слон вовсе.
Чем занимается антитело?
Эти два конкурирующих подхода к иммунологии имели свои различия, но оба сходились в одном: они признавали идеи Дарвина и до известной степени принимали его логику. Канули в прошлое времена пастеровских возражений против идеи естественного отбора.
В мечниковской иммунобиологии было больше откровенного дарвинизма, чем в ее сопернице. Это видно даже по первой стадии становления теории Мечникова, когда он, наблюдая слипание клеток морской звезды, справедливо предположил, что этот тип клеток, который имеется у столь «низшего» существа, так отличающегося от нас по облику, можно обнаружить и у «высших» форм жизни, в том числе и у человека. Мечников рассматривал заболевание как нечто, что происходит не с одним организмом, а с двумя – хозяином и патогеном, представителями двух видов, пытающимися выжить. Мечников достаточно глубоко понимал этот процесс: он полагал, что здесь не какая-то игра с нулевой суммой (когда кто-то обязательно должен победить, а кто-то – проиграть), а целый диапазон возможных взаимоотношений (уже тогда он выдвинул идею пробиотиков, как мы их теперь называем).
Иммунохимики, будучи все-таки химиками, а не биологами, мало озадачивались идеями эволюционного развития. К тому же их мало волновали запутанные проблемы вроде аутоиммунных явлений. Главным предметом внимания иммунохимиков стали антитела. Но тут-то и возникла неувязка: антител оказалось слишком много.
Поначалу иммунологи и не подозревали, что существует такое большое количество инфекционных заболеваний. Следовало предположить, что человеческий организм обладает способностью вырабатывать антитела для всех существующих болезней, подобно тому, как он с самого рождения умеет вырабатывать ферменты, помогающие переварить всевозможные виды пищи.
Теория боковых цепей, предложенная Эрлихом в 1900 году, служит показательным примером теории отбора, предвосхитившей современные идеи иммунных рецепторов (и оказавшей большое влияние на развитие науки в целом). Эрлих полагал, что на поверхности иммунных клеток находятся «боковые цепи» белков, реагирующие на присутствие определенного антигена. Однако по мере накопления экспериментальных данных его идеи утратили свою привлекательность. Стало очевидно, что существует слишком много различных видов антигенов. Более того, выяснилось, что если синтезировать в лаборатории «искусственное» вещество и ввести его в организм животного, то организм будет отличнейшим образом вырабатывать антитела – к веществу, которого вообще нет в природе. Если мы предполагаем, что каждое антитело специфично по отношению к определенному патогену, тогда нужно, чтобы количество разновидностей антител совпадало с количеством разновидностей антигенов, а ведь числу возможных антигенов, похоже, нет предела. Откуда же тогда берутся специфичные антитела?
Если бы такой вопрос поставили всего столетием раньше, прозвучал бы ответ в рамках теории Божественного творения: Господь в неизреченной мудрости своей может снабдить организм в точности таким набором антител всевозможных типов, какой этому организму необходим. Но времена изменились, и подобное объяснение уже не удовлетворяло ученых.
Возникли теории, предполагавшие, что антитело – это на самом деле модифицированная форма антигена. При заражении антиген поглощается организмом, а затем каким-то образом перестраивается, становясь специфичным по отношению к своей исходной форме. Более поздние и более продуманные варианты такого подхода получили название инструкционистских теорий, поскольку они подразумевали, что антиген «инструктирует» антитела, какую форму им принять. Идея состояла в том, что при встрече с антигеном иммунные компоненты реагируют на него соответствующим образом. Иными словами, специфичности у антител вначале никакой нет; она возникает лишь как отклик на инфекцию. Теория матричного копирования (refolding template theory), предложенная Лайнусом Полингом в 1940 году, как раз носит инструкционистский характер. Согласно его модели, антиген, попадая в организм, встречается с молекулой наивного антитела, которая затем как бы обертывается вокруг антигена, перенимая его форму. Затем эта «матрица» перемещается в клетку, вырабатывающую антитела, где форму матрицы можно будет воспроизвести, создавая любое количество специфичных антител того же типа.
Общая идея инструкционистских теорий кажется вполне логичной: она показывает, как возникает специфичность. Какое-то время инструкционистские теории пользовались довольно большой популярностью, однако в конечном счете каждую из них опровергли результаты экспериментальных исследований.
Вопрос разнообразия антител безумно сложен: организм словно бы избегает любых прямых путей создания такого огромного количества разновидностей антител – во всяком случае, таких путей, которые могут представить себе ученые. Проблему решили только в 1949 году, когда Фрэнк Макфарлейн Бёрнет предложил свою клонально-селекционную теорию. В сущности, это типичная селекционистская теория, к тому же дарвинистская до мозга костей. С первого взгляда она кажется неоправданно сложной. Однако эксперименты показали, что сложность у нее как раз достаточная.
Отбор
В последние несколько дней наша гостиная выглядит весьма своеобразно. Дело в том, что мой старший сын упорно пытается использовать пути для своего бронепоезда Томаса как модель Мельбурнской железной дороги. При этом он старательно сверяется с картой. Как и создатели настоящих железных дорог, он боролся с нехваткой пространства и материалов. Перед ним не вставали проблемы заторов или отказов оборудования, хотя, с другой стороны, компании Metro Trains вряд ли приходилось сражаться с полугодовалым младенцем, постоянно пытающимся оторвать половину линии и съесть ее.
Строить хорошие модели непросто, даже если вы знаете, как эта штука должна в конце концов выглядеть. Создавать научные модели (представляющие тот или иной аспект природы) еще труднее. Ученые вот уже больше века стараются понять, на что похож иммунитет. В 1967 году Нильс Ерне, датский иммунолог, лауреат Нобелевской премии 1984 года, предсказал, что в ближайшие 50 лет все проблемы иммунологии удастся «решить целиком и полностью». Почему он произнес эти слова? Оказался ли он прав?
Датчанин Ерне стал, наряду с Фрэнком Макфарлейном Бёрнетом, Дэвидом Толмеджем, Питером Медаваром, Густавом Носсалем, Джошуа Ледербергом и прочими, одной из главных движущих сил новой эпохи иммунологии – эпохи, которая заняла всю вторую половину XX века и, в общем-то, продолжается по сей день.
Это новое племя исследователей состояло из биологов, и вполне естественно, что по образу мысли они отличались от своих предшественников – иммунологов, больше ориентированных на химию. Химики привыкли мыслить реакциями, структурами, химическими связями. А биологи умеют мыслить популяциями, поколениями, генеалогическими линиями. Они задают вопросы, больше относящиеся к процессам, которые идут в организме, а не к тем, что идут в пробирке. Химическое мышление сыграло важнейшую роль для понимания того, что антитела делают, встречая антиген. Но этого оказалось недостаточно, чтобы понять, как антитела вообще появляются в тех или иных участках организма.
Начиная с послевоенных лет и затем в 1950-е и 1960-е годы хлынул целый поток иммунологических работ, авторы которых начали как-то разбираться во всей этой неразберихе. Исследования во многом опирались на недавно разработанный инструментарий молекулярной биологии и на открытия, которые он позволил сделать. Вся биология тогда переживала замечательный период стремительного прогресса и постоянных открытий. Такие штуки, как гены, вдруг перестали быть теоретическими понятиями, становясь реальными объектами, которые можно выделить, которыми можно манипулировать, которые можно изучать. Работу клеток (работу самой жизни) выясняли в лабораториях. И все это шло на пользу иммунологии. Не забудем, что именно в то время, в 1950–1960-е годы, появились эффективные вакцины против таких заболеваний, как грипп, полиомиелит и корь, спасшие миллионы жизней и избавившие человечество от страха перед этими болезными. Неудивительно, что в 1967 году Ерне проявлял такой оптимизм.
Модели, разработанные в середине прошлого века, до сих пор остаются актуальными: конечно, их модифицируют с учетом новейших открытий (как это всегда бывает в науке), но принципы остаются неизменными. Основные их идеи мы уже обсудили в предыдущих главах: организм создает широкий ряд клеток, вырабатывающих антитела; в ходе эмбрионального развития отсеиваются клетки, специфичные для аутоантигенов; прочие же клетки остаются в организме, циркулируя по нему, пока не появится чужеродный антиген, который и идентифицируется специфичной клеткой, после чего она осуществляет пролиферацию, производя множество идентичных копий самой себя, а эти копии начинают, в свою очередь, вырабатывать антитела.
Бёрнет выдвинул свою клонально-селекционную теорию (КСТ) в 1957 году, основываясь на идеях Ерне и Толмеджа. Именно КСТ заставила Бёрнета предположить, что загадка иммунитета решена: ему казалось, что КСТ объясняет главное, и теперь осталось лишь разобраться в кое-каких деталях.
К примеру, Бёрнет и его коллеги не знали, каким образом организм ухитряется вырабатывать так много разных типов антител. Среди ранних гипотез Бёрнета – своего рода генетический вариант инструкционистских теорий: он полагал, что молекула антигена может прижиматься к генетическому материалу, оставляя свой отпечаток в гене и тем самым предоставляя организму матрицу для производства антител. Сегодня нам известно, что гены действуют совсем не так. Через несколько лет после этого предположения Бёрнета биологи начали постепенно разбираться в работе генов, но проблема никуда не делась: судя по всему, организм производит немыслимое количество разных типов антител, так что генов для их кодирования просто не хватит. На этот счет выдвигались еще кое-какие гипотезы, но лишь в середине 1970-х Сусуму Тонегава сумел убедительно разрешить загадку разнообразия антител.
КСТ тесно связана с более общим понятием иммунного Я, хотя они и не тождественны. Клональная селекция – наблюдаемый факт: показано, что В– и Т-лимфоциты вырабатываются и отбраковываются так, как я это уже здесь описывал. Однако представление о том, что эти клетки претерпевают отбор по принципу «Я – не-Я», «свой – чужой», отражает не грубый факт, а наш способ мышления. Впрочем, такой подход весьма продуктивен, он приносит свои плоды вот уже больше полувека. Однако не следует забывать, что идея иммунного Я – лишь модель, метафора, позаимствованная у психологии, а с метафорами лучше обращаться поосторожнее. К тому же идея иммунного Я пережила много изменений и много критики с тех пор, как в 1949 году Бёрнет впервые предложил свою теорию иммунной толерантности.
Концепция иммунного Я, выдвинутая Бёрнетом, довольно неоднозначна: иммунная система может вести себя (да и часто ведет себя) безразлично по отношению к клеткам, которые не являются ее собственными (скажем, к нашим бактериям-симбионтам), но нередко борется против родных клеток организма – раковых (это хорошо) или нормальных (это вызывает аутоиммунные неприятности). Действительно ли наш организм действует исходя из такого разделения на Я и не-Я, на своих и чужих?
Хотя представление об иммунитете, определяющем «личность» организма, восходит еще к Мечникову, эта теория Я / не-Я возникла не как описание иммунной реакции на инфекционные болезни, а применительно к иммунной реакции на трансплантацию. Нетрудно вообразить специфичную иммунную реакцию на бактерии или вирусы. Но почему одно человеческое тело негативно реагирует на клетки, взятые из другого человеческого тела? И можем ли мы управлять этой реакцией, чтобы обеспечить успешную пересадку органов и тканей? Кроме того, практиков и теоретиков медицины начинала все больше интересовать проблема аутоиммунитета: почему организм вдруг ополчается против себя?
В последующие десятилетия ученые активно изучали механизмы, регулирующие такие реакции, и их, эти механизмы, в значительной мере удалось разъяснить. Был сделан огромный шаг вперед как в понимании иммунных процессов, так и в разработке методов лечения болезней и иммунных расстройств. Благодаря этим достижениям удалось выжить очень многим людям. Но для исполнения оптимистического прогноза Ерне остается совсем мало времени: на дворе уже почти 2017 год, однако пока решены далеко не все проблемы иммунологии.
В своей книге 2005 года «Как получить Нобелевскую премию: руководство для начинающих» австралийский иммунолог (и, подобно Ерне и Бёрнету, нобелевский лауреат) Питер Доэрти дает обзор своей отрасли науки, где уверенно предсказывает: «Я совершенно убежден, что если в конце XXI века какой-то историк науки будет, подобно мне, говорить об иммунологии, то он несомненно отметит: „Сто лет назад многие вопросы ученые даже не могли поставить, не говоря уж о том, чтобы знать ответы на них“».
Про нас-то не забудьте
Кстати о Доэрти. Возможно, вы заметили, что практически со времен зарождения иммунологии как науки те иммунологи, о которых я рассказывал, занимались главным образом антителами – их специфичностью, выработкой, отбором и так далее. Вы можете спросить: а как же все прочее?
Довольно долгое время изучением иммунных клеток, по большому счету, как-то пренебрегали. В мечниковских теориях занимает немалое место клеточный иммунитет, но целлюларисты проиграли гуморалистам, и на протяжении чуть ли не всего XX века ученые исследовали в основном гуморальный иммунитет – неклеточные иммунные компоненты, находящиеся в сыворотке крови.
«Это может показаться странным, – писал Нильс Ерне в 1977 году, – но 15 лет назад иммунологи еще разыскивали те клетки, где берут начало явления, которые они изучают уже 70 лет». Антитело – единичная белковая молекула, сама по себе достаточно сложная, однако изучать ее гораздо проще, чем целую клетку. К тому же антитела, как представлялось ученым, ответственны за все виды иммунной деятельности. Далеко не сразу иммунные клетки снова показались иммунологам достойным предметом для анализа.
К 1970-м годам ученые вовсю продвигались к распознаванию таинственных функций лимфоцитов. Клеточный иммунитет занял свое место рядом с иммунитетом гуморальным, и вражды между двумя лагерями теперь не наблюдалось, ибо все признали, что целлюларизм и гуморализм – не две конкурирующие теории, а взаимосвязанные подходы, которые отражают две ипостаси единой иммунной системы, регулирующие друг друга. В 1973–1975 годах в Канберре Доэрти и его коллега Рольф Цинкернагель выяснили, как работают Т-лимфоциты. Стало понятно: у Т-лимфоцитов есть рецепторы, поверхностные компоненты, отвечающие за идентификацию антигенов. Эти рецепторы специфичны, хотя по своей структуре они не очень похожи на антитела (тоже обладающие специфичностью). Идея рецептора объединила клеточную и гуморальную иммунологию.
Подобно антителам, Т-лимфоциты обладают способностью отличать Я от не-Я, распознавая (см. первую главу) те клетки в организме, которые изменились изнутри из-за вирусной инфекции или же подверглись онкологической трансформации. Таким образом, основные гипотезы, выработанные при изучении антител, оказались применимы и к Т-лимфоцитам.
Но этот замечательный и весьма перспективный объединяющий взгляд на иммунную систему, в общем-то, не простирался на систему врожденного иммунитета. Конечно, ее существование признавали, ее изучали, но ее «обобщенные» клетки и реакции казались совсем не такими интересными и изящными, они блекли по сравнению со специфичными механизмами адаптивной иммунной системы в ее новообретенной славе. Реванш врожденного иммунитета произошел только в 1990-е годы, когда его признали сложно устроенной и неотъемлемой частью иммунной системы, постоянно играющей в ней важную роль. Как мы видели в предыдущих главах, врожденный иммунитет до сих пор остается полем активных исследований.
Все это (правда, я не упомянул несколько сотен важнейших открытий и их авторов, а о комплементарной иммунной системе лишь обмолвился) подводит нас к настоящему времени. Чем сейчас занимаются иммунологи? Над какими проблемами бьются? И чего ждать дальше? Об этом – в следующей главе.
Глава 5. Время вмешиваться
В предыдущей главе я упомянул о нескольких лауреатах Нобелевской премии. Чего уж там говорить, Нобелевская премия – вещь хорошая, особенно для рекламы (самого высокого уровня), но сами ученые предпочитают мериться индексами цитирования. Самый уважаемый специалист – тот, на чьи труды больше всего ссылаются. Когда вас часто цитируют, это означает, что ваши коллеги обращают внимание на вашу работу и считают, что она связана с их собственной. При всем почтении к всяким революционным теориям, приходится отметить, что больше всего цитируют тех ученых, которые просто сумели придумать удачный способ делать что-то, ведь их методики постоянно в ходу[77].
Я долго разглагольствовал о теории и истории иммунологии – иными словами, о том, что такое иммунология сейчас и чем она была раньше. А в этой главе мне хотелось бы обратиться к тому, что иммунология делает. Какими путями она влияет на наш сегодняшний мир? И что она сможет предложить нам завтра?
Вне тела
Молекула антитела весьма специфична. Она присоединяется лишь к определенному типу антигенов. Поэтому такие молекулы служат очень полезным инструментом для того, чтобы идентифицировать практически что угодно (и прикрепляться к чему угодно). Прикрепите небольшую флуоресцентную молекулу к концу антитела, и вы сможете идентифицировать ее мишень-антиген с помощью микроскопа. Прикрепите радиоактивную молекулу, и вы сможете проводить такую же идентификацию при помощи счетчика Гейгера. Прикрепите маленькую молекулу, дающую цветную реакцию… Короче говоря, возможности здесь неисчислимы. Антитела и в самом деле активно применяются и в биологических лабораториях, и в клинических испытаниях, при диагностике и при лечении. Они обнаруживают рак; их можно применять против Т-лимфоцитов для подавления иммунитета; они входят в состав тестов на бесплодие и беременность; с их помощью можно очищать промышленные продукты, бороться с токсинами (например, при укусе змеи), обнаруживать взрывчатку или запрещенные вещества. Когда вы сдаете кровь на анализ, высока вероятность, что в процессе этого анализа (к какой бы категории он ни относился) будут использоваться антитела.
Если только вы можете произвести нужные антитела. В-лимфоциты нашего тела, действуя случайным образом, вырабатывают миллиарды типов антител, а кроме того, в больших количествах производят необходимое антитело, когда в организм попадает соответствующий антиген. Благодаря этому можно получать антитела для любого вещества, введя это вещество подопытному животному, выждав положенное время и затем добыв антитела из крови животного. Проблема в том, что при этом у вас на руках, скорее всего, окажется целый ряд разных типов антитела, и каждый из этих типов будет специфичен по отношению к определенному эпитопу (или антигенной детерминанте, части макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой – антителами, B-лимфоцитами, T-лимфоцитами – данного антигена).
Иногда такой проблемы не возникает, но все равно содержание подопытных животных, впрыскивание и очистка крови – процесс муторный и трудоемкий. В середине 1970-х годов придумали другой путь. Сезар Мильштейн и Георг Кёлер разработали методику получения моноклональных антител.
Моноклональное антитело – продукт слияния двух клеток. Первая – клетка селезенки, вырабатывающая антитела. Вторая – клетка миеломы, раковая клетка, которую можно искусственно вырастить вне тела. Если вы хотите получить моноклональные антитела для вещества X, введите X в организм мыши, отберите (прости, мышка) клетки ее селезенки, а затем, уже вне мышиного организма, смешайте их с клетками миеломы. В строго определенных условиях клетка селезенки сольется с клеткой миеломы, образуя двухклеточную химеру – гибридому. Такая химера может жить в лабораторной культуре вечно, без конца совершая пролиферацию, то есть размножаясь делением (раковые клетки отлично это умеют) и вырабатывая антитела одного-единственного типа. Затем можно выбрать ту гибридому, которая вырабатывает самые лучшие антитела для вещества X. Она способна производить один и тот же тип антител для X в неограниченных количествах и сколь угодно долго.
За разработку этой методики Мильштейн и Кёлер получили в 1984 году Нобелевскую премию. Что еще важнее, эта методика успешно применяется вот уже несколько десятилетий. На статью, где они впервые описали этот процесс, с тех пор сослались десятки тысяч раз. Сравнительно недавно в некоторых лабораториях попытались применить этот метод любопытным образом: ученые осуществляли слияние клеток селезенки не с раковыми клетками, а со стволовыми (тоже большими мастерами пролиферации). Дополнительное преимущество – не возникает необходимости плодить рак. Для работы в лабораторных условиях это не такое уж и преимущество, поскольку пластиковые пробирки не подвержены онкологическим заболеваниям. Однако ученые пытаются пересаживать эти клетки-химеры обратно животным, чтобы получать, к примеру, коз, которые дают обогащенное антигенами молоко, или кур, которые несут яйца, оснащенные терапевтическими компонентами. Гены, ответственные за производство антител, можно встраивать в растения, еще больше облегчая выработку (в данном случае – выращивание) антител. Возможно, нижеследующее покажется вам чем-то неестественным и даже вызовет у вас неуютные ощущения, но все же представьте себе:
Противораковый омлет.
Конец эпохи
Доклад Всемирной организации здравоохранения от 30 апреля 2014 года ясно и недвусмысленно указывает: микробы, резистентные (не поддающиеся) антибиотикам, сегодня – глобальная угроза. Мы уже давным-давно знаем об этой проблеме. Предупреждающие сигналы поступали с самого начала. Еще в 1945 году Александр Флеминг, первооткрыватель пенициллина, в своей нобелевской лекции (и вскоре после того, как этот антибиотик стал широко применяться) заявил: «Невежественный человек легко может принять слишком незначительную дозу, подвергнув своих микробов воздействию нелетального количества препарата. Это настоящая опасность: в результате они сумеют выработать невосприимчивость к этому веществу».
Так и вышло. Антибиотики стали чудодейственным средством, которое – большая редкость – вообще никак не использовало иммунные механизмы. Эти препараты помогли спасти миллионы жизней, но за чудо пришлось платить: микроорганизмы постепенно выработали сопротивляемость по отношению к этим веществам, и скорость, с которой распространяется эта сопротивляемость, гораздо выше той ничтожной скорости, с которой мы, люди, можем выпускать новые препараты для борьбы с микроорганизмами.
Одна из проблем здесь – в том, что наше общество стало очень заботиться о безопасности, в том числе и о безопасности фармацевтической. На то, чтобы провести новый препарат через все нормативно-правовые процессы и клинические испытания, уходит много лет и много денег. Но даже если этот процесс как-то удастся ускорить (что может привести к появлению на рынке потенциально небезопасных лекарств), микробы продолжат эволюционировать своим всегдашним путем: быстро, коллективно и не особенно заботясь о сохранности собственной жизни. Сопротивляемость антибиотикам часто передается особыми генами, которым так или иначе удается помешать воздействию лекарства. Эти гены не всегда остаются в геноме микроба: порой они перемещаются в мобильные генетические элементы и находят дорогу внутрь других микробов (иногда принадлежащих к иному виду!), которые в результате также становятся неуязвимы по отношению к данному антибиотику.
А поскольку мы перестаем принимать лекарство, когда начинаем чувствовать себя лучше (вместо того, чтобы честно завершить курс, как требуют врачи)[78]; и поскольку люди частенько принимают антибиотики «просто так, на всякий случай» (даже если у них вирусная инфекция, антибиотикам, как известно, не подвластная); и поскольку фермеры дают антибиотики своей вполне здоровой скотине (чтобы та оставалась здоровой, набирала вес и могла быть выгодно продана); и поскольку антибиотики – не самая прибыльная сфера фармацевтических исследований (пока от резистентных штаммов не начнет умирать достаточно народу, чтобы оправдать расходы на соответствующие изыскания); и поскольку геномика и биологическая статистика, столь многообещающие, пока не сумели дать сколько-нибудь мощный толчок разработке новых антибиотиков; и поскольку от непосредственных последствий при неправильном употреблении антибиотиков обычно страдает не тот, кто употребляет препарат; и поскольку, принимая антибиотики, мы сами проводим отбор по сопротивляемости, убивая всех несопротивляющихся микробов и оставляя поле битвы за резистентными, – по всем этим причинам и по множеству других мы сами активно поощряем микробов к выработке резистентности по отношению к антибиотикам.
Мы уже не первый год слышим об угрозе прихода «постантибиотической эпохе». И вот эта эпоха наступила. Тысячи людей, в том числе молодые и здоровые жители стран, где доступно самое современное медицинское обслуживание, умирают от болезней, которые мы, казалось, навсегда победили еще давным-давно.
К сожалению, эта проблема никуда не денется в обозримом будущем. Нам придется вести себя осторожнее: пытаться избегать инфекций и поддерживать свою иммунную систему в порядке, насколько это возможно.
Что-то я этого не чувствую
Сейчас я скажу одну вещь, которая не понравится многим ученым, особенно тем, кто участвует в разработке вакцин. Мне и самому не нравится то, что я собираюсь сказать. И вот я сижу перед клавиатурой, пытаясь как-то отвертеться от этого. Я изучил массу книг и статей о вакцинах, и чем больше я читаю эту литературу, тем глубже осознаю: неважно, насколько я взбудоражу научную элиту, ведь совесть не позволяет мне и дальше хранить молчание по этому поводу. Я больше не могу игнорировать печальную истину.
Вакцины – скучная штука.
Ну вот, я сказал.
Извините, уж как получилось. Я знаю, что миллионы людей сейчас живы благодаря вакцинам (вероятно, среди них я и члены моей семьи), и я понимаю, что разработка вакцин – работа трудная, она требует усердия и мастерства; но «важная работа» и «тяжелая работа» не всегда означает «интересная работа». Я честно пытался отыскать в этой сфере что-нибудь любопытное, но после Пастера, героически спасшего ребенка от бешенства в самую последнюю минуту при помощи непроверенной вакцины, все происходит довольно однообразно: ученые заранее (не в последнюю минуту, а за месяцы или годы до критического момента) спасают детей от болезней при помощи проверенных вакцин. К примеру, Морис Хиллеман создал десятки вакцин, но я узнал о его существовании лишь совсем недавно. Я уверен, что для него эта работа была интересной (как и для всех его сотрудников: по всем отзывам, Хиллеман отличался большим остроумием и не стеснялся пускать его в ход), однако, насколько могу судить, Хиллеман просто изо всех сил старался делать вакцины безопаснее и эффективнее.
В отчаянной попытке раскопать какую-нибудь увлекательную историю я обратился к антивакцинным ресурсам, но и там не нашел никакой интересной науки. Я целые часы провел за изучением материалов антивакцинных движений, узнал массу противоречащих друг другу фактов о правительствах, страховых компенсациях, о моем неотъемлемом праве на информированный выбор, о всемирных заговорах, но научная сторона того, что происходит с иммунизированным и неиммунизированным организмом, по большей части оставалась за кадром и сводилась к набору безответственных заявлений. Возможно, я просто заходил не на те сайты.
Вакцинация может дать интересный материал для рассказа, если посмотреть на нее с точки зрения здравоохранения или если вам охота поговорить о том, как человек обрабатывает сложную информацию и принимает решения. Можно потолковать об экономике вакцинации, обсудить ее психологию и этику: тут масса тем для дискуссий, не говоря уж о множестве книг, посвященных этим предметам.
А вот что касается биологии вакцинации, то здесь все довольно-таки прямолинейно: иммунной системе демонстрируется патоген, она реагирует на него, и эта реакция создает иммунную память, которая в дальнейшем помогает организму противостоять последующему заражению данным патогеном. Вакцины существуют во многих вариантах: в двух самых известных и широко используемых применяются ослабленная форма вируса и убитый вирус, однако есть и другие типы вакцин, создаваемых так, чтобы они обладали как можно большей иммуногенностью (способностью вызывать иммунный отклик) при минимальной патогенности (способности вызывать заболевание). ДНК-вакцины используют лишь ДНК вируса. Субъединичные вакцины сделаны из белков вируса, а не из целого вируса. Конъюгированные вакцины заставляют организм реагировать на вирусный компонент, который сам по себе не очень иммуногенен, путем связывания его с высокоиммуногенным белком: иммунная система, активизируясь благодаря присутствию этого высокоиммуногенного компонента, почему-то заодно запоминает и низкоиммуногенный.
Постоянно предлагаются и испытываются различные новаторские типы вакцин. Сегодня, кажется, все чаще поговаривают о том, что в ближайшем будущем нам, возможно, станет доступна эффективная вакцина против малярии. Такую вакцину создать непросто – во многом из-за того, что малярию вызывает не вирус (не имеющий ядра), а паразит-эукариота, у которого немало общего с нашими собственными клетками и который к тому же отлично умеет прятаться от иммунной системы (в красных кровяных тельцах и в печени).
Надеюсь, действенная противомалярийная вакцина уже на подходе, но такие вот хитроумные паразиты-простейшие представляют серьезные трудности для вакцинологов, которым еще предстоит справиться с целым рядом вирусных болезней. Пока нет вакцины против ВИЧ (несмотря на все усилия и все внимание, уделяемое этой проблеме), не говоря уж о таких коварных многоклеточных паразитах, как гельминты, чью способность избегать иммунной кары я уже обсуждал.
Вакцины всегда пребывали в царстве адаптивного иммунитета, со всеми этими специфичными реакциями и иммунной памятью, которую они должны создавать. Однако постепенно подбираются данные, как будто указывающие на то, что вакцинация может также активировать и систему врожденного иммунитета, готовя ее к бою. Так, научная группа Найджела Кёртиса в мельбурнском Королевском детском госпитале изучает сейчас «неспецифические эффекты иммунизации БКГ» (так они это называют). БКГ (от «бацилла Кальмета – Геринга») – противотуберкулезная вакцина, и наблюдения показывают, что у детей, которым ее вводят, ниже уровень смертности и от других инфекционных заболеваний, а кроме того, у таких детей реже возникает аллергия и экзема. Кёртис с коллегами пытаются выяснить, почему это так. Вот что такое интересное исследование (ну, с моей точки зрения).
Возможно, лет через 10–20 мы будем лучше понимать неспецифические эффекты вакцин, научимся оптимизировать вакцины и режим вакцинации так, чтобы достигать максимального положительного эффекта, сводя к минимуму нежелательные побочные эффекты. Любопытно, как будет проходить вакцинация у моих внуков.
Ну, а пока главное для профилактики заболеваний (и предотвращения смерти от болезней) – не столько разработка новых вакцин, сколько освоение тех, которые уже имеются в нашем распоряжении. Множество жизней спасает логистика организации неразрывной «холодильной цепочки», гарантирующей, что вакцины при хранении и транспортировке будут постоянно находиться при низкой температуре – начиная от фармацевтической фабрики и кончая пунктом назначения, куда они должны прибывать готовыми к применению. Сейчас развивается другой подход к доставке вакцин: разрабатываются методы «встраивания» вакцин в пищу (похоже на методику производства растительных антител, описанную в предыдущей главе), поскольку в глухой африканской деревне дать ребенку вакцинированный банан куда проще, чем раздобыть охлажденную ампулу с вакциной, не говоря уж о том, что ребенку в глухой деревне легче дать съесть банан, чем сделать укол.
Еще пример: знаете эти дурацкие стирофомовые шарики, которыми набивают подушки? В тех областях, где комары являются переносчиками заболеваний, такие шарики можно бросать в колодцы и сельские уборные. Стирофом плавает на поверхности жидкости и нарушает жизненный цикл комаров, мешая личинкам начать летать, а взрослым особям – откладывать яйца.
Ну да, эффективно, а все-таки (если только вы не живете в комарином краю) ужасно скучно.
Рак
Антивирусная программа в моем компьютере только что показала окошко с гордым сообщением, что за последнее время она защитила меня «от целого ряда угроз». Я попытался узнать побольше, но программа не пожелала вдаваться в подробности вышеупомянутых угроз, предпочитая ограничиваться общими туманными замечаниями, сводящимися, по сути, к одному: «У вас отличная машинка, жаль будет, если ее придется выбросить». Так что я махнул рукой и отступился. Я не нарываюсь, понятно?
Если бы наша иммунная система посылали нам такие же сообщения, вы удивились бы, узнав, с каким количеством внутренних опасностей приходится иметь дело этой системе (а может, и не удивились бы, если бы перед этим почти до конца прочли книжку о таких опасностях). К счастью, полномасштабный рак – явление редкое, но клетки нашего организма ежедневно выходят из повиновения, и иммунная система должна держать их в узде.
Вы уже слышали, что рак – это не что-то одно. Это общее название для огромного количества заболеваний, объединенных единственной особенностью – неуправляемым ростом и делением клетки. Почти каждый тип клеток организма (за некоторыми примечательными исключениями вроде клеток сердца) может рано или поздно начать это делать. Мы до сих пор не умерли от этого во многом благодаря тому, что почти всегда клетка способна себя контролировать. А когда ей это не удается, за нее берутся окружающие клетки, в том числе и иммунные. Иммунная система постоянно следит за клетками тела и при первых признаках неприятностей уничтожает те, что кажутся ей подозрительными.
Следует помнить, что деление – обычное действие живых клеток, которым они занимаются «по умолчанию». Посмотрите на тыльную сторону своей кисти, задумайтесь о странной судьбе каждой клетки кожи на ней. С ее точки зрения, она появилась как первая живая клетка в мире, миллиарды лет назад, и с тех пор снова и снова делилась, бесчисленное количество раз. В какой-то момент (приблизительно в последние миллиарды лет) она образовала непрочный союз со своими собратьями-клетками, и этот союз постепенно укреплялся, а потом каждая клетка приобрела свою особую роль. Нашей клетке в качестве особой роли досталось размножение. Оно-то и позволило ей выиграть в лотерее выживания: она стала одной из весьма немногих, кто смог обрести продолжение, породив следующее поколение. Так что она снова и снова размножалась, и всякий раз, в каждом новом организме, который она создавала из себя самой, ее сородичи принимались формировать тело (и позже погибали), а она снова и снова исполняла свою репродуктивную роль. Шли тысячелетия, человек произошел от своих эволюционных предков, и эта клетка стала человеческой репродуктивной клеткой (сперматозоидом или яйцеклеткой), и процесс повторялся: неограниченный рост, направление на работу в репродуктивную систему, удачное оплодотворение, несколько десятилетий ограниченного, управляемого роста и деления в человеческих яичках и яичниках, а затем снова репродуктивный цикл.
Вот каким было существование для этой клетки – с самого зарождения жизни на Земле, задолго до того, как появились вы. И тут вдруг (что называется, старожилы такого не упомнят) нашей клетке не поручают репродуктивную роль, эту работу предоставляют другим. А ее делают клеткой кожного эпителия. Она продолжает делиться и расти, делиться и расти, все дальше дифференцируясь, но теперь это зрелая эпителиальная клетка, и когда-нибудь, впервые за свою жизнь протяженностью 3,8 миллиарда лет, ей помешают делиться, и она окажется перед лицом гибели.
Клетки, не отягощенные сознанием или восприятием исторического контекста, обычно принимают это как должное, однако побуждение к пролиферации у них остается весьма сильным. Специализированные клеточные механизмы должны гарантировать, чтобы каждая клетка воспроизводила себя лишь когда требуется. Но эти механизмы контроля несовершенны, а кроме того, им может нанести ущерб радиация или вещества, повреждающие ДНК (мутагены). Неисправности в работе этих механизмов могут возникать и по другим причинам. Раковая клетка – клетка, лишившаяся тормозов. В ее ДНК что-то нарушилось (прошла мутация), и в результате она утратила компоненты, отвечающие за контроль размножения. Если клетка принадлежит к типу клеток, которому требуется частое деление (пример – клетки кожи или толстой кишки), эти средства контроля с самого начала менее жесткие, и риск потерять тормоза сильнее. Кроме того, клетки этих типов обычно больше контактируют с элементами внешней среды, что увеличивает их подверженность воздействию мутагенов. Типы клеток, не нуждающиеся в частом делении и укрытые в теле (скажем, клетки сердца), в этом смысле рискуют значительно меньше.
В наши дни опасность представляет даже не сам рост злокачественных новообразований. Опухоль можно удалить хирургическим путем. Настоящая же проблема – метастазы: устрашающее распространение раковых клеток от исходной опухоли в другие участки организма, где эти клетки активно начинают обустраиваться. По счастью, для клетки это не так-то просто: одна из клеток опухоли должна развить у себя способность отделяться от опухоли, пробираться в кровь или лимфу, двигаться в ней, а потом еще и суметь выбраться из потока, прикрепиться к какой-то другой ткани тела и обосноваться там. Очень нелегкая задача для того, кто начинает свой путь просто как еще одна клетка тела, а не как специализированный патоген. Но раковые клетки очень быстро делятся и часто мутируют. Они проходят естественный отбор, поскольку иммунные клетки находят и уничтожают тех из них, кто добивается меньшего успеха. Раковым клеткам доступны все ингредиенты, необходимые для развития и для адаптации к их новому образу жизни. Иногда ими руководит своего рода эволюционный процесс. В конечном счете эта эволюция, конечно, всегда упирается в тупик: опухоль умирает вместе с больным[79], – но у раковых клеток нет другого пути, и им по большому счету все равно.
Даже «обычные» опухоли должны заботиться о своем выживании, иначе они погибнут. Главным образом им необходимы две вещи. Первая – поступление крови: «добившиеся успеха» опухоли вызывают ангиогенез, то есть заставляют кровеносные сосуды расти по направлению к опухоли. Вторая вещь – какая-то защита от иммунной системы. Раковые клетки не похожи на клетки тела и ведут себя иначе. Одна из главных функций иммунной системы – распознав такие отличия и изменения, уничтожать взбунтовавшиеся клетки, пока они не наделали больших бед. Наша иммунная система неплохо с этим справляется: мы до сих пор не умерли благодаря тому, что ей удается обнаружить и победить большинство опухолей задолго до того, как те успеют причинить вред. Однако опухоли, добивающиеся большего успеха, могут развивать в себе способность подавлять иммунитет, уменьшая возможности иммунной системы справляться с ними, и постоянно вырабатывая новые способы спрятаться, чтобы она не могла их обнаружить.
Медикаментозное лечение онкологических заболеваний всегда требовало хитроумного подхода. Раковые клетки подобны патогенам, но обладают почти всеми свойствами других клеток организма. Антибиотики и вакцины бесполезны, когда речь идет об инфекции, распространяющейся изнутри. Помимо хирургического вмешательства, основные варианты лечения в таких случаях – радиотерапия и химиотерапия. Как я уже упоминал, оба метода сводятся к тому, чтобы отравить опухоль чуть быстрее, чем пациента. Еще один вариант – иммунотерапия: для борьбы с недугом она задействует либо иммунную систему больного, либо иммунные компоненты, полученные в лаборатории.
Я с удивлением узнал, что иммунотерапия появилась еще в XIX веке. Врач Уильям Коули обнаружил, что некоторые инфекции, вызывающие у пациента лихорадку, помогают бороться с опухолями. С 1891 года он начал с успехом применять смесь, содержащую убитых бактерий и бактериальные токсины, для лечения больных раком. В то время было трудно понять, почему такая штука работает (сейчас-то мы знаем, что эта бактериальная жидкость активизировала иммунную реакцию, тем самым помогая организму сражаться с опухолью), и методики Коули зачастую воспринимались с подозрением. Хотя врачи еще долгие годы пользовались «вакциной Коули» или «токсинами Коули», в конце концов иммунотерапия по Уильяму Коули уступила место терапии радиационной. Впрочем, сегодня она все-таки возвращается в медицинскую практику.
В наши дни иммунотерапия представляется весьма перспективным методом. Предложен целый ряд конкретных подходов, ведутся их клинические испытания, и некоторые методики применяются на практике. Более традиционные часто нацелены в основном на поддержание существующих иммунных функций или на их пробуждение, когда считают, что иммунная система недостаточно активна для борьбы с опухолью и что она должна избавиться от сдерживающего воздействия некоторых регуляторных механизмов. Другие методики идут еще дальше: группа исследователей из Сиэтла клонирует один из Т-лимфоцитов пациента, получая миллионы идентичных копий, и затем вводит эти Т-лимфоциты обратно пациенту. Некоторые коллективы ученых испытывают методику лечения, при которой не только берут у больного его Т-лимфоциты, но и встраивают в них новые гены. Полученные лимфоциты лучше идентифицируют опухолевые клетки и эффективнее реагируют на них.
Кстати, встраивание генов в Т-лимфоциты – дело непростое. Даже самыми крошечными щипчиками невозможно вставлять гены механически. Но кое-что отлично умеет встраивать гены в Т-лимфоциты. Это «кое-что» – вирус под названием ВИЧ-1. Обычно ВИЧ прикрепляется к Т-лимфоцитам, встраивает в них свои гены и размножается внутри лимфоцитов (тем самым нарушая работу иммунной системы и вызывая СПИД). Ученые воспользовались этой способностью вируса, удалив опасные гены ВИЧ (могу себе представить, с какой осторожностью), заменив их рецепторными генами, специфичными для обнаружения рака, и затем заразив этим вирусом Т-лимфоциты, находящиеся в лабораторных пластиковых сосудах. И вот они – усовершенствованные Т-лимфоциты, готовые для введения в организм. Противораковая терапия при помощи ВИЧ.
Более прямолинейный вариант иммунотерапии – простое введение пациенту противоопухолевых антител. Для этого следует предварительно удостовериться, что антитела, которые вы впрыскиваете больному, специфичны лишь по отношению к опухолевым клеткам, а я уже отмечал, что отличать опухолевую клетку от обычной непросто. В случае ошибки вы обрушите иммунную реакцию на бедные, ни в чем не повинные, ничего не подозревающие здоровые клетки, и у больного раком появится целый ряд новых проблем, совершенно ему не нужных в его положении.
Любопытный метод – радиоиммунотерапия, одна из форм иммунотерапии, применяемая лишь против опухолей, которые реагируют на радиационное лечение. При этом используется замечательная специфичность антител. Вместо того чтобы облучать все тело пациента, медики прикрепляют радиоактивные молекулы к противоопухолевым антителам, а уж затем эти антитела отыскивают опухоль и сами к ней прикрепляются. В результате клетки опухоли получают дозу радиации, а прочие участки тела остаются почти не затронутыми облучением.
Сейчас проходят испытания методы терапии при помощи антител, вообще не специфичных по отношению к опухолевым клеткам: разрабатываются антитела, которые должны противодействовать способности раковых клеток подавлять иммунитет. Эти антитела вводятся в опухоль, находят свою цель, соединяются с ней, демаскируют опухолевые клетки и обрушивают на них иммунную реакцию. В 2011 году американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило применение моноклональных антител ипилимунаб (Ipilimunab) для лечения меланомы поздней стадии, сопровождающейся метастазами.
Ускорители
Забежав пообедать в закусочную, я взял полистать один из глянцевых журнальчиков, где на обложке сияют счастливчики, занимающиеся чем-то вроде йоги, а внутри полно статей, посвященных какой-то «суперпище» и рекомендациям, как «снять стресс». Большая ошибка. Если я раскрою подобный журнал, то начну мрачно бормотать при виде неизбежной рекламы «иммунных ускорителей», а мрачное бормотание не способствует снятию стресса. От слов «иммунное ускорение» мне хочется скрежетать зубами.
Как я уже отмечал, «ускорение» в таких случаях – вещь опасная. Иммунитет представляет собой тонко настроенный механизм, с ним и без того могут случиться самые разные неприятности. «Ускоряете» ли вы нужный элемент иммунной системы? Уверены ли вы, что «ускоряете» его не слишком сильно, ведь иначе вы будете подталкивать свой организм к развитию аутоиммунных заболеваний? Короче говоря, действительно ли вас устраивает идея такой возни с параметрами системы, той системы, которую ни вы, ни кто-либо другой не понимает до конца? Возможно, вам следует стремиться не к «ускорению», а к более естественному иммунному балансу. Кажется, для этого тоже продаются таблетки.
Существует множество различных иммуномодулирующих лекарств и методик лечения, от обычных противовоспалительных средств до более мощных препаратов – иммунодепрессантов, позволяющих организму не отторгать пересаженные органы или облегчающих симптомы аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний. Противораковая иммунотерапия направлена на «ускорение» работы весьма конкретного аспекта иммунитета, и иммунотерапевты пытаются ускорять лишь весьма конкретные элементы иммунной реакции. Однако проблем все равно не избежать. В статьях о клинических испытаниях иммунотерапевтических методик часто можно прочесть о пациентах, страдающих от всякого рода негативных системных симптомов. Вероятно, самый печально известный пример здесь – так называемая катастрофа TGN1412. В 2006 году на шести здоровых добровольцах в ходе проверки иммунотерапевтической методики испытывалась одна разновидность моноклональных антител-иммуномодуляторов. Все добровольцы едва не погибли в первые же часы после начала эксперимента.
Заразиться раком
Среди наиболее устрашающих причин рака – онковирусы, обычно переносимые вместе с кровью или в ходе сексуального контакта. Они интегрируют свой генетический материал в ДНК человеческой клетки. Встраивание целой шайки чужих генов в собственный геном клетки может привести к самым разрушительным последствиям для нее. К тому же онковирус часто побуждает клетку, которую он заражает, начать быстро делиться – во исполнение эгоистических целей вируса.
Представления о раке как об инфекционном заболевании появились сравнительно недавно, всего несколько десятков лет назад. За какую же долю онкологических заболеваний отвечают онковирусы? По нынешним оценкам, за 15–20 %. Возможно, в будущем этот показатель возрастет. Что по-своему не так уж плохо: для иммунолога заболевание, вызываемое вирусом, служит кандидатом на вакцинацию, а для некоторых онковирусов уже разработаны вакцины, скажем, для папилломавируса человека (этот вирус может вызывать рак шейки матки). Может быть, именно вакцины – будущее противораковой профилактики?
Итак, мы частично очертили границы нашего нынешнего понимания того, как действует иммунная система и как мы пытаемся вмешиваться в ее работу. У нашего знания есть пределы. За ними лежат неведомые земли, пока не нанесенные на карту. Ученые лишь начинают исследовать их при помощи новых инструментов и новых идей, которые совсем недавно оказались в их распоряжении.
Эпилог
Будущее время
Впервые я увидел эту схему лет в шестнадцать. Нарисованная в одной фармацевтической компании, она сегодня украшает стены коридоров многих учреждений, где занимаются биомедицинскими исследованиями. Называется она «Биохимические пути». Хотя длина у нее метра полтора, надписи на ней сравнительно мелкие, потому что поведать нужно очень много: схема пытается дать представление о биохимии нашего организма. Все эти сахара, липиды, ферменты, метаболические циклы, обратные циклы и прочее связаны бесчисленными разноцветными линиями: похоже на адскую железнодорожную карту или монтажную схему какого-то сложнейшего механизма. В каком-то смысле так оно и есть: это монтажная схема человеческого тела, только проводов для монтажа здесь нет.
Помню, как я в благоговейном восторге смотрел на сие выдающееся творение научной мысли и думал: «Если я когда-нибудь сумею это запомнить, я буду знать о человеческом организме все». В свою защиту отмечу, что я в ту пору отличался изрядной глупостью. Мне даже явилась мысль изучать эту схему ежедневно, по 5 минут в сутки, но мысль эта осталась невоплощенной. Потом, уже в университете, я выучил некоторое количество важнейших реакций, каскадов и циклов, но с чарующей красотой этой всеобъемлющей схемы ничто не могло сравниться. Больше всего меня поражала взаимосвязанность всего. Одни и те же молекулы служили составляющими нескольких различных процессов и реакций, при необходимости меняя роли и месторасположение.
Современная схема, где попытались бы изобразить, как компоненты иммунной системы «подключены» друг к другу и к внешнему миру, пестрела бы несметным количеством взаимосвязей. Более того, она оказалась бы далеко не полной. Многие линии, ведущие в самых разных направлениях, нам еще предстоит открыть.
Предсказания – игра опасная. Из всех неизведанных возможностей, упомянутых в этой книге, некоторые окажутся плодотворными и принесут интересные и/или полезные практические результаты. Другие же пути явно и недвусмысленно приведут в никуда. Положения, которые мы считаем истинными и очевидными, могут оказаться совершенно ложными. Сама идея иммунитета находится сейчас лишь в младенчестве. Ну да, это довольно впечатляющий младенец, но ему сейчас еще очень далеко до взросления. Читая книги по иммунологии, написанные в разные годы, я вижу, с какой невероятной скоростью развивается эта область: работы всего-навсего пятилетней давности часто кажутся уже устаревшими.
Оглядываясь на историю этой области науки, мы видим, что с течением времени ее охват расширяется: вначале речь шла лишь об антителах, потом должного внимания удостоились лимфоциты, а позже – система врожденного иммунитета. Мне кажется, со временем ученые все чаще задумываются о еще одном факторе – взаимосвязанности. Теперь известно о великом множестве регуляторных взаимоотношений, существующих между компонентами иммунной системы (или, если хотите, иммунных систем), между нею и внешними по отношению к ней элементами. Все это сегодня вовсю изучается.
В последнем разделе я как раз и хочу обратиться к этим внешним связям. Перед нами предстанет не слитный корпус знаний, который можно вообразить себе как пестрый, но единый ковер, а набор разрозненных нитей, которые лишь намекают на возможную степень ассоциации и интеграции между иммунной системой и остальным организмом – и тем, что находится за его пределами.
Первый вкус будущего
Термин пищевые волокна всегда казался мне странным. Они же, в общем-то, не служат нам пищей. Вы кладете их в рот, и они проходят через вашу желудочно-кишечную систему, не задерживаясь для того, чтобы их переварили. Весь процесс представляется каким-то бессмысленным. Зачем нашему организму вообще с этим возиться? И почему нам постоянно напоминают, что мы должны глотать побольше этой явно несъедобной дряни?
Бессмысленность этой штуки оказывается мнимой, если мы посмотрим на происходящее с точки зрения эволюции. Пищеварительной системе человека всегда приходилось иметь дело с такими волокнами. На протяжении всей эволюционной истории человека и его ближайших предков основная часть нашего рациона (зелень, овощи, фрукты, зерно) содержала много неперевариваемых компонентов, и нам приходилось все это потреблять, если мы хотели выжить и вырасти. Лишь в последние несколько поколений люди стали есть главным образом заранее обработанную пищу (приготовленную тем или иным способом), содержащую мало клетчатки или вовсе не содержащую ее. Но наши внутренности не изменились: на протяжении миллионов лет они адаптировались к ежедневной обработке определенного объема пищевого балласта. Если вдруг сократить объем этого балласта, проходящего через пищеварительную систему, жди неприятностей[80]. И вот, чтобы компенсировать тот факт, что в современном обществе пища так изобильно-многообразна и нам больше не нужно поедать все эти неудобоваримые штуки… как раз и приходится заставлять себя поедать все эти неудобоваримые штуки.
Клетчатка – не просто балласт. Пищевые волокна проделывают интересные вещи: например, снижают уровень холестерина в вашем организме. Но среди главных их эффектов – воздействие на микрофлору кишечника, которая вовлекает их в свой метаболизм для своих пищевых целей. Количество потребляемой нами клетчатки оказывает немалое влияние на микроорганизмы, которые долгие годы эволюционировали вместе с нами. А эти микроорганизмы, по-видимому, оказывают немалое влияние на нас самих.
Микроорганизмы у нас в кишечнике (да и где угодно) находятся в состоянии вечной конкуренции за ресурсы. Если мы меняем рацион и в наш кишечник начинает поступать больше жиров и сахара, но меньше клетчатки, тем самым мы изменяем состав своей микрофлоры. Мы лишаем питания родных и привычных кишечных микробов, предоставляя преимущества тем разновидностям микроорганизмов, которые умеют лучше использовать концентрированные жиры и сахара.
В последние годы ученые установили, что такой дисбаланс оказывает существенное влияние на нашу иммунную систему. Потоком полились статьи, показывающие, что здоровый рацион, где много клетчатки и мало жиров, обеспечивает мощную защиту едва ли не от всех иммунных расстройств, особенно же от аутоиммунных и воспалительных. Рост аутоиммунных заболеваний (диабета первого типа, артрита, рассеянного склероза) в западном мире на протяжении последних десятилетий сильнее связан, как теперь считают, со снижением потребления клетчатки, повышенным потреблением жиров и вызванной этим дерегуляции бактерий-симбионтов, нежели с чистотой (излишняя забота о которой, возможно, служит одной из причин роста распространения всевозможных аллергий).
Наша иммунная система не только связана крепкими узами с кишечными бактериями: она поддерживает сложные взаимоотношения с нашим метаболизмом. Биохимические и иммунные процессы в нашем теле влияют друг на друга самыми разными путями, которые мы лишь теперь начинаем пристально изучать. Так что иммунологи и микробиологи все чаше обращаются к специалистам по питанию и человеческому метаболизму (или сами обращаются в таких специалистов). Совместными усилиями они начинают исследовать область взаимодействий, которые и определяют наше самочувствие.
В этой сфере исследований приятно то, что лекарственные средства, которые она продвигает, можно собирать с деревьев или выкапывать из земли – и продавать на рынке. Сейчас в США запущена программа под названием FVRx[81], стремящаяся довести представление о здоровой пище до логического завершения: она поощряет правильное питание не только привычными способами (просвещая население и призывая его питаться здоровее), но и побуждает врачей выписывать самые настоящие рецепты, по которым пациенты могут получать фрукты и овощи на рынках. Поначалу может показаться, что создатели программы заходят слишком далеко. Но, будь я вечно занятым отцом тучных детишек, обожающих фастфудовские заведения, что призывно подмигивают нам на каждом углу, я только приветствовал бы эти реальные меры, направленные на распространение здоровой пищи.
Можно ли склеить разбитое сердце?
В мельбурнском Австралийском институте регенеративной медицины Университета Монаша пристально изучают иммунную систему аксолотля.
Аксолотль – странное существо, похожее на бледную улыбающуюся рыбку с ручками и с большим вкусом в смысле моды. Собственно, это земноводное, разновидность водных саламандр. Саламандры – мастера по части регенерации (повторного отращивания почти любой поврежденной части тела). Кажется, иммунная система саламандр каким-то образом связана с этим процессом. У людей с регенерацией совсем плохо: мы умеем заново выращивать разве что кожу, внутреннюю поверхность кишечника да кровяные клетки. Куда нам до саламандр! Те способны восстанавливать практически любой орган, без всяких шрамов, легко и просто, во всякое время. Скорее всего, таким свойством обладали наши далекие предки – еще будучи существами, напоминающими нынешних амфибий. Как же оно исчезло, это свойство? Случайно или же по какой-то серьезной причине? И можем ли мы надеяться его вернуть?
Регенерация в животном мире происходит не только у амфибий. Известно по меньшей мере одно млекопитающее (небольшой грызун – африканская иглистая мышь), также способное к регенерации тканей, пусть и к ограниченной. Если вырезать кусочек сердца у новорожденной мышки, в этом месте образуется тромб, а затем шрам. После исчезновения шрама сердце как новенькое. Но уже через несколько дней эта способность пропадает. Нельзя ли как-то изменить реакцию человеческого организма, приводящую к образованию шрама при получении раны, чтобы эта реакция приобрела более конструктивный характер? Ну хорошо, не обязательно какие-то амбициозные затеи вроде отращивания руки после ампутации. Пока нас очень порадовало бы возрождение сердца или печени. Представьте себе: эти органы покрываются рубцами, а затем рубцы проходят, и сердце или печень снова в отличном состоянии.
Славные люди из Австралийского института регенеративной медицины, предводительствуемые Надей Розенталь, подозревают, что регенерация – не свойство индивидуальной ткани или органа, а черта организма в целом. Возможно, подправив что-нибудь в организме, мы сумеем остановить процесс рубцевания, позволив нашему телу заново отращивать или чинить любой орган. Как показано в одной недавней работе, если аксолотля лишить его макрофагов, он утрачивает регенеративные способности и начинает, как все люди, при повреждениях покрываться шрамами. А значит, вероятно, макрофаги играют у аксолотлей какую-то особую роль, позволяющую им регенерировать: скажем, выделяют какой-то регуляторный фактор.
А вот в Пенсильванском университете обнаружили, что подвид Т-лимфоцитов, именуемых γδ-Т-лимфоцитами (гамма-дельта-Т-лимфоцитами), выделяет сигнальные молекулы Fgf9, которые, как выяснилось, при повреждении клеток кожи стимулируют рост ткани (волосяных фолликулов), а не образование рубцов. Какова же роль иммунной системы в процессах заживления, и можем ли мы усилить способность нашего организма к самостоятельному ремонту? Время покажет.
Молекулярный холизм
Много лет назад я работал врачом в летнем лагере для девятилеток. Как-то раз один мальчишка подошел ко мне и спросил, не могу ли я дать ему что-нибудь от тошноты при поездках. Оказалось, завтра им предстояло долгое автобусное путешествие в другой город, а этот мальчик всегда очень плохо себя чувствовал во время автобусных поездок даже на небольшие расстояния (позже его врачи с мрачными лицами подтвердили данный факт). Ему становилось нехорошо уже при мысли о 5 часах в автобусе. Не могу ли я ему как-то помочь?
У меня не было лекарств от морской болезни (в лагере мне предоставили откровенно скудную аптечку), и помочь я ему никак не мог, но ему так хотелось поехать, что я придумал небольшую хитрость. Отведя его в сторонку, я шепотом поведал ему о чудодейственных таблетках, которые мне вообще-то не полагается иметь, но я ему, так уж и быть, их дам, если только он будет точно следовать моим указаниям и никому ничего не скажет. Затем я вручил ему половинку бесполезной, но совершенно безопасной таблетки антацида (противокислотного средства), после чего застращал его инструкциями касательно того, где и как принимать это волшебное лекарство (я велел ему глотать таблетку быстро, надеясь, что так он не распознает ее вкус). И с заговорщицким видом пожелал ему счастливого пути.
На другой день он пришел ко мне с улыбкой до ушей. Таблетка подействовала! Она такая мощная! Его совсем не тошнило! Он даже не ощутил никаких «незначительных побочных эффектов», которые я ему заранее описал (выдумав их)! В последний день смены я снова повстречал его. Таща за собой родителей через весь газон, он просил меня записать ему название этих таблеток, чтобы он мог принимать их, когда понадобится.
Что мне оставалось делать? Я написал на клочке бумаги «плацебо», отдал ему и вежливо попрощался с мальчиком и его родителями. Дорого бы я дал, чтобы стать мухой на стене аптеки, куда он обратится с этим рецептом, и подслушать, что ему скажут.
Загадочный эффект плацебо – возможно, самое примечательное проявление взаимоотношений между иммунной системой и другими системами нашего организма: люди чувствуют себя лучше, ибо верят, что получают лечение[82]. Важное следствие: любое клиническое испытание нового препарата или методики лечения должно теперь включать в себя утомительную процедуру, призванную отфильтровать влияние эффекта плацебо.
Среди множества иммунных органов, перечисляемых в книгах и статьях, редко упоминается мозг (а то и вообще не упоминается).
Разумеется, есть отдельная область исследований, посвященная изучению тех путей, какими иммунная система влияет на нервную систему, то есть исследованию прямого физического воздействия инфекции и воспаления на мозг. Долгое время ученые полагали, что мозг, подобно глазам и плаценте, является иммунологически привилегированным участком организма. Имеются в виду те области организма, где воспаление может принести особенно большой вред, поэтому в ходе эволюции они научились при помощи различных механизмов снижать для себя вероятность воспалительной реакции. Раньше считалось, что иммунологически привилегированные участки физически отделены от внешнего мира и от иммунной системы, представляя собой места, куда иммунные клетки попросту не могут попасть, а значит, не могут атаковать там чужеродные антитела и вызывать воспаление. Но сегодня мы знаем, что дело обстоит иначе.
Раньше считалось, что гематоэнцефалический барьер, мешающий инфекционным патогенам проникать в мозг вместе с кровью, является физической преградой, которая не пускает иммунную систему в мозг. Однако в последние полтора десятка лет ученые поняли, что иммунная система взаимодействует с мозгом, более того – имеется целый класс мозговых клеток (так называемая микроглия), представляющих собой, по сути, своего рода макрофаги, чья функция – следить, чтобы в мозгу не было инфекций и клеточного мусора, и способствовать нейронному ремонту в процессе естественного лечения. Увы, они также могут играть значительную роль в развитии болезни Альцгеймера.
Белки, которые прежде считались лишь иммунными, выполняют, как теперь выясняется, и другие функции: регулируют образование новых синапсов и уничтожение лишних в первые годы нашей жизни, когда мозг проходит стадию развития. Сегодня некоторые ученые предполагают, что неправильная работа этих белков может вносить свой печальный вклад в развитие, например, аутизма или шизофрении. Возможно, первопричиной здесь служит иммунодефицит?
Но мало того. Давно известно: то, что мы воспринимаем, чувствуем и думаем, может существенно влиять на наши иммунные функции. А воспринимаем, чувствуем и думаем мы при помощи нервной системы и ее центрального узла – мозга.
Вполне очевидно, что сенсорные и внутренние стимулы могут влиять на нашу физиологию: даже когда вы просто сидите и смотрите фильм, в вашем организме всевозможным образом меняется содержание гормонов и характер кровообращения[83]. Кроме того, мы уже довольно давно уверены, что такие стимулы способны оказывать немалое воздействие и на то, как действует наша иммунная система. Страдающие длительными приступами психического стресса или депрессии заболевают другими недугами чаще, чем душевно здоровые люди.
Применимо, конечно же, и обратное рассуждение: заболев, мы чувствуем себя иначе. Мы можем ощущать слабость, усталость и раздражительность, даже если хорошо питаемся и вволю спим. Энергетические ресурсы нашего организма не истощены, но нам все равно хочется лечь отдохнуть. Так наша иммунная система сигнализирует, что ей нужно больше ресурсов и она просит нас остаться в постели (а значит, не заразиться и никого не заразить), пока не восстановится нормальная работа всех механизмов тела.
И еще открытия: нейронные рецепторы боли умеют распознавать опасность так же, как это делают иммунные клетки, и координировать свою реакцию с действиями иммунной системы, усиливая воспалительную реакцию еще до того, как последует призыв к иммунному отклику: нервная система, ощутив боль и повреждение, достаточно умна, чтобы подготовить организм к возможному проникновению инфекции в ближайшем будущем.
И еще: блуждающий нерв, который следит за многими важнейшими функциями организма, поддерживает, как выяснилось, прямую связь с иммунной системой. Воспаление нерва приводит к выбросу цитокинов в кровь. Элементы иммунной системы находятся под контролем нейронных сигналов – гормонов, нейротрансмиттеров, тех же цитокинов. Стресс может служить одной из причин астмы. Сон способствует иммунитету: животные, которые спят меньше, обладают меньшим количеством иммунных клеток. Изменения в иммунном поведении мозга могут вносить свой вклад в возникновение наркотической зависимости.
И еще, и еще! Мыши с поврежденной иммунной системой менее способны к обучению. Дофамин[84], важнейший нейротрансмиттер, напрямую управляет действием регуляторных Т-лимфоцитов.
И так далее, и тому подобное.
Все эти факты складываются в весьма целостный (холистический) взгляд на организм. Теперь уже ясно, что у иммунной системы нет своей отдельной системы связи: во многом она действует посредством тех же молекулярных сигналов (гормонов, цитокинов и прочих), которые применяются другими системами нашего тела. По сути, она участвует в «общении», которое идет по всему организму и которое координирует реакции всего организма в целом на различные ситуации. Звучит как идейка в духе «нью эйдж», правда? И не зря. Мы уже начинаем вполне четко, на уровне молекулярных исследований, понимать пользу для здоровья таких практик, как умственные / физические упражнения или медитация.
Представления об иммунитете
Может статься, сама идея какой-то отдельной «иммунной системы» способна завести не туда. Возможно, в некоторых обстоятельствах полезнее представлять себе «нейроиммунную систему» или даже «нейроиммунно-эндокринную систему». А когда мы рассуждаем о своих мыслях и чувствах, о том, как они на нас влияют, то мы, оказывается, говорим (внимание!) о «психонейроиммунологии». Сложное название для сложной отрасли науки. Но ученые уже делают первые осторожные вылазки в эти джунгли.
Конечно, как и всякую коммуникационную сеть, иммунную систему можно «хакнуть». Как я уже упоминал в третьей главе, патогены умеют незаконно подключаться к этой сети (см. также следующую главку). Не говоря уж о растущем понимании того, что болезни абстрактного человеческого сознания протекают внутри физического объекта – человеческого мозга. Более того, сам человеческий мозг действует не в пустоте: на него оказывает влияние огромное количество разных факторов. Поэтому вполне вероятно, что в будущем выяснится: причина многих недугов, которые мы сейчас считаем «умственными расстройствами», состоит (полностью или частично) в какой-то инфекции или в иммунных неполадках.
На протяжении всей книги я часто описывал деятельность иммунной системы словами, которыми обычно описывают деятельность сознания: иммунная система умеет «помнить», «воспринимать», «решать», «откликаться», «общаться», она озабочена собственным Я. Иммунные сети сравнивают с нейронными по организующим принципам и по развитию. Может быть, все это лишь метафоры, неточные аналогии? Или просто характеристики любых сетей? Или в разговорах об иммунном познании действительно есть смысл и мы не зря рассматриваем действия иммунной системы так же, как процессы, идущие внутри нашего мозга?
Существует несколько любопытных идей насчет иммунного познания. Среди них – представление о том, что иммунное «восприятие» мира не является чем-то генетически предопределенным и четко заданным наперед: скорее это динамичный процесс, в значительной степени зависящий от контекста и ситуации. С этой точки зрения иммунная система очень похожа на мозг, который в самом начале, в младенчестве, не так уж много знает о мире: с течением времени ему предстоит многому научиться.
Выходя за рамки
Будучи микробиологом душой и сердцем, я обладаю склонностью на все смотреть с точки зрения микробов. Но в данном случае я, мне кажется, вполне справедливо считаю, что нижеследующая проблема станет в грядущей иммунологии важнейшей темой для дискуссий. Известно, что бактерии модулируют (попросту говоря, изменяют) нашу иммунную систему, выделяя молекулы, подражающие гормонам, а паразитическим гельминтам такое модулирование удается еще лучше.
Взаимодействия между нашей иммунной системой и микробами нашего кишечника то и дело всплывают в этой книге. Сегодня выясняется, что микробы и гельминты, по-видимому, принимают участие в гормонально-иммунно-нейронном общении. До недавних пор все-таки существовали какие-то границы: тело считалось чем-то одним (нашим Я), а все «они» – чем-то другим (не-Я), даже если физически и Я, и «они» пребывали в весьма тесном контакте.
Возможно, выделяя гормоны, наши кишечные микробы могут влиять на нас самыми неожиданными путями, систематически воздействуя на нас как физически, так и (страшно сказать) психически. Они влияют на развитие нашего мозга, а также вызывают биохимические изменения в нем, способные воздействовать (и воздействующие) на наше настроение в течение всей жизни. Может оказаться также, что на характер развития мозга у детей (на когнитивные и эмоциональные характеристики подрастающего поколения) влияют бактерии, обитающие у них в животе, и в таком случае слишком чистая среда означает плохо оснащенный кишечник. В блоге Моселио Шехтера «Учет мелочей» (Moselio Schaechter, Small Things Considered) микробиолог Мика Манари даже рискует утверждать, что высокая распространенность некоторых когнитивных особенностей (например, аутизма или синдрома гиперактивности и дефицита внимания) в современном мире «может являться следствием возросшей стерильности той среды, где мы живем, а не следствием методов воспитания или результатов воздействия неизвестных пока нейротоксинов». Опыты на мышах уже показали, что состав микрофлоры кишечника способен влиять на формы поведения, связанные с повышенным риском. Многие психиатры не одобрят вторжение микробиологов в область исследования душевного здоровья, однако уже сейчас есть врачи, серьезно относящиеся к такой связи между кишечником и мозгом. Нередко они прописывают пробиотики (или что-то подобное) страдающим обсессивно-компульсивными расстройствами.
Может выясниться, что все это – лишь нелепые фантазии, горстка излишне разрекламированных гипотез. Однако прошлое показывает, что микробы действительно склонны влиять на человеческую жизнь самыми неожиданными путями, так что я не торопился бы сбрасывать со счетов такую возможность.
Оставаясь в рамках
И, если позволите, одно последнее наблюдение. С недавних пор микробиологи обращают все больше внимания на ту среду, в которой мы живем. Речь идет не о природных зонах вроде «пустыни» или «тропиков», а о том повседневном окружении, где обычно существует большинство из нас, жителей развитого мира. Почти все время мы проводим в замкнутом пространстве, будь то наш дом, офис, вагон метро или салон автомобиля. И эти пространства обладают иной микробной экологией по сравнению со средой за пределами наших стен.
Мы считаем нормальной такую жизнь в однородных средах, ограниченных теми или иными стенами или стенками, и можем даже решить, что в помещениях существует здоровая, чистая, хорошо регулируемая среда. Однако экологическая микробиология уже сейчас начинает предупреждать: наши тела, практически всю историю человечества жившие на свежем воздухе и лишь недавно столкнувшиеся с проблемой замкнутых помещений, могут испытывать потребность в воздействии разнообразных микробных сообществ, которые мы найдем лишь снаружи, где нет искусственной вентиляции и ковров, целиком покрывающих пол, зато есть целый набор всевозможных экологических ниш и ошеломляющий выбор микробов.
Те, кто строил наши жилища и оборудовал наши рабочие места, думали об эргономике, вентиляции, температуре, безопасности, эстетике, энергетических требованиях и о тысяче других вещей. Сейчас они не принимают в расчет микробное разнообразие. Воздух есть воздух, чего еще надо? Оказывается, много чего. Вас не удивит, что воздух в помещении населен главным образом теми микробами, которые мы привнесли в него сами. В сущности, мы блуждаем среди собственной микрофлоры. А воздух снаружи имеет совершенно иной микробный состав по сравнению с тем воздухом, которым я дышу сейчас… Погодите, открою окно… Вот, так-то лучше. Очень может быть, что нам требуется регулярно получать некую дозу микробов, обитающих на земле и в свежем воздухе, просто для того, чтобы наши собственные микробы не очень-то наглели.
Теперь все это можно изучать при помощи недавно разработанных методик экологического ДНК-секвенирования, так что следите за рекламой.
На этом я заканчиваю. Спасибо, что прочли. А теперь пойдемте-ка поиграем на свежем воздухе.
Благодарности
Проект осуществлен при поддержке правительства Австралии через финансово-консультативное управление Австралийского совета искусств. Хотел бы поблагодарить их за помощь. Мне также хотелось бы поблагодарить Королевский институт Австралии за включение меня в группу «Наука без границ». Участвовать в работе этой группы было для меня и почетно, и приятно.
Выражаю искреннюю признательность Генри Розенблюму и его коллегам по Scribe Publications за их неизменное терпение и доброжелательность по отношению ко мне, проявлявшиеся все эти два года, хотя основную часть сего периода мой вклад в наш общий труд заключался главным образом в принесении извинений за то, что я сорвал очередной срок сдачи текста. Такого больше не будет, обещаю. Спасибо Клэр Форстер, моему литературному агенту, за великолепную агентскую работу.
Спасибо вам, Скотт Стинсма и Коби Бен-Барак. Особое спасибо Майклу Бренду. Все они щедро уделяли время пристальному чтению моей рукописи и высказывали ценные замечания. Спасибо доктору Шаррон Брансбург-Забари за ее взгляд на иммунитет в контексте грудного вскармливания. Профессор Карола Винуэса из Школы медицинских исследований Джона Кёртина при Австралийском национальном университете, доктор Эмили Эриксон из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, я многим вам обязан: после того, как человек, которого вы видели впервые в жизни, предложил вам ознакомиться с рукописью его книги, вы предоставили о ней подробные отзывы, исправили ошибки и указали, на какие еще исследования автору следовало бы обратить внимание. Спасибо Дэвиду Голдингу, который отредактировал эту книгу при помощи опытных рук, хорошего чувства юмора и куда лучшего, чем у меня, понимания иммунологической терминологии.
Невзирая на самоотверженные усилия всех вышеперечисленных, в этой книге наверняка остались какие-нибудь ошибки. Отвечаю за них только я.
Отдельная благодарность читателям моей первой книги, которые нашли время и возможность послать мне весточку. Вы даже не представляете, как вы мне этим помогли. Писательский центр для ученых и исследователей при Мельбурнском университете, по сути, ввел меня в мир написания книг, и я очень признателен его сотрудникам. Спасибо профессору Полу Гриффитсу за понимание, спасибо доктору Джону С. Уилкинсу за дружбу и проницательность, спасибо Алексу Башар-Фуксу, Мотти Гадиш и Кристен Мёлер-Саксон за ценные указания и за то, что они знакомили меня с нужными людьми.
И наконец, спасибо моей жене Тамар, которая являет собой просто кладезь силы, мудрости и добрых советов. Этот персональный слой иммунитета мне еще предстоит описать.
Словарь терминов
Адаптивная иммунная система. Сеть иммунных клеток, способная давать антиген-специфичный отклик на присутствие инфекционных агентов (возбудителей инфекционных заболеваний).
Антиген. Любое чужеродное вещество, которое вызывает иммунную реакцию организма, особенно образование антител.
Антигенпредставляющие клетки (АПК). Иммунные клетки, способные обрабатывать и демонстрировать антигенные молекулы на своей поверхности (совместно с костимулирующими молекулами ГКГС [главного комплекса гистосовместимости]), тем самым способствуя реакции Т-лимфоцитов.
Антитело. Белковая молекула, вырабатываемая В-лимфоцитами и специфически связывающаяся с антигеном.
Археи. Царство одноклеточных микроорганизмов, не являющихся бактериями.
Аттенуация («ослабление»). Снижение вирулентности патогена (либо в ходе естественного процесса, либо искусственным путем) для создания вакцины.
Аутоантиген. Молекула-антиген, синтезированная самим организмом.
Аутоиммунное заболевание. Расстройство, вызываемое реакцией адаптивной иммунной системы на антитела.
Бактерии-симбионты, симбиотическая микрофлора, симбиотические микроорганизмы. Микроорганизмы, обитающие в организме-хозяине и сосуществующие с ним, не принося ему вреда.
Бактериофаг. Вирус, который заражает бактерии.
Бактерия. Микроскопический одноклеточный организм. Не имеет клеточной стенки и структурированного ядра. Принадлежит к царству бактерий.
Вирус. Инфекционный агент, состоящий из генетического материала (ДНК или РНК) в белковой оболочке.
Воспалительная реакция. Реакция организма на чужеродный материал. Аккумуляция жидкости, клеток и белков на месте инфекции или физического повреждения. Приводит к распуханию, локальному повышению температуры, покраснению, болевым ощущениям, потере функциональности.
Вторичный иммунный отклик. Быстрый, специфичный, мощный адаптивный иммунный ответ, возникающий при встрече иммунной системы с антигеном, на который она уже откликалась прежде.
Гельминт. Паразитический червеобразный организм-эукариота. Сосальщик, ленточный червь или нематода.
Гемопоэтическая стволовая клетка (ГСК). Тип клеток, находящихся в костном мозге и порождающих все разнообразные типы клеток крови.
Ген. Единица наследственности. Сегмент генетического материала (обычно ДНК), определяющий структуру белка или молекулы РНК.
Гибридома. Тип клеток, искусственным путем получаемый в лаборатории для выработки специфических моноклональных антител. Результат слияния лимфоцита с опухолевой клеткой.
Гигиеническая теория. Гипотеза, впервые предложенная в 1989 году. Предполагает, что меньшая подверженность потенциальному воздействию микроорганизмов в индустриальном обществе вносит свой вклад в растущее распространение аллергий и аутоиммунных заболеваний.
Дендритная клетка (ДК). Важный тип иммунных клеток. Дендритные клетки и фагоциты играют существенную роль в регуляции иммунных откликов.
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Тип молекул, состоящих из фрагментов-нуклеотидов. ДНК – основной генетический материал почти для всех живых организмов.
Естественный киллер (ЕК-клетка). Тип лимфоцитов, разрушающий инфицированные вирусом клетки организма.
Иммунная система слизистых оболочек. Иммунные элементы, погруженные в слизистые оболочки, выстилающие тело изнутри, на тех участках, где оно подвержено воздействию внешней среды.
Иммунная толерантность. Состояние иммунной системы, при котором она не реагирует на то или иное вещество.
Иммунологическая привилегированность. Свойственная некоторым участкам организма иммунная толерантность по отношению к чужеродным веществам, которые в других участках организма были бы отторгнуты.
Иммунотерапия. Терапевтическая практика стимуляции иммунного отклика для борьбы с заболеваниями.
Интерферирующая РНК (РНКи). Тип молекулы РНК, функция которой состоит в регуляции действия другой молекулы РНК. При этом РНКи соединяется с ней и препятствует выполнению ее функций.
Информационная РНК (иРНК). Короткая молекула, представляющая собой копию гена ДНК. Содержит инструкции по синтезу того или иного белка.
Клонирование. Процесс производства идентичных копий биологического объекта.
Лизосома. Органелла («маленький орган»), находящаяся внутри клетки. Содержит набор ферментов, расщепляющих и переваривающих биомолекулы.
Лимфа. Жидкость, содержащая лимфоциты. Циркулирует по телу. Через лимфатическую систему попадает в кровеносную.
Лимфатическая система. Сеть лимфатических сосудов, разносящих лимфу по телу.
Лимфатический узел. Небольшой орган лимфатической системы, содержащий множество иммунных клеток. Именно в лимфатических узлах протекают многие взаимодействия между иммунными клетками и чужеродными материалами.
Лимфоцит. Небольшая иммунная клетка лимфы. Существует три типа лимфоцитов: Т-лимфоциты, В-лимфоциты и естественные киллеры (ЕК).
Липополисахарид (ЛПС). Липидная структура, содержащая молекулы сахаров и жирных кислот. Часто присутствует в поверхностных мембранах многих бактерий. Стимулирует толл-подобные рецепторы фагоцитов.
Макрофаг. Крупная фагоцитарная иммунная клетка.
Микрофлора. См. Бактерии-симбионты.
Мобильные генетические элементы. ДНК– и РНК-последовательности, способные «прыгать» – перемещаться внутри генома. К числу мобильных генетических элементов относят плазмиды, транспозоны, ретротранспозоны, элементы бактериофагов.
Модель опасности. Теоретическая модель в иммунологии. Предполагает, что иммунная система функционирует, различая сигналы, свидетельствующие о наносимом ущербе, и сигналы, которые об этом не свидетельствуют. Альтернатива модели «Я / не-я» («своего / не своего»), в настоящее время доминирующей в иммунологии.
Молекулы главного комплекса гистосовместимости (ГКГС) класса I. Класс молекул, находящихся на поверхностных мембранах большинства клеток организма. Захватывают молекулы из клетки и демонстрируют их на поверхности, где иммунные клетки могут распознать эти молекулы и отреагировать на них.
Моноклональные антитела. Идентичные антитела, производящиеся из одной клеточной линии – обычно из искусственно созданной клетки-гибридомы.
Наивная клетка, наивная иммунная система. Клетка или иммунная система, пока не встречавшаяся с антигенами.
Патоген. Микроорганизм, вызывающий заболевание.
Пептид. Небольшой фрагмент белка. Представляет собой короткую цепочку аминокислот.
Поведенческая иммунная система. Наименование целого ряда психологических вариантов поведения, чья предполагаемая функция – избегать заболеваний.
Прививка, или вариоляция. Практика введения чужеродного вещества в организм с целью стимулировать иммунную реакцию, которая приведет к формированию иммунной памяти и обеспечит долговременную защиту от определенного патогена.
Простейшие. Одноклеточные микроорганизмы-эукариоты, принадлежащие к царству протистов. Среди многих разнообразных типов простейших – амебы, жгутиковые и инфузории (ресничные).
Регуляторный Т-лимфоцит. Тип Т-лимфоцита, регулирующий иммунные реакции и численность иммунных клеток.
Рекомбинация. Процесс реаранжировки генома, при котором геном перемещает свои генные фрагменты внутри себя.
Рецептор. Молекула в клетке или на ее поверхности, способная специфически связываться с сигнальной молекулой химической коммуникации и распознавать такую молекулу.
РНК (рибонуклеиновая кислота). Тип молекул нуклеиновых кислот, состоящий из нуклеотидных субъединиц. В разнообразных и многочисленных формах имеется у всех живых клеток. Выполняет ряд важнейших функций, связанных с передачей генетической информации клеткой.
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Инфекционное заболевание. Передается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус заражает Т-лимфоциты иммунной системы, тем самым увеличивая уязвимость организма по отношению ко всем инфекциям, которые сумеют воспользоваться открывшейся возможностью, и по отношению к злокачественным новообразованиям.
Система врожденного иммунитета. Общее название для различных типов врожденных защитных механизмов организма, главным образом неспецифических. Включает в себя иммунные клетки, антимикробные молекулы и физические преграды, мешающие проникновению и распространению инфекции. Не передает иммунную память.
Система комлемента. Набор белковых молекул, совместно борющихся против патогенов. Белки покрывают поверхность патогена, либо сразу же уничтожая его, либо сигнализируя фагоцитарным клеткам, чтобы те с ним расправились.
Тимус. Первичный лимфоидный орган. Располагается в верхней части грудной полости. В нем вырабатываются и созревают Т-лимфоциты.
Толл-подобные рецепторы (ТПР). Тип рецепторов, распознающих патогены. Разновидность белков, находящихся в клетках системы врожденного иммунитета. Играет ключевую роль в реакциях системы врожденного иммунитета, распознавая молекулярные структуры, с высокой степенью вероятности ассоциируемые с патогенами, и тем самым позволяя иммунной системе быстро и эффективно реагировать на вторжение патогена.
Фагоцит. Клетка, способная поглощать и переваривать опасные клетки и частицы мертвых или умирающих клеток.
Фермент. Белковая молекула, действующая как катализатор биохимических реакций.
Цитокин. Белковая молекула, используемая для передачи сигналов между клетками.
Цитотоксический Т-лимфоцит (Т-киллер). Тип Т-лимфоцита, способный убивать другие клетки.
Эпителиальные клетки. Слои клеток, выстилающие внутренние поверхности в нашем теле, а также кожу.
Эпитоп. Участок на антигене, распознающийся молекулой-антителом или антигенным рецептором.
Эукариота. Любой организм, клетки которого содержат ядра и ряд других структур.
Эффектор. Молекула или клетка, способная регулировать активность клеток, соединяясь с ними.
В-лимфоцит. Тип клеток адаптивной иммунной системы. Главная роль – выработка антител.
Т-клетки памяти. Т-лимфоциты, сохраняющие «память» об инфекции после ее окончания. Благодаря этому способны обеспечивать быстрый и эффективный иммунный отклик на повторное заражение таким же патогеном.
Т-лимфоцит. Тип клеток адаптивной иммунной системы. Возникает в тимусе. В наше время различают множество подвидов Т-лимфоцитов, выполняющих многообразные иммунные функции. Среди этих подвидов подробнее всего описаны цитотоксические Т-лимфоциты, разрушающие другие клетки, и Т-хелперы, распознающие антигены на поверхности зараженных вирусами клеток и стимулирующих выработку антител В-лимфоцитами.
Т-хелпер. Регуляторный Т-лимфоцит на поверхности клетки организма, зараженной вирусом. Стимулирует реакцию В-лимфоцитов и Т-киллеров.
Материалы для дополнительного чтения
При написании этой книги я пользовался огромным количеством научной литературы. Все эти работы здесь перечислить невозможно. Достаточно полный библиографический список (десяток страниц) можно найти на http://goo.gl/7E4Y2i. Можете также написать мне на [email protected] и попросить прислать список.
Основы иммунологии изложены во многих хороших учебниках. Лично я предпочитаю Janeway’s Immunobiology, недавно вышло восьмое издание. Автор – Кеннет Мёрфи (Kenneth Murphy).
История иммунологии как науки и исследование основополагающих тем и течений иммунологической мысли – предмет увлекательный, и в данной книге я коснулся его лишь поверхностно. «Исторический атлас иммунологии» (Julius M. Cruze and Robert E. Lewis, Historical Atlas of Immunology) – отличное введение в историю иммунологии. Если вам хочется глубже погрузиться в область иммунологического мышления и дискуссий, рекомендую вам в качестве отправной точки «Историю иммунологии» (Arthur M. Silverstein, A History of Immunology) (второе издание) и труды Альфреда Таубера, Скотта Подолски и Хармке Камминги (Alfred I. Tauber, Scott Podolsky, Harmke Kamminga). Если вам по нраву военные метафоры в иммунных и других процессах организма, найдите «Гибкие тела» Эмили Мартин (Emily Martin, Flexible Bodie). Биографии многих ученых, упомянутых в этой книге, нетрудно отыскать. Пол Оффит в своей книге «Вакцинированный. Как один человек решил победить страшнейшие болезни в мире» (Paul Offit, Vaccinated: One Man’s Quest to Defeat the World’s Deadliest Diseases) повествует о жизни Мориса Хиллемана, создателя бесчисленных вакцин.
«Дикая природа нашего тела» Роба Данна (Rob Dunn, The Wild Life of Our Bodies) – увлекательный обзор сложнейших взаимоотношений, которые наш организм поддерживает с другими организмами. «Король паразитов» Карла Циммера (Carl Zimmer, Parasite Rex) – путешествие в мир паразитарных организмов. «Потерянные микробы» Мартина Блейзера (Martin J. Blaser, Missing Microbes) посвящены применению человеком антибиотиков (в том числе чрезмерному) и последствиям такого применения. «Уживчивый ген» Дэниэла Дэвиса (Daniel M. Davis, The Compatible Gene) содержит обсуждение иммунной совместимости и ее колоссального влияния на дела людей – на нашу жизнь, наши общие черты, наши различия, нашу историю, наше поведение.
И наконец, статья Бенджамина Паркера и др. «Неиммунологическая защита в эволюционном мышлении» (Benjamin Parker et al., Non-immunological Defence in an Evolutionary Framework), опубликованная в мае 2011 года журналом Trends in Ecology and Evolution, стала для меня главным источником сведений для того фрагмента третьей главы, где идет речь о поведенческом иммунитете.