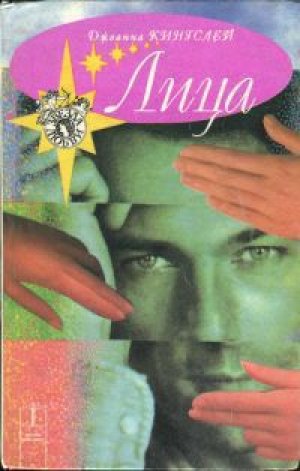
Пролог
— Сделайте меня красивой.
Доктор Евгения Сареева изучала сидящую перед ней женщину. Узкая в кости, хорошо сложенная, тип, который меньше других сохраняет шрамы. В шелках от Келвина Клайна [1], жена сенатора сидела не сгибаясь, с прямой спиной, положив ногу на ногу — левая ступня быстро подергивалась вверх и вниз.
— Мой муж… — начала она и, прикусив нижнюю губу, пробормотала: — Я должна его вернуть. Или по крайней мере расквитаться.
— Вы очень привлекательная женщина, миссис Баретт, — возразила врач.
— Подтяжку лица. Пожалуйста. Я заплачу сколько угодно. Сделайте меня сногсшибательной.
— Вам она вовсе не требуется. Эффект от подтяжки едва ли будет заметен, — сказала Жени Сареева. — Просто вы будете выглядеть хорошо отдохнувшей.
— Не может быть, чтобы это оказалось и все.
— Но это на самом деле и все.
— Мне сорок два, — в голосе Эвелин Баретт послышалась истерическая нотка. — Вы должны что-нибудь сделать!
Искушенным взглядом Жени скользнула по ее чертам и овалу лица. Никаких явных изъянов, которые бы требовали хирургического вмешательства.
— Если бы я согласилась оперировать, то воспользовалась бы вашим нынешним состоянием. Но в чем бы ни заключались ваши проблемы, они не в вашей физической внешности, — почему люди думают, что их внутренний мир можно изменить извне?
— Кто вы такая, чтобы говорить мне это? — Эвелин Баретт подалась на стуле вперед, и теперь в ее голосе прозвучала угроза. — Вы примерно моего возраста, но посмотрите на себя — вы красавица, в вас есть все, что надо…
— Подождите. Зачем себя сравнивать с кем-то другим? Мы говорим о вас.
Эвелин отчаянно хотелось броситься на врача, но она продолжала только пронзительно спорить:
— Я могу себе это позволить. Вы из лучших. Одна из нас. Принадлежите нашему кругу. У вас нет причин мне отказывать. Иначе я пойду к кому-нибудь еще.
— Остановить я вас не могу и уверена, вы найдете кого-то, кто пожелает забрать ваши деньги. Но это моя профессия. Я в этом разбираюсь. Я врач, а не механик по телу. И какая бы у меня не была репутация, я обязана ей тем, что знаю, когда оперировать надо, а когда нет, — Жени почувствовала, как гнев подступает к горлу. Костяшки сжатых в кулак рук побелели. Она глубоко вздохнула и разжала кулаки: женщина пришла за помощью, а не для того, чтобы выслушивать ее лекцию.
— Извините, — снова начала она. — Я не считаю, что пластическая операция сможет вам помочь.
— Есть много других хирургов.
Жени почувствовала, несмотря на ее обычную сдержанность, гнев снова вспыхивает в ней.
— Так и идите к ним. Я не мясник, чтобы меня нанимать.
— Мне хотелось волшебства, — тихо проговорила Эвелин Баретт. — Надеялась, вы махнете палочкой и сделаете меня красивой. И снова счастливой.
Жени узнала знакомую надежду.
— Словно Золушку. Если бы я это могла, мне не нужен был бы скальпель, — она поднялась. — И у меня была бы другая профессия.
Проводила пациентку до двери, медленно вернулась к своему столу. «Нужно было отменить сегодня послеобеденный прием», — подумала она. Завтрашняя операция занимала все ее мысли, лишала профессиональной выдержки.
Эвелин Баретт мечтала об операции. Но за годы работы в клинике у Жени было бесчисленное множество таких пациенток. «И все же я слишком вспылила. Нужно успокоиться», — уговаривала себя доктор Сареева.
Завтра она осуществит свою мечту. А сегодня у нее еще есть пациентки, которых надо принять.
Следующая пациентка появилась сквозь раздвижную панель — специальное устройство, чтобы защитить звезд и сверхзвезд — клиенток Жени — от идущих по их следу ищеек-репортеров. Знаменитости проходили сквозь тайный вход и по лабиринту коридоров поднимались в кабинет, из гаража в подвале.
Важной походкой, ставшей его привычкой из-за ведущей роли в самом популярном телесериале, в кабинет вошел Чет Амор. А рядом — пациентка Жени — его любовница, в течение уже десяти лет.
За шесть недель до этого Джон Дарвин перенес хирургическую операцию по изменению пола, после почти восемнадцати месяцев лечения гормонами. Стероиды сгладили его черты, способствовали росту груди, уменьшили волосяной покров. Хирурги убрали пенис и заменили его влагалищем. И теперь, уже как Джейн, она пришла обсудить пластическую операцию, завершающую превращение.
— Я стала женщиной, и очень счастлива, — сказала она врачу. — Но я хочу быть привлекательной женщиной.
Жени изучила ее лицо и опустила взгляд на грудь. Она была небольшой, как у юной девушки.
Джейн Дарвин улыбнулась:
— Не это. Никаких присадок. Не хочу ничего постороннего в своем теле. Достаточно было стероидов. Думаю, неплохо выглядеть как манекенщица. Это значит, я смогу появляться без верха, если такая мода когда-нибудь вернется. Проблема, доктор, с моим носом.
Жени была согласна, но неосторожно спросила:
— А почему вы теперь хотите его изменить? Ведь такой нос у вас был всегда.
— Но сама я уже не та, что была. Когда я была мужчиной, я не любила своего тела и не задумывалась об его исправлении. Но теперь я женщина. Если мой нос будет тоньше, не таким мясистым здесь, на кончике, лицо покажется гармоничным.
— Да, — подтвердила Жени и взглянула на Чета Амора. — Я так понимаю, что вы это уже обсудили между собой?
Джейн кивнула.
— Да Чет меня поддерживает. Сколько себя помню, я всегда чувствовала себя девочкой, по ошибке втиснутой в мальчишеское тело. Конечно, я хочу угодить Чету, но не изменением внешности. В тридцать лет я наконец выгляжу сама собой.
— Я любил Джона, — вмешался Чет. — Я был против вначале, когда он решил изменить пол.
— А почему? — удивилась Жени.
Мужчина пожал плечами:
— Наверное, из эгоизма. Я хотел, чтобы он оставался таким, каким был, когда мы встретились — подростком, глядящим на меня снизу вверх и заставляющим почувствовать мою значимость. Я хотел, чтобы его «секрет» был чем-то таким, о чем знали только мы двое. И я думаю, что боялся этого. К врачу мы отправились вместе. Я понял, что его уязвимость нужна мне, чтобы защитить от моей собственной. Я любил Джона, — повторил он, но, быть может, Джейн я люблю еще сильнее, — он подмигнул своей спутнице и коснулся ее запястья кончиками пальцев.
— Будьте любезны, пройдите вот в эту дверь, — попросила пациентку Жени. — Я вас исследую, а потом направлю к медицинскому фотографу. На какой день вы хотите назначить операцию?
— На завтра! — хлопнула в ладоши Джейн.
Тень пробежала по лицу Жени. Она повела пациентку в осмотровой кабинет.
— Это невозможно. А что, если мы проведем операцию через две недели?
— Спасибо, доктор. Мне вас сам Бог послал.
Между консультациями Жени звонила по телефону — по поводу завтрашней утренней операции: в рентгеновскую лабораторию, анестезиологу, старшей сестре на этаже больного, ассистирующему хирургу; хотя и понимала, что звонки излишни, что она страхуется и перестраховывается, потому что тревожится сама.
Потом, пройдя в крыло клиники, где располагалось косметическое отделение, выслушала жалобы, вновь рассмотрела схемы, изучила истории болезней, ответила на вопросы. Затем провела послеоперационное обследование престарелой сценаристки которой была сделана подтяжка, осмотрела молодую певичку, которой уменьшила уши, придав им новую форму.
Вылепила, машинально подумала она, рассматривая подживающие швы.
— У вас все в порядке. Точно по плану, — сообщила она певичке.
Провожая пациента до дверей, Жени привиделось, как мимо промелькнул основатель клиники Макс Боннер. Прозванный «Ножом», Макс отказывал даже в консультации большинству из тех, кто приходил в кабинет Жени. Это он назвал крыло факультативной хирургии «мастерской по подгонке», когда она предложила открыть отделение, и крикнул ей, что он не «трахнутый механик». Позже, когда отделение было официально открыто, он издевательски окрестил его «храмом тщеславия». До мозга костей Макс был хирургом, но совсем не «скульптором». Пластическая хирургия для него означала лишь одно — восполнение недостающего. Его врагом, которого он пытался победить всю жизнь, было уродство. Если дух Макса здесь, подумала Жени, завтра он встанет со мной у стола.
Она покончила с одной на этот день консультацией, согласившись провести липэктомию бедер бывшей актрисе. В другое время она поставила бы условием такой операции предварительное похудение женщины, по крайней мере фунтов на тридцать, но это означало бы продление консультации, а Жени было необходимо вырваться наружу. В атмосфере кабинета она просто задыхалась.
Она покинула клинику внезапно — просто сказала сестре «до свидания», выскочила к своему «Феррари» и вдавила акселератор в пол машины. Обычно она не пользовалась привилегиями медицинского работника, но тем вечером понеслась по полуострову Монтерей, как будто за ней гнались Парки.
Промчавшись по подъездной дорожке, она рывком выключила двигатель, заставив машину протестующе захлебнуться, и ворвалась в дом, срывая на ходу одежду. Бросив все в спальне на стул, схватила купальный костюм и раздвинула стеклянную дверь, ведущую в бассейн. Круглый год подогретый до восьмидесяти двух градусов, бассейн был для нее необходимой экстравагантностью. По утрам или вечерам, а когда могла, и два раза в день, Жени плавала — энергичные гребки и мерный ритм тела позволяли мозгу расслабиться.
Но тем вечером расслабление не наступало. Она поплавала двадцать минут, потом еще двадцать. И еще десять. Затем поднялась в дом, обернув голову, наподобие тюрбана, лиловым полотенцем и накинув на себя банный халат.
На кухне она несколько раз заглянула в холодильник, не найдя там ничего, что бы ее соблазнило. В доме царило одиночество. Хотя много лет она жила одна — почти все годы с тех пор, как выросла, — сегодняшним вечером отсутствие одного человека переполняло комнаты. Утром рано она увидит его на операционном столе, а пока ничего нельзя было сделать, как только лечь в постель.
Она спала урывками, просыпаясь от пугающих видений — череда масок, подобных тем, что надевают в канун Дня всех святых, сплавилась с кожей лица ее пациента, а она пытается отделить их скальпелем.
В четыре тридцать Жени поднялась с постели. Ощутив кислоту своего нервного пота, откинула простыни. Обнаженной, открыла двери, включила подводный свет и нырнула в бассейн.
В шесть — в белом хирургическом халате доктор Жени Сареева была в клинике, в старом здании, где прежде она и Макс Боннер оперировали участников войны. Тогда им не хватало людей, элементарного оборудования, особенно крови.
Теперь в клинике есть все: запасы крови, включая редкие группы, опытный персонал, сложнейшие приборы, новейшие диагностические компьютеры.
Жени снова просмотрела историю болезни, еще раз дала указания каждому из ассистирующей бригады, но тревога не утихала, оставляя чувство, как будто она упустила что-то самое важное. Она достала снимки, сделанные в натуральную величину и с увеличением, и в третий раз за утро принялась их изучать.
Без четверти семь — с помощью новой демонстрационной системы она проглядела цифровые послойные снимки высокого разрешения, сделанные с головы пациента. Исследуя каждый, она прикидывала, что ей предстоит сделать и с какими, даже отдаленно возможными затруднениями, предстоит встретиться.
Через полтора часа — даже меньше — она начнет операцию, о которой мечтала всю жизнь с тех пор, как поступила в медицинский институт. Даже раньше. Еще не зная, как это делается, грезила, что восстановит одно конкретное лицо, избавит его от уродства.
Жени выключила сканер. Минутная стрелка была почти на двенадцати. Семь утра. Теперь в любой момент сестра может впрыснуть пациенту лекарство, чтобы затуманить сознание перед тем, как везти в операционную…
Внезапно Жени почувствовала неуверенность. Вот сейчас ей предстоит выйти к нему. Она толчком растворила двери компьютерной и рванулась по коридору к человеку, чья жизнь так повлияла на ее собственную.
ЧАСТЬ 1
1957
1
Снег все также падал, как и утром, когда Евгения Сареева только проснулась. И даже на главном ленинградском проспекте намело так, что идти стало тяжело. Резкие порывы ветра терзали Женино лицо. Она возвращалась из балетной школы не как обычно, а на два часа раньше. В конце января день был коротким. Уже смеркалось. И несмотря на тяжелое пальто, Женя продрогла. Прищурив глаза с заиндевевшими ресницами, она смотрела, как большие белые хлопья падали на рукав, и на мгновение, точно выгравированные, выделяясь на темно-синей шерсти, тут же исчезали. Высунув язык, она ощутила холод. Ее исключили: что теперь сделает отец?
От Невского проспекта она привычно свернула на большую площадь. За падающей пеленой снега теплым зеленым цветом безмолвно проступал Зимний Дворец — точно цвет неспелой черники.
У Адмиралтейства мальчишки, без шапок, несмотря на мороз, лепили большую снежную бабу. Их длинные волосы развевались, как у Тарзана — так было модно среди ребят после американского фильма в Москве. Теперь, больше года спустя, эта причуда казалась допотопной, и все же мальчишки демонстрировали свою дерзость. В школе Женя с друзьями смеялась над «тарзанниками», но сейчас она их испугалась.
Надеясь, что снег на пальто сделал ее невидимой, она поспешила пройти, но те заметили симпатичную розовощекую девочку с большим ртом.
— Женя! Женя! — закричали они.
Заскользив ботинками по снегу, как будто это были маленькие лыжи, она отвернулась от ребят. Отец называл таких людей «вредителями» или «паразитами».
Он бы рассердился на нее, даже пришел бы в ярость, и мама ничего не смогла бы сделать, чтобы его успокоить. Даже если бы была дома. Она тоже сторонница того, чтобы прививать детям культуру.
Женю нисколько не интересовал балет, но родители настояли, может быть, потому что это было престижно, и она стала ходить в Кировский театр. И все же Женя не годилась ни для какой балетной школы, не говоря уже о лучшей в мире. Даже там, где она училась раньше, — последний год, когда ей исполнилось одиннадцать, ее держали с неохотой. Она догадывалась, сколько усилий пришлось приложить отцу, чтобы ее приняли. А теперь ее выставили за дверь!
Женя шла очень медленно. Ботинки целиком исчезали под снегом. Какая неуклюжая…
— У тебя ноги что, к земле приклеены?! — кричал на нее учитель Кондрашин. — Да оторви же их наконец! Выше, выше!
Темпераментный, артистичный, с дикой копной волос, из-за длинного заостренного носа он был похож на карандаш. Ученики за спиной его так и звали, хотя самой Жене он и нравился. Она знала, что насчет ее способностей он был абсолютно прав.
— Тебе только на луне танцевать, где нет притяжения, — брюзжал он.
Сегодня она зацепила ногой за ногу соседней девочки и упала, увлекая за собой остальных так, что весь ряд повалился друг на друга, словно костяшки в домино. Этого для Кондрашина было достаточно.
— Пусть со мной делают все, что хотят, — взорвался он, — но не могу я научить танцевать слониху. Подите прочь, Евгения Георгиевна! С глаз моих долой!
Если она не сможет ничего придумать, чтобы защитить учителя, у Кондрашина будут серьезные неприятности. Отец сурово расправляется с теми, кто ему не угоден. Бедный Карандаш, думала Женя.
— Женя! — уже тише различила она и, зная что теперь находится от мальчишек на безопасном расстоянии, повернула голову.
Увидев, что она обернулась, мальчишки, стоявшие рядом со своей снежной бабой, замахали руками, и, к ее ужасу, замахало руками ожившее существо из снега и льда.
У Жени перехватило дыхание, она бросилась бежать и упала головой в снег. Потом вскочила, оттолкнувшись руками, ее лицо горело от холода, запястья драло из-за попавшего в рукава и перчатки снега. Она понимала, что над ней смеются, но подгоняемая страхом, шаркая ногами, побежала прочь.
Снеговик был подобием ее отца.
Женя родилась в 1944 году, сразу после прорыва самой длительной и опустошающей блокады, которую только знал мир. Блокады Ленинграда, продолжавшейся девятьсот дней. Гитлеровские войска окружили город, отрезав его от всех источников снабжения. Более миллиона людей умерло в кольце от истощения, пуль, болезней и холода. И старые и молодые замерзали до смерти. На саночках, таких маленьких, что казалось, они были сделаны для кукол, возили мертвых детей по стылым улицам на переполненные кладбища.
Ленинград мог бы пасть под натиском нацистов, если бы не ручеек еды, боеприпасов и медикаментов, попадавших в город по Дороге жизни — через Ладогу на лодках и баржах летом, на грузовиках по льду озера зимой. Там, на Дороге жизни, Женин отец и встретил свою ужасную судьбу.
Мороз растерзал его лицо, сморщил, выжег до неузнаваемости, изувечил злыми укусами.
Было бы легче, если бы он умер, иногда думала Женя. Тогда она могла бы воображать его и представлять обычным отцом. Но он выжил и за доблесть в сражениях и перенесенные страдания был провозглашен героем. А после войны получил высокую партийную должность.
Женя никогда не видела его довоенных фотографий и с младенческих лет не помнила его лица. Быть может, она считала, что все отцы или все люди выглядят, как он. Может быть, не замечала, что на месте носа у него зияющая дыра, что у него нет ушей, а кожа покрывает лицо блестящими лоскутами. Но теперь она выросла — в мае ей исполнится тринадцать — и иногда она думает, что лучше бы его убили тогда, на Ладоге. Такие мысли ее пугают, и она никому не рассказывает о них, даже своему брату.
Отец всегда был к ней добр, говорит она себе. Он умен и значителен, национальный герой, и все о нем знают. Она хотела бы его любить еще и раньше, но всегда пугалась, когда он ее касался.
Женя заметила, что он никогда не пытался дотронуться до матери, и удивлялась этому. Наталья Леонова была красива, с таким ясным цветом лица, что казалось, она светилась изнутри. Может быть, отец боялся, что его прикосновение оставит отметину на шелковистой коже жены.
Обо всем этом Женя старалась не думать. Она не помнила, когда впервые заметила, как уродлив ее отец, и пыталась себя убедить, что остальные люди смотрят на него по-другому, что лишь она одна из-за своего дурного характера видит его таким.
Но однажды в школе, когда ей было восемь с половиной лет, она подслушала, как говорили о нем две девочки. Они хихикали и напевали:
— Товарищ Сареев — просто чудовище.
Женя хотела броситься на них, накричать, разубедить, но в конце концов лишь тихонько расплакалась — беспомощно и бессильно. Она знала, что они правы, и что сама она видела отца таким, каким он был на самом деле. Любящим ее, но уродливым, словно этот снеговик.
Когда она направлялась домой, фонари уже горели, высвечивая круги и спирали танцующего снега. Но это зрелище не казалось ей красивым. За сотню шагов до дома она почувствовала себя настолько промерзшей, что, казалось, кровь превратится в ее жилах в лед, стоит ей на секунду остановиться. «Пока я двигаюсь, — говорила она себе, — все мои клетки в движении и я не замерзну».
Она представляла эти клетки бесконечно малыми мирами, в которых обитали крошечные существа. Она воображала это годами. Сама она — Женя — была вселенной и не могла исчезнуть, иначе все они умрут вместе с ней.
Через несколько минут она будет дома. Дома, где в гостиной поставлен самовар и куда пришла тетя Катя со сладкими пирожками и наливает ей стакан горячего чаю. Женя будет цедить крепкую горячую жидкость сквозь кусочек сахара, зажатый между зубами и придерживаемый языком. А после чая тетя Катя нагреет ванну. Катя вовсе не тетя, никакая даже не родственница, но все в доме зовут ее тетушкой, как привыкли в стародавние времена.
Когда Женя поднялась по ступеням и толкнула тяжелую полированную дверь, у нее возникло чувство обреченности: в доме все казалось замершим, а в воздухе будто сгустились тучи. Неужели там уже знали, что ее карьера балерины рухнула под тяжестью веса девочки-слонихи? Она стояла в коридоре, не решаясь объявить о своем приходе.
Со встревоженным лицом, из гостиной суматошно появилась тетя Катя и, обняв Женю, велела ей идти наверх и ждать отца.
— Но я замерзла, тетушка, — запротестовала Женя.
— Я принесу тебе стакан чаю. А теперь наверх, несчастное дитя, — и она нетерпеливо замахала руками.
Женя оставила ботинки у дверей и в носках поднялась наверх. Ее «комната» представляла собой отгороженное пространство в помещении, которое в дни Екатерины Великой служило императорским салоном. Партийный секретарь и сотрудник министерства торговли, Георгий Сареев пользовался привилегиями и получил жилплощадь в маленьком дворце, построенном в стиле барокко архитектором Растрелли — автором Зимнего Дворца. Во время большевистской революции возведенное итальянцем здание перешло к государству и было разделено на квартиры.
Дети делили большой салон с куполообразным потолком с лепниной, пока Дмитрий не пошел в школу. Тогда установили деревянную перегородку, предоставив каждому немного уединения, хотя звуки и свет проникали над стенкой под куполом.
Женя открыла дверь и различила незнакомый звук, доносившийся с половины брата. Через секунду или две она поняла, что это было. Дмитрий плакал.
Встревоженная, она тихонько постучала в стену. Он не ответил, Женя постучала сильнее, позвала брата, но в ответ внезапно установилось молчание. Затем он снова заплакал, но тише, будто старался приглушить рыдания.
Все еще в пальто Женя, села на кровать. Она не знала, как поступить. Чем так расстроен ее брат? Он всегда знал, что она ненавидела балетную школу.
Она почувствовала, что в дверном проеме стоит отец, подняла голову и встретилась с ним взглядом. Нелепый и страшный Георгий Сареев стоял, не шелохнувшись, — кожа блестела, как изъеденная резинка, левый глаз подергивался. Под темным провалом в середине лица открытый рот выглядел еще одним увечьем.
Он тяжело вздохнул и, прихрамывая, ввалился в комнату. Женя откинулась на кровати, вцепившись в пальто. Она старалась смотреть ему на шею.
— Она ушла, моя красавица, — голос был низким и печальным, и его слова не испугали Женю.
— Кто?
— Наташа. Наташа. Наталья Леонова.
— Мама? Куда?
— Ушла, — левый глаз перестал дергаться, и слезы покатились по щекам. Он подошел к кровати и присел на край. Женя крепче закуталась в пальто.
— Наташа, — повторил он. — Да, твоя мать. Моя жена, известная шлюха Наташа. Моя бывшая жена. Сука.
В комнату с чаем вошла тетя Катя и поставила поднос на маленький круглый столик, потом опустилась перед Женей на колени.
— Несчастная сирота, — заплакала она. — Мама от нас ушла!
Женя посмотрела на нее сверху вниз. Какое отношение имеет ее мать к тому, что ее выгнали из балетной школы?
Тетя Катя исподтишка перекрестилась, но Георгий не заметил — он плакал.
— Собрала чемоданы и ушла, — голосила Катя. — Сбежала с Константином Ясниковым. Вот и все. Позор! Беда! Несчастная моя козочка!
— С актером? — он был из круга друзей матери, артистов, приходивших в дом вечерами по средам. Когда они появлялись, отец всегда запирался у себя в комнате. «Театр для легкомысленных», говаривал он. — С Костей? — спросила Женя.
— С ним, с ним, с проходимцем. Конечно, он красив и, все говорят, талантлив, но каков негодяй!
— Перестань молоть чепуху, — перебил ее Георгий. — Оставь нас. Мне надо поговорить с дочерью.
— Несчастная сиротка, — бормотала Катя, а Жене хотелось, чтобы тетя Катя осталась, не оставляла ее наедине с отцом. Но тетушка махнула рукой и тихо прикрыла за собой дверь.
— Ну, — резко начал Георгий, как будто говорил со взрослой. — Теперь ты знаешь. Меня оставили. Бросили. Променяли на актеришку!
Жене было жарко в пальто, но она не осмеливалась его снять. Не осмеливалась даже двинуться. Все было таким странным. Она и верила, и не верила. Мама часто уходила из дома. Может быть, и сегодня вечером она вернется?
Женя ждала. Отец всхлипнул, потом разразился бранью, но она не поняла его слов. Опять замолчал. Наконец заговорил печальным голосом, напоминавшим жалобы сквозняков, проносившихся по дому.
— Когда-то мы очень друг друга любили. Она слагала обо мне песни — каким я был большим и красивым. Всегда мне что-нибудь дарила: поцелуи, цветы, записочки с ласковыми словами на обрывках бумаги, — он перевел дыхание, судорожно втянув воздух широко открытым ртом. — Мы жили в согласии, в счастии. Родился Дмитрий. А потом пришла война. Я должен был покинуть ее, — взгляд его был устремлен на что-то, что Женя не могла различить.
— Когда я вернулся… — отец передернул плечами, — вот таким, — ладонями он провел по щекам, — она не в силах была на меня смотреть. Я ей был отвратителен, и мое уродство отражалось в ее глазах.
Его горе переполняло комнату. Женя ощущала это горе, как будто вдыхала. Она коснулась руки отца, не поднимая взгляда к лицу. Так значит, раньше он был красивым. Никогда раньше он не говорил ей этого. Не говорила ей этого и мать.
— Когда я вернулся, старые фотографии все еще висели на стенах. Я порвал их все.
— Почему? — спросила Женя. Ей хотелось, чтобы осталась хоть одна.
— Ты не сможешь понять. Я ревновал. Ревновал к себе самому, счастливому любовнику, завладевшему всем ее существом и ее потерявшему.
— Да, я ревновал, — повторил он, — а потом начал ее ненавидеть.
Он повернулся к дочери и взял ее за руку, обрубки пальцев были толстыми, как корень пастернака. Когда Женя была маленькой, она не могла понять, почему пальцы не растут. Как-то она спросила отца об этом, но он не ответил, а только посмотрел на нее.
— Женя! Она ушла!
Волна тошноты подкатила к горлу, и Женя закрыла глаза. Тошнота прошла, но следом накатывал приступ страха.
— Шлюха!
Мама оставила ее, исчезла, словно умерла. Но что было еще хуже, мама оставила ее нарочно.
— Она ничего для меня не передавала?
— Ты о чем? — сурово спросил отец.
— Не знаю. Записку… письмо? Что-нибудь? — умоляла Женя.
— Нет, — коротко бросил он. — Ничего, — и посмотрел в испуганное лицо дочери, на секунду поймал ее взгляд и повторил: — Ничего.
Женя глядела в то место, где у отца должны были быть уши, и ненавидела его за то, что из-за его безобразия ушла ее мать, за это «ничего». Потом вдруг поняла, что теперь осталась с ним одна, и расплакалась.
2
После того как жена ушла от Георгия, он стал каждый день начинать с водки. По вечерам он уходил из дома и возвращался пьяный и мрачный. Иногда его жалостливые причитания будили детей, и те пробирались на кухню: посмотреть, как отец сгорбившись сидит за столом, сжимая похожими на корни пастернака пальцами бутылку водки. По блестящим клочкам омертвевшей кожи катились слезы и терялись в щетине там, где она еще росла на сохранившейся плоти.
Если он замечал, что дети подглядывают за ним, начинал ругаться и сыпать проклятиями, и они убегали. Он обвинял их в том, что они украли у него любовь своей матери или наоборот, были настолько несносны, что ей пришлось уйти.
Дмитрий и Женя, крепко взявшись за руки, слушали из своего нового укрытия, как отец набрасывался на жену, на немцев, на блокаду, снова на жену и на безмерный холод зимней Ладоги. Они видели, как долгие минуты он просто всхлипывал, а потом принимался снова и снова повторять прерывающимся голосом:
— О, мое лицо, о, это лицо!
Женя понимала, что мать оставила их из-за этого лица. Уродство отца разбило их семью.
Но в этом не было логики: ведь он всегда выглядел так, почему же мать ушла только теперь?
Кроме того, изъяны свидетельствовали о храбрости отца, делали его героем. Из-за того, что случилось с ним на войне, они жили в этой большой квартире, казавшейся дворцом по сравнению с жилищем большинства Жениных одноклассниц. Из-за того, что там случилось, Георгий Сареев занимал важный государственный пост, хотя и работал дома: с таким лицом ему невозможно было работать на людях.
Теперь он выходил по ночам, под покровом темноты, и всегда один, а днем запирался в кабинете, и в его комнате воцарялось молчание.
Как-то в конце февраля Дмитрий и Женя возвратились к себе наверх после того, как больше часа наблюдали за отцом. На половине Дмитрия Женя забралась к брату в кровать, как раньше, когда они были маленькими, и спросила:
— А в папе правда два человека?
— Больше, — ответил Дмитрий. — Много людей.
— Я не то имею в виду. Две стороны: хорошая и плохая, добрая и злая?
— Просто пьяная и не очень, — резко ответил Дмитрий.
Услышав их разговор, вошла тетя Катя и погнала Женю в свою кровать. Завтра в школу, Женя не поднимется, если немедленно не заснет. И обняв, повела на другую половину. Целуя на ночь, Женя спросила тетушку:
— А папа плохой или хороший?
— Что это такое ты говоришь? — Катя попятилась и быстро перекрестилась. — Он твой отец.
— Я знаю! — нетерпеливо воскликнула Женя. Теперь, когда она почти выросла, с Катей стало говорить совершенно безнадежно, — слова казались такими примитивными! Но тетушка любила Женю с детских лет.
Из-за Бога, решила Женя. Катя была православной и по-настоящему верила, а Женя — советской девочкой. Ее учили, что религия — это опиум для народа, затуманивавший (до Ленина) людям мозги. С тех пор людям указали пути веры в человека, прогресс, конечную цель — коммунизм.
— Спи, козочка, — прошептала Катя.
— А мама, — не унималась Женя, — она плохая или хорошая?
И услышала, как Катя с шумом перевела дыхание:
— Твоя мать была красивой женщиной и сильно тебя любила, — и быстро вышла из комнаты, оставив Женю размышлять над тем, что означало прошедшее время — не умерла ли уже ее мать?
Пролежав несколько минут в темноте, Женя почувствовала, что не в силах больше выносить сверлящий ее мозг вопрос и, стараясь не шуметь, снова прокралась на половину брата.
Должно быть, он спал, лежа на спине. Когда она потянула одеяло, он повернулся на правый бок, чтобы дать ей место и в полудреме почти бессознательно некрепко ее обнял.
— Где наша мать? — настойчиво прошептала Женя. — Куда она уехала? Где она?
Секунду он не отвечал и его объятия ослабли.
— В каком-нибудь хорошем месте, — в его голосе уже не было и намека на сон.
— Она… — Женя не могла заставить себя выговорить то, что хотела и вместо этого спросила. — С ней все в порядке?
Брат снова помедлил:
— Не знаю.
Женя была сбита с толку. Более того — напугана. Дмитрий близок к матери, гораздо ближе, чем она. Старший брат, он должен знать все.
— Почему она не оставила записки?
— Не знаю, — в его ответе Женя почувствовала нетерпение.
— А ты не уйдешь?
Брат не ответил.
Женя села на кровати и включила свет.
— Ты не сможешь! Никогда!
Дмитрий слабо улыбнулся:
— Хорошо. Успокойся.
— А как ты думаешь, она вернется?
Он тяжело вздохнул и отвернулся от сестры. Больше он не проронил ни слова, и вскоре она встала.
Остаток ночи она не спала. Молчание Дмитрия, его холодность были хуже всего. Или, быть может, он был ее последней надеждой, последним якорем, а теперь и он ускользал от нее. Третья потеря оказалась самой тяжелой. В темноте комнаты Женя с открытыми глазами чувствовала, что подошла к пределу мира и вот-вот низвергнется в вечную ночь.
К утру она решила расстаться с детством. Теперь она станет полагаться только на себя, да на членов своей пионерской дружины. Она порвет связи с семьей, будет общаться только с ровней и никогда больше не заберется к брату в кровать.
Дмитрию исполнилось пятнадцать лет, и он горячо любил мать. Наташа была ему светом в окошке. Без нее мир поблек, стал пустыней, и он не мог сдержаться и плакал по ночам, хотя и беззвучно и часто без слез. Он любил и сестру, но та была еще ребенком и ее беззащитность его пугала. И он ушел в себя, не подпуская к себе никого, даже Женю.
Почти все время, когда Женя не была в школе, она проводила с пионерами. В марте они начали строить детский сад. Вместе с комсомольцами месили бетон, заливали в формы, а когда бетон застывал, укладывали блоки на место. Работа изматывала, требовала полной отдачи сил, а Женя старалась больше других.
Дмитрий отдавал больше сил учебе, хотя и он часто уходил из дома. Женя не спрашивала его, куда, а брат не рассказывал.
Катя беспокоилась за детей и хлопотала над ними, как будто они сами были не способны ничего делать. Это раздражало и брата, и сестру, и они часто грубили тете, но Катя их прощала или не замечала резкостей. Она чувствовала, что ее долг перед Богом заменить им мать. Ее собственные дети, два мальчика, умерли от голода в блокаду, а мужа убили из-за буханки хлеба, которую он под мышкой нес, возвращаясь домой. Кате представлялось, что Бог восстановил справедливость, дав ей мужчину и двоих детей, за которыми она могла ухаживать.
Георгий не обращал внимания ни на нее, ни на детей. Шесть недель он жил в море спиртного, падая с гребней возбуждения в провалы умиротворения и надеясь, что это его захлестнет, но постепенно, еще туманно, начал вспоминать, что он все же был отцом.
Он тепло разговаривал с Женей, когда они встречались, спрашивал, что ее заботит. Большей частью она рассказывала ему о своей пионерской работе и о том, что происходит в школе.
Атмосфера в доме изменилась. Дмитрий был таким же отчужденным, Катя заботливой, но Женя больше не боялась отца. Не напрягалась в его присутствии и чувствовала, как к нему возвращается его прежняя теплота. Он больше не бесновался по ночам и ограничил утреннюю дозу водки одной или двумя стопками. Ровно через два месяца после бегства матери, ветреным вечером 27 марта, Женя, после школы и нескольких часов напряженной работы на стройке в детском саду, возвращалась домой. Замешивая бетон и таская блоки, она вспотела, но на обратном пути пот застыл под одеждой, и она замерзла. Завидев дом, она побежала, уже ощущая на губах привкус горячего чая. Но когда Женя открыла дверь, тетя Катя не бросилась ей навстречу, не погладила заботливо по пропыленным волосам, не поправила растерзанную одежду.
Недоумевая, Женя отправилась ее искать и нашла на кухне. Тетя Катя чистила серебро, принадлежавшее Наташиной маме, — элегантные столовые приборы, изготовленные в Англии. Женя уставилась на нее:
— Она возвращается? Ты чистишь к ее приезду?
Тетя Катя отложила тряпочку.
— Нет, козочка, нет. Сегодня твоя мать домой не вернется, — и она вздохнула.
Женя отвернулась, но любопытство не позволило ей уйти. Когда она снова посмотрела на тетю Катю, та чистила большезубую сервировочную вилку, а ее лицо покрылось красными пятнами, что всегда свидетельствовало о том, что у нее есть новость или слух, которым ей не терпится поделиться. Как будто ее распирало изнутри и кожа еле сдерживала то, что так стремилось вырваться на волю.
— У нас к обеду будет важный гость.
— Гость?
— Именно. Вечером очень важный человек будет ужинать с твоим бедным отцом.
— С отцом? — недоуменно повторила Женя. Большинство людей, которые приходили в их дом, были знакомыми матери. С отцом встречались в основном официальные лица — члены делегаций из Чехословакии, Польши и, до прошлогоднего восстания, из Венгрии. Ничего особенного: тусклые инженеры и скучные чиновники. А в последние два месяца в доме вообще никто не появлялся.
— Кто это? — спросила Женя.
— Догадайся.
— Откуда мне знать, — девочка пожала плечами.
Но тетя Катя слишком любила такую игру, чтобы остановится на этом:
— Угадай хотя бы откуда.
— Из Африки, — слова вырвались у Жени сами собой.
Катя довольно рассмеялась:
— Не из Африки, козочка. Из Америки.
— Не может быть!
— А вот и правда. Из самой Америки! — В возбуждении тетя Катя не забыла приготовить чаю и поставила перед Женей стакан.
— Капиталист или из рабочих?
— Богатый капиталист, не рабочий, — ответила тетя Катя. Обе они знали, что в Америке живут лишь две категории граждан. — Помой волосы, чтобы они заблестели.
Женя несколько раз подула на чай, но так и не пригубила и, сорвавшись с места, побежала в кабинет к отцу. Но его там не оказалось, и она заглянула в спальню.
Георгий сидел перед туалетным столиком. В одной руке он держал щетку для волос из кабаньей щетины, а в другой — зеркальце, в которое изучал лицо. Никогда раньше Женя не видела, чтобы отец смотрелся в зеркало.
Он улыбнулся дочери. На его лице улыбка выглядела гримасой, но Женя улыбнулась в ответ. Отец надел парадный мундир, расчесал волосы и держался очень прямо. Со спины его можно было принять за привлекательного человека.
— Женя, у нас сюрприз!
— Я знаю. Американец. Тетя Катя мне сказала. Это правда?
Георгий кивнул:
— Надень свое лучшее платье. Сегодня вечером ты встретишься с большим другом нашей страны. Бернардом Мерриттом.
— А кто он?
— А ты никогда не слышала имени Бернарда Мерритта? Нет? Он — американский промышленник, но, несмотря на это, друг Советского Союза.
В отце так и сквозила важность, во всем: в движениях, в осанке, в речи, которая вдруг стала более звучной.
— А почему американец приходит сюда? — спросила Женя.
— Повидаться со мной.
— Он что, твой друг? — во всем этом была какая-то будоражащая тайна.
Георгий поднес обрубок пальца к губам:
— У нас с ним дело.
— Дело..? — машинально повторила Женя, рассчитывая, что отец объяснит, и размышляя, чем же занимается отец?
— Конечно, крошка. Для капиталиста дело прежде всего.
— Даже важнее дружбы?
Георгий расправил грудь и развел плечи. «Воображает себя генералом», — подумала Женя, ожидая ответа.
— Беги, одевайся, — проговорил он. — Тетя Катя тебя позовет, когда настанет время спускаться.
Женя наполнила ванну и долгие минуты лежала в успокоительном тепле, потом вспомнила о стакане чая. Слишком поздно, но можно обойтись и без чая. Она сползла еще глубже, и волосы разметались по воде.
Потом намылила волосы, тщательно промыла, старательно вымылась вся — даже между пальцев ног. Выбравшись из ванны, быстрыми движениями полотенца вытерлась и взяла другое, чтобы высушить волосы. В миниатюрной коробочке нашла оставленный матерью тальк — хитроумную иностранную пудру — и посыпала себе под мышками, на груди, на внутренней стороне бедер. Ощутив в ноздрях легкий аромат, Женя на секунду почувствовала себя виноватой: когда она приподнималась с кровати, чтобы перед сном поцеловать мать, она вдыхала этот аромат — такой таинственный, взрослый и очаровывающий, и вместе с тем грустный, потому что, поцеловав дочь, мама уходила, и растворялся и ее аромат, не оставив в комнате и следа.
На своем теле Женя через минуту его уже не ощущала. Может быть, мать пользовалась чем-то еще, кроме талька, или, быть может, это был аромат самой матери, исходивший из глубины пор на ее такой красивой коже. Другие женщины так не пахли.
Есть ли у каждой женщины свой запах? Откуда он берется? Развивается вместе с телом? Если так, думала Женя, то пройдет немало времени, прежде чем она тоже начнет приятно пахнуть. Сейчас ее тело больше походило на доску, чем на женщину: груди такие же плоские, как у Дмитрия, на талию ни намека, никаких волос на теле. А у Веры Ивановой из их дружины были уже и груди и волосы. А у Мариши Александровой — девочки намного ниже Жени — больше года уже были месячные. Евгения не могла взять в толк, почему ей никак не удается превратиться в женщину; другим девочкам это не составляло труда, хотя их матери казались вовсе не такими красивыми.
А теперь, раз ее мама ушла, удастся ли ей вообще когда-нибудь стать женщиной?
Даже нарядное платье не смогло сделать ее более женственной. «Выглядит глупо, — решила она, — как будто я нарядилась кем-то другим». Когда-то платье принадлежало матери, а тетя Катя укоротила его и перешила для нее.
Несмотря на Катины восторги, Женя нервничала, спускаясь по лестнице. Ей предстояло познакомиться с важным человеком, и она хотела бы, чтобы Дмитрий был рядом, а не уже внизу, как сообщила ей тетушка.
Она вошла в гостиную, и навстречу ей поднялся седоватый человек:
— Ты, должно быть, Женя. Какая красивая девочка! — широко улыбнулся он.
Он подошел к ней и взял за руку. Глаза у него оказались небесно-голубыми, как стеклянные шарики, лицо загорелым, белоснежный воротник рубашки так плотно прилегал к шее, что казался отлитым в форме. До сих пор она видела на мужчинах свободные воротники, обычно расстегнутые нараспашку.
На американце был мягкий иссиня-серый костюм. Женя и не представляла, что костюмы могут быть какими-то еще, а не темными. Кожа на руках гладкая, ногти ухоженные — с белыми каемками на кончиках и с полукружием у основания.
— Замечательные теплые глаза, — проговорил он.
Женя не знала, куда смотреть. Его светлые глаза сковывали ее, как на булавке бабочку. Глядеть в них, все равно что в бездонное небо, пытаясь проникнуть за облака. Как-то, лежа на спине, она попробовала это, и смотрела долгие часы, пока не заболели глаза и не закружилась голова. Головокружение она почувствовала и сейчас.
Он все еще разглядывал ее, как будто стараясь сохранить в памяти каждый сантиметр ее лица.
— Это Бернард Мерритт, — услышала она голос отца, произносившего со значимостью имя американца. Женя кивнула, прикусила губу и отчаянно покраснела.
Мужчина положил ей руку на плечо и повел к столу, где только что сидел сам. Жене очень хотелось стать невидимой. Ей нечего было ему сказать. Таких людей она раньше не встречала.
— Ты, должно быть, очень умная девочка, — глаза так же пристально смотрели на нее.
Она кивнула и снова вспыхнула.
— Факт доказанный, — начал он, и его улыбка подсказала Жене, что он подшучивает над ней, хотя слова звучали серьезно, — с такими, как у тебя, волосами женщины предназначены становиться вожаками, — его русский был грамматически безукоризненным, хотя акцент заставлял его звучать по-иностранному. — А как по-русски называется цвет твоих волос?
— Рыжие.
За Женю ответил Дмитрий. Она и не замечала его до этого. Американец покачал головой:
— Золотисто-каштановые, русые, сочно-золотые. «Тишиен», назвал бы я их по-английски.
Губы Жени беззвучно повторили красивое слово.
— Тициан был художником, и его женщины имели, как и ты, золотисто-каштановые волосы и бледную кожу. Он писал в Италии во времена Возрождения.
— А по-русски они зовутся рыжими, — настаивал Дмитрий, и Женя почувствовала враждебность брата.
Но гость не обратил на это внимания:
— Если бы я знал, что у секретаря Сареева есть дети, я бы привез что-нибудь и им, — извинился он перед Женей. — Какую-нибудь безделушку вроде этой, — он достал из кармана и подал Георгию плоскую коробочку.
Внутри лежали наручные часы с золотым браслетом.
— Водонепроницаемые, — сообщил Мерритт.
Дмитрий подошел к стулу отца и взглянул на подарок.
— Показывают время даже под водой. Я уже видел такие.
Женя затаила дыхание. Она чувствовала, что отец вот-вот взорвется, но он сдержал гнев.
— Превосходные, — заметил он Бернарду Мерритту. — Вы оказали мне большую честь, — он подошел к серванту и взял тяжелую серебряную пепельницу. — Пожалуйста, примите этот маленький сувенир в память о приходе в наш дом.
Женя с радостью заметила, что американец внимательно рассматривает пепельницу, вертя ее в руках. Он не глядит на вещи, решила она, он их изучает, понимая все, даже неодушевленные предметы.
Вскоре после этого мужчины отправились к столу обсуждать дела. Дмитрий пожал гостю руку и подчеркнуто вежливо кивнул:
— Познакомиться с вами было для меня большой честью, господин Мерритт, — он употребил слово господин, а не товарищ.
— До встречи, Дмитрий. И ты, Женя, — вместо того, чтобы пожать, он поднес ее руку к лицу и слегка потерся о кожу губами.
Женя была слишком взволнована и даже забыла пожелать доброй ночи отцу, вспомнила об этом, когда уже вышла из комнаты. Она обернулась, помахала в дверь рукой и побежала прочь.
На кухне, где тетя Катя накрыла детям ужин, Женя сердито спросила у Дмитрия:
— Почему ты был с ним так груб?
— Разве? — брат поднял бровь.
— Ты сам знаешь, что был груб. Стыдно! Ты всех поставил в неудобное положение.
— Не мели чепухи, Женя. Ешь-ка лучше свой ужин. Теперь не скоро снова попробуешь барашка.
Она повиновалась. Главным образом потому, что барашек был ее любимым блюдом и в доме это блюдо готовили только по особым случаям. Но после того как дважды прожевала полный рот, спросила Дмитрия снова:
— Так почему ты так себя вел?
— Не суй во все свой нос, Женечка.
— Скажи!
Он отложил в сторону вилку и нож и посмотрел на сестру, потом мимо нее на тетю Катю, и Женя поняла: он не хочет говорить при ней.
— Терпение, сестренка. Скоро ты узнаешь больше, чем тебе хотелось бы знать.
Они кончили ужин в молчании. Злость на брата у Жени так и не прошла. Бернард Мерритт был самым замечательным мужчиной, какого она только встречала. Стоило ему посмотреть на нее, и Женя почувствовала себя безмерно значимой.
Больше всего Бернард Мерритт любил собственность. Долгие годы он приобретал: людей, компании и даже страны или по крайней мере особые в них полномочия. То, что он не мог приобрести, он старался поставить под свой контроль, вынужденный иногда действовать за сценой, натягивая свои нити таким образом, что об их существовании не догадывались даже марионетки. Он был проницателен, тщеславен, обладал интуицией, иногда сентиментален.
Родившись в семье более чем скромного достатка, Бернард начал работать в восемь лет — со старшим мальчиком он чистил ботинки в богатом районе города. Его ангельская внешность — беленькие кудряшки и небесно-голубые глаза — приносила ему большие чаевые, и через пять месяцев он начал управляться один — в собственной будке со своими инициативами. В десять лет он расширил дело и стал продавать шнурки и сапожные кремы.
Во время учебы в средней школе он продолжал работать. На домашние задания времени не хватало, да оно ему и не требовалось: оценки по-прежнему оставались высокими и незадолго до шестнадцатилетия он получил аттестат.
Все его детство было подготовкой к дальнейшей жизни. В семнадцать лет он содержал себя сам, женился, развелся, в двадцать три стал миллионером, а в двадцать шесть открыл международную торговлю. Три года спустя — в 1928-м — Бернард потерял свои миллионы. Временное отступление, и он женится на богатой наследнице — потом у него будет еще две жены — и открывает новое дело. Депрессия в стране возродила его, и сделала величайшим промышленником. Понимая, что суровое время не позволяло людям иметь самого необходимого, он сосредоточился на выпуске дешевых безделушек. Компании Бернарда производили игрушки, рождественские украшения, огромную прибыль приносила косметика. Трюк сработал: как он и предсказывал, женщины, живущие на ренту и едва сводящие концы с концами, находили четверть доллара на новую помаду, чтобы «почувствовать себя на высоте».
Во время войны он занимался машиностроением, снабжая не вовлеченные в боевые действия страны — особенно в Латинской Америке — оборудованием для заводов, специалистами и технологиями. Позже расширил интересы на полезные ископаемые, горнорудное дело и бурение скважин. К концу пятидесятых годов не оставалось ни одной отрасли, в которой Мерритт не попробовал бы себя.
Одной из сторон его любви к обладанию и контролю была склонность к схватке. В прессе Бернарда называли «дальновидным» и даже «пророчествующим». Это означало, что он умел распознать нужды и желания своих клиентов еще до того, как они успели их выразить.
Когда он прочитал доклад Хрущева на XX Съезде КПСС, в котором раскрывались преступления сталинской эры и осуждался культ личности, Бернард понял, что внешняя политика СССР вот-вот изменится. Съезд состоялся в феврале 1956 года. Прошло чуть больше года, но указаний по поводу торговли между Востоком и Западом до сих пор не поступило. Однако тайные прошлогодние визиты Бернарда начали приносить плоды. По мере того как советская политика менялась, он начал вынашивать планы продажи сельскохозяйственных машин. Хрущев отдавал приоритет сельскому хозяйству, и у Бернарда уже был наготове лист товаров. Этим утром он прибыл в Ленинград из Москвы.
— Моя встреча с Председателем продолжалась тридцать пять минут, — сообщил он за ужином. — Я нашел его сообразительным, проницательным и все подмечающим человеком. К тому же он отчаянный борец. Хрущев — замечательный политик.
Георгий Сареев кивнул. Он, конечно, никогда не встречался с Председателем, но он польщен, что тот именно его выбрал для тайных переговоров с Мерриттом. Кажущаяся неофициальность встречи — дома, за ужином, в присутствии детей — служила им хорошим прикрытием. Мерритт приехал в СССР как частное лицо. Администрация Эйзенхауэра в США не склонна пересматривать концепцию «холодной войны» между двумя сверхдержавами, и Конгресс никогда бы не одобрил ни сам визит, ни его цели. Но и советский, и американский лидеры хотели наладить торговые связи со своим бывшим союзником и развивать их в духе взаимовыгоды на основе мирного сосуществования.
— Председатель Хрущев в основном одобрил мой план, — произнес Бернард, пригубив Шато От-Брион 1949 года. Бордо ясно показывало, насколько высоко Георгий ценил своего гостя. Менее значимому он подал бы грузинские вина. — Поэтому нам предстоит обсудить множество деталей.
— Деталей, товарищ Мерритт? Вы имеете в виду формы платежей?
Бернард улыбнулся:
— Еще нескоро Советский Союз сможет получить кредиты. Но у меня возникли одна-две мысли, как нам поступить сегодня.
После ужина они, за коньяком и сигарами, два часа серьезно говорили в гостиной. Каждый из них хорошо понимал свою задачу. Георгий, неофициально представлявший советское министерство торговли, должен был закупить побольше оборудования при минимальных долларовых ресурсах. Бернард, действовавший неофициально от имени США, предлагал условия оплаты, которые должны были увеличить заказ и вместе с тем повысить его престиж в Америке.
К концу вечера оба оказались удовлетворены. Чтобы содействовать балансу в торговле, Бернард предложил продавать на североамериканском и южноамериканском рынке русские матрешки и другие игрушки из России. От себя лично он предложил кредит в двадцать миллионов долларов с необыкновенно выгодными условиями выплаты.
Он мог позволить себе быть щедрым. В добавок к тому, что Бернард рассчитывал продать большую партию сельскохозяйственных машин и оборудования, он получил заверения Георгия, что будет «иметь доступ к предметам культа», иными словами, сможет вывозить из страны ценнейшие иконы.
Георгий чувствовал, что доволен собой: он продавал прошлое ради будущего. Так поступают настоящие коммунисты, и партия вновь поверила в него.
Наверху, на половине Дмитрия, Женя, скрестив ноги, сидела на кровати брата. На ней был шерстяной халат и носки. Она замерзла и хотела бы скользнуть под одеяло, но после той ночи, когда брат отвернулся от нее, дала себе слово, что больше не ляжет рядом с ним. Не ляжет даже в его постель. Дмитрий сидел на стуле у стола по-прежнему в костюме, надетом для встречи Бернарда Марритта. Рукава стали коротки и отвороты брюк поднялись к коленям с тех пор, как он надевал его в последний раз на свое пятнадцатилетие. В костюме брат не выглядел старше, наоборот, еще больше казался мальчишкой. Но у него начали расти усы: настольная лампа высвечивала бесцветную поросль над верхней губой. Женя заметила, как усы двигались, когда он читал ей вслух доклад Хрущева XX Съезду КПСС: «… по инициативе Сталина допускались вопиющие нарушения ленинских норм…»
— Скучно, — запротестовала Женя.
В раздражении он поднял на сестру взгляд, зрачки, как у матери, сошлись в уголках глаз.
— Совсем не скучно, Женя. Очень важно, чтобы ты поняла. Вот сейчас отец ведет переговоры с американцем. Откуда у него такое право?
Женя поймала взгляд брата. Зачем он все это спрашивает? Внизу ершился, здесь занудничает. Она собралась к себе в кровать и вспомнила Бернарда Мерритта. Тот поцеловал ее руку.
— И я не знаю, — признался брат. — Но в последние дни я многое перечитал и передумал. Каким бы образом пост ему ни достался, отец много лет занимает свой пост. Восемь из них — при Сталине. А теперь мы узнали, кем был Сталин.
Женя ждала, потирая пальцы на ногах, чтобы согреть ступни.
— Постараюсь сказать все это попроще. Ты ведь веришь в социализм, Женя?
— Конечно, верю. Не мели чепухи.
— А в партию?
— Конечно.
Дмитрий кивнул:
— Конечно. Партия говорит нам, что Сталин был преступником: бросал в тюрьмы невинных людей, мучил их, убивал. А что в то время делал наш отец?
Женя не ответила. Брат всего лишь школьник, убеждала она себя. Не может он знать столько, сколько воображает, хотя и прочитал много книг.
— Отец всегда работал дома, — напомнила она ему. — Он не связан со всем этим.
— Второе предположение не проходит, — заметил Дмитрий раздражающе высокомерным тоном. — Мы совсем не знаем, какую он выполняет работу. Знаем только, что служит в министерстве торговли. И что же это означает? Да что угодно. Он может быть даже шпионом.
— Не сходи с ума! — Женя распрямила скрещенные ноги и свесила их с кровати.
— Пока не схожу. Может быть, все это и не так. Но я хочу знать одно, как он умудрился сохранить свою должность, несмотря на перемены в руководстве. Я читал несколько статей и знаю — люди, стоявшие у власти при Сталине, исчезли. Вероятно, умерли. Вспомни, хотя бы, Берию.
— А кто он такой?
— Женя, тебе пора больше интересоваться политикой. Берия возглавлял секретную службу безопасности и являлся предполагаемым преемником Сталина. Четыре года назад он стоял у одра Великого Кормчего. А что же сталось с ним потом? После того как умер Сталин, его объявили агентом мирового империализма и через шесть месяцев расстреляли.
— А зачем ты мне обо всем этом рассказываешь?
— Чтобы ты смогла увидеть отца таким, каков он есть, — он взял со стола газету и принялся снова читать: «… были совершены чудовищные преступления…» Чудовище служило чудовищу!
— Не говори так!
— Может быть, у матери были веские причины, чтобы уйти.
— Нет! Ты все сочиняешь! Не хочу с тобой разговаривать! — Женя была уже у двери, когда брат догнал ее, прижал к себе. Он весь дрожал.
— Прости, Женечка, прости, — тихо произнес он. — Я не знаю, почему она ушла. Но я хочу ее понять и простить.
— Зачем? Другие матери не оставляют детей. Я бы никогда не оставила своих.
Он погладил сестру по волосам:
— Я ее люблю.
— Но она предала нас.
— Я ее люблю, — повторил Дмитрий, и его голос прервался. — И я узнаю, почему она ушла. Я уверен, — из-за него. Какая женщина сможет жить с таким, как он. С чудовищем, — он отпустил сестру.
Женя задумалась над словами брата. Кожа отца лохмотьями свисала с лица, на месте носа — дыра, пальцы, как уродливые корешки. Она содрогнулась от собственной непочтительности.
— Он стал героем, — запинаясь пробормотала она. — А до того был красивым.
— Не помню, — отрезал Дмитрий. Ему исполнилось три года, когда родилась Женя. — Совсем его не помню, когда был маленьким. Только мать. И дедушку. Мы втроем жили в Эрмитаже, куда нас поселили, после того как разбомбило дедушкин дом. Дедушка умер от истощения. Мама говорила, что он меня сильно любил.
Женя почувствовала себя заброшенной. Ей часто приходилось ощущать себя «лишним» ребенком. Дмитрий и Наташа подходили друг другу. Они были похожи, понимали, что думает другой. Даже когда Женя была с ними, мать и сын как будто оставались на отдельном острове.
Наверное, это естественно, думала Женя. Матери больше любят сыновей, а отцы — дочерей. Сама она была папиной любимицей, но от этого не чувствовала себя менее забытой.
— Мама стала актрисой в дедушкином театре, когда ей исполнилось шестнадцать. Лишь на год старше, чем мне теперь, — задумчиво продолжал Дмитрий. — Интересно, как она тогда выглядела?
— Наверное, как ты, — расстроенно ответила Женя.
Волосы матери, должно быть, были такими же светлыми, как у него, и лишь с годами потемнели до цвета сияющей охры. По сравнению с матерью Женя казалась простушкой. Рыжие волосы некрасивы, щеки не в меру пухлые. Несколько часов назад под взглядом голубых глаз Бернарда Мерритта ей показалось, что она красива. Но если бы рядом была мать, Бернард даже не заметил бы Женю.
В дверь постучали, и вслед за этим вошла тетя Катя. Она выглядела раздраженной. Обычно к этому времени она давно спала, но сегодня только что закончила мыть посуду и расставлять тарелки к завтраку.
— Как? До сих пор одеты? Дмитрий Георгиевич, подумай о сестре! Она, бедняжка, утром на ноги не встанет! — и взяв Женю за руку, повела в кровать.
Немного поворчав, тетя Катя задержалась и присела у кровати. Вечер был необычным. Она видела, как возбуждена Женя: глаза сияют и в них совсем нет сна, — и решила посидеть немного на случай, если Женя захочет с ней чем-нибудь поделиться. Достала шитье из глубокого кармана передника — она ненавидела прохлаждаться без дела, и Женя заметила иголку, ритмично протягивавшую нитку в материал.
— Что ты шьешь? — спросила она.
Тетя Катя подняла шитье, и Женя узнала старую куклу с тряпичным лицом, которую маленькой называла «Ша-ша». Она давно уже о ней забыла.
— Я нашла ее в шкафу с вещами матери, — объяснила тетя Катя. — И вспомнила, как ты любила с ней играть, — тряпичное лицо было разорвано и испачкано, со щеки свисал клок материи. — Посмотри, как ты плохо обходилась с бедняжкой.
Женя протянула руку и взяла куклу, с минуту изучала лицо, аккуратный шов там, где тетя Катя начала ее чинить.
— Неужели никто не может вот так же починить лицо живого человека? — высказала она свои мысли вслух. — Человека с изуродованным лицом?
— Все в руках Спасителя, ангелочек, — вздохнула тетя Катя.
— А я надеялась на что-нибудь более практичное, — сухо ответила Женя и отдала куклу.
Георгий Сареев налил еще по одной стопке коньяку и, подняв свою, провозгласил:
— За наше соглашение! За советско-американскую дружбу!
— За мир! — добавил Бернард Мерритт, поднимая стопку так же высоко, как и хозяин.
Мужчины выпили.
— Теперь зовите меня Георгий Михайлович.
— А вы меня Бернард.
Они чокнулись и выпили снова.
— Я рад, что сегодня познакомился с вами, — произнес Бернард. — Последнее время я стал интересоваться вами.
— Почему?
— Ваше имя часто всплывало в связи с решениями по торговле, — улыбнулся гость. — Но никто из тех, кто рассказывал мне о вас, не встречался с вами. Странным казалось и то… ну, что вы не в Москве.
Георгий прижал стопку к щеке:
— Теперь вы знаете. Я не гожусь для разглядывания.
— Я слышал о вашем героизме во время блокады.
— В самом деле? — голос Георгия прозвучал недовольно.
— Нацисты вас жестоко пытали, — тихо проговорил Бернард.
— Да. Оружие им не потребовалось. Прекрасно подошел лед. Они прижимали к нему мое лицо, пока я не отморозил кожу, пока кожа и лед не стали одним монолитом. А потом они оторвали лицо ото льда.
Бернард рассматривал янтарную жидкость в стопке:
— Вы знаете Семена Гроллинина?
— Из Политбюро? Да.
— Я слышал, он тоже пострадал во время блокады.
— Пострадал.
— И перенес пластическую операцию.
— Говорят.
— Целую серию операций. На Западе.
Георгий заговорил, сначала очень медленно, словно вытягивая нить из перепутанного клубка:
— Долгие месяцы я возил провиант и был среди льда. Я знал, как позаботиться о себе. Когда меня схватили, силы меня еще не оставили и я сопротивлялся. Я не сказал проклятым фашистам ни слова, — он выбросил вперед руки, показывая их Бернарду. — Посмотрите! До войны я работал машинистом. Они отрубили мне пальцы один за другим. Но я ни разу не крикнул. Ни разу. Не позволил им увидеть, как мне больно. Я знал, то что они делают с моей родиной, гораздо хуже. Они убивали мой город, морили голодом, мучили, издевались над Ленинградом. Более миллиона из нас погибли, Бернард, — его голос дрогнул.
Американец неотрывно смотрел собеседнику в лицо и внимательно слушал. Георгий набрал полные легкие воздуха и продолжал:
— Мертвецам повезло. Живым пришлось выносить непереносимое. Дети мучились и умирали на наших глазах. Вода пропиталась ядом от разлагающихся трупов. Мы превратились в каннибалов — мы поедали наших мертвых. Вот что они с нами сделали — превратили нас в зверей.
Он надолго замолчал, уставясь в какую-то точку на ковре, и Бернард произнес:
— Кажется, вы хотите все это забыть и навсегда похоронить прошлое?
— Никогда! — Георгий резко вскинул голову и уперся взглядом в глаза Бернарда. — Неужели вы не понимаете? Я часть прошлого. Я принадлежу ему. Они сделали меня таким… каков я сегодня. Они в конечном счете украли мою жену. Они — самозваная нация господ. Ни одного из них нельзя назвать человеком. Они лишили меня всего, кроме ненависти — и я ношу ее на лице.
Через несколько минут Бернард поднялся. Георгий проводил его до дверей. На пороге они пожали друг другу руки. Американец заключил ладонь хозяина в обе свои, закрепляя сложившуюся между ними связь.
3
Скрестя ноги на шерстяном узбекском ковре, Женя прервала вышивку и взглянула на огонь. Языки пламени обрамляла сочная оранжевая каемка, а середина была наполнена желтым. Ни на мгновение не успокаивающийся огонь обладал душой в отличие от льда, который до сих пор мертвящей хваткой держал Неву.
Пламя и лед были противоположностями, как жизнь и смерть, мать и отец. Мама вся искрилась. Пальцы, мечущиеся по клавишам пианино или в танце домашней работы, ни на секунду не замирали, щеки, как Женины, розовели. Она носила яркие цвета и нити бусин, ловивших свет и превращавших его в миниатюрные радуги на фоне гладкой кожи.
Шаги приближались к гостиной, и Женя быстро спрятала под себя работу. Ярко-зеленой шерстью она вязала шапочку для тети Кати. И хотя было воскресенье, когда тетушка обычно ускользала в церковь, думая, что никто не подозревает, куда она идет, Женя не хотела рисковать, чтобы не испортить сюрприз.
Но шаги были тяжелыми, неровными. Женя отвернулась от огня и посмотрела на вошедшего отца. И вдруг содрогнулась от старого воспоминания. Проснувшись ночью — это было до того, как поставили перегородку и кровати детей находились рядом, но в тот раз кровать Дмитрия пустовала. — Женя расплакалась от приснившегося кошмара. Одеяла упали на пол, и она решила, что замерзнет. Пока она плакала, отворилась дверь и над ней склонился отец. Тусклый свет из коридора упал на его лицо, безжизненное, как восковой шар, вышел из комнаты.
— Над чем это ты сидишь, моя красавица? — он опустился рядом на корточки.
— Для тети Кати, — показала она.
Он едва взглянул на кружочек шерсти, расходящейся спиралью от кольца в середине:
— Я должен тебе кое-что сказать.
Она откинулась назад, напуганная его тоном.
— Твоя мать арестована.
Девочка повернулась к огню. Языки пламени множились, взлетая в воздух.
— Вместе с актером?
— Нет. Без него. В донесении сказано, что ее взяли ночью, оторвав от любовника.
— А что она сделала? За что ее арестовали? — она думала о Наташе, как будто та уехала очень далеко, вон из Ленинграда, даже из России. И теперь было странно сознавать, что все это время она жила где-то рядом.
— Она под подозрением. Это все, что я знаю, — что-то в голосе отца заставило Женю поднять на него глаза. Нотка удовлетворения? — Суд состоится в ближайшие недели. Во имя прошлого сделаю все, что могу, чтобы помочь ей.
Но Женя не поверила, что отец ей поможет. Неужели она была повинна в таком ужасном преступлении, что была вынуждена так быстро бежать, что не хватило времени даже для короткой записки?
— Может быть, мне придется попросить Дмитрия и тебя пойти со мной на заседание суда. Тебе почти тринадцать, и суд может пожелать выслушать тебя.
— А что я скажу? Я ничего не знаю.
— Она — твоя мать. Ты можешь рассказать суду, какой она была тебе матерью. О ее характере и тому подобном.
— Когда?
— Когда настанет время, — он встал и посмотрел на дочь сверху вниз. В отсветах пламени ее волосы сверкали. Георгий положил ей руку на голову и почувствовал, как она сжалась. — Увидимся за ужином, — печально произнес он.
Женя неотрывно глядела на огонь. Скоро вернется Дмитрий и поможет ей справиться с новостью. С тех пор, как он объяснил ей, какую должность занимает отец и какая секретность его окружает, она стала осторожней. Такой важный человек наверняка выяснит все о причинах ареста жены.
Она ненавидела себя за то, что сомневалась в отце, злилась на брата, заронившего в нее подозрение. Дмитрий всегда противился отцу, особенно после яростной прошлогодней стычки, когда в пятнадцать лет отказался вступать в комсомол. Георгий приказывал, говорил, что он, мальчишка, не имеет права решать, но Дмитрий твердо стоял на своем, заявив, что если его вынудят вступить, он не станет посещать собраний.
— Быть хорошим коммунистом — не значит плестись в общем стаде, — тогда его слова показались Женя значимыми и философскими.
Мать защищала сына, настаивая на том, что пятнадцатилетние подростки имеют право на собственное мнение. Если решение подростка окажется ошибочным, у него хватит времени, чтобы все исправить.
Но Георгий не слушал. В уголке его рта вспенилась слюна, он обвинил Дмитрия в предательстве и даже ударил по лицу.
Дмитрий побелел, и хотя Георгий позже, тем же днем, попросил у него прощения, Женя знала, что брат никогда не простит отца.
Георгием быстро овладевал гнев, он взрывался, был подвержен изменениям настроения, но Женя ему верила. Так почему же теперь казалось, что он знает больше, чем ей говорит? Отчего у нее такое чувство, что он что-то скрывает?
Женя снова взялась за шапочку, но вокруг кольца упустила ряд петель и начала снова, сбилась со счета, распустила шерсть, опять принялась за кольцевой ряд, но в расстройстве стянула все петли и бросила пряжу, которая, запутавшись, осталась лежать подобно зеленым внутренностям.
Поставив перед огнем экран, она надела пальто и отправилась в гости к Вере. Вместе они просматривали альбомы сушеных цветов и фотографий, рисунки птиц и лошадей. Вера страстно собирала все, что считала «настоящим и красивым»: цветы, перья и даже камни определенной формы. Любимой вещью Веры был кусок заржавевшего автомобильного бампера — в разводах коррозии она видела замысловатые переплетения линий и цветов. Вера мечтала стать космонавтом одним взглядом охватить Землю — светлый голубой шар; такой она ее представляла.
Отец Веры, Иван Мальчиков, работал мастером на фабрике, а мать — Елена — инженером на стройке. Они были легкие в общении люди и всегда тепло встречали Женю, особенно после того, как от нее ушла мать.
С тех пор как однажды Вера побывала в доме Сараевых, Женя больше не приглашала подругу к себе. Тогда, встретившись с отцом в коридоре, Вера застыла, как вкопанная, как будто не могла решить, с чем это таким она встретилась. Теперь они собирались всегда у Мальчиковых.
Женя была на полдороге к подруге, вдруг вспомнив, что никому не сообщила, куда идет. Тетя Катя придет из церкви и станет ее искать. Отец забеспокоится. Она замедлила шаги, размышляя, повернуть или не повернуть домой, и заметила дальше на улице волнение: люди спешили присоединиться к толпе, собравшейся вокруг чего-то, что показалось Жене телегой, впряженной в лошадь. Она тоже бросилась туда.
Подойдя ближе, увидела: пар от дыхания лошадей, кучер размахивал руками и кричал, люди, подавшись вперед, рассматривали что-то в центре круга на земле.
Женя пробралась сквозь толпу.
Он лежал посреди улицы с закрытыми глазами в темно-сером костюме; правый рукав был разорван в клочья.
Женя вскрикнула и опустилась на колени. Дмитрий открыл глаза. Его кожа посерела, лицо исказила гримаса боли.
— Нога, — простонал он, и Женя взглянула туда, где из правой штанины на камни мостовой натекла лужица крови.
Две женщины подбежали к ним. Одна склонилась над Дмитрием и ножом принялась разрезать брюки. Она походила на врача и приказала толпе податься назад. На Женю она не обратила никакого внимания и стала осматривать ногу от бедра к колену. Когда дошла до лодыжки, Дмитрий вскрикнул.
Врач нахмурилась:
— Ступня, — пробормотала она и попыталась снять ботинок. Но Дмитрий закричал, как только она притронулась. Он тяжело дышал, губы двигались, как будто он хотел что-то объяснить, но мог выговорить только: «Пожалуйста, не надо».
Врач встала с колен:
— У него раздроблена ступня, — сказала она второй женщине. — Нужны носилки.
Женя заметила, что правый ботинок брата сильно пострадал и был повернут к ноге под необычным углом.
Она сдернула с себя кофту, свернула из нее подушку и осторожно подложила под голову брата.
— Не надо. Замерзнешь, — попробовал улыбнуться он.
— Ничего, — она не ощущала холода, только бессилие.
Кто-то поднес к губам Дмитрия фляжку, и он отхлебнул водки. Потом подошли мужчины с носилками и осторожно переложили брата на них. Он сжал губы и не проронил ни звука, но пот заливал его лицо.
Один мужчина подал Жене кофту. Она надела и пошла за ними, почти целый километр, к больнице. Неотрывно глядя на брата, она видела, как каждое сотрясение носилок отражалось на его лице, и ощущала боль в себе самой.
В больнице Женя узнала, что Дмитрий возвращался домой с футбола и переходил дорогу перед телегой. В это время из-под копыт у лошадей взлетела большая птица и те метнулись в сторону. Дмитрий ухватился за поводья ближайшей к нему лошади, но упал. Вожжи намотались на запястье, и его потащило, нога попала под колесо телеги, которое разможжило ступню.
Большой палец оторвало, много костей раздробило, сообщила Жене сестра. Его тотчас же отправят на операцию, но надежды мало, что удастся восстановить стопу. Скорее всего, Дмитрий навсегда останется хромым.
Несколько дней спустя, Дмитрий был все еще в больнице, к ним к обеду снова пришел Бернард Мерритт. В приготовлении угощения тетя Катя превзошла саму себя. В честь почетного гостя она испекла удивительные пирожки с мясом, такой величины, что можно было целиком положить в рот. Пирожки подавались к супу. Обычно Женя съедала таких пирожков за раз больше десятка, но в этот день даже на них у нее не было аппетита. Она едва прикоснулась к первому, проглотив лишь несколько ложек дымящихся щей из свежей капусты, сваренных по рецепту бабушки.
Ей было неловко сидеть между отцом в его неуклюжем костюме и Бернардом, чей отлично сшитый пиджак был лишь ненамного темнее его кожи.
Бернард Мерритт опять так же странно смотрел на нее: пристально, впитывая ее своими небесно-голубыми глазами.
Женя не сомневалась, что он читал ее мысли и мог заглянуть еще глубже, в самую душу.
Она уперлась взглядом в скатерть.
Хотя Женя и не верила в Бога, знала, что все, даже животные, имеют душу. Душа Дмитрия походила на молодую зеленую веточку, гибкую и растущую. Душа отца напоминала Неву — тихая поверхность скрывала бурные потоки. А у Бернарда Мерритта? Она искоса посмотрела на него и попыталась представить, какая у него душа. Но сумела разглядеть лишь светло-голубые глаза с прожилками, как у мрамора. Может быть, американская душа отличается от русской?
Заметив застенчивость Жени, Мерритт попытался ее растормошить, расспрашивая о несчастном случае, приключившемся с Дмитрием. Ее скромность была своеобразным вызовом, и Бернард был намерен его принять.
Через несколько минут она уже говорила свободно и с воодушевлением. Когда принесли основное блюдо — пожарские котлеты в терпком грибном соусе — она с таким энтузиазмом набросилась на еду, что американец широко улыбнулся. Он не привык общаться с детьми, но ее раскованность и импульсивность доставляли ему удовольствие.
Он заметил, что детство Жени кончается и скоро она превратится в девушку. Дочка Сареева вырастет ослепительной, подумал он. Суждено ли с ней встретиться, когда она станет женщиной? Перестановки в партийном руководстве могли лишить ее отца влияния, даже погубить его карьеру. Бернард знал достаточно о многочисленных изменениях «генерального курса» в СССР за последние тридцать пять лет, чтобы убедиться в том, что ни один советский пост не был достаточно надежен.
— Так тебе сказали, нет никакой надежды на восстановление стопы? — повторил он.
Женя кивнула.
— Вы принимаете этот прогноз? — повернулся американец к Георгию.
Тот пожал плечами.
— Доктора сделали все, что смогли. Скверный несчастный случай: множественные переломы, кости раздроблены, нервы и мышцы повреждены. И большой палец — он уже не прирастет.
— Но мы должны поговорить с врачами. Узнать, что можно сделать сейчас или в будущем.
Георгий уставился в тарелку и нахмурился. Женя не сводила с Бернарда глаз, чувствуя, что он сделал бы все, как надо, одним усилием воли заставил бы Дмитрия снова ходить.
Обожание, написанное на лице девочки, подхлестнуло Бернарда:
— Георгий Михайлович, нужно выяснить все возможности. Мальчику только пятнадцать, он еще растет. Нельзя упускать ни одного шанса. Я назначу встречу с врачами…
— Я могу сделать это сам, — холодно заметил Георгий.
— Так сделай это! — попросила Женя.
— В этом нет необходимости, — напомнил ей отец. — В рабочее время к нашим врачам можно всегда попасть.
— Тогда решено, — откликнулся Бернард. — Завтра же идем туда.
Георгий посмотрел на него, уже раскрыл рот, но тут же рассерженно плотно сжал губы и махнул Кате, которая было собиралась принести ему добавки.
Бернард тоже отказался от котлет, и пока тетя Катя меняла блюда на тарелки для десерта, на секунду, извинившись, вышел и тут же вернулся с пакетом, завернутым в блестящую, розовую с белыми полосками, бумагу, — для Жени.
Пакет был таким красивым, что его казалось страшным открывать. Женя аккуратно сняла розовую ленточку и отложила в сторону, чтобы носить потом в волосах, развернула бумагу. Внутри оказались четыре плоских бело-розовых коробочки. В каждой лежали три пары одинаковых нейлоновых чулок: в первой — оттенка светлого меда, в каждой последующей все темнее и темнее. Бернард достал одну пару и приложил к ладони, чтобы показать, как они выглядят на фоне кожи.
Женя сделала то же самое и заметила, что на ее руке оттенок оказался иным: нейлон как будто припудривал кожу, делал гладкой и загорелой. Такая изысканная вещь для взрослой женщины.
— Тебе они нравятся?
— Красивые, — она порывисто поцеловала Бернарда в щеку, не заметив, как вздрогнул отец от такого проявления любви к незнакомцу, а не к нему.
Следующим днем Женя, как обычно, пошла из школы прямо в больницу. В мужской палате к кровати брата она пробиралась, затаив дыхание, опасаясь, что на нее, здоровую, молодую девушку, больные и раненые мужчины могут посмотреть с укором. Некоторые следом выкрикивали:
— Эй, цветочек! Подойди, дай мне тебя понюхать.
Но она, не задерживаясь, направилась к Дмитрию.
— Уж лучше бы тебе позволили лежать дома, — поцеловала она брата. — Я бы за тобой сама ухаживала.
— Женечка, — хмуро приветствовал он ее, откатываясь на край кровати, чтобы дать место сесть. Она опасалась, как бы, устраиваясь, не причинить ему боли. Брат был слишком отважным и не сказал бы об этом вслух, но временами она видела, как боль искажала его лицо, и пугалась.
— Садись, садись, — настаивал он, похлопывая рукой по одеялу.
Она осторожно усаживалась на кровать.
— Что-нибудь слышно об аресте? — спрашивал брат.
— Ничего.
— Слушание еще не назначено?
— Нет. По крайней мере, я не слышала.
— Сукин сын, — еле слышно бормотал он. — Я уверен, что за всем этим стоит отец.
— Ты все воображаешь! Тебе хочется думать, что она невинна и совершенна. А на самом деле она убежала-то, может быть, потому, что совершила преступление и боялась, что отец это обнаружит.
— Не будь наивным ребенком, — кричал Дмитрий, приподнимаясь с кровати, но боль укладывала его обратно на подушку. — Ты что, забыла? Нет, это ты все воображаешь. Тебе так хочется его выгородить, что ты ни о чем уже не помнишь. Представь себе ее. Подумай! Разве могла такая женщина совершить преступление?
— Она сбежала. Сбежала с другим мужчиной и даже не оставила записки.
— Я и в это не верю.
— Ты ни во что не веришь, хотя все это у тебя прямо под носом.
— Напротив, дорогая сестренка, — он произнес это ледяным тоном, — это ты не хочешь ничего замечать. Я уверен, она оставила для нас письмо. Она всегда так делала, когда уходила из дома. Не в ее характере было уйти, не передав нам ни единого слова.
— Тогда где же оно?
— Спроси у него.
— Ты хочешь сказать, он уничтожил письмо?
— Да. И еще я хочу сказать, что он был среди тех, кто ее арестовывал.
— Твоя нога сводит тебя с ума. Он собирается ее защищать. Он сам мне сказал, что поможет ей во имя прошлого. И просил меня и тебя пойти вместе с ним, — Женя чуть не плакала и говорила все настойчивее и настойчивее, стараясь заглушить сомнения в себе самой.
Дмитрий не ответил, лишь повернул к ней свою белокурую голову. И тогда она взмолилась:
— Скажи, он ведь… он этого не сделал. Он не мог так поступить. Зачем ему уничтожать письмо. Ну, скажи!
— Сексуальная ревность, — ответил Дмитрий, потерявший невинность восемь месяцев назад, на следующий день после стычки с отцом.
Женя попыталась осмыслить слова брата.
— В этом нет никакой логики. Зачем ему арестовывать жену, чтобы потом помогать. Зачем уничтожать письмо, оставленное для других.
Он твердо посмотрел на сестру:
— Ну как ты не понимаешь? Наталья Леонова была… нет, и сейчас красивая женщина. Талантливая актриса. Женщина, полная любви. Ничего этого в нем нет и никогда не будет. Его душа такая же уродливая, как и лицо. В ней может произрасти только ненависть.
Женю поразила страстность брата:
— Но он нас любит, — запротестовала она.
— Тебя, может быть. А меня — ненавидит. И боится…
— Ты все выдумываешь!
— Боится! Знает, что вижу его насквозь и могу заглянуть в черную дыру, которая у него вместо сердца.
Он так увлекся разговором, что, в отличие от Жени, не заметил двух мужчин, проходивших мимо сиделки: седовласого иностранца в безукоризненном костюме и рядом тяжело ступающего калеку.
Женя почувствовала, как взгляды больных сопровождали вошедших.
Дмитрий же заметил их, когда посетители оказались у ног кровати, и сжался, потом распрямился, губы сложились в саркастическую улыбку.
— Мистер Мерритт! Какая честь. Извините, что не могу встать, чтобы вас приветствовать.
Женя поднялась и подошла к мужчинам. Бернард улыбнулся ей, а Дмитрия спросил:
— Как ты себя чувствуешь?
— Как всегда, прекрасно. А вы?
— Это он разыгрывает из себя мужчину. Не обращайте внимания, — предупредил Георгий.
Американец перевел взгляд с сына на отца и почувствовал вражду между ними. Сам он ушел из дома от отца, когда ему было примерно столько, сколько сейчас Дмитрию. Юноша в его возрасте может о себе позаботиться. Но сломанная нога — паршивое невезение.
— Что говорят врачи? — спросил он у мальчика.
— Что, когда я пойду, у меня будет неважная походка.
— А они не упоминали о возможности восстановительной хирургии? Может, не сейчас, а позже?
Дмитрий в изнеможении откинулся на подушку. Женя разрывалась между ними: она мечтала, чтобы Бернард помог, но видела, брат хочет остаться один.
— Нет, — твердо ответил он. — Об этом они не упоминали. Мы не на Западе, мистер Мерритт.
— При чем здесь это, — сердито перебил его Георгий. — Запад не больше развит, чем мы. Видите ли, — повернулся он к американцу, — у наших врачей и хирургов есть опыт войны. Они приобрели его на полях сражений под огнем. Наша страна — технологическая держава с хорошо развитой наукой, и советские врачи не уступят никому.
Дмитрий посмотрел на отца, открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но промолчал. На его губах играла чуть заметная улыбка.
Дежурная врач подошла к кровати и подняла на посетителей глаза, давая понять, что пора уходить.
— Товарищ врач, — начал Бернард.
— Да? — блондинка холодно смотрела на него. В его безошибочно угаданной иностранной внешности и акценте она разглядела вызов своему авторитету.
— Когда вы кончите работать, я хотел бы поговорить с вами. Об этом мальчике…
— Вы его отец?
— Нет.
— Если отец мальчика захочет поговорить со мной, я буду свободна чуть позже. А сейчас позвольте мне осмотреть больного, — и она взялась за запястье Дмитрия, повернувшись спиной к мужчинам.
Женя вышла вместе с ними из палаты, озадаченная грубостью врача. И Георгий, играющий роль хозяина в своей стране, чувствовал себя неудобно.
— Она выполняет инструкцию, — оправдывался он. — Сотрудники больницы не имеют права разговаривать с посторонними.
Бернард проглотил обиду. Она была не велика, приходилось мириться и с большими.
— Ясно. Вы с ней поговорите?
— Да, — пообещал Георгий. Через несколько минут он с Женей пошел в ординаторскую, а Бернард отправился в палату Дмитрия — он хотел поговорить с мальчиком наедине. Американцу было необходимо знать все о Георгии Сарееве.
Хотя Георгий сообщил ему, что их план в основном принят советским руководством, на пути реальной торговли стояло еще множество препятствий. Бернард так еще и не разобрался, кто он: марионетка, выполняющая распоряжения свыше, или политик, стремящийся уберечь себя от критики.
Промышленник заметил и принял к сведению холодность Дмитрия к отцу. Мальчик, вероятно, кое-что сможет рассказать, что поможет Бернарду в переговорах. Например, прояснить дело с матерью — женой Георгия. Американец знал, что она — еврейка, арестована и вот-вот предстанет перед судом по весьма туманному обвинению. Что это — всплеск антисемитизма в Советском Союзе? Если так, то не повлияет ли этот всплеск на будущее Георгия Михайловича и его способность вести переговоры?
Глядя на Дмитрия, миловидного мальчика с голубыми глазами, нельзя было предположить, что он наполовину еврей. Без всяких предисловий Бернард спросил:
— Так что ты думаешь об аресте матери?
Дмитрий пожал плечами.
— Это ошибка? — Мерритт сознавал, что, возвышаясь над кроватью юноши, рядом с которой не было стульев, он походил на инквизитора, вопрошающего с помоста.
— Может быть, — осторожно заметил Дмитрий.
— А твоей матери поможет, если материалы слушания появятся в прессе? Просочатся на Запад?
— Все что мы делаем в нашей стране — это наше дело, мистер Мерритт. Если делаем ошибки, то сами их и исправляем, — он говорил словами матери, которые часто слышал во время ее споров с Георгием. У него не было оснований верить американцу.
Бернард изменил направление вопросов:
— Когда ты сможешь выписаться? — спросил он.
— Не знаю. Может быть, через неделю или две.
— И что тогда?
— Четыре месяца с костылями. А когда смогу обходиться без них, — мальчик выдавил усмешку, — буду хромать.
— Может быть, я смогу помочь. За годы сотрудничества с вашей страной я приобрел здесь много друзей, которые не откажут мне в услуге…
— Мистер Мерритт, — перебил его Дмитрий. — Я советский гражданин и особые привилегии мне не нужны. Здесь, в палате, я лежу с другими людьми: рабочими, как и я, студентами, служащими. У вас в стране вы находились бы в отдельной палате, любые специалисты были бы к вашим услугам, — он моргнул, и волна боли прошла по его лицу. — Привилегии означают власть. Капитализм служит личным интересам. Спасибо за ваше предложение, мистер Мерритт, но оно не для меня.
Бернард почувствовал вспышку гнева, но протянул руку, и Дмитрий принял ее, гордо глядя на американца. Совсем как отец, подумал промышленник.
Дмитрий находился еще в больнице, когда в середине апреля состоялся суд.
Как и просил отец, Женя надела пионерскую форму с белыми гольфами. У нее мелькнула мысль о нейлоновых чулках, но она тут же отбросила ее, поняв, насколько они неуместны. Тетя Катя, словно маленькой девочке, расчесала Жене волосы и, расплакавшись, заплела косы.
Георгий надел военный мундир. Когда они входили в зал суда, чей-то голос объявил: «Секретарь Георгий Михайлович Сареев». Женя увидела, что судья надела очки в металлической оправе и сквозь них посмотрела на вошедшего. Как и у многих других, кто видел отца впервые, на ее лице появилось озадаченное выражение.
Очень прямо Женя села на скамью. Рядом, развернув плечи и сцепив руки, сидел отец. Она чувствовала кисловатый запах его пота, от которого ее слегка мутило. Несмотря на свитер, ей было холодно. Помещение выглядело серым и настолько большим, что даже вместе с публикой казалось пустым, как мавзолей.
Она подалась вперед, чтобы не ощущать запаха. Прокурор стоял рядом с судьей и, сильно жестикулируя, произносил обвинение. Но Женя не понимала ни единого слова: сплошные термины, представлявшиеся Жене сплошной чепухой, потоком лились из его уст в то время, как он чертил руками в воздухе огромные полукружия, подчеркивая значимость обвинения.
Она не могла себе представить, была не готова поверить, что мать здесь появится. Эта драма была не для Наташи. Дома Наташа декламировала длинные отрывки из Чехова и Горького и заставляла небольшую аудиторию смеяться и усмехаться, несмотря на грустное содержание пьес.
— Введите Наталью Леонову-Сарееву, обвиняемую.
Конвоир ввел мать в зал, потом позволил одной пройти к скамье подсудимых. Она шла мелкими шажками, как будто ее ноги были скованы цепью.
Женя видела, как она ухватилась за ограждение и выпрямилась, моргнула и посмотрела в зал.
Заглушая остальные звуки, в ушах Жени стучала кровь. Женя неотрывно смотрела на мать: голубые глаза, обрамленные темными ресницами, белоснежная кожа. Мать выглядела невероятно хрупкой и красивой.
— И состоит в заговоре, направленном на подрыв социалистического государства…
Женя не сводила с матери глаз, но зрение затуманилось, хотя перед ней было лицо, знакомое всю жизнь. В последние месяцы Женя старалась стереть это лицо в своей памяти. Но вот мать, непереносимо близкая, стояла перед ней на небольшом возвышении. Жене хотелось подбежать к ней, умолять вернуться домой… Она почувствовала, как отец положил ей руку на колено и устыдилась своих чувств. Никогда в жизни она больше не хотела видеть мать.
Фигура на возвышении гипнотизировала Женю, оказываясь в фокусе, и вновь уходя в нерезкость. Мужской голос затухал и взвивался на высокие ноты.
— Мы располагаем бесчисленными свидетельскими показаниями и подписанными заявлениями против вас. Вас обвиняют в уклонизме и моральном разложении. В космополитизме.
— Вы — предатель, Наталья Леонова. Это хуже, чем воровство, намного извращеннее, чем убийство.
Вор хватает то, что принадлежит другим, но только их собственность. Пренебрегая принципами марксизма-ленинизма, вы крадете у людей веру. Веру в нашу семью, в Союз Советских Социалистических Республик. Вы убиваете надежду на будущее.
Обвинитель закончил речь. Судья спросила, не хочет ли кто-нибудь выступить из зала. Никто не ответил. Тогда она вызвала товарища Сареева:
— Есть ли у вас что-нибудь добавить, как у мужа обвиняемой, что могло бы повлиять на решение суда?
Не глядя в сторону жены, Георгий Михайлович медленно поднялся.
— Товарищ судья, я сделал бы все, чтобы ей помочь. Во имя наших детей. Вот маленькая девочка, — он повел рукой в сторону Жени, — наша дочь. Она нуждается в матери. Но мать оставила ее и брата, чтобы влиться в общество беспутных людей.
Думаю, дети еще не успели разложиться. В их интересах и, храня верность партии и стране, я должен положиться на решение суда. Если обвиняемую найдут виновной, ее необходимо устранить из общества, чтобы пресечь заразу. Если ее признают невиновной, как патриот и муж, я жду ее в своем доме и нашем социалистическом содружестве людей.
Его слова встретил несильный всплеск аплодисментов. Георгий сел, теперь он сильно вспотел.
— Ты еще очень молода, Евгения Георгиевна, но вот передо мной рекомендация пионерской организации. Принимая во внимание твой зрелый взгляд на вещи, суд предоставляет тебе слово. Если хочешь, можешь выступить в защиту матери, — судья посмотрела на девочку сквозь толстые окружья очков.
Женя открыла рот.
— Встань, когда обращаешься к суду.
Женя посмотрела на мать, поймала ее взгляд, встала. Губы зашевелились, но изо рта не вылетело ни звука. Всплеснула руками.
— Почему?.. — начала она писклявым детским голосом.
— Что почему? — помогла ей судья. — Ну, говори же.
— Почему ты не оставила мне записки? — Женя начала всхлипывать, и отец потянул ее обратно на место.
4
Первого Мая все города Советского Союза отмечают важнейший праздник в году — в честь солидарности трудящихся проходят парад и демонстрация.
В этот майский день Женя не шла со своей пионерской дружиной. Накануне Дмитрия выписали из больницы, и она осталась дома, чтобы он не скучал.
— Совсем ненужная жертва, — неодобрительно заметил он. Брат был еще слаб, в основном от того, что был вынужден оставаться без движения.
— Это вовсе не жертва, — в последние две недели, прошедшие со дня суда, Женя потеряла интерес почти ко всему, даже к пионерской организации. Ее постоянно мутило, и она не могла есть. Обеспокоенная тетя Катя каждый день готовила новое лакомство. Женя едва переносила сам запах еды. «Разбередили душу», поставила диагноз тетушка.
После суда Женя вышла из зала вслед за отцом и села в поджидавший лимузин, стремительный черный «ЗИС». Внутри отец обнял ее за плечи и она затихла — пленница его рук и прогорклого запаха, заполнившего спертый воздух внутри машины.
— Все к лучшему, моя красавица, — проговорил он. — Вот увидишь, я устрою тебе прекрасную жизнь, — тяжелая рука похлопывала ее по плечу и Женя чувствовала, как будто молот в наковальню — вдавливают ее в сиденье. Потом похлопывания прекратились, и рука соскользнула с плеча. Весь путь до дома они молчали.
И потом, когда уже вернулись к себе, Женя видела, как Георгий пронес с кухни бутылку водки и стал подниматься в спальню. А к ней с того самого дня, время от времени, стало возвращаться тошнотворное чувство.
— Ты важнее парада, — сказала Женя, укутывая одеялом сидящего в кресле брата. — Предпочитаю оставаться с тобой.
— Это не только парад, Женя, — демонстрация единения трудящихся под лозунгами мира и дружбы, — они сидели в гостиной внизу, изувеченная нога Дмитрия покоилась на скамеечке перед камином. — Он ушел?
— Да.
— Распугивать народные массы?
Женя поежилась. Она знала, как трудно было отцу появляться на людях. Обычно он избегал встречаться с кем-либо, кроме домашних. Но в такие важные праздники приходилось участвовать в манифестациях.
— Постарается где-нибудь спрятаться.
— Лучше бы зарылся в землю! — жестко пожелал Дмитрий. — Чтоб никто больше не увидел его рожу.
— Мне кажется, он и сам этого немного хочет, — Женя не очень ясно представляла, что она намеревалась сказать брату. Утром, когда отец уходил из дома, Женя заметила, что он совершенно пьян, и поняла его настроение. Хотя «настроение» здесь было неподходящим словом.
Скорее — двойное существование, две стороны существа, раздирающие его на части. Но словами она это выразить не могла. Даже себе самой.
— Он слишком страшен, чтобы его звали на трибуну, — продолжал Дмитрий. — Придется идти среди масс. Не очень-то им это приятно.
«А ему?» — подумала Женя, но ничего не сказала вслух. Она сидела на полу рядом с креслом брата.
— Завтрак! — голос тети Кати руладой разнесся по комнате, и она внесла огромный поднос. На нем красовались круги крестьянского сыра и кислое молоко. Женя затрясла головой.
— Ты должна поесть, — взмолилась тетя Катя. Ты ведь это всегда любила, — и она обернулась за помощью к Дмитрию. — Ну, скажи ей, пожалуйста. Исхудала. Ни к чему не притрагивается. Стала маленькой, как птичка, наша Женечка!
— Поест, когда проголодается, — машинально вступился за Женю брат. Но когда Катя вышла из комнаты, озабоченно спросил: — Почему ты не ешь? Как давно это у тебя?
— Что-то в желудке. Сводит…
Дмитрий посмотрел на сестру и насупился. Потом улыбнулся.
— Ты растешь, Женечка. Вот в чем дело. Через девять дней тебе будет тринадцать. Становишься женщиной, — его улыбка стала шире, и он раскрыл ей объятия.
Она бросилась к нему и поцеловала, потом отстранилась:
— Глупый ты! Вовсе и не это!
— Не это? Тогда что же?
Женя снова уселась на полу и уставилась в огонь.
— Из-за суда.
— Над матерью?
Женя молча кивнула.
— Конечно, ты расстроилась. Не нужно было тебе туда идти. И ему нечего было тебя туда тащить. Результат один. Все решили еще до суда.
Ей хотелось бы в это поверить.
— Не думаю, — медленно произнесла она. — Я повела себя по-глупому. Как ребенок. Я могла что-нибудь сказать.
— Нет. — Дмитрий успокаивающе положил ей руку на голову. — Не думай так, Женечка. Политический процесс — дело государственное. И не касается отдельных людей.
Жене захотелось ему все рассказать. Может быть, тогда удастся избавиться от тошноты.
— Папа не… ее не защищал.
— А он и не мог.
Она ошарашенно посмотрела на брата. Дмитрий подал ей пустую миску с ложкой, и она поставила ее на пол. Потом снова подняла на него глаза.
— Георгий Михайлович — член коммунистической партии и отстаивает ее интересы. Он не частное лицо. И на политический процесс является во всей красе своего социального положения. Говорит от его имени и с его высоты. А партия представляет общественный порядок.
— Но ты ведь ее любишь! — вскричала Женя.
— Я — да! Но мама, как и ты, всегда была политически наивной. Она жила для красоты и искусства и не обращала внимания на реальности общественной жизни. Вполне вероятно, что ее могли сбить с толку.
— Так ты думаешь, она виновата? — Женя не верила своим ушам.
— Нет-нет. Ни в каком преступлении она не виновата. Разве лишь в том, что слишком доверяла людям.
— Так за что же ее осудили?
— За то, — голос Дмитрия прозвучал очень устало, — за то, что ее действия могли быть неправильно поняты, может быть, специально, если это соответствовало целям партии.
— Тогда выходит, что партия неправа!
Он слегка улыбнулся сестре.
— Ты совсем как она. Может быть, это оказалось ошибкой. Но такие ошибки станут повторяться вновь и вновь, пока мы не создадим мирное справедливое общество. А на суде не прозвучало слово «еврейка»?
— Нет, я не слышала.
— А сионизм или сионистка?
— Нет.
— Космополитизм?
— Кажется. У меня в голове все смешалось…
— Помоги мне подняться, — мрачно попросил он. — Все то же самое. В деле заговора врачей против Сталина еврейских медиков обвинили в космополитизме. Тебе нужно учиться читать между строк, Женечка, и слышать слово, которое подразумевается, но не произносится вслух.
Она принесла брату костыли и следовала по пятам, пока он карабкался по лестнице, потом помогла устроиться в кровати, поправила подушки и поцеловала в лоб.
— Хоть ты и мой брат, но иногда мне кажется, что я тебя не знаю.
— Знаешь, Женечка, — он криво усмехнулся, — как и всякого другого. Я — оптимист и циник. Социализм — оптимистический взгляд на вещи, а капитализм нет. — Капитализм — цель идеальная, и иногда я сомневаюсь, что нам удастся ее достичь, если мы не избавимся от нашей твердолобости и зашоренности. А теперь — спать.
Дмитрий закрыл глаза. Несколько минут Женя стояла над ним, пока не услышала, что дыхание брата стало глубоким и ровным. Тогда она ощутила, что проголодалась, и побежала вниз на кухню.
Утром в день рождения Жени отец сел завтракать в свежевыглаженной рубашке, с тщательно расчесанными волосами. Появившись в комнате, он остановился и, волнуясь, спросил:
— Можно тебя поцеловать? Сегодня такой важный день.
Она не могла отказать и подставила щеку. Подойдя к стулу, Георгий выложил на стол завернутый в газету сверток.
— Тебе, — застенчиво произнес он.
Отец следил, как она открывала пакет, до последней секунды боясь, что его выбор оказался неудачным, что не подойдет размер, что подарок будет дочери не по вкусу. С тех пор как родилась Женя, он в первый раз покупал ей подарок. Раньше ими занималась Наташа.
К тринадцатилетию дочери Георгий отправился в иностранный магазин, смело двинулся по лестнице, неуклюже тряхнул головой, поймав на себе чей-то взгляд. Для него это было кошмаром, но он проделал все это для Жени.
— Чудесно, — произнесла она. — Спасибо.
Георгий вспомнил, как дочь подбежала к Бернарду и поцеловала его в щеку.
— Правда? — беспокоился он. — А цвет подходящий?
— Хороший, — блузка была сочного розового цвета, очень красивая, но рыжеволосая Женя избегала оттенков красного. — Вечером я надену ее.
Отец улыбнулся обещанию дочери.
Он предложил организовать праздник дома. Сначала Женя отказалась, не решаясь пригласить к себе друзей. Но Георгий настоял, и в конце концов она позвала Веру, невзначай бросив, что отец будет дома; и Маришу Александрову, чьи родители были приятелями отца.
— У меня для тебя есть кое-что, — он снова полез под стул и вытащил странный предмет из черного металла.
— Это от станка, с фабрики, где я работал до войны. Товарищ подарил мне это после того… в знак уважения, — он застеснялся, предлагая дочери такой необычный подарок.
Женя повертела предмет в руках: металлическая болванка с выступающим стержнем. Она положила подарок на стол, подошла к нему и поцеловала в щеку.
— Спасибо, красавица, — он потянулся, чтобы обнять дочь.
— Мне пора в школу.
— Да. Праздник будет вечером. А теперь беги. Спасибо тебе.
Она выбежала из кухни, задержавшись на пороге, чтобы махнуть рукой. Но через несколько минут вернулась, схватила со стола деталь станка и положила в школьный портфель. Она уже была далеко, а Георгий все еще смотрел ей вслед, безотчетно перебирая толстыми обрубками пальцев розовую блузку.
Девочки пришли вечером. Обе надели чулки, те, что Женя дала им в школе. Она показала, как их закреплять, наворачивая верх нейлона на копейку, пока чулок не облегал плотно бедро.
Входя, каждая из подруг преподнесла Жене подарок. От Веры она получила книгу с картинками диких цветов, от Мариши — маленький флакончик одеколона. Аромат оказался резким, приторным, предназначенным скрывать запахи, а не утонченным, как у матери. Но Женя поцеловала подругу и провела в гостиную.
— Это мой отец, Георгий Михайлович, — представила она; хотя их родители и знали друг друга, Мариша никогда не была в их доме.
Мариша не дрогнула, а Вера приветствовала Георгия как старого знакомого. Женя удивилась этому. Георгий, как всегда, выглядел ужасно. Неужели подруги прощают ему внешность, потому что прощает она?
Спустился Дмитрий, и Вера покраснела. Она взяла протянутую руку брата и держала бесконечно долго, как будто вовсе не хотела отпускать.
— Проклятые лошади, — пробормотала она, глядя мальчику в глаза, а не на ногу. — Женя мне все рассказала…
— Вера, — с улыбкой отвечал он, — если тебя так пугают лошади, обещаю не приближаться больше ни к одной.
Вера захлопала ресницами. Женя заметила, как под хлопчатобумажным платьем выделяются ее полные груди.
— Моя подруга Мариша, — представила она другую девочку недовольным тоном.
— Рад познакомиться, — обратился Дмитрий к живой блондинке, чей маленький курносый нос она сама называла «носиком».
Нынче вечером Дмитрий — само очарование, подумала Женя, очень привлекателен в черной рубашке, подчеркивающей бледность, делающей его похожим на поэта.
Женя надела новую блузку, подаренную отцом, и юбку, сшитую тетей Катей: белые фиалки на темно-синем фоне. Она старательно расчесала волосы, и они сияли, свободно ниспадая на плечи. Женя чувствовала себя красивой и счастливой. Вечер проходил на редкость приятно, на что она даже и не смела рассчитывать.
Все пили вино, даже тетя Катя, хотя обычно плохо отзывалась о вине и водке. Но этим вечером она казалась беззаботной и лицо ее рдело от удовольствия, видя, как гости опустошают тарелки и просят добавки. Она надела лучшее платье в цветочек с оборками на рукавах и бусы из темного янтаря с серебряной застежкой. В конце ужина тетя Катя внесла торт и поставила перед Женей.
— Пусть все неожиданности в твоей жизни будут только приятными, — сказала она, подавая ей нож.
Ничего не подозревающая Женя начала разрезать торт. Внутри было белое мороженное, начиненное цветными комочками замороженных фруктов. Именинница расплылась в улыбке:
— Сегодня лучший в моей жизни день рождения.
Но обнимая Катю, Женя вспоминала такой же праздник год назад. Мама нарядилась в красное платье с пламенной юбкой и, когда танцевала, юбка взлетала выше колен. Но Наташа не обращала внимания, кружилась все быстрее, юбка в вихре обнажала ее бедра, а она, откинув голову, весело смеялась, и ее смех и вихрь юбки переполняли комнату.
Женя поймала взгляд Дмитрия и поняла, что и он тоже вспоминает об этом.
После торта Георгий поставил на патефон пластинку, и когда хор советской армии затянул любимую русскую народную песню: «Ты постой, постой, красавица моя…», — живо подхватил:
— «Дозволь наглядеться, радость, на тебя…»
Остальные присоединились к нему — любовную песню написал уходящий на войну солдат. «Дозволь наглядеться», пока я не вернусь, и мы не заживем счастливо. Дмитрий придвинулся к Вере и положил ей руку на плечо.
— Сынок, — окликнул его Георгий. — Помнишь, в прошлом году на день рождения Жени мы плясали, как два казака.
Тогда они плясали, взявшись за руки, на корточках, высоко подбрасывая каблуки. «Еще ничего не случилось, — подумала Женя. — Был мир. Они еще даже не поссорились».
— Помню, — ответил Дмитрий и снял руку с Вериного плеча. Несколько мгновений никто не мог произнести ни слова: радостное настроение померкло.
— Ты будешь снова танцевать, — повернулась к Дмитрию Вера. — Ведь случаются же чудеса.
Он попытался улыбнуться, но его лицо оставалось мрачным.
Женя безнадежно взглянула на подруг. Праздник был испорчен.
Сколько Женя себя помнила, их семья каждый год две недели проводила на даче — загородном домике на берегу озера, который отцу предоставляли, вместе с ЗИСом, в качестве признания служебной должности отца. В это лето Дмитрию предстояло ехать на костылях, и Женя гадала, сможет ли он переплывать с ней озеро?
Но когда настало время уезжать из города, Дмитрий объявил, что он остается.
Встревоженная тетя Катя посмотрела на него, не зная, продолжать ли ей собирать его чемодан.
— Как же так? — воскликнула она, вынимая еще одну рубашку из шкафа.
— Перестань, — приказал ей Дмитрий. — Я же сказал, что не поеду.
Кате жизнь представлялась размеренным распорядком, и нарушение его грозило хаосом. Положив рубашку обратно в шкаф, она поспешила вон, известить Георгия.
Через минуту отец был уже у сына в комнате:
— Что это ты затеял, почему не хочешь ехать? — закричал он.
— Предпочитаю остаться здесь. Буду заниматься, — холодно ответил Дмитрий, но дрожь в голосе выдала его волнение. Со дня несчастного случая он не ходил в школу, но усиленно занимался дома и по итогам года вышел на третье место в классе.
— А я тебе говорю, что поедешь!
— Зачем? Что я там буду делать? Заниматься спортом или болтать с высокопоставленными соседями? Нет уж, лучше я здесь останусь.
— Нельзя! Кто тебе здесь будет готовить? — в запале Георгий ухватился за первый попавшийся предлог.
— Я и сам себе приготовлю, как все другие люди. Не хочу, чтобы мне кто-нибудь прислуживал, и дача мне тоже не нужна. Сколько горожан имеют дачи? — голос брата опасно задрожал, и Женя крепко зажмурила глаза на своей половине, как будто этим жестом могла предотвратить ссору.
— Будь она проклята, эта дача, — кричал Дмитрий. — Привилегии создают элиту — бедствие рабочего класса — и угрожают истинным целям…
— Довольно! — проревел Георгий. — В шестнадцать лет ты уже знаешь ответы на все вопросы? А я говорю, что ты невежда. Не понял даже основного закона социализма — признания власти и подчинения ей. Проку из тебя не выйдет. Будешь противиться отцу, не подчиняться власти, — станешь одним из тех проходимцев и злопыхателей, которые засоряют наше общество, пока оно не вырвет их с корнем!
— Ты уже это проделал с моей матерью.
Наступило зловещее молчание. Женя тряслась по другую сторону перегородки, потом услышала, как отец медленно и раздельно произнес:
— Я умываю руки, — потом различила тяжелые неровные шаги, — знакомая тошнота снова овладела желудком.
Следующим утром она сидела в машине между отцом и тетей Катей и всю дорогу в деревню не сказала ни единого слова.
Но на даче напряжение стало спадать. Каждое утро она купалась в озере, заплывала не так далеко, как с Дмитрием, но ежедневно проводила в воде один-два часа, и размеренный ритм гребков уносил прочь заботы.
В полдень или ближе к вечеру они ходили с отцом на прогулки и, несмотря на его медленный шаг, прогулки ей нравились. Напряженности между ними не осталось. Они обсуждали растения и деревья, которые встречались на пути. Георгий указывал на птиц над головой и называл их имена. Иногда гуляли молча, но им было хорошо друг с другом. Обычно Женя рвала цветы и дома составляла из них утонченный букет.
На прогулках в лесах и полях отец и дочь были постоянно одни. На пятый день Георгий принялся рассказывать случаи из своего детства и о своих родителях — дедушке и бабушке Жени, о них она прежде ничего не слышала.
Вечером они играли в карты или он читал дочери вслух из Пушкина или современных авторов, таких, как Алексей Толстой. Во время чтения он пил только воду, хотя не проходило дня, чтобы он не выпил поллитра, а то и больше, водки. Но в деревне Георгий делался мягче и не бесился от ярости или от горя.
Дни тянулись мирно, и Женя была довольна. Но в памяти она возвращалась к другому лету, когда вся их семья была здесь вместе, и тогда чувствовала себя покинутой и одинокой. Она старалась заставить себя не вспоминать о Дмитрии, по которому сильно скучала, и при Георгии никогда не упоминала ни о нем, ни о матери.
Но на девятый день в деревне, когда дождь не переставая лил уже тридцать шесть часов, Женя почувствовала, что ей не сидится на месте.
— Хорошо бы Дмитрий был с нами, — непроизвольно вырвалось у нее.
Отец перестал качаться на стуле и отложил номер «Правды». И она пожалела, что не прикусила язык.
— Я бы тоже этого хотел, — проговорил он.
— Ты?
— Мы с сыном слеплены из одного теста, — задумчиво продолжал Георгий. — Когда я смотрю на него, то вспоминаю себя, каким я был когда-то.
— Но вы так сильно ругаетесь!
Отец кивнул:
— Схожие люди яростней всего ругаются друг с другом. Две кошки дерутся отчаяннее, чем кошка с собакой, — он взял газету с колен, а Женя уставилась в сумрачную пелену дождя, бьющего в стекло.
— В истории много примеров, — Георгий снова отложил газету, — примеров того, как родственники относятся друг к другу более жестоко, чем незнакомцы.
— Но ты любишь Дмитрия?
Он странно посмотрел на нее.
— Как же я могу не любить? Он ведь и есть я сам.
Отец вернулся к газете, а дочь опять принялась смотреть на дождь — его слова отдавались в ее голове. Женя не понимала, как обаятельный юноша Дмитрий и отец могут быть одним человеком. Они казались такими разными — как ночь и день, как солнечный свет и дождь. Мысленно она попыталась поменять их лица — отец симпатичен, а Дмитрий изувечен — бесполезно, видения не получилось. Все, что она смогла вообразить, — молодого человека, Георгия в юности, и представить, что он все еще живет где-то внутри отца, постоянно стараясь выйти наружу, и всегда вынужден отступить обратно.
Вернувшись с дачи, они увидели, что Дмитрий сильно похудел. С тетей Катей он поздоровался с явным облегчением, а на сестру буквально накинулся, рассказывая о том, что успел прочитать. С отцом он держался безлико, но вежливо, и весь остаток лета оба избегали ссор.
Женя снова работала со своей пионерской дружиной, помогая строить детский сад, его должны были открыть осенью. В свободное время ходила к Марише, ставшей ее лучшей подругой. Про Веру она решила, что та очень игрива. Это заключение она сделала, обнаружив, что Дмитрий проявляет интерес к ее приятельнице.
К Вере — первой он направился в гости, поменяв костыли на палочку. Дмитрий находил Веру очаровательной и, несмотря на возраст, развитой, к тому же, как их мать, обладающей артистическим налетом. Телом она уже созрела и, как и юноша, была наполовину еврейкой. Девушка — прямо для него.
Как бы он хотел быть снова здоровым, танцевать с ней, поднять на руки, понести не хромая. Может быть, думал он, глядя на ее округлые бедра под цветастым хлопком, не следовало так поспешно отказываться от предложения американца. Его «друзья» могли бы вылечить его, устранить хромоту, сделать походку мужественной. Он обязан был попытаться — для Веры, не говоря уж об обществе, которому требовались здоровые люди.
Но когда Бернард в следующий раз появился в их доме, шел уже сентябрь, Дмитрий находился в школе и не смог его увидеть.
Промышленник появился у них в середине дня, по срочному делу — он хотел предупредить Георгия о предстоящих изменениях в партийном руководстве. На Западе поговаривали, что героя войны маршала Жукова вскоре отправят в отставку.
— Злостные слухи, — отозвался Георгий, но холодок пробежал по спине, и он почувствовал, как заныли обрубки пальцев.
— Георгий Михайлович! — резко заговорил американец. — Я не намерен тратить время на бесцельные пререкательства. Я сам рисковал, приходя сюда. Поэтому перестаньте повторять, как попугай, положения из партийной программы.
— Как вы смеете так разговаривать со мной в моем собственном доме, — от злости на коже Георгия появились мурашки.
— Времени мало. Выслушайте же меня, — Бернард стоял посредине гостиной, отказавшись даже от чашки чая, чтобы не тратить время. Хозяин сидел прямо пред ним.
— Что вам нужно, — прямо спросил он. — Только не рассказывайте, что пришли сюда во имя «дружбы».
— Поверьте, дружеские чувства я и в самом деле к вам испытываю. Но ответ вы знаете и сами. Я серьезно занялся продажей сельскохозяйственной техники и надеюсь, что дело будет доведено до конца, и я получу вознаграждение в соответствии с условиями, которые мы с вами разработали. Это ясно?
— Вполне. Ваши «дружеские чувства» произрастают из жажды наживы.
— Какой толк в этих пререкания? Никто из нас не хочет, чтобы дело попало в дурные руки. В лучшем случае вы предстанете перед судом по уголовному делу о похищении икон. А можете исчезнуть без следа, если мой заем будет расценен, как подкуп. Это будет означать, что вы воспользовались своим положением в партии и, предав страну, продались западным империалистам.
Георгий вскочил и принялся расхаживать по комнате: от окон к камину, от камина к окнам — пальцы заложенных за спину рук невыносимо ломило.
— А вы? Вы потеряли доверие своего правительства. Вы провалили контракт, не говоря уж о том, что собирались присвоить себе несметные богатства.
— Верно, — легко согласился американец. — А теперь, когда мы высказали вслух то, что мы знаем друг о друге, не вернуться ли к нашему делу. Время не терпит.
— Признаю… — Георгий внезапно остановился так близко от Бернарда, что тот машинально отступил назад. — У меня и у самого возникли кое-какие подозрения, но мне негде было их проверить. Тем не менее я предпринял определенные шаги, — он пихнул американца в грудь. — Не спрашивайте, какие это были шаги. Могу только сказать, что я принял меры, чтобы дело не погибло, если… если со мной что-нибудь случится. Запомните слово «Лотко» — не гадайте, что оно значит, оно не значит ничего — и будьте готовы к отплытию.
Бернард слегка коснулся плеча Георгия:
— Извините, что недооценил вас. Я вам очень благодарен. Очень. Могу и я сделать что-нибудь для вас?
Георгий почмокал губами, минуту помолчал и быстро начал:
— Если что-нибудь подобное произойдет, я прошу вас защитить моих детей. Все продлится недолго — несколько месяцев. Полагаю, нынешняя политика будет заключаться в установке на окна решеток — борьбе против «интернационализма», рассчитанная реакция на ситуацию в Югославии, временное изменение курса. Будут порваны все связи с Западом, начнется преследование людей, известных дружескими отношениями с иностранцами. Думаю, меня уберут с поста, может быть, вышлют из Ленинграда, но лишь на некоторое время. Когда положение в Югославии «нормализуется», я снова окажусь на своем месте.
Но сейчас все будет обставленно так, как будто со мной разделались навсегда, в назидание тем, кто подумывает о панибратстве с Западом. Дети будут объявлены сиротами, и их могут взять на попечение государства, — Георгий остановился, собрался с духом и, взяв обе руки Бернарда, попросил: — Позаботьтесь о детях. Защитите их, умоляю вас.
Все случилось так неожиданно — даже способность Бернарда моментально схватывать ситуацию не позволила ему сразу же осознать просьбу Георгия. Несколько минут он постоял, размышляя:
— Дмитрий никогда не примет моей защиты.
— Может быть, он будет вынужден ее принять.
— Но ведь ему шестнадцать. Юноша достаточно взрослый для того, чтобы государство оставило его в покое.
— Но Жене только тринадцать. Еще девочка. За ней должен кто-нибудь приглядывать, и она вас обожает.
Бернард вспомнил тот вечер, когда она с жадностью набросилась на еду, ее сверкающие золотисто-рыжие волосы, сияющие жизнью глаза. А когда он подарил ей чулки — такой обыкновенный подарок — как она подбежала его поцеловать!
— Девочка мне нравится, — он осекся, опасение внезапно вырвалось наружу. — Но у меня никогда не было детей и я их не понимаю.
Бернард почувствовал, что Георгий смотрит на него почти с жалостью.
— И все же вы должны сделать все, что можете.
Решение пришло помимо его собственной воли. Бернард не мог припомнить, чтобы с ним случалось такое раньше.
— Вы можете вывезти их из страны, — продолжал Георгий.
— Похитить? — на секунду идея захватила американца. Необычное дело. Вызов. Потом он стал думать о последствиях. — А если вы будете в ссылке дольше, чем рассчитывали? Предположим, год или даже больше.
— Маловероятно.
— А все же если это произойдет?
— Мне больше не к кому обратиться, — просто ответил Георгий. — Иконы начнут поступать в течение недель после моего ареста, если он состоится. На ящиках будет канадский штемпель, и в них упакуют продукты питания и текстиль. Но в каждом будет полое пространство.
— Для иконы?
— Да.
— Лотко — мой пароль?
— Да. Вы получите Георгия Победоносца, Розовую Богоматерь и изумрудный крест.
— Изумрудный крест? — это было больше того, на что он рассчитывал. Этот крест стоил бы на открытом аукционе, по крайней мере, миллион, хотя Бернард и не собирался его продавать.
— За детей. Хотя бы за Женю, — Георгий прошел в кабинет и налил по стопке коньяку. — Пока я буду в ссылке, вас будут вознаграждать за опекунство, — бесстрастно заметил он, подавая напиток. — Сейчас я занимаюсь тем, чтобы вам переправили Киевскую Богородицу.
Рука Бернарда дрожала, когда он потянулся за коньяком. Киевская Богородица, с ее таинственной улыбкой, была Моной Лизой среди русских икон, наиболее ценной из них.
Георгий посмотрел американцу в лицо:
— Я вижу, мое предложение вас заинтересовало, — и поднял стопку с коньяком.
Бернард поднял свою и чокнулся с Георгием:
— Решено.
Вскоре после визита американца, хотя дети об этом и не знали, в доме все стало меняться. Первым заметил это, Дмитрий: отец был расстроен, по ночам слышались его тяжелые шаги, в воздухе витало напряжение. Брат ничего не сказал Жене, чтобы не беспокоить, да и рассказывать было особенно не о чем, но впечатление, что что-то не в порядке, не проходило. Дмитрий чувствовал, что в комнаты просачивается нечто неопределенное, но угрожающее.
Однажды, три недели спустя, Женя вернулась в слезах, потому что родители Мариши запретили ей приходить в гости к дочери. Они поспешно прошептали ей об этом и извинились, говоря, что у них нет выбора.
С того времени и Женя поняла, что в доме что-то не так, и стала бояться ночных кошмаров.
В последнюю неделю ноября их разбудил резкий стук в дверь, треск дерева и крики. Женя выскочила в коридор, Дмитрий и тетя Катя были уже там и стояли, взявшись за руки. Она заметила, что отец одет в костюм, как будто собирался на улицу.
— Оставайтесь на месте, — сурово произнес он. — Что бы ни произошло, оставайтесь на месте.
Дверь подалась и с треком растворилась.
— Георгий Михайлович Сареев? — выкрикнул резкий голос.
— Черт возьми, вы прекрасно знаете, что это я, — закричал он в ответ. — И нечего было ломать дверь, — он начал медленно спускаться по лестнице, держась очень прямо, с военной выправкой.
Когда отец спустился до половины лестницы, сверху его уже не было видно. Только послышался все тот же голос:
— У меня есть приказ…
А потом лишь скрип петель тяжелой входной двери.
Через десять дней постоянных усилий Бернарду удалось добиться разрешения на выезд Жени поездом на Запад. Как он и предсказывал, Дмитрий ехать отказался. Причины были отчасти политические, отчасти сентиментальные. Везде, кроме родины, он будет чувствовать себя чужим, сказал он американцу, и к тому же сочтет себя трусом, если улизнет на Запад. Ленинград означал для него все: общество и Веру. Верины родители, Мальчиковы, предложили ему койку в своей маленькой квартире, если его и тетю Катю выгонят из дома.
А будущее тети Кати представлялось неопределенным. С момента ареста хозяина она постоянно плакала: о себе, о детях, о бедах страны с тех пор, как она отказалась от Бога.
Дмитрий пытался утешить сестру. Он говорил, что Бернард все сделает для нее, напомнил, в какое восхищение она пришла после первой встречи с ним, уверял, что она полюбит своего благодетеля.
— Я не хочу ехать, — всхлипывала Женя, прижимаясь к брату. — Ты — все, что у меня осталось. Я не хочу расставаться с тобой. Не хочу.
Он прижимал ее, держа на коленях, уговаривал, как маленькую, а сам еле сдерживался, чтобы не расплакаться. Но Дмитрий знал, при себе ее удержать не удастся, а из страны он никогда не уедет.
— У нас нет выбора, — нежно повторял он, поглаживая ее по волосам, стараясь, чтобы пальцы запомнили прикосновения.
Утром 8 декабря 1957 года Женя села в поезд, отправляющийся в Финляндию. Все ее добро вместилось в два небольших чемодана, а выездные документы она хранила в матерчатой сумочке, перевязанной тесьмой.
Валил сильный снег, когда поезд тронулся от платформы вокзала, и через несколько секунд Дмитрий и Катя скрылись из глаз. Все было ослепляюще белым: ни силуэтов, ни форм, только падающий снег и ее рыдания, сливающиеся со стуком колес, набирающих скорость.
5
Станционные огни остались позади, и поезд нырнул в темное облако клубящегося снега. В самое темное время года, во время зимнего солнцестояния, день и ночь сливаются в сумрак. На шестидесятой параллели люди в декабре остаются дома, зажигают электричество, не гасят огонь и уходят в себя на зимнюю спячку. Месяц самоубийств, пьянства и домашнего насилия. Вот он истинный север: земные районы климатических противоположностей и противоречивых характеров. Белыми ночами, в июне, в Ленинграде жители танцевали и обнимались на улицах в три утра, а декабрь загнал их в дома, заставляя прятаться друг от друга.
Женя была одна в купе и, ей казалось, одна во всем поезде. С потолка лился пронзительный белый свет. Выключателя не было, чтобы его погасить, не было и регулятора, чтобы сделать тише скорбную музыку, льющуюся из динамика и наполняющую все купе. Она чувствовала себя, словно заключенный в камере, оторванный от дома.
Поезд спешил на север, в Финляндию. Меньше чем через два часа он замедлил скорость и остановился на первой станции. Ее название было написано русскими и латинскими буквами — ВЫБОРГ. Еще через час состав остановился снова. В купе вошли представители властей. В испуге не глядя на них, Женя подала свои документы.
— Выходи, а багаж оставь здесь.
— В чем дело? Что я такого…
— Мы меняем каретки, — прозвучал таинственный ответ, и люди испарились, забрав ее документы.
В окно Женя разглядела название станции, написанное только латинскими буквами — Ваалимаа. Она была в Финляндии, на Западе. Родина и родной алфавит остались позади.
Пассажиры выходили из вагонов на платформу, но все казались спокойными, многие даже улыбались. Женя ждала у окна, не зная, как поступить.
— Прошу! — вернулся тот же самый человек и заговорил с ней намного резче, чем в прошлый раз. — Сейчас же выходи из поезда, — и остался ждать, пока она не поднялась с сидения.
Женя прошла по коридору и спустилась по лесенке, сжимая сумку обеими руками. Что сделали с ее документами? Что произойдет с ней самой? Она дрожала, несмотря на теплое пальто и толстые ботинки, защищавшие ее от слякоти на перроне.
— Эй! Девочка! Не хочешь чаю? — закричала улыбающаяся плотная женщина, подавая чашку. По-русски она говорила с заметным акцентом.
Женя попыталась улыбнуться в ответ, но ее лицо сморщилось, как будто она собиралась вот-вот расплакаться.
Женщина похлопала ее по плечу и сунула в руки чашку:
— Бери. На границе всегда приходится долго ждать. По крайней мере часа четыре. Я знаю. Раньше я часто ездила навещать сестру в Новгород. Она вышла замуж за русского инженера. У них двое детей…
— А почему так долго?
— Потому что вы, русские, живете в другом мире. Все еще в девятнадцатом веке, — рассмеявшись, ответила женщина. — Ваши пути очень широкие — колея больше, чем в остальной Европе. Требуется время, чтобы поставить другие каретки, — она улыбнулась своей шутке. — Смотри сама.
Женя в изумлении увидела, как огромный кран поднял железнодорожный вагон. Колеса выкатились из-под висящего корпуса, а на их место скользнули каретки меньшей ширины.
Та же процедура повторялась с каждым вагоном. Когда пассажирам разрешили наконец войти в поезд, близился вечер и стало темно, как ночью. Финка зашла к Жене в купе и представилась:
— Улла Виткус. Зови меня просто Улла.
Она взглянула в окно — поезд тронулся от платформы — и потянула вниз шторку:
— Там не на что смотреть.
— Нет! — Женя закричала так страстно, что рука финки застыла в воздухе.
— Что с тобой?
— Не надо, — Женя чувствовала себя глупо, но боялась оказаться запечатанной в купе, лишиться последней связи с внешним миром.
— Как хочешь, — Улла пожала плечами и села на полку. Достав холодные пирожки, испеченные сестрой, она предложила их Жене. В это время появились финские пограничники, вернуть проездные документы.
— Мой билет в другой вагон, — сообщила им Улла, — но я решила остаться здесь с моей юной подругой, — и подала пограничнику пирожок.
Женя ждала, что он отчитает Уллу, но вместо этого он взял пирожок и спросил ее имя. Секунду порывшись в бумагах, он вернул ей паспорт, а потом и Женины документы.
— Разве это можно? — спросила Женя, когда пограничник вышел.
Улла тут же поняла вопрос. Она была знакома с советскими властями.
— У нас здесь больше свободы, — объяснила она. — В Финляндии не требуется разрешения, чтобы переезжать из одного города в другой — мы едем, куда захотим, и если захотим, меняем места в поезде.
Новый мир. Улла рассказывала о своей стране, и Жене это казалось сказкой. В Финляндии, говорила Улла, газеты могут критиковать правительство, а граждане вправе устроить демонстрацию против политики властей. Потом она спросила, надолго ли Женя едет в Финляндию.
— Не знаю, — сейчас она направлялась в Хельсинки, где ей предстояло жить у супружеской пары по фамилии Круккалас. Дни, недели, может быть, больше — среди чужих. Она сирота, потеряла семью, а Бернард Мерритт — лишь призрачная фигура в конце путешествия. Она испытывала чувство человека, которого уносит в открытое море.
— Круккалас? — переспросила с интересом Улла. — Я их знаю: Олаф и Минна. В Хельсинки все знают Олафа Круккала — он герой войны против русских. А теперь он с ними торгует, — финка усмехнулась. — Глупая вещь война.
Женя кивнула. Ей раньше как-то и не приходило в голову, что и другие народы участвовали в войне. Казалось, что воевали только русские и фашисты. Может быть, и финский народ пострадал в войне.
— Его жена, Минна, пишет детские книги: к счастью, по-фински, а не по-шведски. Говорящие по-шведски финны заполнили страну и считают себя выше других, — объяснила она с горечью.
Глядя на несущуюся за окном темноту, Женя ощутила свою беспомощность, даже еще не вступив в мир, куда ее уносил поезд.
Как будто прочитав мысли девочки, Улла сказала:
— Мы — страна очень маленькая. У нас все друг друга знают. Круккаласы — замечательные люди. Ты у них будешь счастлива.
Когда Женя вышла из вагона, ее встретили двое вооруженных солдат, говорящих на таком странном языке, что этот язык вообще не казался человеческой речью. Один из них взял ее вещи, и она поняла, что ей нужно следовать за ними. Она оглянулась вокруг, но помощи ждать было неоткуда: знакомая Улла попрощалась с ней в купе и была теперь далеко — бежала навстречу бородатому мужчине в меховой шапке.
Женя шла меж солдат. Они вели ее в тюрьму, в трудовой лагерь или в другое ужасное место, куда помещают детей врагов государства. Почему она не осталась с Дмитрием? Где Бернард Мерритт? Какое обвинение ей предъявят? Или повторится кошмар, как с арестом ее отца, когда человека забирают без объяснений?
Солдаты проводили ее в помещение, где несколько человек, казалось, ждали ее. Они заулыбались, когда Женя вошла. Крупная женщина с квадратным лицом и волосами, зачесанными в пучок, обняла ее за талию:
— Я Минна Круккала, — сказала она по-русски, провожая ее к длинному столу, за которым сидели мужчины с газетами. Навстречу им поднялся длинный поджарый человек. — Это Олаф, мой муж.
Его рыжевато-золотистые волосы, намного светлее, чем у Жени, свисали с головы на уши клоками. Он протянул руку, Женя не ответила, и тогда он шагнул вперед и обнял ее.
— Мы рады, что ты смогла к нам приехать. В Финляндии я представляю интересы Бернарда Мерритта. Он передает тебе большой привет и надеется, что вы вскоре увидитесь.
Солдаты ушли. Въездные формальности были закончены в несколько минут, и Круккаласы повели Женю из вокзала к своей машине.
Она села впереди между супругами, а за рулем устроилась Минна. Женя удивилась, почему Круккаласам не дали шофера, если предоставили такой большой автомобиль.
И почему на улице так много машин? Вопросы возникали в ее голове один за другим, но она не задавала их вслух. Они ехали по темной дороге. Снег прекратился, но пушистая масса покрывала крыши домов, деревья и слегка заостренные верхушки фонарей, снежинки сверкали под лампами. Совсем как дома…
Они проехали порт. Как и Ленинград, Хельсинки стоял на берегу Финского залива.
Дома Олаф отлучился на кухню и, словно отец, принес из кладовой бутылку вина.
Но все же она была не у себя дома. Женя сидела с Круккаласами за столом, и перед ней дымилась тарелка рыбного супа. Глаза Олафа оказались такими же светлыми, как и волосы, брови бесцветными и густыми. Они прыгали вверх и вниз, когда он сообщал девочке, что Бернард уже звонил, чтобы убедиться, что ее путешествие прошло нормально. Он беспокоился о ней и надеялся, что ее пребывание на Западе ей понравится.
Минна в свою очередь сказала, что через несколько дней им, может быть, удастся ненадолго выбраться в лесной загородный домик и покататься на лыжах.
Женя отставила тарелку с супом, уронила голову на руки и расплакалась.
Но дни шли, и Круккаласам удалось своим очарованием вывести Женю из отчаяния. Такой женщины, как Минна, Женя еще не встречала: живая, веселая, всегда находящая повод посмеяться. Она звала Женю «картофелиной» и научила делать «фил», финский кефир, выставляя горшки на окошко в ожидании, пока он не созреет. Однажды, когда гроза испортила кефир — молнии заставили его свернуться, — Минна рассмеялась и пошутила, говоря, что несмотря на все тайны, хранящиеся на небесах, там не знают секрета, как делать «фил», и поэтому время от времени, завидуя, портят весь кефир в Финляндии.
Гроза бушевала целых пять часов.
— Так вы думаете, это все из-за наших горшков? — спросила Женя.
— Совершенно верно, — согласилась Минна. — Видишь, как просто управлять небесами.
Женя ей, конечно же, не поверила, но ей понравилась манера Минны все обращать в шутку и все очеловечивать. Не удивительно, что она писала детские книжки: в их мире даже маленькие человечки были всевластны и могли сотворить все, что хотели.
Круккаласы купили Жене лыжи, и по выходным она училась кататься на них, когда они ездили в лесной домик, всего в часе езды от Хельсинки.
Жене нравились их поездки по пятницам. Они оказывались в домике вечером, разводили огонь и ставили на очаг огромный чугунный котел.
Там же они провели и Рождество — праздник, раньше Жене не известный.
Олаф и она вышли из дома в снегоступах. Женю забавляло, как он оценивает деревья: словно детектив в шутливом расследовании — это коротковато, это слишком жидкое, высота подходящая, но не развесистое. Наконец он остановился перед элегантным деревом, примерно на полметра выше него самого:
— Вот оно! Лучшее из всех, — и, поцеловав ель, принялся ее рубить.
Вдвоем они дотащили дерево до дома. Минна хлопотала на кухне, вставляя изюмины в глаза печеных человечков. Когда она закончила, все трое установили ель в передней комнате, недалеко от очага, закрепили на ветвях белые свечи, и зажгли их длинными деревянными спичками. Пламя свечей мерцало, точно звездочки, и в их свете ветви казались жемчужными. Запах хвои наполнил дом.
В Сочельник Женя получила от Олафа и Минны подарки, они приготовили их своими руками: вязаный платок, варежки, деревянную шкатулку с вырезанными на крышке ее инициалами — хранить твои тайные сокровища, заметила Минна, — плоскую деревянную марионетку на шнурке, двигающуюся, если за шнурок потянуть. Бернард прислал Жене меховой жакет, он вместе с другими подарками лежал под елкой, и был великолепен: мягкий и белый, как «фил»— одеяние для снежной принцессы. Женю восхитил мех, но элегантность жакета поставила ее в неудобное положение — сама она не приготовила подарков, даже не знала, что на Рождество люди дарят их друг другу.
Они сидели за праздничным столом, ели копченую семгу и оленину, а после рождественского пирога подняли бокалы за себя и за отсутствующего Бернарда и отхлебнули настойки из заполярных ягод.
В полночь зазвонил телефон — Бернард желал всем счастливого Рождества. Женя и раньше разговаривала с ним, два раза, и всегда голос казался каким-то неестественным, как будто из патефона доносились неуклюжие русские слова.
— Тебе там нравится, Женя? — спросил он.
— Да, — ответила она незнакомому голосу.
— Я навещу тебя, как только смогу вырваться.
— Спасибо, — она никак не могла поверить, что по другую сторону провода где-то в Америке говорил живой человек, но все же пробормотала в трубку: — Папа… вы о нем ничего не слышали?
— Я уверен, девчушка, что с ним все в порядке.
— А брат?
Он не ответил, только пожелал еще раз счастливого Рождества, и связь оборвалась.
— Не волнуйся, — успокоила ее Минна, трепля по волосам. — Скоро твой сказочный крестный отец сам явится сюда.
Он приехал через десять дней, но, как сказала Минна, не имел времени, чтобы провести с ними выходные. Женя была разочарована. Еще большее разочарование охватило ее, когда она узнала, что они все четверо будут обедать в гостинице.
За три недели, что она жила вдали от дома, Женя часто представляла встречу с Бернардом: они были одни в большой комнате, может быть, бальной, отделанной белыми цветами и золотом. Бернард ее ждал, и когда она вошла, поднялся навстречу, глаза его засветились. Он протянул ей руку, зазвучала музыка, и они закружились в танце: ее длинная юбка взлетала вверх, когда он ее быстро вращал, и оба весело смеялись…
Вместо этого она оказалась в ресторане гостиницы, отделанном, как большая сауна, тесаными бревнами. Ее юбка вовсе не была предназначена для танцев — шотландка, длиной ниже колен, там, где кончались толстые шерстяные носки. Минна держала ее за руку и, несмотря на свой меховой жилет, она чувствовала, что выглядит ребенком.
Бернард уже сидел за столиком напротив входа: седые волосы сияли, лицо было загорелым, каким она его и помнила. В темно-синем пиджаке и белой рубашке он походил на капитана. У столика Женя посторонилась от Минны и ждала, подняв глаза, когда американец взглянет на нее, но Бернард сначала поприветствовал Олафа, потом поцеловал Минне руку.
Только потом он, казалось, заметил ее. Небесно-мраморные глаза встретились с ее глазами. Она вспыхнула, когда на секунду он привлек ее к себе, а потом отстранил на расстояние вытянутых рук, чтобы как следует рассмотреть.
Осмотр оказался недолгим. Бернард улыбнулся и велел ей садиться на обтянутую материей скамью рядом с ним.
— Ты выглядишь довольной, — заключил он, и Женя кивнула, хотя и понимала, что это не вопрос.
Он просто констатировал, что она довольна и, устроившись рядом и все еще чувствуя на себе взгляд его смеющихся глаз, Женя вдруг поняла, как по-детски было сомневаться в нем, в его приезде.
— Я все тебе за несколько минут расскажу. Все новости, — прошептал он ей. — Только вот закажем еду.
Женя смотрела на него с полным доверием, и американец отвернулся, чтобы не видеть ее выражения лица.
Мужчина в вечернем костюме остановился перед ними и слегка склонился над Бернардом. Тот кивнул.
— Напитки. Что вы предпочитаете, Минна?
Когда очередь дошла до Жени, он заказал за нее, и все тот же человек в вечернем костюме вернулся с высоким стаканом темной пузырящейся жидкости. Она попробовала. Сладкая.
— Нравится? — спросил Бернард.
Она выразительно помотала головой сверху вниз, все еще не способная выговорить ни слова.
— Называется кока-кола, — объяснил он, — или — для краткости — кока.Любимый напиток американцев, а теперь коку можно купить по всей Европе. Мы надеемся привезти этот напиток когда-нибудь и в Советский Союз. Как ты думаешь, кока-кола будет продаваться?
Она снова яростно закивала, приятно пораженная, что ее спрашивают о таких вещах. Напиток оказался превосходным. И тот господин в костюме, и другие, одетые как он, были официанты, поняла Женя. Она и раньше бывала в ресторанах, но когда официанты приносили меню, считала, что это список всех блюд в стране.
Бернард склонился над ней и спросил:
— Тебе помочь выбрать?
Удивление вернуло ей дар речи:
— Пожалуйста. А что из этого здесь есть?
— Все, — взрослые заулыбались, и Женя заулыбалась вместе с ними. Она знала, что это не могло быть правдой. Выбор в ленинградских ресторанах был намного меньше, и тем не менее из меню можно было заказать лишь два-три блюда.
Но официант записал их заказ и ни разу не ответил, как обычно говорят русские официанты: «Сегодня нет». Женя попросила выбрать блюдо Бернарда. Ей самой это оказалось не под силу.
— Немного мяса? Хорошо. Мы возьмем филе миньон, — говорил он по-английски официанту. — Как тебе оно нравится, Женя?
— Очень, — вежливо ответила она.
— Нет-нет, — рассмеялся американец. — Как ты больше любишь: прожаренным, полусырым или что-нибудь между.
— Как получится, — ответила Женя. Ресторанную еду нужно было принимать такой, какая она была, как молоко от коровы или плод с дерева.
— Тогда закажем средней прожаренности, — обратился он к официанту. — Будьте добры, список вин.
Женя никогда бы не подумала, что выбор еды и напитков может потребовать столько ответственных решений. Бернард листал перед ней список вин — страницу за страницей в кожаном переплете, а она не понимала, зачем он это делает. Вина есть вина, что в СССР, что во Франции — оттуда отец каждый год получал посылки. Кроме того, в Советском Союзе вина делились на первый, второй и третий сорт. Отец объяснил, что первый — значит приличные, второй — не очень, а третий — едва можно пить.
Бернард заказал нечто, что назвал цифрой 157, и официант удалился, удовлетворенный их заказом. Так, по крайней мере, показалось Жене, потому что он улыбнулся.
— Ну вот, — произнес Бернард и накрыл ладонью ее руку.
Она вопросительно посмотрела на него. Американец повернулся так, чтобы обращаться ко всем троим.
— Все по порядку. Ты знаешь, Женя, — начал он, глядя на Минну, — ты знаешь, что мы с твоим отцом заключили соглашение: я на короткий срок вывожу тебя на Запад, а он в это время решает свои проблемы. Сейчас еще слишком рано строить догадки по поводу даты его освобождения. Боюсь, что никаких конкретных сведений у нас о нем нет, — он говорил так, как будто вел деловые переговоры. — С братом все в порядке. Распоряжение о его выселении и выселении домработницы из дома застряло где-то в бюрократической неразберихе.
— Так он дома? С тетей Катей?
— Сейчас да.
— Но… — она запнулась. Было бы невежливо говорить это, после того как он и Круккаласы так много для нее сделали. Но если Дмитрий и тетя Катя дома…
— С ним все в порядке, — продолжал Бернард. — Будем надеяться, что и отца восстановят в правах или по крайней мере вернут в общество месяцев через шесть. Скажем, через год по самым пессимистическим прогнозам. Нам следовало и на этот случай разработать план.
Он говорил для Круккаласов, а не для нее. И Женя коснулась рукава рубашки американца.
— Я еду домой?
— Что ты имеешь в виду? — с тех пор, как он начал рассказывать о ее семье, Бернард в первый раз посмотрел на Женю. — Нам только-только удалось тебя оттуда вывезти.
— Домой… к Дмитрию.
— С ним все нормально, — повторил он, медленно чеканя слова, как будто разговаривая с глухой. — Но на следующей неделе или завтра положение может измениться. Прав на собственность у него никаких, — он взял обе ее руки. — Я обещал твоему отцу как следует о тебе позаботиться и намерен выполнить свое обещание.
— Так я еду с вами в Америку?
Он резко выпустил ее руки.
— Тебе нельзя. Оформление документов займет много времени. Когда они будут готовы, отец уже потребует тебя назад. Ты еще немного побудешь здесь с моими друзьями, — он вопросительно поднял бровь и посмотрел на Круккаласов.
Олаф кивнул:
— Она хорошая девочка.
— Пусть живет, сколько хочет, — поддакнула Минна. — Я подумываю сделать ее героиней моей книги: крепкая русская девочка приезжает в Финляндию, и тут начинаются удивительные вещи. Конечно, она будет на несколько лет помоложе — поближе к возрасту моих читателей. Пусть ей будет девять…
— А какие удивительные вещи? — спросила Женя. Как всегда, Минна сумела увести ее мысли от реальной жизни в мир грез.
— Волшебство. Будет заставлять печеных человечков ходить и разговаривать, нырять в озеро и выплывать с жемчужинами. Она спасет лошадь от жестоких хозяев, вылечит у птицы крыло, и та снова полетит.
— Мне нравится. А у вашей героини будет мое имя?
— Конечно, — когда Минна улыбалась, ее широкие щеки, казалось, налезали на глаза, кожа розовела, как клубничный крем, и на ней повсюду появлялись морщинки. За улыбкой рождался смех, поначалу звучащий, как отдаленный гром, но постепенно прокатывался по всему ее телу, набирая силу.
— Хорошо, — произнес Бернард. — Я рад, что Женя чувствует у вас себя, как дома. Ваше великодушие заслуживает дополнительного вознаграждения, — последние слова он сказал полушепотом, обращаясь к Олафу. Уши у того покраснели, и он отвернулся от американца.
После обеда Бернард попросил Женю прогуляться с ним.
— А почему бы вам не посидеть у меня в номере, — повернулся он к Круккаласам, доставая ключ от комнаты. — Там есть хороший коньяк и кубинские сигары. Ни в чем себе не отказывайте.
— Мы подождем Женю в холле, — сказала Минна.
— Или, может быть, в баре, — уточнил муж.
— Ну как хотите. Мы вас найдем. Дай-ка, Женя, я помогу тебе надеть жакет.
— Он такой красивый. Спасибо, что подарили.
Американец улыбнулся и взял Женю за руку:
— Мне нравится дарить подарки людям, которые получают от этого радость.
Они вышли в холодную ночь и дважды прогулялись вокруг площади, в морозном воздухе дыхание паром вырывалось изо рта. Все было почти как с отцом: ладонь покоилась на его руке и она соизмеряла свои шаги с его. Но в то же время все было по-другому: она шла после роскошного обеда с самым элегантным в мире человеком.
Он был без шапки, и когда они проходили под фонарем, Женя с восхищением разглядывала его волосы: отдельные ниточки сияли, как металлическая проволока.
— Все, что тебе потребуется, ты получишь, — произнес Бернард, и Женя вспомнила, как Минна назвала этого мужчину Жениным сказочным крестным отцом. — Только дай мне знать, что тебе нужно.
Она подняла глаза, но лишь на мгновение встретилась взглядом с Бернардом. Явное обожание ребенка заставило его вздрогнуть.
— Сделаю все, что в моих силах, — он уперся взглядом в мостовую.
— А можете вы вернуть домой папу? — еле слышно, не желая испытывать судьбу, спросила она.
— Это не в моей власти, — так же тихо ответил он.
— А можно я буду жить у вас? Ну пожалуйста.
Он весь напрягся, но продолжал вышагивать по площади.
— У меня нет детей, Женя. Никогда их не было. Может быть, следовало их завести, когда был молод. Но никогда не хватало времени. Слишком много всего надо было сделать. К тому же жены… У меня не было ни одной, которая бы имела склонность к материнству.
Жене льстило, что он разговаривает с ней, как с другом, как с равной.
— А к чему же тогда они имели склонность?
Бернард рассмеялся, и его смех не понравился девочке.
— К тому, чтобы пребывать в роли миссис Мерритт и тратить деньги. Заказывать наряды. Быть в кругу внимания. Понимаешь?
Она не понимала.
— Я хочу сказать, что совсем не знаю детей. Не знаю, как с ними разговаривать и что с ними делать. Нам будет трудно обоим, если ты приедешь жить ко мне.
— Я могу научить вас, как обращаться с детьми, хотя сама я уже не ребенок.
Бернард остановился, поднял ее лицо за подбородок указательным пальцем и поцеловал в кончик носа.
— Пожалуй, Женя; это лучшее предложение, какое мне когда-либо приходилось слышать. Спасибо.
Через час дома в кровати Женя пересказывала их разговор Минне. Женщина задумчиво слушала, потом улыбнулась, но без малейшего намека на смех.
— Бернард Мерритт как король далекой страны, — произнесла она. — Очень могуществен и очень богат. Очень многим он правит, владеет великолепными вещами, лучшими в мире — из драгоценных камней и металлов. Он умен и умеет читать в сердцах людей. И его собственное сердце из золота.
— Прекрасно, — пробормотала в полудреме девочка. Слова Минны она восприняла как начало волшебной сказки, а не как предостережение, которое женщина намеревалась ей сделать.
Пять месяцев оставалась Женя в Финляндии с Круккаласами. Потом ей было сказано уехать от этих людей, которые говорили с ней по-русски и сделались ее семьей. Ты не можешь жить в Финляндии бесконечно, сказал ей Бернард. Нужно было двигаться на Запад и совершенствовать свой английский, прежде чем приехать к нему в Америку.
Возбуждение от предстоящей дороги, долгого путешествия к опекуну в Нью-Йорк, стиралось от того, что Женя привыкла к Олафу и Минне. Последние дни в Финляндии прошли будто в трауре по тому, что предстоит.
И Круккаласы были подавлены надвигающимся отъездом Жени. Бездетная пара, они всегда были готовы принять в семью ребенка. Минна заполняла пустоту героинями и героями своих книг, но когда Женя во плоти попала в их дом, они получили то, что ждали долгие годы.
Они сопровождали Женю на корабле в Стокгольм и там грустно расстались. Женя настолько онемела, что не могла даже плакать. Помощник Бернарда в Швеции посадил ее на поезд до Гетеборга. А потом она снова плыла на корабле в Гаагу.
Голландия была ее последней остановкой на континенте, где была ее родина Россия. Оттуда она отплывала в Англию и вступала в англоязычный мир.
Ссылка Георгия окутывалась все большей и большей таинственностью, и даже Бернард не мог получить о нем никакой информации. И тогда он был вынужден задуматься о будущем Жени. С прошлого декабря она не посещала школу. Бернард не мог даже прикинуть, сколько еще времени она будет оставаться на его попечении. Единственное, что он знал, — ее отец еще жив. Посылки из Канады прибыли к Бернарду. Розовая Богоматерь и Георгий Победоносец с уведомлением, что заказ на зеленую клетку ткани выполняется. Это означало изумрудный крест. А потом, как бы много времени это ни заняло, поступит и она — Киевская Богоматерь.
Американец продумал образование Жени. Англия становилась промежуточной ступенью. Если в ближайшее время хоть какой-нибудь свет прольется на положение Георгия и его освобождение окажется близким, Женя будет все еще в Европе, и с наименьшими хлопотами ее можно вернуть отцу. Но если Сареев все так же останется заживо погребенным, Женя переедет в Америку, и Бернарду будет легче за ней следить. За лето он подготовит ее документы, а она тем временем станет совершенствовать английский, который учила в школе, с тем, чтобы свободнее говорить на нем, и в начале учебного года поступить в американскую школу.
В Англии Женя остановилась у Планкетт-Джоунсов, которые, как и все остальные люди, с кем ей приходилось встречаться на Западе, были деловыми партнерами Бернарда. Они жили в деревеньке, сплошь усаженной розами. Цветы росли повсюду: при въезде, увивали даже первые этажи коттеджей, стоявших вдоль дороги, которую кто-то, не слишком обремененный воображением, назвал просто улицей. Розы были самых разных цветов и даже полосатыми и размеров от небольшого шарика до чайного блюдца. Они переполняли воздух приторной сладостью, которую Женя ненавидела, потому что она напоминала ей запах гниения.
Ей не с кем было поиграть и не с кем поговорить, кроме англичанина-наставника. Планкетт-Джоунсы часто уезжали в Лондон, а дома в Кенте были заняты лошадьми или встречались с соседями. Женя ощутила одиночество и ушла в себя. Она не понимала страны, в которой очутилась, только видела пресыщенный розами сад и незнакомцев. Прямых вестей из Ленинграда с тех пор, как уехала оттуда, она не имела, и все ее письма Дмитрию оставались без ответа.
Во время одного из своих еженедельных телефонных звонков Бернард сказал, что Дмитрий был вынужден сменить место жительства, но он до сих пор не мог разузнать его нового адреса. А о Георгии по-прежнему не было известий.
Время в Кенте прошло, как сон, но сон не из приятных. Она как будто барахталась в воде, стараясь остаться на плаву. Кроме занятий английским, ничего не видела вокруг. Точно только что перенесла операцию и все еще поминутно впадала в наркотическое забытье, не подозревая, проходят ли дни, часы или недели.
В конце августа 1958 года учитель отвез ее в Саутгемптон, где она вошла на борт морского лайнера «Соединенные Штаты», чтобы завершить последнюю фазу своего путешествия и переплыть через океан, отделявший ее ото всего, что она знала.
6
В пять утра Женя стояла у поручней в кромешной темноте. Рассвет наступал медленно, расползаясь сероватой мглой, и корабль дюйм за дюймом приближался к берегу. Туман был слишком плотен, чтобы различить горизонт, отделявший небо от моря, воздух плотен и горяч. Чтобы дышать, Жене приходилось раскрывать рот.
По мере того как сумрак прояснялся и наступало утро, другие пассажиры выходили из кают на палубу, морщась от сверкающего света.
— Вот он Нью-Йорк, — заметил один из них. — Город, где воздух можно увидеть и потрогать.
Туман поднялся совсем неожиданно, как занавес на сцене. Послышались восклицания, люди на что-то указывали друг другу.
— Вот она там. Смотрите, леди показалась.
Женя взглянула налево и увидела статую Свободы.
Она видела ее изображение в книге о Нью-Йорке, которую давал ей Бернард, и в другой, которую читали с английским учителем. Огромная, подернутая зеленоватой патиной женщина, с факелом в поднятой руке, должна была символизировать свободу и надежду для всех угнетенных. Они проплывали мимо, и Женя разглядывала статую, одиноко стоящую на острове, и вдруг подумала: «Она, как я».
Был почти уже полдень, когда Женя спустилась по сходням, разыскивая в море лиц на пристани лицо Бернарда. Вот она ступила с трапа на бетон, впервые оказавшись на американской земле. Бернарда она не заметила, но зато разглядела плакат со своим именем. Подойдя к держащему его мужчине, сказала:
— Я — Женя.
Мужчина опустил плакат и вытер лицо платком.
— Хорошо, что встретил тебя. Я — шофер мистера Мерритта. Зовут меня Росс. Дай-ка мне твои багажные квитанции — вот так, хорошо, а теперь стой здесь и не сходи с места. Я на минутку, — он пошел прочь, и Женя увидела на спине темные пятна пота, проступившие сквозь форменную рубашку. Вокруг нее люди встречались друг с другом: объятия, восклицания, поцелуи, отцы подхватывали на руки детей.
«Он не пришел к кораблю, чтобы встретить ее».
Шофер вернулся с ее чемоданами удивительно быстро и поставил перед служащим таможни.
— Контрабанду везешь? — улыбнулся тот Жене.
Она не знала значения этого слова и вся напряглась.
— Ну что ж, на этот раз пропустим, — он подмигнул и подал знак рукой — убирать чемоданы. — Добро пожаловать в Нью-Йорк, дорогуша. Увидишь, мы тебе понравимся.
Росс, а за ним Женя пробирались сквозь толпу к огромной машине. Такой большой она еще не видела. Разве кроме тех, что возят на похороны мертвых правителей. Шофер открыл заднюю дверь, и она вошла, как ей показалось, в небольшую комнату с диванами и баром.
Машина тронулась. Из маленького громкоговорителя донесся голос Росса.
— Не желаете ли коки, мисс Сареев?
Женя отрицательно помотала головой в стекло, за которым находился Росс.
— Или чего-нибудь другого? Сока, лимонада? Все там в баре перед тобой. Просто нажми серебряную кнопку.
«Как в сказке, но в сказке жуткой».
— Спасибо, — ответила она в пустоту. — Почему Бернард не приехал, чтобы встретить ее? Может быть, он болен? Или вообще куда-нибудь уехал Америки?
В окне стоявшие рядом дома уходили вершинами в небо. Небоскребы, вспомнила Женя. Но небо они не скребли, они впивались в него остриями. Ее поселят в одном из них? Так высоко над землей?
Несмотря на обжигающую жару, улицы были полны народа и люди куда-то спешили. У некоторых в руках были бумажные пакеты. На скамейках под деревом двое мужчин распечатывали свои. Обед, поняла она и с облегчением подумала, что и в Америке есть настоящие люди.
— Вот мы и приехали, — раздался голос водителя. — У мистера Мерритта здесь тройка наверху.
— Тройка? — переспросила она, выйдя из машины. Перед ней возвышалось высокое здание, но справа зеленели деревья и трава — парк.
— Трехэтажная квартира в надстройке. Видишь ли, он владеет отелем.
— Отелем?
— Отелем «Франсуаз». Главный вход за углом с Пятой авеню, а здесь личная дверь мистера Мерритта, — он ввел ее внутрь и, с чемоданами под мышками, в лифт. Там было лишь две кнопки: «Н» и «X». — Надстройка и Холл, — объяснил Росс. — Мистер Мерритт даст тебе ключ.
Они поднялись наверх и вступили в прихожую, уставленную свежими цветами и увешанную картинами. Искусно вырезанная передняя дверь открылась, когда Женя приблизилась, и она оказалась в распростертых объятиях Мерритта.
— Добро пожаловать, дорогая моя.
— Это вы, — по-русски произнесла Женя и закрыла глаза.
Теперь она была выше, доходила макушкой ему почти до переносицы, но наклонила голову, нацелясь лбом в шею.
— Вас там не было… Когда я сходила с корабля…
Бернард ослабил объятия, но она по-прежнему прижималась к нему.
— Я был в конторе. Бросил все и примчался сюда, как только Росс позвонил мне из машины. Пойдем, Женя, — он ответил по-русски и отстранился от нее.
Слезы стояли в ее глазах. Он не был болен, не уехал из Америки, просто был занят.
Держа Женю за плечи на вытянутых руках, Бернард оглядел ее:
— Ты похудела, Женя. Ты здорова?
Она кивнула. В Англии единственной приличной едой был завтрак. Остальное было почти невыносимо.
— Росс позаботится о твоем багаже. Плавание было удачным? Отлично. Сейчас посмотришь квартиру.
Они стояли в холле за передней дверью — круглой ротонде с куполообразным потолком, таким же, как в комнате Дмитрия и Жени. Подвешенную к центру люстру крепили тонкие шнуры, в которые были вплетены миниатюрные стеклянные призмы, напоминающие радугу, пол отделан белыми и черными мраморными квадратами.
Жене не хотелось осматривать квартиру. Ей пришелся бы больше по душе прием, которым встречали людей с дороги дома: сажали за чай и долго-долго обо всем говорили. Ей о многом нужно было спросить. Но Бернард повел ее в первую дверь направо. За ней оказалась комната, похожая на музей во дворце: на стенах висели картины в тяжелых золоченых рамах, на персидских коврах стояла мебель из полированного дерева, обитая парчой. Все как будто напоказ, а не для того, чтобы пользоваться. Бернард указывал на предметы на столах и полках. Корзина, сплетенная из серебряных прутьев, до прозрачности тонкая китайская ваза, кувшин из литого золота с орнаментом из кораллов.
— Красиво, — говорила о каждом Женя.
— Этот дом полон прекрасных вещей. Большую часть своей жизни я занимаюсь коллекционированием. Сначала приобретал то, что мне просто приглянулось. Потом начал собирать систематически. Теперь у меня много коллекций. Не все так уж хороши, но весьма интересны: импрессионисты, африканское искусство, восточная коллекция. Большинство из них я держу в других домах, а здесь только самые лучшие вещи.
Они прошли в другую комнату, еще более прекрасную, чем предыдущая.
— А здесь есть кое-что, — Бернард указал на картину на стене, — что ты должна знать. Нет? Кандинский — один из величайших ваших мастеров. Моя русская коллекция охватывает тысячелетие — от икон до модернистов, которых советские власти клеймят «декадентами». У меня есть серебро Ивана Грозного, несколько стульев, принадлежавших Петру Великому. В библиотеке есть томик Вольтера, подписанный им Екатерине, и несколько страниц рукописи Толстого. Но больше всего я дорожу иконами, — последние слова он произнес со страстью.
Женя смотрела на удивительного человека — холеного американца, водящего ее по музею русских сокровищ.
Человек не может жить в таком доме, расстроенно думала она. Кто решится сесть на такую мебель? А что делать зимой с мокрыми ботинками?
Бернард не уставал напрашиваться на ее похвалы:
— А это правда Красиво? — перед ней оказалась маленькая статуэтка птички. — Правда, прекрасно? Сделана восемьсот лет назад.
Женя машинально повторяла «прекрасно» и «красиво», едва замечая предметы, на которые он ей указывал или к которым подводил.
Они поднялись наверх по спиральной лестнице, устланной красным ковром.
— Сейчас покажу, где ты будешь жить. Тебе, наверное, интересно.
Но ей не было интересно. Ей хотелось бежать от всей этой роскоши, от тирании вещей. Оказаться дома или в Финляндии. Америка оказалась слишком велика. Бернард, вышагивавший впереди Жени, казалось, отдалился больше, чем до того, как она его встретила.
— А вот твоя комната, — гордо объявил он. Спальня была большой, закругленные стены задрапированы материей, рисунками розовых бутонов. Ванная — лазурной, с большой мраморной ванной и телефоном на стене. Над потолком — как будто росли большие папоротники: их тени падали на дымчатые стекла.
Гостиная оказалась меньше спальни — голубой, с розовым с охрой ковром.
— Я отделал ее в стиле Версаля, — сказал Бернард, указывая на миниатюрный столик на тонких ножках, заканчивающихся птичьими лапами. На нем покоилась золотая шкатулка, инкрустированная яркими драгоценными камнями. Хозяин взял ее в руки. — Я поставил ее здесь специально для тебя, — улыбнулся он. — Она принадлежала Романовым. Пользуйся ей, как хочешь. Для заколок, булавок.
Женя вспомнила о деревянной шкатулке, хранящейся на дне ее чемодана, на крышке которой Олаф вырезал ее инициалы и подарил, чтобы она могла держать в ней свои «драгоценности».
Романовы. Версаль. Целая квартира для нее одной. Женя глубоко вздохнула, чтобы унять слезы. Жить точно на сцене. Почему нельзя ей было предоставить комнату, где-нибудь по соседству с ним?
— Красиво, — выдавила она.
Бернард показал ей маленькую кухоньку, где она сможет держать напитки в холодильнике или готовить себе, если пожелает.
Готовить себе? Зачем? Разве они будут жить не вместе?
— А мы разве… вы и я…?
— Что ты хочешь спросить?
— Разве мы не будем есть вместе? — еле внятно пробормотала она.
— Ну как же, дорогая. Будем как-нибудь по вечерам. В другие дни тебе придется есть с Соней, кухаркой; или если пожелаешь, она станет приносить еду к тебе.
— Но почему? Я ведь приехала жить к вам.
Он не глядел на девочку, как раньше, в Ленинграде. Глаза будто пронизывали ее и разглядывали что-то за ее спиной.
— Ты ведь останешься здесь лишь на короткое время, до тех пор, пока папа не сможет тебя забрать.
— А когда это случится?
— Не знаю, — в его голосе послышалось легкое раздражение. — Ты ведь понимаешь, как обстоят дела. Я обещал твоему отцу заботиться о тебе пока… пока, скажем, он не в состоянии сам это делать. Мы все полагали, что к настоящему времени он уже окажется на свободе. А пока я — твой опекун, и буду следить, чтобы у тебя было все в порядке. Через несколько дней ты пойдешь в школу…
Она глядела на него в ужасе. Они все еще стояли в коридоре напротив маленькой кухни. Внезапно Бернард стал мягче, взял ее за обе руки и развел их в стороны.
— Извини. Позже мы все обсудим, — он притянул к себе Женю, чуть постоял, а потом повернулся и пошел из квартиры.
— Постарайся понять, Женя. Я не твой родитель и не могу им быть.
Слезы, которые Женя сдерживала, хлынули из глаз.
— Ну, ну, — безнадежно попросил он. — Пожалуйста, перестань плакать, — и подождав, пока она справилась с собой, продолжал: — После обеда мне нужно быть в конторе. Приедут люди из Саудовской Аравии. Но вечер мы проведем вдвоем, — Бернард пригладил ей волосы и подал свой белоснежный платок, от которого пахло лавандой — чистым запахом улицы. Женя слегка улыбнулась и высморкалась.
— Славная девочка, — Бернард отказался взять обратно платок после того, как она им воспользовалась. — Теперь он твой. Ну как, тебе получше? Прекрасно. Я хочу познакомить тебя кое с кем из своего домашнего персонала. Они станут помогать тебе во всем. А как твой английский?
— Сносно, — она употребила английское слово.
— Очень уж по-английски. Я бы сказал — классно Мне нравится.
Они говорили по-английски, пока он знакомил ее со слугами. Но на кухне, огромной, как ресторан, и выложенной светлыми изразцами — «ручная работа из Испании. Сам выбирал каждый» — снова перешли на русский.
— Это Григорий. Григорий Леонтов, — перед ней стоял высокий, сутулый, как коса, человек с седыми усами и маленькой бородкой. — Григорий мажордом и отвечает здесь за все, даже за меня, — Бернард игриво похлопал управляющего по искривленной спине. — Мой камердинер.
Григорий согнулся над Жениной рукой, усы застыли в дюйме от нее:
— Очень приятно. Рад познакомиться.
— А это Соня. Она отвечает за Григория. К тому же, она лучшая в Нью-Йорке повариха — моя любимая женщина, — он подмигнул кухарке.
— Добро пожаловать! — она сердечно сжала Женину руку в обеих своих ладонях. — Много слышали о тебе от Бернарда Робертовича и вместе с мистером Мерриттом ждали твоего приезда. Нам с тобой есть о чем поговорить. Я ведь тоже из Питера, — Женя узнала старое название Ленинграда. — Чай готов. Подать в алькове?
— Где пожелает Женя. А мне, боюсь, придется бежать обратно.
Как будто по заказу появился Росс.
— Готовы, мистер Мерритт?
— Иду, — и повернулся к Жене. — Если хочешь посмотреть еще дом, попроси Соню. Она проведет с тобой обычную поварскую экскурсию, — Женя безучастно посмотрела на него.
— Постараюсь не задерживаться, хотя перед ужином придется остаться на приеме в ООН. Если тебе что-нибудь понадобится, обратись к Соне или Григорию. Они знают мой номер телефона в конторе, а секретарь в курсе, кто ты, — махнув рукой, он уже направился с кухни, но вдруг, точно что-то вспомнив, вернулся и поцеловал Женю в лоб.
Потом быстро вышел. Она стояла, глядя ему вслед, и вся сжалась от звука захлопываемой входной двери. Как будто получила удар в грудь. Потом сгребла стул и повалилась на него, помотав головой, когда Соня предложила ей чаю.
Кухарка посмотрела на девочку и поняла, как она расстроена:
— Ничего, утрясется, — мягко проговорила она. — Ты скучаешь по дому. Это естественно. Когда я уехала из Питера, я была еще моложе тебя. Как я тогда плакала! По ночам сновидения захлестывала одна только Нева.
Женя уронила голову на руки. Нева. Дом.
— Тебе здесь скоро понравится, вот увидишь, — успокаивала ее Соня. — Даже не захочешь возвращаться обратно.
Женя затрясла головой, но так и не подняла голову с рук. Если она не вернется, то на всю жизнь останется сиротой.
— Я совсем не отсюда, — тихо пробормотала она.
Над входом в школу Аш-Виллмотт в Риджент Парке, штат Коннектикут, красовался девиз, выбитый на потемневшей бронзе: «Veritas Est Fortis». В истине сила. Женя скользнула взглядом по буквам, когда они проезжали по выметенной дорожке к главному подъезду. Везут в тюрьму, подумала она. Как и отца. Только другая тюрьма, вроде того дворца, в котором она провела почти неделю. Ей не понравились кусты, деревья, аккуратно подстриженные газоны, вид на реку, а больше всего девочки, которых увидела из окна машины — в глупых брючонках выше колен, разгуливающие парами или небольшими группками, смеющиеся и о чем-то разговаривающие.
Росс прошел с ней в кабинет старшей управляющей и представил Женю мисс Виллмотт.
— Спасибо, — поблагодарила его седовласая женщина, чей голос прозвучал, как туго натянутая струна. — Вы больше не нужны. Теперь я сама обо всем позабочусь.
Женя страстно сжала руку шофера, желая, чтобы он задержался, хотя бы еще на секунду.
— Евгения Сареева, — начала мисс Виллмотт. — Вы необычное приобретение для нашей школы. Учениц из вашей страны у нас еще не было, хотя есть девочки даже из Аргентины. Уверена, что вы почувствуете себя здесь, как дома. Но если вас будет что-нибудь беспокоить, приходите сюда и откровенно рассказывайте мне обо всем.
Никогда в жизни, думала Женя, глядя в ее суровое лицо. Ей бы очки, и она бы выглядела как судья, приговорившая ее мать.
Старшая девочка показала Жене ее спальный корпус — Сьюзан Энтони Хаус, простое деревянное строение на вершине холма, глядящее на реку. Ниже располагались теннисные корты, а еще ниже — конюшни.
— Меня зовут Лея, — представилась девочка. Я живу в Апхра Бен Хаусе. Я — старшеклассница, а Сьюзан Энтони для новых учеников — младших или средних. Там много иностранок. Ты с ними подружишься.
Она показала Жене ее комнату — маленькую и скромно обставленную: только кровать, письменный стол и умывальник с зеркалом. На стенах никаких картин.
— Ты понимаешь, что я говорю? — ее тон сделался недружелюбным. — Ты знаешь английский?
— Немного, — ответила Женя. Окно ее комнаты выходило на теннисные корты. Занавески были светло-табачного цвета.
— Ты из России? — спросила Лея, и Женя почувствовала, что она рассматривает ее, как диковинный предмет.
— Да.
— Там и вовсе плохо? Коммунизм.
Женя пожала плечами.
— Тебе повезло, что вырвалась, — Лея все так же пристально глядела на нее. — Должно быть, рада, что оказалась в свободном мире.
— Спасибо, — проговорила Женя, проглатывая комок. Ее чемоданы уже стояли посередине комнаты. Она поставила один из них на кровать и принялась распаковывать, повернувшись спиной к американке.
— Так у тебя еще есть вопросы?
— Нет. Спасибо.
— Ну, тогда я пошла. Счастливо.
Следующие несколько дней Женю тестировали, чтобы понять, в какой класс поместить. Английский язык она понимала великолепно, но понимание намного превосходило способность говорить. По математике заработала высший балл и официально попала в одиннадцатый класс, где в свои четырнадцать с половиной лет оказалась среди девочек, большинство из которых были на год старше нее.
Несмотря на предсказание Леи, Женя не обзавелась подругами. Она не решалась разговаривать с этими длинноногими самоуверенными девчонками, чьи лица казались ей закрытыми. И из них никто не попытался подружиться с ней. Напротив по коридору жила дочь Рокфеллера, рядом за стеной дочь Вандербильта. Женя узнала имена магнатов и богачей.
Она ощущала их враждебность. Разговоры прекращались, когда она проходила рядом, и Женя понимала, что говорили о ней. Она была изгоем, источником заразы, в ней видели коммунистку — носителя странного заболевания, которое можно подхватить, стоит только с ней пообщаться. Четверо латиноамериканок, живших в ее корпусе, много путешествовали по свету, говорили на великолепном английском и все до безумия интересовались лошадьми.
Дмитрий частенько обвинял Женю в «политической наивности». Она была хорошей пионеркой, а пионерская организация — организация патриотическая. Но Женина идеология складывалась, как у большинства подруг: она все принимала на веру и ни о чем не задумывалась. Она читала то, что ей говорили, повторяла лозунги, когда было нужно. Слово «хороший коммунист» означало для нее хороший человек. А пионерскую организацию она любила за то, что в ней состояли ее друзья, и они все вместе строили что-то полезное.
А потом одного за другим арестовали ее родителей. Женя ничего не знала о политике и по-настоящему ею никогда не интересовалась. Для нее люди были людьми, а идеология вела к «ошибкам», так называл их Дмитрий. «Идеология» привела к тому, что она осиротела, ее вынудили уехать из страны. Она любила Россию и своих соплеменников, но не испытывала враждебности и к американцам. И все же как ей было полюбить их, если они смотрели на нее как на парию?
Она одна шла на занятия и ловила на себе оценивающие взгляды: ее одежда — блузки, юбки отличали в ней иностранку. Хотя школа и не предписывала никакой формы, все девочки носили короткие брюки (Женя узнала, что они называются бермудами), хлопчатобумажные мальчишечьи рубашки и гольфы до колен. Волосы собирали в хвостик или носили распущенными. Все девочки говорили как-то одинаково, как будто половину слов пропускали через нос. И Женя в молчании удалялась.
За три недели она так устала, что едва могла дотащиться до классной комнаты. Голова болела, все тело стало водянистым, но когда по воскресеньям звонил Бернард, она отвечала, что у нее все в порядке.
— Что-то по голосу не похоже, — беспокоился он. — Звучит как будто ты подхватила простуду. Сходи-ка в лазарет. Пусть тебя проверят.
— Хорошо, — отвечала она. — Спасибо, — а когда Бернард клал трубку, забиралась в кровать и натягивала на себя одеяло, даже если стоял жаркий солнечный день.
В тот раз через несколько минут после его звонка ее разбудила смотрительница спального корпуса — молодая жилистая женщина, которая должна была смотреть за девочками, быть им дуэньей, но которая на самом деле редко выходила из своей комнаты и даже не знала имен всех своих подопечных. Она склонилась над Женей, и выражение беспокойства появилось на ее лице:
— Ты не заболела? Твой опекун звонил декану.
Женя отвернулась, но смотрительница упорствовала. Пощупала прохладной худощавой рукой ее лоб, потом поставила градусник под язык, а вынув и посмотрев на него, тихонько присвистнула. — Нужно сейчас же отвести тебя в лазарет.
Она помогла Жене одеться, упаковала маленькую сумочку с туалетными принадлежностями и проводила по ухоженной лужайке в лазарет за часовней.
У Жени была температура — 104 градуса [2]: она подхватила азиатский грипп. В лазарете ей пришлось проваляться десять дней. Бернард прислал ей розы — целую дюжину: золотистые, темно-красные, бордовые; все с длинными стеблями. Женя попросила сиделку их унести — как и в Англии, запах был всепроникающим, а их сладостная гнилость бередила желудок.
Первые четыре дня она лежала одна и почти все время спала. На пятый день, когда угроза заражения других миновала, ее перевели в небольшую палату с четырьмя кроватями. Две из них пустовали.
Женя проснулась после полудня и увидела над собой лицо внимательно вглядывавшейся в нее девочки. Та была в больничном халате, босоногая, волосы сбились вперед. Заметив, что Женя открыла глаза, она слегка отпрянула.
— А ты красивая, — произнесла она как бы извиняясь. — Хай!
— Хай.
Глаза у девочки были маленькими, нос небольшим, а рот широким, широкое лицо все усеяно веснушками. Какое-то вдавленное лицо, подумала Женя, но дружеское и открытое. Она улыбнулась.
— Ты ведь русская?
— Да.
Девочка ухватила Женю за руку и крепко, по-мужски, пожала.
— Лекс Вандергрифф. Лекс — сокращенно от Алексис. Так меня зовут, — улыбка, как солнечный луч, осветила ее простое лицо.
Женя села на кровати и представилась.
— Я несколько раз видела тебя в школе, — сказала Лекс. — Клянусь, ты выглядела великолепно. Но вблизи ты просто чудо! Настоящий динамит!
Женя рассмеялась. Она знала слово «динамит». Но как можно человека сравнивать со взрывчатой смесью? Лекс изъяснялась очень забавно.
— Как это мы раньше с тобой не встречались? Ты живешь в общежитии? Или ты все время болеешь, как те русские героини, которые умирают от обжорства?
— Да нет, я очень здорова.
Лекс скосила голову на сторону и внимательно посмотрела на нее. Что-то не выглядишь такой, решила она.
Женя привыкла, что ее изучают девочки, но с Лекс все оказалось иначе. Другие смотрели на нее как на бесчувственную диковину, которая не способна заметить их интереса. Лекс глядела на нее с восхищением.
— Так что же ты подхватила? — но прежде чем Женя смогла ответить, забралась на ее кровать и затараторила. — Расскажи мне про Россию, про меха, про снег. Обо всем. Как ты сюда попала? Что значит ощущать себя русской? — она так быстро сыпала словами, что они, казалось, сливались в один знак вопроса.
— Что же мне тебе рассказать? — безнадежно переспросила Женя.
— Расскажи о предках.
— О ком?
— О родителях. Об отце и матери.
— Их… нет.
— Умерли? — с интересом спросила Лекс.
— Нет, их забрали, — Жене не хотелось говорить «в тюрьму» или «в ссылку». Что могла подумать ее новая подруга? И как объяснить ей все это?
— Что это значит? — не отставала Лекс.
— Я еще плохо говорю по-английски.
Лекс взглянула на нее и, различив на лице встревоженное выражение, спросила:
— А как ты добралась до Америки?
Но через несколько дней Женя понемногу рассказала историю своей жизни. Лекс слушала зачарованно, слегка озадаченно, извергая потоки вопросов, как только Женя приостанавливалась, пока не уясняла, что та хотела сказать.
Женя рассказывала об аресте родителей, их исчезновении, увечии отца, о потере брата, о стране — обо всем. Иногда ей не хватало слов. Когда Женя начинала плакать, Лекс обнимала ее и укачивала, как маленькую. И девочка чувствовала, что неимоверная ноша становится легче, хватка огромной злобной птицы ослабевает. Пока она рассказывала — об отъезде из России, о Круккаласах, об опекуне, у которого не хватает на нее времени — камень спадал с сердца, лед начинал растапливаться. Лихорадка приносила живые образы.
Желудочный грипп заставлял Лекс внезапно, посредине фразы вскакивать, хвататься за живот и убегать в ванную. Но несмотря на болезнь, девочки безостановочно болтали, шептались в темноте после того, как гасили свет, уменьшили проход между кроватями, чтобы можно было держаться за руки, когда на обход приходили врачи.
Удивительно, думали обе. Они родились в противоположных концах Земли, воспитывались в противоборствующих идеологиях, но потребовалось несколько дней — даже меньше — чтобы они сблизились, точно сестры. Обе ощущали это, но не понимали, как произошло.
Рожденная в семье Вандергриффов, богатейшего и могущественного американского рода, Лекс воспитывалась на конных прогулках, теннисных кортах, прогулках на яхте, бассейнах, путешествиях в Европу, в пятнадцать лет имела спортивную машину. Она получила в наследство жизнь, о которой мечтает большинство девчонок. Но гораздо больше роскоши Женю интересовала семья подруги. Она разрослась, пустила ветви по всей стране. У самой Лекс были отец, мать и старший брат — все очень близкие девочке.
И все же она чувствовала себя одинокой. Она призналась новой подруге, что с самого раннего возраста, с тех пор, как пошла в школу, ее преследовала мысль, что произошла ошибка и на самом деле она не принадлежит этой семье.
— Ты слышала о гадком утенке? — спросила она Женю.
Та не знала, и Лекс рассказала ей сказку, а в конце добавила:
— Я оказалась неправильным ребенком, не от родителей, а от других особей. У меня все, как в сказке, только наоборот. Это они лебеди, а я утенок, а может быть, даже мерзкая жаба.
Всю жизнь, объяснила Лекс, ее угнетало социальное положение ее родителей, необходимость быть на виду, преуспевающей, честолюбивой и к тому же красивой. Она была уверена, что не обладает ни одним из этих качеств, а потому не может оправдать ожидания семьи. Родные блистали великолепием — такими их видел весь мир и Лекс — и от этого ее жизнь становилась еще мучительнее и тягостнее.
Жене казалось, что Лекс имеет все, чем только можно обладать в жизни. Для американки Женина красота была превыше всех остальных ценностей мира. И хотя ни одна из девочек не могла до конца понять одиночества другой, они сошлись вместе, как две плакучие ивы, образовали вокруг себя раковину, дополняя друг друга, и были счастливы.
— А этот, твой опекун, Мерритт. Я думаю, мои родные его знают. Я как-то уже слышала о нем, — Лекс сидела на кровати, скрестив ноги. Стоял дождливый октябрьский день, четвертый с тех пор, как они встретились. — Он большой ловкач.
— А что это такое?
— Первоклассный пройдоха. Пробивной человек. Он хоть симпатичный, а?
— Когда я его встретила впервые, то решила, что он очень привлекательный и культурный, — последнее слово Женя произнесла по-русски.
— А что это значит?
— Образованный, элегантный.
— А теперь? — Лекс достала из-под подушки сигарету и закурила. Табак был строго запрещен во всей школе, а уж в лазарете тем более. Она глубоко затянулась. — Ты и теперь считаешь его обаятельным?
— Я не могла долго прожить с ним. Он — как у вас говорят — не в этом мире.
— Не от мира сего? — пыталась ухватить смысл Лекс. Она подошла к кровати подруги и предложила ей сигарету. Женя несколько раз быстро пыхнула дымом и вернула сигарету обратно. — Он очень занят. Когда я приплыла в Нью-Йорк, даже не можетменя встретить.
— Не смог, — машинально поправила Лекс. — А как было на корабле? Бал устраивали? Расскажи… — она зажала сигарету между большим и указательным пальцем огоньком к себе и стала его разглядывать. — Надо будет как-нибудь попробовать опиум.
Женя пожала плечами, не зная значения слова. С тех пор, как она встретила Лекс, она соглашалась со всеми ее планами и проказами. Вчера они возили друг друга по лазарету в кресле-каталке до тех пор, пока сестра не накричала на них и не загнала обратно в кровати. Вечером Лекс заказала из города пиццу и, предложив роскошные чаевые разносчику, заставила его влезть с ней к ним в окно на третий этаж.
— Никакого бала. Даже не пришлось ни разу потанцевать, — ответила Женя. — Всю дорогу за мной присматривали, как будто я какая-нибудь ценность, которую могут стащить. Представляешь?
— Шутишь? — Лекс сделала последнюю глубокую затяжку. — Если не понимаешь, посмотри на себя, — и она юркнула в туалет затушить окурок, пока не появилась сестра.
— Так, так, — произнесла медичка, подозрительно принюхиваясь. — По крайней мере мне не долго осталось возиться с вами, озорницами. Одну из вас завтра выписывают.
— Кого? — спросила Лекс.
— Ее, — сестра указала на Женю.
— Тогда мы уйдем вместе, — заявила Лекс тоном, не терпящим возражений.
В следующий уик-энд в Аш-Виллмотт ненадолго приехал Бернард. Женя вежливо поблагодарила его за розы, которые он прислал ей в лазарет.
— Рад, что они тебе понравились, — Бернард принял благодарность за свою заботливость — не забыл вовремя дать поручение секретарю.
Они поехали в Риджент Парк Инн, старинный отель Новой Англии, где подавали вечерний чай. Посетители провожали их глазами, когда они появились в ресторане. Женя понимала, что Бернард — человек яркий и выдающийся и гордилась тем, что ее видят с ним.
Из окна у столика виднелась живая листва — самое красивое, что Женя встретила в Америке. Осень здесь, точно лето, полыхала красками: от желтой до пурпурной и темно-бордовой. Не кривя душой, она сказала, что в школе ей нравится, и решила поделиться, как познакомилась с Лекс. Но услышав ее имя, Бернард скривил губы. Да, Вандергриффы влиятельны, признал он, но с некоторыми из них у него случались неприятности.
— Не хочу, чтобы ты с ними дружила, — заявил он. Женя уже собиралась запротестовать, но он тут же добавил: — У меня для тебя кое-что есть, — под серебром волос его глаза казались чистыми, как быстрый поток. — Ты давно этого ждала. Письмо от брата.
Голова у Жени закружилась, будто вновь вернулась лихорадка. Бернард достал конверт.
— Два месяца шло до Нью-Йорка. Читай.
Ленинград
17 августа 1958 г.
Дорогая сестричка!
Мы постоянно о тебе думаем, хотя и не получили ответа на наши письма. Надеюсь, это хороший знак. Уверен, у тебя уже много друзей, может быть, есть даже мальчик и ты довольна.
Я много занимаюсь и смею надеяться на место в университете в ближайшем будущем. У нас с Катей все в порядке. Только допоздна не даю ей спать — не гашу свет и скриплю пером. Как я тебе прежде писал, наше жилище причудливо, как кукольный домик.
Ну да ничего, мы все здоровы, а Катины пирожки по-прежнему восхитительны. О наших родственниках здесь ничего не слышно, хотя не приходится сомневаться, что и они здоровы и сыты — на апельсинах и других вкусных вещах.
Подарок ко дню рождения, который я посылал тебе давным-давно, у меня. Так что просто знай, что я о тебе думаю.
И я знаю, что ты помнишь обо мне. Поэтому не трать времени на письма. Ты навсегда останешься в моем сердце, а я надеюсь остаться в твоем.
Твой любящий брат
Дмитрий.
Женя закончила чтение с сухими глазами, не испытывая никаких чувств.
— Не от него, — решительно заявила она по-русски.
— Боюсь, девочка, что именно от него.
Она затрясла головой.
— Он никогда так не говорил. Писал кто-то еще. И он никогда не называл меня дорогой сестричкой — Женей, Женечкой, даже красавицей — родительским прозвищем, но никогда сестрой.
— Письму требовалось пройти цензуру. Оно представляет определенную опасность, и брат хотел, чтобы ты это поняла. Разве ты не видишь, что оно написано как бы кодом.
Женя покачала головой. Ее руки задрожали и она отодвинула чашку.
— Назвав тебя «дорогой сестричкой»вместо того, чтобы обратиться по имени или употребить привычное прозвище, брат хотел дать тебе знать, что письмо могут читать и другие, кто должен убедиться в том, что здесь все открыто и ничто не скрывается.
А теперь посмотрим на письмо повнимательнее. «О наших родственниках ничего не слышно».Это означает, что они в ссылке или тюрьме. Упомянув «апельсины»,он, наверное, намекает на Сибирь. Может быть, Дмитрий точно и не знает, что твои отец, мать, а вероятно, и оба в Сибири, но он так предполагает. По моим сведениям, твой отец находится не более, чем в тысяче миль от Ленинграда.
— А почему вы не узнали, куда его услали? — Женя широко открытыми глазами смотрела на Бернарда.
— Я пытался, — резко ответил он. — Твоя мать, не исключено, и в Сибири, а может быть, и нет. В основном мы старались выяснить судьбу отца.
Женя снова просмотрела письмо Дмитрия. Почерк был знакомым. Если оно являлось кодом, как утверждал американец, то что означало «жилище, причудливое, как кукольный домик»?
— Готов спорить, что они живут очень тесно. Наверное даже без канализации. Дмитрий на студенческую стипендию, а домработница на пенсию за мужа. И не странно ли, что они живут вместе?
— А какой у него адрес?
— Я не знаю, Женя. Но он просил тебя не писать. Подарок ко дню рождения, каким бы он ни был, вернулся обратно. И ни одно из других его писем не попало к тебе.
— Но почему мне ему не писать? — это ведь ее брат, ее семья.
— Потому что, Женя, — Бернард говорил очень раздельно, — потому что он просит тебя об этом. Если ты не послушаешься, его поступление в университет может оказаться под угрозой; не забывай, что его родители осуждены за преступление против общества, а сестру могут принять за перебежчика.
— Меня? — но ей не требовалось ответа. Она никуда не сбежала, как и ее родители не совершали преступлений. Но это не имело никакого значения. Женя свернула письмо и положила в сумочку. Брат снова оказался для нее недоступен, а его письмо подтверждало, что ее прошлое умерло.
Она закрыла сумочку и посмотрела на Бернарда. Какое будущее он уготовил ей? Глаза американца скользнули по ней. Вот так бы он глядел на нее, будь она портретом или фотографией.
Только с Лекс, подумала она, только со своей новой подругой я ощущаю себя живой, только она принимает меня такой, какова я есть.
— Пожалуйста, — попросила Женя. — Я хочу сейчас же вернуться в школу.
7
Лекс сумела махнуться комнатами с Франки Рокфеллер, та ухватилась за возможность перебраться в корпус для старших. Для внешнего мира слова Вандергриффы и Рокфеллеры были почти синонимами. Но хотя Лекс и Франки смутно понимали, что их меряют одними и теми же мерками и поэтому они должны вести себя как члены одного клуба, до дня обмена они едва ли сказали друг другу больше, чем «здравствуй».
Администрация, уставшая от бесплодных попыток провести грань различия между двумя наиболее известными семьями в Америке, две недели не замечала подмены, а когда наконец обнаружила, приняла лишь символические меры. Лекс обосновалась в комнате напротив Жениной, и девочки стали вовсе неразлучными.
Они посещали различные занятия, но встречались сразу же после них. Женя попросилась в команду пловчих, в которой Лекс состояла с первого года в Аш-Виллмотте, и тотчас была принята. Лекс установила рекорд школы в кроле. Ежедневные летние Женины заплывы на даче, где она переплывала озеро, научили ее выносливости в воде. И уже через шесть недель после поступления в команду с Лекс в качестве тренера, Женя стала серьезным претендентом на звание лучшей в вольном стиле.
Подруги вместе ели, вместе готовили домашние задания, вместе мыли волосы в соседних душевых кабинках, и в свободное от занятий время расставались только для сна. По выходным, когда им разрешали выходить в город, Лекс вела Женю в магазины и на деньги, которые регулярно, первого и пятнадцатого числа, подруге переводили адвокаты Бернарда, снабдила ее полным гардеробом из магазина в Нассау: бермудами, рубашками со свободными воротниками и какими-то одежками, которые Женя посчитала бесформенными, но американка назвала «университетскими» — шотландскими свитерами и спортивными куртками.
— Знаешь, а тебе дают на содержание в три раза больше, чем мне, — сказала Лекс, когда они покончили с покупками. — Сплошная показуха.
— Что?
— Новые деньги даются легче старых. Что-нибудь в этом роде, — она обняла подругу за плечи. — Когда я была маленькой, то думала, что мы очень бедные. Я получала четверть доллара в неделю, а все другие дети гораздо больше. Но потом я поняла, что им приходилось экономить деньги, а я могла тратить все подчистую. Я была ужасной транжирой, — рассмеялась она. — Покупала все, что попадалось мне на глаза: лакричные сиропы, сахарные батончики, сосульки. Леденцы, — поправилась Лекс.
— А мне не давали денег, — сказала Женя. — Да они мне были и не нужны. Не на что было тратить.
В новой одежде, с волосами, зачесанными под беретом за уши, Женя почувствовала, что принята остальными девочками. Ее дружбу с Лекс оценили. Хотя ту и считали одиночкой, в школе она пользовалась уважением. У нее не было близких подруг, а потому и врагов. Она не принадлежала ни к одной компании, а поэтому ее часто призывали, чтобы разрешить спор. Ее независимость и ореол, отбрасываемый именем рода, заставлял девочек глядеть на Лекс снизу вверх. И в качестве ее подруги, Женя не являлась больше чужой или еще хуже — вероятной коми.
Их любовно прозвали «ужасными близнецами» — кличкой, придуманной Цинцией Вурлитцер, получившей высший балл по психологии в старшем классе. Она вычитала эту кличку в книжке о формировании характера детей Гезельским институтом, и термин точно подошел к девочкам, постоянно предающимся шалостям.
Большую часть времени Женя казалась радостной. Но выходные иногда повергали ее в задумчивость и даже в меланхолию, когда в школу прибывали машины с родителями, приехавшими навестить дочерей, взять их с собой на прогулку или в ресторан. Как бы то ни было, но к ноябрю Женя ощутила, что принадлежит к Аш-Виллмотту, и не могла уже понять, почему ей так не понравилась школа раньше. Ее акцент все еще выдавал в ней иностранку, но под неусыпным присмотром Лекс она стала большим знатоком американского сленга.
В середине ноября подруги сидели скрестив ноги на полу в комнате Лекс, обложенные, как осенней листвой, разбросанными листами с домашним заданием. С Виктории Вудхолл, где располагался кафетерий, прозвучал колокол к обеду. Состроив кислую физиономию, Лекс подняла глаза и смешала свое устройство американского правительства с Жениной биологией.
— Опять на жратву. Посмотрим. Пять против трех, будут пирожки с опилками, жаренные на соплях.
Женя потянулась и широко улыбнулась:
— Семь к четырем — рыбьи потроха в ореховом масле.
— Идет! — завопила американка и, вскочив, потащила Женю с пола. Девочки протопали по листам разлетевшейся домашней работы, схватили куртки и побежали в сторону Грязного Холла,как Лекс именовала Вудхолл.
Деревья, кроме вечнозеленых, сбросили листья, земля потемнела и стала твердой.
— Только посмотри, — недовольно пробормотала Лекс, упрятав руки в карманы. — Какой-то дурдом. Когда же наконец выпадет снег? Ноябрь нужно вычеркнуть из календаря. Он никому не приносит радости.
— Согласна, — признала Женя.
Мимо них прошмыгнули три девочки, спеша от корпуса Сьюзан Энтони в столовую.
— Привет, близняшки, — выкрикнула одна из них.
Ни Лекс, ни Женя не ответили.
— Помедленнее, — предупредила Лекс. Они всегда старались оказаться последними, чтобы занять отдельный столик.
— Последний год и вот надо ж, ноябрь. Последний шанс поразвлечься перед тем, как окажусь в счастливых охотничьих угодьях.
— Не знаю этого выражения, — Женя шла мягкой походкой гейши.
— Кончина. То, куда добрые девочки из хороших семей, как моя, возносят свои молитвы. Еще называют «повыставляться». Завернуться в цветную простыню и чтобы с запястий свисали номерки из прачечной. А волосы так напомадят, что они станут твердыми, как картон.
— Для чего?
— Чтобы выйти замуж, — Лекс сморщилась, плюнула в дерево и не промахнулась. — Вот почему следующим сентябрем я не отправлюсь в колледж. Свободный год за хорошее поведение. Вот чего от меня ждут. Думают, повезет и я подцеплю кого-нибудь родовитого, вроде нас самих, и женю на себе. А если это случится, мне вовсе не будет смысла поступать в колледж, — Лекс хоть и была на полтора года старше Жени и перешла во вторую ступень, все же оказалась моложе других старшеклассниц. Ее родители настаивали, чтобы до восемнадцати лет она повременила с колледжем и год понаслаждалась в дебютантках.
— Но не тут-то было! Говорят, можно подтащить лошадь к стойке, но попробуй-ка заставить ее выпить виски. Ничто человеческое дебютантку не ждет. Приходится танцевать с марсианами, замаскированными под людей — мальчиками в клубных пиджаках, у которых между ушей пусто и кто умеет говорить только о самих себе.
Женя рассмеялась:
— Так не ходи на танцы, — предложила она.
— Ты серьезно? Звучит так, будто ты советуешь мне не приходить на собственные похороны. Это просто убьет родителей. Но, — Лекс понизила голос, — не представляешь, как это убивает меня. Ужасно. Только посмотри на меня.
Женя обернулась. В свете, заливавшем окружность Грязного Холла,она увидела приземистую девушку с волосами шатенки, мелкими чертами лица и широким ртом. Ее подбородок выдавался вперед, лицо исказила гримаса.
— Я явно не гвоздь сезона, — горько заметила американка. — Даже не обычная заурядная простушка. Страшна, как крыса. И если на этих самых танцах кто-нибудь вздумает со мной заговорить, то лишь для того, чтобы меня отвлечь из опасения, как бы я его не искусала. Я умею говорить вещи, которые ждут от меня марсиане: «О, какой у вас совершенно замечательный галстук! Где это вы сумели его достать? В магазине?
Просто великолепно!» — Лекс на секунду прекратила кривляния, чтобы дать возможность рыдающей от смеха Жене перевести дыхание, потом продолжала: — Или вот: «Что это у вас такое на руках? Мускулы? А я думала, Гималаи, такие они большие». Идиоты. Калеки. При них нельзя ругаться, закурить сигарету, положить ногу на ногу и вроде даже дышать. У каждого из них есть очаровательная маленькая штучка — мужское я, — и оно рассыпается во прах, если девушка при них скажет «дерьмо». Я серьезно. Просто дурдом.
Женя обняла подругу.
— Какая ты смешная. Готова спорить, ты нравишься ребятам.
— Пошли они подальше, — горько заявила Лекс.
Женя, никогда не слышавшая от нее таких грубостей, отступила, американка протянула ей руку:
— Какая ты милая. До тебя у меня никого здесь не было. И я сама ничего не значила. Страшенная рожа. А посмотри на себя. Красавица. Самая красивая девушка на свете. На моем месте ты была бы лучшей невестой года.
Они вошли в кафетерий и сели за пустой столик. Никто на них даже не взглянул — привыкли, что «ужасные близнецы» всегда опаздывают.
— Дождалась моего последнего года в школе и только тогда объявилась, — продолжала Лекс. — Зато теперь я чувствую себя более живой, чем когда бы то ни было.
— И я тоже! — воскликнула Женя.
Разносчик сердито посмотрел на девочек и плюхнул перед ними на стол тарелки.
— Ты — сказка, Женя. Нет, Женя — ты просто джинн [3]. Вот так-то, — Лекс вскочила и громко застучала ножом по стакану, пока вся столовая не затихла. — Внимание! — объявила она. — Сейчас у нас будет крещение!
Несколько девочек прыснули, не понимая, что собираются делать «близнецы». Лекс держала стакан в левой руке, а правой обильно окропила водой волосы подруги.
— Нарекаю тебя Жени — джинном, творцом чудес!
Вокруг раздался громкий смех, и Лекс нагнулась к подруге:
— Нормально? — волнуясь прошептала она на ухо.
— Здорово, — ответила новообращенная Жени, улыбаясь и стряхивая воду с волос.
Лекс больше не возвращалась к своему мертвящему будущему. Вместо этого она шутливо завопила:
— К черту ноябрь! Он приносит революцию.
— Дома так и говорили, — рассмеялась Жени. Ей нравились шутки о России.
— Но у вас зашли слишком далеко. А я думаю о небольшом развлечении.
Жени по-прежнему соглашалась с планами подруги. Они написали любовное послание мисс Трашер, учительнице химии, и подписали его именем преподавателя французского языка Пьерра Руссо. А потом послали месье Руссо приглашение на ужин при свечах, от имени Мери Трашер. И стали внимательно наблюдать за учителями, подмечая признаки начинающегося романа. Но все оставалось спокойным, желанного скандала не возникало.
Потом занялись виноделием, вымачивая в водке дольки дыни и продавая их девочкам в общежитии.
На следующий день смотрительница заметила, что в корпусе Сьюзан Энтони несколько учениц не могли удержаться на ногах, и мисс Виллмотт строго отчитала Лекс и Жени у себя в кабинете. Старшая управительница, внучка основателя школы, заявила подругам, что ее заведение — не место для хулиганок и алкоголичек.
Девочки прыснули, однако утихомирились со своими проделками. Но только до февраля, темнота которого еще сильнее, чем ноябрьский сумрак, подвигала их на новые шалости.
Лекс была вдохновителем, а Жени исполняла ее замыслы. Она пролистала учебник по химии и по вечерам проскальзывала в лабораторию, испытать различные формулы. И через две недели нашла то, что им было нужно. Принесла Лекс бесцветную жидкость и торжествующе заявила:
— В ней секрет женственности.
Накануне соревнований по плаванию, которые школа Аш-Виллмотт проводила с гостьями из Гринвича, девочки пробрались в бассейн и опустили в воду сосуд с жидкостью.
На следующий день в десять утра началась встреча. Команда Гринвича выиграла заплывы в кроле и брассе. В марафоне они тоже оказались впереди.
Сидя на краю бассейна, Лекс свесила в воду руку и выдавила содержимое бутылочки.
Когда вокруг лидера команды Гринвича вода окрасилась в кроваво-красный цвет, та сбилась с ритма и в замешательстве остановилась. Вода продолжала краснеть, и марафон был сорван. Результат объявлен недействительным.
— Лучше уж такой выкидыш, — прошептала Лекс Жени.
Смех девочек не укрылся от тренера по плаванию, и он сообщил о своих подозрениях мисс Виллмотт. Старшая управляющая вызвала подруг к себе в кабинет и допрашивала с таким пристрастием, что те не могли не сознаться. Обе были временно исключены из школы.
На следующее утро в Аш-Виллмотт приехали родители Лекс. Жени мельком увидела их в комнате подруги перед тем, как они отправились к старшей управляющей. Маргарет Вандергрифф оказалась исключительно высокой женщиной, худое, плоское тело которой напоминало доску. Филлип, отец Лекс, был ниже и круглее жены. Его почти лишенные ресниц глаза пристально и проницательно смотрели сквозь очки. В их обществе Лекс вела себя подавленно, выглядела почти что мрачной.
Бернард Мерритт в школу так и не приехал, хотя позже в тот же день Жени узнала, что он разговаривал по телефону с мисс Виллмотт. Поступил бы он так, если бы она была его ребенком? — размышляла Жени. Филлип Вандергрифф — человек безусловно занятый — ставил дочь превыше всех дел.
А ее родители примчались бы сюда, чтобы защитить свою дочь? Или бы устыдились ее поведения? Она не могла представить их в Аш-Виллмотте, разговаривающих со старшей управительницей. Не могла вообразить, как они говорят по-английски и живут в Америке. Хоть и живые, они были погребены.
Потом от Бернарда пришло письмо, в котором опекун предостерегал ее от таких чертовских глупостей, напоминая, что она в Америке гость и должна вести себя соответствующим образом.
Слово «гость» резануло Женю. Оно означало, что даже в школе она не была у себя дома. А дальше Бернард писал, что дочь Вандергриффов ей не компания.
Холодное, ужасное письмо. Казалось, она совсем для него ничего не значила. Зачем же тогда он привез ее в Америку?
Потому что пообещал отцу. И только лишь поэтому. Отец был в тюрьме, Дмитрия тоже от нее заперли. Обратиться можно было только к Бернарду, а он больше походил на тюремщика, чем на стража.
Визит Вандергриффов и особенно разговор в кабинете с Филлипом подействовали на мисс Виллмотт, и та изменила решение. После Пасхи девочек восстановили, и те до конца учебного года демонстрировали образец поведения.
— Побесимся летом, — успокоила Лекс подругу, да и саму себя тоже. Они планировали провести это лето вместе на вилле Вандергриффов в Адирондаксе. Американка нарисовала Жени райскую картину: они станут свободно лазить по горам, бродить в лесах, купаться, кататься по озеру на лодке, ездить на лошадях, испытывать водные лыжи, а в укромных уголках, где некому сделать им замечание, будут устраивать пикники. Рай только для двоих, и никакой мисс Виллмотт, скрючившейся за деревом.
Но за две недели до выпуска Лекс мечта разбилась. До конца мая Жени тянула и не говорила Бернарду о своем намерении. Потом написала ему письмо. Как только опекун прочитал послание, он позвонил в общежитие и яростно потребовал, чтобы девочка, как только объявится, тут же ему перезвонила.
Еще до разговора Жени поняла, что все кончено. Ей захотелось бежать, спрятаться у Вандергриффов и никогда не возвращаться оттуда.
— Пока ты в этой стране, я за тебя отвечаю, — заявил ей Бернард. — Я привез тебя сюда, и ты будешь делать то, что я тебе скажу.
— Но меня пригласили. Спросите у ее родителей, — умоляла она, зная, что это бесполезно.
— Я не собираюсь разговаривать ни с какими родителями! У тебя, кажется, все перепуталось в голове, ты позабыла, кто есть кто. Это я отдаю тебе приказы, а не наоборот. Я устроил, чтобы ты поехала на лето в Кейп Код. Будешь там нянькой у ребенка или не знаю, черт побери, как еще это называется. Станешь ухаживать за ребенком одного из сотрудников моей компании. Прекрасная работа для тебя. Великолепное место.
— Пожалуйста, не отсылайте меня.
Обнаженное одиночество, прозвучавшее в ее голосе, лишь на мгновение смягчило Бернарда.
— Я не считаю, что я несправедлив, Женя. Большинство подростков в Америке летом работают. И я так поступал в твоем возрасте. Работал до третьего пота. Поэтому и стал таким, каким ты видишь меня сейчас. Праздность и развлечения — только для маленьких детей и бездельников. А ты, Женя, не принадлежишь ни к тем, ни к другим. До сих пор тебе все подавали на блюдечке. Теперь нужно начинать учиться жить самостоятельно.
Жени повесила трубку и несколько часов, слишком подавленная, не могла рассказать о звонке Лекс. Бернард был ужасно несправедлив. Как он мог сказать, что до сих пор ей все давали просто так? Наоборот, у нее все отнимали. А с помощью Лекс все постепенно приходило в норму…
Подруга нашла ее в четыре вечера лежащей на кровати и прячущей в волосы лицо.
— Я ждала тебя после занятий. Что случилось?
Жени рассказала, Лекс села на край ее кровати, и девочки в молчании посмотрели друг на друга. Потом Жени встала.
— Я закончу школу, — решительно заявила она. — А потом уеду куда-нибудь подальше, только чтобы его больше не видеть.
— Правильно, — согласилась Лекс.
— Найду работу, стану врачом…
— Подожди. Ты говоришь ерунду.
— Знаю, — отозвалась Жени.
— Он, конечно, сукин сын. Последнее дерьмо. Но он держит тебя в руках. Лето будет ужасным, просто чудовищным. А потом ты вернешься на это пепелище [4], а я окажусь в мертвящих счастливых охотничьих угодьях.
Девочки основа замолчали, размышляя о невеселом будущем. Но вдруг Лекс увидела проблеск света.
— На Рождество приезжай к нам — если мы обе до него дотянем. Я заставлю отца прищучить Бернарду задницу. Он сделает это для меня. А отец умеет добиваться того, чего хочет. Так что — на Рождество.
Но Рождество звучало для обеих так, словно было в следующем тысячелетии.
— А может быть, — проговорила Женя, — Бернард хочет сделать как лучше для меня.
— Если бы это было так, мы провели бы лето вместе.
— Нет, я хочу сказать, что я и впрямь не знаю, как жить независимой. И он пытается меня этому научить. Как будто он и есть мой отец.
— Нет, он не твой отец.
Женя кивнула, и слезы снова покатились по ее щекам.
Через три недели Женя находилась уже в Труро — местечко на Национальном побережье Кейп Кода по соседству с Провинстауном, на оконечности мыса, где земля заворачивалась, словно язык, стремящийся достать до собственного основания.
Дом был запрятан в лесу, и к нему вел песчаный проселок, уходивший от дороги № 6, петлявший по лесам и болотам, раздваивающийся и разветвляющийся, точно артерии, приводящие к летним убежищам бостонцев, но в основном нью-йоркцев. Томпсоны уже десять лет снимали один и тот же домик, каждый год намереваясь построить собственный. Но с рождением дочери Синди, пять лет назад, они потеряли уверенность, какой дом им следует возводить. Когда заходила речь о том, чтобы присмотреть землю в округе, они напоминали друг другу: «Подождем, пока не поправится Синди, а там увидим». Под этим они подразумевали, когда Синди заберут в дом для отсталых. Даже с их, не такими уж малыми, средствами Томпсоны не могли себе позволить оплачивать пребывание в частном заведении дочери весь остаток ее жизни. Они ждали, когда Синди подрастет, может быть, достигнет школьного возраста. Тогда, если ее признают пожизненным инвалидом, они получат финансовую помощь, которая позволит им отослать девочку из дома.
Жени добиралась к своей летней работе на автобусе, пересаживаясь в Провидансе, Род Айленде и снова в Гайаннисе на мысу. В Труро миссис Томпсон встретила ее на лендровере — машине с четырьмя ведущими колесами, которая и стала почти единственным предметом их беседы, пока они добирались до дома. Заворачивая на дорожку, ведущую к дверям, она сообщила Жени, что ее работа не будет тяжелой — ей предстояло лишь следить, чтобы ребенок был сыт и вне опасности.
Внутри она указала на дверь:
— Входи, познакомься с Синди. Твоя комната справа, рядом с ее.
С трепетом Женя открыла дверь. Синди сидела в углу на полу. Комната была почти пустой. Единственной игрушкой служил цветной пляжный мяч.
— Привет, — волнуясь произнесла Жени.
Ребенок не ответил. Девочка выглядела исхудавшей, бледной, плохо питавшейся. Лицо показалось странным, хотя в первый момент Жени не поняла, что в нем ее так поразило.
— Привет Синди, — повторила она, но по ребенку нельзя было сказать, что девочка ее слышит. Жени поняла, что у нее голова неправильной формы — отсутствовали скульные кости и лицо напоминало мордочку грызуна.
Синди имела врожденный синдром Тречера-Коллинза, объяснила ее мать, когда Жени вышла из комнаты. Абсолютно неправильное строение черепа.
— В моей семье все были нормальными, — Найоми Томпсон как будто оправдывалась. — И в роду Мэтта тоже. Мы не понимаем, что произошло.
Большую часть времени ты будешь свободна, — продолжала она. — С ней не придется много возиться. Она ничего не понимает.
Но в ближайшие дни Жени поняла, что это было неправдой. Синди не являлась запоздалым в развитии ребенком или немой, она оказалась просто запуганной. И крайне чувствительной: заслышав в голосе недовольные нотки или перехватив недобрый взгляд, тут же сворачивалась калачиком. Она застывала при незнакомом звуке, каменела, если ощущала опасность. Когда Жени протянула к ней руку, сжалась, будто боялась, что ее ударят.
Родители относились к ней, как к домашнему зверьку, слишком старому и зажившемуся на свете, и при любой возможности избегали с ней сидеть. Как правило, Жени оставалась с Синди одна. Мэтт Томпсон всю неделю жил в Нью-Йорке, обычно прилетая вечером в пятницу в крошечный аэропорт в Провидансе, куда Найоми ехала за ним на машине. Выходные они проводили, играя в то, что Найоми называла «пристеночным теннисом», по вечерам ходили на открытие галерей, коктейли и ужины. На неделе Найоми вела жизнь «соломенной вдовы»: по утрам практиковалась с теннисной ракеткой, потом завтракала с приятельницей, шла на пляж, загорала и барахталась в волнах. Позже «отмокала» в бассейне, обычно плавая из конца в конец, прежде чем вернуться домой и начать приводить себя в порядок к вечеру.
Каждый день она «сбрасывала» Жени и Синди у моря, коротко сказав «развлекайтесь». Жени получила водонепроницаемые часы — грубая и почти карикатурная копия тех, что когда-то подарил Бернард отцу — и должна была вовремя вернуться на стоянку.
Девочки спускались к воде всегда одним и тем же путем: подальше от людей, шумных игроков в мяч, прижимаясь к дюнам — Синди боялась разбивающихся о берег волн. Так они оказывались между пляжами Труро и его западного соседа Веллфлита, выбирали место среди дюн, где, насколько хватало глаз, были одни, и устраивались на пикник — поесть еду, приготовленную утром Жени.
Со временем Синди стала доверять Жени. На прогулках брала ее за руку, сжимая в обеих своих ладошках. С каждым днем они все ближе подходили к воде, пока Синди не решилась ступить на мокрый песок. А на следующий день осмелилась на него сесть и наблюдала, как Жени строит из песка крепость.
Первые слова Синди произнесла мягко, но вполне разборчиво:
— Хочу быть мышкой.
— Какой мышкой? — Жени постаралась не выдать удивления.
— В норке, — объяснила Синди.
Жени поняла:
— Когда я была маленькой, — стала рассказывать она, — я жила в красивой стране, покрытой снегом. Мой отец был снеговиком, и никто не хотел на него смотреть.
На лице ребенка отразился явный интерес.
— Но я любила его, потому что он был моим папой.
— Да, — понимающе кивнула головой Синди, и с тех пор каждый день просила рассказать про снеговика.
Каждый день Жени развлекала ее новыми историями об отце, иногда придумывая их — это не имело значения. Синди полюбила «снеговика».
Каждый день Жени писала Лекс, словно вела дневник. Она по-прежнему писала по-английски лучше, чем говорила. «Мать Синди заявила, что операция ни к чему не приведет, а когда я спросила об этом мистера Томпсона, он посмотрел на меня так, будто я лезу не в свое дело, и сказал: «Она еще слишком мала».
«Лекс, они не понимают, что их ребенок — человеческое существо. Сегодня Синди подарила мне пять камешков. Она сложила их в круг».
«Синди умеет чувствовать. Она — личность. Но родители не замечают этого. А может быть, притворяются, что не замечают, или просто не хотят».
Жени настолько презирала Томпсонов, что ей было трудно находиться с ними в одной комнате. Но она понимала, что является буфером между ними и их ребенком. От миссис Томпсон она узнала, что в Нью-Йорке Синди оставляли на попечение няньки, которая вовсе не любила детей, особенно «увечных». И теперь, с приближением осени, Жени стала опасаться, что предстоящая разлука с ней плохо подействует на Синди.
«Знаешь, Лекс, это сумасшествие. Как будто выбрасывают алмаз только потому, что не нравится его обрамление. Этим летом Синди научила меня большему, чем я ее. Заставила понять, что отец жил в мышиной норке, только называл ее кабинетом. Не знаю, хотел ли он этого или был вынужден оставаться там из-за лица.
А может быть, это одно и то же: когда люди пугаются тебя и испытывают отвращение к твоей внешности, ты начинаешь сама бояться себя и относиться к себе с отвращением. Но это несправедливо. Разве обязан каждый выглядеть, как остальные люди?»
Жени оставалась на взморье до конца августа. Томпсоны оценили ее терпение и предложили награду. Она отказалась. Гнев, таящийся внутри, был уже готов выплеснуться наружу, но в это время в комнату проковыляла Синди и ради нее Жени сдержалась.
Когда Синди увидела собранные чемоданы, стоящие рядом с Жени, она завыла, а потом тоненько заплакала, как делала это, когда слышала гром.
— Синди… Синди… — Жени встала на колени и протянула руки к ребенку. На мгновение Синди прекратила рыдания. Потом взглянула на Жени — в глазах девочки стояло понимание того, что вот-вот должно произойти.
— Плохой снеговик, — проговорила она и снова завыла.
Жени вышла из дома, но по-прежнему слышала рыдания девочки. Они доносились даже в машину, пятившуюся задом, выруливая на дорогу.
«Хочу быть врачом, — писала Жени Лекс. — Хочу исправлять лица людей».
Ответное письмо пришло в Аш-Виллмотт: «А как насчет того, чтобы исправить мое лицо, — начиналось оно. — Сделать из него что-нибудь вроде твоего?»
Жени улыбнулась: так похоже на Лекс. Для Жени Лекс выглядела так, как и должна была выглядеть, — как Лекс.
Но Жени не могла выбросить из головы крошечное личико Синди и ее огромный страх. В начале семестра Жени стала проявлять большой интерес к пластической хирургии: читала все, что могла достать — журналы, старалась раздобыть книги.
Летом она поняла, как увечье калечит и тело, и душу. Если не исправить Синди лицо, она никогда не сможет стать нормальной. Георгия искалечило во взрослом возрасте, когда его личность уже сформировалась, и все же Жени была уверена, обезображенный, он стал другим — новая внешность сформировала новую сущность. И его не избавить от этого, пока лицо не станет выглядеть, как у всех других.
В выпускном классе Жени должна была самостоятельно работать над какой-нибудь темой, и она предложила преподавателю общественных наук — пластическую хирургию. Но тот скептически отнесся к ее выбору.
— Пластическая хирургия? — заметил он. — Слишком легкомысленный предмет для девушки из Аш-Виллмотта.
— Нет, — возразила Жени. — Это вовсе не так для людей с увечьями.
— Подтяжка кожи на лице, — продолжал учитель. — Изменение формы носа. Стареющие кинозвезды, не желающие выглядеть на свой возраст. Если вас интересует медицина, займитесь чем-нибудь более полезным: врачеванием, излечением недугов…
— Пожалуйста, — перебила она его. — Дайте же мне досказать.
Он внимательно слушал, пока она рассказывала о своем лете с Синди. Жени разволновалась, описывая в подробностях, как относились к девочке родители. В конце концов учитель сдался. Она может работать над темой — пластическая хирургия, но при условии, если ограничится только ее историей.
— О новейших методах узнаете, когда подрастете, если, конечно, станете изучать медицину. У наших учениц мы стремимся заложить основу для будущих занятий. Исследуйте прошлое предмета, если у него есть прошлое.
Жени получила разрешение отправиться в Нью-Йорк поработать в библиотеке Академии медицинских наук. Все три раза, проехав два часа на поезде, она оставалась переночевать в квартире Бернарда.
Лишь один раз, в ноябре, он оказался в городе, но и тогда у него была назначена встреча с французским послом. Забежав домой переодеться в официальный костюм, он перебросился несколькими словами с Жени. Из России не было никаких новостей с тех пор, как семь недель назад удалось узнать, что Георгий «получает новую профессию» в специальном «трудовом лагере» под Горьким. Дмитрия зачислили в университет, а местонахождение Наташи оставалось неизвестным, хотя Бернард и признал, что «ее судьба» волновала его не так, как «судьба ее мужа».
— В школе все в порядке, Женя?
— Теперь я Жени, — ответила она. Они разговаривали в его гардеробной. Бернард только что прицепил великолепную бабочку и доставал смокинг. Они говорили по-английски, а «Женя» для обоих относилось к ее русскому прошлому.
— Жени?
— Я уже вам говорила, — напомнила она.
Бернард мельком оглядел себя в зеркале и удовлетворенно кивнул.
— Должно быть, вылетело из головы. Но для меня ты останешься Женей — девочкой с застенчивыми глазами и золотистыми волосами. Тебе их надо отпустить. Эта прическа тебе не идет.
— Так все носят.
— Тем больше причин этого не делать. Ты получаешь деньги на содержание? Прекрасно. Тебе хватает?
Жени кивнула.
— Мне столько не надо.
При мысли о собственной щедрости Бернард довольно улыбнулся:
— К Рождеству ты получишь еще. Боюсь, что в то время мне придется уехать за границу. В основном по делам, хотя я намереваюсь задержаться в Сент-Морице. Так что развлекайся сама, а я устроил так, что тебе переведут дополнительные деньги — будет тебе награда.
При слове «награда» в Жени вскипело возмущение. Она не вещь: ее нельзя купить — ни Томпсонам, ни ему. Но в то же время мысль, что Бернард на Рождество будет далеко, заставила ощутить одиночество. Она уже знала, что Рождество — праздник семейный.
— Спасибо, — вежливо проговорила она.
Бернард поцеловал ее высоко в лоб, туда, где начинались волосы:
— Завтра я не буду тебя будить. Пообедаешь с Соней. Поговорим в воскресенье, — и вышел, блестящий и видный в вечернем костюме. «Как король», — подумала Жени. Далекий и могущественный, рассыпающий ей свои милости — не дочери, а собственности.
Ей было пятнадцать. Она училась в выпускном классе. Почему бы ему не взять ее с собой? Почему он никогда не говорит с ней о делах, о своей жизни? Мог бы с ней поделиться своими заботами, она бы поняла. Но он не считает ее взрослой. Не считает и своим ребенком.
Бернард ушел, и Жени пошла на кухню к Соне. У той всегда было столько вкусного, что на все даже изголодавшейся в школе Жени не хватало аппетита. Чтобы доставить кухарке радость, она заставляла себя съесть побольше. Соня была ее отрадой — по-матерински заботливой, любящей женщиной. Григорий ей тоже нравился, но он был очень солидным, и она его иногда стеснялась.
Леонтовы были «белыми», уехавшими из дома еще до революции 1917 года. Девятнадцатилетний Григорий сбежал из Москвы от захлестывавшей город волны большевизма. А Соня покинула с родителями Петербург, который незадолго до этого был переименован в Петроград.
Два года спустя они встретились в Париже, и тринадцатилетняя Соня сразу влюбилась в голубоглазого, носившего светлые усы Григория. Они поженились, как только ей исполнилось шестнадцать. Через два года совместной жизни супруги поняли, что Соня бесплодна. Пять лет они вместе горевали и в то же время работали в фешенебельных домах и маленьких ресторанчиках. Потом, смирившись с тем, что останутся бездетными, решили открыть ресторан и отделать его в духе родительского дома в России. Они подавали еду, ту, что помнили с детства, таким же эмигрантам, как сами. Те регулярно собирались у них, пели песни, предавались воспоминаниям, но часто оказывались неспособными заплатить за обед.
Сколько могли, Леонтовы предоставляли им кредит, пока за ними самими не начали охотиться кредиторы. Не в состоянии собрать деньги с должников, супруги оказались банкротами и пошли работать поварихой и официантом в соседнее бистро.
Бернард познакомился с ними, когда они уже служили в престижном ресторане «Лаперуза» на набережной, где Соня стала шеф-поваром. Попробовав тающие во рту блины, Бернард пожелал встречи с их создателем.
Только что началась война, и Бернард был единственным иностранцем, обедающим в ресторане. Будущее сферы обслуживания в Париже представлялось мрачным, и когда американец предложил Соне и Григорию работу, те сразу же согласились. Он устроил им визы и организовал переезд. Супруги бурно выражали благодарность. Бернард наслаждался своим могуществом и был доволен, что сумел найти пару, как будто специально предназначенную для него. Носители русского языка в его доме позволят ему поддержать беглость речи.
Но несмотря на все старания, Департамент США только в 1941 году выдал Леонтовым въездные визы. Они прибыли в Нью-Йорк в тот самый день, когда нацисты вторглись во Францию, и это совпадение еще больше укрепило их в мысли, что Бернард спас им жизнь.
В Жене они видели еще одну беженку, спасенную от смерти их благодетелем. По возрасту она годилась им в дочери, хотя Бернард и предупредил, что девочка принадлежит высшему обществу. Удовольствие от Жениных приездов Григорий проявлял, часто улыбаясь. Соня ставила в ее комнату свежие цветы, приносила завтрак в постель, готовила ванну с благовониями.
Женя любила сидеть на кухне и слушать Сонины рассказы о старой России, о ее детстве, о детстве ее родителей и дедушек с бабушками. Как и поваром, рассказчиком она была прекрасным. В каждом новом воспоминании ее родные становились все более обворожительными и забавными. О дяде Владимире она сначала говорила как о цирковом акробате, потом он ходил по проволоке, наконец стал укротителем тигров. Тетя Аня построила в своих обширных садах мечеть и держала в ней турецкого поэта, чтобы тот писал стихи для домашних надобностей. Дядя Иван, казак, отлично играл в голове в шахматы и постоянно выигрывал у своего друга, пока они скакали на лошадях по степи.
Низкий Сонин голос ткал нить рассказа, пока не получался замысловатый ковровый узор, рисующий ее загадочное прошлое. Оно захватывало Женю, но та заставляла себя скинуть очарование и отправляться работать в гостиную. Соня провожала ее, а через несколько часов тихонько стучалась и вносила серебряный поднос с чаем. Когда Женя собиралась обратно в школу, Соня провожала ее на машине до станции.
Работу Женя стремилась завершить до Рождества, чтобы на каникулах быть свободной. Когда первый раз она упомянула, что собирается к Вандергриффам, Бернард не одобрил ее, но постепенно сдался, хотя и неохотно. Женя гадала, неужели Филлип и в самом деле «прищучилему задницу». Она не понимала, что это значит, но фраза Лекс была настолько забавной, что засела в мозгу.
В последние недели перед Рождеством она только работала, ела и спала. Тема сообщения по пластической хирургии получалась интересной, хотя она предпочла бы что-нибудь поближе к проблеме Синди и отца.
Женя узнала, что пластическая хирургия зародилась в древней Индии, где отрезали носы за некоторые преступления, включая супружескую неверность. Этой части лица мужчины лишались и на войне. В VII веке до рождества Христова хирург Сашрута предложил метод восстановления ампутированного носа, пояснив, откуда следует пересадить кожу и какие использовать инструменты.
До девятнадцатого века работы Сашруты так и не были переведены на латинский язык, пока английский хирург не совершил по «индийскому методу» две успешные операции. Из восковой пластины он вылепил контур носа, приставил пациенту ко лбу и приплюснул. Затем провел по контуру линию и убрал воск. После этого рассек кожу, оставив в целости между глаз. Кожный лоскут оттянул вниз и сформировал нос.
Жени выполнила несколько зарисовок, чтобы проиллюстрировать процесс. Затем перешла к «итальянскому» методу, разработанному в начале XV века сицилийским хирургом Бранка. Столетие спустя, профессор анатомии и медицины из Болоньи выпустил книгу, в которой сообщил все известное о восстановлении недостающих частей тела. Гаспаро Таглиакоззи и стал признанным отцом пластической хирургии.
Итальянскому разделу работы Жени предпослала цитату из его книги: «Мы восстанавливаем, исправляем и создаем вновь те части тела, которые дала нам природа, но которые отняла у нас судьба».
Она еще раз переписала фразу красиво, как только могла, и пришпилила к стене. Замечательно сказано, решила она: как благородны задачи пластической хирургии.
В XX веке «судьба» чаще всего означала войну. Во время первой мировой войны группа медиков — мужчин и женщин — прибыла из Гарварда во Францию на помощь британской армии. В.Х. Казаньян, кудесник Западного фронта, как назвал его король Георг V, восстанавливал раздробленные и оторванные на поле сражения челюсти и стал родоначальником современной пластической хирургии.
Каждая последующая война приносила все более многочисленные полчища искалеченных. Передовая технология породила новые типы вооружений и неизвестные ранее виды ран. Если раньше солдаты умирали от потери крови, то теперь выживали с раздробленными челюстями и руками, искалеченными лицами. Позже, когда угроза жизни проходила, с ними можно было вести реконструктивные операции, на которые часто уходили годы.
За работу Жени получила высший балл с минусом. С минусом, потому что заключила тему одной фразой, которую преподаватель общественных наук счел не соответствующей посылкам:
«Вторая мировая война стала причиной 250 тысяч обморожений».
8
Маленький реактивный самолетик нырял над лесистыми горами, слегка припудренными снегом, будто на вечную зелень набросили марлю. Жени сидела в удобном кожаном кресле — единственный гость среди пассажиров частного аэроплана. Другие летели на работу в Топнотч, принадлежавший Вандергриффам, где постоянный персонал не справлялся с возросшими запросами семьи и приглашенных.
Рядом на стенке прозвенел телефон, и Жени сняла трубку.
— Это я, — голос Лекс прозвучал совершенно отчетливо. — Я уже вижу тебя в бинокль. Не могу дождаться.
— Хочешь, прыгну с парашютом?
— Нет, — рассмеялась американка. — Мне не найти тебя в лесу.
Через несколько минут Жени различила плотную фигурку, подпрыгивающую и размахивающую руками так, как будто хотела поймать самолет.
Хотя Лекс часто рассказывала о Топнотче, Жени представляла его совсем другим. По крайней мере, с воздуха Топнотч выглядел как уединенный лагерь: длинные хижины полукругом стояли вокруг такой же, но большей — «поместья», решила Жени, — словно эта хижина была составлена из нескольких маленьких. Строения затеняли леса, тянувшиеся на мили и прерывавшиеся лишь серым окружием — озером, помещенным среди деревьев, точно зеркало, чтобы отражать небо.
Самолет снижался, почти задевая вершины деревьев, и Жени потеряла из виду посадочную полосу, где размахивала руками подруга. С глухим стуком колеса коснулись земли и покатились по узкой дорожке, не различимой с воздуха. Самолет вырулил с полосы, пробежал назад и остановился у радарной вышки. Как только двигатель затих, Лекс подбежала к дверце и ворвалась в салон в тот самый миг, когда Жени поднималась с кресла.
«А объятия у нее крепче медвежьих», — подумала Жени и с чувством ответила на приветствие подруги. Лекс повела ее из самолета. Сердца у обеих девушек сильно колотились.
— Я уж думала, ты так и не приедешь. Бернард что-нибудь отмочит.
— Он в отъезде. Будет отсутствовать все праздники. Но он мне все-таки разрешил. Что такого ему сказал твой отец?
— Точно не знаю. Дядя Джадсон — папин брат — глава нефтяного концерна, а Бернард в нем тоже участвует. Может быть, ему напомнили, что лучше оставаться в хороших отношениях. Что-нибудь в этом роде, — на холодном воздухе дыхание Лекс вырывалось белым паром.
— Ты выглядишь, как в комиксе на картинках, — хихикнула Жени. — Слова пузырем вылетают изо рта, — она остановилась. — Так это и впрямь Топнотч? Неужели я здесь?
— На первый взгляд здесь, но точно сказать не могу, — Лекс ущипнула подругу за и так уже раскрасневшуюся на морозе щеку.
— О, Лекс, как я по тебе скучала!
— Ну, ну, не так уж, — американка сжала своей рукой в перчатке укутанную в варежку руку подруги. — Твои вещи возьмут. Побежали? Ты, кажется, замерзла.
— Да, — признала Жени. Меховой жакет, который Бернард подарил ей два года назад, был уже мал — слишком прилегал к телу и не оставлял пространства для теплого воздуха, рукава коротки. В чемодане лежал теплый полушубок, но мех Жени сочла более уместным для первого появления у Вандергриффов.
Держась за руки, они побежали к главному строению и ворвались в большую комнату, где в огромном камине пылал огонь, распространяя приятный запах леса. Несмотря на размеры, комната казалась уютной. На диване лежали украшенные вышивкой подушки, на полу покоилась медвежья шкура, на стене на крючке висели снегоступы. Жени вспомнила Финляндию, дом Круккаласов. Здесь тоже все было просто по-северному, совсем не так, как она себе воображала, когда наряжалась в меховой жакет.
Она почувствовала, что выглядит расфуфыренной, когда в комнате появилась Маргарет Вандергрифф — в простых шерстяных спортивных брюках и темно-синем свитере. Жени же представляла себе что-то вроде дома Бернарда, сплошь заставленного произведениями искусства.
— Рада, что тебе удалось вырваться, — мать Лекс крепко пожала девушке руку. — С тех пор, как дочь приехала домой, я только и слышу: «Жени то, Жени — это». Я уж подумала, что в ее воображении ты и вправду настоящий джинн.
— Но мы же с вами виделись, — улыбнулась Жени. — В школе.
— Не напоминай! Это было во времена вашей преступной юности. Но ты совсем замерзла, дорогая. Как насчет чашки горячего шоколада? Или чая?
— Спасибо. Чая.
— Хорошо. Я скажу Мери. Чувствуй себя как дома. Лекс покажет тебе твой дом, как только ты согреешься.
Маргарет пошла распорядиться насчет чая, и Жени удивленно взглянула на подругу:
— Мой дом?
— Наш общий. Я сказала маме, что нам нужна одна хижина, чтобы нам никто не мешал. Чтобы не крутиться все время рядом с ними.
Сказка! — собственный маленький домик на двоих, среди заснеженных лесов. И они могут делать в нем все, что угодно, разговаривать ночи напролет. Жени пришла в восторг при мысли о такой свободе, о подобном счастье.
Мать Лекс сама принесла чай на деревянном подносе.
— Зови меня Мег, — предложила она. — Так проще. Видишь, мы держимся здесь свободно. Единственное правило: «В лесу не курить и обед в семь», хотя последнее иногда и приходится нарушать. Если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать. Лыжи для тебя есть, подбери по размеру ботинки, и тебе приспособят крепления. Но снега еще мало, остается покрытая земля.
Все трое уселись на пол напротив камина, поставив чашки на низенький столик. Жени заворожила быстрая, искрометная речь Мег. Согревшись, Жени почувствовала себя непринужденно, как будто оказалась среди старых друзей. В Мег угадывалась ее подруга — такая же неуемная энергия, налет озорства в разговоре, проглоченные, точно из-за нехватки воздуха, концы фраз. Но Мег была почти на полфута выше Лекс, худощавая, тогда как ее дочь явно страдала избытком веса. Волосы казались светлее, нос длиннее и красивой формы. По внешности их никто бы не принял за мать и дочь. Схожей была лишь живость характера, и Жени почувствовала, что Маргарет Вандергрифф ее очаровала, как очаровала при первой встрече Лекс.
Когда они почти уже допивали чай, вошел Филлип Вандергрифф и потребовал суровым голосом:
— Так где здесь наш джинн?
Жени поднялась и обменялась с ним рукопожатием. Она сразу же узнала отца Лекс, хотя в прошлый раз видела его лишь мельком. Округлое лицо, глаза почти без ресниц по-доброму и одобряюще смотрели из-за роговой оправы очков, почти так же, как впервые взглянул на нее Бернард.
— Вот мы и снова встретились, юная буянка, — улыбнулся он. — Сообщница дочери. Уверен, в своей хижине вы чего-нибудь да напридумываете. Хорошо еще, что бассейн закрыт и под рукой нет химической лаборатории.
— Папа! — упрекнула отца Лекс, а Жени неуверенно улыбнулась, не зная, как расценить его подтрунивание: как упрек или сказанное с одобрением.
— Заговоры дают хороший опыт, — он подмигнул дочери, но та нахмурилась и отвернулась. — Они в основе всего: бизнеса, деятельности правительства, искусства и науки — все людские предприятия зиждутся на них.
— Филлип, — Мег коротко рассмеялась. — Может быть, ты позволишь Жени распаковать чемоданы, прежде чем начнешь ее обращать в свою веру, — и повернулась к девушке. — Знаешь, Филлип у нас просто апостол. Может быть, Лекс тебе говорила, в ее отце пропал проповедник.
— Во мне? — переспросил Филлип с невинной улыбкой. — Проповедник? Да я проповедовал только собаке. Да и та сразу же засыпала, стоило мне начать.
Мег расхохоталась, Лекс тоже улыбнулась. Недоразумение, каким бы незначительным оно не казалось, было сглажено.
Их хижина располагалась примерно в семидесяти пяти ярдах от основного строения. Хотя она и была меньше, но обладала такой же атмосферой простого уюта. На первом этаже — гостиная, выполняющая функции и столовой, и кухни, на втором — две спальни, каждая со своей ванной. Все помещения, кроме ванных комнат, имели камины, и весь дом являлся образцом простоты и комфорта. Спальни под скатами крыши не были заставлены, но кровати оказались широкими — с бронзовыми основаниями и мягкими матрасами. В доме все было по делу, единственным украшением служили старые семейные фотографии и вышивки на стенах.
— Великолепно! — восхитилась Жени. — Ты даже не представляешь, какая ты счастливая.
Лекс сморщилась и уселась на Женину кровать, пока та распаковывала чемодан.
— Твоя мама похожа на тебя. Такая же простая. И очаровательная.
Лекс кивнула:
— Да. Знает, как держаться.
— Что ты хочешь сказать?
— Да ничего. Ты правильно сказала, она очаровательна, и все сходят по ней с ума. Она генератор всего: управляет домом, заботится о собственности, нанимает и увольняет, принимает большинство решений.
— А отец? — Жени развешивала вещи в простом деревянном шкафу.
— Я к нему и подхожу. Так вот: мама принимает решения, но они никогда не бывают важными — какие кусты посадить в саду, что приготовить на обед и не следует ли нанять еще одного повара. Или что-нибудь в этом роде. Все из повседневной жизни. А отец управляет фондом Вандергриффов — научными исследованиями, вопросами общественного благосостояния, множеством разных проектов. Занимается и другим, но фонд Вандергриффов его настоящее детище. Его решения влияют на мир, а ее… ну, она просто женщина у мужчины. Мамины решения не могут иметь большого значения, потому что они принимаются женщиной.
— Не понимаю, — пробормотала Жени, задвигая чемодан под кровать.
— Мама не была богатой, когда выходила замуж. Не вконец бедной — ее отец служил директором школы. Но в семье было несколько детей, а бабушка не работала, и других средств к существованию они не имели. За мужество за Вандергриффом стало основным событием ее жизни и ее карьерой. Очарование — составляющее ее работы — заставить всех ее любить: любой из людей может оказаться полезным мужу.
— Ты ужасно цинична, — поразилась Жени. — Так нехорошо говорить.
— Наверное. Забудем об этом, — Лекс внезапно потянулась к Жениной руке. — Может быть, я плохая. Но дело в том, что для них все так просто. У них тысячи друзей, их приглашают на множество вечеринок и всяких других вещей, так что они не могут пойти и на каждую десятую, а я будто вовсе незаметна или, по их, — ужасная, непривлекательная поросль, о которой никто не хочет и знать, — она взглянула на Жени, и на ее лице отразилась боль. — Пожалуйста, оставайся моей подругой. Навсегда.
Жени сжала ее руку.
— Ты словно моя сестра.
— Сестра, — повторила Лекс, горько покачала головой и встала. — Пойдем-ка вниз, разожжем огонь и выпьем пива. А ты мне расскажешь все сплетни о нашей школе.
Рождество планировали провести как семейный праздник. Это означало, что ждали Пела — брата Лекс, их бабушку по материнской линии и младшего брата Филлипа — дядю Генри, губернатора штата Нью-Джерси, с семьей и сестрой жены.
Двадцать третьего декабря в Топнотч с бабушкой приехал Пел. Роза Борден была такой же сухопарой, как и дочь, и безостановочно говорила. Овдовев пять лет назад, она все еще не привыкла жить одна и воздавала за свое одиночество необыкновенной общительностью, когда оказывалась среди людей. Ей не хватало компании, чтобы потрепаться, и на первого она накинулась на своего высокого симпатичного внука. Когда Жени встретила их впервые, бабушка цеплялась за руку Пела.
Пел возвышался над ней и над матерью тоже, несмотря на ее почти шесть футов роста. Такой же сухопарый, он обладал телом, вытянутым, словно леденец, к которому приделали руки и ноги.
Идя навстречу Жени, он споткнулся, но тут же выпрямился.
— Вот и ты, наконец. Рад познакомиться.
— И я тоже, — промямлила Жени. То как он на нее посмотрел, подсказало девушке, что ее фланелевая рубашка расстегнута на лишнюю пуговицу. Рука инстинктивно поднялась, чтобы поправить воротник.
Пел по-прежнему улыбался ей:
— Когда мне сказали, что ты из России, я представил тебя трактором. Не думал, что советские девушки могут быть такими женственными. Хоть меня и учили другому, приходится признать — Советы нас обогнали, — Жени уже знала, что он был выпускником Школы международных отношений Вудроу Вилсона в Принстоне. Ему исполнилось двадцать два года, и, кажется, он с ней заигрывал!
— Американцы, — смело отвечала она, глядя на него снизу вверх, — первыми коснутся Луны. Просто дорастут до нее, — и обрадовалась его ответному смеху.
Девушка поняла, что его речь схожа с речью сестры. Слова очередями вылетали изо рта, словно он их не мог удержать.
— Какая симпатичная девушка, — заметила Роза Борден, хмурясь на внука. И к Жени: — Тебе понравилась Америка?
— Отпад, — Лекс прыснула за ее спиной, а Пел осклабился и кивнул. Но заметив замешательство на лице старой леди, Жени тут же поправилась. — Очень. Америка — замечательная страна.
— Мы рады людям со всего света, — строго сказала Роза Борден, — готовы разделить с ними американский идеал — равные возможности для всех, а значит, предоставить…
— Да, да, мама, — перебила ее Мег, подавая ей стакан бурбона, — Жени — подруга Лекс по школе Аш-Виллмотт.
— Вот как, — то ли из-за напитка, то ли от громкого названия школы голос женщины прозвучал мягче.
Вошел Филлип, и мать Мег издала радостное восклицание, потом бросилась к нему. Он расцеловал ее в обе щеки:
— Как хорошо, что вы приехали, мама!
— Ты знаешь, как давно я у вас не была?
— Три месяца? — предположил Филлип.
— Четыре! — торжествующе поправила его теща. Филлипа она обожала почти так же, как Пела, и иногда при Мег удивлялась вслух: «Что это его подвигло жениться на ней?» Он был быстр и могуществен — мужчина, способный держать мир на своих плечах и нести его куда угодно. Роза чувствовала, что понимает его лучше, чем жена.
Она считала себя мудрой женщиной и полагала, что если мужчина совершил ошибку или вел себя недостойным образом, то это просто оплошность, но если точно так поступала женщина, то это уже называлось глупостью. За все время пребывания в Топнотче Роза Борден так и не нашла времени поговорить с Жени, хотя частенько ей и замечала:
— Нам надо немного потолковать, Расскажешь мне о своей жизни там.
Пел, напротив, все праздники умудрялся быть подле Жени. Уже на следующее утро он попросился с девушками на прогулку, но Лекс твердо заявила, что это их личное предприятие.
Генри Вандергрифф и Люси Калисл прибыли накануне Рождества. Губернатор был республиканцем — единственным в их традиционно демократической семье. Приверженность Вандергриффов демократическим идеям, и особенно Новому курсу Рузвельта, была необыкновенной среди влиятельных людей их достатка. Но демократами они оставались лишь до того момента, когда Генри, сын Джона Вандергриффа III и его жены Селены, не достиг возраста, позволяющего голосовать, и не зарегистрировался у республиканцев. В 1958 году по стране прокатилась волна поддержки республиканского президента Двайта Д. Эйзенхауэра, и Генри оказался в кресле губернатора.
На выборах в ноябре его братья поддерживали Джона Ф. Кеннеди, внеся существенную лепту в его предвыборную кампанию. Но несмотря на политические разногласия, Генри стремился поддерживать с ними хорошие отношения. Особенно он восхищался Филлипом, которого считал блестящим и непредсказуемым, благодаря его широкому кругу интересов. Филлип всегда добивался, чего хотел. Даже если его планы казались нереальными — по крайней мере Генри — он умел проталкивать свои идеи в жизнь. И следить, чтобы их как следует реализовывали.
Семья Генри была более чопорной, чем у Филлипа. Жени подметила, что даже дети — мальчики-близнецы восьми лет и дочь десяти — научились вести себя так, будто за ними постоянно наблюдали посторонние. Его жена Джой держалась отчужденно и рассеянно, обычно сидела с напитком у камина, заговаривая с любым, кто бы не входил в комнату, но едва сознавая, кто перед ней. Ее сестра Люси, напротив, искрилась энергией и была постоянно в движении, словно бабочка, затерявшаяся среди городских мостовых. Ее речь со скачущими интонациями к немалому раздражению Розы Борден лилась нескончаемым потоком.
— У Люси проблемы, — призналась подруге Лекс, когда они переодевались к обеду. — Она не замужем и боится, что стареет.
— Но она такая симпатичная, — произнесла Жени, не спеша расчесывая волосы перед зеркалом.
— Ты так считаешь? Она два раза делала подтяжку кожи на лице, а ей только пятьдесят, но этого никто не знает, так, по крайней мере, принято думать. Первую она перенесла в Швейцарии. Там ей перетянули кожу, и она выглядела как мертвец. На вторую поехала в Южную Америку или куда-то на Карибское море.
Жени еще не была знакома ни с кем, кому делали подтяжку кожи.
— А можно я ее об этом расспрошу?
— Лучше не надо, — рассмеялась Лекс. — Ведь предполагается, что об операциях ее никто не подозревает. Она меня убьет.
Жени казалась озадаченной:
— Ее лицо изувечено?
— У Люси? Да нет. Она всегда считалась симпатичной женщиной. Точно. Помню ее фотографию на свадьбе дяди Генри, где она была подружкой невесты. Тогда она выглядела намного привлекательнее его будущей жены.
— Так зачем же она делала операцию? — не понимала Жени. Ее учитель общественных наук считал пластическую хирургию легкомысленным занятием. Но после месяцев изучения этого предмета она воспринимала пластическую хирургию как отрасль медицины, призванную исправлять изъяны в живом. Но почему нормальный — нет, симпатичный — человек стремится изменить свою внешность? С какой целью?
— Говорю тебе, она ужасно боится стареть и не хочет, чтобы кто-нибудь увидел, что она стареет. Ест всякую всячину для здоровья, не выходит на солнце — говорит, от него появляются морщины, — одевается как девочка. Но это сражение она проигрывает: ведь она все-таки стареет.
— А что же в этом плохого? — Жени не могла дождаться, когда станет старше или будет выглядеть старше.
— Мне кажется, тетя Люси хочет развлечений, которых у нее не было в юности. Ее воспитывали в большой строгости. В прошлом году она завела себе мальчика двадцати двух лет.
— Правда? — Жени села на кровать Лекс и сделала несколько затяжек от ее сигареты. — И что же произошло?
Лекс медленно погладила ее по волосам:
— Великолепна. Ты просто великолепна.
Жени встряхнула головой, сбрасывая руку подруги.
— Так что же случилось с мальчиком? — напомнила она.
— Сбежал на «Ягуаре», который она ему купила. У нее куча денег, как и у Джой. Их родители заработали массу бумажек. Моя семья так утомительна. Ты тоже так считаешь?
— Ты ненормальная, — Жени направилась к шкафу. — Твоя семья как роман или пьеса. Каждый со своим характером.
— А как ты нашла Пела? — Лекс задала вопрос намеренно незаинтересованным тоном.
— Грандиозен.
— Да уж он такой, — девушка откинулась назад и прислонила голову к прижатым к стене рукам. — Не то что марсианин. Мне кажется, он положил на тебя глаз.
Жени вспыхнула помимо воли:
— Не смеши. Он такой старый. К тому же он — твой брат, а это все равно, что мой.
— Дмитрий? А Пел похож на него?
— Не очень, — она попыталась представить себе брата, но целиком его лицо ускользало от ее внутреннего взора, представила лишь отдельные черты. Презрительно поднятая бровь, красивые губы, искривленные ироничной улыбкой, шрамы, бегущие от ступни вверх по ноге. И голос, зовущий ее. — Дмитрий ниже, светлее. Он не такой видный, как Пел, но…
— Что с тобой? — Лекс рванулась к подруге, когда Жени стала оседать по дверце шкафа.
— Я так по нему скучаю. Ужасно.
Лекс повернула ее к себе и обняла. Тоска по дому, жалость к себе и желание увидеть брата снова нахлынули на Жени, и она изо всех сил старалась не расплакаться в объятиях американки.
— Лекс, — произнесла она и вынуждена была остановиться.
Лекс ждала, обвив руками подругу.
— Ты все, что у меня теперь осталось!
— Все хорошо, — шептала Лекс, поглаживая Жени по голове. — Все будет хорошо, моя славная. Моя семья станет твоей семьей, а Пел нашим общим братом.
Утром на Рождество Жени нашла на камине чулок с подарком для себя вместе с другими. Елка сверкала всеми огнями, пламя в камине ревело и трещало, они раскрывали подарки, слышались рождественские песни. Потом все играли с детьми, пили горячее пиво с желтком и сидр, пока не наступило время рождественского обеда.
Пел расположился рядом с Жени. Застолье продолжалось всю вторую половину дня, и Жени почувствовала, что она — своя среди дюжины этих людей; является частью их семьи. Она улыбнулась: частью богатейшей семьи в Америке, чья фамилия может служить символом капитализма.
У Бернарда, если она не сидела на кухне с Соней, даже в своих комнатах Жени чувствовала себя посторонней. Его дом был выставкой, где можно экспонировать лишь самое лучшее, неважно — человек это или вещь. А в Топнотче она чувствовала себя как дома.
— Чему это ты улыбаешься, миленькая Жени? — спросил ее Пел.
— Мне здесь хорошо. У вас так все просто.
— Тебе у нас нравится? — от пламени свечей его глаза сделались карими. Изменили цвет, догадалась Жени, но не могла вспомнить, какими они были при свете дня.
— Очень. Кажется, что ваш дом сам вырос в лесу.
— Я его тоже люблю. Топнотч отец на свадьбу подарил матери. Прекрасное обрамление для нее. Как ты думаешь? Естественное, прочное.
Жени кивнула, поняв, что Мег по-разному видится детям. Точно так же было и с ее матерью. Дмитрий считал мать ангелом.
— В прошлом году я побывал в имении графа Льва Толстого в Ясной Поляне, — продолжал Пел.
— Ты ездил в Россию? — удивилась Жени.
— Да, в Москву. На американскую выставку. Некоторые из нас собрались, наняли машину с шофером и поехали.
Жени улыбнулась. То, что Пел побывал в ее стране, делало его ближе, хотя сама она не ездила не только в усадьбу Толстого, но даже в Москву.
— Я был покорен тамошней простотой, — рассказывал американец. — Знаешь, его могила — просто холмик под деревьями. Когда мы там стояли, сквозь листву пробивалось солнце, и пятна света и тени заскользили по бугорку. Никакого надгробия — только трава над его останками. Это прекрасно, — он взялся за вилку.
— Прекрасно, — повторила она, и в это время кусок индюшки с жирной подливкой сорвался с его вилки и упал ей на колени.
Пел ужасно извинялся, намочил салфетку в своем стакане и хотел было уже затирать ей юбку, но, застеснявшись, подал салфетку Жени.
— Надеюсь, пятен не останется. Разреши, я отправлю ее в чистку. Там ее…
— Все нормально, Пел, — успокоила она его. Без этой неуклюжести Пел бы ее пугал. А залив жиром ее юбку, стал похож на ее родственников.
Прежде чем все разошлись по своим хижинам, Пел подвел Жени под ветку омелы и поцеловал — его губы едва коснулись ее губ.
На следующий день семья губернатора улетела домой — все, кроме Люси, та, слегка поломавшись, приняла приглашение погостить до Нового года.
Жени и Лекс держались обособленно. Прибывали другие гости, селились в хижины, но девушки не участвовали в суете. Они допоздна спали, катались на лыжах, сидели у огня и несколько раз просили у Мери продукты, чтобы самим приготовить обед в своем домике в лесу.
— Божественно, — думала Жени. Несмотря на целые дни, проводимые вместе, им не хватало времени наговориться. Американка рассказала о своем сезоне в свете в таких подробностях, что Жени показалось, будто она сама там была. Но чаще говорили о своих семьях. Лекс, очарованная необыкновенным происхождением Жени, теперь осознала, как ей тяжело и одиноко. А Жени, видя теплоту и достаток, окружающие Лекс, поняла, что американка сама создала себе тюрьму, в которой отдалилась, обуреваемая сомнениями в себе.
— Когда тебе все дается, трудно заставить себя сделать из себя нечто, — пожаловалась она Жени, когда девушки надевали лыжные ботинки. — Маме было легче, чем мне. Я всегда завидовала людям, родившимся бедными. Или детям, которых бьют родители, или вообще сиротам, — она осеклась. — Извини. Я хотела сказать, что у других больше шансов открыть, кто они есть на самом деле.
— Но ты — настоящая личность, — запротестовала Жени.
— Я? Иногда мне кажется, что я всего лишь копия. Ну пошли, разомнем кости.
Они вырвались на волю и заскользили по снегу, выпавшему за ночь. Там, где среди безлиственного леса, в ветвях копошились синицы, они чувствовали себя свободными, могли забыть обо всем, лишь ощущать этот миг морозной красоты.
Но образ Пела преследовал Жени и тогда, когда они катались на лыжах рядом или одна за другой. Жени знала, он ею увлекся, чувствовала это. По тому, как он опускал глаза, когда она перехватывала его взгляд, по тому, как стоял рядом, когда они разговаривали, — гораздо ближе, чем это было необходимо. Ей бы хотелось проводить с Пелом больше времени, но у Лекс планы оказывались всегда лишь для них двоих.
Жени поняла, что Пел, как и сестра, был гораздо меньше уверен в себе, чем каждый из их родителей. Иногда казалось, что он безмолвно извиняется за себя. И все же он был разумным, знающим, отзывчивым. Ни одна из марсианских черт, о которых с такими удивительно отталкивающими подробностями рассказывала Лекс, не стала присуща его характеру. Напротив, он, казалось, боготворил женщин и глядел на них снизу вверх. Муж из него вышел бы идеальный. Но когда из белого безмолвия раздавался голос Лекс:
— О чем это ты думаешь?
Жени отвечала:
— Ни о чем.
Она не хотела, чтобы об этих мыслях кто-нибудь знал. И это было единственным, что она скрывала от Лекс.
Накануне Нового года Жени надела платье из черной шерсти с длинной до лодыжек юбкой, купленное специально для этого вечера в Риджент Парке. Застегнув тесный лиф, она наклонилась, чтобы как можно выше поднялись груди и в открытом вырезе, отороченном кружевами, стали видны припухлости. А трехдюймовый ремень из патентованной кожи сделал талию совсем тонкой.
Она повернулась перед зеркалом, изучая себя через левое плечо, потом через правое и была довольна тем, что увидела. Волосы сияли, кожа порозовела от морозного зимнего воздуха, первосортная помада сделала губы полнее, а зубы белее.
В комнату вошла Лекс и присвистнула:
— Вот это да!
— Ты и сама неплохо выглядишь, — ответила Жени, вспыхнув от того, что ее застали, когда она любовалась собой. В широких черных брюках и желтом свитере, украшенном металлическими нитями, Лекс была великолепна. Точнее, «шикарна», подумала Жени. Она никак не могла понять, почему подруга так не довольна своей внешностью.
— Позволь мне тебя сопровождать, — проговорила американка и предложила Жени согнутую в локте руку.
— С превеликим удовольствием, — они спустились по лестнице своей хижины, прошествовали, как настоящая пара, оделись и по морозу отправились в главный дом.
Там уже играл оркестр — музыканты в черных фраках казались неуместными в помещении, больше напоминавшем приют для лыжников, чем бальную залу. Танцующие, однако, были одеты, как им заблагорассудилось: в твиде, бархате, несколько мужчин в смокингах, другие в свитерах с высоким воротом, без пиджаков.
С таким же разнообразием сервировали буфетный стол: шампанское в ведерках со льдом, пиво, копченая семга, икра — располагались среди сыра и холодных отбивных.
Но у Жени не было времени есть. Как только она вошла, ее пригласили танцевать — Филлип, Пел, их друзья перехватывали ее друг у друга. И переходя от партнера к партнеру, она чувствовала, что танцует с легкостью, кружится в вальсе, ныряет в танго, вертится и вновь поворачивается. И каждый мужчина говорил ей, что она танцует в зале лучше всех. Она ощущала себя Золушкой, точно принцесса в первом приталенном длинном платье с открытым воротом.
Когда музыка между двумя танцами прекратилась, Пел поднес ей бокал шампанского. Жени вся пылала, глаза лучились, ко лбу и шее прилипли влажные завитки волос.
— Ты восхитительна, — Пел так близко наклонился к ней, что она ощутила его дыхание на своем лице. — А я и не знал, что ты к тому же и балерина. Из Большого или Кировского?
Жени рассмеялась. Пузырьки шампанского ударили в нос, и она чихнула. Вот если бы учитель Кондрашин мог видеть ее сейчас! На миг она погрустнела, но только лишь на миг. Шампанское возбуждало. Глаза Пела были прикованы к ее рту, но он тоже рассмеялся, когда Жени рассказала, как ее выгнали из балетной школы за то, что она походила на слоненка.
Потом музыка грянула снова, и Жени закружилась в руках курчавого юноши, который шептал ей на ухо, что они встречались и раньше в мечтах и что ей непременно нужно поехать с ним на яхте к его родителям в Рио. Но прежде чем она успела ответить, рядом оказался Пел и встал между ними.
— Ну, будет. Я хочу получить назад свою девушку.
Она уже была готова танцевать с Пелом, но в это время музыка стихла. Пары распались, и все начали выкрикивать цифры, считая обратно от десяти. Рука Пела лежала на Жениной талии: «Четыре, три, два…» Потом раздались ликующие крики. Комната окунулась в темноту: «С Новым годом! С Новым счастьем!»
Пел притянул ее к себе, Жени подняла голову, и их губы встретились, прижались друг к другу. Жени вновь показалось, что она плывет, поцелуй пронзил ее тело. Губы прижимались все настойчивее, их рты слились, а потом она почувствовала его язык и отпрянула в тот самый миг, когда зажегся свет. Снова заиграла музыка, и все запели: «Позабудем мы старых знакомых…»
В электрическом свете Пел странно улыбался ей и сжимал ее руку:
— С Новым годом, Жени. С новым десятилетием, — потом наклонился и прошептал: — Это наше начало.
9
Каждую выпускницу просили, а на самом деле обязывали прийти к мисс Виллмотт для «небольшой приватной беседы о будущем». Сидя на краешке плюшевого кресла с салфеточкой на спинке, Жени старалась сохранить спокойствие.
— У вас великолепный ум, дорогая. Вы должны следовать за ним, как за маяком, — Виктория Виллмотт улыбнулась своему замечанию. Она скорее бросалась словами, а не выговаривала их. — Поздравляю с зачислением в Редклифф.
— Спасибо, — смиренно ответила Жени. Мисс Виллмотт напоминала ей оловянного солдатика, из которого давным-давно ушла кровь и жизнь.
— У вас уже есть какие-нибудь планы, Евгения? Вы знаете, что хотели бы изучать?
— Медицину, — пробормотала Жени.
— О?
Снисхождение, прозвучавшее в этом восклицании, заставило Жени проговорить увереннее:
— Хирургию. Я хочу пойти в медицинскую школу и стать пластическим хирургом.
— Вот как! Лучшая из моих девушек собирается сделать такую странную карьеру. Не очень-то это поощряется. Предпочтительнее было бы выбрать акушерство или педиатрию.
Жени хранила молчание, только положила ногу за ногу.
— В нашей стране, — терпеливо объясняла мисс Виллмотт, — женщины редко идут в медицину, но некоторые так, безусловно, поступают и преуспевают в ней. Но в пластической хирургии, насколько я знаю, нет ни одной женщины. А выпускницы Аш-Виллмотта способны на большее, чем менять внешность людей, — старшая управляющая улыбнулась. — У вас прекрасная голова на плечах, дорогая. Так будем надеяться, что вы не соблазнитесь внешним блеском. Тщеславие суетно и бесполезно.
— Но…
Мисс Виллмотт сложила руки:
— Люди должны жить с теми лицами, которыми наделил их Господь, — изрекла она.
— Но если Бог позволяет младенцам рождаться с изъянами или если он позволяет калечить людей на войне, не думаете ли вы, что кому-то нужно им помочь? — спросила с чувством Жени.
Мисс Виллмотт коснулась зубов кончиком языка, сложила пальцы пирамидкой.
— Понимаю, — ее голос сделался стальным. — Но если вы собираетесь заниматься такими ужасными вещами, дело ваше. Хотя, может быть, вы прислушаетесь к моему совету и изберете более разумную карьеру.
— Спасибо, мисс Виллмотт, — Жени выдержала взгляд женщины и, не обменявшись с ней рукопожатием, вышла из кабинета.
В общежитии она набросала Лекс записку: «Старая ведьма. Сорок лет занимается «образованием женщин» и заботится только о том, чтобы сделать из них домашних хозяек. В России большинство врачей — женщины. Но наша старуха говорит, что не может рекомендовать карьеру пластического хирурга. Безмозглая, как дряхлая корова».
Но храбрость Жени перед старшей управляющей отчасти подогревалась сознанием, что за неделю до выпуска мисс Виллмотт мало что могла сделать, чтобы помешать ей выбрать профессию и выступить в школе с прощальной речью.
Бернард, довольный похвалами, которые получила Жени, обнял ее за плечи, когда они прогуливались после церемонии:
— Славно! — он широко улыбнулся ей. — Я тобой горжусь, Женя.
— Теперь меня зовут Жени, — вновь напомнила она, чувствуя, что похвала относится к нему самому — правильно поставившему на фаворита.
Она, все еще в шапочке и мантии, влезла в его новый «Бентли». Все заднее сиденье машины было завалено цветами, их послал Пел. Букет состоял из орхидей и башмачков, нежных и необычных цветов — зеленых, коричневых, оттенков слоновой кости и пурпурного с черным.
— У твоего обожателя странный вкус, — заметил Бернард, пока Росс заводил мотор.
— Почему вы не любите Вандергриффов? — резко в ответ спросила Жени.
— Не люблю? Это совсем не то. Мы просто разные люди.
Они проезжали по школьному городку. Девушка обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на знакомые здания, деревья и кустарники, исчезающие за спиной. Она ясно помнила, как в первый раз приехала сюда с Россом. Помнила свои страхи, первую встречу с мисс Виллмотт, ужасную девочку, которая показала ей ее общежитие. Тогда ее английский был еще убогим, она чувствовала себя несчастной и не имела друзей. В первую неделю в школе ей казалось все равно, жить или умереть.
Все изменила Лекс. Изогнув шею, Жени бросила назад последний взгляд и от расставания со школой ощутила лишь легкую грусть. Оно было самым легким из всех, которые ей пришлось пережить. Может быть, размышляла она, теперь уже глядя вперед, это оттого, что, расставаясь на этот раз, она успела что-то завершить. После заключительных экзаменов Жени чувствовала, что стоит перед новой ступенькой в жизни, и в последние дни в школе ощущала спад.
Новая ступенька. Редклифф — четыре года в колледже, если она останется в Америке.
— Бернард?
— Что, девочка?
Она посмотрела на него и заколебалась. Жени знала, что он и дальше будет ее поддерживать, обеспечит всем, что ей необходимо, даст любой материальный предмет, который она пожелает — а за деньги можно купить самое утонченное образование.
— Вы мой опекун. Почему вы им стали?
— Что ты имеешь в виду?
— Почему вы согласились стать моим опекуном?
— Твой отец попросил меня об этом, — быстро ответил американец.
— Только поэтому? Он попросил заботиться обо мне до конца моих дней, и вы согласились?
— Не до конца твоих дней. Ты не хуже моего знаешь, что мы считали его ссылку временной.
— Знаю, — нетерпеливо произнесла она, все еще подыскивая слова, чтобы сформулировать вопрос, дремавший в ней целых два года. — Но я пытаюсь понять, почему вы это сделали?
— Я тебе уже сказал, — его голос сделался ледяным.
— Помню. Потому что он вас попросил, — в тон Бернарду проговорила она. — И это все? Вы не получили чего-нибудь взамен?
— Довольно, Жени! Ты становишься утомительной, дорогая. Сегодняшние похвалы вскружили тебе голову. Ты знаешь все, что нужно.
— Вы хотите сказать, что мне положено знать.
— Я сказал, довольно!
Жени испугала собственная напористость и незнакомая раньше интуиция, появившаяся вдруг. Она поняла, что не в силах сформулировать вопрос или боится получить на него ответ.
За месяц до Жениных выпускных экзаменов Бернард наконец стал обладателем самой ценной в мире иконы — Киевской Богоматери.
Икона прибыла с небольшой щербинкой на левой щеке — результат неправильной транспортировки или грубого обращения. Бернард нашел ее очаровательной: маленький изъян, полученный в трудной дороге, выглядел меткой любви, сделанной специально для него.
Бернарда переполняла радость, и каждый вечер он летел из конторы домой, чтобы в уединении закрытой библиотеки снять с Богородицы покров. Красивая и молодая, цветущая в ожидании сына. Черные глаза, не похожие на глаза других Богородиц, не склонялись долу, а смотрели прямо на него, а губы, готовые вот-вот сложиться в улыбку, как будто двигались, пока он ее разглядывал. Иногда она выглядела безмятежной, но чаще словно насмехалась над ним за все его дела, компании, манипуляции властью — ничтожным по сравнению с тем, что даст миру рождение ее сына.
Она стала его личной святыней, и он боготворил ее не как будущую мать Господа, но как свою госпожу, заглядывающую в глубину его души, подтрунивающую над ним, заигрывающую и поощряющую в ее познавании. Она была его, а он — ее: обладатель, он был в то же время и собственностью. Ничто другое в его коллекции не приносило Бернарду подобного наслаждения.
Американец понимал, что Жени стала инструментом, с помощью которого он раздобыл икону, и у него вновь проснулся к ней интерес. Он решил посвящать ей больше времени, восполнить свое отсутствие в прошлые годы, окатить потоком милости. Ее упорство, неблагодарность, как он понимал, которую Жени проявила по дороге из Аш-Виллмотта, обескуражили Бернарда. Но на следующий день, решив проявить великодушие, он подал за обедом ей стул. Не улыбнувшись, Жени села на него движением, полным грации — почти царственным. Она очаровательна, подумал Бернард. Не только ее чувственные глаза и поток золотистых волос, как у Приснодевы. Подвигая за обедом ей стул, он заметил, что она формируется, превращается из девочки в женщину.
За последние месяцы, с Рождества, она выросла почти на два дюйма, полные груди стали помехой в соревнованиях по плаванию, одежда внезапно стала мала.
После обеда Бернард велел Соне отвести Жени за покупками.
— Приобретите полный гардероб, — распорядился он. — И обязательно выберите несколько сногсшибательных вечерних платьев. Этим летом я часто собираюсь выводить ее в люди и хочу, чтобы все видели, как я вознагражден за мое опекунство.
Покупки отняли несколько дней — приобретали все: от нижнего белья до шелкового переливающегося жемчугом плаща. Примеряя ту или иную вещь, Жени не могла отделаться от ощущения, что это игра. Перед Соней и продавщицей она набрасывала на себя шелка, муслин, шифон и чувствовала, что это одежда других людей — людей из другой жизни. Она вспомнила о Лекс, стиснутой требованиями и перспективами своего социального положения, подумала о себе, о своем поступлении в сентябре в Редклифф и вступлении на путь, который в итоге приведет ее в медицинскую школу и поведет дальше.
И все же одежда покорила Жени, особенно одно длинное платье, по цвету гармонировавшее с ее волосами. Платье было от Трижера: диагональный вырез оставлял открытым одно плечо, золотое шитье с жемчужинами почти не составляло рисунка и казалось сияющей паутиной. Слишком взрослое и мудреное для нее, запротестовала Соня, но Жени стала настаивать, и когда на следующий день его доставили к ней, тут же надела и стала крутиться перед зеркалом. Глаза ее лучились, кожа зарделась от удовольствия. Она заявила Соне, что не видела лучше платья на свете, и не могла дождаться, чтобы Бернард вывел ее в свет.
Они выходили на ужины, приемы, бенефисы и всевозможные открытия. Три или четыре вечера в неделю Жени оставалась дома с Соней, а остальные проводила со своим попечителем, сопровождая его в качестве эксперта.
Днем она работала в «Русском антиквариате», фешенебельном магазине на Пятой авеню — продавала драгоценности, произведения искусства и всякую ценную мелочь. Магазин располагался всего в нескольких ярдах от того места, где она жила. Ее приняли на работу, несмотря на отсутствие опыта, из-за внешности и знания языка: многие клиенты говорили по-русски — еще дореволюционные эмигранты, преуспевшие в Америке.
В середине июля Жени впервые надела длинное атласное платье, на ужин с танцами, в честь короля Иордании — Хуссейна. Ужин давали в Клойстере, и, выйдя из машины, Жени почувствовала, что перенеслась во времени назад, в те века, когда Нью-Йорк еще не существовал. Она оказалась в средневековом замке, а потом вышла в расцвеченный огнями средневековый двор — музыка неслась откуда-то из тьмы, а пары танцевали в пятне света. У женщин на шеях, на руках и в волосах сверкали драгоценности. Мужчины в белых обеденных пиджаках были все как один привлекательны, хотя никто так, как сам молодой король.
Их представили, и король пригласил Жени на танец. Она вальсировала с ним целых пять золотых минут и не чувствовала под собой земли, а другие гости стояли и наблюдали за ними. Глаза Бернарда были прикованы к Жени.
Несмотря на юность, в платье с золотым шитьем она виделась ему образом тициановской женщины — обнаженный треугольник у плеч обещал бархатистую кожу под материей. Улыбка казалась открытой, и таинственность еще не проявилась на лице, но оно отражало удивление и было, словно почка в ожидании расцветающей красоты. В движении тело иногда обозначалось под платьем — полные груди, длинные ноги, тонкая талия, обещающие округлость, пока еще тонкие бедра.
Танец кончился. Король поклонился, Жени сделала реверанс, и гости зааплодировали. Бернард подошел, обнял Женю, а когда музыка грянула снова, прошептал:
— Ты очаровательна.
Как будто все еще в забытьи, Жени повиновалась движениям Бернарда, кружась с полузакрытыми глазами. Он прижал ее крепче, и тело вмиг сделалось одеревенелым, ноги сбились с такта. Она посмотрела на него и не могла оторвать взгляда. Но на этот раз глаза американца не казались ей такими всепроникающими, как раньше, когда они увиделись впервые. Руки исторгали холодное пламя, обжигая ее нескрываемым желанием.
— Наш первый танец, — проговорил Бернард сдавленным голосом, привлекая к себе Жени.
Она уперлась ладонью ему в грудь и оттолкнула, выскользнула из рук и исчезла в темноте. Когда он нашел ее, она вся съежилась и задрожала.
В то лето Бернард больше не выводил Жени. Через пять дней он отправился в длительную деловую поездку по Европе и Ближнему Востоку, и она почувствовала облегчение.
Но когда с наступлением августа он не вернулся, Жени забеспокоилась, не разозлился ли он на нее. Будет ли он по-прежнему поддерживать и заплатит за обучение? Занятия в колледже начинались уже скоро.
В пятницу, незадолго до того, как Жени должна была отправиться в Кембридж, объявился гость.
— Из консульства, — объявила Соня. — Хочет видеть тебя, а не мистера Мерритта.
— Ты знаешь, что ему нужно?
Соня покачала головой.
— Скажи, что я встречусь с ним в нижнем салоне, — проговорила Жени, несмотря на тревожные предчувствия.
В маленькой комнате, обитой голубым шелком, где Бернард иногда принимал посетителей, ее поджидал мужчина, держа в руке шляпу. Он был бледнолиц, моложав, но уже совершенно лыс, широкие скулы выдавали монгольских предков. Выглядел он смутно знакомым. Когда мужчина улыбнулся, во рту сверкнул золотой зуб.
— Андрей Оленков из советского консульства, — представился он вошедшей Жени. Говорил он по-английски.
Она похолодела. Отец или брат?
— Поздравляю с поступлением в Гарвард. Ах, нет, в Редклифф. Вы вскорости уезжаете?
Она кивнула и прикусила нижнюю губу. Его английский был вымучен, но по-русски ей с ним говорить не хотелось.
— Приятная комната.
Откуда он узнал, что она едет в Редклифф? Он продолжал вежливо улыбаться. Жени ничего не ответила — она неотрывно смотрела на него, надеясь заставить сразу же выложить цель своего визита. Теперь она вспомнила, где видела этого человека — в «Русском антиквариате», среди других посетителей. Наверное, он шпионил за ней. Но зачем?
Улыбка слетела с лица Оленкова.
— Ваш отец…
— Что? Говорите! Где он?
— Вы ведь с ним переписываетесь?
— Нет.
Они стояли в шести футах друг от друга. Жени не предложила ему сесть.
— Ни одного письма? Ни открытки? Ни записочки? — он пристально смотрел на нее.
— Нет.
— Лучше скажите правду.
— Я же сказала, нет!
Он вздохнул, как будто заранее предполагал такой отпор.
— А ваш отец горд тем, что вы поступили в Гарвард?
— Я уже сказала вам, что у меня нет с ним связи, — почувствовав, что ее голос дрогнул, замолчала, пока вновь не овладела собой.
— Да, сказали. А он навестит вас в Гарварде?
Жени уставилась на него широко раскрытыми глазами. Значит, отца выпустили. Он в Америке? Или собирается сюда?
— Не понимаю?..
— Я хочу сказать, — его английский вдруг чудесным образом стал очень правильным, — я хочу сказать, что если вашего отца освободят, он может быть нам полезным. Предложение должно показаться вам небезинтересным.
— Я думаю, вам лучше уйти, — ровным голосом произнесла Жени.
Вежливая улыбка вновь появилась на лице Оленкова.
— Вы не встречались с девочкой из Киева?
— Не понимаю, о чем вы говорите.
— С девочкой из Киева, — повторил Оленков. — Ее очень любили родители. Мы считаем, что ее, как и вас, удочерил мистер Мерритт.
— Мистер Мерритт меня не удочерял. И насколько мне известно, не удочерял никого другого, — она медленно направилась к двери и, дойдя, окликнула Григория. Но прежде чем тот появился, Оленков удалился сам, все так же любезно улыбаясь. Жени раздвинула шторы окна, выходящего на Шестидесятую улицу. Через несколько секунд она заметила Оленкова, выходящего из боковой двери. В тот же момент из подъезда напротив выбежал человек в черном и рванулся к поджидавшему его темному лимузину. Машина сразу же отъехала в том же направлении.
Жени задернула шторы. Она убедилась, что кто-то преследовал Оленкова, и была уверена, что Оленков следил за ней.
В субботу Бернард вернулся слишком поздно, чтобы поговорить с ним об этом.
В воскресенье утром Жени не могла уже сдерживаться. Ее чемоданы были упакованы для отъезда в колледж, но все мысли вертелись вокруг визита советского чиновника, спрашивавшего об отце. Она сбивчиво рассказала Бернарду обо всем в гостиной.
— Оленков? — американец на секунду прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. — Вспомнил. Пешка в консульстве. Никто.
— Но тогда зачем он пришел сюда? Чего он хотел от меня?
— Наверное, пытался запугать на низшем уровне. А парень из лимузина, вероятно, сотрудник ЦРУ, севший Оленкову на хвост, если у того есть что-то на уме. Ковбои и индейцы. Вот их игры. Не беспокойся, девочка. Что бы там ни было, я обо всем позабочусь…
— Но мой отец…
— Нам известно, что он по-прежнему в ссылке. Никаких изменений.
— Может быть, мне к нему вернуться?
— Но он не просит об этом. А пока ты едешь в Кембридж.
— Но что будет дальше? Я стану американкой?
— Со временем все утрясется, Жени.
Она была и сердита, и напугана:
— Как мне строить жизнь, если я не знаю, где окажусь и что со мной случится?
— Я позабочусь о тебе, как делал это и раньше. С тобой все в порядке. А если вернешься в Россию, причин для беспокойства будет больше — говорю тебе об этом прямо.
— Но… — ее мучила масса вопросов, и все она хотела задать. Но в конце концов только сказала: — Он говорил, что вы удочерили девочку из Киева.
Бернард будто весь подпрыгнул со стула, потом безразлично произнес:
— Откуда он взял такую чепуху?
— А меня вы удочерите?
Он взял ее за руки и притянул к себе.
— Ты моя подопечная, и я отвечаю за тебя. Буду тебя оберегать, прослежу, чтобы ты получила лучшее образование. Теперь ты уже студентка. Поздновато, как ты думаешь, тебя удочерять?
Бернард поднялся и отпустил ее руки.
— Счастливого пути. За твое обучение уплачено, и ты будешь регулярно получать деньги на содержание. Успехов тебе.
— Спасибо, — Жени обменялась с ним рукопожатием и, расправив плечи, вышла из гостиной навстречу своему неопределенному будущему.
10
Жени не приняла приглашения присоединиться к группе «Молодые американцы за свободу» или вступить в общество Карла Маркса. После принципиально аполитичного мирка Аш-Вилмотта, первые дни в Кембридже она была выбита из колеи: плакаты на стенах и в университете, и в городе зазывали вступать в разные политические организации. Во время первого семестра к ней обращались и прокоммунисты и антикоммунисты, и ни те, ни другие не могли понять ее позиции. В какую бы группировку она ни отказывалась вступить, те расценивали это как приверженность противоположным взглядам. А тот факт, что Жени родилась в СССР, но жила в Америке, как бы автоматически вводил ее в сферу политических интересов в глазах политически настроенных студентов Редклиффа и Гарварда.
Но Жени никому не рассказывала о своей политической ереси: она сделалась прорусской антисоветчицей. Она любила родину, но ненавидела то, что страна сотворила с ее семьей. Чаши весов тяжело давили с обеих сторон, а между ними отравленная девушка вовсе лишилась политического веса.
Более того, убеждала она себя, если бы ей и захотелось посвятить себя какой-либо политической идее или объединению, ее непрочное положение в США ей этого бы не позволило.
Когда в субботу в начале декабря ее приехала навестить Лекс (она тоже стала первокурсницей в Маунт Холиок), Жени призналась подруге:
— Не быть гражданкой ни одной страны означает, что я не свободна. Словно содержанка — ничья жена и даже любовница не по своей воле.
— Хорошо сказано, — одобрила Лекс. — Только иностранцы и могут заставить английский зазвучать как поэзию.
— Иностранка, — горестно откликнулась Жени.
— Ну, ладно, ладно. Лучше уж так, чем быть марсианином — у них нет даже собственного места на земле, — Лекс усмехнулась. — А ты худо-бедно здесь нашла свое место, — и она указала на окружавшие их здания, обрамлявшие Гарвард-Ярд, по которому они прогуливались. — Все пропитано традициями и историей. Тебе нравится?
— Нормально, — ей и в самом деле нравился уверенный стиль архитектуры, греческие колонны, латинские изречения, вьющиеся по камню. — Но лучше, чтобы и ты была здесь, — Жени опять было трудно обзавестись друзьями. Кембридж оказался живым бодрым городом, студенты Редклиффа более разнородны, чем ученицы в Аш-Виллмотте, и все же она не чувствовала себя, как дома.
— Мне в Гарвард? Ну что ты, крошка. Я ведь не из бессмертных, и для меня не место на Олимпе, — они пересекали Массачусетс-авеню, продуваемую порывистым ветром.
— Это присуще ему, — Жени крепче сжала руку подруги, чтобы согреть. — Чувство элитности. Но совсем не такое, как в школе. Дело не в деньгах. Здесь все ощущают, что именно они управляют страной. Прямо отсюда.
— Джон Фиджеральд Кеннеди. Его избрание в прошлом месяце стало звездным часом для Гарварда. Здесь утверждают, что он победил из-за них. Фу, как я замерзла. Если сейчас же не позавтракаю, то превращусь в ледышку.
— Уже недалеко, — подбодрила ее Жени. — В половине квартала.
Лекс и внутри не сняла жакет, говоря, что промерзла до костей.
— После избрания Кеннеди дома все просто сходят с ума. Пел воображает, как окажется за огромным столом в Белом доме. Я ему твержу, Кеннеди возьмет себе только людей из Гарварда, но Пел продолжает бредить.
— Да, — улыбнулась Жени. — Он мне писал, что собирается обосноваться в Гарвард Ярде, пока тамошняя аура насквозь не пропитает его. Думаю, ему нужно подождать до весны.
Картина, нарисованная подругой, не показалась Лекс забавной.
— Вы часто переписываетесь? — спросила она.
— Довольно часто. Но не сравнить с тем, как мы переписываемся с тобой.
— А он к тебе сюда не приезжал?
— Пока нет.
Лекс отставила тарелку.
— Ты им увлечена? — напрямик спросила она.
— Нет, — моментально ответила Жени и тут же добавила: — Хотя он мне и нравится.
— Нравится как?
— Вроде… как брат.
— Вроде?
Жени не ответила. После Нового года Пел часто писал и звонил ей, хотя с тех пор они виделись всего два раза: в Нью-Йорке, в начале и конце лета. Обменялись долгими поцелуями, но дальше этого не пошли. Он дал ей ясно понять, что его чувства к ней вовсе не братские, а в своих чувствах она не была уверена, хотя ей и нравилось, когда длинные руки Пела обнимали ее, и губы тянулись к ее губам.
— Ему двадцать три, — напомнила Лекс. — Разница в семь лет. Не так много, когда люди становятся старше — у дяди Джадсона и тети Анни разница в двенадцать лет, — но все же это другое поколение.
— Я знаю, Лекс. Не тревожься.
— О чем не тревожься? — запальчиво спросила американка. — О чем я не должна беспокоиться?
— Ну, хватит! — в голосе Жени, как и в голосе Лекс, прозвучало раздражение. — Что ты на меня кидаешься? Ты ведь сама хотела, чтобы Пел мне понравился. Мне нравится вся ваша семья. Ты — моя лучшая подруга. Ты значишь для меня больше, чем кто-либо другой. И давай на этом покончим.
— Ладно, — Лекс подняла глаза, встретилась взглядом с Жени и прыснула со смеха. — Знаешь, как я тебя люблю. Не понимаю, что это мне в голову вступило. У нас ведь с Пелом всегда были какие-то особые отношения. Очень близкие. Тебе ясно?
— Да. Как и у нас с Дмитрием. По крайней мере я так считала. Привыкла, что в доме у меня есть друг — девочка по имени Вера. Как-то она пришла ко мне на день рождения, и я не могла переносить то, как Дмитрий на нее глядел, — Жени рассмеялась над собой. — На следующий день я нашла себе другую лучшую подругу.
— А что произошло между Дмитрием и Верой?
— Откуда я знаю. Она, в самом деле, была потрясающей девчонкой — забавной и способной. Я тогда совсем с ума сошла.
— Ты была еще ребенком. И я по отношению к Пелу испытывала подобные чувства — по-настоящему ревновала, если он обращал внимание на моих подруг. Считала, что они приходят ко мне, а не к нему. Злилась, если думала, что он нравится кому-нибудь из них больше, чем я. Или еще хуже, если она ему нравилась больше, чем я.
— Твой собственный брат? Ненормальная!
— Точно. Я была сдвинутым ребенком.
Они улыбнулись друг другу — лучшие подруги, сестры. Но Жени поняла, что не может рассказать Лекс о своих отношениях с Пелом. Ни к чему, да и не о чем, думала она. Разница в возрасте, о которой говорила Лекс, означала, что бы ни произошло у них с Пелом, это может случиться лишь в будущем. Она начинала учиться в колледже, Пел стоял у истоков карьеры. Они оба были очень заняты, жили в разных штатах — каждый по своему расписанию. Несколько последующих лет они смогут быть только друзьями. Хотя и в отношениях между друзьями разве не может быть романтического налета?
Лекс улыбалась ей в ответ, но Жени понимала, что в их дружбе образовалась маленькая трещинка.
В корпусе Жени американка болтала о своем колледже:
— Все одно и то же. Как на нашем старом школьном пепелище — никакой разницы. Но все же, какое облегчение оказаться снова в школе. Намного лучше, чем с марсианами и предками, — она ничком растянулась на Жениной кровати, подогнув ноги и свесив по сторонам руки.
— Ты уже знаешь, какой выберешь главный предмет? — Женина комната ничем не отличалась от ее каморки в школе, за исключением развешанных по стенам анатомических рисунков Леонардо да Винчи.
Лекс бросила на них взгляд:
— Не-а. В особенности меня ничего не интересует. Просто не могу представить себя через десять лет. Представить, что я что-нибудь делаю или просто существую.
Жени ясно сознавала, что через десять лет она будет врачом — уже практикующим, но, быть может, все еще учащимся. Она слышала, что после медицинского отделения требуется особая специализация, особенно в пластической хирургии. Хотя она, наверное, и не на столько уж отличалась от других областей медицины.
— Ты счастливая, — проговорила Лекс. — Знаешь, что собираешься делать. У тебя есть цель. А у меня всего лишь навсего — иногда какие-то порывы. Где-то сосет, куда-то тянет. Вот так-то.
Жени улыбнулась ее самоуничижительному юмору — такому характерному и такому милому.
— Подчас мне хочется творить чудеса, — продолжала американка. — Обращать слепцов в глухих…
— Ну а серьезно, — перебила Жени.
— Серьезно? Сделать что-нибудь полезное для другого. Наверное, так. Но шансы мои невелики. Что я могу предложить?
— Да все!
— Ну конечно, — Лекс хрипло рассмеялась. — Ты только взгляни на меня.
Жени подняла на нее глаза, зная, что Лекс ждет от нее этого, и почувствовала, как крепнет ее любовь к подруге, превращаясь почти в боль.
Когда подъехала машина и шофер явился за Лекс, та спрыгнула с кровати, на бегу наскоро обняла Жени и понеслась вниз по лестнице к подъезду, прежде чем подруга успела последовать за ней. Ни одна из девушек не любила прощаний.
В последующие два года они несколько раз навещали друг друга в колледжах и иногда на несколько часов, от силы на день, встречались во время каникул в Нью-Йорке. Когда Лекс училась на первом курсе, Вандергриффы ездили на Рождество в Японию. На следующий год они провели каникулы в Монако — гостили у принца Ранье и принцессы Грейс.
Оба раза Жени оставалась в Нью-Йорке, получая от опекуна роскошные подарки, заставляющие ее почувствовать себя еще более одинокой. По детству она не помнила Рождества, и воспоминания о нем остались лишь от дома Круккаласов и каникул у Вандергриффов. Тогда подарки говорили о том, как ее любят. Дары Бернарда свидетельствовали лишь о цене.
Но может быть, все было и к лучшему. К Бернарду она относилась настороженно и стремилась держаться от него подальше.
Он был человеком, о котором знали сильные мира сего, о котором писали в газетах. Его имя было на слуху у миллионов, а его внутренняя сущность была неизмерима. Он интересовал Жени, но она страшилась, что эта сущность когда-нибудь проявится. И горела желанием как можно раньше встать на ноги.
Летом она работала в колледже — в канцелярии по иностранным студентам. Бернард не возражал. Он уважал труд. И хотя догадывался, что заработки были мизерными, понимал, что Жени оказалась человеком инициативным.
Она бы хотела закончить колледж за три года вместо четырех, но это было в самом деле невозможно. Стала бы заниматься летом одновременно с работой, но каталог предлагал лишь два курса из ее предметов, и то в неудобное время.
Придется провести в Гарварде все четыре года и все это время оставаться зависимой от Бернарда, хотя заработок приносил ощущение свободы.
Первый курс оказался не таким уж сложным, как предсказывал новичкам декан. Жени обнаружила, что работать приходилось не больше, чем в Аш-Виллмотте, просто там было меньше предметов. А проблемы «приспособляемости» — если таковые и существовали — стали такой неотъемлемой частью ее жизни, что она их едва ли и замечала. Ей удалось заработать самый высокий средний балл среди первокурсников, а потом и среди второкурсников.
Четыре раза в неделю она ходила плавать в олимпийский бассейн, часто занималась в гимнастическом зале, поднимая вес, обретая силу, которая ей понадобится как хирургу.
Жени держалась обособленно, но хотя и была сдержанна, не выглядела неприветливой — участвовала в любом начинании в общежитии, помогала сокурсникам с работой, когда бы они ее об этом не попросили. Некоторые из девушек Редклиффа, которых называли просто «клиффочками» ей не доверяли, но не из политических соображений, а больше из-за ее внешности.
Но с этим Жени ничего не могла поделать. Прохожие на улице останавливались и заглядывались на нее. В колледже преподаватели удивлялись, что именно она заработала лучшую оценку за сочинение или высший балл на зачете.
Жени смирилась с тем, какое впечатление ее внешность производила на людей, не удивлялась и не обижалась, если какой-нибудь мужчина подходил к ней и спрашивал: «А мы случайно не знакомы?» Мгновение, чтобы увериться, она изучала его, а потом отвечала: «Может быть. Но я вас что-то не припоминаю».
Когда она выходила куда-нибудь со знакомыми мужчинами, они, казалось, робели от нее, главным образом от ее наружности. Она всецело завладевала ими, и они не могли уже толково о чем-нибудь говорить. Или, наоборот, впадали в другую крайность — начинали вести себя подчеркнуто фривольно, будто со своими приятелями.
Другим камнем преткновения были: ее ум и образование. Она не подпадала ни под одну категорию Великого Разделения,согласно которому мужчины в Гарварде видели в девушках либо «возможных будущих жен», либо работниц.
Несколько раз, выходя, Жени целовалась с ребятами — в кино, в машине. Ощущение поцелуя возбуждало ее: не любовь, даже не влюбленность; а именно чувство полета. Немного походило на спорт, но там были чисто физические, а не сексуальные ощущения. В бассейне, на лыжах — знание тела, как хорошо отработанной машины. Во время поцелуя Жени познавала себя как женщину, и была потрясена тем, что мужчины были способны в ней пробудить.
Но не было ни одного, с кем бы она встречалась более двух раз — никто ее настолько не интересовал. Два года Жени переписывалась с Пелом, который заканчивал в Принстоне отделение международных отношений. За все это время они встречались лишь несколько раз, но письма углубили их дружбу и утоляли разыгравшееся воображение. Никто в Кембридже не интересовал ее так, как Пел.
Она ждала его писем, как маленьких подарков, сначала быстро пробегала их глазами, пропуская анекдоты, описания и общие рассуждения и быстро переходя к немногим фразам, в которых содержалось его отношение к ней. На следующий год, писал Пел, он переедет в Вашингтон — а что она думает об этом городе? Может ли себе представить, что живет в столице?
Жени улыбалась и писала в ответ: «Должно быть, это потрясающий город — жить в нем будто в оке циклона». Она понимала, что флиртует с ним, наверное, даже мучает его, и убеждала себя, что на самом деле он не так уж серьезен. Но иногда, прежде чем рассмеяться собственной глупости, выводила на обратной стороне конверта «как мило».
Пел тоже бредил девушкой, предстающей в письмах. Ее достоинства в его воображении росли с каждым днем, красота становилась несравненной. Юноша понял, что теряет рассудок. В середине лета 1962 года, перед предпоследним курсом Жени, он неожиданно приехал в Бостон.
Летом Жени жила в общежитии для иностранных студентов. В шесть вечера ее позвали вниз. Она спустилась и увидела его — спиной к ней, у готовой закрыться двери.
— Пел! — закричала она.
Он обернулся и расплылся в улыбке: такой большой, неуклюжий, милый.
— Жени!
Она подошла. Пел обнял ее своими длинными руками и так крепко прижал к себе, что весь воздух вылетел у девушки из легких. Жени закрыла глаза, успокоившись в убежище его рук. Она позабыла легкий запах, исходивший от его кожи и напоминающий аромат сосновых иголок в чистом горном воздухе.
— Как хорошо прикоснуться к тебе, — пробормотала Жени.
— Ты так красива, — прошептал он в ответ, освобождая девушку.
Он произнес это таким мрачным тоном, что она расхохоталась и, подобрав юбку, закружилась перед ним.
— Давненько мы не виделись, Жени.
— Да, — она остановилась, и внезапная мысль пришла ей в голову: «А насколько она изменилась? Не кажется ли теперь она ему другой?» Ей он казался все тем же и вместе с тем другим — знакомым и чужим. Частые письма и время от времени телефонные звонки приучали Жени все прошлые годы думать о нем. Возвращаясь со свидания, она сравнивала Пела с мужчиной, с которым провела вечер. Какой бы черты не был лишен ее спутник, она награждала ею Пела. И вот теперь он был рядом — во весь свой рост в шесть футов и четыре дюйма — и Жени поняла, что в прошлом отчасти придумывала его.
Во плоти его большие руки болтались из рукавов, он был не так уж красив, и тем не менее Жени ощущала, что он ей близок.
— Ну как Лекс?
— До смерти хочет встретиться с тобой. Я даже не решился ей сказать, что еду в Кембридж.
— Правильно, — кивнула головой она.
Зеленовато-коричневые глаза Пела моргнули, и Жени заметила, какие редкие у него ресницы — прямо как у отца.
— Пойдем в город? Пообедаем в «Ритц-Карлтоне». Я там остановился.
— С удовольствием, — Жени почти совсем не выходила из Кембриджа, и Бостон для нее был как другой город. А «Ритц-Карлтон» слыл самой фешенебельной достопримечательностью. Она часто проходила мимо, но никогда не была внутри — бостонский знаменитый отель, выходящий на Бостон-Гарденз. Оказаться там — словно праздник. — Подожди минуту. Я только переоденусь.
— Ты и так превосходно выглядишь, — возразил он.
— Ну, пожалуйста! — ради такого случая Жени хотелось нарядиться. С тех пор как она приехала в Кембридж, у нее не было такой возможности. И теперь, взбегая по лестнице, она поняла, как монотонно текла здесь ее жизнь — занятия и работа.
Сидя в фешенебельном, белоснежном открытом зале, Жени осознала, как ей не хватает загара. Она и Пел оказались самыми бледными в ресторане людьми — их невыразительный вид представал здесь упреком: словно нищета незвано ворвалась в атмосферу «Ритца». Другие обедавшие отливали бронзой, позолоченной и отполированной светом свечей.
— Тебе повезло, что ты здесь учишься, — проговорил Пел.
— Да, — ответила она. — От лучшей медицинской школы меня отделяет всего несколько миль и два года занятий.
— Забавная ты, Жени. Выглядишь, как всегда, и так стремишься стать врачом. Уверен, что ты своего добьешься.
— Спасибо. Я тоже так думаю. Наверное, я решила стать доктором, хирургом много лет назад, еще когда была совсем ребенком. Но осознала я это, только когда оказалась в Кейп Коде. Мне помогла маленькая девочка, — на самом деле решение вызрело в Жени благодаря отцу, Синди лишь помогла понять его.
— На нынешнем этапе развития истории в Гарварде должно быть потрясающе, — Пел повторил то, о чем говорил в письмах.
— По мне, никакой разницы, — пошутила Жени. — Мне кажется, здесь всегда так было.
— Но жить здесь, когда администрацию возглавляет Кеннеди — просто блеск!
Жени кивнула:
— Многие так думают. По-прежнему переживают кампанию Кеннеди-Джонсона двухлетней давности. Но я в стороне от этого, Пел, — по выражению его лица она поняла, что разочаровала его. — У меня ведь даже нет вашего гражданства.
— Что ты хочешь сказать? Как это нет?
Подошел официант. Жени помедлила, пока он не поставил перед ней отбивные и тушеный эндивий.
— В вашу страну я приехала только четыре года назад, — она взялась за вилку.
— Ну да? Трудно поверить. Твой английский безукоризнен.
— Ты так считаешь, потому что я говорю, как Лекс, — Жени разрезала мясо. — Это она научила меня. — Знаешь, я ведь уехала с родины неофициально, — она попробовала отбивную — самое превосходное блюдо с тех пор, как она оказалась в Кембридже.
— Да, но существуют разные лазейки. Мерритт о них превосходно осведомлен. Может нажать, где надо, и все ускорить. Требуется лишь упорство и кое-кого подмазать, — Пел сморгнул и быстро заверил ее. — Но это же для хорошего дела. За тебя, — он поднял свой бокал.
Жени отпила бургунди — вкус сохранился во рту, когда она уже проглотила напиток. Праздник, а не обед. Она уже позабыла радости, которые могут предоставить деньги.
— Не могу понять, почему Мерритт тянет волынку, — Пел поставил бокал.
Жени не ответила. Ей часто приходило в голову, что опекун нарочно держит ее в подвешенном состоянии — так ему легче влиять на нее. А по ночам ее подозрения становились еще более серьезными: уж не он ли был виноват в бедах отца и даже матери, уж не он ли все это подстроил, чтобы взять Жени в Америку в качестве собственности. Для подобных домыслов не было никаких оснований. Она это понимала, убеждала себя, но Бернард казался таким непроницаемым, таким могущественным и таким подвластным причудам, что ее воображение подчас непомерно разгуливалось.
— Но он о тебе хорошо заботится? — спросил Пел.
— Да.
— Ну ладно. Его ведь недолюбливают у нас в семье, ты заметила?
— А почему?
— Точно не знаю. Наверное, по многим причинам. Выставляет себя либералом, намекая на близость с Советами, и тут же оказывается, что связан с Южной Африкой или каким-нибудь другим правым диктаторским режимом. Думаю, он тот человек, который любую вещь сможет обернуть к собственной выгоде. Кажется, у него нет других принципов, кроме тех, которые позволяют увеличить богатство и власть. Извини, Жени, мне не стоило тебе этого говорить.
— Ничего. Все нормально.
— Есть здесь и личное. Третья жена Мерритта и дядя Джадсон любили друг друга. Мерритт ее увел, но я думаю, она так и не полюбила его. Наверное, жалела, что не вышла замуж за дядю.
— А я думала, что твой дядя и Бернард — деловые соперники.
— И это тоже. Они конкурируют в одной области. Но такое соперничество не делает врагами.
Жени размышляла.
— Пел, а это правда? Я имею в виду гражданство.
— Можно ли ускорить его получение? Да. Выходи за меня замуж и сразу получишь.
Жени расхохоталась.
— О таком романтическом предложении я еще никогда не слышала.
Лицо Пела изменилось — в коричневых глазах засветился оранжевый отблеск, и они приняли цвет охлажденного чая.
— Но я это серьезно. Знаю, просить нет смысла. Ты еще в колледже, у меня тоже нет должности…
Его серьезность была такой нежной и сбивчивой.
— Ты прав, — тихо согласилась она. — У нас не было возможности привыкнуть друг к другу. И к тому же мы оба очень заняты…
— Я тебя люблю, — проговорил он почти шепотом.
Жени заметила, что его лицо выражало доброту и нежность. Она не знала, была ли любовь, настоящая любовь то, что она испытывала к нему, но чувствовала, что хочет обвить его руками, прижаться к нему.
— Мне семнадцать. Бернард ни за что не даст согласия.
— Я подожду, Жени.
— Хорошо, — довольно ответила она.
Всю дорогу домой они целовались — в такси, в общежитии, и в слиянии их губ она видела некий обет.
На следующее утро Пел позвонил попрощаться. Он не сказал, что говорит из аэропорта и вот-вот должен сесть в самолет до Нью-Йорка, где собирался встретиться с Бернардом Мерриттом.
Хозяин и не подумал показать, что визит Пела доставил ему хоть малейшее удовольствие. Он сказал, что слишком занят, и только потому, что дело касалось Жени, был готов уделить молодому человеку двадцать минут. С молодым Вандергриффом Бернард раньше не встречался, и теперь, оценивающе оглядев его, не был поражен ни его наружностью, ни манерами.
— Конечно, с ее отцом я все обсудил до его ареста, — нетерпеливо ответил бизнесмен. — Я ее тогда почти не знал и не взял бы с собой, как никого другого, без предварительного соглашения.
— Вы с отцом Жени, должно быть, большие друзья, — улыбнулся Пел.
Бернард подивился, как столь наивных людей могут принимать на дипломатическую службу. Конечно, родовое имя, влиятельная семья. Но если эти привилегии дают такое право, Соединенные Штаты будут представлять за границей одни идиоты.
— Это было деловое знакомство, но мы понимали друг друга.
Пел заметил, что Бернард сказал это в прошедшем времени.
— Вы получаете от него известия? Хотя бы окольными путями?
— Он жив.
Таким образом, ответ утвердительный, подумал Пел.
— Он по гроб жизни должен быть вам обязан. Вы так великодушны к Жени.
Бернард неопределенно махнул в воздухе рукой — этим жестом он как бы говорил, что хотя его великодушие и не вызывает сомнений, он вовсе не просит его признания.
— За него вы, видимо, не так уж много получили, — сочувственно произнес Пел. — Что-нибудь из того, что стоит здесь в комнате?
— Вот именно, — бизнесмен поднялся подошел к шкафу и показал Пелу серебряную пепельницу.
Юноша повертел ее в руках, вернул Бернарду и кивнул, будто восхищаясь бескорыстием Бернарда.
— Жени повезло, что она встретила вас — столь бескорыстно ей помогающего.
Когда Пел уходил, Мерритт обменялся с ним рукопожатием. Мозги запудрены, но славный мальчик этот молодой Вандергрифф, подумал он.
Пел вышел из дома, мрачно улыбаясь про себя. Алчность Бернарда как коллекционера была хорошо известна — особенно стремление раздобыть всякие «безделушки» из России: что-нибудь вроде живописных полотен или других предметов старины огромной ценности. Отец девушки хотел обеспечить безопасность Жени. Он слишком высоко ее ценил, чтобы отдать под защиту человеку, вся награда которого составляла серебряную пепельницу. Сареев мог рискнуть дочерью лишь предложив то, что Бернард оценил так же высоко.
Петляющей походкой Пел шел по жаркой улице. Он знал, что не сейчас, но когда-нибудь обретет над Бернардом власть. Он был уже к этому на пути.
На Рождество Вандергриффы остались у себя, и, спустя два года, Жени снова провела праздник у них. На этот раз «у себя» означало Ванвуд на северном побережье Лонг Айленда — имение, более чопорное, чем Топнотч, и совсем с другим духом внутри. Построенное в 1880-х годах дедом Филлипа, оно воспроизводило английскую усадьбу времен Тюдоров, со сторожкой привратника у въезда. В имении было тридцать семь комнат, а прислуга проживала в меньшем строении, на задах розария.
Используя это имение лишь несколько раз в году, современные наследники былых Вандергриффов решили, что неразумно эксплуатировать его полностью, и большую часть закрыли, оставив прислуживать супружескую пару и открывая на Рождество только половину комнат. И все же здесь ощущалось величие, власть и традиции.
Встретившись, Лекс и Жени заключили друг друга в объятия и через несколько часов вели себя уже по-старому, будто все еще находились в школе и болтали в последний раз день или два назад. Они обе устроились в комнатах Лекс — раздельных спальнях с общей ванной.
— Будто шлепнулась с велосипеда, — заявила Лекс в ванной, где Жени чистила зубы.
— Б'то все так и п'рдлжалось, — отозвалась Жени сквозь пену во рту.
— Продолжалось. Вернулось. Думаешь, так со всеми?
Жени выплюнула пасту, прополоскала рот, выплюнула снова.
— Как?
— Близкие отношения. Вовсе и не меняются. Неважно, как долго мы не виделись и что в это время делали.
— Конечно, — согласилась Жени. Но сама она чувствовала, что не все осталось по-прежнему. Внешность Лекс изменилась. Она еще отяжелела и выглядела как-то грубее: волосы коротко подстрижены, рот, которого принципиально не касалась помада, стал жестче. Ей было девятнадцать лет, а выглядела она на двадцать пять.
На предпоследнем курсе в Холиоке она писала Жени, что по-прежнему живет в основном одиноко. Основным ее развлечением был баскетбол, который она выбрала еще на первом курсе и в котором, несмотря на свой рост в пять фунтов и шесть дюймов, достаточно преуспела. Большинство девушек из колледжа она характеризовала как искательниц женихов или говорила, что они не интереснее горшка холодной манки. Ей удалось найти лишь одного настоящего человека — женщину, тренера по баскетболу, по имени Илона.
Жени в своем колледже тоже держалась особняком, отчасти из-за большой нагрузки, но она понимала, что одиночество ее и Лекс больше уже не настолько схоже, как раньше.
И все же Лекс оставалась ее ближайшей подругой, почти сестрой. Но и Пела она тоже очень ценила и понимала, что отношения к брату и сестре вступают в конфликт. В Ванвуде большую часть времени она проводила с Лекс, и почувствовала почти что успокоение из-за того, что Роза Борден совершенно монополизировала внука.
Роза Борден выглядела значительно моложе, чем три Рождества назад. Как и у Лекс, ее лицо претерпело изменения, но в отличие от девушки оно стало мягче.
В своем новом энтузиазме она нашла даже время, чтобы поговорить с Жени.
— Тебе нравится? — спросила она, когда в Сочельник они встретились за обедом. — Я сделала подтяжку — просто замечательно.
— Ваше лицо выглядит великолепно.
— Роза для тебя. Для всех. Я — роза во втором цветении. Это самое лучшее, что я для себя сделала. Нашла самого потрясающего в мире хирурга, Эли Брандта, — Жени не стала делать вид, что ей знакомо это имя. — О нем писал «Тайм». Поместил большой материал, — продолжала пузыриться Роза. — Его называют «восходящей звездой». Или, может быть, там было сказано «кометой». Он просто необыкновенный. Произвел целую революцию в операции подтяжки. Трудно даже поверить! И такой красавец! Знаешь, дорогая, каждая женщина должна претерпеть муку в руках такого человека.
Жени улыбнулась. В это время подошел Филлип, чтобы усадить тещу по правую от себя руку. Но после обеда Жени спросила ее:
— А что такого нового ввел этот хирург, чтобы так революционизировать процесс подтяжки?
— Тебе, дорогая, в самом деле нужно прочитать «Тайм». Будешь больше знать. Хочешь подписку?
— Спасибо, миссис… Роза. Мне столько приходится читать к занятиям, что вряд ли хватит времени, чтобы заглядывать в «Тайм»
— Все это очень замысловато, — сурово произнесла женщина. — Сложно. Не жди, что я расскажу тебе обо всех деталях. Основное, что придумал Эли, — заменять старую кожу на молодую.
— Пересадка кожи?
— Можешь называть это так. Профессиональный жаргон мне никогда не удавалось понять, но ты уж смотри сама. Кто-то назвал меня «лучистой», а энергия, которую я обрела…
— Бабушка обручена, — голос Лекс громко плыл с дивана по другую сторону стола, накрытого кофе. — Она нашла себе нового мужчину, и свадьба намечена на июнь.
— Примите мои поздравления, — проговорила Жени, несмотря на явные нотки неодобрения, прозвучавшие в замечании Лекс.
— Да, дорогая. Он — утонченный человек — в общении, так это ведь называется. Мы проведем медовый месяц в Полинезии, правда ведь оригинально? А теперь, — продолжала она, не дожидаясь ответа, — мне надо разыскать моего драгоценного внука. Мой суженый должен праздновать со своей семьей, и мне требуется симпатичный молодой человек, чтобы я сумела позабыть о своем одиночестве.
Жени не пыталась встретиться взглядом с Пелом, когда Роза Борден подошла к нему, а он все так же упорно смотрел поверх ее головы. Каждый из них старался вести себя в семье естественно. Они были влюблены, но не настолько романтически. И все праздники Пел старался не выказывать Жени явных знаков внимания.
Но чувствительные антенны Мег засекли некоторые тонкости, не замеченные другими. Она хорошо знала сына. Как-то после обеда, встретив Жени в игровой комнате, она спросила:
— Если ты выйдешь замуж, то сохранишь свою фамилию или хочешь взять фамилию Вандергриффов? — женщина прикусила губу, смущенная, что ненароком высказала свою мысль вслух.
— Вы мне больше всего нравитесь вот такой проницательной, — ответила Жени, обнимая ее.
Мег была уже кем-то вроде матери для Жени. Она звонила в ей в Редклифф по первым воскресеньям каждого месяца узнать, как у нее идут дела. В этих разговорах Жени никогда не упоминала Пела, а если Мег заговаривала о сыне, она не поддерживала темы.
Но в Ванвуде Мег почувствовала, что происходит. А если почувствовала она, то безусловно это удалось и Лекс, думала Жени. Но ни одна из подруг не коснулась этой темы. Однако подчас Жени ощущала напряжение, будто туго натянутую проволоку между собой и Лекс.
С Пелом наедине она оставалась всего лишь несколько раз: на прогулке в окрестностях Ванвуда, катаясь в машине по соседним местечкам — Локуст Валли, Матинекок или Милл Нек — мимо замерзших озер с катающимися на коньках, по проселкам, бегущим вдоль каменных стен и железных заборов, за которыми прятались поместья.
В машине Пел обнимал ее рукой, на прогулках они держались за руки и легко болтали обо всем, что приходило на ум, но никогда не касались гражданства Жени. И Пел никогда не упоминал о своем визите к Бернарду Мерритту. Они целовались, где только могли, теми же продолжительными доверчивыми поцелуями, как тогда, в бостонском такси, но юноша ни разу не повторил своего предложения.
Когда они возвращались домой, Лекс смотрела на них с упреком, но не произносила ни слова, молча переживая свое одиночество.
На последней оживленной прогулке в морозный день Пел, не говоря ни слова, сжал руку Жени. Тихо падал снег, заставляя молодых людей держать глаза опущенными. У домика прислуги он обнял ее. Снежинки заставили Жени моргнуть, когда она подняла на него взгляд.
— Я ведь тебе нравлюсь, Жени, — Пел сказал это таким тоном, будто делал предложение.
— Очень.
— Ты получаешь диплом через полтора года.
— Да.
— И тогда…
Жени прикрыла его губы затянутым в перчатку пальцем.
— Пожалуйста. Не теперь, — прошептала она.
Он выпустил ее руку, наклонился и поцеловал. Губы Пела оказались холодными и нежными и, отвечая на его поцелуй, Жени почувствовала прилив благодарности за его доброту и любовь.
Почувствовав, как прижимаются к нему ее губы, Пел испытал душевный подъем. Она будет его женой — в этом он не сомневался. Дело только во времени.
Возвращаясь обратно, они, довольные, молчали. Но Жени размышляла, не должна ли любовь быть более бурной. Может быть, и нет. Наверное, страстная любовь — только плод фантазии. Ей не придумать ничего лучше, как предоставить себя Пелу. Он предлагает все, в том числе и семью, станет ее гаванью, надежным прибежищем.
Но в поезде, уносящем ее из Ванвуда, Жени осознала, что не готова еще нестись с приливом. Она привыкла плыть одна. И хотя подчас и была одинока, сама выбирала свой путь. Что-то в глубине ее души, быть может, женское любопытство, горело желанием узнать — что значит оказаться подхваченной штормом.
11
Четыре недели спустя в ее жизнь, подобно урагану, ворвался Дэнни Ритко. Шло третье занятие по курсу сравнительного литературоведения — последней гуманитарной дисциплины Жени. Она выступала по поводу «Записок из подполья» — короткого романа Достоевского, который им задали прочитать.
— Книга, пропитанная жалостью к себе, — начала она. Из-за спины послышался звук, напоминавший гусиный гогот. — Герой, вернее, антигерой, — продолжала Жени, — является социальным паразитом…
Снова гогочущий звук. Жени обернулась и увидела диковатого молодого человека, его она заметила еще на занятиях на прошлой неделе.
— Чепуха, — заявил он, счастливо ей улыбаясь.
— Мистер Ритко, — оборвал его профессор, — соблаговолите подождать, пока мисс Сареева не закончит ответ.
— Мисс Сареева — русская. А русские не понимают Достоевского, — безапелляционно заявил Дэнни Ритко. — И венгры тоже. Известно, что русское слово «паразит» — синоним слова «раскольник», «диссидент». «Записки из подполья» — роман о диссидентстве. Повествователь отказывается мириться с посредственностью. Какие замечательные слова: «смысл жизни мужчины состоит в том, чтобы ежеминутно доказывать, что он мужчина, а не клавиатура рояля!..» Явный призыв сопротивления серости, призыв взять жизнь в свои руки и праздновать ее!
Профессор сделал попытку приостановить разглагольствования студента, но тот нимало не прислушался и продолжал излагать свои взгляды о Достоевском, России, сдабривая их собственной философией жизни.
— В любом случае человеческие существа являются паразитами. Все мы начинаем жизнь в утробе матери, и те из нас, кто имеет хоть каплю здравого смысла, стремятся навсегда увековечить это состояние, — он послал Жени игривую улыбку и завершил речь.
Профессор предложил ей выступить с опровержением, но Жени сердито замотала головой.
— Все это слишком возмутительно. Как мог этот… этот человек заявить, что русские не понимают Достоевского? Достоевский и был русским.
— Предлагаю каждому написать работу, в которой он выскажет свои взгляды, — подытожил профессор. — А сейчас не вижу смысла продолжать обсуждение.
После окончания занятий Дэнни последовал за Жени в коридор и протянул ей руку:
— Ну вот я и встретил свою Немесиду, — проговорил он вместо представления. — Венгрия пожимает руку России.
Она посмотрела на горячего венгра. Дикие, темные курчавые волосы, правильный нос, невероятно подвижный рот, намек на сохранявшуюся мягкость — в подбородке. Он едва достигал ее роста, но счастливо улыбался, как молодой бычок, готовый к стычке. Жени выругалась по-русски.
Юноша издал восклицание, схватил ее руку и принялся ее трясти.
— Прекрасно! Моя бедная старая мать! Наконец она сможет успокоиться с миром.
— Она, что умерла?
— Да нет, живет в Огайо.
— Ты кто? — Жени до этих занятий ни разу не видела его в университетском городке.
— Гений, дорогая моя Анна Каренина.
— А я не Анна Каренина.
— Да ну? Вот уж удивила. Но без всяких сомнений ты русская героиня, а я безусловно гений.
Жени рассмеялась.
— Звучит неплохо, — прокомментировал он. — Может заглушить лязгание наступающих русских танков. Как жаль, что у меня нет самовара. Может, составишь мне компанию на чашку кофе?
Как назло, у Жени были занятия по химии. Венгр развел руками и не пригласил ее на кофе после химии.
Жени была разочарована и удивлена его реакцией. Она не привыкла к тому, чтобы мужчина так просто отставал от нее.
Но во время следующих занятий, в пятницу, Дэнни сел уже рядом с ней. В понедельник, когда венгр входил в класс, рядом с ней раньше расположился белокурый студент. Дэнни подошел к нему и попросил:
— Во имя международной солидарности тебе нужно срочно пересесть.
Блондин подпрыгнул и поспешил прочь. Глаза Жени смеялись, но она качала головой, когда Дэнни устраивался рядом.
— Венгры — страшные люди, — напомнил он ей.
— Ты уж точно, — согласилась она.
В это время в класс вошел профессор и принялся писать на доске.
— Твоя правда, мисс Схожу-ка-я-на-химию. Я просто ужасен. И знаешь, что во мне самое ужасное?
— Ну-ка, расскажи, — улыбнулась Жени.
— Я собираюсь влюбить тебя в себя.
Жени задохнулась и не сразу смогла прийти в себя.
— И когда же это случится? Сделаю пометку в моем календаре.
— В течение шести месяцев. Не больше. Вот увидишь. Я неотразим.
— Ой-ли?
Профессор прокашлялся, намереваясь начать лекцию.
— Безусловно. Хочешь, покажу рекомендации?
Через два месяца, в апреле, ее зачетная работа по биологии вернулась с оценкой пятьдесят девять — первый неудовлетворительный балл. Не веря глазам и злясь, Жени разглядывала цифры. Она знала генетику лучше. Под оценкой она разглядела требование доктора Годет, выведенное ее миниатюрным почерком: «Зайдите ко мне».
Ее приемные часы были как раз в тот день, вторник, и начинались с четырех.
— Я этого не заслужила, — вызывающе заговорила Жени, швыряя работу на стол доктору Годет.
— Пожалуйста, присаживайтесь, мисс Сареева, — преподаватель биологии опубликовала несколько известных работ, три серьезные книги, получила звание заслуженного профессора. Хотя ей требовалось в течение семестра вести только один или два курса для выпускников, она по своему выбору учила и младшекурсников.
— Я всегда была успевающей студенткой, — Жени продолжала стоять.
— Главным образом поэтому я и попросила вас зайти. Мне известна ваша академическая репутация, — бровь Жени поползла вверх. — Да, да. Вы необыкновенная студентка, даже в этих стенах. И я наслышана, как хорошо вы занимаетесь по другим предметам. Отчего же вы провалились на зачете?
— Я так не считаю, — Жени села. Она знала, что готовилась к этому зачету без своей обычной тщательности — слишком была занята с Дэнни. Накануне зачета они ходили на чешское кино, потом до часа ночи пили вино в кафе.
— Мисс Сареева, вы красивая, одаренная молодая женщина. Думаю, вы достаточно тщеславны. Это прекрасно. Мне говорили, вы собираетесь в медицинскую школу? Замечательно. Но вам не следует с такой небрежностью относиться к моему предмету. Я наблюдала, как и другие девушки манкировали занятиями у женщин-профессоров, даже моими. Мне кажется, они, даже те из них, кто был наделен хорошими интеллектуальными способностями, полагали, что хорошая голова — отличительная черта мужчины, — Жени нетерпеливо качала ногой. — Мисс Сареева, разум нельзя разделить по половому признаку.
— Я знаю.
— В самом деле? — доктор Годет пронзительно смотрела на нее. — В вашем возрасте девушки часто не доверяют своему уму и выбирают в качестве образца мужчину. Они думают, что им льстят, когда говорят, что у них мужской ум. У них обычно нет подруг — их пугают женщины подобного же склада. И они — папенькины дочки.
— Теперь я могу идти?
— Если, мисс Сареева, вы хотите сдать зачет по моему курсу, вам следует дополнительно позаниматься в лаборатории. Всего хорошего.
Жени едва кивнула профессору.
Два часа спустя, когда Дэнни забежал за ней, она все еще злилась.
— Ведьма, — выругалась она, рассказав Дэнни, что случилось. — Тебе когда-нибудь приходилось слышать подобный вздор?
Лицо ее раскраснелось, глаза сверкали.
— Ты великолепна, — произнес юноша, целуя ей руку. — Гнев тебе идет: превращает из просто красивой в восхитительную.
Жени рассмеялась. Юноша швырялся словами, точно яркими мячиками.
— Пожалуйста, без смеха. Сегодня мы станем мстителями. Обувайся — мы прокрадемся в Зону Боевых Действий:в подбрюшину Бостона, где в мерзости копошатся всевозможные ницшеанские извращения.
— Еще раз, пожалуйста. Но на этот раз нормальными словами для моих тонких ушей, — проходившие мимо девушки с неприкрытым интересом взглянули на Дэнни. Жени к этому уже привыкла. Хотя он и не был классически красив, но обладал притяжением, очаровывающим женщин всех возрастов. Официантки оказывали ему особое внимание и подолгу задерживались у столика. Продавщицы среднего возраста бросали других покупателей и призывно улыбались, вопрошая, чем они могут быть полезны.
— Твои уши. Раковины, в которые я вливаю скудный дар своих слов, надеясь, что, проходя по дугообразным каналам к твоему плодородному мозгу, они смогут его оплодотворить, благодаря чему ты сможешь их постичь.
— Дэнни! — взмолилась она. Ее смех рассыпался нежными переливами.
— Язык должен соответствовать тому, что описываешь. Ну, ладно. Вперед! К изнанке города! Вдохнем жизнь извращенцев и сидящих на игле.
— А что же ты так и не сказал?
Он расширил глаза в шутливом удивлении:
— Но я так и говорил.
Жени взяла его за руку, и они вышли из общежития, чувствуя на себе провожающие взгляды.
Жени была уверена, что у него уже был сексуальный опыт, но все же он не пытался лечь с ней в кровать. Она гадала, почему, и старалась прикинуть в голове, как бы она ответила, если бы он сделал ей такое предложение. Она хотела его, она это знала. Легкое прикосновение, взгляд, ощущение его тела в темноте кинотеатра, прикосновение ткани его брюк к ее ноге — не специально ли? — все это заставляло участиться дыхание, горячило кровь.
Он никогда ей этого не предложит, решила Жени. По крайней мере, не словами. Слишком уж формально — не его стиль. Она понимала, что если они вместе окажутся в постели, то это случится само собой, как все их встречи.
Они с Дэнни виделись часто, но никогда не назначали встречи заранее, больше, чем за несколько часов. Обычно он звонил ей после обеда или к вечеру и спрашивал, нет ли у нее настроения прогуляться. Она отвечала: «да», и они шли на прогулку, в кино, на репетицию бостонского симфонического оркестра, ужинали в дешевых ресторанчиках или играли в шахматы (Дэнни ее обучал, но она так и не смогла его обыграть). Он касался ее почти невзначай — брал за руку, обнимал за плечи и талию, разглаживал волосы. Но целовались они, лишь расставаясь, в конце вечера и то мимолетно. Когда Дэнни уходил, Жени ощущала душевный подъем и в то же время пустоту, похожую на голод.
С Пелом она ничего подобного не испытывала и, встретив Дэнни, стала о Пеле реже думать, все реже и реже писать.
Дэнни же был постоянно в ее голове, мешая занятиям. С его непредсказуемостью надо было что-то делать: она никогда не знала, придется ли встретиться вновь, и постоянно держала юношу в мыслях.
Сколько раз она клялась, что если он в следующий раз позвонит, она ответит, что ей уже назначили свидание. Но заслышав голос Дэнни, никак не могла на это решиться. Вплоть до вечера в начале марта, когда заставила себя сказать, что занята.
Жени попробовала это только однажды и никогда не пыталась снова; Дэнни не спросил, чем она была занята и почему не сможет изменить своих планов, чтобы встретиться с ним.
— Думал, завалимся с тобой на японское кино, — его голос звучал откровенно сочувствующе. — Идет только сегодня. Придется сходить одному.
Она не удержалась и спросила, не могли бы они встретиться завтрашним вечером, и помертвела от его ответа: «Посмотрим». На следующий день он не звонил. Он не звонил пять дней. Нервы Жени совсем расходились.
Она не принимала ничьих приглашений. По вечерам оставалась в общежитии. Она понимала, что он с ней играет, но ничего не могла с собой поделать.
В Зоне Боевых ДействийДэнни счастливо воскликнул:
— Вот она Жизнь! Вот настоящая реальность! Взаправдашнее кино во плоти. Разве что актеры не сознают, что представляют Новую Волну.
Его ассоциации часто ускользали от Жени. Отчаянно начитанный, он готовился стать писателем. Он знал классическую литературу большинства стран, читал модернистские работы на английском, французском и немецком языках. Его ужасало, что Жени не читает ни прозы, ни поэзии, кроме тех произведений, что ей задавали, и не принимал объяснения, что ей и так много приходится читать. Для Дэнни чтение означало слова, их структура, звучание, навеваемые ими образы, а вовсе не информация. Даже газета оставляла его равнодушным. «Набор событий, который всегда одинаков — убийство, секс, землетрясение. Каталог катастроф. Ничего не меняется, кроме дат».
Жени тоже особенно не интересовали газеты. Но ее пренебрежение к ним было бегством от политики. Его — бегством от неодухотворенной прозы. Не раз она встречала его длинные рассказы в «Гарвард Кримсон». Их профессор по литературоведению сравнивал их с «Дублинцами» Джеймса Джойса, и она часто слышала о них блестящие отзывы. Но рассказ «Бела Кун и я» оказался слишком сложным для ее понимания. Язык завораживал, некоторые страницы напоминали плетение узоров из звука, но Жени так и не поняла, о чем все это. Она достаточно уже знала Дэнни, но не настолько, чтобы прямо спросить.
— Ну что скажешь, моя храбрая казачка? Достаточно отведала жизни, чтобы отступить в ресторан?
— Пожалуй, — вид голых женщин, призывы с плакатов совершить замысловатый половой акт смущали ее. Она больше была озадачена, чем поражена. Ее давно ничто не поражало, кроме расчетливой недоброты. Но смущение росло из-за контраста испытываемого желания к Дэнни и мерзостью секса на продажу.
— Ну что ж, пошли, ты и я, — он взял ее под руку Высокие каблуки делали ее чуточку выше. — «Когда вечер распластается на небе, Как больной, усыпленный на столе…»
— Красиво.
— Элиот. «Любовная песнь Альфреда Пруфрока». Очень красиво. Стихотворение о мужчине: горящий желанием объявить о своей любви к женщине, но боящийся этого.
— А чего он боится? — пульс застучал в ее ушах.
— Он боится, что ему откажут, — Дэнни быстро вел ее к выбранному ресторану. — Осмеют.
— Почему с ним могут так поступить?
— Она может решить, что он слишком незначителен.
— Ты? Незначителен? — Жени почувствовала, как сердце подпрыгнуло к горлу. Она себя выдала.
Несколько ужасных мгновений он не отвечал. Не ослабил хватку ее руки, не замедлил шага. Как бы ей хотелось, чтобы ночь поглотила ее.
Наконец он заговорил:
— С первого мгновения, как я тебя увидел, Жени, я понял, что хочу лечь с тобой в постель. Но потом осознал, что это дурная мысль, — она украдкой посмотрела на него. Он по-прежнему не повернул к ней лица и держался в профиль. Слова летели прямо перед ним. Твоя красота, как первая звезда на небе, приманка для всех мужчин. Я не хочу быть одним из них.
— Дэнни, ты… — ее голос сорвался.
— Вскоре я понял, что ты человек с сильным умом, выбрала свой путь и не свернешь с него. И ты должна знать, моя царица, что я юноша самовлюбленный и хочу, чтобы весь мир крутился вокруг меня или лучше лежал у моих ног, — он оглядел ее, и она ответила ему улыбкой. — Есть кое-что и еще. Я беден, а ты богата.
— Все, что у меня есть, взято в долг — не мое, — и за солидную цену, хотелось ей добавить.
— В долг или насовсем — мы из разных миров, моя королева.
— Но это не имеет значения!
— Имеет. Все имеет. И очень большое, — они подошли ко входу в ресторан. Он придержал Жени и слегка подтолкнул внутрь — из их ночи в ярко освещенное помещение.
Они сели за столик, выбрали блюда, и Дэнни стал вновь перечислять, что они видели в Зоне Боевых Действий— его слова высвечивали сценки, которые тогда она едва ли подметила: заблудшие души, предположил он, обреченные существовать, а не жить.
Пока он говорил, Жени смотрела на него, согретая его великолепием и близостью его тела.
О самих себе в тот вечер они больше не говорили, но, вернувшись в общежитие, Дэнни потянул ее со света и настойчиво и грубо поцеловал. Она ощутила его желание, и ее саму пронзило болезненное влечение, которого она никогда не испытывала раньше.
Спустя два дня она услышала разговор в дамской комнате Библиотеки Гутмана:
— Вчера я поимела, что надо! — рассказывала одна из девушек. — Действительно потрясающе! Невероятный парень этот сумасшедший венгр.
— Ты имеешь в виду писателя? — переспросила другая, и холодный страх сжал Жени.
— Его самого. Дэнни. Ну, и горяч! Даже я запросила пощады — понимаешь, дорогуша, что это значит.
Они рассмеялись и вышли, дверь захлопнулась с глухим стуком. Жени осталась на месте, будто замороженная.
Тем же вечером она позвонила Лекс в Холиок и, как и предполагала, была приглашена. Она знала, что в этом году каникулы совпали так, что можно было провести Пасху с семьей Вандергриффов. От Пасхи их отделяло меньше недели. Жени пробормотала благодарность и приняла приглашение.
Дайамонд Рок в Западной Монтане совместно принадлежал Филлипу Вандергриффу и его братьям. Имение на 20-ти тысячах акров земли включало семь строений, конюшни, несколько навесов и японскую пагоду. Пагода была совсем неуместной прихотью на раскинувшемся ранчо; все остальное носило функциональный характер, поскольку располагалось на границе.
Стиль жизни оказался простым и неформальным, как в Топнотче — огромное богатство укрывалось под кажущейся простотой.
Везде, но не в пагоде. Она была построена отцом Филлипа, известным ловеласом, и предназначена, чтобы проводить в ней соблазнительные вечера. Теперь ее редко использовали. Тем не менее, через несколько часов после приезда, Пел пригласил Жени прогуляться к пагоде.
Он говорил обо всем, но прежде всего о том, что казалось ему самым важным — о выборах 1964-го года, на которых Кеннеди должен был баллотироваться на второй срок: как перевыборы повлияют на его, Пела, карьеру, не пошлют ли его в Западную Европу во время второго срока Кеннеди.
В предвечерних сумерках небо окрасилось пунцовым цветом. Жени слушала, что он ей предлагал: богатство, надежный брак с преуспевающим дипломатом, легкую жизнь, блеск высшего общества.
Имение убегало за горизонт. И оно было лишь одним из тех, какими владели Вандергриффы. Дома по всему миру и круг друзей, способных влиять на мировое мнение. Мег и Филлип лишь три дня назад вернулись с ранчо Джонсонов недалеко от Остина в штате Техас, где они гостили у вице-президента и леди Берд Джонсон.
Пел подвел Жени к пагоде. Никакого блеска в Пеле не было, его серьезность успокаивала и казалась милой. Когда он поцеловал ее и погладил по волосам, Жени подумала, что сможет забыть Дэнни. И с горячностью ответила на его второй поцелуй, но, увидев светящееся от радости лицо юноши, ощутила вину — он решил, что она дала ответ.
Придя к обеду, они нашли Лекс, вышагивающей в столовой. Ее одежда была в беспорядке, и она казалась явно возбужденной. Во время еды она оставалась напряженной и беспокойной. Порой она забывала, о чем говорила, и недосказанные предложения повисали в воздухе, как оборванные струны.
Позже, когда Жени поднималась с ней наверх, Лекс пробормотала:
— А что ты чувствуешь от того, что такая красивая?
— Я никогда об этом не задумывалась.
— Никогда, — повторила Лекс, идя впереди. Я тоже никогда не задумывалась, что значит быть богатой, пока меня об этом не спросила женщина, всю жизнь работавшая до десятого пота. Каждому судьба назначает, кем должен быть, — последние ступеньки она одолела бегом и отказалась открыть дверь Жени.
Жени подозревала, что внимание Пела к ней, хотя бы отчасти, стало причиной плохого настроения Лекс и хотела, чтобы он скрывал это. Но юноша был влюблен и не замечал несчастий сестры.
За завтраком Лекс поинтересовалась вслух, не отправиться ли им с Жени на следующий день в поход. Услышав предложение, Жени просто подпрыгнула:
— Здорово! Только мы вдвоем. Я захватила походные ботинки…
— А что скажешь о лошадях? Ты когда-нибудь забиралась на лошадь?
— Два раза в жизни, — и заметив выражение, появившееся на лице Лекс, быстро добавила: — Не дождусь, когда удастся попробовать снова.
Лекс слегка улыбнулась:
— Ну, хорошо. Завтра.
Они выехали из конюшни с первыми лучами солнца и направились по темному полю, запятнанному зеленью наступающей весны. Девушки начали с шага, чтобы дать возможность Жени попривыкнуть к лошади, но уже в начале дорожки, уводящей в горы, перешли на рысь.
Они скакали рядом, кроме тех мест, где дорожка сужалась, и тогда Лекс уходила вперед. Из кустов и с деревьев взлетали птицы. Багряная вспышка полета, лазурный перелив крыльев сойки. На проталинах бледно-желтый утесник покрывал землю.
Девушки пели на скаку, и иногда окружающие их скалы отвечали эхом. У узкого водопада они остановились, чтобы выпить воды у его подножия.
После двух часов езды ягодицы Жени казались расплющенными и горели так, будто с них содрали кожу.
— Скоро протру себя до скелета, — пожаловалась она Лекс.
— Вот что значит быть костлявой, — ответила подруга. — Хочешь, остановимся?
— Я не костлявая и не хочу останавливаться. Просто думала, тебе будет интересно узнать, что от моего зада ничего не осталось.
— Позабудь обо всем, — пропела Лекс и хихикнула.
Через двадцать минут Жени уже не ощущала боли. Она приспособилась к движениям и слилась с ритмом лошади.
— Вон там, — указала Лекс направо, — дом Теда, лесника.
Низкое строение так укрывалось в ландшафте, что Жени его бы не заметила.
— Как здесь здорово жить! Как будто в естественной норке. А чем занимается Тед?
— Объезжает все вокруг. У него есть рация на случай, если что-нибудь случится.
— Случится? Здесь? — Жени не могла себе представить, что здесь может что-нибудь произойти.
— Пожары — это случалось. Пропажа лошадей. Заблудившиеся скалолазы. Хочешь с ним познакомиться?
— Не сейчас. Ни с кем не хочу встречаться.
— Правильно. Только мы вдвоем. Осилишь галоп?
— Без сомнения.
— Ослабь повод. Нам туда.
Лишь в середине дня они спешились. К тому времени даже у Лекс сводило ноги.
— А что же с тобой? Ковбой, не способный поймать и котенка?
— Подожди, — Жени уже разминалась, растягивая сведенные мышцы спины и ног. Лекс занялась тем же. Через десять минут они уже достали удочки и забросили их в реку.
Лекс поймала форель, достаточно большую для двоих. Девушки вернулись в лагерь, почистили рыбу и развели огонь. Поджарив форель, они съели ее с батоном все еще свежего с утра хлеба. Выпили бутылку вина с местными яблоками и местным чедером и закончили трапезу плиткой шоколада.
— Так вкусно я еще никогда не ела, — заявила Жени. Небо стало сереть. Как усыпляемый хлороформом больной… подумала она и попыталась вспомнить слова. Они были не искусством, а жизнью, реальнее, чем на улицах любого города. Здесь среди концерта насекомых в сопровождении ударника ломающихся веточек и шелестящих листьев. Вершины гор возносились к небу, но не вонзались в него, как небоскребы, а обнимали. Жени лежала на спине, засунув руку под голову. Маленькой она часто смотрела в небо до боли в глазах, стараясь проникнуть взглядом вглубь. Ничего. Она попыталась разглядеть, как выглядит ничего. Сосредоточилась на одной точке, пока не почувствовала рези в глазах. Глаза Бернарда напоминали небо.
Лекс устроилась рядом.
— Здорово. Сбежать ото всего.
— М-м, — лениво согласилась Жени, хотя ее умиротворение проистекало совсем от других причин. Не убежать ото всего, а слиться со всем.
— Здесь, в горах, все равны, — продолжала Лекс. — Бедные и богатые. Красивые и отвратительные. Все это здесь неважно, — она села. — Жени? — посмотрела на лицо подруги, будто видела его впервые. — Я люблю тебя.
— Я тоже тебя люблю, Лекс. Как хорошо, что ты придумала это путешествие.
Лекс нахмурилась.
— В Холиоке… — начала она.
— Подожди. Не говори ничего, — листья справа мерцали, как огромные сероватые жемчужины. Вставала луна. Жужжа, в сумерках перекликались насекомые.
Но в Лекс ощущалось беспокойство. Она не легла вновь.
— Жени, — принялась она снова. — Я рассказывала тебе о подруге в школе. Илоне.
— Тренеру по баскетболу?
— Да. Я ее очень люблю.
— Прекрасно.
— Нет, — в свете луны и звезд Жени увидела, как Лекс нахмурилась. — С ней я поняла, почувствовала. Осознала, черт возьми, что люблю тебя одну.
— Я рада, — но настойчивость в голосе Лекс показалась Жени неуместной. — Ты ведь и Пела любишь.
— Конечно, но это не…
— Тебя беспокоит, что он… как бы это сказать, — Жени села. Когда-нибудь это все же выйдет наружу. Ей не хотелось разрушать очарование вечера, но лучшего времени не придумаешь. — Ну, что он интересуется мной. Даже больше, хочет, чтобы я вышла за него замуж.
— И ты выйдешь? — голос Лекс сделался резким.
— Конечно, не теперь. Не знаю. Он точно такой, как ты о нем рассказывала. Добрый, умный — совсем не марсианин, — Жени улыбнулась, но лицо Лекс оставалось напряженным.
— Ты его любишь?
— Нет, — честно ответила она. — Не той любовью, но он мне нравится, и когда-нибудь мы сможем стать с ним счастливы.
— А как же со мной?
— Если не выйдешь замуж, живи с нами.
— Только и всего? Жени, ты как лошадь в шорах ходишь по кругу. Я никогда не выйду замуж. Никогда! — она с горечью подчеркнула последнее слово. — И никогда не смогу жить с вами. Разве ты не понимаешь?! Это будет слишком тяжело, невозможно…
— Тогда не думай об этом. Может, я и вовсе не выйду замуж. Во всяком случае, это случится не скоро — надо доучиться в колледже, кончить медицинскую школу, интернатуру, разобраться с гражданством. Да к тому времени я стану старухой. Все шансы за то, Лекс, что я тоже никогда не выйду замуж. Слишком уж много всего предстоит сделать. На самом деле мне нужен вовсе не муж, а жена. Кто-нибудь, кто бы заботился обо мне, пока я не стану врачом, а потом разогревал бы мне обед, когда я прихожу с операций.
— Я могу этим заняться.
— Ты? А с каких это пор ты научилась вести домашнее хозяйство?
— Я и не умею, — она впервые улыбнулась. — Найму служанку.
— Это мне, наверное, требуется больше мужа — экономка. А что у тебя, Лекс? Как думаешь жить после колледжа?
— А разве после колледжа будет жизнь? — весело спросила Лекс.
— Ладно, — Жени не хотела настаивать. Она собиралась поговорить о себе и о Пеле и теперь чувствовала облегчение отчасти оттого, что ей это удалось и все выплыло на свет, отчасти потому, что Лекс не стала подталкивать ее к свадьбе. Мег была всецело за нее, Жени это знала, и Филлип, вероятно, тоже. Подчас вступление в эту семью девушке казалось неизбежным — хотя, может быть, не сейчас, а в будущем. Но теперь, сразу после Дэнни, она не была к этому готова эмоционально. Реакция Лекс давала ей отсрочку — пока она сможет выбросить все из головы.
Пламя стало угасать.
— С ним что-нибудь сделать?
— Не надо, — отозвалась Лекс. — Прогорит само Забавно наблюдать, как умирает огонь.
— А мы тем временем отправимся спать? Лекс, я должна тебе признаться…
— В чем? — подруга подалась вперед.
— Я ужасно вымоталась. Давай-ка ложиться.
— Я хотела тебе сказать…
— У нас целый день впереди.
— Хорошо, — Лекс казалась такой разочарованной, что Жени решила уступить:
— Давай залезем в спальные мешки и перед сном поболтаем.
Они разулись, расстегнули бюстгальтеры, но остались прохладной ночью в одежде. Потом положили рядом спальные мешки, раскрыли молнии и залезли внутрь.
Очутившись в тепле, Жени сразу задремала. Голос Лекс слабо доносился до нее, будто с большого расстояния, но отвечать не было сил. Жени то глубже проваливалась в сон, то возвращалась к яви, как вдруг почувствовала, что кто-то трется об нее. Она моментально проснулась. Но это оказалось не животное, а всего лишь Лекс, которая подкатилась к ней и целовала ее.
— Лекс, — пробормотала Жени и снова задремала.
— Дорогая, — Лекс взяла ее голову в обе руки. Стала целовать ее в рот.
Жени машинально ответила поцелуем. Лекс поцеловала снова.
— Нет, — повернулась Жени.
— Да, — прошептала Лекс. — Да, дорогая, ничего не делай. Просто лежи, как лежишь. Я люблю тебя.
— Лекс, но…
Пальцы поглаживали ее щеки, спустились по шее к груди. Нежно, не нажимая, успокаивающе и ободряюще — не как мальчишки: грубо и настойчиво, а любяще, лаской женщины.
— Нет! — Жени схватила подругу за запястье и сбросила с левой груди.
— Позволь мне, — мягко упрашивала Лекс. Ее губы оказались рядом с губами Жени. Протестуя, та открыла рот, и язык Лекс проскользнул внутрь, начал шарить, словно маленький зверек в поисках пищи.
Жени оттолкнула подругу.
— Пожалуйста, Лекс, не надо, — проговорила она, как только освободился ее рот.
Лекс замерла и тихо лежала, обняв Жени.
— Я хотела сказать тебе… Когда я была с Илоной, я поняла, что я люблю тебя. Я любила тебя все эти годы.
— Лекс, пожалуйста. Я тебя люблю. Ты моя единственная подруга…
— Ты говорила, что тебе нравится, как я выгляжу.
— Да, да, Лекс, ты мне нравишься, но, пожалуйста, не продолжай с этим. Я не могу.
— Ты когда-нибудь занималась любовью с женщиной?
— Нет.
— Тогда ты не знаешь. Мы женщины, и мы вполне можем друг друга любить. Целиком, по-настоящему.
— Я не могу. Пожалуйста, иди к себе в мешок.
— Ты этого хочешь?
— Да.
— А когда-нибудь ты мне дашь шанс? Позволишь показать, что это такое?
— Я не могу, Лекс.
— Это должно быть прекрасно, — Лекс поцеловала ей кромку волос, Жени осталась неподвижной. — Нам замечательно вместе. Мы — лучшие подруги. Давай теперь будем любовницами. У нас будет все, дорогая.
— Пожалуйста, уйди, — Жени почувствовала, как ее тело будто наливается свинцом. Но не от тяжести Лекс. Она хотела утешить подругу, но у нее не было для той утешения.
Рот Лекс крепко прижался к ее губам, левое колено раздвигало бедра и стремилось к животу, пальцы ласкали грудь, затем большой и указательный внезапно сжали сосок.
Жени села и дернулась в сторону. Она была такой же сильной, как Лекс, а та не была готова к внезапному отпору.
— Прочь!
Лекс сползла с Жениного мешка, перебралась через свой и притащила его на другую сторону умирающего костра.
— Ты ненавидишь меня, — ее крик казался подобен стону.
— Нет, Лекс. Спи.
Жени долго лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к беспорядочному дыханию подруги, и ей хотелось заплакать самой. Но вскоре усталость и свежий воздух возымели действие, и она уснула.
Ее разбудили вопли. Нечеловеческие вопли. Сначала возникла мысль — убивают лошадей, но в следующее мгновение она увидела огонь.
Языки пламени вырывались из спального мешка Лекс. Мозг Жени лихорадочно заработал, прошла целая вечность, прежде чем тело стало за ним поспевать. Непослушными пальцами она освободилась из спальника и бросилась на ватных ногах к подруге. Вопли неслись вокруг нее. Она нагнулась и попыталась вытащить Лекс. Руки обожгла боль, она вдыхала запах паленой кожи. Ее пронзил страх. Кожа Лекс сплавлялась с подкладкой спальника.
Жени рванулась за своим мешком и набросила его на пламя. Руки, как лопаты, закапывались в землю и швыряли ее в огонь. И наконец он сдался. Жени прижалась собственным телом к Лекс, и пламя погасло.
Вопли стали тише, превратились в стоны, неразборчивое бормотание. Жени вскочила на колени, отпихнула в сторону свой спальник, стала разгребать землю и все, что ей попадалось под руку, когда она тушила огонь. Потом схватила котелок, бросилась к реке, вернулась с водой, стала лить ее на очертания тела подруги. Снова и снова она повторяла одно и тоже, пока спальный мешок и почва вокруг не пропиталась влагой. Потом Жени приподняла голову Лекс и попыталась заставить глотнуть. Жидкость, думала Жени, самое главное — жидкость. Обезвоживание означает смерть.
Вода струилась у Лекс по щекам. Жени сделала большой глоток из котелка и прижалась губами ко рту подруги, пытаясь протолкнуть жидкость внутрь. Вода потекла по подбородку на грудь. Жени опять глотнула из котелка, раздвинула пальцами губы и зубы Лекс и, используя язык, как поршень, постаралась вдавить воду. Ей почудилось, что часть воды осталась во рту. В следующий раз показалось, что Лекс сделала глоток. К четвертому разу она была уже в этом уверена. Но на седьмой раз Лекс не отреагировала.
Жени бережно опустила ее голову и побежала к лошади. Вспрыгнула на нее, дала посыл и пригнувшись обхватила шею лошади руками. Через несколько мгновений Жени была уже уверена в лошади, понимала как могучего партнера, приспособилась к ее движениям.
Жени старалась следовать пути, по которому они приехали сюда, и высматривала низкое строение — хижину лесника.
Внезапно она увидела слева хижину и стала на ходу сползать с лошади. Сбитое с толку животное остановилось, как вкопанное, сбросив ее на землю. Она вскочила на ноги и побежала к дому, зовя на бегу на помощь.
Ни ответа, ни малейшего движения. Жени неистово затрясла дверь, потом попробовала ручку. Та подалась, и дверь открылась. Жени неслась по дому и кричала, но никто не откликался.
Она увидела радио со множеством ручек. Как им управлять? Ее охватила паника, но она же и подхлестнула ее. Она села и принялась наобум вращать рукоятки, повторяя снова и снова:
— На помощь! На помощь!
И чудо, которое ей было так необходимо, произошло. Какой-то голос ответил ей из ящика.
— Огонь, — выкрикнула она. — Она сгорела, совсем сгорела. На помощь, пришлите помощь!
— Куда? — спросил мужчина, и она попыталась объяснить — у реки на поляне. Они разбили там лагерь.
— Держитесь! Высылаю вертолет. Оставайтесь на месте.
Жени не ответила. Она рыдала.
Потом услышала жужжание миллионов насекомых, и вертолет завис над домиком лесника. Она выскочила наружу. Гигантская стрекоза упала на землю, и кто-то втянул ее в дверцу. Она попыталась объяснить, где лежала Лекс, но не смогла выговорить ни слова, ничего не слышала, но, взглянув вниз, обнаружила, что они над лагерем. Она стала указывать на него рукой и тут заметила, что вертолет снижается.
12
Через пятнадцать часов самолет доставил их в больницу в Батт. Лекс была еще в коме. Ожоги охватывали сорок пять процентов ее кожи, обгорела почти вся передняя часть тела, включая лицо.
Два часа спустя прибыли специалисты — особая противоожоговая команда — и теперь трудились над Лекс. Жени сидела в отдельной комнате ожидания больницы Святой Анны. Пел некрепко обхватил ее руками, но несмотря на принесенный жакет и горячий чай, подаваемый сиделкой, Жени трясло. Справа дожидались Мег и Филлип. В последние часы они почти не разговаривали друг с другом.
Вандергриффы появились в три утра, и хотя стоял ранний час, Филлип принялся обзванивать всю страну в поисках врачей, способных спасти дочь. Он нажимал, угрожал и наконец добился доктора Марка Рома. Глава противоожоговой команды согласился помочь. Филлип выслал за ним и его людьми личный реактивный самолет за пять тысяч миль. Доктор Эли Брандт, пластический хирург, делавший операцию Розе Бордон, был как раз в сиеттловском центре, когда позвонил Вандергрифф. Брандт вспомнил фамилию и сам вызвался помочь.
Наступал вечер. Теперь им не оставалось больше ничего, кроме как ждать. Заключенный в незнакомое пространство, Филлип даже не был способен сжать руку жены и невидящими глазами смотрел перед собой. Мег, напичканная транквилизаторами, горбилась в кресле, руки висели плетьми, кисти касались пола.
Когда прилетели Вандергриффы, Жени сразу пришлось отвечать на их вопросы. Она говорила тонким бесцветным голосом.
Они разожгли костер на стоянке, сообщила она, поужинали и сразу после еды легли спать в спальных мешках.
— Ты хочешь сказать, что вы не загасили прежде костер? — возмутился Филлип, но Пел успокоил его, тронув рукой рукав. Жени выглядела так, будто была готова свалиться в обморок.
— Нет. Лекс говорила… Ну это неважно. Мы оставили костер горящим.
— Что сказала Лекс? — в голосе Мег прозвучали истерические нотки. Рядом стояла сестра с успокоительным.
— Что она любит наблюдать, как умирает огонь.
— О Боже, — всхлипнула несчастная мать.
Не обращая на нее внимания, Филлип продолжал задавать вопросы:
— Что же было потом?
Мы заснули. Я услышала крики. Проснулась. Спальный мешок Лекс был весь в огне.
— О Боже! Боже! Боже! — застонала Мег, и сестра подала ей таблетки и стакан воды.
— Ну а дальше? — настаивал Филлип, руки Пела крепче сжали Жени.
— Я затушила огонь. Принесла воду с реки. Поскакала в дом лесника. Там никого не было. Вызвала помощь по радио. Прилетел вертолет.
Даже Филлип заметил, что силы Жени на исходе. Он оставил ее и Мег на попечение сына, а сам прошел в комнату сестер и начал звонить по телефону.
В объятиях Пела Жени вновь представила бушующее пламя и стала размышлять, как все могло произойти. Отлетевшая искра? Но почему Лекс не проснулась раньше? Если бы Лекс осталась на стороне Жени… А может быть, она хотела разжечь костер специально?
— Тебе надо отдохнуть, Жени, — мягко проговорил Пел. Ее бледность, почти зелень лица была пугающей, под глазами проступили темные круги.
— Потом.
— Ты вела себя смело. Никто бы не мог сделать большего.
Она не ответила. Если бы она уступила любви Лекс, жизнь подруги не висела бы на волоске.
Первым вышел доктор Ром, высокий, с невыразительным лицом, и объявил:
— Прогноз сносный.
— Что, черт побери, это должно означать?
— Что-то между «достаточно хорошим» и «хорошим», — врача не тронула резкость Филлипа. — Больше пока ничего не могу добавить.
Через полчаса доктор Брандт благодарил Жени за первую помощь, оказанную ею Лекс:
— То, что вы сделали для нее, возможно, спасло ей жизнь, — он хотел пожать Жени руку, но та держала ее за спиной. Врач потянул ее к себе и нахмурился. — Да вы, милочка, сами изрядно обожглись.
Жени ощущала дурноту, голова ее клонилась набок. Доктор Брандт поднял ее за подбородок и подозвал сестру:
— Девушка на грани обморока. Положите ее, если возможно, в отдельную палату и постоянно наблюдайте за ней.
Проснувшись, Жени обнаружила себя в необычной кровати в больничном халате. Поднос с едой стоял на столике рядом. Она не понимала, как сюда попала. Ставни были закрыты, и она даже не представляла, какое сейчас время дня.
Вошел врач и зажег свет. Его внешность показалась знакомой, как будто Жени видела его во сне.
— Добрый вечер, Жени. Я доктор Бранд.
— Лекс! — память возвращалась к ней. Она выпрямилась в кровати.
— Вне опасности, — улыбнулся врач. Он оказался невероятно красивым. На секунду Жени почувствовала, что опять проваливается в небытие. Может быть, она все еще грезила?
— Вы делали операцию? — нет, она не спала. Рот шевелился, когда она говорила.
— Мы за ней хорошо ухаживаем, — доктор придвинул стул к кровати Жени. Квадратное, но не широкое лицо. Волевой подбородок. Он улыбался, и легкие морщинки в уголках глаз были так красивы.
— Пересадка? — спросила она. — Когда вы начнете пересадку кожи?
— Позднее, — ее вопрос его удивил. — Как только Лекс окрепнет. — Сейчас проводится противошоковая терапия, мероприятия против обезвоживания и инфекции.
— Какие?
— Жидкость — вот что самое главное, внутренне и наружно. Погружение в ванну, влажные одежды и переливание крови. Повезло еще, что нет осложнений вследствие вдыхания дыма.
— А что вы предпринимаете против инфекции? — пока Жени задавала эти вопросы, она держала себя в руках. Шел профессиональный разговор о несчастном случае.
Доктор Брандт посмотрел на девушку с интересом. В ней было что-то замечательное — не просто пытливый ум и самообладание:
— Чудо-средство сульфамиллон — лучшее, что есть на сегодняшний день от ожогов.
Его глаза, как и глаза Пела, поначалу показались Жени неопределенного цвета, но потом она поняла, что они мягкого нежно-серого оттенка с коричневато-золотистой искоркой.
— Приступим к пересадке, как только будет возможно. Хотя предсказать это затруднительно. По крайней мере для самых пораженных участков. Я вынашиваю мысль… — он внезапно остановился, осознав, что разговаривает с девушкой, а не с коллегой.
— Так что же это за мысль? — Жени подалась вперед.
— В качестве первого шага я думаю о поливиниле. Использовать поливинил на участках наибольшего поражения, — Жени содрогнулась, представив себе то, о чем рассказывал врач. — А пересадку кожи провести уже позднее. Предстоит серия операций. Это потребует времени. Я собираюсь присутствовать на всех.
— Хорошо, — произнесла Жени и откинулась на подушки. — Каковы ее шансы на полное выздоровление?
— Честно говоря, не знаю. Если под «полным выздоровлением» понимать отсутствие шрамов, думаю, невелики. Но она молода и здорова. Можем поэкспериментировать с новыми технологиями. Всегда есть вероятность, что результат окажется лучше, чем тот, на который мы рассчитывали.
— Мы? — переспросила Жени с оттенком улыбки.
— Мы, — ухмыльнулся Брандт. — Вы медицински образованы? Ваш отец врач?
Жени покачала головой:
— Я сама собираюсь стать пластическим хирургом.
Врач чуть не рассмеялся. Эта девушка, юная и такая хрупкая в больничном халате, заявляет ему без тени сомнения, что овладеет сугубо мужской профессией! Большинство девушек, с которыми он учился в медицинской школе, отсеялись через год или два. Те немногие, кто все-таки закончил школу, не продолжили курс специального обучения.
Решимость, которую он прочитал на лице Жени, заинтриговала хирурга:
— Что вас заставило принять такое решение?
Она рассказала Брандту об увечьях отца.
— Обморожение ведь схоже с ожогами?
— В некотором роде, — согласился врач. — Кожа также истончается, приобретает блеск, неестественный цвет, — он театрально хлопнул себя по лбу. — Совсем забыл, зачем пожаловал сюда в первую очередь. Осмотреть вас. Знаете ли, вы ведь тоже моя пациентка, — он снял со спинки кровати ее историю болезни. — Ну вот, ваше крайнее истощение хорошо поддается моим революционным методам лечения. Я называю их — «Объятия Морфея».
Жени озадаченно поглядела на врача, пытаясь припомнить, слышала ли она раньше о такой методике. Может быть, что-то связанное с курсом морфия?
Эли Брандт рассмеялся.
— Под другим именем он известен как Сон. А теперь позвольте взглянуть на ваши руки.
Подтрунивая, она протянула левую. Врач по-прежнему улыбался:
— Очередное чудо терапии, как вижу. Если я вдруг стану волшебником или целителем, возьму вас в ассистентки. Пожалуйте, правую.
Правую — кто-то не туго забинтовал во время ее долгого сна. Доктор Брандт снял повязку, осмотрел руку и снова надел бинты.
— Чудесно. Хотя сейчас может немного побаливать.
— Ничего, — боль в руке приближала ее к невероятной боли Лекс.
— Спите как можно больше. А я оставлю указание, чтобы вас выписали из больницы по первому вашему желанию. Рад был с вами познакомиться. Действительно рад. Надеюсь, в будущем удастся побеседовать подольше.
Дверь за врачом закрылась, и Жени снова откинулась на подушки, стараясь сосредоточить все мысли на Лекс. Но она почувствовала, что силы возвращаются к ней, ощутила, как энергия наполняет тело, и поняла, что возрождается к жизни после той ужасной ночи и последовавших за ней событий. Она закрыла глаза и увидела перед собой коричневато-золотистые врата, за которыми расстилался путь. Она знала, что это ее путь.
В Редклиффе все изменилось. Она занималась с железным упорством, отвлекаясь лишь ради физических упражнений и писем Пелу. Для Дэнни времени у нее не оставалось.
Теперь, когда Жени отвергала его, юноша стал настойчиво ее добиваться — посылал записки, небольшие подарки, получая в ответ лишь вежливое подтверждение. По вечерам, когда он звонил, ее никогда не оказывалось в общежитии: всякий раз она занималась в библиотеке.
Подарки Дэнни были милыми и ужасно романтичными. Какая-то частичка Жени вновь стремилась увидеться с ним — детская часть, уговаривала она себя. Взрослая женщина, будущий хирург, по отношению к нему не позволит ничего более сердечности. Даже получив миниатюрное зеркальце в раме ручной работы, на которой Дэнни приписал: «Все, что ты можешь созерцать, мне так хотелось бы объять», она не изменила себе. Или яблоко, на котором золотом было начертано: «Прекрасной из прекрасных». Или самое трогательное послание — свиток бумаги, свернутый наподобие папируса, скрепленный печатью и перевязанный лентой. Внутри оказалась сказка о них двоих под названием «Гений и Жени».
Но она заставляла себя сопротивляться. Увлечение им было разрушительным. Никогда в жизни она больше не завалит ради него экзамена. Он симпатичный, привлекательный, блестящий, но в то же время он — эгоистичный ребенок (почти это он заявил ей сам), который не мог проявить себя иначе, кроме как в бурных свиданиях с женщинами (Жени не могла без содрогания об этом вспоминать), которыми те хвастались в дамской уборной.
Он еще мальчишка, повторяла она себе в сотый раз. А Пел — хотя и не столь очаровательный — бел зрелым мужчиной и обладал ответственностью. Теперь Жени писала ему чаще, чем в прошлом году, хотя их отношения вновь переменились — по негласной договоренности ни один из них не желал вести себя так, чтобы причинить боль Лекс.
В общежитии Жени прослыла ярой зубрилой, но ее это не тревожило. К концу года она возглавляла список деканата и заработала по биологии высший балл.
Летом ей предложили в исследовательской лаборатории работу ассистента — единственной из всех студентов, не получивших диплома. Но рекомендации оказались такими восторженными (включая отзыв доктора Годет), что она получила это место, несмотря на отсутствие опыта.
Лабораторию возглавлял доктор Харви Дженсон, Нобелевский лауреат в области биохимии, которому правительство выделило значительные средства на исследования: влияния некоторых видов токсинов на воспроизведение живых существ. Опыты проводились над различными животными. Жени в основном работала с норвежской крысой. Она впрыскивала ей ДДТ, никотин и другие вещества, некоторые оказывались вовсе без наклеек. Необходимо было выяснить, когда под их воздействием у беременной крысы произойдет выкидыш. Она замеряла количество выделяемого молока у напичканной отравой крысы-матери, выясняла, какие вещества и в каких дозах способны стерилизовать самцов.
В лабораторию Жени поступила в середине июня и должна была работать до конца августа. Пел написал ей, что Лекс поправляется в Топнотче, и пригласил на выходные перед Днем Труда [5]. Все в их семье, заверял он, горят желанием увидеться с ней.
В этом она уверена не была, особенно потому, что вернувшись в колледж, не получала ни слова ни от Лекс, ни от Мег. Они не отвечали на ее открытки и письма. Хотя сам Пел рассказывал в письмах о том, как выздоравливает сестра, касаясь в основном медицинских аспектов. Он ни разу не упомянул о ее душевном состоянии и настроениях, ни слова не написал о пожаре и событиях, последовавших за ним.
Жени понимала, что ее отношения с семьей Вандергриффов изменились. Но приглашение оказалось соблазнительным — никакой другой дом в Америке не значил для нее так много, как Топнотч, и Жени страстно хотела встретиться там снова со всеми его обитателями, но опасалась, почти боялась свидания с Лекс. Она совершенно не представляла, что подруга могла рассказать родителям и Пелу о «несчастном случае», если он все-таки был несчастным.
Жени испытывала двойственные чувства. Ей было тяжело думать, что она потеряет Вандергриффов, никогда снова не приедет в Топнотч. Но если Лекс на самом деле подожгла себя, чтобы умереть или отомстить Жени, не оставалось ничего более, как порвать с ними связи… И вновь потерять семью.
Много раз она принималась писать Пелу ответ. Но через несколько минут откладывала ручку и упиралась взглядом в окно. Она приняла бы приглашение, но вдруг, приехав, встретит недоброжелательные взгляды и, быть может, обвинения?
В середине августа Жени все же позвонила Пелу в Вашингтон и сообщила, что на праздники приедет в Топнотч.
Лекс жила в главном доме, а не в своей хижине. Ее комната была самой фешенебельной в Топнотче — специально переделанной во время ее болезни — с телефоном и интеркомом, соединяющим с кухней. Пол покрыт пушистым ковром, кресла обиты мягчайшей перчаточной кожей, в шкафы встроены телевизор и первоклассная аудиоаппаратура, книжные полки уставлены недавно приобретенными книгами в глянцевых обложках.
— Давненько не виделись, — коротко бросила Лекс. Она сидела в светлом кресле в тени, вне круга света, отбрасываемого торшером. Вначале Жени не смогла рассмотреть лицо подруги, но заметила, что та еще прибавила в весе. Широкие брюки плотно облегали бедра, пухлая кисть поднялась в равнодушном приветствии.
— Здравствуй, Лекс. Я приехала.
— Да? Мило с твоей стороны.
— Лекс…
Лекс поднялась и дико дернула лицом в сторону Жени. Девушка отпрянула. Лицо подруги было жестоко изуродовано шрамами, ужасными под близким светом торшера. Лекс скривила рот, как будто собиралась плюнуть, но постепенно успокоилась. Она с вызовом стояла перед Жени, положив руки на бедра.
— Ну что, думаешь, в таком виде я выгляжу лучше?
— Пожалуйста, Лекс, не надо…
— Прямо кинозвезда. Какой персонаж подойдет мне больше: Дракула или Франкенштейн? Или нет. Мы вместе снимаемся в иностранном кино. «Красотка и зверь».
— Прекрати! — закричала Жени.
Враждебность будто вышла из тела Лекс. Она уронила руки с бедер и снова опустилась в кресло, упрятанное подальше от света лампы. Голос ее смягчился.
— Не представляешь, какой ад мне пришлось вынести.
Жени опустилась на колени подле нее и положила голову подруге на бедро:
— Извини меня.
— Тебя? — Лекс заплакала.
Жени не сдержалась и отвернулась. Лицо подруги, искаженное рыданиями, стало очень похоже на лицо отца Жени.
— Извинить тебя? — повторяла она. Слезы катились по выщербинам и шрамам, но ни единого стона не вырвалось изо рта.
— Да, — Жени уперлась взглядом в ковер. — Если бы ты тогда не отодвинула свой мешок…
— Ничего бы не изменилось.
Жени в страхе посмотрела на нее:
— Так ты сама…
— Это был несчастный случай. Кто знает, быть может, выпало мое число.
Ее слова не убедили Жени:
— Прости…
— Забудем об этом, — произнесла Лекс ровным голосом.
Жени поднялась с колен:
— Ты спускаешься к обеду?
— Чтобы портить всем аппетит?
— Тогда можно, я поднимусь к тебе после?
— Как хочешь, — когда Жени уже выходила из комнаты, Лекс окликнула ее:
— Веселых развлечений!
Внизу на полу сияла освещенная полоса. Дверь на улицу оказалась приоткрытой и пропускала внутрь вечернюю прохладу и сентябрьское солнце, обрамляя пейзаж медовых лугов и леса в отдалении.
В нескольких ярдах за дверью стояла Мег и с кем-то разговаривала. Она снова была сама собой, слегка склоняясь к собеседнику, поднимала в смехе лицо. Жени было направилась к ней, но узнав голос, остановилась.
— Жени! — позвала ее женщина, и когда та подошла, обняла ее. — Ты помнишь…
— Здравствуйте, — поприветствовал ее Эли Брандт. — Давненько не встречались.
Пожимая ей руку, врач осмотрел ладонь с профессиональным интересом, хотя сама она давно забыла об ожоге.
— Здравствуйте, — Жени вышла на свет. Под лучами солнца Эли Брандт выглядел скорее не мужчиной, а олицетворением чего-то, как греческие боги олицетворяли красоту, музыку, знание.
— Как ты нашла Лекс? — спросила Мег, внезапно заволновавшись.
— В порядке, — ответила Жени, но мать не удовлетворилась этим, и она добавила: — Думаю, она подавлена. Чувствует горечь.
Мег со вздохом кивнула.
— Это естественная реакция, — прокомментировал Эли Брандт, повернувшись к Жени. — Это я и пытался объяснить Мег. Предсказуемый период. К несчастью, я наблюдал это слишком часто. Тяжело обожженные неизбежно проходят стадию, когда они удаляются от людей.
— Мы хотели, чтобы вы приехали раньше, — сказала Мег, — но Лекс отказывалась. Думала, ее вид приведет вас в замешательство. О вашем приезде мы сообщили ей только сегодня утром.
— Но Лекс нужна профессиональная помощь, — Эли Брандт произнес это таким тоном, что Жени поняла, он говорил об этом Мег и раньше.
— Вы знаете, она отказывается выходить из дома. Мы даже не можем вытащить ее из комнаты, Эли, — на лице Мег не осталось и следа недавнего веселья. — Мы послали самолет за психиатром, — сообщила она Жени, — но дочь наотрез отказалась его видеть. Нужно найти кого-нибудь, кто бы согласился здесь жить все время. Но это невозможно, — она моргнула, и этот жест напомнил Жени сына Мег. — Надеюсь, что хоть твой приезд ее развеселит.
— Боюсь, что нет, — ответила безнадежно Жени.
— Не говорите так, — перебил ее Эли Брандт. Мне говорили, что летом вы работали в лаборатории Дженсона. Весьма почетно.
Жени испытала благодарность к врачу за то, что он переменил тему разговора.
— Интересно? — спросил он. — Это то, что вам нужно?
— И да, и нет, — ответила она; завладев вниманием Эли Брандта, она вдруг поняла, как часто думала о нем, все это время. Постоянно ощущала его присутствие, как будто он за ней наблюдал.
— А почему бы вам не прогуляться вдвоем? — предложила Мег. — Я должна присмотреть за обедом, а напитки подадут не раньше, чем через час. Как раз подходящее время дня, чтобы сходить на озеро.
— Пойдем? — врач взял Жени под локоть и повел к началу тропинки. Она приспособила свою поступь к его, и они зашагали по мягкой, запятнанной солнечными зайчиками дорожке, ведущей через лес.
— А что в вашей работе вам понравилось?
— Наверное, животные. Я знаю, это только крысы, но у их детенышей такая кожа, что сквозь нее почти можно видеть. Прозрачная. Когда мать их кормит, заметно, как молоко поступает в желудок. Мне неприятно, что приходится с ними проделывать.
— Это хорошо, — задумчиво произнес врач. — В нашей профессии сострадание необходимо больше любого другого качества. Крысы живые существа. А мне кажется, каждое живое существо наделено достоинством собственного бытия.
— Да.
Изящные бордовые и желтые цветы росли по обеим сторонам тропинки. Они шли вперед, и рука хирурга касалась руки Жени.
— Вы все еще намереваетесь заняться пластической хирургией?
— Больше, чем когда-либо!
— А вас предупреждали о трудностях этого ремесла? — Эли шел, опустив глаза и разглядывая дорожку. — О бессонных ночах, внезапных вызовах, о восьми или девяти годах учебы, прежде чем удастся получить диплом? Годах, когда времени не будет хватать ни на что, кроме как на исследование больных, днях, когда вы будете настолько уставать, что все тело онемеет и придется делать невероятное усилие, чтобы даже поесть?
— Нет, — рассмеялась Жени. — Об этом мне никто не говорил.
Ее чистый смех растревожил воздух и напомнил врачу, как она молода.
— У вас не останется времени для общества. И кроме того, пластическая хирургия требует сильных мускулов. Большинство женщин такой силой не обладают.
Жени протянула ему руку и согнула в локте. Врач был поражен твердой округлостью бицепса.
— Вы занимаетесь спортом?
— В основном плаванием.
— Похоже, сила у вас есть, — признал он. — Но требуется еще и выносливость.
— Вы ведь ее в себе сформировали, — из-за деревьев аквамарином блеснуло озеро.
— Да, — согласился Эли, — ее можно выработать, — они вышли на поляну у озера. — А теперь я расскажу, почему все это изнуряющее до смерти безумие стоит того, чтобы им занимались.
Зеркально-гладкая поверхность озера оказалась у самых их ног. Легкое движение воды, как маска в фотографии, сглаживало разницу в их возрасте. Эли был выше и шире в плечах, и рядом с ним Жени выглядела хрупче, чем на самом деле.
Они одновременно подняли глаза, и Брандт тут же перевел их к противоположному берегу озера. Он повернулся, и они направились к дому.
— Я счастлив, — проговорил он. — Большинство хирургов, даже лучшие из них, чаще всего лишены возможности экспериментировать и заниматься исследовательской работой. У многих даже нет собственной практики. У меня все это есть. И ничто нельзя в жизни сравнить с тем чувством воодушевления и удовлетворения, когда к вам приводят пациента, считающегося безнадежным, а вы рискуете, пробуете то, что еще никто ни разу не пробовал — и ваш метод приносит успех, — его голос от напряжения дрогнул, и он повторил: — Ничто в жизни не сравнится с этим чувством — именно оно придает смысл всем годам каторжной работы.
Жени передалось его возбуждение, будто она сама уже испытала успех хирурга. Ее дыхание участилось. Через некоторое время девушка спросила:
— А почему вы сказали, что большинство хирургов не имеют возможности экспериментировать? Как же тогда они поддерживают свой уровень?
— Заниматься исследованиями — это идеальная ситуация, но большинству на них не хватает времени. К тому же, лень. Продолжать исследования за порогом медицинской школы, проводить эксперименты, следить за развитием пластической хирургии по всему миру может, пожалуй, лишь хирург-джентльмен.
— А что это такое?
— Врач, обладающий достаточным состоянием, которое позволяет ему стать ученым, а не превратиться в техника-исполнителя.
— Но если врач недостаточно богат?
— Тогда она должна выйти замуж за богатого мужа, чтобы достичь вершин профессии.
Жени пришло в голову, уж не разговаривала ли с ним Мег о ней и Пеле. Девушка нахмурилась.
— Это несправедливо. У меня на родине, я имею в виду, в России, врачи преуспевают благодаря своему таланту.
— Особенно члены партии, не забудьте. От моих советских коллег мне известно, что вступление в члены партии — решающий шаг на пути к карьере.
«Как бы возразил на это Дмитрий?» — подумала Жени. Сказал бы, что любая система ущербна? Сейчас он учится, чтобы стать ученым. Но станет ли он известным благодаря своему членству в партии? Это было не в его характере, но, быть может, он переменился, стал другим мужчиной. Мужчиной, а не мальчиком. И так далеко от нее.
— О чем вы думаете? — тихо спросил Эли Брандт.
— Вы сказали, что необходимо выйти замуж за богатого мужа и в то же время предупредили, что времени для общества у меня не останется. Где же тогда встретить такого человека?
Хирург рассмеялся:
— Поймали.
Он поднял глаза, и заходящее солнце осветило его лицо. Как статуя, подумала Жени. Словно бюст знаменитого человека из бронзы или золота.
— А вы?
— Что я?
Жени не решалась спросить о его личной жизни. Назад они шли медленнее, но по-прежнему шаг в шаг. Солнце совсем скрылось за деревьями, и небо окрасилось бледно-золотым отсветом. Листья шелестели. Все, казалось, наполнено смыслом. Жени представилось, что ее спутник ведет ее по дороге жизни.
Выйдя из леса, они заметили перед домом Вандергриффов, которые с бокалами в руках с кем-то разговаривали.
— Моя жена Алиса, — произнес Эли и коснулся плеча Жени. — Прогулка была чудесной. Вы меня просто взбодрили, — он направился к жене, а Жени помедлила. Ей требовалось запить его слова, успеть спуститься с высот, где они только что находились.
После обеда Мег уговорила Жени снова навестить Лекс. Пел подошел к Жени, когда та смотрела на Эли Брандта, сидящего в другом конце комнаты. Врач поднял глаза и улыбнулся. Рядом с ним сидела жена, но, может быть, он тоже собирался навестить сейчас свою пациентку.
— Думаю, тебе лучше встретиться с ней наедине, — произнесла Мег. Других она видит достаточно часто, — она кивнула Пелу, который быстро шептал Жени:
— Потом. С тех пор, как ты сюда приехала, мы совсем не виделись.
Она слегка улыбнулась ему и направилась к лестнице.
Лекс сидела на кровати на портняцкий манер. Жени облегченно вздохнула. Они так всегда сидели на постелях со времен лазарета в Аш-Виллмотте. Скрестив ноги, смотрели друг на друга, откровенничали и строили планы.
— Привет, — обратилась она к подруге, но Лекс не подняла головы. — Привет, — повторила Жени.
Лекс не ответила и по-прежнему сидела с опущенной головой — свет падал за ее спиной. Жени подошла к кровати и протянула руку:
— Лекс, пожалуйста, можно мне к тебе?
Лекс подвинулась к подушкам, уступая место. Жени колебалась, и подруга почувствовала ее сомнения:
— Боишься?
— Я… нет… — в смущении Жени присела на краешек кровати, свесив ноги на пол.
— Это не заразно.
— Лекс, ты ведь знаешь, нужно просто больше времени. Будут еще операции и в конце концов…
— Я стану красавицей? Может быть, буду выглядеть, как бабушка с новым лицом, слепленным из человеческой кожи. Из кожи трупов умерших женщин.
Жени содрогнулась:
— А где она, твоя бабушка? — невольно спросила она.
— А разве не помнишь? Замужем. Теперь она — миссис Фелип Луис Марен и, может быть, как раз сейчас кувыркается с мужем на ложе новобрачных.
Год назад, подумала Жени, они бы шутили по этому поводу, придумывали бы для Розы Борден Марен смешные сюжеты и сами над ними бы смеялись.
— Спасибо Эли Брандту, — продолжала Лекс. — Это он обдирал лица умерших девушек, чтобы дать возможность бабушке порезвиться на сене. Если бы умерла я, моя кожа никому бы не пригодилась.
— Но в этом заключается лечение.
— Благодаря которому я стану красавицей, — Лекс в упор смотрела на подругу, и Жени, не в состоянии ее переглядеть, опустила глаза. — Смотри на меня!
Жени подчинилась.
— Признайся, я тебе противна, — произнесла она, как будто торжествующе. — Мне это чувство знакомо. Когда я смотрю в зеркало, меня тянет блевать.
Жени припомнился отец. Он избегал зеркал, кроме того случая, когда готовился встретить Бернарда.
Внезапно Лекс подалась вперед и протянула к ней руки:
— Поцелуй меня, Жени.
— Нет.
Руки Лекс безвольно повисли, тело соскользнуло на подушки, но голос сделался угрожающим:
— Я сказала, поцелуй!
Жени поднялась с кровати. Лекс вовсе обезумела.
— Поцелуй меня, иди сюда, сладкая моя, хорошая, поцелуй…
— Я приведу врача.
— Приведи врача, приведи врача, — заскулила Лекс. — Приведи врача, приведи мать, приведи отца, брата и всех гостей. Приведи их всех сюда, приведи сюда всех людей…
— Лекс! — по голосу Жени чувствовалось, что ее саму охватывает паника. Она не знала, сможет ли уйти.
Глаза Лекс вспыхнули:
— Позови их всех, чтобы я смогла рассказать, как мы зажгли огонь…
Жени в ужасе посмотрела на нее.
— Зажгли огонь и любили друг друга, пожираемые пламенем страсти. Расскажем им об этом обо всем, Жени.
— О чем? — ее голосовые связки так свело, что она едва могла выдавливать из себя звуки.
— Расскажем им, что мы любовницы, стали любовницами с того самого дня, как познакомились. Любовницы в школе, везде. Я скажу им это, и они мне поверят — их единственной дочери и любимой сестре. Вандергриффы и слоны не лгут. Тебе конец, Жени, Жени-любовница. Ты потеряешь все — дорогого Пела. Он не женится на лесбиянке, пытавшейся убить его драгоценную сестру. Вот увидишь, Жени. Вот увидишь. Или… — она вздернула голову. — Или ты сейчас же ляжешь со мной в кровать, — отрывистым стаккато она рассмеялась в напуганное побелевшее лицо Жени. — Ну иди же, дорогая. Иди, кисочка, к своей маме.
Жени рванулась из комнаты, вниз по лестнице, из дома, в ночь.
13
— Куда? — у шофера было тяжелое обвисшее лицо, большие мешки виднелись под глазами.
— В Нью-Йорк.
— Залезайте.
Жени даже не была напугана. Слишком для этого устала, слишком ей нужно было уехать отсюда. До рассвета она пряталась на краю поля, а потом прошла по дороге больше мили, пока не наткнулась на шоссе, но не знала, в какую сторону повернуть.
Потом она заметила собственную тень, длинную и бледную, простирающуюся из-под ног, и повернула налево, на юг. Через полчаса мимо пронеслась машина, но даже не замедлила скорость. Эта, вторая, подъехала к ней еще через пятнадцать минут.
— Угощайтесь, — водитель подтолкнул к ней коробку с пончиками.
— Спасибо, — Жени ни на мгновение не сомкнула глаз. Что о ней подумает Эли? Пел? Мег? Все они? Она потеряла Вандергриффов, как потеряла собственную мать — окруженная молчанием, не имея возможности сказать хоть слово. Жени вновь увидела материнское лицо, услышала ее крик, когда мать уводили, крик, похороненный в самой ее глубине, откуда теперь он пытался возродиться — прямо из недр желудка. — Меня тошнит.
— Опустите окно, — мужчина продолжал вести машину со скоростью шестьдесят миль в час, как будто ему было не привыкать подбирать в семь утра на пустынной дороге молоденьких девушек, которых тошнит на обочину.
Жени давилась, но на этом все и кончилось. В изнеможении она откинулась на спинку сиденья и стала наблюдать за серой лентой дороги, убегающей под колеса автомобиля. Мужчина за рулем не говорил ни слова. Она смотрела на дорогу, пока не забылась тревожным сном, проснувшись через несколько минут от очередного приступа дурноты.
Несколько раз они останавливались — чтобы заправиться и перекусить. После обеда шофер быстро разгрузился в Олбани, а примерно через двенадцать часов после того, как подобрал на дороге, ссадил Жени напротив отеля «Франсуаз».
— Боже мой! — воскликнула Соня, когда увидела свою любимицу у дверей, бледную и трясущуюся. — Боже мой! — она втолкнула ее внутрь, провела вверх по лестнице, и, не задав ни единого вопроса, уложила в постель. Когда Жени отказалась от еды, супа и даже чая, она так расстроилась, что та погладила ее по руке и проговорила:
— Просто устала.
Но Соня возвела глаза к потолку и прокляла всех и вся, кто сотворил такое с ее девочкой.
Жени провела в постели весь следующий день. И еще один день. Большую часть времени она дремала, находясь на грани яви и сна. Помогла тяжелая работа во время учебного года и летних каникул — утомление заставило мозг отключиться и отдыхать.
На третий день в комнату вошел Бернард.
— Ты больна?
— Нет. Когда вы приехали?
— Только что. Соня сказала, что ты заболела.
Жени закрыла глаза:
— Устала.
На прошлой неделе Бернард уезжал за границу и не знал о ее визите к Вандергриффам. Рассказывать не было никакой нужды — всего несколько дней, а он в это время был далеко.
— Устала? В девятнадцать лет? — настаивал Бернард. — Соня говорила, что ты ничего не ешь. Заявилась вечером, как привидение.
— Просто устала, — повторила Жени.
Бернард наклонился и погладил ее по волосам.
— Вызовем врача. Может быть, тебе что-нибудь нужно?
— Нет! — она села в постели. — Я совершенно здорова.
— Здорова! — передразнил он ее и с беспокойством посмотрел в лицо. — Просто вернулась домой отдохнуть. Рад тебя видеть, Жени.
— И я вас тоже, — пробормотала она.
— Что-нибудь хочешь мне сказать?
Секунду она смотрела ему в глаза — холодный мрамор, в котором отражались облака и небо — но внутри не смогла различить ничего.
— Моя семья. Где они все?
Он поджал губы:
— Отец все еще на «перевоспитании», брат в университете, а мать…
— Так что же с матерью? — раньше, насколько знала Жени, Бернард не предпринимал попыток узнать что-либо о матери.
— Кажется, твоей матери разрешили выезд в Израиль.
— В Израиль? — она никогда не думала о ней как о еврейке. — Почему в Израиль?
Бернард пожал плечами:
— Может быть, это единственное для нее место. Может быть, она туда хочет. А может быть, власти решили, что она оттуда. Подоплеки я не знаю, но слышал, что она получила разрешение. Она еще не выехала, — предупредил Бернард. — Разрешение могут и аннулировать. Нам известно только, что по каким-то причинам, может быть, благодаря хлопотам влиятельных друзей, приговор заменили высылкой.
— Но она вовсе не религиозна. Нас не растили евреями. Думаю, она не знает даже еврейских обычаев и священных праздников.
— Израиль — это страна, — напомнил Бернард, — а не состояние духа. Конечно — это историческая родина евреев и многие, уезжающие туда, искренне верят. Многие из них — сионисты. Если твоя мать и не уверовала, то это способ вырваться из советской тюрьмы и попасть на Запад.
— Израиль, — недоверчиво повторила Жени. — Моя мать в Израиле!
— Пока нет, — Бернард начал раздражаться.
— Это вы организовали ее отъезд?
— Нет, — просто ответил он. — Не имею к этому никакого отношения.
Жени не поверила покровителю. Она подозревала, что именно он использовал свои связи и контакты ради ее матери. И почувствовала себя слегка виноватой, что не испытывала к нему больше теплоты. Нужно забыть все неприятное, что осталось в прошлом, уговаривала себя Жени, не забывать, что обязана ему всем.
Но если Бернард и подозревал, о чем думала Жени, он ничего не сделал, чтобы разуверить, охладить ее благодарность. Однако он сказал правду — для матери подопечной он не сделал ничего. Узнал он о ней случайно: ему сообщали по телетайпу новости о Сарееве, если было о чем сообщать, и не делали различия между Георгием и Наташей.
— До обеда не поднимайся с постели. Я вызову доктора, — распорядился Бернард.
— Вы слишком добры ко мне, — улыбнулась Жени и подала американцу руку.
Он схватил ее, грубо поцеловал и, выпустив, позволил упасть на одеяло. Жени смотрела ему вслед и размышляла, можно ли ему хоть в чем-нибудь верить.
Она снова улеглась, а через несколько минут постучала и вошла Соня с завтраком на подносе. Подождав, пока Жени сядет в кровати, она поставила еду ей на колени.
— Твой молодой человек снова звонил сегодня утром, — сообщила она и взяла тост. Молодой человек — означало Пел.
— И что ты ему сказала?
— Что ты спишь. Какой смысл говорить, что тебя здесь нет, если еще в четверг, во время первого звонка, он заставил меня признаться, что ты приехала. Он сказал, что позвонит позже.
Соня срезала верхушку яйца всмятку и обмакнула тост в желток.
— Поешь, мое сокровище. Только попробуй. Если ты сейчас же чего-нибудь не съешь, от тебя вовсе ничего не останется.
Наверное, это было бы лучшим выходом, мрачно подумала Жени. Ей казалась нестерпимой мысль, что ее станет осматривать врач. Выяснится, что она — симулянтка. И еще ей не хотелось, чтобы вновь приходил Бернард, пока она в постели.
Сделав над собой усилие, Жени откусила кусочек тоста, чуть не подавилась, но проглотила и запила чаем. Медленно доела скудный завтрак.
Потом встала и неторопливо оделась, борясь со слабостью. Голубая юбка на ней висела. То, что она увидела в зеркале, заставило ее тут же отвернуться. Оттуда глядел другой человек, а не та молодая женщина, которая несколько дней назад смотрелась в отражение в озере.
Жени расчесала волосы, провела помадой по нижней губе и, не поворачиваясь к зеркалу, пожевала ее верхней. Потом направилась к двери, спустилась по лестнице, вышла из дома направо, на восток, а через два квартала свернула на север.
Консульство охранялось единственным полицейским. Оно располагалось в красивом здании, не похожем на другие дома на Парк-авеню. Внутри за столом работал Оленков, а может быть, стоял у окна и, разинув рот, с удовольствием глядел на нее — Жени представилась, как поблескивает его золотой зуб.
Она повторила в уме слова. По-английски, наверное, будет лучше: «Доброе утро. Я Жени Сареева. Я пришла просить…» Или по-русски? «Добрый день. Я Евгения Георгиевна. Я хочу…»
Полицейский уже давно наблюдал за ней. Симпатичная девушка стояла перед советским консульством. Может быть, она не знает, что располагается в этом красивом здании. Он подошел к ней:
— Могу я вам чем-нибудь помочь, мисс?
Жени посмотрела в его голубые американские глаза, окинула взглядом квадратный американский подбородок и волосы цвета американского пшеничного поля.
— Я жду… — она догадывалась, что внутри здания хранилось досье на нее, на ее отца, Дмитрия, копия просьбы матери о выезде из страны.
— Не лучшее вы выбрали место, чтобы поджидать кого-то, — мягко произнес полицейский. — Почему бы вам не пройти вон на тот угол. Уверен, приятель вас не проглядит. Вас трудно не заметить, — он подмигнул Жени.
На нем была голубая форма. С одной стороны у пояса висела дубинка, с другой — кобура с пистолетом. Ей представилось лицо матери на суде, послышались тяжелые шаги отца, когда он спускался в последний раз по лестнице.
— Благодарю вас, — она повернулась и пошла назад, а полицейский провожал ее взглядом.
В Редклиффе Жени окунулась с головой в работу. Ежедневно сорок пять минут плавала и по часу тренировалась в гимнастическом зале. Вечера проводила в библиотеке. А когда возвращалась в общежитие, находила телефонные послания. Но не могла ответить ни на одно из них. Заявить Пелу: «Я понимаю — ты берешь назад свое предложение и не собираешься жениться на мне из-за моих лесбийских похождений с твоей сестрой и попытки ее убить?» Или сказать Мег: «Извините, но ваша дочь, которая чуть не погибла и, наверное, на всю жизнь осталась калекой, говорит неправду?»
Звонил даже Филлип. Уж не просила ли его Мег употребить свое влияние на девушку? И были три звонка от Эли Брандта.
Неважно, что каждый из них хотел ей сказать, она ни с кем не хотела говорить и обнаружила, что почти желает Лекс смерти.
Звонки становились реже и к концу сентября прекратились. В начале октября ей сообщили, что звонил Дэнни. Она решила тут же ему перезвонить.
Было уже близко к полуночи, но прежде чем Жени успела извиниться, молодой человек прогудел:
— Жива, старушка Россия! А я в поисках тебя проглядел всю карту.
Она почувствовала удивительное облегчение.
— Россия вошла в состав Советского Союза, — напомнила она. — Это случилось сорок пять лет назад.
— Как-то выпало из головы. Значит, я не там искал. Но теперь я нашел тебя, Россия. И нам нужно немедленно отпраздновать наш возрожденный Союз Социалистических Беженцев!
— Прямо сейчас? — Жени рассмеялась.
— Сегодня же! Ах да, уже ночь! Буду у тебя через пятнадцать минут. А может быть, и раньше, если тройка запряжена.
— Невозможно.
— Конечно, невозможно, — согласился Дэнни. — Спускайся к красному клену и жди меня там.
— А ты знаешь, сколько сейчас времени? — но он уже повесил трубку.
И Жени, ярая зубрилка, образцовая студентка, чьи академические успехи вывели ее на первое место в списке деканата, прокралась в конец коридора, тайком вылезла из окна и стала перебегать от одной тени к другой на залитом лунным светом дворе, пока не оказалась под краснеющим кленом.
Она все еще улыбалась своему порыву, испытывая радостное чувство свободы, когда Дэнни подошел и взял ее за руку.
В час Жени через открытое окно влезла назад в общежитие и неслышно прикрыла его за собой. На губах она ощущала вкус вина, внутри все дрожало. И то, и другое она не испытывала уже давно. Там, в кафе, свободная женщина, она пила вино с блестящим юношей и наслаждалась минутой. Ни один из них не вспомнил, что произошло между ними, не упомянул, что делал со времени последней их встречи.
— Ты очень красива, — заявил он. — Под вуалью страданий. Истинная русская героиня.
И вместо того, чтобы почувствовать раздражение или растеряться при упоминании о «страданиях», Жени рассмеялась.
— А ты похож на настоящего сумасшедшего венгерского поэта.
Они выпили друг за друга и улыбнулись. Ложась в постель, она почувствовала прежнее возбуждение. Но безусловно, уговаривала она себя, нельзя снова попадать под очарование Дэнни.
В октябре они виделись три раза. В ноябре он пригласил ее на Праздник первых колонистов [6]в Янгстаун в штате Огайо.
— К матери, — он почтительно положил обратно на тарелку кусочек пиццы. — К моей бедной матери.
— А что с ней? — Жени еще немного сдобрила свою пиццу перечным соусом.
— Непонятное заболевание, — проговорил он, уставясь на бегущие по потолку световые точки. — Раз в году ей необходимо готовить для молоденьких женщин. Иначе она начинает изрыгать огонь.
Жени поспешно опустила пиццу и прикрыла рот:
— Несчастная. Обещаю тебе вскорости ответить.
Она не сказала Дэнни, что все еще разрывалась на части. А что, если ее пригласят Вандергриффы? Хотя Пел, после двух месяцев неудачных звонков и оставленных без ответа писем, и бросил попытки добраться до нее, Жени так и не примирилась с мыслью, что больше его не увидит. Ее связи с этой семьей были слишком сильны. Казалось, все пережидали, пока злые демоны Лекс отлетят прочь, и они снова смогут оказаться вместе.
К тому же и Бернард пригласил ее на праздник в Калифорнию — в Малибу — с тем, чтобы на несколько дней удлинить ее отдых. Жени уклонилась от ответа, сославшись на то, что ей нужно прикинуть; так много нужно завершить к концу ноября. Прямо отказать ему она не посмела.
— Вскорости, — повторил Дэнни. — Вскорости означает после кино, куда я поведу тебя в четверг.
В четверг после обеда они направились в любимый Дэнни кинотеатр рядом с Гарвард Скуар, который специализировался на иностранных фильмах.
Типичные обитатели Кембриджа, подумала Жени, посмотрев на немногочисленную публику впереди: два переростка-битника, пара седовласых леди из академических кругов, джентльмен в тюрбане, с закрученными усами, семья с тремя маленькими детьми, которых родители держали за руки так, как будто надеялись, что их чада поведут их, куда следует.
Фильм был французский, с английскими субтитрами: Кокто, «Красотка и зверь». Лишь только тогда, когда они вошли в небольшое фойе, Жени осознала название.
Лицо Лекс встало перед ней, и Жени стало страшно. Она хотела повернуться и уйти, но Дэнни потянул ее за руку. Свет стал меркнуть, как только они заняли места.
Через несколько минут Жени оправилась. Фильм оказался сказкой — очаровательной и поэтичной. Путник, едущий туманной ночью, наталкивается на околдованный замок, где все предметы обретают жизнь, а канделябры на стенах превращаются в пламенные руки женщин. Таинственные образы, как сам Дэнни.
Появляется чудовище — волосатое, с глазами, способными парализовать людей. А потом приезжает красавица. Жени ощутила беспокойство. Уж не метафора ли это. Очень похоже на нее: девушка в руках зла — как у них с Бернардом.
Когда же красавица уходит, чтобы навестить отца, и не возвращается вовремя, из глаз чудовища брызжут человеческие слезы и оно рыдает от горя. Его охватывает болезнь.
У Жени перехватило дыхание. Метафора перевернулась — теперь в помощи нуждается чудовище — одинокое в пустых комнатах. Где-то далеко помощь требовалась отцу.
Красавица возвращается в замок, но ни в одной из комнат не находит чудовища. В конце концов она натыкается на него у озера. Чудовище умирает и закрывает глаза, прежде чем она успевает сказать: «Я люблю тебя».
Жени вскочила, за спиной Дэнни рванулась в проход. Он настиг ее в фойе, прижал к себе, и она приникла лицом к его груди и заплакала.
Зрители выходили из зала и сторонились их, стараясь не смотреть на то, что им казалось бурной сценой любовников.
— Что с тобой? — не переставал спрашивать Дэнни, лаская ее голову и зарывшись губами в ее волосах.
Осушив слезы и немного успокоившись, она рассказала Дэнни все.
— Идем ко мне, — твердо заявил он, обхватывая ее за талию. Так он вел Жени по улицам, пока они не пришли к четырехэтажному «пентхаузу», как он называл свой дом. Наверху этого красного кирпичного здания он и жил.
Жени сказала, что не голодна. Дэнни откинул покрывало с кровати, и она забралась в постель во всей одежде. И тут же забылась сном без сновидений. Он сел напротив на стул и каждые несколько минут отрывался от книги, посмотреть на нее, пока не задремал и сам.
Утром Жени принялась извиняться — за свои слезы, за то, что потеряла контроль над собой, за то, что заняла его кровать, но Дэнни лишь с нежностью смотрел на нее и покачивал головой:
— Всякий, кто, посмотрев «Красотку и зверя», не расплачется — человек бездушный. А у тебя душа чистая и прекрасная, как алмаз.
Смущенный собственными словами, он занялся завтраком, пытаясь соорудить его из своих скромных припасов. Гранулы растворимого кофе превратились в массу. Дэнни извлек лежалую сдобу и полплитки шоколада.
— Просто отвратительно. Разве это завтрак? — проговорил он.
Жени улыбнулась.
— Смотри-ка, какой свет на челе, — рассмеялся он в ответ. — Пойдем, поедим куда-нибудь.
— Я не могу, Дэнни, — возразила Жени. — У меня в девять занятия, а книги в общежитии. К тому же мне нужно принять душ и переодеться. Это платье выглядит так, как будто я в нем спала.
— Отчего бы? — он прикоснулся кончиками пальцев к ее щеке. — Ты не позволила накормить тебя обедом, отказываешься от завтрака. Ну, теперь, моя героиня, ты должна принять приглашение на ланч.
Жени рассмеялась и отвернулась к окну. Его тон был, как всегда, легкомысленным, но обычно подвижное лицо застыло и на нем отпечаталось какое-то глубинное выражение, смутившее Жени.
Глядя на улицу внизу, она ответила так же несерьезно:
— А что, если я откажусь?
— У тебя позеленеют волосы.
Его обычный юмор, подумала Жени, все еще стоя у окна. Он вымучивает из себя шутки.
Она обернулась к нему, но он смотрел в сторону.
— Я согласна, — произнесла она. — Хотя меня так и подмывает отказаться — из научного любопытства. А зеленые волосы, может быть, мне и пойдут.
Дэнни рассмеялся. Напряжение спало.
— В полдень?
— Давай четверть первого.
— Напротив Вайдмера, — он придержал перед ней дверь и не поцеловал на прощание.
Они решили заказать одно и то же: на закуску — грибы, большой салат из зелени, полбутылки «Божоле», сыр с французским хлебом. Жени съела бы и больше — уже сутки у нее ничего не было во рту — но приглашал Дэнни, а цены оказались довольно высокими.
Эндруа было шумным местом. Увитые плющом, оштукатуренные кирпичные стены оклеены плакатами с изображениями Шевалье, Че Гевары, Ламарра и Фрейда. Официанты — худенькие, женоподобные и миловидные. Посетители — только молодежь. И по царящей здесь домашней атмосфере становилось понятным, что случайных людей в Эндруа на ланч не приглашают.
Блондинистый, со щеками цвета персика, официант подал им грибы. Его руки дрожали. Он поставил поднос между Жени и Дэнни и разогнулся рывком. Девушка заметила, что весь ресторан замер. Официант замер у их стола, будто изображая статую. Кожа позеленела, как тыквенная кожура.
— Простите, ребята, — пробормотал он, и странная невеселая улыбка коснулась уголков его губ.
Жени посмотрела на него, оглянулась вокруг и заметила, что все посетители застыли.
— Только что застрелили президента, — проговорил он. Слова несвязным потоком хлынули у него изо рта. — В Далласе… сейчас сказали по радио… он и вице-президент… в открытой машине, — официант бросился прочь.
Жени и Дэнни уставились друг на друга. Джон Фиджеральд Кеннеди, гарвардский бог, неужели это возможно? — безмолвно спрашивали они себя. Потом Дэнни кивнул.
— Отмените заказ, — сказал он, ни к кому не обращаясь.
Они вышли на притихшую, запруженную народом улицу. Люди шли с понурыми головами и потрясенными лицами — с ними такого произойти не могло.
Жени взяла Дэнни за руку. Они направлялись в сторону его дома.
— У меня утренние занятия по анатомии, — сказала она.
— Их отменят. Пойдем ко мне?
— Давай сначала пройдемся.
Весь Кембридж был заполнен пешеходами — словно одна похоронная процессия. У некоторых оказались портативные радиоприемники. Люди собирались вокруг них, чтобы узнать новости, которые повторяли снова и снова, словно никто не мог в них поверить.
Нет, не вице-президент, поняли они. Произошла ошибка. Вместе с президентом попали в губернатора из Техаса — Конналли. А Линдон Джонсон остался невредим.
Голоса дикторов следовали за ними, пока они шли к дому Дэнни. В комнате они включили радио и стали слушать последние известия, каждый раз приносящие новые детали.
Когда пуля попала в президента, он упал на жену, и Жаклин Кеннеди закричала: «О, нет!»
Имя убийцы стало известно. Им оказался Ли Харви Освальд.
— Давай ляжем, — попросил Дэнни и тихонько потянул ее за руку.
Они сбросили обувь и легли рядом.
— Обними меня, пожалуйста, — проговорила Жени.
Он повернулся к ней и подложил руку под голову; она посмотрела на него, потянулась губами.
Он разглядывал ее рот, глаза, снова рот и наконец с тихим стоном приблизил свои губы к ее.
Жени крепко обхватила его. Радио они оставили включенным. Голос то затихал, то нарастал снова, они касались друг друга, целовались, их руки сплетались будто в танце — своеобразном языке глухих. Не было ни спешки, ни настойчивости. Рука Дэнни накрыла снизу правую грудь Жени. Одежда была на них. Сквозь горе у Жени возникло иное чувство. В этот миг, в кровати с Дэнни, она почувствовала, что никому не доверяла так глубоко, как ему.
Когда он пробормотал:
— Я люблю тебя, — она улыбнулась и ответила:
— Знаю.
Они вместе спали всю ночь и утро, и Жени почувствовала себя окрепшей, будто сменила кожу.
Они встретились в субботу к вечеру, сходили за продуктами, чтобы вместе приготовить обед. Приняв душ, Жени вернулась в общежитие.
В воскресенье она работала в библиотеке, а Денни еще спал, когда Джек Руби на глазах у миллионов телезрителей убил Ли Харви Освальда.
В понедельник стояла прохладная солнечная погода. Этот день новый президент США Линдон Джонсон объявил днем траура. Лидеры большинства стран прибыли в Вашингтон, чтобы присутствовать на похоронах. Советский премьер Хрущев направил соболезнования, министр иностранных дел Громыко плакал.
В среду Дэнни забрал Жени у ее общежития и они покатили в Огайо в «Олдсмобиле» 1954-го года, который он занял у приятеля.
Машина стонала и трещала, но Дэнни не обращал внимания на ее жалобы и гнал вперед, пока они не понеслись со скоростью шестьдесят миль в час.
Они направлялись на юг, чтобы выехать на дорогу № 80 — прямую ленту, ведущую на запад. Дэнни держал педаль газа у пола. Они пересекли границу Пенсильвании и в девять вечера оказались в Янгстауне.
14
Янгстаун приютился в долине реки Махонинг, где на двадцать пять миль вокруг в небо взмывали столбы дыма из труб сталелитейных заводов. Это был суровый, насмешливый город, принадлежавший рабочим. Риткосы жили на окраине, где воздух оказался почище.
Янек и Елена Ритко ускользнули из Венгрии с двумя сыновьями во время революции 1956 года. Когда они прибыли в Нью-Йорк, организаторы побега, руководители комитета по приему беженцев заявили, что в строительстве — бывшая специальность Янека — работу найти не удастся и предложили перебраться в Питсбург на сталелитейное предприятие. Так они и поступили, и четыре месяца ютились в одной комнате без отопления, не в силах преодолеть языковой барьер, договориться с отсутствующим хозяином, найти какую-нибудь работу по вечерам. Тогда славянин — глава семьи, живущей в том же доме, сказал, что едет в Янгстаун. Там на заводах всегда требуются люди, и в городе живет много таких же, как и они, беженцев из Восточной Европы.
На следующий день они отправились в Янгстаун. Постоянную работу удалось найти не сразу. Но Елена стирала и шила, а упорство Янека и присущее ему дружелюбие принесли постоянное место на заводе. Дэнни тогда было тринадцать лет, Хаво — девять, и они быстро выучили английский в школе. Продвижение Янека на заводе позволяло семье благоденствовать. Через пять лет они смогли купить собственный дом и новую машину, теперь двухлетней давности.
Жени остановилась в комнате для гостей — уютной, оклеенной обоями с нарядным красно-бело-зеленым орнаментом. На окнах висели тяжелые зеленые шторы, на кровати — домотканое покрывало, вместо стенных шкафов — старинный гардероб. На прикроватном столике в вазе — букет ярких засушенных цветов.
Елена показала Жени ее ванную. Вся остальная семья пользовалась другой — единственной. Девушка было запротестовала, но Елена улыбнулась:
— Гостья должна быть жертвой гостеприимства.
Низенькая и плотная, живая, как ее старший сын, Елена имела крошечные глазки цвета нефрита и копну светло-рыжих волос, темнеющих ближе к корням. Она хлопотала, готовя приезжим поздний ужин: холодное мясо, сыр, сладкий омлет с абрикосовым джемом.
— Завтра праздник. Будем есть целый день. Округлишься и станешь толстой, как я, — сказала она Жени.
Когда молодые люди закончили, она пожелала им спокойной ночи и, взяв руки Жени в свои, проговорила:
— Я горжусь, что ты у нас.
— Это для меня большая честь, — ответила Жени, но почувствовала, что слово «честь» вовсе неуместно. Она думала об этом, забираясь в кровать и устраиваясь под одеялом. Она хотела сказать, что ощутила себя как дома с той самой минуты, как переступила через порог. Дом был маленьким и простым — по необходимости, а не по замыслу, как Топнотч или Даймонд Рок.
Из Монтаны в Огайо, размышляла она, от меди к стали, от шахт Анаконды к сталелитейным заводам Янгстауна, от Вандергриффов к семье Ритко. А в сердце от Пела к Дэнни.
На следующий день она проснулась в половине двенадцатого. Жени не помнила, чтобы когда-нибудь так поздно вставала с постели.
— Она поднялась на заре, — продекламировал Дэнни.
— Какая там заря — полдень, — поправила его Жени и чмокнула в лоб.
Заслышав голоса, в комнату ворвалась Елена. Руки ее были в муке.
— Завидный сон. Как зимой у медвежонка.
Жени принялась извиняться.
— Пей кофе. Потом я покажу тебе сад.
Земля от холода была уже твердой, но Елена с гордостью показывала места, где она сажала лук, капусту, зелень и картошку, перец, горох, помидоры. Между грядками в беспорядке были разбросаны цветы, и там и сям висели кормушки для птиц, сбоку стояла птичья купальня. В саду все было устроено по-взбалмошному, не так, как в доме.
Елена рассмеялась.
— Да, со свихом. В доме заправляет Ян. А сад ненормальный, как все цыгане.
Они шли обратно, и Елена показывала, что построил Ян: альков, солярий в задней части дома, книжный стеллаж.
— Я так люблю книги! — воскликнула она. Они как солнце! Без них — тьма. А Дэнни — великий писатель.
Жени улыбнулась с теплотой. Как Дэнни счастлив, подумала она.
Они вошли на кухню, где Дэнни облизывал пальцы.
— Что, напробовался? — спросила его мать.
— Пробую, — стал защищаться юноша. — Любому художнику необходим критик.
— Но только не из родственников, — она слегка шлепнула его по щеке.
— Но я вполне объективен!
— Ха! — она повернулась, чтобы поприветствовать младшего сына, вошедшего на кухню. Юноша тяжело дышал. — А вот и Хаво, знаменитый бегун.
— Привет, — Жени поздоровалась с ним за руку. Хаво был выше брата, мускулист. Его пожатие оказалось крепким. Он улыбнулся, губы растянулись, как будто он собирался заговорить, но, поймав взгляд Дэнни, сжал рот и ничего не сказал.
Во время длинного путешествия Дэнни сообщил Жени, что его брат был способным атлетом и в своей школе занимался футболом и бегом. Его оценки были неплохими, но не выдающимися — волчья пасть мешала ему говорить и многие не понимали, что он хочет сказать.
Жени посмотрела на Хаво с интересом. Она знала, что волчья пасть — врожденный изъян, следствие неправильного формирования костей во время беременности. Степень ущербности широко варьировалась в различных случаях, и у Хаво ограничивалась мягким небом. Таких детей обычно оперировали вскоре после рождения. Подвергался ли операции Хаво? Она решила спросить об этом Елену, как только представится случай.
— Хаво, марш в ванную. А ты, Дэнни, покажи леди город.
— Может быть, я могу чем-нибудь помочь? — предложила Жени.
— Лучше не надо, — улыбнулась хозяйка.
Дэнни провез ее мимо фабрик, указав ту, на которой работал его отец, показал железную дорогу, школу, где учился, реку, аптеку, у которой впервые назначил девушке свидание, свернул к Милл Крик парку. Там он остановил машину и повел Жени к пруду с лилиями, теперь уже наполовину замерзшему, по поверхности которого плавали островки льда.
Дэнни поцеловал ее, на морозном воздухе их губы показались друг другу прохладными. Поцеловались снова. Жени прижалась к нему. Ее лицо разгорячилось, и она почувствовала, как тепло передается между их телами сквозь покров одежды. Раскрыла губы и ощутила во рту его язык — теплый и твердый. Его незрячий кончик исследовал все внутри: небо, десны, тыльную сторону зубов. Возбуждение пронзило Жени, и она поймала его язык своим языком, пленила во рту, принялась укрощать, пока не задохнулась. Вобрав воздух, сама языком проникла в его рот — во влажное царство щек и податливых губ.
Наконец они оторвались друг от друга, но оба дрожали.
— Я хочу тебя, — пробормотал Дэнни.
Они направились к машине. Жени пошатывало, дыхание стало неглубоким и беспорядочным, сердце прыгало в груди.
Внутри Дэнни расстегнул ее пальто — неловкими настойчивыми пальцами. В прохладе салона дыхание паром вырывалось изо рта, ветровое стекло запотело. Он забрался к ней под свитер и нащупал грудь.
Кто-то постучал в стекло. Дэнни замер, нервно осклабился, Жени одернула свитер.
— Что-нибудь случилось? — спросил полицейский офицер, когда Дэнни приспустил стекло.
— Ровным счетом ничего. Просто занимаюсь любовью.
— Хороший выбрал денек, — полицейский был примерно того же возраста, что и Ян и отдаленно знаком. Он улыбнулся Дэнни. — А что не ведешь домой свою ненаглядную? Мать закатит настоящий праздник. У нее так всегда.
— Вот она, цена популярности, — вздохнул юноша, запуская двигатель. — Родителей любят в городе.
— Вполне понимаю. Они замечательные люди.
Дэнни посигналил и включил заднюю скорость. Его рука покоилась на плече Жени. Она прижалась к его ладони рукой и судорожно вздыхала, пока дыхание не успокоилось.
Когда они открыли дверь, аппетитнейшие запахи окутали их. Приготовленные фрукты, арахис, шалфей и тимьян. Ян играл на скрипке неспешную мелодию, а Хаво зажигал свечи на столе. Дэнни и Жени сняли верхнюю одежду и сменили обувь. Они стояли и смотрели на Яна, и Жени обняла юношу рукой.
Ян скосился на них, смычок взлетел в воздух, потом упал на струны и заметался по ним, заплясал в быстрой польке, и Дэнни закружил Жени по комнате.
На следующее утро семья уезжала в Акрон — молодая двоюродная сестра Яна только что родила ребенка. С удивленного согласия родителей, Дэнни с Жени остались дома.
Теперь, наедине с ней, Дэнни потянул ее за руку с дивана в гостиной:
— Пойдем.
Она подняла глаза и внезапно вспомнила разговор в дамском туалете. Юноша ждал, рука оставалась протянутой. Теперь она не могла об этом сказать. Глубокие темно-коричневые, как и у нее, глаза Дэнни были наполнены обещанием, того чего она хотела больше всего. И подалась, позволив отвести себя в комнату для гостей.
Дэнни закрыл за ними дверь, подошел и коротко поцеловал, глядя Жени в глаза, стал расстегивать ее кофту. Она напряженно стояла напротив, тело сжалось в ожидании и нерешительности. Это должно было произойти. Но останется ли она после этого прежней? Наверное, нет.
Дэнни уже не касался ее и отступил на шаг, разглядывая. Глаза были бесконечными, глубокими и прекрасными. Близкие, будто Жени заглядывала в собственные глаза, и в то же время незнакомые. Возбуждающие, пылающие внутренним огнем, глаза, познавшие ее, глаза, которые она жаждала целовать.
Она сама сняла кофту. Он, не двигаясь, смотрел на нее. Расстегнула молнию на юбке, уронила к ступням и переступила. Он, не приближаясь, по-прежнему наблюдал за ней. Расстегнул ремень, вынул из шлиц. Его рука нащупала пуговицу на поясе, скользнула к молнии. Дэнни судорожно вздохнул.
Снял брюки, носки. Скинул белье — у нее перехватило дыхание. Ее лицо горело, глаза блуждали по телу юноши. Он был красив и влюблен. Она подняла глаза и увидела его улыбку.
Он обнял ее. Обнаженное тело коснулось ее кожи. Дэнни тихо простонал.
Потянул к постели, спиной к себе, опустил на колени. Стоя одной ногой на полу, другую просунул меж ее бедер, обхватил руками, тронул ее полные груди. Ртом коснулся уха Жени, и она услышала его прерывистое дыхание, почувствовала руки, слегка ласкающие грудь, ее кожу вокруг сосков, пальцы легонько потягивали соски, повторяя движение снова и снова, будто выдаивал ее спелые груди. Она закусила губу, чувствуя, что не в силах переносить острое желание, эту сладостную муку.
Она подалась вперед, его руки все еще ласкали, дыхание слышалось у уха, и вдруг что-то твердое коснулось ее бедер. Дэнни перевернул ее, тронул ртом сосок и принялся ласкать его губами, рукой настойчиво надавливая другую грудь. Она попыталась оттолкнуть его руку, но губы юноши сомкнулись на соске. Жени запрокинула голову, хватая ртом воздух.
Губы передвигались к другой груди. Жени ощутила, как ее тело пронзили молнии и соединились в треугольнике внизу живота.
Он отпустил грудь, лег рядом, и их губы соединились в безумном порыве. Взяв ее руку, он потянул ее к своей плоти.
— Тронь меня…
Жени дернулась, услышав просьбу, но рука уже сомкнулась на горячей плоти. Она ощутила подрагивание. Оторвавшись от губ Дэнни, взглянула вниз: красно-фиолетовое с капельками влаги над сдвинутой кожей.
— Поцелуй…
Она не знала, что делать. Но он нагнул ее голову, пальцами захватив волосы, и она почувствовала, как ее рот наполнился им. Горячее желание, дрожащее, настойчивое, проникало все глубже и глубже к горлу. Стало трудно дышать, она задыхалась, не могла больше вынести… Поперхнулась. Он освободил ее голову, уложил рядом со своей.
— Ляг на спину….
Рука двинулась вверх по внутренней стороне бедра — выше и выше, пальцы веером прошлись по волоскам.
— Дэнни. Дэнни.
Пальцы двигались все быстрее, проникая сквозь влажные губы в горячую плоть, и она смыкалась вокруг них.
— Ну, пожалуйста, Дэнни, — прошептала она.
Он устремился в нее, и она раскрылась перед ним, приглашая в глубину тела и своего желания. Наконец, с коротким стоном, он извергнул в око ее урагана семя и душу. Шторм подхватил их, швырнул друг другу, заколотил их тела. Бесконтрольно выгибаясь и что-то крича, юноша стал щипать ее бедра, пытаясь остановиться…
Открыв глаза, он увидел, что Жени с мягкой усталой улыбкой смотрит на него. Ее лицо светилось, и между бровей залегла морщинка боли.
— Так это было… — начал Дэнни, затаив дыхание от страха, радости и удивления.
— Да, — улыбка ее стала шире. — Впервые.
Он взревел, заключил ее лицо в свои ладони, покрыл поцелуями:
— Любимая. Любимая моя Жени.
— Дэнни, — она почувствовала силу и облегчение — свободна!
В субботу Жени снова проспала допоздна. Елена спросила Дэнни, не стоит ли ее разбудить и подать завтрак в постель?
— Она удивительная девушка, — ответил он матери. Просто удивительная.
— Симпатичная, — согласилась она. — Хорошие ноги. Доброе сердце. Так как насчет завтрака?
— Не надо. Пусть поспит.
Дэнни подошел к ее комнате, толкнул дверь, на цыпочках переступил через порог. Лицо Жени было спокойным, глаза закрыты. Он представил их себе — широко открытыми и сияющими. Цветущее тело было скрыто под одеялом.
Она приподняла веки и улыбнулась.
Смутившись, что разбудил ее, Дэнни пробормотал извинения:
— Мама просила узнать, не подать ли тебе завтрак в постель?
— Спасибо. Не надо. Я иду, — она перекатилась на постели. — Неужели уже столько времени?
— Жени, — он опустился на колени, и она повернулась к нему. — Жени, я не знал. Я не стал бы…
Девушка погладила его по волосам.
— Ну как?.. — с беспокойством спросил он.
— На пять с плюсом. А теперь выйди и дай мне одеться.
Самая замечательная женщина, какую я только встречал, думал Дэнни по пути в гостиную. И самая красивая. Сильная, неунывающая, умная — просто блестящая. И ко всему этому она оказалась невинной. Он покачал головой. Невероятно.
Ближе к середине дня Дэнни повел ее в свою любимую городскую таверну, похвастаться своей возлюбленной. Там было уже людно: в воздухе плавал и сигаретный дым и аромат пива. Многих посетителей он знал.
— Привет, гарвардец! Пива для Дэнни! — рабочие хлопали его по спине, обращаясь, словно с героем. Сын Ритко из Венгрии получал стипендию в Гарварде. Значит, в этой стране и впрямь можно выбраться наверх.
— Вот что значит мозги, — проговорил какой-то мужчина. — Я всегда знал, что они у тебя есть. По-прежнему пишешь? Да? Когда расскажешь в книжке о моей жизни?
— Грег, познакомься с Жени, — предложил вместо ответа Дэнни.
Грег оглядел девушку с ног до головы.
— Ничего, — игриво похвалил он, не обращаясь к ней.
— Дэнни! Мальчуган! — к ним подлетела блондинка в завитках и поцеловала юношу в рот. — Как ты вырос! — она пихнула его в грудь. — Когда ты наконец научишься умасливать старушек?
— Это ты-то старушка! Да ты в самом соку! Это уж точно, Нелли.
— Так поберегись, когда я ею стану, — она рассмеялась.
— Нелли, это Жени.
— Твоя девушка?
— Надеюсь. Ты ей что-нибудь скажешь?
— Привет, Жени, — Нелли проговорила это, улыбаясь юноше. — Ты подхватила лучшего в Янгстауне мальчишку. Когда он тебе надоест, шепни мне словцо, ладно?
Жени натянуто улыбнулась в ответ. Она чувствовала себя не в своей тарелке — в студенческом платье с Восточного побережья, со своими сдержанными манерами. Она цедила пиво, пока Дэнни разговаривал с давнишними знакомыми, время от времени выставляя ее напоказ, обняв за талию рукой, точно добычу или собственность. Точно так же с ней обращался и Бернард.
— Извини, — она освободилась от его руки.
— Ты куда?
Она не ответила. Быстро прошла в заднюю часть таверны в поисках туалета. Долго стояла там, пытаясь подавить в себе чувство обиды. Когда же вернулась назад, Дэнни стоял в кругу завсегдатаев и развлекал их рассказами. Он даже не заметил ее появления.
Когда они ехали обратно, он повернулся к ней:
— Ты имела дикий успех, дорогая. Все просто обалдели от твоей красоты. Славные люди, правда ведь? Грубоватые, но славные.
Она не ответила. Рука Дэнни покоилась на ее бедре. Она не сбросила ее, но вжалась в спинку сиденья.
— Ты им понравилась. И родителям тоже. Знай, что ты завоевала их сердца.
Жени улыбнулась, немного отлегло при воспоминании о стариках.
— Вернемся в Кембридж, переезжай ко мне.
— Не могу!
Рука Дэнни скользнула меж ее колен и поползла вверх по внутренней стороне бедра.
— Не можешь? Неужто из глубин похотливого советского тела заговорил пуританин из среднего класса?
— Нет, тут другое.
— Так что же? — он повернулся к Жени, но она смотрела по-прежнему прямо перед собой на дорогу.
— Просто не могу.
— Великолепная причина, — согласился он, убирая руку. — Все замечательно продумано и так же хорошо изложено.
— Дэнни, — она повернулась к юноше. — У меня своя жизнь, и я собираюсь ею жить.
— У каждого есть своя жизнь. И все же случается, что люди сходятся и живут вместе.
— Я не готова составить пару, — проговорила она и не добавила: и оказаться в ней незаметной частью.
Раздражение на лице Дэнни сменилось недоумением.
— Вчера ты отдалась мне. Отдалась целиком. Я это почувствовал, — интонация взлетела вверх, словно это был вопрос.
— Да.
— Так в чем же дело?
Жени вздохнула.
— У тебя ведь есть жизненные цели и задачи?
— Конечно.
— И у меня есть свои. Подожди, пожалуйста, дай мне закончить. Мы оба в начале карьеры, и каждый из нас должен работать.
— Ты мне поможешь. Если ты будешь жить со мной, Жени, дорогая, я буду постоянно ощущать вдохновение.
Жени покачала головой. Она не представляла, как заставить его понять. Его восторг, жизнелюбие, могучая жизненная сила — делали Дэнни самым волнующим мужчиной из всех, кого ей приходилось встречать. Телом она любила его. Но в то же время в его напоре ощущала опасность — желание завладеть ею всей.
Если она когда-нибудь решит выйти замуж, думала Жени, то выберет такого человека, как Пел, и не сможет жить с мужчиной, подавляющим цель ее жизни.
Дэнни остановил машину в квартале от дома и посмотрел ей в лицо: сияющие волосы, высокие щеки, темные глаза. Ее красота обожгла его, точно ударила в грудь.
Но она была такой многогранной, многосторонней, как хорошо отшлифованный кристалл. Женщина, которая отдалась ему, в первый раз в жизни, но с таким пылом, сегодня представала холодной принцессой, которая требовала, чтобы ее оставили в покое. Ее странная независимость возбуждала и задевала его. Он попытается позже, сделает потом ее зависимой, овладеет целиком.
Жени заметила, как меняется его выражение, и решила: он не оставил своих попыток и будет уговаривать снова. Мысль удручала ее. Если он станет настаивать, придется прекратить видеться с ним вовсе.
Дэнни улыбнулся. Красивые черные глаза удержали ее в своей глубине, и Жени почувствовала укол — тело начинало властвовать над мыслями, настаивая на удовлетворении своих потребностей. Она потянулась к юноше и в поцелуе снова сделалась подвластной, забыла о всяческих жизненных целях, кроме одной — отдаться ему…
Когда Дэнни заводил мотор, на его лице отразилось торжество.
После обеда Жени настояла на том, что станет мыть с Хаво посуду. Она еще не успела пообщаться с ним, а утром уезжала обратно в Кембридж.
— Гостья — жертва… — начала было Елена, но Жени мягко перебила ее:
— Иногда и хозяйке нужно принимать от гостей небольшие подарки, — она знала, что Елена не сможет ей отказать.
На кухне Жени мыла, а Хаво вытирал. С тех пор как Елена рассказала ей о его волчьей пасти, Жени не терпелось этот дефект увидеть. Хаво прооперировали в возрасте двенадцати месяцев, и врачи в Венгрии не предполагали дальнейшего вмешательства. Недавно Жени прочитала о новой методике в хирургии волчьей пасти и надеялась, что это будет приемлемо для Хаво.
Хаво позволил ей исследовать свой рот, и Жени заметила в мягком небе полость, чрезмерно сужающуюся за зубами.
— Думаю, это можно исправить, — заключила она. — Подчитаю еще и сообщу тебе, но уверена, что все это можно сделать.
— Но зачем? — вспыхнул Хаво.
— Чтобы ты говорил, как все остальные.
— Хорошо бы! — воскликнул он, вешая на место полотенце.
Следующим утром он встал ни свет ни заря, успеть проститься с Жени, прежде чем она отправится с Денни.
— Спасибо, — проговорил он, крепко ее обнимая. — Большое тебе спасибо.
— Нам пора, — нетерпеливо заторопил Дэнни. — Нечего тут рассусоливать.
Первый час пути они разговаривали мало, обсуждая только живописные фермы или перелески. На полдороге к Пенсильвании Дэнни вновь затронул тему об их совместной жизни, и Жени опять отказалась.
— Все, о чем ты, мадам доктор, печешься, это собственная карьера, — его слова прозвучали обвиняюще.
— Не только. Но мне девятнадцать лет. Попытайся понять меня, Дэнни.
— Понять? Я понимаю так, что ты уже соорудила себе вывеску, хотя еще не успела поступить в медицинскую школу. Доктор Сареева ставит диагнозы. Доктор Сареева рекомендует операцию.
— Она поможет Хаво.
— Поможет ли? Ты уверена? А деньги на нее свалятся, точно созревшая слива с маминого дерева?
— Они в этом вопросе — фактор не решающий, — Жени почувствовала в его голосе злость и разозлилась сама. Он властвовал, строил из себя тирана.
— Для вас, миледи из окружения Вандергриффов, деньги никогда не являются решающим фактором. Подопечная знаменитого и несказанно богатого Бернарда Мерритта, рассуждающего о том, что дал ей «взаймы» состояние. Но «взаймы», дорогая, на всю жизнь. И не забывай, что я живу на стипендию. Без нее я не смог бы учиться ни в Гарварде, ни в каком другом колледже. Может, ты учредишь стипендию для операции брата?
— Прекрати! — Его грубость оказалась такой же неистовой, как и страсть. Он может отталкивать с такой же силой, как и привлекать, подумала Жени.
— А ты ничего не слышала о несбывшихся надеждах, — Дэнни продолжал, будто и не слышал ее. — И о тех, кто их зарождает. Девятнадцатилетняя леди-доктор так расточительно сеет надежды среди убогих мира сего. Будет ли она с ними, чтобы стереть их слезы и выслушать жалобы, когда надежды угаснут?
— Хаво не убогий, — выкрикнула она. — И я сказала ему только то, что считала необходимым: оставшуюся волчью пасть можно исправить. И обещала ему как следует выяснить это. Изучить в книгах.
— Ах, изучить! Волшебное слово. Не слово, а тайный пароль, высшая мудрость. Изучение исцелит все, — костяшки его пальцев на руле побелели. У Жени возникло острое желание распахнуть дверь и выскочить из машины.
— Ты хочешь, чтобы он остался таким? — она бросила ему в лицо обвинение, кивком подтвердив свои слова. — Да, так и есть. Ты ведь гений. Блестящий писатель. Так хорошо управляешься со словами и жаждешь, чтобы все хвалебные слова доставались тебе?
— Заткнись, — его рука взлетела, и Жени отпрянула, боясь, что он ударит ее.
Она сжалась у дверцы, подальше от него. Дэнни резко нажал на педаль, заставляя машину набрать восемьдесят миль в час.
У Жениного общежития он остановил машину со скрипом тормозов. Она схватила с заднего сиденья чемодан.
— Не нуждаюсь в примадоннах, — и с шумом захлопнула дверцу.
Дэнни наблюдал, как она вошла внутрь. Заглушил мотор и подождал, пока в ее окне не зажегся свет. Его бил озноб. Он смотрел на светлый квадратик, пока там не погасло. Пальцы онемели, он попытался включить двигатель. На приборной доске остались следы слез.
15
В почте, что Жени обнаружила в общежитии, она нашла два личных письма. По адресу, напечатанному на машинке, она тут же узнала, что одно из них от Пела. Недоумение вызвало другое — адрес, написанный от руки, напоминал ее собственный почерк. Буквы на марках ни на кириллице, ни на латинице. Почти минуту Жени глядела на конверт, прежде чем до нее дошло, что письмо из Израиля — от матери.
Осознав это, она выронила из рук конверт. Потом присела, подобрала его и положила на стол. Неотрывно смотрела на него, пока снимала куртку.
Рука матери. Поначалу ее это ошеломило, заглушив злость на Дэнни. Она несколько раз глубоко вздохнула, подсунула большой палец под клапан и вскрыла письмо так стремительно, что даже порвала верхнюю часть листка. Потом развернула его, приставила оторванную полоску и стала читать русские слова, показавшиеся чужими и оказавшиеся — такими родными.
Женя, доченька!
Когда я последний раз видела твое лицо — такое бледное и испуганное — тебе исполнилось только тринадцать, ты была еще ребенком. В зале суда мое сердце рвалось к тебе. Но нельзя требовать от детей, чтобы они разделяли судьбу родителей. Ты была такая потерянная, и тебе нужна была мать.
Жени почувствовала, как екнуло у нее в груди. Она снова оказалась там и глядела на себя двумя парами глаз.
Дмитрия не было с тобой, и я заподозрила, что он не пожелал меня видеть. Он сильно меня любил, а когда у матери появляется любовник, мальчики обычно считают, что их предали.
Уже много позже я узнала про несчастный случай и почувствовала сильные угрызения совести.
Все это время, хоть и не прямо, я поддерживала с ним связь. У него все в порядке и в конце концов он станет доктором.
Дальше на странице следовал пробел, а письмо продолжалось ниже, как будто бы Наташа решила начать его заново. Жени крест-накрест обхватила себя руками за плечи и слегка подалась вперед.
Почему я начала с прошлого, а не с настоящего. Наверное, потому, что в нем вы жили для меня все эти годы. Конечно, теперь ты взрослая женщина, может быть, замужем, но для меня ты осталась все той же, еще не достигшей тринадцати — возраста расцвета еврейской женщины.
Теперь я в Израиле, и я — еврейка. Странно, что от оков меня освободила вера предков — вера, которую не поддерживали целые поколения. К тому же трудно стать верующей, когда до середины прожила жизнь агностиком. В традиционном смысле я в Бога не верю. И все-таки я еврейка. В этом я глубоко убеждена.
Когда-нибудь я надеюсь объяснить тебе, что я имею в виду. Только неделю назад я узнала, где ты теперь живешь. А до этого и понятия не имела, что какой-то богатый американец стал твоим опекуном.
Эта новость привела меня в восторг. В голову сразу пришла мысль: теперь ты можешь приехать ко мне.
А потом закрались сомнения — может быть, она и не свободна в душе или в сердце. Может быть, расстроится, получив от меня письмо. Может быть, целиком принадлежит своей американской семье, а меня выбросила из головы, будто я умерла.
Женечка, мы — чужие. И все-таки мы — мать и дочь. Мое сердце, мой дом всегда для тебя открыты.
Она подписалась «Наташа»,а не «Мама».
Жени перечитала письмо снова, затем снова — по частям. Написавшая его — была и впрямь для нее чужой, но такой близкой женщиной.
Но как только Жени положила письмо обратно в конверт, на нее снова нахлынули чувства, обуревавшие ее машине у Дэнни — раздражение и даже злость. Почему люди считают возможным вмешиваться в ее жизнь? На глаза ей попалось еще не распечатанное письмо от Пела. Весьма неприятно потерять свою американскую семью. Хотя с Вандергриффами она была связана не больше, чем с Дэнни. Но послание матери напомнило ей, что настоящую семью у нее украли.
Хмурясь она раскрыла конверт Пела. К чему он по-прежнему ворошит прошлое, которое давно мертво?
Письмо оказалось коротким, как телеграмма, и почти таким же безликим:
«Будь добра, позвони. Обнаружил обстоятельства чрезвычайной для тебя важности. Любящий тебя Пел».
Обстоятельства, наверное, касались ее матери, подумала Жени. Мило с его стороны, но теперь уже поздновато.
Она выключила свет и оказалась в полутьме. Уличные фонари светились достаточно, чтобы раздеться и лечь в постель. Штору Жени опустила, не выглянув в окно, где от общежития отъезжала машина Дэнни.
Пел написал, желая предупредить Жени, но когда девушка не ответила и на его чрезвычайное послание, он растерялся.
Прошедшие недели серьезно подорвали его и внесли хаос во все ветви власти, включая Государственный департамент, где он вот уже шесть месяцев проходил стажировку, переходя из одного регионального отдела в другой. Убийство президента перепутало все, спутало расстановку политических сил. Как и большинство сторонников Кеннеди, Пел поднимался вместе с новым президентом, но события в Далласе отдались в Вашингтоне, внеся во все сумятицу и беспокойство.
На похороны Пел отправился вместе и Филлипом и Мег и выразил — такими, по его мнению, неподходящими словами — свое соболезнование семье погибшего. Роберту Кеннеди он не сказал ни слова, про себя молясь, чтобы этот человек не разделил ужасную судьбу своего брата.
В последующей за убийством и инаугурацией президента суматохой, многие сотрудники госдепа подали в отставку, и Пела поспешно сделали специальным помощником по делам Восточной Европы в ранге заместителя подсекретаря. Такое быстрое продвижение казалось беспрецедентным.
Во время стажировки Пел проявил необыкновенную хваткость к любому делу — выполнял черновую работу чиновников лучше секретаря или клерка. И уже завоевал в департаменте репутацию человека, который, если не знает ответа на насущный вопрос, то найдет его быстрее, чем кто-либо другой, кроме, разве что, специалистов.
После окончания школы Вудру Вилсона Пелу предложили место в Фонде Вандергриффов, где его зарплата была бы втрое больше, чем в правительстве, и где он сразу бы начал с руководящей должности.
Но Пел предпочел сам пробивать себе дорогу, изучая мельчайшие детали всего, что касалось роли Америки за рубежом. Ничто не ускользало от его внимания. Он проштудировал правила действия дипломатической почты и написал доклад, ставя под сомнение возможность пересылки с ее помощью личных отправлений сотрудников посольств и их семей.
В конце ноября Пел занял место, оставшееся вакантным после ухода Энди Марвелла из Техаса, который выступал против Линда Джонсона в роли губернатора, затем вице-президента и подал в отставку из Восточноевропейского отдела после его инаугурации.
Новое положение давало возможность Пелу общаться со своими коллегами — специалистами по Советскому Союзу. Во время завтрака в кафетерии он нахватывался слухов о Бернарде Мерритте, которые подтверждают его собственные догадки об этом человеке. Он забеспокоился, испугался, что Жени, сама не ведая того, оказалась в роли заложницы, с чьей помощью опекуну удавалось получать ценные и незаконные посылки из СССР.
После того как Жени не ответила и на его отчаянное письмо, Пел понял, что исчерпал все возможности. Она не обратила внимания ни на одну из его попыток и попыток родителей связаться с ней. Стало ясно: она больше не хочет ничего иметь общего с Вандергриффами. И кто ее мог бы в этом упрекнуть, думал Пел, после того, как Лекс так позорно и низко повела себя с ней.
В ночь, когда Жени исчезла из Топнотча, вопли Лекс заставили всех броситься к ней в комнату. По невероятности ее обвинений подруги они поняли, насколько Лекс больна. Эли Брандт сделал ей успокоительный укол, и на следующее утро самолетом ее отправили в психиатрическую больницу. Уже через неделю она вернулась домой — протрезвевшая, напичканная транквилизаторами и неспособная или не желающая написать извинения Жени.
Пел любил сестру и любил Жени. Он и не подозревал, как много в будущем связывал с Жени, до тех пор, пока после Дня Труда, когда истекала его летняя аренда, он не начал подыскивать себе дом в Вашингтоне. Он отбросил холостяцкие квартирки, ища помещение, достаточное большое для супружеской пары, чтобы основать в нем семью. Не отличающийся скромностью, их агент по недвижимости без обиняков спросила, уж не обручен ли он. И когда он ответил, что нет, объяснила, что предлагает большие дома женатым клиентам. «Прислушайтесь к совету — заключите пока краткосрочный контракт и подождите, пока не подвернется подходящая девчонка».
Ее слова потрясли Пела и заставили увидеть все в реальном свете. Подходящая девчонка уже подвернулась, но ускользнула опять, растворилась в ночи.
Он снял двухкомнатную квартиру в Джордтауне на П-стрит, рядом с Висконсин авеню, с диваном, обитым вощеным ситцем, и пестрыми обоями. Квартира оказалась уютной, и Пел был относительно доволен любимой работой, сотрудниками и приглашениями от вашингтонских хозяек, такими многочисленными, что он почти каждый вечер мог бы ужинать по четыре раза. Но он чувствовал, что в жизни ему не хватает Жени — чувствовал, как хроническую боль в затылке.
Прошло десять дней, и он не получил ответа на свою записку. И тогда послал телеграмму: СРОЧНО ПОЗВОНИ ВОПРОС О ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЗВОНИ МНЕ(.)
Телеграмму по ошибке передали в приемную. Жени ее так и не прочитала и потому не ответила.
Не получив ответа и на телеграмму, Пел решил, что больше он не в силах сделать ничего. Он должен поставить на ней крест.
Чувства Жени к матери были настолько запутанными, что она была не в состоянии ответить. Десятки раз она вела с ней молчаливый диалог, но как только садилась за письмо, не знала даже как начать: «Дорогая мама!»или «Дорогая Наташа!».Она не могла избавиться от мысли о бесцельности переписки с человеком — хотя бы Наташей, — которого считала для себя потерянным.
Проходили месяцы, и Жени все меньше и меньше думала о матери, никогда больше не перечитывала письмо, и мать постепенно отошла в дальние уголки ее памяти.
Гораздо более живыми представлялись ей Вандергриффы, по-прежнему занимавшие ее мысли, а иногда и мечты. И Дэнни тоже, хотя она тщательно избегала проходить его улицей.
Как-то холодным мартовским днем, когда она вышла после лекции по биохимии, к ней подошел грузный человек в бесформенном, старомодном коричневом пальто. Очки в тонкой металлической оправе сидели на носу, как пенсне. На шее повязан шерстяной шарф, на голове — мягкая коричневая шляпа. Русский, определила Жени.
— Мисс Сареева?
Она крепче прижала книги к груди и пошла быстрее.
Он не отставал, держась шаг в шаг.
— Отец вам что-нибудь сообщал, ведь да?
— Нет!
— Может быть, не прямо. Но вы ведь о нем наслышаны?
— Нет!
— Но мать ведь вам пишет. О том, чем занимается отец?
Жени остановилась и посмотрела ему в лицо — глаза под тяжелыми веками за стеклами очков не выражали ничего.
— Я ведь сказала, нет! Давно сказала «нет» вашему дружку в Нью-Йорке. Чего же вы меня спрашиваете еще? Что от меня хотите?
Мужчина пожал плечами, и этот уклончивый жест разозлил Жени.
— Если бы я общалась с отцом, неужели вы думаете, что я вам бы об этом сказала? — ее голос звенел. — Но я не переписываюсь с ним и ничего о нем не знаю, — голос дрогнул. — Даже не уверена, жив ли он! — она повернулась и стала удаляться, а когда русский последовал за ней, выкрикнула: — Прочь! Мне нечего вам сказать! Оставьте меня в покое!
Он в удивлении отстал, и она продолжила путь одна. Из телефона-автомата она попросила Бернарда, но его не оказалось в конторе — он был где-то в городе. Секретарь зарегистрировала звонок и обещала, что мистер Мерритт перезвонит ей вечером или самое позднее — утром.
Но через два дня Бернард еще не позвонил. Зато Жени получила письмо от Дэнни — первую весточку от него после их поездки.
«Сегодняу был интересный посетитель, —оно начиналось даже без приветствия и было датировано 12 марта — днем, когда Жени встретила русского. — Он утверждал, что является литературным редактором «Блумсдея», небольшого поэтического и критического журнала. Но таковым он вовсе не выглядел в своем галстуке в клетку, с короткой прической (наверное, отросший «ежик») и вел он себя не как должно редактору. Оказалось, что он пришел поговорить о тебе. Я не поставил его в известность, что несколько месяцев назад мы водили с тобой компанию.
Он спросил,говорилось дальше в письме, не рассказывала ли ты мне чего-нибудь о своем отце, не показывала ли письма из Советского Союза, которые получаешь, может быть, через Израиль.
На что я весьма настоятельно рекомендовал ему совершить непотребное действие с самим собой или еще лучше с собственной матерью.
После чего, не желая дальше выслушивать мое красноречие, он удалился. Жени, что происходит? У тебя неприятности? Мне стыдно, что тогда я так разговаривал с тобой. Пожалуйста, позволь мне помочь. У нас, венгров есть опыт, как цапаться с Советами. Признаюсь, неудачный, но все-таки опыт. И пожалуйста, позволь мне всегда быть не меньше, чем
Твоим другом».
Она позвонила тотчас же. Дэнни пригласил ее к себе, но Жени предложила встретиться в кафетерии.
Двадцать минут спустя она входила в кафе, где Дэнни поджидал ее за столиком. Он встал навстречу, они посмотрели друг на друга, стараясь понять, что между ними осталось. Жени смущенно улыбнулась и протянула руку. И Дэнни притянул ее к себе. Секунду они стояли обнявшись — Жени с закрытыми глазами, а Дэнни — улыбающийся и сияющий. Потом они отстранились.
— Порядок, — проговорил юноша.
— Да, — отозвалась Жени.
Они сели напротив друг друга, и Дэнни спросил:
— Почему они следят за тобой?
Она неопределенно покачала головой.
— Что у тебя в семье?
— Нормально. Родители вспоминают тебя и спрашивают о тебе. Скажи, мой посетитель был из ЦРУ или из ФБР?
— Не знаю. В тот же день ко мне подошли в студенческом городке. Русский.
— Кто он такой?
Жени снова покачала головой. Ей не удалось разгадать смысла его вопросов. Бернард не перезвонил. Почему? А теперь в этой тайне Дэнни открыл еще одно измерение: зачем американскому агенту понадобилось расспрашивать о ней?
— Я из Восточной Европы, — напомнил он ей. — У нас там дома родственники: тети, двоюродные братья и сестры, моя бабушка. Поэтому мы уязвимы. И еще, — добавил он с отвращением, — я отличный кандидат для вербовки на роль агента или контрагента. А родственники станут служить «прикрытием» поездок за Железный Занавес.Я знаю — меня приглашали сотрудничать с ЦРУ. Но им я ответил так же, как и джентльмену, интересующемуся тобой.
Несмотря на тревогу, Жени улыбнулась мужеству Дэнни.
— Но ты ведь американский гражданин.
— Да. А ты когда будешь натурализована?
Жени беспомощно посмотрела на юношу. Каждый раз, когда она задавала этот вопрос Бернарду, он отвечал: «Вскоре».
— Не знаю, — проговорила она, и к горлу подступил ком.
— Живи со мной, будь моей любимой, — он поднес к губам ее руку и коснулся языком кончиков пальцев.
— Не могу, — прошептала она.
— Не можешь?
Он отпустил ее руку.
В последние месяцы она была ужасно одинока. Дэнни красивый и возбуждающий. Она жаждала его — его густых курчавых черных волос, его губ, его тела. Но даже теперь не могла ему сказать, что случайно подслушала тогда в дамском туалете.
— Мне бы и дальше пришлось тебя прощать, А это невозможно. Давай останемся друзьями, Дэнни.
— Друзьями? Но мы ведь знаем друг друга.
Она кивнула, и этот жест как будто освободил слезы, хлынувшие из глаз по щекам. Дэнни перегнулся через стол и стал утирать ее лицо платком. Она улыбнулась, и он тоже. Все это могло бы быть у нее: его блеск, его страсть, теплота его тела, утешение разделить с ним жизнь…
С болью она заставила себя вспомнить их последнюю роковую ссору, таверну, куда он ее привел, и обратную поездку в машине, когда она сказала ему, что должна быть свободной, чтобы достичь своей цели.
— Не выйдет, — произнесла она.
— До тех пор, пока ты сама не захочешь, чтобы вышло, — в его голосе почувствовалась грубость. — Стань же наконец взрослой, Жени.
— Я стала ею давным-давно, когда уехала из дома и поняла, что могу полагаться только на себя и что нужно идти своей дорогой.
— В одиночку?
— Если уж так суждено.
— А неужели это так суждено?
— По крайней мере, сейчас, — Жени потянулась через стол и дотронулась рукой до его щеки.
Бернард позвонил на следующий день.
— Я уезжал из города, принцесса. Мне только что сообщили о твоем звонке. Что-нибудь не так?
— Да нет, — что-то в его голосе насторожило ее. — Просто позвонила, чтобы поприветствовать.
— Паинька. Давненько ты мне не звонила. Не хочешь приехать на выходные в Нью-Йорк? У меня выдалось свободное время. Сходим вместе на представление…
— Спасибо. Не могу отлучиться. Слишком много работы, — их разговор казался каким-то нереальным, как будто они читали реплики из сценария. — Может быть, на Пасху.
Жени положила трубку и еще долго смотрела на телефон, стараясь понять, что же напугало ее в тоне Бернарда. Опекун был приветлив больше, чем всегда, как будто что-то прятал за своей приветливостью.
На другом конце провода Бернард тоже уставился задумчиво на аппарат. Он не поверил, что Жени звонила без определенной причины. Возможно, она почувствовала за собой хвост. Но тогда почему не сказала об этом прямо?
Он уже знал, что за ней следят, но не имел понятия, что за этим кроется. Слухи просачивались слишком неопределенные. В любом случае сделать он ничего не мог, кроме как принять контрмеры и нанять человека, приглядывающего за Жени. Для собственного успокоения. И конечно же для ее защиты.
В кабинете Бернард пробежал глазами свой тайный список, личный каталог, о существовании которого не подозревала даже секретарь. Для Жени ему требовался особый частный детектив — такой, которому можно было бы полностью доверять.
Руки Бернарда слегка дрожали. На коже проступали темные пятна, чуть больше веснушек — знаки возраста, заметные пока только ему. Если они станут увеличиваться, он их сведет, отстраненно подумал бизнесмен.
Такая отстраненность одолевала его всю прошлую неделю. И когда три дня назад позвонила Жени, он даже не мог с нею разговаривать. Бернард был потрясен своим открытием: наконец, несмотря на риск, он решился отдать на реставрацию Киевскую Богоматерь и показал ее эксперту и реставратору, знатоку русских икон, чье мнение ценили Музей Метрополитен, Британский музей и аукционные дома Нью-Йорка и Лондона. И тот сообщил, что Богоматерь Бернарда оказалась подделкой, хотя и старинной. Копию сделали примерно через сто лет после того, как был написан оригинал. Точное воспроизведение подлинника, великолепно выполненное, но все же ненастоящее произведение.
Бернард не мог вычислить, в какой точке следования иконы это могло произойти. Может быть, когда груз уже паковался в Канаде или раньше — когда похищали из хранилища в Москве? Безвинная ошибка или преднамеренный обман? В любом случае его надули, и единственная надежда вернуть настоящую икону заключалась в Жени. Киевскую Богоматерь ему обещали за опекунство над девушкой, и та останется подвластной ему, пока настоящая икона не окажется у него. Бесправная, Жени полностью принадлежала ему: не получив оригинала, он мог пригрозить отослать ее обратно. В качестве американской гражданки она окажется свободной, и тогда рухнет надежда на обладание подлинной Богоматерью.
Интерес, который проявляли к Жене Советы, хотя и совершенно другого рода, был на руку Бернарду. Подозрение, что она переписывается с отцом — крупным чиновником при Сталине — подхватила американская разведка и передала в иммиграционную службу. Теперь, пока ее не просветят насквозь, гражданства ей не видать.
В тайном списке Бернард нашел имя и позвонил по своей личной линии.
Доминику Занзору верить было можно — за четверть миллиона. Бернард обращался и раньше к нему — человеку, чьи интересы заключались только в работе, истинному профессионалу. К тому же не приходилось беспокоиться об «утечке» информации в Государственный департамент. Это помешало бы представлению Жени гражданства, если Бернард когда-нибудь решит, что ей следует его получить. А он был не намерен причинять Жени вред.
Жени так и не знала, почему не спросила у Бернарда о своих иммиграционных документах. Разговор по телефону получился каким-то путаным. Ладно, когда они увидятся. Она не очень беспокоилась: он ведь сказал, что делает все, что в его силах. А кто в Америке имеет большее влияние, чем Бернард Мерритт? Какие бы ни встретились бюрократические осложнения, он их преодолеет. Самой ей ничего не оставалось, как не делать ничего, и это было не так уж плохо — времени перед дипломом не хватало.
Нужно было дописать связанную с ее опытами в лаборатории прошлым летом работу: взаимосвязь действия некоторых видов токсинов и стерильности у крыс, подготовиться к экзаменам и собеседованию с членами приемного комитета Гарвардской медицинской школы.
Жени встречалась с ними порознь, большей частью в их кабинетах. Гинеколог с легким романским акцентом и прилизанными черными волосами ободрил ее, хотя задавал самые общие вопросы, будто они просто беседовали, и Жени заметила, что не делал никаких пометок. У нее сложилось впечатление, что он ей покровительствует.
Кардиолог, маленький лысый человек с изрезанными морщинами лбом и огромными ладонями, обрушил на нее град вопросов, большинство из которых требовали односложных ответов: «да» или «нет». Через пятнадцать минут он остановился и оперся щеками на раскрытые ладони:
— Нам требуется больше женщин-врачей. В любом случае я буду вас рекомендовать.
В следующий четверг она вошла в кабинет молодого ортопеда. Тот взглянул на нее и тут же обескуражил замечанием:
— Бесполезная трата времени. Симпатичные девушки не приживаются в медицинской школе.
Жени чуть не рассмеялась. Врач сам был черняв и красив, словно известный киноактер в роли хирурга.
Озадаченный, он спросил, чему она улыбается. Но Жени не решилась ответить ему такой же лестной обидой, какую нанес он ей. И вместо этого сказала:
— Может быть, это и так. Но я решила поступить в Гарвардскую медицинскую школу и буду в ней изучать медицину.
Несколько мгновений доктор не отрывал от нее глаз, потом сам расплылся в улыбке:
— Будь я проклят, но ничего подобного никогда от девушек не слышал. Я провел собеседования с десятками, и ни малейшей твердости характера. Вы чертовски уверены в себе, мисс… — он заглянул в папку на столе, — Сареева?
Она села. Целый час ортопед задавал ей детальные заковыристые вопросы, а потом сказал:
— Успехов. До финиша вы, может быть, и не дотянете, но в вас есть изюминка и материал вы знаете. Когда поступите сюда, приходите ко мне осенью.
Это было последнее собеседование, и Жени почувствовала себя увереннее. Но в следующий понедельник она получила уведомление, что ей необходимо встретиться с психиатром доктором Рут Фарнейл.
Позже тем же днем от студентки из своего класса по биохимии она узнала, что только женщин — претенденток на поступление в медицинскую школу просят пройти психиатрическое обследование.
— Но это же немыслимо! Разве это не дискриминация? — удивлялась Жени, когда они выходили из здания.
— Она самая. Но ничего не поделаешь, если собираешься здесь учиться. Меня-то это не трогает — я собираюсь проходить подготовку в Швейцарии.
Расстроенная таким неравноправным требованием, Жени все же готовилась к встрече с доктором Фарнейл.
Когда в среду настало время идти к ней, Жени выбрала наряд, нарочито скрывающий ее женственность: шерстяную твидовую юбку, босоножки, сшитую на заказ рубашку. Пышность волос она скрыла, заплетя их в гладкую косу на затылке, коснулась тенями лишь кончиков ресниц, а губы мазнула бесцветной помадой.
Ступив на широкие ступени Шаттака, она оказалась под сенью грациозных колонн из серого известняка со спиралевидными капителями, которые копировали греческую архитектуру времен Гиппократа — отца медицины. И все же, думала Жени, проходя под ними, Сашрута в Индии оперировал носы за несколько столетий до того, как родился Гиппократ.
— Хирургия. Пластическая хирургия, — ответила она на вопрос доктора Фарнейл. Жени сидела напротив той на кушетке, обитой блестящей тканью цвета зеленого перца. Из кресла доктор Фарнейл пристально смотрела на нее, будто собиралась заключить в пробирку для опытов. «Ее глаза были зелеными», — отметила про себя Жени. Но светлее, чем обивка кушетки, бензольно-зелеными, решила она.
— Оригинальный выбор, — проговорила доктор. — Не так уж много женщин заканчивают хирургическое отделение. Чтобы получить образование хирурга, потребуется не менее шести лет, и только после этого вы сможете специализироваться в пластической хирургии.
— Я знаю, — ответила Жени.
Доктор Фарнейл сложила вместе кончики пальцев, как бы сооружая клетку:
— Зачем же вы выбираете наиболее трудное? Не кажется ли вам, что, учитывая желание преуспеть, поражение будет тем больнее?
— Что вы имеете в виду? — Жени ухватилась за подушку, на которой сидела.
— Задачи, которые вы ставите перед собой, так сложны, что почти невыполнимы. Кроме того, ремесло хирурга требует физической силы…
— Я сильная! — выпалив это, она почувствовала, что ее слова прозвучали, как детское хвастовство.
— В самом деле? — брови доктора Фарнейл изогнулись, отчего зеленые глаза глядели уже с удивлением. — Ваш отец был… или работает врачом?
— Нет.
— А кто-нибудь еще в семье? Дядя? Двоюродный брат?
— Нет.
— У вас есть братья или сестры, Евгения?
Доктор назвала ее по имени, и это вызвало раздражение Жени. Другие врачи, проводившие собеседование, называли ее мисс Сареева.
— У меня есть брат.
— Хорошо, — доктор Фарнейл кивнула, как будто только сейчас услышала от Жени удовлетворительный ответ. — У вас с ним что-то вроде соревнования?
— С братом? Разве это возможно?
— Вы и сами можете не отдавать себе в этом отчета. Он старше или моложе?
— Старше.
— Понятно, — она разорвала пальцы, превращая клетку в очки или галстук-бабочку. — Он окончил колледж?
— Он физик.
Глаза доктора Фарнейл сузились, как у кошки перед прыжком:
— А как вы охарактеризуете свои отношения с матерью?
— Я… я не знаю, — призналась Жени.
— Вы бы назвали ее женщиной сильной?
— Не знаю, — повторила Жени. — Может быть, в некоторых отношениях.
— В глазах отца вам хочется выглядеть сильнее, — вопрос был задан так, что выглядел гипотезой.
— Боюсь, — пробормотала Жени, — что не смогу вам ответить. Я уже давно не видела родителей.
— Я это знаю.
Кошка и мышь пришли на ум Жени. Все ответы заготовлены в папке, но мучить ее — доставляет доктору удовольствие. Взгляд зеленых глаз неотступно следил за ее лицом.
— А теперь скажите мне, дорогая, почему вы хотите стать хирургом?
— Чтобы лечить людей, восстанавливать…
— Так-так, — она слегка подалась вперед.
Жени развела руками. Больше она не могла ничего добавить.
— «Восстанавливать» — интересное слово для человека, потерявшего и дом, и семью. Не отражает ли оно — или, быть может, не маскирует ли оно — ваше желание восстановить с ними связь, объединиться с ними?
— Не знаю. Медициной я стала интересоваться уже давно. Мой отец искалечен.
— Да? — пальцы выпрямились, образуя прямо от ладоней доктора Фарнейл латинскую букву V.
— На войне. Я…
Врач ждала. Легкая улыбка играла на лице.
— Я не могу вам ответить! — в отчаянии Жени почти выкрикнула это. — Я хочу изучать медицину. Хочу стать хирургом. То, что я женщина, не имеет никакого отношения к профессии хирурга.
Доктор Фарнейл поднялась:
— Через несколько дней я, может быть, приглашу вас еще на одно собеседование. А пока я хочу, чтобы вы занялись самооценкой. Подумайте, что повлечет за собой такой выбор профессии. Например, отсутствие социальной жизни. Отсрочка, а возможно, и отказ от замужества и материнства. То, что вы женщина, и впрямь, как вы выразились, не имеет отношения к профессии врача, но зато профессия врача имеет непосредственное отношение к тому, что вы являетесь, а вернее — не являетесь женщиной. Подумайте немного об этом. Хорошо?
— Хорошо, доктор, — Жени была не в состоянии встретиться с глазами психиатра. Они заставляли ощущать себя глупой, незрелой.
Закрыв за собой дверь кабинета и выйдя в коридор, она заметила, что вся дрожит, и поняла, как была напряжена во время всего собеседования. Но дрожь продолжалась лишь мгновение и прошла, как мимолетный припадок. Жени направилась к выходу, просматривая надписи на доске объявлений: предложение интернатуры, перенос курсов. Станет ли она когда-нибудь здесь студенткой?
Отпечатанные на мимеографе листочки перечисляли восемь лекций в вечернее время, которые читали знаменитые выпускники школы. Она скользнула по названиям глазами и внезапно остановилась как вкопанная. Начиная с пятницы, целую неделю будет читать Эли Брандт: «Психохирургия — К вопросу об оценке справедливости требований пациентов пластических операций».
Жени улыбнулась. Фамилия ее наставника, здесь на стене, показалась ей добрым знаком. Когда она вышла из здания под серые колонны, у нее появилось чувство, что несмотря на последнее собеседование, осенью она станет студенткой Гарвардской медицинской школы.
16
Жени пришла на лекцию после угнетающе долгих лабораторных занятий. Эли только что кончил свое выступление, и аудитория зааплодировала, несколько человек встали, чтобы поговорить с ним в проходе. Жени осталась в последних рядах лекционного зала, не зная, что делать. Между их прогулкой по запятнанному солнечными зайчиками лесу в Топнотче и сегодняшним вечером стоял образ Лекс — бледной и осуждающей.
Лучше пусть сам заметит меня, решила Жени и повернулась, чтобы выйти. Но не устояла и бросила последний взгляд на него — воплощение того, каким должен быть пластический хирург.
Эли что-то серьезно рассказывал, а обступившие его студенты внимательно слушали.
Жени сделала несколько шагов вниз по проходу к подиуму и остановилась, наблюдая, как Эли собирал бумаги в папку и засовывал ее под мышку. Он уходил. Она направилась к нему и услышала его голос: он звал Жени. Она ускорила шаги. Студенты следовали за ним по проходу, но Эли обнял ее, прижимая к себе папкой:
— Жени! Рад тебя видеть! Есть время перекусить?
Она кивнула, вся светясь и тиская на груди книги.
Студенты отстали, и Эли с Жени вышли на улицу. Он провел ее к длинному, низкому «Феррари», светившемуся белизной под фонарем.
Поехали они в район порта, в «Устричный Союз» — ресторан, основанный еще в девятнадцатом столетии. Наверху за столиком Эли заказал для себя «Мартини» и вермут для Жени и попросил официанта принести вместе с напитками по дюжине моллюсков и устриц.
— Ты выглядишь хорошо, — сказал он с улыбкой.
— Вы тоже, — Жени чувствовала себя скованной.
— Я пытался тебе звонить…
Она уткнулась глазами в стол, комкая в ладони салфетку.
— Ты ни разу не ответила на мои звонки. Почему?
— Я боялась, — с трудом ответила Жени.
Врач взял ее руку, лежащую на коленях, и вместе со своей опустил на стол.
— Из-за Лекс?
Жени кивнула.
— Потому что подумала, что мы можем ей поверить?
Ее наклон головы был едва заметен.
— Жени, смотри на меня.
Она подняла глаза, секунду изучала его лицо, потом улыбнулась.
— Вот так-то лучше, — он отпустил ее руку, когда официант ставил на стол напитки и раковины. Потом поднял за ножку свой бокал, коснулся ее бокала. Она не спускала с Эли глаз. Он поставил бокал на стол, но пальцами продолжал водить по кромке скатерти.
— Жени, — начал он снова. — Лекс пережила ужасную травму — душевную и физическую. Была близка к смерти.
— Да, — Жени ощущала во рту кисловато-острый привкус вермута. — Так вы не поверили в то, что она рассказывала… о нас?
Эли покачал головой.
— А ее родители? А Пел? — настаивала она.
— И они тоже, — врач нахмурился. — Они должны были тебе это ясно показать.
— Они пытались.
Пел несколько месяцев звонил и писал письма. Мег тоже. И даже Филлип оставлял для меня сообщения. Но Жени не обращала на них внимания.
— Я не хотела… не могла с ними видеться.
— Понимаю. Но им тоже было непросто. Особенно Мег. Наверное, они не знали, как еще приободрить тебя, и не хотели больше навязываться.
Она удивленно посмотрела на него.
— Подумай, как трудно извиняться за своего ребенка, — продолжал Эли, — даже если признаешься самому себе, что дочь сошла с ума. Родители Лекс жили в постоянном ужасе, что это непоправимо.
Жени слушала его, и ей становилось стыдно. О них она и не подумала. О людях, которых считала, что любит. Не подумала об их горе и боли, через которые им пришлось пройти. Размышляя только о том, что они могут сказать о ней. По сравнению с чувствительным Эли она казалась себе бессердечной.
— Сейчас ей лучше, — говорил Эли. — Думаю, с ней будет все в порядке, и со временем она полностью поправится. Хотя внутренние раны лечить придется дольше, чем внешние.
— Спасибо, — произнесла Жени, понимая, какой великий он врач, — заглядывающий сквозь телесную оболочку в души и мысли своих пациентов. У него было чему поучиться.
Эли Бранд попросил меню.
— Тебя устроит тушеная рыба? Или как насчет омара?
— Все равно, — вырвалось у Жени, будто с радостным потоком, и они оба рассмеялись: она застенчиво, он от всей души.
Эли заказал и себе, и ей.
— Расскажи о своих планах на будущий год.
— Я поступаю в медицинскую школу.
— В Гарварде?
— Надеюсь, — она рассказала о собеседованиях, особенно о последнем с доктором Фарнейл. Жени еще не знала результата.
— Не беспокойся. Я много лет знаю доктора Фарнейл. Я ведь был ее студентом. За ее монументальной, словно здание, внешностью кроется…
— Кошка? — подсказала Жени, вспомнив о зеленых глазах психиатра.
Эли рассмеялся:
— Не совсем. Она проницательна, подвижна, превосходный преподаватель, если принять ее манеру, и кроме всего, она справедлива.
— Но ее вопросы показались мне просто невероятными, — и Жени пересказала их Эли.
— Не беспокойся, — снова успокоил ее доктор Брандт. — Она врач с чувством юмора, но умеет его, когда надо, скрывать. Она испытывала тебя на стойкость. Готов поспорить, что это так. Женщина, поступающая в медицинскую школу, должна быть вдвое увереннее в себе, чем мужчина. Это несправедливо. И со временем, я думаю, все изменится, А пока женщина, особенно красивая, должна быть готовой столкнуться с недоверием, раздражительностью, отталкиванием. Доктор Фарнейл, наверное, смотрела, как ты можешь справиться со стрессом.
— Надеюсь.
Бумажные салфетки были повязаны вокруг их шей, и перед ними водрузили омара. За тяжким трудом его разделывания — извлечения белой плоти из панциря и обсасывания ножек — они оставили серьезные разговоры и ели с шумной сосредоточенностью. Когда с едой было покончено и руки вымыты в полоскательнице, Эли сказал:
— С тех пор, как я сегодня встретил тебя, Жени, мне кажется, я помолодел лет на двадцать: стал таким, каким был когда-то в медицинской школе.
— А я почувствовала себя старше и мудрее, — ответила она.
— Я вижу, — отозвался врач. — Но это прозвучало бы еще убедительнее, если бы ты сняла свой слюнявчик.
Жени расхохоталась, и Эли подумал, что это был самый чистый и радостный смех, какой ему приходилось слышать за много лет. Он посмотрел ей в лицо. Полные раскрытые губы, раздувшиеся ноздри, светящиеся глаза, взлетевшие вверх брови, будто она удивлялась заставшему ее врасплох смеху.
Под его изучающим взглядом смех замер, превратился то ли в вопросительную, то ли удовлетворительную улыбку.
— Кофе? — спросил хирург.
— Если можно, чай.
Эли заказал.
— Ты дашь мне знать, что у тебя получится с медицинской школой?
— Вам первому, — Жени вновь пришло в голову, что присутствие Эли здесь, его вечерняя лекция — были добрым знаком.
— Когда я увижусь с Вандергриффами, можно мне рассказать о нашей встрече?
— Пожалуйста, — глаза ее обратились к чашке с чаем, которую принес официант.
— Пела в последнее время я вижу не часто, — врач внимательно смотрел на Жени. — Слишком занят в Государственном департаменте.
Она не знала, что ответить.
— Я считал, что ты и он… — Эли не докончил фразу, позволяя ей завершить за него.
— Пел — замечательный парень, — убежденно ответила Жени. Но она отвергла все его попытки связаться с ней — что он мог подумать? К тому же был Дэнни, хотя никогда и не мог послужить заменой Пелу. А теперь, чувствовала она, было слишком поздно что-либо исправлять.
Из ее слов Эли ничего не понял. Он заключил, что Мег скрыла, что Пел и Жени когда-нибудь поженятся. Хороший брак. Такой, как у него самого. Миллионы Алисы поддержали его, позволили обзавестись практикой вскоре после получения диплома, позволили заниматься исследованиями. Алиса была женщина добрая и великодушная — а он забыл ей позвонить, хотя и обещал сделать это после лекции. Эли моргнул. Он чувствовал, что это нечестно — забыть позвонить, заболтавшись с хорошенькой девушкой. Нечестно, но это все же случилось.
Когда он остановил машину перед общежитием, Жени перегнулась к нему и быстро поцеловала.
— Спасибо за все, — проговорила она и выскочила, скрывшись за дверью, прежде чем он успел ее обнять.
Она позвонила в его кабинет в Нью-Йорке, когда получила уведомление о том, что принята.
— Я знал, что тебя возьмут, — отозвался Эли. — Прими мои поздравления. Закончишь, я полагаю, с отличием?
— Наверное… да, — она услышала его одобрительное хмыкание.
— Восходящая звезда. Желаю тебе всего самого лучшего, Жени.
Она положила трубку на рычаг, испытывая чувство незавершенности. Хотелось слышать этот голос дольше, рассказать о своих планах на лето, заручиться его поддержкой. Но он прервал разговор, прежде чем она успела сообщить, что собирается летом снова работать в лаборатории Харви Дженсона, но уже как дипломированный лаборант. Жени хотелось, чтобы Эли стал соучастником ее достижений. Но он слишком занят, уверяла она себя, может быть, у него пациенты, ждали, пока он не закончит с ней говорить.
После выпуска из колледжа Жени сняла небольшую квартирку на лето. Меньше, чем в десяти минутах ходьбы от лаборатории — две комнаты на четвертом этаже, как у Дэнни, и прямо за углом от его дома.
Но на лето он не собирался оставаться в Кембридже. Перед отъездом в Янгстаун он позвонил ей и поздравил с поступлением в медицинскую школу и тут же сообщил, что его рассказ принят для публикации в журнале «Трансатлантическое ревю».
— Поздравляю, — в свою очередь сказала Жени.
— Да. Хорошо. Я скажу родителям, что ты передаешь им привет.
— Конечно. Скажи, что я их люблю.
— И Хаво.
— И его тоже. А как он?..
— Летом будем решать всей семьей. Если потребуется порекомендовать специалиста, я тебе позвоню.
— Хорошо.
— Если ты поступила в медицинскую школу, значит, осенью будешь здесь. Может быть, тогда выпьем по стаканчику вина?
— С удовольствием.
— С тобой все в порядке?
— Да, спасибо. Больше никаких инцидентов.
— Я рад. Ну, береги себя.
— И ты тоже.
Закончив разговор, Жени почувствовала опустошение. Дэнни, его семья — хорошие любящие люди. А Дэнни такой блестящий, такой… Нет смысла продолжать, оборвала она себя. Дэнни — закрытая глава, глава из ее лет в колледже. Все прошло, и с этим покончено.
Маленькая квартирка оказалась душной. Вентилятор на ножке не мог разогнать тяжелого воздуха, а открытое окно приносило с улицы шум и запахи с кухни напротив. Возвращаясь по вечерам, Жени приходила в ужас. Обычно после работы в лаборатории она направлялась в бассейн и плавала там не меньше сорока минут. Потом по дороге домой задерживалась где-нибудь перекусить. Чтобы заснуть, она старалась измотать себя и умственно, и физически. Но часто по ночам просыпалась уже через несколько часов и лежала в темноте, перебирая в голове планы и дела на предстоящий день.
В лаборатории одними и теми же экспериментами занимались параллельно несколько групп, используя одинаковые вещества и животных. Жени по-прежнему работала с крысами, хотя другие экспериментаторы ставили опыты над собаками, мышами, морскими свинками и обезьянами. Они изучали, как отзывается нервная система животных на вещества, вводимые внутрь. Заставляли их вдыхать. Доктор Дженсон объяснил, что целью исследований будет выявление компонентов, пагубно влияющих на организм во время анестезии.
В лаборатории Жени, как и другие, почти постоянно работала в маске, и все же бесцветные газы вызывали головокружение, а иногда и рвоту, и тогда лаборанты прерывали работу, чтобы выйти на свежий воздух. Систематизировать данные и даже просто хорошенько подумать оказывалось сложным в удушающей атмосфере лаборатории, но жесткие правила запрещали выносить записи из помещения даже на вечер. И Жени была вынуждена оставлять в запертой лаборатории схемы, таблицы с формулами и собственные записи на желтых листочках блокнота, полагаясь только на свою память. Только в голове она могла выстроить в ряд результаты. Бессонные ночи давали время для анализа дневной работы.
Для личной жизни не оставалось ни сил, ни времени. Она отвергала приглашения сотрудников лаборатории и своих однокурсников, которые после окончания колледжа остались в Бостоне. Слишком уставала. Ежедневное плавание в бассейне возрождало ее настолько, что вечером она была способна как следует поесть (мысль о еде во время работы вызывала лишь приступ тошноты), но после ужина ей хотелось только заснуть.
От усталости, решила она, у нее появилось чувство, что по дороге в лабораторию и домой за ней следят. Она останавливалась и резко оборачивалась, но не могла разглядеть возможного преследователя. Она уверяла себя, что все себе вообразила. К тому же, после того случая в студенческом городке, к ней больше никто не подходил. Кто бы ею ни интересовался, теперь он должен знать, что с тех пор, как Жени уехала из России, у нее не было весточки от отца.
Она говорила себе, что никто не следует за ней, кроме тени собственного воображения. Ее иммиграционные бумаги по-прежнему не были готовы. И хотя Бернард каждый раз уверял ее, что это лишь по причине безалаберных чиновников и что дело вскоре будет решено, Жени нервничала из-за своего неопределенного положения.
В конце июля ее позвали в лабораторию к телефону.
— Из Вашингтона, — сообщил, закрыв ладонью микрофон, лаборант и подал ей трубку. — Из Государственного департамента.
У нее перехватило дыхание.
— Алло?
— Привет, Жени, — это был Пел. Его голос звучал неуверенно, даже застенчиво. Он говорил по-деловому, сообщил, что завтра утром вылетает в Бостон и просил о встрече.
— Чудесно, — ответила она. Говорил ли с ним Эли? Или с его родителями, а те передали ему? Слышать его голос, даже такой официальный, было таким облегчением. Жени согласилась приехать в «Ритц-Карлтон», где он собирался остановиться сразу же после работы, а Пел сказал, что будет ее ждать, начиная с половины седьмого.
Жени улыбнулась. Она представила, как он моргает за стеклами своих очков. Может быть, не так уж и поздно восстановить их отношения. Кроме Лекс, он был самым ее близким другом, а она так долго не могла ни с кем поговорить.
Следующим утром Жени упаковала небольшой саквояж с туалетными принадлежностями, косметикой и сменой платья на вечер. После работы решила отправиться прямо в бассейн, поплавать меньше обычного и переодеться в раздевалке. Таким образом, к семи она окажется в городе.
По дороге в лабораторию у нее возникло привычное ощущение, что кто-то тенью следует за ней. Входная дверь оказалась открытой. Хотя прямой опасности это не представляло — опыты проводились в дальнем конце здания, — но представилось ей непростительной халатностью: приглашение зайти кому угодно.
Она закрыла за собой дверь и быстро пошла по коридору. Вокруг нее была лишь тишина. А где же все остальные? Страх подкрался к Жени. В этот час все уже собирались на работу, некоторые приступали к опытам.
Лаборатория казалась покинутой. Жени рванулась в ту часть, где в клетках содержались животные — в ушах отдавалось лишь эхо собственных шагов. Она побежала. И эта дверь оказалась широко распахнутой — комната совершенно пуста.
От волнения Жени задохнулась. Животные. Клетки. Она бросилась в соседнюю лабораторию. Тоже пусто. Разграблено. Ни шкафов с папками, ни слайдов, ни микроскопов, ни химикатов, ни мензурок, ни шприцов: все куда-то исчезло.
Она повернулась и побежала вон из здания. На улицу, к телефону-автомату. Дрожащими руками извлекла из кошелька монету и позвонила доктору Дженсону домой.
Сдавленным голосом он сказал, что ни на какие вопросы по телефону ответить не может. Жени повесила трубку и махнула рукой, подзывая такси.
Профессор как раз выходил из дверей, когда она подъехала к его дому. Она окликнула его, но он лишь ускорил шаг. Она побежала; продолжая звать его по имени, поравнялась, схватила за рукав.
— Постойте! Мне нужно с вами поговорить!
Он отвел глаза, стараясь стряхнуть с рукава ее руку. Он выглядел больным. Бледное лицо пожелтело.
— Лаборатория! Вы знаете?
Дженсон горестно кивнул.
— Что случилось?
— Закрыт. Наш проект закрыт.
Жени едва его расслышала. Профессор как будто бормотал про себя и по-прежнему не смотрел на нее.
— Что это значит? В этом нет никакого смысла. Разве это могло произойти так внезапно?
— Мне не следует разговаривать с вами.
— Профессор Дженсон, — напомнила она ему. — Вы наняли меня для работы. Второе лето я провожу в вашей лаборатории. Попытайтесь объяснить, в чем тут дело.
Наконец он посмотрел на нее, хотя в его глазах сквозил страх.
— Извините. Понимаю, что по отношению к вам это несправедливо. И ко мне тоже, — горько добавил он. — Потеряна работа и все ее результаты. Скажу вам вкратце. Вы ведь знаете, что нас финансировало правительство?
Жени кивнула и пожала плечами.
— Наши предложения по летней работе касались неврологических исследований, которые мы рассчитывали провести. Они были приняты, а бюджет не только одобрен, но и увеличен в пять раз по сравнению с тем, что мы запрашивали. Но только при условии, что мы примем встречные предложения финансирующего агентства. Если бы мы отказались, мы бы не получили вообще ничего и выполнение проекта оказалось бы отложенным.
Мы — то есть я согласился. Это означало расширение сферы наших опытов, включение в них нервно-паралитического газа и изучение его влияния на животных. Вы понимаете?
Жени не ответила.
— Чтобы снабдить их материалами по использованию его на людях, — он произнес это хриплым громким шепотом и зашагал прочь от Жени.
Секунду она ошеломленная стояла, потом бросилась вслед.
— Оставьте меня, — отшатнулся профессор. — Я прослежу, чтобы вам выплатили весь остаток по контракту.
— Что я такого сделала? Почему вы взъелись на меня?
— Чистка, — он остановился, и его плечи опустились, как у старика. — Моя вина. Я не принял мер предосторожности. Не проверил, решил, что у вас есть гражданство, — и поднял глаза. — Простите меня.
Потом двинулся дальше, и Жени позволила ему уйти. Глядя вслед, как он шел по улице, до нее стало доходить, что она была частью проекта, цель которого — калечить людей. И ее прогнали, потому что американское правительство ей не доверяло.
Жени была в ужасе. Она была напугана.
17
Пел ждал ее у лифта и наклонился, чтобы обнять. Он сжал ее так сильно, что на мгновение она задохнулась.
Отпустив, он посмотрел в ее лицо и обеспокоенно спросил:
— С тобой все в порядке, Жени? Ты так бледна. Что-нибудь случилось?
Жени позволила взять себя под руку, чтобы Пел отвел ее в безопасность своей комнаты. В коридоре она нервно поглядывала на окна. Из-за штор за нею могли подсматривать.
В номере по ее просьбе Пел закрыл дверь на ключ и снова ее обнял — на этот раз нежнее, потеревшись губами о волосы:
— Ты не больна?
Чтобы успокоить его, Жени натянуто улыбнулась:
— Просто устала, — и напугана, но об этом она не хотела пока говорить.
— Что-нибудь выпьешь? Поешь? — его веки трепетали.
— Выпить — это то, что мне сейчас как раз нужно. Побольше, похолоднее и со спиртом, — чтобы заглушить страх, подумала она про себя.
Пел заказал им «Тома Коллинза» с веточкой мяты. Кондиционер работал слишком сильно, и кожа Жени покрылась пупырышками, но это ее освежало. В такой комнате можно спать, не просыпаясь, подумала она. По крайней мере я могла бы так спать до сегодняшнего дня.
Пел пододвинул стул поближе к дивану и сел напротив Жени, подавшись на краешке вперед, как будто готовился, если потребуется, сразу подхватить ее.
Жени сделала глоток, потом еще несколько и только тогда поставила бокал на стол.
— Я рада, что ты позвонил, Пел. Не могу сказать, как рада.
Он быстро заморгал глазами:
— Я так часто пытался дозвониться до тебя…
— Знаю. Прости меня.
— Я все время думал о тебе. Я… Чем тебе помочь?
Она хотела держаться за него, ощутить вокруг себя защиту его крепких рук, выложить свои страхи, чтобы он по-братски успокоил ее.
Но Лекс все еще стояла между ними, даже и в этой комнате. Лекс и долгие месяцы — почти год, — когда Жени удалилась от него, от всех Вандергриффов. Нужно это уладить, прежде чем она снова сможет обращаться к нему. Она нуждалась в его помощи, чувствовала, что он единственный человек, которому можно доверять, но прежде, чем обременять его своим доверием, нужно, чтобы Пел поверил в нее.
Они сидели напротив друг друга и неловко молчали, каждый надеялся, что заговорит другой. Чтобы разрядить атмосферу, Жени стала задавать вопросы: о родителях, о новой работе, подводя разговор к теме Лекс — предмету, о котором они должны были поговорить месяцы назад.
— Постой, — прервал ее Пел. — Я вижу, у тебя что-то серьезно не так.
Очередной вопрос, который она намеревалась задать, выпал из головы. Подбородок затрясся. Пел коснулся его и приподнял к себе лицо Жени.
— Пожалуйста, верь мне.
Сначала ее голос срывался, но потом все вырвалось наружу: пустая лаборатория, рассказ профессора, ощущение, что за ней следят, которое переросло в уверенность, постоянно откладываемый вопрос о ее гражданстве, страхи за отца и за себя и наконец, сомнения в Бернарде.
По мере того, как Жени говорила, беспокойство все сильнее отражалось на его лице, но ни разу ее не перебил. Когда она закончила, Пел минуту помолчал, а потом произнес:
— Лучше бы ты раньше мне все это рассказала.
Жени поняла, что его слова не были упреком, просто выражали то, что Пел хотел сказать.
— Я пытался тебя предостеречь. Несколько раз. Но не мог к тебе пробиться. Даже телеграммой.
— Телеграммой? — она не получала ни одной. Иначе обязательно бы ответила. — Так ты обо всем об этом знал? — она посмотрела на него с недоверием.
— Нет. Я ничего не знал про лабораторию. Не знал даже, что ты там опять работаешь. Несколько месяцев назад, когда я пытался связаться с тобой, я хотел рассказать тебе о слухах…
— О слухах? — Жени выпрямилась на диване.
— Слухах, которые ходили в Госдепе. Сначала я услышал кое-что о Мерритте. Попытался доказать, но погряз, будто в болоте. Не мог найти никаких доказательств и опровергнуть тоже не мог. Пройдоха знает, как заметать следы. Я ему нисколько не верю, но прищучить не могу.
— А что это за слухи?
— Они уже приутихли, и мне не следует о них говорить. А тогда я хотел… защитить тебя, — Пел криво улыбнулся.
— Как?
— Рассчитывал взять под свою опеку и умчать прочь, — его улыбка стала шире. — Знаешь, как рыцарь в блеске вооружения.
Жени почувствовала прилив теплоты. Как и Лекс, он с юмором относился к себе.
— Наверное, я стремился найти что-нибудь такое, что бы вынудило тебя согласиться на мою опеку. Но ничего не выплывало наружу. Хотя ходили и другие слухи — о твоем отце.
Она стиснула ручки дивана, ее дыхание участилось.
— Из советских источников я выяснил, что в СССР считают, что твой отец написал или пишет воспоминания и они по частям или главами переправляются на Запад. Другими словами, в Москве полагают, что он возобновил связи с Западом и снабжает его секретной информацией.
— Но это невозможно! Просто безумие!
— Наверное, так и есть. Здесь удалось выяснить, что он все еще в ссылке и не имеет контактов с внешним миром. Во всяком случае, таких контактов никто не смог засечь.
— Тогда как же…
— Не знаю, Жени. Не мне объяснять тебе советский образ мыслей. Шарада внутри парадокса и все это заключено в загадку, как-то так объяснял это Черчилль. Дело в том, что Советы верят собственным россказням, как бы абсурдно они ни звучали. А поскольку Георгий Сареев занимал при Сталине ответственный пост, в Москве боятся, что он засветит сталинистов или бывших сталинистов, которые вернулись к власти и обладают влиянием в партии.
— Но разве это возможно? Я думала, Хрущев уже давно разоблачил Сталина.
— Разоблачил. Но и те, о ком мы говорим, отреклись от Сталина, заявили, что не имеют к его преступлениям никакого отношения, хотя многие были виноваты, по большей части принимая участие в чистках. И им нужно во что бы то ни стало прикрывать себя.
Жени огромными глазами смотрела на Пела:
— Налей мне еще.
Он поднялся и вновь наполнил бокалы. А когда подал Жени, она произнесла:
— Так вот почему за мной следят.
— Да.
— Они думают, что я связана с отцом, Пел, — ее вновь осенило. — Что с моей помощью он пересылает свои бумаги на Запад.
Пел мрачно кивнул:
— Это-то меня и пугает.
В девять официант вкатил в номер столик на двоих с хрустальными бокалами, сияющий серебром и цветами в перламутровой вазе. Он поднял серебряную крышку с блюда, и под ней показалась слабокопченая шотландская семга, под другим дымилось филе барашка.
Жени внезапно почувствовала голод. Они все высказали друг другу, а поделившись с Пелом своими тревогами, она ощутила облегчение, будто возвратилась домой, и в ней пробудился аппетит.
Официант подвинул ближе к столику серебряное ведерко с винами и открыл красное Марго, чтобы оно дышало, пока гости не приступят к барашку.
— Желаете что-нибудь еще, сэр?
— А малина?
— Вот здесь, сэр, — он указал на крупные ягоды и вазу со взбитым кремом. — А вот здесь кофе.
— Тогда все, спасибо, — Пел вложил банкноту в руку уходящему официанту.
Отведав семги с хлебом, Жени вдруг поразилась серьезному выражению лица Пела. За эти годы он возмужал. Солидный, вдумчивый мужчина и к тому же — добрый. В двадцать шесть лет его лицо не казалось юношеским. И Жени представила его через двадцать лет: с глубокими морщинами, поредевшими волосами — лицо, с которым можно жить, которому можно доверять.
— Восхитительно, — произнесла она.
— Ну и славно, — он посмотрел так, как будто ее похвала стала для него подарком. — Я очень надеялся, что тебе понравится.
— Последний ужин?
— Конечно же, нет… — он положил хлеб на стол и прокашлялся. — Жени, знаешь что… Вот что я хочу тебе сказать…
Внезапно он стал совсем мальчишкой — застенчивым и косноязычным, обуреваемым вопросом, который не решался задать. Он уставился в тарелку, потом посмотрел на нее и наконец пробормотал:
— Выходи за меня замуж.
Жени поднялась со стула, подошла к Пелу и положила руки ему на плечи. Он обнял ее за талию, прижался головой к животу и затаил дыхание.
— Спасибо, — проговорила Жени. — Спасибо, мой защитник.
Он поднял глаза:
— Я хотел сказать… Думал тебе помочь. Твое гражданство…
— Да, — она мягко отстранилась. — Но не надо. Не надо во имя удобства.
— Я тебя люблю!
— Знаю, — Жени медленно пошла к своему стулу.
Все «за» и «против» брака с ним вертелись в ее голове. Она окажется в безопасности, станет гражданкой США, будет богатой. Но как сложится их совместная жизнь? Впереди у нее годы обучения в медицинской школе Гарварда. А Пел живет в Вашингтоне. Ему нужна жена рядом, а не в другом городе, жена, ведущая собственную жизнь. Она же не способна оставить мысль стать хирургом, даже ради человека, которого любит. Это она понимала, и это было настоящей проблемой Она глубоко любила Пела, как друга, как брата, но в двадцать лет такой любви ей недостаточно. На мгновение она припомнила, что ее тело ощущало во время близости с Дэнни. Тогда она сказала «нет» и теперь должна была повторить отказ, но по другим причинам. Но вместо этого Жени сказала:
— Позволь мне сначала выбраться из этой заварухи.
— Тогда я советую тебе на время уехать из города. Поедешь со мной в Вашингтон, если я пообещаю тебе не настаивать?
— Я поеду в Нью-Йорк, — ответила она с виноватой улыбкой.
— Милости прошу в нашу квартиру; я уверен, родители будут рады, если ты у них остановишься.
Жени испытующе поглядела на него, стараясь понять, думал ли он то, о чем говорил. И почувствовала, что он так и считал.
— Большую часть времени она будет в твоем распоряжении, — продолжал Пел. — Мег и Филлип уже несколько недель в Дайамонд Рок, и в Нью-Йорке Филлип бывает наездами на день или на два. А Лекс, кажется, постоянно находится в Топнотче.
— С ней все в порядке? — у Жени перехватило дыхание.
— Одиночество — это то, что ей теперь нужно. Ей многое надо осмыслить. Я и хотел бы ей помочь, но знаю, ей необходимо справиться самой. Она всегда считала себя изгоем.
— А ты об этом знал? Даже до?..
Пел кивнул.
— Когда она училась в шестом классе, я ей говорил, ничего нет страшного в том, что ты отличаешься от других людей. Главное принимать себя такой, какая ты есть, а не размышлять над тем, что о тебе думают другие. Но Лекс была слишком категоричной, — гордая улыбка за свою сестру промелькнула на его лице. — Она видела меня насквозь. Если уж так здорово отличаться от других, говорила она, почему же все остальные одинаковы? Тогда я еще был самоуверенным подростком и не знал, что все люди разные.
— А теперь знаешь?
— Все еще пытаюсь это понять.
Его открытость тронула Жени.
— Вы ведь всегда были очень близки. Ты и Лекс? — ее вопрос наполовину прозвучал как утверждение. — У вас по-прежнему так? — Жени напряженно ждала. Свой вопрос она задала специально.
Пел покачал головой:
— Со времени несчастного случая все стало не так. По крайней мере я чувствую совершенно иначе.
— Она что-нибудь о нас рассказывала? — продолжала допытываться Жени. — О наших отношениях?
— Да, — Пел поколебался. — Ужасные вещи. Невозможно поверить.
— Она говорила только тебе? — Жени принудила себя задать вопрос.
— Нет. Родителям тоже. И Эли Брандту.
— А они… Они тоже полагают, что в это нельзя поверить?
— Уверен. Ты, наверное, не сможешь простить. Когда я звонил вчера, то боялся, что ты не захочешь меня видеть.
— Вчера? — она внезапно потеряла чувство времени. — Я была в ужасе, Пел, что ты можешь обо мне подумать.
— Жени! — нотки искреннего потрясения зазвучали в голосе. — Как ты могла подумать, что я способен в такое поверить?.. — Он покачал головой и положил салфетку на стол. — Знаешь ведь, что ты для меня значишь, — Пел потянулся через стол, чтобы взять ее за руку, и задел бокал, но Жени успела подхватить, прежде чем тот перевернулся.
— Но Лекс — твоя сестра, — она сжала руку Пела. — Лекс нам никогда не простит.
— Если мы поженимся, — докончил он за нее. — Но я уверен, она изменится. Будет снова такой, как прежде.
Но даже прежняя Лекс, вспомнила Жени, в душе не хотела ее брака с Пелом.
За беседой они не спеша доели ужин, а когда покончили с малиной и кофе, было уже без четверти одиннадцать.
— Коньяк, — предложил Пел. — Или ликер?
— Уже поздно. Надо возвращаться.
— Зачем? — спросил он.
И Жени поняла, что причин возвращаться не было. Работы больше не существовало, рано вставать ни к чему. А возращение в одинокую квартиру навевало ужас.
— Можешь остаться здесь.
— Здесь? В гостиной?
— Или в спальне. Что сама предпочтешь, — Пел поднялся и выкатил столик в коридор, вернувшись, повертел два раза ключ и запер дверь на щеколду.
Жени стояла у дивана. В три широких шага он оказался рядом с ней, погладил талию.
— Оставайся, Жени. Оставайся со мной.
Она подняла глаза, и Пел понял ответ. Его губы прильнули к ее с такой силой, что зубы ободрали кожу.
— Жени, любимая, — он приподнял ее от пола на фут. — Останься со мной.
Она рассмеялась, когда он поставил ее снова на пол, и поняла, что смех принят за согласие. Но не испытывала ни возбуждения, ни бурления чувств, уносящих прочь.
Пел бы высоким. По крайней мере на полфута выше нее. А с Дэнни они были одного роста.
Она попыталась забыть. Убеждала себя, что Пел — добрейший в мире мужчина, самый дорогой друг и она ни за что его не обидит. Он лучший из мужчин и по-настоящему ее любит.
С Дэнни они горели в одном огне, безжалостно поглощали друг друга.
Но Пел дал ей гораздо больше и предлагал все.
Жени прошла с ним в спальню и, сидя на постели, смотрела, как он в спешке снимал, почти срывал с себя одежду. Потом подошел, чтобы раздеть ее, руки едва слушались его.
Она помогла ему. Обнаженный он выглядел тоньше — тело вытянутое, по-мальчишески узкая грудь, впалые ягодицы, ноги слегка искривлены, бедра длиннее голени. Лишь выше плеч он казался зрелым мужчиной. А тело было телом подростка.
Лишившись одежды, Жени сразу забралась в постель и натянула на себя простыни и легкое покрывало. Пел лег рядом. Кожа на его груди оказалась гладкой, без волос.
— Любимая, — прошептал он, прижимая девушку к себе. — Любимая, наконец.
Как мальчишка, подумала Жени. Через несколько минут все было конечно. Нетерпение Пела тронуло ее, но их любовь напомнила спаривание мотыльков, биологический акт.
Но в свете ночника Жени видела, как счастливо улыбался Пел. Большие ладони ласкали ее волосы.
— Жени, дорогая, — бормотал он. И, прижав ее к себе, уснул.
Дважды за ночь они просыпались и любили друг друга, и опять, как и в первый раз. Утром, вглядываясь в ее лицо, Пел весь светился.
Они позавтракали в гостиной. Потом Пел поехал с ней на такси в ее квартиру. Он дал ей все свои телефоны — дома в Вашингтоне, и кабинета в Государственном департаменте, три других, где для него можно оставлять сообщения. И сказал, что хочет быть уверенным, что она дозвонится в любое время дня и ночи.
Он предложил отменить все свои дела, чтобы помочь ей собраться и ехать вместе в Нью-Йорк. Когда же она отказалась, захотел наняться телохранителем.
— Обойдемся, Пел. Мне не сделают ничего плохого. Ведь охотятся за рукописью, а не за мной.
Наконец он ушел, чуть не до синяков зацеловав ее губы и вырвав обещание звонить ему тем же вечером.
Когда через три дня Жени приехала домой, она поднялась прямо в Сонину комнату. По телефону Бернард сообщил ей, что Соне «нездоровится», вернее, она «больна». «Насколько серьезно?» — спросила Жени. И прямой ответ заставил ее остолбенеть — «Рак».
Григорий впустил ее в комнату. Он внезапно постарел, глаза от недосыпания ввалились, руки дрожали.
Соня лежала на кровати с закрытыми глазами, кожа пожелтела и стала восковой, руки сложены на одеяле, как будто она позировала для предсмертной фотографии. Лоб казался неестественно высоким.
«Волосы… — в ужасе подумала Жени. — Волосы выпали. Она облысела».
— Соня, — позвала она.
Веки женщины дрогнули, словно преодолевали незримый вес, заставлявший закрывать глаза. Наконец ей удалось взглянуть на Жени.
— Женечка, — голос был едва различим. Соня попыталась улыбнуться, уголки губ дернулись, как в конвульсии.
Женя присела рядом:
— Ответь мне, Соня. Где это?
Женщина свесила руку с кровати:
— Везде, Женечка. Из утробы по всему телу. Даже во рту. На деснах.
Так быстро. Женя не могла поверить, что смертельный удар нанесен так внезапно. В костях, пояснил Бернард. Но как раковые клетки сумели размножится в таком количестве, посылая все новые и новые легионы на завоевание Сониного тела?
— Как скоро? — спросила Жени.
— Молись, чтобы побыстрее.
— А давно это у тебя?
— Несколько недель. Не хотелось тебя тревожить. Что ты можешь сделать?
— Слишком уж быстро, — возразила Жени, как будто собиралась переспорить рак, урезонить его и прогнать.
— Несколько лет назад… — ее голос ослаб, глаза закрылись.
— Я тебя слушаю, Соня.
Женщина приподняла веки и собралась с силами.
— Еще до того, как ты приехала, я заболела раком. Доктор дал мне таблеток, и все шло нормально.
— Ремиссия? — спросила Жени, но Соня не знала этого слова.
— А в начале лета все и случилось. Стала уставать ходить, сжигала обеды. Устала. И эта боль… — ее глаза снова закрылись. Жени молчала, сжимая Сонину руку, и глядела, как ее лицо погружается в сон.
Потом тихо поднялась, осторожно положила Сонину руку на покрывало на грудь и прошла мимо Григория, который сидел на стуле, уперевшись перед собой невидящим взглядом.
В своей комнате наверху она принялась распаковывать вещи, и в этот миг ее чувство беспомощности переросло в ярость. Почему ей не сообщили раньше? Она бы тут же прилетела. Ведь Соня была членом ее семьи.
Но что она могла сделать, чтобы облегчить Сонину боль или приостановить размножение клеток? Медицина находится еще в младенческом возрасте, думала она, с треском захлопывая дверцу шкафа. Соня умирает, телом овладевает болезнь, с которой доктора не в силах бороться.
Смерть — Голиаф по сравнению с Давидом медицины, которая борется с ней несовершенными инструментами, противопоставляя разрушительным силам скудные знания. Как ей удастся стать врачом, размышляла Жени, когда она не может спасти даже Соню?
Ближе к вечеру Жени вновь зашла в ее комнату. Соне сделалось намного лучше. Она почти преобразилась, сидела, оперевшись на подушки, глаза отдохнувшие, стала задавать Жени вопросы о Кембридже. Пока они говорили, отпивала чай и прикусывала сладким пирожным.
— Вот так все время, — объяснила она. — Иногда ничего, иногда — худо. Иногда мне кажется, Бог меня хранит и проведет через все.
В голове Жени возник образ марионетки на веревочке.
— Когда мне худо, Жени, я становлюсь эгоистичной и думаю только о том, как мне хочется умереть. А когда легчает, мне хочется жить. Снова хочу для тебя готовить, посмотреть, как ты вырастешь, сделаешься старше, станешь врачом. И может быть, — прибавила она со смешком, еще понянчить твоих детей.
— Понянчить, если они у меня будут, но сперва надо поправиться.
Соня по-прежнему улыбалась.
— Да, не надо думать о плохом. Ты здесь, моя сладкая. И все будет хорошо.
Жени подождала, пока Соня не кончит пить чай с пирожным, и пообещала заглянуть позже вечером, когда вернется с ужина.
— Приятного тебе вечера с опекуном, — пожелала Соня. — Поговорите о твоей жизни и об учебе. Только не говорите обо мне.
Жени поцеловала ее в лоб и вышла из комнаты, чувствуя, что перемена в Соне была словно пропуск на встречу с собственным будущим.
Ужин в «Кво Вадис» за круглым столиком, рассчитанный по крайней мере на четверых, был скованным. Бернард вытягивал из нее все новые подробности о внезапном закрытии лаборатории Дженсона, но она сообщила лишь о том, как утром нашла лабораторию закрытой, и о том, что профессор сказал, что она не прошла проверки, необходимой для работы над его проектом.
Бернард неодобрительно прищелкнул языком:
— Хорошо, что ты приехала домой. Здесь я смогу за тобой приглядеть.
О Пеле Жени не сказала ничего: ни то, что они встречались в Бостоне, ни то, что он сообщил ей об отце.
— Не могу вообразить, почему так тянут с моим гражданством. А вы? — спросила она.
Жени показалось, что Бернард отвел глаза.
— Волокита, я же говорил, — ответил он уж слишком оживленно, и Жени не показала вида, что удивлена.
Два официанта и метрдотель находились рядом, готовые внять любому слову Бернарда. Изучающе глядя на него поверх меню, Жени осознала, как мало она его знает. Его глубочайшим интересом был бизнес, сильнейшей страстью — коллекционирование. Но был ли он способен на верность, на любовь? Или все это для него было чем-то случайным, вроде приправы к блюду?
Они сделали заказ, и, демонстрируя почтение, официанты удалились.
— Соня ужасно больна, — начала Жени, несмотря на Сонин наказ не говорить о ней.
— Боюсь, что так. Ремиссия продолжалась более восьми лет. Нужно быть благодарным и за это.
— А почему вы мне не сказали?
Бернард пожал плечами:
— Какой был смысл. И Соня не велела. Надо уважать желания людей, Жени.
Уважение — хорошая вещь, подумала она, но присутствует ли в нем любовь. А если бы она сама смертельно заболела, уважил бы ее Бернард и оставил в покое?
— Я нанял для Сони круглосуточных сиделок, но она не хочет, чтобы они находились в комнате. Суеверие. Зовет их «ангелами смерти». И все-таки сиделка постоянно в доме. На всякий случай.
— Вы очень к ней добры, — пробормотала Жени. В конце концов, что еще он мог сделать. А если не испытывал такую же глубокую любовь, как другие люди, то заменял ее своей рассудительностью.
— Теперь о другом…
Углубившаяся в свои мысли, Жени вопросительно посмотрела на него.
— Насчет твоего гражданства. Не хочу тебя пугать, но, наверное, тебе следует знать, что вокруг твоего отца поднялась шумиха.
— Знаю.
— Да? — Бернард выглядел озадаченным.
— Слухи о том, что он пишет воспоминания и переправляет их на Запад. За мной следят, Бернард. По крайней мере следили в Кембридже.
— От кого ты об этом узнала? — Жени не ответила, и Бернард на мгновение задумался, потом выпалил имя. — Вандергрифф! Ты ведь с ним виделась?
— Он хочет на мне жениться.
— Готов поспорить, что хочет. Но ведь он прекрасно знает, что я никогда не дам разрешения.
Жени положила вилку на стол. Разрешения? Она никогда об этом не задумывалась. А, он оказывается, считал ее чем-то вроде своей собственности.
— Мне пришла в голову идея получше, — он сказал это таким тоном, как будто мысль действительно только что возникла в его голове. — Выходи замуж за меня.
— За вас?!
— А почему бы и нет? Мы симпатичны друг другу, и у нас много общего, Жени. А в качестве моей супруги ты будешь пользоваться моей защитой. В тот самый миг, как станешь миссис Мерритт, обретешь гражданство и будешь моей единственной наследницей.
— Предложение, против которого устоять невозможно, — саркастически произнесла Жени. Она была потрясена, подавлена и напугана его скрытой угрозой, что сможет стать американкой лишь в том случае, если выйдет за него замуж.
— Ты ведь мне кое-чем обязана, — напомнил ей Бернард.
Жени силилась подыскать ответ. Его претензии были неоспоримы. Он проследил, чтобы она получила лучшее образование. Выводил в высший свет. Спас из заточения в советском государстве. И подчинил себе, сделал своей вещью, рабыней, распоряжался ее жизнью и смертью. Широко улыбаясь, он внимательно смотрел на нее. Наконец Жени заставила себя заговорить.
— Вы сказали, что мы очень похожи. Это значит, что я должна иметь свободу идти своим путем.
— Может быть, вскоре тебе еще придется об этом задуматься, — произнес Бернард хриплым голосом. — А пока в моем доме ты будешь до конца лета в безопасности. Здесь за тобой никто следить не будет.
— А когда лето подойдет к концу? — спросила она со страхом.
— Тогда, я надеюсь, ты рассмотришь мое предложение.
18
На следующий день, в воскресенье, Бернард отправился в деловую поездку в Восточную Европу, а потом в Азию. Во время своего отсутствия, до конца лета, хозяйкой дома он оставил Жени.
Перед ней простирались пять недель: день за днем ей придется терять время в городе, ей, привыкшей выгадывать каждую минуту для работы и занятий.
Далеко внизу люди на улице изнывали от летней жары. А на верхнем этаже в ледяной спальне вся в поту лежала Соня, уставшая бороться за жизнь.
Бернард уехал, но Жени не ощутила облегчения. Она была привязана к Соне, ее тяготили заботы по дому, заботы о владениях своего опекуна.
Воскресенье казалось нескончаемым. Несколько раз Жени заходила к Соне, проходя через душные комнаты, где стояли и лежали экспонаты неприкосновенных коллекций. Она вспоминала детство в собственном доме: шумную гостиную, потрескивающий камин, перед которым она сидела на ковре из Ташкента и смотрела на пламя. Все, чем владел Сареев, дало государство или подарили друзья. Потертая бархатная обивка на мебели, выгоревшие шторы — это досталось еще от прежних жильцов, которые обитали в доме много лет назад, еще до революции. Кто там жил? Может быть, в той же самой кровати спал другой ребенок и во сне также грезил о будущем?
На полке стояла серебряная пепельница, которую отец подарил Бернарду. Американец ее никогда не использовал. И теперь, взяв пепельницу в руки, Жени внезапно почувствовала острую обиду: опекун выставлял ее в коллекции не потому, что пепельница была подарком друга, а потому, что представляла какую-то ценность. Маленькое предательство Георгия. Ей захотелось утешить отца, сказать, что Бернард сделал все, что мог, а то, что он был лишен чувств, было так же непоколебимо, как небо над головой.
Жени вернула пепельницу на прежнее место. Словно принцесса, она на все лето оказалась заключенной в башне. Наверху спала Соня, а здесь безжизненные комнаты хранили свои сокровища. Не в башне, поправила себя Жени. Она замурована в могиле — роскошной, но мертвой.
Вечером позвонил Пел и уговаривал ее приехать в Вашингтон. Ее так и подмывало вылететь туда, но она знала, что нужна Соне, и самой ей общество Сони было важнее общения с Пелом.
— Я перезвоню тебе завтра утром, — пообещала она. — И запомни, если захочешь поговорить, я всегда дома.
В понедельник с утра раздался звонок от Эли Брандта. От Вандергриффов он узнал, что Жени уехала в Нью-Йорк, после того как ее лаборатория внезапно закрылась.
Она приняла его соболезнования, надеясь, что врач опять пригласит ее на ланч или на обед. Жени не терпелось выбраться из квартиры, а встретиться с Эли означало окунуться в привычный мир.
— Ты будешь свободна сегодня попозже? Хочу тебя кое о чем спросить. Сможешь подойти ко мне в кабинет к половине шестого или к шести? К тому времени я освобожусь.
До четырех Жени отмокала в теплой ванне, выбранная ею одежда была разложена на кровати. Она долго расчесывала волосы, припудривалась тальком, делала прическу, подкрашивалась.
В пять тридцать она уже сидела в приемной Эли Брандта на Парк-авеню, пролистывая журналы, наполненные модой, кулинарными рецептами, советами огородникам, садоводам, владельцам домашних животных и страдалицам от несчастной любви. Жени никогда не заглядывала в такие журналы и теперь недоумевала, на кого они были рассчитаны. На таких, как Роза Борден, размышляла она, но сколько таких может быть в стране? Миллионы, ответила себе Жени — безликих граждан Америки, которые составляют нацию и, быть может, входят в правительство, которое ей так не доверяет.
Секретарша сдвинула в сторону стопку бумаг и достала сумочку из нижнего ящика стола.
— Время уходить, — объяснила она Жени. — Доктор Брандт долго не задержится.
Секретарша вышла из приемной, а Жени продолжала ждать. Шесть часов. Она вернула безвкусные журналы на полку и стала гадать, что хотел сказать ей Эли и почему он не мог этого сделать по телефону.
Через пятнадцать минут доктор Брандт вышел из кабинета, легонько ее обнял и пригласил к себе.
— Извини, что опоздал. Но со мной всегда так. Какое бы время я не назначал, оно оказывается желаемым, а не действительным.
Он усадил ее на стул. Теперь они оказались наедине в его кабинете, внутри огромного здания, закрывшегося после окончания рабочего дня. Зачем он ее позвал? Спросить что-нибудь о Лекс? Или поговорить о ее карьере? Поужинают ли они вместе?
— Надеялся, что у тебя найдется время что-нибудь выпить со мной. Но как всегда выбился из графика. У меня назначена в городе встреча, — Эли взглянул на часы, — через полчаса.
Жени постаралась не показать, что разочарована. Легкий летний пиджак выделял его загар. Волосы испещрило солнце, как ту дорожку, по которой они когда-то шли. Откинувшись в кожаном кресле, он улыбнулся ей, и вновь показался сказочным персонажем.
— Жаль, что Дженсону пришлось закрыть лабораторию. Хотя все сложилось удачно. Как раз вовремя.
— Что вы имеете в виду?
Его улыбка стала еще шире:
— Хочешь поработать с пластическим хирургом остаток лета?
— Эли! — его имя служило магическим пропуском в заветные врата.
— Место внезапно освободилось. Если хочешь, работа будет твоей.
«Об этом я мечтала больше всего на свете», — подумала Жени и ответила:
— Да.
— Завтра утром. Приходи к девяти, — он подал ей карточку.
— Как мне вас благодарить?
— Подумаем об этом позже, — Эли поднялся. — А пока продолжай оправдывать мои ожидания.
Жени тоже встала и подала руку. Она поклялась, глядя в золотистые глаза хирурга, что заставит его гордиться собой.
— Извини, что бегу. В следующий раз обязательно поужинаем вместе, — и он крепко пожал ей руку.
Дома она прошла прямо к Соне — слабой, но не страдающей от боли. Женщина была рада услышать, что Жени снова будет работать.
— Это у тебя в крови, — проговорила она. — Беспокойная, как птица, не можешь усидеть на месте.
— Я каждый день буду с тобой, — пообещала Жени.
Соня рассеянно улыбнулась.
— Заходи завтра утром. Хочу пожелать тебе удачи.
В десять, когда она была уже в постели, позвонил Пел. Жени не могла дождаться следующего утра. Пел поздравил ее с новой работой.
Она поблагодарила и предложила заглянуть на выходные.
— Значит, ты не приедешь ко мне, — его голос прозвучал расстроенно.
— Думаю, не получится, — Эли изменил все ее планы на лето и, кладя трубку на рычаг, она подумала, как ей повезло. Поездка к Пелу укрепила бы его надежды, что по отношению к нему было бы нечестным.
В восемь Соня все еще спала, и Жени решила ее не беспокоить. Она передала через Григория, что понесет на работу добрые пожелания Сони, а когда вечером вернется, то обо всем расскажет.
Выйдя из дома и повернув направо, Жени взглянула на карточку, которую накануне дал ей Эли. Она не поверила глазам. Она была так уверена… Даже сказала об этом Пелу… Какая глупость. Жени горько покачала головой. Конечно же. Зачем бы он дал ей визитку, если бы надо было приходить в тот же самый кабинет?
Адрес был тоже на Парк-авеню, но номер дома больше. Почему она подумала, что будет работать с Эли?
Доктору Вилльяму Ортону было пятьдесят четыре, хотя дать ему можно было на десять лет больше. Невероятно высокий — выше чем Пел, — он носил копну седых волос, которые нерасчесанным ореолом светились вокруг лица. Акцент выдавал в нем уроженца Новой Англии, а речь сводилась лишь к самому необходимому.
Сдержанность распространялась и на жесты и на выражение лица. У врача не хватало времени на улыбку.
— Премного обязан, что пришли. Доктор Брандт мне вас очень рекомендовал. Мисс Эванс вам все покажет. Это моя сестра. Доброго вам утра, — врач внезапно вышел, оставив Жени в кабинете одну.
Кругом по стенам располагались книги в кожаных переплетах, мебель была обита кожей. Все, что не было кожей в кабинете доктора Ортона, было деревом или бумагой. Бумаги разбросаны по столу: некоторые вот-вот свалятся на пол. Решается ли кто-нибудь к ним прикоснуться, подумала Жени.
В рамках на одной из стен висели дипломы, грамоты и награды. Доктор медицины, 1939 год, Йейл. Благодарность Конгресса за безупречную службу армейским врачом в 1941–1945 годах. Почетная медаль Конгресса. Членство в Лиге пластических хирургов США, еще награда, свидетельство об избрании президентом…
— Вот это человек! — произнесла сестра, подходя сзади к Жени. — Тут нет и половины. Дипломов и наград у него хватит, чтобы оклеить лекционный зал. Я Джилл Эванс. А вы Жени? — они пожали друг другу руки.
Джилл Эванс оказалась женщиной лет тридцати пяти с преждевременной сединой в волосах и расплывшимся, но чистым и сияющим лицом, которое оживляла лишь такая же, как у Жени, коралловая помада.
— Рада, что будете работать у нас. Последние дни здесь был прямо сумасшедший дом. Хотя у нас так всегда. Вы уже, наверное, подметили, доктора ценят больше жизни, — ее речь была такой же быстрой, как и у ее шефа, но отнюдь не такой монотонной. Слова вылетали одно за другим, каждое быстрее предыдущего, и их цепочка прерывалась лишь звоном ее легкого смеха. — Он работает за троих. Больные глядят на него как на бога.
Жени кивнула. Огромная фигура с гривой белых волос, темно-синие глаза, морщинистое лицо — Жени таким и представляла бога.
— А мы здесь ангелы. Пошли, я вам все покажу, — она повела Жени, шагая для своего роста необыкновенно широко. И говорила безостановочно, показывая, где расположены выключатели, карточки больных, шкафы с инструментами, комната для осмотра, небольшая лаборатория. — Джоанна, регистратор, попала в автомобильную катастрофу. В пятницу. А Марго не может оставаться здесь целый день. Ее муж, чтоб он свалился с горы в пруд с крокодилами, сбежал, оставив ее с тремя детьми. Они постоянно заражают друг друга простудой, воспалением ушей и сыпью. Просто не знаю, как она с ними справляется. И вот наш дурдом стал совсем сумасшедшим, — весело повторила она. — Вы станете В.П. — Всемогущим Помощником.Гением в этом кабинете врача. У вас подходящее имя для этой работы.
Жени была уверена, что ей понравится работать с доктором Ортоном. Эли вытащил ее из апатии, снабдил интересным и познавательным делом, о котором она только могла мечтать.
— Здесь фотографии, сделанные до и после. Мы посылаем пациентов в ателье, хотя в ближайшее время собираемся расширить помещение и обзавестись собственным фотографом, — Джилл, казалось, наугад вытащила несколько папок. Мальчик лет пяти смотрел с карточки испуганными глазами. У Него недоставало нижней части лица, там, где должна быть челюсть.
— А вот через четыре месяца после операции, — Джилл подала другую фотографию. Челюсть восстановлена, но все еще видны глубокие шрамы. На третьей карточке, снятой через год, мальчик выглядел совсем нормальным.
Другая серия изображала женщину средних лет с тяжелым подбородком. Ее нос словно специально вытянули, а кончик загнули так, что он почти касался губы.
— Это Тереза, — объяснила Джилл. — Невероятно, правда? — Следующая фотография, казалось, запечатлела другую женщину. Приятный нос — немаленький, но слегка курносый, гладкий подбородок и шея. Как будто симпатичная дочь той, первой.
— Трудно поверить, — согласилась Жени.
— Доктор оперировал Терезу прямо здесь, в кабинете. Он поступает так не часто. Но у Терезы возникли проблемы с больницей. Страховка не предусматривала оплату больничной палаты или что-то в этом роде. Обычно по утрам доктор оперирует в больнице, а здесь принимает после обеда три раза в неделю. Сегодня исключение. Он отменил прием. Делает подтяжку лица. Пациенту не терпится. Какой-то пятидесятивосьмилетний мистер Мейерс боится потерять работу. Но такое впечатление, что он боится всего. Поэтому ему, наверное, и грозит потеря работы.
— Только три вечера в неделю? — это было похоже на работу с прохладцей, а не на труд за троих, как сказала Джилл.
— Как правило, да, а в остальное время он бывает в Маунт Зион у детей Хиросимы.
— А кто они такие?
— Вы не слышали о детях Хиросимы? Нет? Это молодые женщины, выжившие после атомного взрыва. В то время многие из них были еще детьми или подростками. Их не убило, но радиация оказала серьезное воздействие. Очень серьезное. И многих привезли сюда на лечение. Доктор Ортон включен в команду, которая с ними работает.
— С детьми?
— Нет, с женщинами. Но у нескольких появились дети. Матерей восстанавливают — возрождают их черты, их облик, но их хромосомы серьезно повреждены. Одни из них не могли забеременеть, другие выкинули. Но кое-кто доносил до положенного срока, и родились увечные дети.
Жени вспомнила Синди и представила себе комнату, наполненную десятками и сотнями Синди.
— Они здесь, в Маунт Зион?
Джилл кивнула.
— Но не все от женщин, приехавших в Штаты на лечение. Многих до сих пор обнаруживают в Японии и посылают сюда. В прошлые выходные поступила маленькая девочка.
— И какой у них возраст?
— Старшему — четырнадцать, младшему два. Некоторых после рождения оперировали несколько раз. У других — увечья нельзя оперировать сразу — нужно дождаться, пока ребенок подрастет, станет больше. А рост делает изъяны еще серьезнее.
— Я должна их увидеть! — воскликнула с чувством Жени.
Джилл пристально посмотрела на нее.
— Почему вам этого хочется?
— Война принесла горе и в мою семью. Искалечила отца, — Жени не могла объяснить подробнее. — Мне это нужно, — просто сказала она.
— Вам придется попросить доктора Ортона. Может быть, он и возьмет вас с собой, — Джилл кивнула, как бы прервала разговор. — Экскурсия закончена. Не хотите начать с разборки лекарств? Там черт знает что творится.
— Конечно, — ответила Жени.
Джилл зашла через три часа:
— Глазам не верю! — воскликнула она. — Честно говоря, когда увидела тебя утром, решила, здесь что-то не так. Чуть не сказала, что ты ошиблась дверью, и здесь не дом моделей.
Жени улыбнулась:
— Мне потребуется еще час или два.
— А как насчет ланча?
— Сегодня обойдусь без него.
Джилл усмехнулась:
— Вижу, слышу, но не могу поверить. Мы закинули сеть и выловили жемчужину. Здесь куча лабораторных анализов, которые надо просмотреть, и карточки записи больных — когда сможешь.
— Хорошо, — сказала Жени. Чем больше у нее было работы, тем сосредоточеннее она становилась.
Остаток дня и последующие дни она служила командой из одного человека по расчистке завалов и восстановлению дееспособности кабинета доктора Ортона. С Джилл она встречалась редко, а врача не видела вообще — но одно за другим выполняла поджидающие ее задания.
Дома по вечерам наскоро принимала душ и поднималась к Соне, на несколько минут освобождая Григория. От изнеможения он шаркал при ходьбе ногами, безжизненные глаза ввалились и по временам начинали метаться, как у загнанной обезьяны.
— Иди поспи, — говорила Жени. — Сам едва не валишься с ног, — он совсем не обращал на себя внимания, и она подозревала, что даже забывал поесть.
На правах врача Жени приказывала ему лечь в постель. Григорий подчинялся, уходил к себе, но, выходя от Сони, она обычно заставала его в гостиной, где он без сна качался на стуле.
С Сониным лечащим врачом ей встретиться не удавалось. Поэтому Жени позвонила ему и попросила прописать Григорию снотворное или по крайней мере успокаивающее. В голосе доктора послышалось раздражение, но Жени не обратила внимания. Бессильная перед раком, она старалась облегчить страдания окружающих.
Сонин врач не сказал Жени почти ничего, отказался обсуждать радиологическое облучение и предписанную им химиотерапию. Жени закопалась в книгах, но не нашла в них ничего полезного. В четверг, когда медицинская библиотека была открыта допоздна, она рылась в подборке литературы по раку, надеясь хоть на какой-нибудь просвет — новые экспериментальные методы лечения. На чудо.
Но везде находила один и тот же скорбный приговор: костный рак приводил к летальному исходу через несколько месяцев после обнаружения. Единственное чудо, о котором читала Жени, у Сони было уже позади — ремиссия. На ранних стадиях обнаружения ремиссия могла продолжаться до пяти лет. У Сони отсрочка тянулась восемь.
Во многих отношениях надежда являлась злом. Зная, что Соне ничем нельзя помочь, Жени понимала, что милосердие заключалось в быстром конце. Но знания не могли повлиять на ее чувства, и она продолжала надеяться еще на одну ремиссию, на отсрочку, хотя бы еще на несколько месяцев, чтобы Соня снова стала сама собой, а не жертвой размножающихся клеток.
Не надеяться было нельзя. Иногда Соня оживала настолько, что пересаживалась из постели в кресло-качалку и снова начинала рассказывать Жени о тетушке Ане и дядюшке Владимире. Но вдруг, как будто недоброе прикасалось к ней, кожа Сони серела, глаза теряли живость, и Жени почти на руках переносила ее снова в постель.
Она выносила Сонину утку, вытирала пот с лица. В комнате было настолько холодно, что Жени приходилось надевать теплую куртку, а Соне, похудевшей настолько, что теперь она весила всего девяносто пять фунтов, казалось постоянно жарко. Под простынями почерневшая от радиации кожа свисала складками.
Беспомощная, Жени приносила Соне ледяной чай, фруктовые соки и содовую, пыталась заставить съесть сладкие ягоды, мороженое, пудинг и йогурт, подавала таблетки точно, как было предписано.
— Хватит, — проговорила Соня в пятницу утром. — Хватит лекарств.
— Тебе нужно принимать таблетки, — возразила Жени.
— Нет. Будь что будет.
Жени умоляюще смотрела на женщину. Это нечестно. Не сдавайся. Ты мне нужна.
Она вспомнила, как Бернард рассуждал об уважении к другим. Можно ли испытывать уважение и в этом случае? Можно ли уважать желания тех, кого любишь, настолько, что позволишь им умереть? Или я слишком много думаю о себе, спрашивала себя Жени.
Она наклонилась и поцеловала съежившуюся кожу Сони, но гнев ее не унялся. И днем, стоило ей отвлечься от работы, воображение рисовало полчища клеток, прогрызающих в костях себе дорогу.
По вечерам она медленно тащилась домой, едва отрывая ноги от мостовой, боясь встретиться с разрушительной работой смерти, тень которой уже легла на Сонины черты.
Но в тот вечер Григорий улыбался. Соня сидела в спальне и протянула к ней слабые руки.
— Мне лучше. Я даже поела.
Слезы хлынули из глаз Жени.
В выходные Соня окрепла. В субботу вечером они ужинали втроем. Соня сидела за столом в кресле-каталке. Прежде чем поднять вилку, она отдыхала, но ела все и даже объявила, что «очень вкусно», хотя со смешком и побранила Бетти, готовившую с тех пор, как сама она оказалась прикованной к постели.
— Она ворует мои рецепты, — произнесла Соня, откусывая лимонный пирог. — Ну, ничего, я люблю свою готовку.
— Наверное, все кажется еще вкуснее, если работу за тебя делает другой, — поддакнула Жени, вся светясь — за много месяцев этот ужин показался ей самым радостным. Она была довольна, что попросила Пела не приезжать. Сегодня было — словно день рождения, и лучшим подарком оказалось Сонино возрождение.
На следующий день Соня отпустила сиделку. Жени не знала, как поступить: следовать указаниям Бернарда и вызвать ту снова? Но тогда Соня поймет, что уже не способна распоряжаться собственной жизнью.
Жени пошла на компромисс, задержав ночную сиделку, чья смена длилась с полуночи до восьми. Та обещала ей, что Соня не узнает о ее присутствии, если, конечно, в ней не возникнет необходимости. Недостаточная мера, но все же успокоила Жени — днем за Соней станут приглядывать другие.
Все выходные радость переполняла Жени, продолжая бурлить и в понедельник, когда она вышла на работу.
— Ты отлично выглядишь, — заявила ей Джилл. — На этой неделе мы вытащим тебя из-за кулис, украсить кабинет.
Жени оглянулась. Полированное дерево, сияющая нержавеющая сталь.
— Украсить?
Джилл рассмеялась:
— Украсить приемную. Станешь возбуждать пациенток. Пусть думают, что они смогут выглядеть, как ты. Ничуть не хуже. Реклама не очень спортивная. Ну и что из того?
Жени заняла свое рабочее место: в частично загороженной кабинке в элегантной приемной с добротными стульями и низкими столиками, на каждом из которых красовалась ваза с цветами.
Утро прошло в ответах на телефонные звонки, назначении визитов, утешении больных и приеме сообщений.
В половине первого, на полчаса раньше назначенного, пришел Сильвестр ди Марко. Это был молодой человек с опущенными книзу кончиками усов и искалеченной в станке рукой. Усевшись напротив Жени, он стал разглядывать ее из-под пышных бровей, которые так подходили к его усам.
Под его пристальным взглядом она почувствовала себя неуютно.
— Не желаете журнал? — предложила она.
— Лучше посмотрю на вас, — улыбнулся он. — Вы самая красивая девушка, каких я только встречал. Может, я покажусь невоспитанным, но не беспокойтесь, я человек семейный. Двое малышей и чудесная женушка. Вот… — он полез в карман, достал бумажник и сумел вынуть одной рукой из него фотографию. — Вот они.
Жени вздохнула с облегчением. По виду Сильвестр ди Марко не мог осилить гонорара доктору Ортону, недоумевала она.
Молодой человек сам ответил на этот вопрос.
— Доктор Ортон — парень что надо. Встретился с ним, когда меня привезли на скорой помощи. Он только глянул и сказал, что мне нужна пластическая операция. Я хмыкнул и пробормотал вроде того, что я не королева красоты и буду премного доволен, если просто смогу работать рукой. За страховку много не дадут. Видишь, я правша, а большие деньги платят, когда вовсе не можешь работать.
Но доктор не обратил внимания, пошел себе в операционную, а потом, уже в больнице, осмотрел меня и сказал, что хочет сделать небольшую коррекцию, когда руку вылечат. И через несколько месяцев сделал — бесплатно, просто так! Не мужик — король. Жена связала ему свитер.
Позвонили из больницы и сообщили, что доктор Ортон задерживается на операции.
— Подожду, — великодушно согласился Сильвестр.
И следующая пациентка Ернель Сосюр решила тоже подождать. Она была тридцатитрехлетней гаитянкой, служила в доме и сильно обожгла лицо и шею от взорвавшейся скороварки. В карточке карандашом стояла пометка: «Гражданство неизвестно».
Не понимая, что это значит, Жени разыскала в лаборатории Джилл, где та просматривала анализы крови.
— Ернель в стране нелегально, — объяснила сестра.
— Как и я? — удивилась Жени.
— У нее нет разрешения на работу, она не пользуется страховкой и не обладает никакой социальной защитой. Говорить с ней трудно. Она знает по-английски всего несколько слов, а я не сильна во французском, хоть и изучала его в колледже. Но она понимает. Ернель работала в доме супругов по фамилии Шумакер. А у самой у нее дома двое детей: сын-подросток и маленькая дочка. Они с матерью в Порт-о-Пренсе, и большую часть зарплаты она отсылает туда.
— Доктор Ортон лечит ее бесплатно?
— Что-то вроде этого. Хотя и попросил Шумакеров о небольшом возмещении. Ну да ладно. Хуже, что на темной коже, как у Ернель, обычно остаются шрамы. А она — красивая женщина.
Жени вернулась в приемную и тепло улыбнулась гаитянке. Но та не ответила. В сетке шрамов, ее глаза смотрели вглубь себя.
Из больницы снова позвонили. Доктор Ортон выехал к себе в кабинет. Он опаздывал на два часа. Приемная была полна ожидающих, и Жени велели пропускать больных в том порядке, в каком они пришли, но двое пациентов запротестовали. Одна — броской внешности актриса, месяц назад доктор Ортон нарастил ей грудь и теперь назначил визит, проверить, как идет заживление. Она спешила на прослушивание; в четыре ей надо было уходить. А другой — вице-президент юридической фирмы, загорелый до черноты мужчина в светлом, серо-голубом, деловом костюме. Он пришел на предварительную консультацию по поводу удаления мешков под глазами.
И все же первый день работы с больными подошел к концу.
И в семь, пружинящей походкой, почти подпрыгивая, Жени поспешила домой. Шел мелкий дождь, но перед нею простирались радужные, как отблески солнца на воде, надежды: она будет лечить. Станет как доктор Ортон, как Эли. В мире нет ничего более важного, как возрождение жизни.
Соня по-прежнему чувствовала себя лучше. Улучшение состояния вызвало желание принимать лекарства, особенно наркотики, прописанные в случае угрозы боли. Григорий стал расчесывать волосы; как-то даже выпрямился.
Ремиссия придала силы всем. Жени казалась неутомимой. На работу она приходила еще до Джилл, на ланч тратила не больше двадцати минут и засиживалась вечерами допоздна.
На третью неделю доктор Ортон разрешил ей поехать с ним в Маунт Зион. В больнице поручил Жени сестре, показавшей подопечных, комнату для медперсонала, игровую, лечебные кабинеты и даже кухню. Жени ощутила домашнюю атмосферу, созданную специально для детей, но основное ее внимание привлекли сами малыши: в бинтах, в креслах-каталках, к хрупким тельцам присоединены капельницы, снабжающие организм поддерживающими жидкостями, дренажные трубки очищали открытые раны…
Дети были сильно изуродованы. У одних недоставало рук, у других ног, у третьих, наоборот, на искривленных руках лишние пальцы. У многих черепа так нелепо деформированы, что казались головами снеговика. Кожа лиловато-синяя или пепельно-серая.
Сестра вела ее мимо группки только начинающих ходить, и вдруг Жени отшатнулась к стене игровой комнаты: ее обуял ужас, стало дурно от чудовищной несправедливости, сотворенной по отношению к этим детям людьми, еще в прежнем поколении развязавшими войну, когда эти дети не были еще рождены. Войну ее отца.
Она глядела на них, и сердце подступало к горлу. Она силилась не закричать. Мальчик постарше подошел к ней — лет тринадцати или четырнадцати. Его лоб был выперт, а остальная часть лица будто съежилась. Пелена, застилающая радужную оболочку глаз за стеклами очков, говорила о его слепоте.
— Леди, — обратился он к Жени. — У вас есть какие-нибудь книги?
— Книги? — вопрос застал ее врасплох. — Какие книги?
— Все равно. О полетах. Про звезды. Романы, стихи. Люблю читать.
Таких толстых стекол очков, как у него, Жени еще никогда не видела.
— А тебе не трудно? — тихо спросила она.
— Да, — признался мальчик. — Я выучил азбуку слепых, и когда зрение пропадет, я смогу ощущать слова. Но пока свет не померк, хочу прочитать как можно больше.
— Я принесу тебе книг, — пообещала Жени, изо всех сил кивая ему головой.
— Спасибо, — улыбнулся мальчик. — Меня зовут Джордж. Имя мне дали по американскому отцу.
— Джордж, — повторила она. По русски Георгий. — Если хочешь, я буду приходить и тебе читать.
— Очень. Я еще сам могу читать, но буквы будто в тумане.
За его спиной стояла маленькая девочка, ее лицо было полностью забинтовано — только узенькие щелки позволяли дышать и видеть.
— Ты мама? — спросила она Жени, по-прежнему прячась за Джорджа.
— Нет, — ответила Жени. — К сожалению, нет.
— А ты можешь мне сделать как мамочка? — ребенок решился сделать шаг.
— А как?
— Омнятиэловать.
— Обнять и поцеловать, — перевел Джордж.
Жени наклонилась и погладила ее по волосам — единственной непокрытой бинтами части головы. Сколько еще времени личику девочки придется обходиться без поцелуев? — думала она.
Настало время уходить, и Жени показалось, что в больнице она пробыла всего лишь несколько минут. По дороге обратно, в машине она спросила доктора Ортона, нельзя ли ей приходить к детям по выходным?
— В свое свободное время? — переспросил врач.
— Пожалуйста! Мне еще столько нужно узнать.
Что-то вроде улыбки промелькнуло на широком лице врача.
— Хорошо, — хрипло ответил он. — Я устрою вам пропуск.
Он высадил Жени у дома, а сам отправился к себе в кабинет, и Жени поняла, что Джилл в их первую встречу была права: доктор Ортон редко оставался без работы. Его неутомимой энергии хватало на пациентов, на хирургов, на медицинские общества, на чтение, на статьи и обучение других.
Он был предназначен восстанавливать лица и тела и умел растягивать, расширять и удлинять каждый день, чтобы урвать для своей цели лишний час.
За ужином Жени рассказала Соне и Григорию о детях Хиросимы — жертвах пагубной мутации, происшедшей задолго до их рождения.
— Война — самая страшная и долгая из всех болезней, — произнесла Соня.
Жени посмотрела на нее: Сонино собственное тело было изъедено болезнью, измучено болью.
— Ты удивительная женщина, — восхитилась она. Соня преодолеет рак силой воли. Должна.
Жени рассказала о девочке с забинтованным лицом, о Джордже, чье мужество глубоко ее тронуло.
— Бедные ребята, — кожа Сони сделалась пепельно-серой.
Жени и Григорий вскочили, отвезли ее в спальню, уложили в кровать. Позвонили врачу.
— Срочно, — бросила Жени в трубку оператору и набрала номер больницы.
Кожа Сони темнела, становилась голубоватой…
В этот час ночная сестра не дежурила.
Нехватка кислорода. Где-то был на случай удушья баллон с кислородом. Где? На глаза не попадается. В ванной? Нет, не там. Где же? Помощь нужна сейчас. Врача ждать? Нельзя. Скорую помощь? Тоже. Там в шкафу. На полу.
Жени схватила баллон, нащупала клапан и приложила маску к Сониному рту, пустила кислород… Соня вздрогнула, вобрала в себя воздух… Задышала… Сперва дыхание было прерывистым, потом спокойнее и ритмичнее. Лицо принимало естественный цвет. Дыхание нормализовалось. Когда, через пятнадцать минут после вызова, прибыл врач — больная отдыхала. Опасность миновала.
— Служба скорой помощи сообщила мне — я был в машине — и тотчас бросился сюда, — объяснил врач, осматривая Соню. — Не знал, — произнес он через несколько минут, — что больная в опытных руках, — он внимательно посмотрел на Жени. — А ведь вы так молоды.
— Я учусь в медицинской школе, — сказала Жени.
— Может быть, — признал он. — К тому же у вас на плечах сидит хорошая голова, — и он пожал ее руку. Как коллеге.
19
В конце августа Жени получила письмо из Кембриджа от Дэнни. Он рассказывал, что работает над романом, что его стихотворение принято «Поэтическим журналом» и что трудиться дома одному одиноко, но вселяет силу.
«Каждый день я что-нибудь придумываю, — писал он. — И себя тоже».
Жени улыбнулась. Она представила Дэнни в доме родителей, которые поддерживали его во всем, пока он изображал на бумаге слова, и больше ни о чем не просили. Она вспомнила выражение лица Елены, когда та говорила о сыне. Как он счастлив, думала Жени. Родители любят его и поддерживают, и это позволяет Дэнни уверовать в собственную гениальность.
А был ли он гением? Конечно, он плодовит, жизнерадостен, полон всяческих идей и слов. Она почувствовала, что соскучилась. Может быть, поднять трубку и позвонить? — в Огайо, кажется, сейчас раньше по времени — и услышать его голос?
Бессмысленно, возразила себе Жени. Их отношения ни к чему не приведут.
Но как бы это было забавно, подсказывал ей другой голос.
Она вздохнула и продолжала читать.
В последнем абзаце Дэнни писал, что пересмотрел свои взгляды по поводу Хаво. «Я был глух к его сдавленным стонам, слышал только собственные слова. Знаю. Ты видела, а я нет. Но теперь понимаю, что физический недостаток служил ему поддержкой, на которую он мог опереться, когда сомневался в себе. А когда не сомневается в себе шестнадцатилетний юноша? Но это все в прошлом. Теперь ему семнадцать — мужчина в полном соку, и я готов помочь, чем смогу, избавиться ему от этой поддержки. Мои намерения распространяются так далеко, что я собираюсь заработать денег. Пожалуйста, порекомендуй хирурга».
Жени вложила письмо обратно в конверт. На следующей неделе — ее последней рабочей неделе — она посоветуется о Хаво с доктором Ортоном. А теперь настало время почитать Соне: по-русски, из рассказов Толстого.
Поначалу, снова столкнувшись с кириллицей, Жени испытала затруднения. Она говорила, как ребенок, складывающий слова из отдельных звуков и понимающий их смысл, только произнося целиком. Но на третий вечер стала читать свободно — на родном языке так же, как и на приобретенном вновь.
Через несколько страниц чтения Соня засыпала, но Жени продолжала. Стоило остановиться, как глаза женщины открывались и в них угадывалось изумление от наступившей тишины. И Жени читала до тех пор, пока дыхание Сони не становилось ровным, складки на лице разглаживались, и в нем уже не виделось боли.
Человеческий голос, знакомый голос, мягко льющийся потоком слов, действовал успокаивающе, как нежное прикосновение. И Жени понимала, что излечение наступает не только от лекарств, облучения и скальпеля. В медицине важно — сострадание.
«Сострадание, — думала она, шагая в понедельник на работу, — и выделяет доктора Ортона из числа других хирургов». Утро было необыкновенно прозрачным: воздух будто вычистили, небо по-настоящему голубое, а не серое, листья и трава переливались всеми оттенками зеленого — от лазурного до изумрудного. Стекла и зеркала витрин подмигивали солнечными зайчиками.
Как источник с минеральной водой, искристый воздух возбуждал Жени. Казалось, наполнял надеждой городские улицы. Она чувствовала, что счастлива — все обернулось к лучшему. Если бы лабораторию не закрыли, она не оказалась бы летом рядом с Соней, не встретила бы доктора Ортона и детей Хиросимы. «Серебряные облака с оборками. Ночь на день…», — пыталась вспомнить она поговорку. Она умудрилась даже заработать две зарплаты — недельную компенсацию от профессора Дженсона и деньги у доктора Ортона.
Мурлыкая что-то себе под нос, она вошла в приемную. Через десять минут зазвонил телефон. На другом конце провода оказался Эли. Утро складывалось поистине сказочным.
— Звоню, чтобы тебя поздравить, — произнес он. — Доктор Ортон сказал, что у него нет жалоб, что на языке смертных означает: ты просто образец работоспособности.
— Хочу вас поблагодарить, — начала Жени, но Эли ее перебил:
— Услуга за услугу. Сегодня вечером ты ужинаешь со мной.
— Ну, если в качестве услуги, — усмехнулась Жени.
— Я за тобой заеду, — и положил трубку, прежде чем она успела сказать, что ей нужно наведаться к Соне.
Кроме того вечера, когда Жени ужинала с Бернардом, все вечера она проводила с Соней. Но сегодня — позвонила домой и сообщила Григорию, что ей необходимо встретиться с пластическим хирургом. — По делу, — прибавила она.
— Лучше для развлечения, — ответил Григорий. — Молодые должны развлекаться, а за моей Сонечкой я присмотрю сам.
Жени пришло в голову, что они с удовольствием могут провести вечер вместе, и это успокоило, пока она в ожидании вечера плыла сквозь заботы дня.
Ближе к концу работы вышла умыться, а вернувшись, опять позвонила домой. То, что она услышала, ей не понравилось. С Соней снова случился припадок, дыхание было затруднено…
— Приезжал ее врач, — сообщил Григорий. — Сделал укол. Теперь все хорошо. Она спит, как ребенок.
— А как дыхание?
— Не хуже, чем у тебя.
— Мне отменить?..
— Глупости. Иди со своим хирургом.
— Я не поздно, — пообещала Жени.
— Приходи попозже. Не спеши. Порадуйся вечеру. Здесь все спокойно.
Жени положила трубку и, улыбаясь, вышла из приемной. Эли как раз входил в здание. Он взял ее за обе руки и посмотрел долгим взглядом.
— Выглядишь красавицей, — проговорил он, и она вспыхнула. — Доктор у себя?
Жени отрицательно покачала головой.
— Я хотел уважить его, зайти, но раз так, пошли, — он выпустил ее руки.
Жени вернулась за сумочкой и попрощалась с Джилл, та буквально рванулась из-за стола, чтобы хоть краешком глаза посмотреть на знаменитого хирурга, и все же опоздала: входная дверь уже закрывалась за ними.
«Феррари» Брандта был припаркован у пожарного гидранта, как раз напротив дверей кабинета Ортона. Ослепительно белая с черными накладками, машина Эли очень подходила платью Жени, будто она специально оделась для рекламной фотографии.
— Великолепно, — одобрил Эли ее черно-белое платье, разглядывая его на фоне темной кожи сиденья.
Как выпущенный из клетки тигр, он прорывался в потоке машин. Жени затаила дыхание, костяшки пальцев побелели.
— Ты не боишься, что я так еду?
— Да нет, — голос сорвался, когда ее качнуло влево и она едва удержалась, чтобы не навалиться на Эли.
— Это у меня в крови, — рассмеялся врач. — Привык вот так гонять машины. Хотя профессионально заняться этим никогда не хватало времени. Иногда просто не могу совладать с собой. А при таком движении зверею — становлюсь тореадором за рулем. Хочу поиграть со смертью.
— Чувствуется, — согласилась Жени, закрывая глаза: огромная бетономешалка промелькнула перед их носом.
Эли резко затормозил напротив неказистого здания, неподалеку от въезда в туннель Линкольна.
— «Джордано», — объяснил он. — Наружность так себе, зато еда превосходная.
Они прошли по коридору налево, мимо кухни. Тучная хозяйка — женщина с маленькими усиками и двойным подбородком, пропела имя Эли. И врач остановился обменяться с ней рукопожатием. Потом прошли в небольшой внутренний дворик, здесь на столиках, покрытых клетчатыми скатертями, стояли — в бутылках из-под «Киянти» — свечи. Они сели, а напротив — на фоне задней стены кирпичного дома, на бельевых веревках сушились пестрые одежды. «Бернард никогда бы не пошел в такое место», — подумала Жени.
Официант, сын владелицы заведения, воздел глаза к небесам, когда Эли представил ему Жени.
— Мадонна! — воскликнул он, призывая Деву Марию, чтобы та засвидетельствовала совершенство собственного пола.
— По-моему, он тебя одобрил, — сухо произнес Эли. Официант удалился с заказом.
— А как ты нашла доктора Ортона?
— Замечательный человек. Самый самоотверженный врач из всех, каких я только встречала, — и она рассказала Эли о своем посещении детей Хиросимы в Маунт Зион и о больных доктора Ортона, не способных заплатить за лечение.
— Билл — удивительный человек, — согласился Эли. — Но никогда не станет миллионером.
— А зачем ему им быть? — заступаясь за врача, ощетинилась Жени. — Работа его удовлетворяет. И это очень важная работа, — она понимала, что смуглый загар Эли и его выгоревшие волосы говорят о многих часах, проведенных на пляже или в шезлонге на палубе яхты. А может быть, об игре в теннис. Часы и дни приятного времяпровождения. И «Феррари» тоже. Роза Борден называла Брандта звездой. Филлип Вандергрифф — выбрал в качестве лучшего пластического хирурга, услуги которого можно купить за деньги. Эли Брандт был врачом для богатых.
— Да, — грубовато ответил он. — Тебе понравился соус?
— Хороший, — соус слегка сдабривал гноччи.
Она по-прежнему испытывала раздражение.
— Билл Ортон — настоящий характер, — продолжал Эли. — Мы все его, конечно, любим, но зовем Вильгельмом Завоевателем.Он не от мира сего и воюет за собственную Цель.
— А что в этом плохого?
— Ничего, дорогая. В этом его призвание. А полное погружение в работу означает только то, что ему некогда жить. Хотя по тому, сколько он делает, Билл уже трижды мог стать миллионером.
— Ему не нужны миллионы, и я не понимаю, что вы подразумеваете под словом жить? Разве его жизнь не лучшее, что может быть?
Он пригляделся к губам Жени. Сегодня они были лишены помады.
— Я говорю о том, что именуется «хорошей жизнью». Знаешь, — это вино, женщины, реактивные самолеты, — Эли улыбнулся.
— Это не то, к чему должен стремиться врач. Обязанность врача лечить…
Улыбка Эли внезапно угасла:
— Постой, — перебил он Жени. — Нечего меня упрекать. Долгие годы я занимался тем, что ты называешь «лечением». Время от времени даже делал открытия, которые кое-кому приносили пользу…
— Извините, — Жени потупила глаза. Злость ее испарилась, и она почувствовала себя глупо. Репутацию Эли создало не богатство и не его умение управлять гоночным автомобилем. Его уважали как ведущего в стране пластического хирурга — и не пресса и богатые, а его коллеги. Она вспоминала лекцию Эли в Бостоне, почтительные лица окружавших его студентов. Его собственное почитание. Эли Брандт был работоспособным творческим хирургом.
Он похлопал ее по руке:
— Все в порядке. Мне нравится твое настроение. Я совсем устал и позабыл, что ты еще и не начала обучение. Благородное призвание, идеалы Гиппократа. Ты права, Жени. Без этого чувства не стоит заниматься нашей профессией, — он улыбнулся. — Мир?
Все еще растерянная, она кивнула.
— Славно. Дело в том, что у нас с доктором Ортоном разные темпераменты. Я тоже предан работе, все это так, но она не означает для меня целиком всей жизни. Я, что ли, более страстный, чем Билл. Люблю деньги и то, что можно на них купить. Славу тоже. Меня тешит, что я известен за пределами профессионального круга. Может быть, в твоих глазах я кажусь поверхностным…
— Нет, нет.
— В любом случае врачи так же отличаются друг от друга, как и их пациенты. Пятнадцать человек могут болеть одной и той же болезнью, но в каждом из них она проявляется по-своему. В комнате, набитой пластическими хирургами, не найдешь двоих, кто вел одинаковую жизнь или обладал бы одними и теми же политическими убеждениями. Общее у них только то, что они наслаждаются тем, что делают. Или до известной степени когда-то наслаждались.
— Понимаю.
— Ну, хватит лекций. Как мясо?
— Пальчики оближешь. Эли… — Жени помолчала, вилка застыла в воздухе, потом вновь опустилась на тарелку. — Спасибо, что порекомендовали меня. Эта работа, точно сон.
— Я надеялся, что она такой и окажется. Представить не могу, чтобы кто-то лучше Билла смог ввести тебя в нашу профессию.
Эли Брандт был так многогранен.
— Не считая вас, — сказала Жени.
— Ты славная девушка, — глаза врача остановились на ее губах.
— Уже не девушка.
Хирург рассмеялся, оторвал глаза от губ, разглядывая все ее лицо.
— Ну хорошо, молодая женщина. Но достаточно молодая, чтобы годиться мне в дочери.
— Нет!
— Да, — мягко настаивал он. — Тебе известно, что у нас с Алисой нет детей. Но если бы они родились, то были бы как раз твоего возраста.
— А ваш брак… счастливый? — Жени от смущения опустила глаза.
— Не уверен, что знаю, какими бывают счастливые браки. Мы с Алисой привыкли друг к другу. Наш союз вряд ли основан на страсти. Не думаю, что когда-нибудь я был влюблен в Алису, но я ей предан. Долгие годы она мне помогала. Она во мне нуждается, и взамен я плачу ей верностью, — своеобразной, подумал он про себя. Но всегда, даже в периоды своих загулов, он оставался верен их браку. Жени же не та девушка, с которой можно поиграть и бросить. Слишком для этого необыкновенная.
Он попросил счет.
Жени думала, что пригласит его к себе, — когда он подвез ее к дому. Предложит коньяк или портвейн. Еще не поздно.
Но Эли не выключил мотор, только наклонился и поцеловал в щеку.
А Жени посмотрела на окна вверх. Везде горел свет. Она открыла дверцу машины и выскочила наружу. Что-то было ужасно не так.
Свет во всех комнатах, как будто в разгаре вечеринка. Но дом пуст. Жени рванулась вверх по лестнице к Сониной двери. Распахнула — на кровати никого. Постель аккуратно прибрана. Рядом изможденная Бетти:
— Ее нет, мисс Сареева.
— Где же она? Где?
— Нет, — отрывистое движение кисти пояснило значение сказанного. — Ушла. Угасла. Ее забрали. На скорую помощь. Но слишком поздно. Старались изо всех сил. Но она умерла по дороге в больницу.
Глаза Жени блуждали. То останавливались на аккуратно застеленной кровати, то вновь скользили к лицу Бетти. До нее все еще не доходил смысл слов.
— А Григорий?
— Уехал с ней. Его, наверное, скоро привезут. Бедняга.
— Бедняга, — эхом отозвалась Жени. Плечи вздрагивали. Грудь сдавила тяжесть одиночества.
20
Похороны с отпеванием в православной церкви Святого Николая Угодника были назначены только на пятницу. Организацией похорон занималась секретарь Бернарда и, поскольку она не знала, когда он возвращается в Америку, — церемонию отложили насколько было возможно.
К пятнице Бернард должен был вернуться. Жени и боялась, и хотела его приезда. После выходных ей нужно было уже ехать в Бостон — оставалось всего несколько дней до начала нового учебного семестра. Перед отъездом необходимо поговорить. Ее гражданство, положение, новости об отце, проблемы личной безопасности — на эти вопросы она надеялась получить ответы. По мере того, как август близился к концу, волнение Жени все усиливалось.
В четверг она в последний раз пошла на работу. Сразу же после обеда попрощалась с Джилл и поехала к детям Хиросимы в Маунт Зион, где должна была встретиться с доктором Ортоном.
С Джилл они тепло обнялись — сестра всеми силами старалась утешить ее после смерти Сони.
— Что ж, подружка, твоя работа стала мне уроком, — проговорила Джилл в своей обычной насмешливой манере. — Теперь ни за что не поверю, что у тебя вместо мозгов — на голове расфуфыренные перья. Удачи тебе, Жени, — она улыбнулась. — Следующим летом приходи к нам опять. А если лет через десять обзаведешься собственной практикой, я приду, чтобы тебя доучить. Конечно, если к тому времени Сам выйдет на покой, что очень маловероятно. Ведь боги в отставку не уходят. Договорились?
Жени снова обняла сестру и быстро вышла.
В больнице предстояли тоже прощания. Она обнимала каждого ребенка и едва удерживалась, чтобы не заплакать вместе с ними. Последним оказался Джордж. Они пожали друг другу руки, почти официально — юноша умел сдерживать свои чувства.
— До свидания. Я тебя навсегда запомню.
— Мы встретимся снова, — пообещала Жени.
— Может быть. Но если я к тому времени ослепну, то сохраню твой облик в уме.
— Джордж, — горло так сдавило, что она едва смогла выговорить имя. — Можно… можно я тебя поцелую?
— Пожалуйста, — ответил он юношеским фальцетом, бросаясь в объятия.
К тому моменту, как Жени встретилась с доктором Ортоном, ее чувства оказались совершенно растрепанными. Он позвонил из главного педиатрического отделения, сообщив, где его найти.
— Жаль, что покидаете нас, — врач поднялся навстречу и протянул морщинистую руку. — Редко встретишь человека с таким, как у вас, призванием.
Жени поблагодарила, тщетно подбирая слова, выразив свою признательность, как сказав, многому он ее научил.
Доктор Ортон взглянул на нее сверху вниз. Голубые глаза сверкнули из-под растрепанной белой шевелюры:
— Обращайтесь, если в будущем чем-нибудь смогу вам помочь.
— Доктор Ортон, — начала Жени и взглянула на педиатра. — Могу я спросить у вас совета?
Врач серьезно наклонил голову:
— Присядьте.
— Это не отнимет у вас больше минуты, — она быстро рассказала о волчьей пасти Хаво. Что выявил ее поверхностный осмотр. Что юноша жил с небогатыми родителями в Огайо.
Врач внимательно выслушал ее, подумал с минуту и сказал:
— Если мальчик сможет приехать в Нью-Йорк, я его осмотрю.
Жени порывисто сжала Ортону руку, вызвав тем самым у него подобие улыбки.
— Успехов вам в Гарварде, — пожелал он.
Жени уже повернулась, чтобы уйти, но врач положил ей руку на плечо:
— Сейчас вам трудно. Я с сожалением узнал о смерти вашего друга. Крепитесь. Впереди серьезная работа.
Весь день Жени держалась. Но вечером, когда услышала по телефону голос Пела, дала чувствам волю. Говорили больше часа. Она рассказала о слепнущем мальчике. Пел мягко заметил:
— У него имя, как у твоего отца.
Жени кивнула телефону, и слезы еще сильнее хлынули из глаз. Дар речи она снова обрела, лишь когда Пел в третий раз спросил, хочет ли она, чтобы он приехал на похороны? Она ответила, не нужно, но мысленно пожелала, чтобы он был рядом и разделил с нею горе утраты.
На следующий день Жени, между Бернардом и Григорием, сидела в церкви на передней скамье. О возвращении опекуна она узнала в половине девятого, поднявшись на кухню и застав его там в темно-сером летнем костюме. Лицо бизнесмена выражало необыкновенную усталость.
Несмотря ни на что, присутствие Бернарда в церкви приносило Жени утешение. Она держала Григория под руку. Тело старика обмякло. Всю службу тот не сводил глаз с алтаря, время от времени отрешенно крестясь и беззвучно шевеля губами.
Но в конце, когда священник стал читать молитву, препровождающую Соню ко Всевышнему, вскочил и закричал:
— Она моя! Соня — моя жена! Родная Сонечка!
Григорий все плакал, и когда Жени выводила его из церкви и сажала в лимузин. Следом за ними шел Бернард.
После небольших поминок для домашних, Бернард удалился к себе в комнату. Следом за ним вышла Жени и в коридоре настойчиво прошептала:
— Мне нужно с вами поговорить.
Глаза опекуна казались водянистыми, выцвели от недосыпания.
— Не сейчас. Я совершенно выжат. Завтра. Обещаю, поговорим обо всем, — он улыбнулся и нежно погладил ее по щеке. — Странно, что Сони больше нет с нами.
Жени прижалась к его груди, и Бернард слегка обнял. Но даже получая у него утешение, в душе она сопротивлялась тому, что казалось ей лишь сиюминутным облегчением.
На следующее утро Григорий постучал в дверь ее гостиной и пробормотал, что мистер Мерритт ожидает в библиотеке. Высохший, будто жизнь выпустили из его тела, старик казался невесомым. Шаркая ногами и глядя в пол, он провожал Жени.
Жени еще не бывала в этой комнате, которую Бернард называл «святая святых». Лишь два раза ей удавалось заглянуть в дверь: та перед ней тут же захлопывалась. Но Жени знала, что в библиотеке опекун хранил самые драгоценные свои экспонаты. Помещение было подобно личной часовне, где Бернард молился самому ценному из своих богатств.
Она ощутила робость, постучав в дверь, и поежилась, взявшись за ручку в ответ на его «Входи!»
Опекун поднялся из кожаного кресла. На нем был расшитый халат, на шее наподобие галстука повязан шарф. Таким неофициальным она еще Бернарда не видела. Даже на ногах, под пижамными брюками, пестрели тапочки.
— Чай? Кофе? — жестом он указал ей на стул напротив.
— Спасибо, я только что позавтракала.
Он налил себе еще чаю. Коллекционный, с узорами серебряный чайник был привезен из Англии. Красноватая жидкость заструилась из носика — в настоящий китайский фарфор.
Бернард откинулся на сияющую угольной черной обивкой спинку кресла, давая отдых голове. Луч солнца коснулся его волос и окрасил седину в золотистый оттенок. «Как на портретах старых мастеров эпохи Ренессанса», — подумала Жени. Книги в кожаных переплетах стояли по стенам до самого куполообразного потолка.
— Ну вот, моя дорогая. Тебе нравится хранилище моих драгоценностей?
Вместо ответа Жени смогла лишь кивнуть головой. Между книг на полках покоились ценнейшие экспонаты. Она заметила иллюстрированные рукописные издания, оригиналы литографий Пикассо, старинную русскую Библию. На мраморном пьедестале возвышалась мраморная нимфа без одной руки — единственное в мире из сохранившихся скульптурных изображений подобного рода. Бархатные шторы прятали наиболее дорогие и ценные экспонаты. За толстым стеклом Жени разглядела первую страницу Бытия из Библии Гутенберга. Дальше — анатомические рисунки Леонардо да Винчи.
Выше, там, куда достать можно было с высокой библиотечной лесенки, древесно-зеленая портьера в полтора фута вышиной и раза в два большей ширины, укрывала сокровище Бернарда, которое он не захотел открыть даже в ответ на вопросительный взгляд Жени.
— Эта комната стоит гораздо дороже, чем любая другая таких же размеров во всех Соединенных Штатах. Если не во всем мире! — провозгласил он с яростной гордостью. — Все здесь — настоящие сокровища. Каждое из них бесценно!
Выпрямившись, словно король на троне, Бернард повернул голову, чтобы убедиться, что его слова произвели должный эффект. Он заметил, что Жени похорошела: девическое очарование с годами уступило место зрелой красоте — черты лица не просто намечены, а отшлифованы великим мастером.
— Хочу вас спросить… — под взглядом опекуна она запнулась.
В этой комнате Бернард имел власть над всем, даже над словами и временем. Приходилось дожидаться, пока он не позволит ей заговорить.
Он не обратил внимания на ее промах:
— Хочу, чтобы ты знала, я тобой горжусь, Жени. Поступила в медицинскую школу. Работать ты умеешь. Предприимчива: нашла работу на следующий же день, как потеряла прежнюю. Или, точнее, после того, как тебя «прогнали», — он улыбнулся, но она не ответила. — Я поддерживаю тебя во всех начинаниях, как и прежде. Можешь мне доверять, можешь на меня положиться. Все, что связано с тобой, глубоко меня трогает.
Жени моргнула:
— А мой отец…
— Лучше, если ты выкинешь его из головы. Ты для него все равно ничего не сможешь сделать. Во всяком случае, на его фронте — без перемен. Никаких новых слухов, ничего больше не предпринимается. Мой тебе совет, забудь.
— Но он же мой отец!
— Был. Привыкай к этой мысли, — Жени ощутила исходившую от него напряженность.
Он заговорил другим тоном.
— Я привык считать себя твоим отцом. Мы вели себя как отец и дочь: гуляли, ходили тебе за покупками, путешествовали… — на секунду Бернард прикрыл глаза. — Мы подолгу беседовали, ты рассказала всю свою жизнь, чем занималась, о своих подругах, учебе, приятелях, — он хрипло хохотнул. — Не выходит? Нет навыка отцовства. Но ведь тебе понравилось в Аш-Виллмотте? — в его голосе почувствовалась мольба.
— Да.
— И ты ведь любила возвращаться сюда, иметь близких, приезжать домой.
— Да, — Жени неуверенно кивнула. Она подразумевала, возвращаться к Соне.
— Я дал тебе все, что имел. Больше, чем мог бы дать настоящий отец.
Бернард остановился, чтобы услышать от нее благодарность. Жени это поняла. И ее единственным желанием было вырваться из этой комнаты, напиханной всеми его вещами, подальше от него, от его странного взгляда: как будто она тоже один из экспонатов его экспозиции.
— Пожалуйста, скажите, что с моими бумагами, с моим гражданством?
— Подойдем и к этому — всему свое время. Мы ведь никуда не спешим: все выходные проведем вместе. Ты и я. Нам будет хорошо, Жени.
Она была для него ниточкой к настоящей Киевской Богоматери. И сама — теплая, дышащая, красивая — живая копия призрачной иконы.
Бернард протянул руку и дотронулся до ее правой груди у соска. Жени отшатнулась, но рука осталась на груди, на лице американца заиграла безжизненная улыбка.
— Не смейте! — выкрикнула Жени.
— Не сметь? — Бернард нахмурился, придвинулся ближе, пальцы вдавились в мягкую плоть груди. — Вот красота. Моя красота. Совершенство очарования.
Жени сбросила его руку. Во взгляде американца промелькнуло подозрение, злость.
— У тебя нет прав мне противиться. Ты мне всем обязана. Я вывез тебя сюда. Сделал такой, какая ты есть. Неужели ты осмелишься обращаться со мной как с избалованным мальчишкой? — он уже стоял, глаза сузились. Живой женщиной нужно обладать не как картиной. — Я — мужчина! — он снова сжал ее грудь, а другой рукой вдавил Жени в стул. — Ты мне подчинишься! Ты моя!
— Нет! — отбиваясь, выкрикнула Жени.
— Станешь моей женой!
— Никогда!
Лицо Бернарда потемнело от гнева, в уголках рта запузырилась слюна. Девчонка, а вовсе не дева.В ней нет чистоты искусства. Не вечная под рукой мужчин, как та, настоящая, единственная русская дева.Просто создание из костей и плоти.
— Ты не чиста, я знаю. Я слышал про вас с Эли Брандтом, этим хирургишкой из высшего света, который проматывает состояние жены. И про этого хлыща Вандергриффа тоже. Шлюха!
Рука Бернарда потянулась к горлу Жени. Другой рукой он распахнул полу халата. Жени отлетела в сторону, вдруг обнаружив в ширинке пижамных брюк его возбужденный половой член — он ткнулся им прямо в нее.
Жени закричала. Стараясь освободиться, рванула сжимающую горло руку — потянула вниз…
— Да, да, да, — лицо американца посинело, голос стал угрожающим. — Ты его примешь, — ягодицы выделывали непристойные вращательные движения, затем все тело дернулось вперед. — Примешь, красавица, примешь, любимая. Будет тебе, как кляп. Полюбишь его: женушкой.
— Перестаньте! Остановитесь! Пожалуйста.
Но Бернард ее не слышал. Глаза сделались пустыми, телом овладело одно желание — обладать Жени.
Она сорвала его руку с горла, но он схватил ее за подол юбки, задрал вверх. Дыхание его участилось, стало тяжелым. Возбуждение заставило восстать из старого тела невероятных размеров иссиня-красный половой член. Темное зло кинулось на нее.
Навалившись со всей силой, Бернард повалил Жени на пол, упал сверху, стал раздвигать коленями бедра, щипал, царапал ягодицы, рукой старался направить свою возбужденную плоть в ее тело…
Юбка задралась Жени на лицо. Она чувствовала, что задыхается, гибнет. В отчаянии она собрала последние силы, выгнулась и сбросила Бернарда с себя.
Вскочила на ноги.
— Прекратите! — закричала Жени американцу, но тот ничего не слышал. Она кинулась к двери, стала трясти ручку — замок оказался закрытым… Бернард подбежал сзади, оттащил ее от двери. Его лицо блестело от пота, пошло красными пятнами, во взгляде сквозило торжество.
— Шлюха! — завопил он, прижимая ее к стене, уставленной книгами, и распиная плечами по полкам. Колено вновь оказалось меж ее бедер. Жени задыхалась от боли, руки молотили воздух в поисках опоры, правая кисть наткнулась на что-то твердое. Предмет откатился в сторону, она нащупала что-то еще. Толчок — и от удара об пол — старое дерево треснуло. Бернард завизжал, освободил ее плечи и стал хлестать по щекам:
— Моя Богоматерь! Поддельная Богоматерь, — выл он. — Ты! Я тебя отправлю обратно! — он бил ее вновь и вновь, а Жени старалась перехватить его руку, отвести от лица и видела только пол под ногами и расколотую русскую икону, с которой на нее смотрели глаза молодой женщины, обрамленные золотым нимбом.
— Предательница! — кричал Бернард, снова и снова нанося ей удары, и пока они приплясывали в страшном танце, Жени разглядела лестницу, что толкнула до этого. Она потянулась. Не сразу: дюйм за дюймом — слишком та была далеко. Удары продолжали сыпаться на ее голову. Но вот правая рука уже достигла цели, ухватилась за лестницу, — и с неистовой решительностью Жени обрушила ее со стены — прямо на Бернарда, припечатав его к иконе на полу.
Глаза американца вылезли из орбит, как два стеклянных шара, и он застыл, поток крови струился по волосам, окрашивая их из серебристого — в красное…
Жени закричала. Подбежала к двери. Забила в нее кулаками. Охваченная паникой, она кричала и стучала — и все время оглядывалась на Бернарда — красное пятно становилось все темнее, капли крови были на полу…
Когда дверь открылась, она чуть не упала на Григория. Тот в последний момент успел ее подхватить, увидев поверх ее плеч — голого, распростертого на полу и истекающего кровью хозяина.
— Уходи, — приказал он прежним голосом. — Иди к себе в комнату. Жди там. И никому ничего не говори.
— Он ранен, — невпопад сказала Жени, но Григорий, не слушая ее, снова открыл дверь в библиотеку…
Жени двигалась автоматически, как лунатик. Она не могла, не хотела думать.
Вытряхнула все из шкафа на кровать, сбегала в гардеробную за чемоданом. Поставила на кровать. Побросала туда одежду. Села. Перевернула чемодан. Тот съехал вниз, расшвыряв вещи по полу…
Лицо болело и распухло. Она поднялась и пошла в гостиную. И тут почувствовала боль в паху. Согнулась, но продолжала идти, вся сжавшись и стараясь не думать о своем больном теле.
Подойдя к телефону и преодолевая боль, набрала 202 — код Вашингтона. Потом пальцы сами выбрали семь цифр, соединяя ее с Пелом.
ЧАСТЬ II
21
Семья Вандергриффов собралась вокруг Жени, как могучие киты, оберегающие своего сородича — все, кроме Лекс, которая осталась в уединении в Топнотче, не передав ни брату, ни Жени ни слова по поводу их предстоящей свадьбы.
Мег с головой окунулась в подготовку к бракосочетанию, как будто свадьба была подарком судьбы, величайшим из даров — приносящим ее сыну счастье.
Жени позволила будущей свекрови все делать самой: она знала, что, по американской традиции, подготовка к свадьбе является заботой семьи невесты, но поскольку она была сиротой, оставалось довольствоваться гражданской церемонией или положиться на Мег. Она выбрала последнее — никаких забот, ни уточнения простых взаимных обязательств между ней и Пелом.
— Я люблю тебя, Жени, — признался он в субботу вечером, осторожно прижимая к щеке ее распухшее лицо. Она рассказала лишь то, что убежала от Бернарда после небольшого «сражения», взяв с Пела слово не предпринимать никаких действий.
— Не могу справиться со своей любовью. И ничего, если ты не любишь меня так же сильно. Это придет. Пожалуйста, выходи за меня замуж.
Жени подняла глаза и долго всматривалась в его лицо.
— Я люблю тебя, Пел. И знаю, что сумею полюбить еще больше.
— Так значит…
— Да, если я тебе все еще нужна. Даже такая…
Договорить она не смогла. Пел прижал ее к груди, и Жени почувствовала: он дрожит от счастья.
— Постараюсь стать тебе хорошей женой, — наконец договорила она.
— Люблю тебя больше всего в этой жизни, — ответил ей Пел.
Жени не хватило ни характера, ни воли настоять на простой свадьбе. Она понимала, что для Мег, после полутора лет постоянного беспокойства о Лекс, эта отдушина была нужна.
Свадьбу собирались сыграть в декабре, чтобы медовый месяц выпал у молодоженов на рождественские каникулы. Мег надеялась, что Жени отложит на год или хотя бы на семестр поступление в медицинскую школу и останется в Нью-Йорке. Станет устраивать приемы невесты, принимать подарки, войдет в круг друзей Вандергриффов, будет ходить на примерки свадебного наряда, обзаведется приданым.
Свадьба стала для Мег главным событием, но Жени оставалась непреклонной — она не потеряет ни месяца занятий ради подготовки к единственному дню, каким бы важным в ее жизни он не казался. И Мег, с пониманием относившаяся к другим и ради этого жертвовавшая своими желаниями, согласилась на компромисс. Первокурсница медицинской школы, Жени постарается приезжать в Нью-Йорк часто, как только возможно. А Пел на день на два всегда сможет вырваться из Вашингтона.
Они останавливались в квартире родителей. Если Филлип оказывался в городе, то Пел прилетал раньше или задерживался после отъезда Жени, чтобы побыть с отцом.
Вот уже несколько лет сын обращался к отцу, если ему требовался совет. Он доверял Филлипу больше, чем кому-либо другому и полагался на его зрелые суждения в принятии важных решений.
Так близки они были не всегда. Мальчиком — Пел больше тянулся к матери и Лекс, к Мери в Топнотче, женщинам-служанкам и бабушке Розе Борден, которая не чаяла во внуке души. В то время когда Пелу пришлось отправиться в школу в Экзетер, они с отцом редко оставались наедине.
Филлип одинаково сильно любил обоих детей, но большую часть времени, пока они росли, был поглощен работой и потому волнующие проблемы их воспитания переложил на жену, целиком на нее полагаясь в деле ребячьих нужд и благополучия.
Но по мере того как Пел рос и превращался из мальчика в подростка, он все больше сближался с отцом. С удивлением и благодарностью отвечал Филлип на порыв сына, делился с ним своими заботами, брал в деловые поездки.
Чем больше Пел узнавал отца, тем больше им восхищался. Он обнаружил, что Филлип добр, но справедлив, осторожен, предусмотрителен, и главное — умен. Практические знания сочетались со знанием людей, что Пел особенно чувствовал на себе.
Они всем делились друг с другом, кроме самого сокровенного — любви, секса и чувств. Но и чувства иногда затрагивались в разговорах. Однажды Филлип описал, как четырнадцатилетним юношей бродил по фруктовому саду и белые цветы навеяли ему мысли о чернеющих лепестках, осыпающихся на землю, зреющих плодах, которым суждено упасть и разбиться, о голых ветвях, с которых осенние ветры сорвали листья…
От отца Пел усвоил, что быть мужчиной — значит научиться принимать взвешенные решения, но, раз их приняв, ни на шаг не отступать. Мужчина, Вандергрифф, должен прежде подумать о других, а потом уже начинать действовать. При рождении им повезло больше, чем другим, поэтому они ответственны перед всеми.
Социальная ответственность, которую внушал ему Филлип, стала жизненным принципом Пела. Когда юноша не мог решить, принимать ли ему предложение из Государственного департамента и поступать ли туда на работу, или посвятить себя Фонду Вандергриффов — он принес свои сомнения отцу и они вдвоем ломали голову до трех утра.
— У тебя еще будет время заняться интересами семьи, — советовал отец. — Семья никуда не уйдет. А в госдепе ты пройдешь такую практику и получишь такие знания, какие не сможешь приобрести ни в каком другом месте. Может быть, и для Фонда будет лучше, если ты начнешь с государственной службы. А сюда вернешься, когда посчитаешь нужным.
На следующий день Пел принял предложение из Государственного департамента и начал обучение в сфере международных отношений. Постигал теорию и практику — подчас противоречащие друг другу — американской внешней политики.
После того как Жени согласилась выйти за него замуж, Пел снова обратился за советом к отцу: объяснил, что Жени ушла от своего опекуна и оказалась в сомнительном, если не опасном, положении, не являясь гражданкой США, а совершеннолетней она становилась только в мае следующего года. И оставалась беззащитной, если Мерритт начнет предъявлять на нее претензии. Пел предполагал, что опекун завладел Жени и держал ее у себя некрасивым образом и, видимо, не без обмана.
— Мы немедленно учредим над ней опеку, пока она не станет Твоей женой, — заявил Филлип. — Это просто мера безопасности — чтобы ее обучение было оплачено и она ни в чем не нуждалась.
— Жени никогда на это не согласится, — возразил Пел. — Она слишком независима.
— А ты не говори ей об этом. Наши адвокаты будут присматривать за адвокатами Мерритта, и как только те откажутся от своих финансовых обязательств, опека вступит в силу. Конечно, если это произойдет.
Пел в восхищении смотрел на отца. Из отцовского кабинета, высоко над Истривер, на самой оконечности Манхэттена — открывался вид на входящие в бухту корабли. «Неплохое обрамление для человека, который постоянно у руля», — подумал Пел.
— Деньги не проблема, — подытожил Филлип. — Меня беспокоит Мерритт. Как тебе понравились газетные статьи о его «домашней неприятности»?
Пел пожал плечами. Выполняя обещание, данное Жени, сам он никому не рассказывал о ее «сражении».
— А вскоре статьи о «полном выздоровлении». Уверяю тебя, Пел, во всем этом есть что-то такое, что мне не нравится. Статьи маленькие, почти никаких деталей. Нарочито туманные. Чувствуется цензура — давление со стороны людей Мерритта. Не хотят, чтобы об этом знали держатели акций компаний Мерритта. Он ведь уже не молод, в этом возрасте пора выходить в отставку.
— Он никогда не уйдет, — возмутился Пел. — Даже отказывается назначить преемника. Я слышал, что он протащил в корпорации решение, по которому, что бы ни случилось, до семидесяти лет его оставят председателем совета директоров.
— Спорю, что в семьдесят он сумеет продлить это решение еще лет на пять, — мрачно улыбнулся Филлип. — А потом — еще, до тех пор, пока не умрет. Даже если перестанет двигаться и соображать.
— С этим мы ничего поделать не можем.
— Нет, — согласился отец. — Зато стоит повнимательнее приглядеться к его «домашней неприятности». Много людей не стали бы горевать в случае смерти Мерритта. Так что есть основания предполагать, что неприятности были запланированы… Покопайся в этом и скажи, чем я смогу тебе помочь.
Пел взглянул на буксир, медленно тащившийся вверх по реке.
— Ты всегда рядом, папа, чтобы помочь в трудных ситуациях, — он улыбнулся и вышел из кабинета.
Но в итоге Пел самостоятельно вышел на Доминика Занзора. После разговора с Филлипом он дал знать негласно собирающим разные сведения в правительственных и дипломатических кругах, что любая информация о «домашних неприятностях» Мерритта будет хорошо оплачена. Такая тактика ему претила, но если дело касалось безопасности Жени, он готов был идти на все, даже на подкуп.
В начале октября его секретарь объявил:
— Тут… как бы это сказать… Вас хочет видеть «джентльмен». Имени не сообщил, — Пел почувствовал, как участился его пульс. Он попросил секретаря провести к нему посетителя.
Доминик Занзор вошел в кабинет, держа шляпу в руке. Сам весь какой-то серый, незапоминающийся.
И Пел решил, что пришедший был прекрасным шпионом — человек, незаметный в толпе или на улице, околачивающийся у чьей-нибудь двери или прогуливающийся, будто по своим делам.
Но когда Занзор поднял на Пела глаза, они его напугали: бесцветные, как у альбиноса, они казались глазами слепого.
— Вы хотели встретиться со мной, — произнес тот вместо приветствия.
— Садитесь, — предложил Пел и тут же пожалел о своем приглашении: Занзор расселся в кресле — подобно огромному насекомому, и совершенно скрылся в черепаховом панцире подлокотников и спинки. — Вы располагаете информацией о Бернарде Мерритте?
— Он меня нанял.
— С какой целью?
— Шпионить.
— За кем?
Занзор холодно улыбнулся:
— Прежде чем ответить, я хотел бы получить деньги. Конечно, если вы сами уже не располагаете ответом.
— За его подопечной, — Пел заставил себя произнести эти слова. Он продолжал стоять, как будто сесть рядом с Занзором значило опуститься до его уровня.
— Правильно. За Жени.
— Не надо…
— Что не надо?
— Не важно. И зачем же вы сюда пожаловали? Вы все еще на службе у Мерритта?
— Нет.
— С тех пор, как у него произошли «домашние неприятности»?
Занзор не ответил. Улыбка стала самодовольной. Пел едва мог на него смотреть.
— Пятьсот, — предложил он.
В ответ послышалось неодобрительное бормотание.
Пел взглянул на фотографию Жени на столе и против воли произнес:
— Назовите свою цену.
— Десять тысяч сейчас. И еще десять, если информация вас устроит. Возврат денег не гарантируется.
— А почему вы считаете, что я заплачу вам еще десять тысяч после того, как вы мне все расскажете?
— Заплатите, — самоуверенно ответил шпион. — Для собственного спокойствия. Вы ведь женитесь на девчонке?
— А какое это имеет отношение к нашему разговору? — Пел начинал злиться. Ему казалось, что присутствие Занзора отравляет и его самого и его кабинет.
— Ее опекун не дал разрешения…
— И что из того?
— … и может найти причину или даже предлог, чтобы воспрепятствовать свадьбе.
— Хорошо, — согласился Пел, яростно сверкнув глазами на агента. Он не собирался пререкаться. В конце концов, еще десять тысяч — это только деньги.
Занзор поднялся:
— Если вы сейчас не располагаете суммой, достаточной для первого взноса, я заскочу завтра. Деньги наличными. Непомеченными бумажками, не крупнее, чем пятьдесят долларов.
— Нет, — ответил Пел. — Таких денег у меня сейчас нет.
— Завтра в это же время.
— Договорились. Вам в ту дверь.
Занзор собрался уходить:
— Вы не пожалеете, мистер Ван. Рассказ стоит денег, всех до последнего цента, — он хитро скосился на Пела и выскользнул из кабинета.
С минуту Пел стоял, будто скованный, потом, подойдя к столу, нажал кнопку внутренней связи и попросил секретаря отменить все дела на оставшуюся часть дня. На улице подозвал такси и велел ехать в Национальный аэропорт. А через два часа уже совещался с отцом.
В нью-йоркском кабинете Филлип хмурился и костерил Мерритта, слушая описание Доминика Занзора, потом одобрил все действия сына, хотя и назвал их «нечистоплотным делом».
— Но мне нужны все факты. Иначе я не смогу быть уверенным, что удастся защитить Жени.
— Справедливо, — не стал спорить Филлип. — А она знает, что ты с ним встречался?
— Нет.
— И не собираешься ей рассказывать?
— Не знаю. Не хочу ее пугать.
— Слишком уж ты ее опекаешь.
Сомнения отразились на лице сына.
— Жени будет твоей женой. Сильная, молодая особа и крепко стоит на ногах. Думаю, это-то ты хоть заметил?
Пел горделиво улыбнулся.
— Тогда не трясись над ней. Не начинай совместную жизнь с того, что что-то от нее скрываешь, даже если считаешь, что ради ее же пользы. Расскажи, все и решайте вместе. Так всегда было у нас с твоей матерью. Семья только тогда надежна, когда муж и жена держатся вместе. Могут друг на друга положиться.
— Ты мудрый человек, — Пел кивнул.
— Глупости. Я просто внимательно смотрю под ноги, чтобы не споткнуться.
Пел покраснел, но отец ободряюще улыбнулся.
— Все в порядке. У меня ведь ноги короче, и я ближе к земле. А если раз нечаянно оступишься, даже пойдет на пользу — заставит задуматься, с какой высоты пришлось падать.
— Вечером полечу в Бостон, — решил Пел.
— Можно и так поступить. А можно на несколько дней отложить разговор с Занзором. Я уверен, то, что он хочет рассказать, подождет. Нужно решить, как поступить с его информацией и как после избавиться от него самого. Ты уже проверил, кто он такой?
— Нет… нет еще, — в поспешности ответа послышался упрек самому себе.
— Не спеши. Я вижу, тебе еще многое нужно сделать. Прежде чем начинать разговор с Жени.
— С таким советником, как ты, можно не сомневаться, что не ошибешься.
— Нет, — ответил Филлип. — Твой «советник» — ты сам. А я лишь произношу вслух то, что ты и сам уже знаешь, — он улыбнулся. — Я горжусь тобой, Пел. И надеюсь, не только потому, что ты мой сын. У тебя есть совесть. А это значит, что ты никогда не воспользуешься властью во вред другим.
В этот миг оба мужчины думали о Бернарде Мерритте.
А сам Бернард сидел в библиотеке. После происшествия он не появлялся в конторе. И хотя газеты писали о его «полном выздоровлении», он испытывал необыкновенную слабость, настолько сильную, что временами она напоминала паралич. Его мучили головокружения, временами судороги. Он забывал слова, и несколько раз на дню то руки, то губы отказывались его слушаться.
Слово «удар» не произносили. Интуиция не подвела Филлипа — совет директоров корпорации Мерритта собрался на экстренное заседание и решил пока не делать никаких публичных заявлений. Опыт прошлых ошибок подсказывал, что всякий, кто недооценивал силу Мерритта, мог поплатиться за это сам. Старик еще оклемается. Врач охарактеризовал его удар как небольшой и предсказал полное или почти полное излечение. Прогноз был тотчас передан прессе, как уже свершившийся.
Большую часть времени Бернард проводил в библиотеке, вглядываясь в лицо напротив — в лицо своейнастоящей Девы.
Посылка из Канады поступила, когда он был еще в больнице. Через несколько дней после возвращения домой Бернард увидел ящик и приказал, чтобы до него никто не дотрагивался. В минуты просветления он не отличался от прежнего хозяина, которого слуги знали до болезни. Но поначалу был слишком слаб, чтобы его оставлять одного.
Как только он сумел подняться с кресла-каталки, то распорядился поместить ящик в библиотеку. Там наедине открыл его и, сдвинув в сторону ложную часть, нашел под ней истинную Киевскую Богоматерь, настоящую икону.
Теперь она смотрела на него с полированного столика — сама Мадонна, бесценная женщина.
Ее глаза манили. Бернард чувствовал, что она зовет его, обещает любовь и вечную верность, если он сделает ее своей. И бизнесмен вставал с кресла и приближал свои губы к ее, нарисованным.
— Моя истинная любовь, — шептал он. — Из всех женщин я верю только тебе.
Он пострадал за нее, как страдал ее Сын,завоевал место рядом. Всеостальное не имело значения. Пред золоченым ликом события жизни померкли. Последние месяцы совершенно стерлись из памяти, и все взрослые годы он вспоминал с трудом. Ярким оставалось только детство — дни, проведенные с матерью. Это и Богоматерь, принадлежащая емуженщина, родившая Бога.
От отца Пел направился в аэропорт и оттуда позвонил Жени. Сказал, что садится в самолет и через полтора часа будет в Бостоне. Жени встревожилась, понимая, что неожиданный визит может означать плохие вести.
— Я по тебе соскучился. Вот и все, — успокоил ее Пел. — Образцовая студентка медицинской школы заслуживает свободного вечера.
Жени рассчитывала проработать трудную главу из учебника по физиологии. Но Пел звонил из Ла Гардиа, почти на полдороге к ней, и у нее не хватило решимости попросить его не приезжать. Они были обручены, а жених имел право на внимание невесты.
Жени повесила трубку, мысленно выбирая наряд для ужина в «Ритце» и предвкушая вкусную еду и встречу с Пелом. И вдруг поняла, что никогда не скучает по нему так, как должна бы скучать невеста по будущему мужу. Слишком много было забот в Гарварде.
По дороге в такси она с недовольством думала о себе: слишком уж она практичная, слишком привязана к своему делу и совершенно лишена романтических порывов, заставляющих Пела бросить работу и лететь, чтобы поужинать с ней.
Она поднялась в его номер, все еще разрываясь между противоречивыми чувствами: удовольствием от предстоящего вечера и раздражением при мысли о незавершенной работе. И чтобы скрыть сомнения — улыбнулась нарочито широко, обнимая будущего мужа.
Но когда через несколько минут Пел сообщил ей о причине своего приезда, Жени больше не притворялась.
— Он явился прямо в твой кабинет? — ужаснулась она.
— Ты его знаешь? Слышала это имя?
Жени покачала головой.
— Может быть, вспомнишь по описанию? Глаза, как незаполненные чеки? Это тебе ни о чем не говорит?
Она снова покачала головой.
— Я тебе говорила, мне казалось, что за мной следят. Но ты решил, что это Советы. Мы оба так думали. Через меня они хотели что-то выяснить про отца.
— Да, так я и полагал. Но Занзор утверждает, что его нанял Мерритт, — Пел забрал подбородок в кулак. — Может быть, Занзора наняли для твоей защиты. Но почему именно его? Такого человека, как он? Если бы он был простым телохранителем, его информация не стоила бы двадцать тысяч долларов.
— Двадцать тысяч!
— Извини, — Пел вспыхнул. — Это совершенно неважно.
— Он запросил с тебя двадцать тысяч? За что?
— За сведения, — беспомощно ответил Пел. — Он не собирался говорить Жени о деньгах.
— Какие сведения? — голос зазвенел от напряжения.
— О тебе. О том, что произошло между тобой и Мерриттом.
— А почему ты не спросишь у меня?
— Не знаю… Ведь ты не говорила… Я не был уверен…
Жени вздохнула, собираясь с силами.
— Не хотела делать тебе больно. Я была расстроена. Нет, это не то слово — просто в ужасе.
— Жени, — Пел обнял невесту, губы скользнули по ее лицу.
Она мягко отстранилась.
— Слушай, Пел. То, что я расскажу, причинит тебе боль, но дольше я оберегать тебя не могу.
Он кивнул и сел на диван, чтобы она могла свободнее говорить.
— В день после Сониных похорон Бернард попросил меня зайти в библиотеку… — несмотря на решимость рассказать Пелу все, слова выговаривались с трудом. Но Пел не придвигался к ней, не касался ее, и Жени, запинаясь, продолжила свою исповедь. Голос вознесся на верхние ноты и задрожал, когда она заговорила, как опекун попытался ее изнасиловать, как ее охватила паника, как на пол упала икона, а она, нащупав длинную лестницу, свалила ее на голову Бернарда. Кровь, ужас, что она его убила.
Закончив рассказ, она уронила голову на грудь и закрыла лицо спасительными ладонями. Пел притянул ее к себе, и Жени не увидела, как меняется выражение его лица: сначала на нем отразилась яростная ненависть к Бернарду, потом тот же ужас, что испытала она сама, и наконец — желание утешить, заставить забыть все, что она перенесла без его защиты.
Но она угадала его чувства и заговорила:
— Ничего не поделаешь. Придется оставить все, как есть.
— Но он пытался тебя изнасиловать!
— А я его чуть не убила. И он не выдвинул никаких обвинений.
— Он и не мог. Ты действовала в порядке самообороны.
— Да. Но в комнате были только мы двое. И никаких свидетелей.
— А Григорий?..
— Подоспел позже, когда все было кончено. Он видел только то, что его хозяин чуть не истек кровью. К тому же все произошло на следующий день после похорон его жены. Даже если бы он и захотел свидетельствовать в мою пользу, ему бы не дали это сделать, сочли бы ненадежным. Оставим Григория в покое. Он и так уже настрадался. Я не хочу, чтобы он потерял работу. Пусть все останется, как есть, — подтверждала Жени свое решение. — От взаимных обвинений никому не станет легче, — освободилась из спасительного круга его рук и села. — Я рада, что теперь ты все знаешь, Пел. Я очень боялась рассказывать, боялась последствий.
— О чем ты говоришь, Жени?
— Боялась, что, прикасаясь ко мне, ты каждый раз будешь об этом вспоминать, — призрачная улыбка появилась на ее губах. — Как буду помнить об этом я…
— А ты помнишь?
— Должно пройти еще время, — призналась она. Но сама Жени уже надеялась избавиться от физической скованности, которую испытывала после случая в библиотеке. В первый раз, как после этого она с Пелом любили друг друга, ей показалось, что освободится быстро. Но теперь понимала, что только постепенно. С помощью Пела преодолеет страх и отвращение и снова станет нормальной женщиной.
Они помолчали — каждый переживал в уме свое открытие.
— Может, теперь тебе стоит прогнать Занзора, — наконец проговорила Жени. — Покупать у него больше нечего.
— Наверное, нечего. Но вот икона… Та, что упала на пол. Ты можешь ее описать?
Жени попыталась — лик молодой женщины обрамленный золотом, выражение загадочное.
Пел задумчиво кивал:
— Возможно, это и есть пропавший шедевр.
— Какой?
— Исчезло одно из величайших произведений русского искусства — икона, называемая Киевской Богоматерью. Об этом не сообщалось, и никто об этом не писал, но слух дошел. Считается, что ее переправили на Запад, скорее всего в Америку. Русские хотят получить ее обратно.
— И наказать виноватых?
— Конечно.
«Девочка из Киева», — вспомнила Жени. Тогда она посчитала человека ненормальным, потому что тот предположил, что Бернард удочерил киевлянку. Но оказывается, Советыуже тогда его подозревали.
Она сказала Пелу, что опекун наверняка владел драгоценной иконой, но при падении она, видимо, разбилась.
— А ты не представляешь, как он мог ее заполучить? — возбужденно спросил он.
Она медленно покачала головой и в тот же миг ее осенило: Бернарду был обещан шедевр, за то, что он вывезет Жени в Америку.
Невероятно, но возможно. И многое объясняет. В конце концов, Бернард не хотел брать ребенка и не таким уж он был большим другом ее отцу. Почему же он согласился ее опекать? Он был деловым человеком, коллекционером. Мужчины заключили соглашение к обоюдным интересам. Бернард получал драгоценнейшее сокровище русского искусства. В обмен на это — Георгий мог быть спокоен — дочь находилась в безопасности, и о ней заботились. Для отца величайшим сокровищем казалась она — Жени.
Жени спрыгнула с дивана:
— Обещай мне, что ничего не предпримешь по поводу этой иконы, — в ее голосе прозвучала грубоватая серьезность.
— Но почему?
Она рассказала о своей догадке.
— Если это так, а я уверена, что это так, то отцу грозит смертельная опасность, если их сделка выплывет наружу.
— Понимаю, — ответил Пел.
— Ты никому об этом не расскажешь? Ни одному человеку?
Пел затряс головой, думая о Филлипе.
— Обещай мне, — настаивала Жени. — Поклянись.
— Клянусь, — проговорил он и склонил голову, потом поднял на Жени глаза — они были ясными и решительными. — Клянусь, что не скажу никому ни слова.
— Спасибо, — Жени понимала, что ее просьба будет означать для Пела: конец откровенности с отцом.
На ночь она осталась в номере Пела и спала с ним в одной постели. Но они касались друг друга только руками — и от этого Жени испытала к нему огромную признательность.
В четыре утра она на цыпочках прошла в ванную, а когда вернулась, Пел заговорил ясным голосом, в котором вовсе не чувствовалось сна.
— Что-то здесь все-таки не так. Почему он не решал вопрос с твоим гражданством?
Последние несколько часов и ей то же самое не давало покоя. Единственным объяснением было, что Бернард держал Жени на правах заложницы, чтобы сполна получить выкуп. Но ведь ему же уже заплатили? Зернард уже владел иконой? Каковы же были еще мотивы?
— Не знаю, — ответила Жени. — Загадка.
— Мы с отцом уже думали об этом, — признался Пел. — Переговорили с сенаторами, членами комитета. Похоже, ты получишь гражданство еще до того, как мы поженимся.
— Правда? — Жени прижалась к нему. — Замечательно. Это значит, нам не придется ломать голову над этой загадкой. Пусть все идет, как идет.
— И я так думаю.
Жени уснула, но Пел лежал рядом, не смыкая глаз, до тех пор, пока в семь не прозвонил будильник. Если Занзор не полный дурак, он не надеется продать за двадцать тысяч долларов пустышку. У него, видимо, есть, что предложить. И этот человек через несколько часов будет в кабинете Пела.
Он позволил Занзору войти, но как только за тем закрылась дверь, предупредил:
— Сделка не состоится.
Бесцветные глаза сверлили Пела, как алмазы, потом они сузились:
— На вашем месте я бы так не поступал, — голос Занзора был абсолютно спокоен.
Предостережение огорошило его, но Пел не отступал:
— Я выяснил, что мне нечего от вас узнавать. Особа, за которой вас наняли шпионить, рассказала мне все сама.
Занзор рассмеялся: как будто в глубине металлического цилиндра разрывали материю. И продолжал неотрывно смотреть на Пела:
— Если вы не заинтересованы в покупке, понесу товар другим клиентам. Русским.
Он поклялся Жени.
— А почему русские проявляют к этому делу интерес?
— К одному из художественных произведений… — белизна глаз Занзора казалась устрашающей.
Пел достал чемоданчик.
— Вы человек чести, — улыбнулся шпион, — и здраво судите о делах. Я готов с вами прогуляться, мистер Вандергрифф.
— Зачем? Можете говорить здесь и прямо сейчас.
— Я профессионал, — мягко возразил Занзор. — И знаю, что в кабинетах встречаются приборы разного свойства. Внутренняя связь. Диктофоны, — он поднялся. — Вы готовы?
Они шли по Конститьюшен Авеню, заполненной в эти утренние часы туристами, снующими между памятниками Вашингтону и Линкольну. Занзор подтвердил существование сделки между Бернардом и отцом Жени: переправки ворованных произведений искусств, самым ценным из которых была икона Киевской Богоматери — в обмен на опекунство над девушкой.
Еще Занзор сообщил, что икона оказалась поддельной.
— Я вам заплачу, — с отвращением произнес Пел. — За молчание.
Впервые на лице Занзора появилось выражение удивления:
— Вы разве не хотите его прищучить? Прищучить Мерритта?
— Я хочу избавиться от вас, и это все.
— Хозяин — барин, — Занзор невесело рассмеялся. — Богатых не поймешь. Отдают целое состояние за то, что им не нужно.
Пел резко повернул налево и поспешил по 15-й стрит к Белому Дому. Он был разъярен, и он был растерян из-за опасности, грозившей отцу Жени, который должен был стать его тестем. Пел был вынужден выгораживать преступника, чтобы защитить члена семьи. Жизнь Жени в обмен на экспонат для коллекционера, мрачно размышлял он и испытывал к невесте величайшую нежность и жалость. Никогда ее больше не оценят так низко. Он будет обожать ее, что бы ни случилось. Будет любить, даже если брак приведет к разрыву с сестрой — будь что будет. Супружество с Жени — высший долг его жизни.
Пел снова повернул налево и ускорил шаги. Его длинные ноги мелькали так быстро, что туристы у ворот Белого Дома стали оглядываться на него: отчего это так подпрыгивает человек в деловом костюме?
… В библиотеке Бернард проводил время наедине с иконой. За долгие часы с Непорочной Девойон забыл настоящую девушку, которая привела его в это святилище.
Он мало думал о Жени и ничего не изменил в установленном над ней опекунстве — плата за обучение по-прежнему поступала, доверенные Бернарда снабжали ее деньгами на расходы, хотя Филлип Вандергрифф дал распоряжение адвокатам предусмотреть все на непредвиденный случай. Какую бы игру ни задумал Мерритт, Вандергриффы будут защищать будущую жену Пела.
Жени занималась усердно, как никогда, стараясь вырваться вперед, чтобы иметь возможность почаще видеться с Пелом в Нью-Йорке.
Единственной проблемой была неустанная деятельность Мег: если будущие супруги приезжали всего на один день, она все равно устраивала ужин или хотя бы небольшую вечеринку. Поскольку Пел и Жени были еще не женаты, они спали в разных комнатах. Мег настаивала на этом не ради соблюдения морали, а для поддержания общепринятого социального порядка. Для слуг, объясняла она.
В результате ее усилий, Пел и Жени редко оставались наедине. Разъехавшись по своим городам, они хотя бы раз в день разговаривали по телефону. А на людях были вынуждены играть роль обрученной пары. Попытки же встречаться в Бостоне или Вашингтоне воспринимались как бунт против самого бракосочетания. Жени должна была трижды сходить на примерки свадебного наряда, и Мег, которая звонила не реже, чем Пел, каждый раз придумывала что-нибудь новенькое: покупку столового серебра и фарфора, выбор монограммы для постельного белья и платков.
Между помолвкой и свадьбой Пел и Жени были обречены на участие в пышных и пустых представлениях, и это их сильно объединило: Минуты же любви, встречи наедине — стали редкостью. И Жени начинала задумываться, сможет ли она и после свадьбы оставаться вдвоем с мужем? Его жизнь в Вашингтоне проходила на людях. Он рассказывал, сколько приемов, сколько ужинов и всяческих мероприятий должен был посетить.
Как сможет Жени вписаться во все это? И откуда найдет столько времени? Не растворится ли ее жизнь в беседах в диванных салонах?
По мере приближения свадьбы страх все чаще закрадывался в душу Жени. «Может быть, на одного человека хватит одного призвания?» — думала она. А ее призвание — хирургия. Но она любила Пела и была ему так многим обязана. Обязана его семье. Уклониться от свадьбы — немыслимо. И все-таки она боялась. Боялась своей роли жены. Боялась того, чего от нее ожидают. Боялась возбужденных звонков Мег, когда та перечисляла знатных приглашенных, говорила о цветах к празднеству, о яствах, судачила о мире — таком далеком от медицинской школы, что казалось, этот мир существовал на другой планете. Сможет ли когда-нибудь Жени в него войти?
Основная проблема возникла с подружкой невесты. Приближался День Благодарения, а Лекс все еще не дала согласия приехать на свадьбу. Мег пребывала в ужасе. Пел был настроен философски. Хоть он и не имел возможности ездить к сестре в Топнотч и не уговаривал ее по телефону, все же успокаивал остальных:
— Увидите, в конце концов она явится.
Но Жени сопротивление Лекс казалось символичным. Предупреждением. Иногда ей казалось, что свадьба все-таки не состоится.
22
Незадолго до Дня Благодарения в общежитие, Жени позвонил Дэнни и поблагодарил за операцию Хаво. С начала учебного года это был их первый разговор, и Жени решила, что он нарочно так рассчитал звонок, чтобы приурочить его к их с Дэнни дате: год назад они провели этот праздник в Янгстауне, а до этого, сразу же после убийства президента, катили на машине на Запад. Сколько воды утекло с тех пор. Тогда она еще училась в колледже, Соня была жива, а Пел отдалился настолько, что был почти незнакомцем. Год назад она была еще девственницей. Один год — и целая эпоха.
— С Хаво все хорошо, прекрасно, — сообщил Дэнни. — Пойдем куда-нибудь вечером, отпразднуем!
— Не могу. Дэнни, я…
Его голос звучал так восторженно, что она не смогла договорить.
— Он просил передать, что любит тебя. И родители тоже. Благодаря тебе и твоему божественному доктору Ортону волчья пасть Хаво исчезла. Все великолепно, даже в самой глубине глотки.
Жени рассмеялась.
— Я рада, — она представила улыбку Хаво и округлое, раскрасневшееся от удовольствия лицо Елены. Голос Дэнни вызвал поток воспоминаний и чувств.
— Прокачу тебя во взятой напрокат развалюхе. Буду через сорок пять минут.
— Не могу… — начала Жени снова, но вдруг передумала. — Хорошо, — согласилась она, прежде чем Дэнни положил трубку.
«Я обязана рассказать ему лично», — решила она. В этом году у них невелики были шансы столкнуться: Дэнни учился на последнем курсе колледжа, она — в медицинской школе. Может быть, он от кого-нибудь узнал о предстоящей свадьбе или прочитал в газете? Нет, будет намного честнее, если она расскажет все сама. И глядя ему в лицо.
От телефона она пошла прямо в душ, стянула свитер, осознавая свою наготу.
В лицо. Живьем.
Странное она испытывала чувство. Голос Дэнни пробудил в ней что-то, что она считала умершим.
После душа Жени тщательно растерла себя полотенцем, надела лифчик и трусики и начала расчесывать перед зеркалом волосы. Подкрасила ресницы и оценила эффект. Она постаралась не обращать внимания на то, что в ее теле что-то принималось вспениваться. Сосредоточилась на своих действиях, как будто они имели огромное значение. Стереть грязное пятнышко с носа, побрызгать туалетной водой под мышками и между грудьми.
Ее тело — оно просыпалось к жизни снова, кожа после спячки вновь горела.
Жени слегка выдвинула из тюбика карандашик помады и сделала легчайший мазок. Хорошо. Так лучше: глаза теперь кажутся темнее. Она одевалась не спеша и уже в третий раз меняла обувь. В это время ее и вызвали вниз к гостю.
Жени увидела его в шести шагах у подножия лестницы. Под падающим сверху светом вьющиеся волосы блестели, как мраморные. Он поднял голову, и, после стольких месяцев, она вновь увидела его глаза. Его лицо казалось необычайно живым, выражение все время менялось, рот полуоткрыт — она оказалась в его объятиях, ответила на поцелуй, прижалась к нему, обняла руками за плечи, ощутила его руки на своей спине. Их поцелуй был настолько естественен, что и после они продолжали сжимать друг друга. Лица рядом, они слегка касались друг друга носами: голова Дэнни расплывалась перед ее глазами огромным пятном.
Затем она уронила руки и отступила назад:
— Дэнни…
— Жени…
Они продолжали смотреть друг на друга. Жени не могла оторвать взгляда от его лица, не могла придумать, что бы сказать, только снова и снова повторяла его имя:
— Дэнни. Дэнни…
Он первым нашел слова:
— Я скучал по тебе, Жени. Пошли. Карета подана.
Жени уже открыла рот, чтобы рассказать ему о Пеле, но Дэнни коснулся ее руки, и она осеклась. Они вместе вышли на улицу, к краю тротуара, где стояла его машина. Дэнни придержал дверцу, и Жени забралась внутрь автомобильчика, поражаясь его миниатюрности по сравнению с теми машинами, к которым она привыкла.
Дэнни свернул на знакомую улицу, и это вернуло ей дар речи:
— Дэнни, нет. Не могу.
— Не можешь?
— Я думала… Когда ты позвонил, — она запнулась, перевела дух и заговорила снова. — Ты сказал, нам есть что отпраздновать. Операцию Хаво.
— Этим нам и предстоит заняться, — Дэнни медленно вел машину. Его голос звучал глубже, чем прежде.
— Но не у тебя.
Он втиснулся между двумя огромными лимузинами и выключил зажигание. Потом взглянул на нее:
— Когда я тебе позвонил, я так и думал: пойдем в кафе, разопьем бутылочку шампанского. Но когда в общежитии увидел тебя, как ты смотрела на меня, как обняла и поцеловала, понял, что лучше справить все наедине. И шампанское нам ни к чему. На него уйдет слишком много времени.
— Я должна тебе кое-что сказать, — она с усилием отвернулась от него и стала глядеть перед собой в окно.
— Скажешь потом. Пошли, — он вынул ключ из замка.
— Нет.
— Жени, — голос стал низким, но не потерял настойчивости. — Я прошу лишь о том, чтобы мы воспользовались мгновением. Больше ни о чем. Я знаю, ты тоже так чувствуешь — это наше мгновение, и оно вознесет нас на нашу вершину. Мы одолеем ее вместе, любовь моя — потерянная и вновь обретенная. Мы должны предаться нашему мгновению, и боги вознесут нас наверх на плечах.
Жени пробормотала что-то, но так тихо, что он не расслышал, и повернул ее голову к себе.
— Поговорим потом. О чем хочешь.
Жени дрожала; лицо, сдерживаемое его ладонью, обращено было к Дэнни.
Он пристально вглядывался в него — лицо, которое последнее время преследовало его повсюду.
— Жени, я люблю тебя. Вижу в каждой девушке, каждой женщине. Все это время я надеялся, нет, я молил, чтобы мы были вместе. Я знаю, придется ждать, но я к этому готов, — он взял ее за руку. — Но сегодня давай будем любить друг друга.
— Да, — слово застыло у нее на губах, и вслед за этим она умоляюще вымолвила: — Нет.
Она давно уже не помнила ощущения пронзающего электричества, пронизывающих потоков солнечного света, смеха, чувства, будто прямо сейчас родилась заново.
Дэнни обнял ее за талию. Она вся обмякла.
— Я не могу, Дэнни. Я обручена…
Его рука упала с талии, и на тусклой улице Жени почувствовала себя одинокой и беззащитной.
— Обручена? — повторил он подавленно. — Чтобы выйти замуж?
Она кивнула.
— С кем?
— С Пелом. Пелом Вандергриффом.
Дэнни молчал. На его глазах показались слезы. Жени чувствовала, что опустошена. Осколки сказки валялись под ногами. Было такое ощущение, будто она убила живое.
— Это точно? — наконец выговорил он. — Ты выйдешь замуж за этого… человека?
— Да.
— Так, может, совершим это напоследок в память о прежних временах? — его голос сделался грубым. — Покувыркаемся в последний раз на сене, пока ты не стала замужней женщиной?
В тусклом свете фонаря Жени увидела, каким суровым стало его лицо. Он смотрел на нее почти с ненавистью. Вместе с любовью она разбила его поэтическую мечту.
Она покачала головой, и по ее щекам потекли слезы.
— Хорошо. Я провожу тебя до такси.
На стоянке она повернулась, чтобы попрощаться, но Дэнни уже быстро шел прочь, держа спину очень прямо — чтобы продемонстрировать свою гордость.
Через три дня, на выходных в Нью-Йорке, Жени пожелала спокойной ночи Вандергриффам и вышла из гостиной. Она извинилась за ранний уход, сказав хозяевам и гостям, что последние дни ее сильно вымотали.
— Ничего, дорогая, — Мег подставила щеку для поцелуя. — Мы понимаем, как тяжело учиться в медицинской школе.
Жени пропустила мимо ушей скрытое в голосе Мег раздражение. Пел проводил ее до спальни, но у дверей она быстро поцеловала его:
— Прошу тебя, не сегодня, Пел, — и повернула ручку. — Я и в самом деле устала.
«Даже разговаривать с ним будет тяжело», — подумала она.
— Понимаю. Увидимся завтра. Спокойной ночи.
Но Жени не заснула до рассвета, а встала, почувствовав себя более выжатой, чем накануне.
— Нервы, — успокоила ее Мег за завтраком. — Так бывает со всеми невестами.
— Наверное, — мрачно согласилась Жени.
— Хорошо, что праздничный обед будет не у нас. Я бы просто рухнула: ведь я тоже волнуюсь.
— Невероятно, — улыбнулся Пел. — У тебя, как у «Роллс-Ройса», вечная гарантия.
Мег рассмеялась и повернулась к мужу:
— Ты не возражаешь, Филлип? Насчет Дня Благодарения?
— Напротив, — ответил он. — Ты меня знаешь, Мег. Я из тех, кто всегда портит настроение другим. Была бы моя воля, наложил бы запрет на все эти празднества.
— Запретил бы даже свадьбу?
— Свадебную шумиху — да, — он задумчиво посмотрел на Жени. — Хотя против самой церемонии ничего не имею против.
— Ну, спасибо, — кисло хмыкнул Пел.
— Ты никогда так не говорил, — расстроилась Мег. — И всегда любил то, что сейчас называешь шумихой. Любил, когда вокруг тебя много людей.
— Ради тебя. Мне нравилось смотреть, как ты суетишься, чтобы успеть все организовать, Бог знает, сколько, и при этом всегда такая счастливая, словно устрица, создающая себе жемчужину.
Представив себе эту картину, Мег не смогла не рассмеяться:
— А теперь?
— Времена меняются. Мы стареем.
— Ты — может быть. А кое-кто здесь — не хочет.
— Как твоя мать, например, — кивнул Филлип. — Ты всегда будешь молодой, Мег. И когда-нибудь станешь молодой вдовой.
— Не говори так! — резко оборвала мужа Мег.
Жени заметила, что Филлип выглядел усталым. С тех пор как она впервые его увидела, он постарел, лицо потеряло прежнюю живость. «Вина Лекс», — подумала Жени. Любимая дочь, младшая из детей — он переживал вместе с дочерью, проникался ее болью и ощущал бессилие, глядя, как ненавидит себя его ребенок.
Жени хотела бы дать Филлипу знать, что она его понимает.
Понимает что?
Что мы все бессильны, ответила она себе самой. Что нами управляют чувства, над которыми мы не властны. Что любовь может причинить боль.
Телефонный звонок заставил ее очнуться. Мег пошла ответить и возвратилась с удивленным выражением лица:
— Это Лекс. Она едет домой.
Жени вскочила и, пробормотав извинения, бросилась к себе в комнату. Ей хотелось бежать без оглядки, только чтобы не оставаться здесь, когда в свойдом на День Благодарения приедет Лекс. Жени ворвалась сюда,и ей была невыносима мысль снова предстать перед подругой. Во всяком случае — не здесь.
Но потом, после того как она проспала несколько часов и пришел Пел — они разговаривали и он массировал ей плечи и спину — Жени почувствовала себя настолько окрепшей, что смогла провести с хозяевами остаток дня.
В День Благодарения сначала все хотели пойти в ресторан, но захочет ли Лекс показаться на людях?
— Привет, Жени, — голос Лекс казался девчоночьим и почти безжизненным.
Они встретились в коридоре, ведущем на кухню.
— Привет, Лекс, — ни одна из них не улыбнулась. Они стояли в трех футах напротив друг друга, и лицо Лекс частично скрывала тень — Жени подумала о недодержанной фотографии. Расчесанные волосы прикрывали уши и падали на лоб мягкой челкой — каштановые, безжизненные, будто парик. В школе волосы Лекс обычно блестели, она каждое утро мыла голову, чтобы они не выглядели жирными, «как спагетти». Вспомнив выражение подруги, Жени улыбнулась.
— Что-нибудь находишь забавным? — подозрительно насторожилась Лекс.
— Мне понравились твои волосы, и я вспомнила о спагетти.
Лекс вымученно улыбнулась, скорее поморщилась:
— Теперь все наоборот. «От жирных к сухим». В рекламных роликах все эти модели хоть и жалуются на волосы, имеют прекрасные прически.
— Да, — согласилась Жени и подумала, сколько часов Лекс провела одна перед телевизором.
— Как у тебя?
— У меня… — Жени не знала, что ответить. Она оказалась в ловушке: не подойти ближе, не повернуть назад.
— Хочешь поговорить? — приглашение Лекс прозвучало, как вызов.
— Конечно, — она постаралась сказать это естественным тоном.
— Хорошо. Пошли, — Лекс провела ее в маленькую гостиную, где семья, если не было гостей, собиралась перед обедом. В Последнее время комнату превратили в склад для подарков новобрачным — коробкам и ящикам не хватало места в шкафах, музыкальной и швейной комнатах. Из чувства природного такта Мег не помещала подарков в пустующую комнату Лекс.
Следуя за подругой, Жени заметила, что та по-прежнему сохраняет избыточный вес, идет, как всегда, грациозно, слаженными шагами спортсменки. Свободные брюки и длинные рукава позволяли видеть кожу лишь на кончиках пальцев рук.
Когда они сели напротив друг друга по разным углам комнаты, Жени смогла разглядеть лицо подруги.
Оно выглядело намного лучше: от шрамов остались пересекающиеся бороздки, более глубокие на лбу — словно дуэльные раны, достаточно широкие, чтобы между краями обнаруживалась блестящая кожа без пор.
— Ты выглядишь прилично, — решилась подать голос Жени.
— Настолько, насколько это можно купить за деньги, — вызывающе ответила Лекс. — Но недостаточно, чтобы сойти за нормальную.
На расстоянии при тусклом свете никто не заметит, что Лекс обезображена, размышляла Жени. Но вблизи сразу видно, что кожа неестественна: либо висит, либо слишком плотно прилегает к костям. И цвет такой, будто художник, стараясь воспроизвести цвет здорового тела, намешал красного, голубого и желтого.
Лекс поняла, что подруга изучает ее, и слегка подняла подбородок, словно специально давая ей лучший обзор. Жени быстро отвернулась.
— Я не поздравила тебя с предстоящей свадьбой, — проговорила Лекс. — Наверное, ты очень счастлива, — слова прозвучали как обвинение.
— Спасибо, — Жени ждала, что последует дальше.
— И как, мой братец хорош в койке?
— Пожалуйста, Лекс…
— Не могу себе представить. Тебя, обуреваемую страстью в его объятиях.
— Лекс… — Жени поднялась.
— Извини. Не мое дело, ведь так? Да братцу есть что предложить кроме этого. Богатый, блестящий. За ним, как за каменной стеной…
— Он добрый! — возразила Жени с напором. — Самый добрый из всех, кого я знаю.
Лекс посмотрела на нее и согласно кивнула:
— Да, они все такие. И родители тоже, — и вдруг заговорила другим тоном: — Жени, тысячу раз я хотела тебе написать, сказать, попросить… Извини, Жени. Знаю, эти слова ничего не значат, но что я еще могу сказать?
Как человеку просить прощения за собственное безумие? Эли дал ей понять, насколько это трудно.
Жени встала и направилась к Лекс, но та предостерегающе вытянула перед собой руки:
— Не прикасайся, не подходи слишком близко.
Жени снова беспомощно села.
— Знаешь, что мы можем сейчас сделать? — спросила Лекс через несколько мгновений.
— Что? — Жени жадно подалась вперед.
— Попытаться забраться на эту гору. Посмотрим, как лавиной рухнут вниз все эти огромные белые валуны.
— Свадебные подарки?
— Да. Разве тебе не интересно?
— Не очень, — она сразу же пожалела о своих словах. — Раньше было не очень. Но если открывать вместе…
— Будет очень забавно, — заверила ее Лекс, подходя к большой картонной коробке на кофейном столике. — Открывай эту.
Жени сняла рельефную обертку, перерезав ногтем большого пальца тесьму, раскрыла упаковку и достала тяжелый деревянный предмет трех футов длиной.
— Ну, смотри, — рассмеялась Лекс. — Ты это всегда хотела.
— Я?
— Конечно. Что за дом без… дай-ка взглянуть… без крикетной биты.
— С арабскими буквами, — Жени разглядела вязь, вырезанную у основания.
— От кого она? — Лекс разворошила бумагу, стараясь отыскать карточку. — Нельсон Рокфеллер. Как предусмотрительно с его стороны. Значит, это произведение искусства.
— Ты уверена?
— Точно. Можешь продать и купить себе сервиз. Дюжину сервизов вместе со столом.
— Но кто это купит?
Лекс покачала головой и рассмеялась:
— Соображаешь. В том-то и загвоздка. Проблема с богатыми гостями в том, что их подарки бесценны, их не вернешь, но и продать нельзя.
Жени тоже рассмеялась:
— А что же написать в благодарственном ответе?
— Ну что-нибудь вроде: «Ваш бесценный дар оценен по достоинству». Нет, не подходит. Звучит, как послание с соболезнованиями. Но я еще подумаю. Знаешь, что это за барахло? Годами болталось в доме. Подарок какого-нибудь бывшего короля Сомали или вождя бедуинов, когда те приходили в гости.
Еще один урок из мира толстосумов: они никогда ничего не покупают. Подарки ходят по кругу. Если грядет свадьба или юбилей, они начинают прикидывать: что бы подарить такому-то, что мне не нужно, но достаточно ценно, чтобы продемонстрировать наше могущество? Вот увидишь, полезное получишь только от бедняков.
— Бедняков? — Жени почувствовала себя намного свободнее, словно они разговаривали пару лет назад. — Я не слышала, что пригласят бедняков.
— Их и не пригласят. Это условный термин, и обозначает тех, кто выберет тебе подарок в магазине.
Будто в подтверждение своих слов Лекс открыла другой сверток, легче и меньшего размера, чем первый, и достала из него красивую тиковую салатницу.
— От Вирджинии, — прочитала она надпись на карточке, — которая желает тебе всяческого счастья. Это мамина парикмахерша.
— От кого? — в дверях стояла Мег.
— От Вирджинии. Она прислала вот это. Правда, очень мило?
Мег переводила взгляд с одной девушки на другую, и на ее ресницах дрожали слезы:
— Я так рада, так счастлива видеть вас вместе. Я так молилась…
— У тебя поуменьшится радости, когда ты взглянешь на кое-что из этого старья, — Лекс перебила мать, но улыбнулась ей. — Ведь тебе в конце концов придется куда-то девать вот это, — девушка вытащила длинный деревянный предмет.
Мег усмехнулась:
— Приберегу для чьей-нибудь свадьбы, — и озадаченно моргнула, когда Лекс и Жени разразились дружным хохотом, как будто услышали остроумную шутку. Но тоже счастливо рассмеялась, видя их вместе.
— Я вас искала… обеих, — сказала она. — У нас заказ на вечер в «Л'Аморике». Я думала, не стоит ли его отменить? — она говорила в пространство между Лекс и Жени, но обращалась к дочери.
— Зачем? Пойдем. Но сначала надо избавиться от этих пакетов, — Лекс сунула бумагу в маленькую корзину, та переполнилась и часть свертков осталась на ковре.
— Я об этом позабочусь, — радостно сказала Мег, когда дочь выходила из комнаты. Потом повернулась и обняла Жени:
— Да благословит тебя Господь, — ее глаза влажно сияли.
На следующее утро Жени предложила Лекс открыть еще несколько подарков, но подруга не отозвалась на ее предложение и казалась мрачной. И Жени поняла, что накануне ей стоило огромных усилий избавиться от депрессии и самокопаний. Лекс, сделавшая сознательное усилие восстановить мир, но не вынесшая его, вернулась к себе в комнату, где и провела большую часть выходных.
Мег планировала в пятницу пойти с Жени за покупками и приобрести то, что назвала «ее основным вашингтонским гардеробом». Но приезд дочери изменил ее намерения: ей казалось, что это будет выглядеть небольшим предательством.
Незримое присутствие Лекс ощущалось в семье, но до вечера в пятницу о ней никто не упоминал. В пятницу Пел настоял на том, чтобы увидеться с сестрой, а когда через полчаса вышел из ее комнаты, заявил, что Лекс знает, что делает. Она хочет оставаться одна и в то же время вместе с ними — другими словами, сохранять привычное одиночество в квартире родителей.
— Она полностью владеет собой, — заверил Пел. — Но вряд ли захочет провести с нами остаток выходных. Если не возражаете, — Пел посмотрел на отца и мать, — мы с Жени не будем участвовать в развлечениях, которые вы нам здесь приготовили, и уедем в Вашингтон.
— Пел! — Мег была в ужасе.
Он повернулся к ней, но по-прежнему обращался к отцу, в нем хотел найти поддержку своему предложению. — У нас почти нет времени, чтобы побыть вместе. Мне и Жени…
— Оставайтесь здесь. Мы вас не будем беспокоить…
— И я хотел бы, — прервал он мать, — чтобы она взглянула на дом, который я, то есть мы намереваемся купить.
— Разумно, — похвалил сына Филлип, пресекая взглядом возражения жены.
Пел описал невесте дом на П-стрит в Джорджтауне. Отделанный кирпичом, с заросшим подъездом и чудесным садом позади. Три этажа были бы более чем достаточны, и позволяли семье разрастись, разместить в доме няню и повара. Столовая на третьем этаже легко вмещала пятьдесят человек, которых предстояло собирать на а-ля-фуршеты, коктейли и «неизбежные вечеринки» — необходимую часть карьеры Пела в дипломатии. Жени не рассчитывала увидеть дом до свадьбы, после которой они намеревались провести неделю в Вашингтоне, а «настоящий» медовый месяц устроить в июне, когда она закончит учебный год.
Дом был еще занят, и до нового года владелица не намеревалась выставлять его на продажу. Но ее племянник, чиновник Белого Дома, специализирующийся по Восточно-европейским проблемам, обмолвился как-то за нескончаемым обедом с возлияниями, что его тетушка обустроилась на вилле в Лозанне, где рассчитывает на большую роскошь при меньших расходах. Пел, которому нравился кирпичный дом, мимо которого он каждый день проходил, тут же спросил, не будет ли дом продаваться. Племянник, поняв, что сболтнул лишнее, сообщил Пелу имя агента, который станет заниматься делами, когда настанет время.
Пел позвонил агенту, как только вернулся с обеда к себе в кабинет, и спросил, не смогут ли они договориться о сделке. Агент по продаже недвижимости дал понять, что никакое официальное соглашение невозможно, но он внесет Пела в начале любого списка, который может возникнуть, когда подойдет время.
Обычная осторожность заставила Пела подождать еще две недели, прежде чем упомянуть о доме Жени или кому-нибудь еще. Он снова позвонил агенту, и тот заверил его, что помнит об их разговоре. А потом Пел увидел в этом доме знак судьбы — коллега из Белого Дома пригласил его на прием, который следующим вечером давала тетушка.
Пел давно восхищался домом снаружи, а теперь влюбился в него и изнутри. За вежливыми разговорами он обдумывал, как будет его обставлять и сколько потребуется денег, чтобы его содержать. Воображал картины, как они с Жени развлекают друзей, коллег из Государственного департамента, послов и их жен, членов кабинета, своих родителей.
После приема он бросился в свою квартиру и написал два письма: одно Жени — с длинным и детальным описанием наружности дома и расположением комнат, что успел охватить взглядом, и другое, короче — родителям. И в том, и в другом он сообщал, что дом на П-стрит ближе всего к тому, о чем он мечтал в этом городе.
— Превосходная идея, — повторил Филлип, кивком приглашая Мег присоединиться к его суждению. — Думаешь, старая дама разрешит вам осмотреть дом изнутри?
— Сомневаюсь, — признался Пел.
На самом деле он и не собирался ни о чем ее просить. Властная, ревнивая хранительница собственной независимости, леди, привыкшая следовать лишь тем законам, которые сама для себя установила, вполне могла сделать так, что Пел не получил бы дома, если бы ее рассердил.
— Но Жени составит о нем представление и снаружи, — защищался он. — А сквозь ворота — железные литые ворота — можно заглянуть в сад.
— Заглянуть. Составить представление! — разочарованно ощетинилась Мег. — На сегодняшний вечер я пригласила семь пар, ближайших друзей. Все они до смерти хотят увидеть Жени, а ты собираешься увезти ее, чтобы одним глазом заглянуть сквозь ворота и увидеть голую землю!
— Я и не собирался так поступать, — Пел обнял мать. Конечно, мы останемся с вами на вечер. Я только подумал… — он поймал удивленный взгляд отца и изменил тон. — Хотел сказать, что в Вашингтон мы поедем утром, — он крепко поцеловал ее и освободил из объятий.
— Хорошо исполнено, — проговорил Филлип. — Но прихвати-ка лучше в столицу свое воркование и милование, чтобы в остаток выходных я смог отдохнуть. Когда вы оба здесь, Мег кипит от возбуждения, а это слишком для моих старых костей.
— А ты! — Мег набросилась на мужа. — Ты прекрасно знаешь, что я ничего здесь не могу сделать по-своему.
Возмущение хозяйки дома заставило всех рассмеяться, а через минуту она сама обнимала Пела и Жени. «Со стороны, — подумала Жени, — можно заключить, что они — единая счастливая семья». И спросила себя, доносится ли их смех в комнату Лекс.
Лекс не появилась на вечеринке, и до отъезда в Вашингтон Жени ее больше не видела.
В самолете она впервые заговорила с Пелом о роли его сестры в их свадьбе.
— Мы навязываемся ей, заставляя быть подружкой невесты, — сказала Жени.
— И да и нет, — широкая ладонь Пела накрыла руку Жени. — Мама знает, насколько Лекс трудно, но продолжает ее убеждать, потому что понимает, Лекс будет еще тяжелее, если она не сыграет своей роли в нашей свадьбе. А роль подружки невесты — очень важная роль.
Жени знала, что Мег тайно заказала платье для Лекс. И хотя примерок и не было, его можно подогнать по фигуре в последний момент.
На свадебных фотографиях Лекс должна появиться с нею рядом, под теми же лучами вспышки, но в роли вспомогательного игрока, и изображение может причинить ей боль. Еще — ей предстоит самостоятельно пересечь придел — все глаза окажутся устремленными на нее…
— Может быть, стоит уважить ее решение, — Жени произнесла эти слова и нахмурилась, услышав в них отголосок поучений Бернарда. Легко уважать мнения других, когда они сходны с твоими.
Пел перегнулся и поцеловал ее в макушку:
— Предоставим это матери и дочери. Они прекрасно знают друг друга, и у каждой очень сильный в своем роде характер.
В первый приезд в Топнотч Жени поразила сила Мег. Но Лекс тогда утверждала, что мать вовсе не сильная, что в их жизни заправляет отец, а не она.
— В каком смысле сильный?
— Каждая знает, что для нее лучше.
Неужели? Не приписывает ли Пел силу всякой женщине, которую любит, размышляла Жени, как другие мужчины приписывают красоту, обаяние, ум?
— Как ты думаешь, что чувствует Лекс в связи с нашей свадьбой?
Ладонь Пела замерла на ее руке:
— Не знаю, — ответил он. — Возможно, что она и сама не знает.
— Наверное, ты прав, — Жени ухватилась за большой палец Пела.
Раздались привычные задыхающиеся звуки мотора, говорящие о том, что они вот-вот приземлятся. Вот колеса коснулись земли, самолет пробежал по рулежной дорожке и остановился в Национальном аэропорту.
Когда они вошли в терминал, какой-то человек подошел к Пелу.
— Мистер Вандергрифф? Боюсь, что у меня для вас плохие вести.
Пел распрямил плечи, готовый снести все, что бы не сказал этот человек.
— Примерно сорок пять минут назад у вашего отца случился сердечный приступ. Самолет готов, чтобы отвезти вас обратно в Нью-Йорк.
К тому времени, когда они прибыли, Филлип умер на операционном столе после второго приступа.
23
Свадьбу отложили на июнь.
Жени осталась в Нью-Йорке на похороны, а на следующий день, не в состоянии пропускать больше занятий, села в поезд, в Бостон. Она сидела в вагоне, глядя в раму окна, за которым проносились зимние пейзажи: замерзшая земля, голые поля, черные похожие на скелеты, деревья на фоне тусклого неба. Даже очарование Новой Англии заморозила его смерть.
Жени печалилась по всем, кого раньше оплакала. Но она знала, что для семьи Филлипа существовала лишь одна смерть — смерть мужа и отца. И они горевали по нему. Особенно Мег.
На похоронах друзья и коллеги Филлипа утешали Мег, говоря, что смерть мужа оказалась «милосердной» по своей быстроте. Мег рассеянно кивала, пыталась улыбнуться, но Жени ощущала в ней огромную пустоту — жизнь женщины потеряла опору.
Мег терпеливо, сохраняя достоинство, говорила с журналистами, настояла на том, чтобы самой написать извещение о смерти и включить в него фразу: «Вместо цветов, пожалуйста, присылайте пожертвования на благотворительность или какое-либо дело по вашему усмотрению». Мег передала записку Жени, чтобы та продиктовала извещение в редакции газет.
— Филлипу было интересно все, любое дело. Больше всего он ценил в людях приверженность чему-то, а не только собственным интересам.
Ее лицо светилось гордостью, когда она говорила о муже, а потом вдруг становилось отрешенным. Мег действовала точно и эффективно, но в ее целенаправленной деятельности было что-то устрашающее. Глаза женщины ничего не выражали, плечи опустились: смысл жизни в повседневном значении у нее отняли.
Жени замечала, как ее собственная тревога за Мег отражалась и множилась в глазах Пела. Он часто обнимал мать, носился вокруг нее, но не мог ничего ни сказать, ни сделать, чтобы утешить.
На похоронах, в отличие от Мег и Лекс, он плакал открыто, хотя, мужчина, он не привык к слезам. Но внезапная смерть отца освободила чувства, которые он раньше сдерживал.
Лекс не плакала по отцу — она упорно молчала, как будто хотела стать невидимой или превратиться в камень.
«Они все во мне нуждались», — думала Жени. И хотя Пел пытался ободрить Жени, она не была уверена, не покажется ли ее возвращение в медицинскую школу проявлением черствости.
Накануне похорон она ушла к себе в комнату с чашкой настоянного на травах чая, и Пел стал убеждать ее, что жизнь должна идти своим чередом:
— Поступать по-другому — значит не уважать память отца. — Он нежно взял ее за руку, поцеловал в ладонь и сложил в кулак пальцы — любовь, которую можно открыть в любую минуту. — Завтра же отправляйся обратно. Ты здесь больше ничего не сможешь сделать. Мама с Лекс уезжают в Топнотч. Она будет жить в собственной хижине, а не в главном здании.
— А что говорит на это Лекс?
— Ничего, но я чувствую, что она испытывает облегчение: за мать и себя. Она, как и я, беспокоилась, что мама останется одна. В доме, в котором всегда жила… с ним.
Сразу же после их отъезда Пел должен был вылететь в Вашингтон, взять отпуск в Государственном департаменте, чтобы, вернувшись в Нью-Йорк, возглавить Фонд Вандергриффов на время переходного периода после смерти его президента.
Все молчаливо понимали, что как наследник отца — Пел еще не был готов, или, как он сказал Жени, не был достаточно квалифицирован, чтобы занять его должность. Но временно он согласился стать «действующим президентом», видя свою роль в том, чтобы в качестве сдерживающей силы, как можно мягче осуществить переход к новому руководству.
Жени сознавала, что Пел был наследником отца и в общественной, и в личной жизни — глава семьи, мужчина, чьи узкие плечи были достаточно сильны, чтобы снести возложенную на них ответственность. Как она счастлива, размышляла Жени — ее будущий муж гигант среди людей.
Жени откинула голову на спинку сиденья. Колеса монотонно стучали на стыках и говорили по-русски.
Уехав в Финляндию и оставив дом, она потеряла отца.
Может быть, именно поэтому сейчас она и выбрала поезд? Жени тряхнула головой, как будто хотела избавиться от наваждения. Ум, как и чувства, тоже может выйти из-под контроля.
Гигант среди людей. Узкие плечи. Длинное худое тело.
Жени попыталась сосредоточиться на черно-белом мире, скользящем за окном. В окоченелости зимы было что-то чистое, классическое, как в серых известняковых колоннах при входе в Шат так. Жизнь должна идти своим чередом. Он, Пел, не тот, что в любви, но по-своему красив. Знания, учеба, дисциплина, верность — все словно зимний пейзаж — основа основ, как голые силуэты деревьев, без которых невозможно возрождение весной.
Поезд подкатил к вокзалу, и когда Жени вышла на улицы Бостона, свет фонарей показался ей согревающим. По дороге в общежитие она разглядывала знакомые дома, магазины, стоянки машин, набережную реки. Всюду она замечала жизнь — в людях, собаках, голубях, воробьях. Жизнь продолжалась во все времена, и каждое живое существо должно следовать своей дорогой.
Немного более чем через месяц, в первый день нового, 1965-го года Жени и Пел приобрели дом-мечту в Вашингтоне.
Они остановились в квартире Пела в Джорджтауне, которую он сохранил за собой, пока не окончится в июне аренда. Хотя теперь он и не часто приезжал в Вашингтон, но квартира создавала удобства, к тому же предоставляла убежище ему и Жени.
Они сделали существенный взнос агенту по продаже недвижимости и подписали предварительный договор — Пел настоял на том, чтобы Жени расписалась как совладелица. Если с ним что-нибудь случится, прежде чем они официально зарегистрируют брак, дом останется за ней.
Услышав это, Жени застыла, и Пел быстро извинился:
— У меня это от отца — во всем видеть юридические вопросы. Обещаю тебе, Жени, — он крепко пожал девушке руку. — Ни рок, ни случай не помешают нашей свадьбе.
Официальное рукопожатие заставило Жени рассмеяться:
— Сделка совершена.
От агента они направились в дом и встретились с его владелицей Марджори Нил Армор, которая при их появлении нахмурилась и неодобрительно сморщила губы, похожие на чернослив. Но когда Пел заверил ее, что она может оставаться в доме сколько угодно, по крайней мере до лета, губы разгладились и заблестели помадой, точно живая слива.
— Вам не следовало этого говорить, — усмехнулась она. — Новые владельцы всегда настойчивы и требуют освободить дом самое позднее завтра.
— Только не мы. Нас несколько месяцев не будет в Вашингтоне. Так что не спешите, миссис Армор. Трудно собраться внезапно.
Она настояла на том, чтобы все вместе они совершили «возлияния», и налила каждому по двойной порции крепчайшего клюквенного ликера.
— Некоторые люди меня боятся, — подняв бокал, начала тост миссис Марджори Нил Армор, — некоторые обожают, а другие находят эксцентричной. Это нисколько не забавно, но является расплатой за богатство, — она на секунду замолчала, чтобы дать возможность слушающим усвоить изречение. — Богатство — это такое состояние, которое, к счастью, встречается достаточно редко и обычно не находит понимания. И должна сказать, что источником утешения для меня является то, что этим маленьким милым домом станут владеть люди, равные мне по положению. От Арморов к Вандергриффам. Да свершится переход. Sic transit. Выпьем, — и она одним глотком осушила бокал.
— Это по-русски, — восхитилась Жени. — Так мог пить мой отец. До дна. Вот так мы это называем, когда выпиваешь водку одним глотком.
Марджори Нил Армор уставилась на нее, и на секунду молчание показалось угрожающим. Потом престарелая дама расхохоталась и взяла Жени под руку:
— Вы ведь знаете, мы тут все крестьяне, — проговорила она, смеясь, — и гордимся самыми нелепыми достижениями — осушить стакан одним глотком! — она никак не могла остановиться, и слова прорывались сквозь смех. — Я уже старая женщина, и в жизни я не сделала ни на грамм хорошего, но и дурного я тоже не делала, — она вновь наполнила бокалы. — Давайте до дна! Пусть и вам будет над чем посмеяться в этом доме.
Через несколько дней ранним вечером первого дня нового года они ужинали в «Доминике» — одном из самых престижных ресторанов Вашингтона. Жени смотрела в серьезное продолговатое лицо Пела и размышляла, будут ли они смеяться вместе через год.
Отдельный столик оберегал их от доброхотов, желающих принести свои соболезнования. Первым из них оказался метрдотель. И когда он вел их через зал, многие поднимали головы и, казалось, хотели заговорить. Некоторых из обедающих Жени узнала по фотографиям в газетах.
Светская жизнь. Пока она еще частное лицо, но через несколько месяцев станет женой Пела. Начнется ли тогда их личная жизнь, как сложатся интимные отношения? Будет ли их брак настоящим во всех смыслах? Спадает ли напряжение в теле и сможет ли оно принять человека, который ее любит? Ее будущего мужа?
Они подняли изящные в виде чаш бокалы.
— За сегодняшний вечер, — тихо проговорил Пел.
— За наш вечер, — пообещала Жени, пригубляя терпкое сочное вино. Сегодня они отпразднуют приобретение дома и свое будущее в нем.
Но в квартире Пела она инстинктивно отпрянула, когда он потянулся к верхней пуговице ее платья, и ужаснулась того, что сделала, — рука Пела замерла и безжизненно повисла.
— Все нормально, любовь моя, — печально успокоил он девушку. — Я не сделаю ничего, чего бы ты не хотела. У нас впереди много времени.
Жени обняла его за шею и легонько поцеловала.
— Извини. Я все еще совершенно скована. Ощущаю себя как будто…
— В библиотеке, — докончил он. — Ложись в кровать.
Она кивнула и начала перед ним раздеваться, но почувствовала себя так, будто раздевается на людях, и, поняв ее смущение, Пел, не говоря ни слова, отправился в ванную, предоставив Жени самой себе.
Когда он вернулся в пижаме, Жени уже лежала в постели; закрытый ворот элегантной ночной рубашки оторачивали тонкие кружева. Пел устроился рядом и обнял ее. Жени заставила себя не шелохнуться. Через минуту она уже спала, свернувшись под боком Пела.
Следующие четыре дня каникул Жени они редко бывали наедине. Весть о том, что Пел привез в город невесту, разнеслась быстро, и приглашения — по телефону, писать уже не было времени — устремились на них, как надоедливые осы. Обеды, ужины, вечеринки — и хотя Пел принимал лишь небольшую их часть, они означали для Жени вихрь представлений элите города. Хотя Конгресс был распущен на каникулы, президент с семьей уехал из Вашингтона, а многие выдающиеся и знаменитые хозяйки загорали на Французской Ривьере, в городе оставалось достаточно влиятельных людей, и они были постоянно вокруг Жени и Пела.
Пел ею гордился. Жени это чувствовала. Она понимала, что он оторвался от дел Фонда, чтобы показать свою невесту в городе, где им предстояло жить. К тому же он постоянно давал ей уроки, как следует себя вести будущей миссис Вандергрифф.
В иностранных посольствах, в частных салонах вашингтонских домов Жени слышала разговоры, место которым было в газетных колонках слухов: кто был с кем тайно связан, кто собирается разводиться, кому грозит суд. Одни уклонялись от налогов, другие были замешаны в махинациях, кто-то бесчувственно напился за рулем автомобиля. Жени не могла участвовать в беседах, ей даже было трудно следить за нитью разговора. Ее спрашивали о планах Пела, о его карьере, о его семье. Она чувствовала, что является дополнением, последним мазком к основному рисунку.
Даже в эти несколько дней она стала встречаться с одними и теми же людьми, и те проявили интерес к ней самой. Эксцентричная миссис Армор заявила, что Жени будет «ее дорогушей». Экономист из Всемирного банка, родившийся в Чехословакии, рассказывал о своем военном детстве. Он с интересом слушал о блокаде Ленинграда, а когда узнал, что отец Жени был на Дороге жизни на Ладоге, утащил ее в уголок и они проговорили минут пятнадцать, пока хозяйка не прервала их, сказав, что кому-то необходимо встретиться с экономистом.
Интересные люди. Блистательный журналист, ветеран корейской войны, которому взрывом мины оторвало ногу, говорил о потреблении шоколада. Дипломат из Африки рассказывал, как его народу необходим протеин.
Все это ей начинало нравиться, и она с удовольствием думала о будущих приемах. Когда каникулы подошли к концу, они вместе с Пелом полетели в Нью-Йорк, а дальше в Бостон, Жени отправилась одна. В аскетической монашеской комнате общежития проведенные дни показались ей сплошным сияющим праздником, сотворенным из бесчисленных зеркал; шаром, в котором отражался цветной и яркий мир.
В первый день нового семестра Жени надела белый халат и, взяв хирургические инструменты, вошла в анатомичку. Запах формалина ударил ей в нос. Он заполнял все пространство, вытесняя кислород, проникал в ноздри и рот. Некоторые студенты закашлялись, у других запершило в горле. Двое или трое попытались шутить, нарочно громко чихая. Она отвернулась от них и у своего стола старалась сдержать чувства. Как и другие столы, ее тоже был накрыт голубой простыней, а под простыней лежало тело.
Профессор фон Шонберг, который на первом курсе вел занятия по анатомии, ворвался в секционную с необыкновенной быстротой. Рассеянно улыбнулся нескольким студентам, включая Жени. Он был известен тем, что никогда никого не узнавал и казался озадаченным каждый раз, оказываясь перед группой юношей и девушек. Видимо, он был просто неспособен отличать студентов друг от друга.
— Теперь вам нужно выбрать себе партнеров, — объявил он. Несмотря на четверть века, проведенные в Америке, его баварский акцент был по-прежнему силен. — Шесть групп в двенадцать рук. Будете двигаться все одновременно, как додекаэдр.
— А что это такое? — шепотом спросила Жени у Рона, одного из своих партнеров.
— Наверное, животное с двенадцатью ногами, — так же шепотом ответил он.
Услышав посторонний шум, профессор нахмурился.
— Одно тело на каждого додекаэдра. До войны с Германией на каждого студента находилось тело, но теперь приходится экономить. Будьте любезны, займите места.
Когда профессор говорил, его козлиная бородка прыгала из стороны в сторону и почти заворожила Жени.
— Хорошо, — произнес он, когда группы собрались вокруг столов. — Нет, плохо, — тут же перебил он себя, заставив студентов с интересом поднять глаза. — В Германии у нас были отличные тела, а эти низкого качества: дыры от пуль, рак, недоедание. Ах! Приходится брать, что дают, — невостребованные трупы, тела от торговцев в розницу…
— Грабителей могил, — прошептал Рон, и Жени содрогнулась.
— И все же к ним надо проявлять уважение. Перед вами лежат человеческие тела. Во всей природе нет ничего более восхитительного и загадочного. Под голубой простыней, джентльмены, покоится вселенная, у которой надо учиться и к которой следует прикасаться с почтением. Больше почтения, и эти трупы научат вас тому, что такое человек. А теперь — прочь простыню! Удачи вам, джентльмены.
Группе Жени попалась молодая европейка, примерно того же возраста, что и сами студенты. Причина смерти — самоубийство.
Труп произвел на всех сильное впечатление. Самые бойкие Рон и Лестер сразу же принялись отпускать грубые шуточки.
— Тихоня, — заявил Лестер, и его голос прозвучал слишком громко. — Я бы за такой приударил.
— Да, только ей бы получше надушиться, — подхватил остроту Рон.
Напротив Жени стоял Тору, затаив дыхание. Этот долговязый парень из японского города Киото никогда не поднимал на занятиях руку, но на вопросы отвечал вдумчиво и обстоятельно.
Жени тоже притихла, размышляя, была ли у девушки семья, а если была, почему родные не забрали тело.
— Кто начнет? — вторая девушка в группе — Линда выстрелила вопросом, точно армейский сержант.
— Что ты суетишься? — сердито ответил Бейкерсфилд, прозванный «красным» за свои рыжие волосы. — И прекратите шуточки, — обернулся он к Рону и Лестеру.
— Какая муха тебя укусила? — окрысился Рон.
— Заткнись! — губы Бейкерсфилда растянулись в одну линию. Родившийся на Голубом хребте, Джим Бейкерсфилд состоял на полной стипендии и из всех первокурсников медицинской школы по окончании колледжа имел лучший результат.
— Кто начнет? — снова спросила Линда, и ее голос сорвался на высокой ноте.
— Я, — отозвался Лестер. — Кто-нибудь держите раскрытой книгу.
Бейкерсфилд посерел.
— С тобой все в порядке? — тихо спросила его Жени.
— Она похожа на мою сестру, — студент прикрыл ладонями глаза.
— Не гляди ей в лицо, — прошептала Жени и громко добавила: — Прикройте ей лицо. Оно должно быть закрыто.
На других столах лица трупов были накрыты пропитанными формалином салфетками — голубыми, бесформенными. Жени присмотрелась к голове на соседнем столе и точно так же накрыла лицо девушки.
Лестер дождался, пока Жени закончит, потом сделал надрез на груди и повел нож вверх к левому соску. Студенты придвинулись ближе, чтобы следить за его действиями. Стали меняться у тела. Краска вернулась лицу Бейкерсфилда, Перед ними лежала уже не девушка, а абстрактное тело, учебное пособие для демонстрации костей, внутренних органов и мышц. Кожу сняли с большей части груди. Рон удалил плевру, чтобы обнажить легкие — мешки, из которых выпустили воздух.
В конце занятий распылили большую дозу формалина в грудной полости, заложили раны бумажными салфетками, накрыли тело и пошли отмываться.
Запах преследовал Жени, въелся в ее кожу, пропитал белье, стоял во рту. Поднялась волна тошноты, и она ухватилась руками за края раковины…
Дурнота прошла. Она взглянула на себя — мертвенно-бледная, потемневшие глаза, лишенный красок рот. Девушка — как все остальные. «Нужно быть почтительной», предупредил профессор. И благодарной, добавила Жени от себя.
Вечером, размышляя о теле, распростертом на столе, невостребованном и безымянном, Жени написала письмо матери. Оно было коротким, на простом русском языке, и скорее напоминало газетную сводку последних событий ее жизни. Жени не пыталась ответить на письмо, полученное больше года назад. Перед тем как сесть писать, она даже в него не взглянула.
Строки полились легко. Она сообщала, что учится на первом курсе медицинской школы, живет в Бостоне и обручена. Кратко обрисовала жениха и его семью, написала, что отец Пела только что умер, а его сестру она знает со школы.
О Бернарде она не сказала ничего, хотя намекнула на Соню, пожаловалась, что за полгода теряет второго дорогого ей человека. И закончила письмо официально, выразив надежду, что мать здорова, — подписавшись «Женя».Она не обмолвилась ни словом о том, что за ней следили, о закрытии лаборатории доктора Дженсона, о затянувшемся предоставлении гражданства, о брате и отце. Если мать ответит, тогда она напишет ей то, что о них знает. А собственные открытия Жени об отце должны пока оставаться в секрете.
Не перечитывая, Жени запечатала письмо в конверт, надписала адрес, прикинула, сколько может стоить пересылка, и наклеила четыре марки для писем, пересылаемых внутри США. Надела пальто, вышла на улицу и бросила конверт в ближайший почтовый ящик.
Ни о письме, ни о матери она больше не вспоминала, пока через две с половиной недели не пришел ответ от Наташи. Жени получила его с раздражением: и на мать, и на себя. Почему она не оставила все как есть? Зачем было осложнять себе жизнь и добавлять еще груз к своей и так уже непосильной ноше ответственности?
Жени попыталась не обращать на письмо внимания, но оно притягивало ее к столу, как магнит, каждую секунду глаза натыкались на конверт. Через десять минут Жени распечатала конверт.
Наташа поздравляла дочь с решением стать врачом. «Самая уважаемая профессия»,писала она. «Дмитрий тоже доктор, но не медицины».
Ничего о Георгии. Дальше письмо было о предстоящей свадьбе. Не будет ли Женя так добра, не намекнет ли, что она хочет получить в подарок? Наташе трудно представить, что ей нужно. А если Женя с мужем соберутся в Израиль, не надо тратиться на гостиницу — они всегда могут остановиться у нее в кибуце.
Жени прочитала письмо и не испытала никаких чувств. Мать писала словно с другой планеты. Послание незнакомки.
Письмо, не приносящее удовлетворения. Где новости об отце? Знает ли что-нибудь о нем Наташа? Может быть, он исчез? Умер?
Нет. Жени была уверена, что узнала бы об этом каким-нибудь образом. Ее отец жив, где бы он ни находился. Даже в тюрьме.
Жени оттолкнула письмо. Однажды она начнет поиски отца. После того, как получит гражданство — Пел уверил ее, что это произойдет самое позднее, когда она станет его женой. Тогда, используя свои связи, Пел ей поможет — и они найдут отца.
Вечером, в обычное время, позвонил Пел, и она сообщила, что получила от матери весть.
— Замечательно, пусть прилетает к нам на свадьбу.
Жени представила мать среди Вандергриффов и их друзей. Чужая. Всем. Даже ей.
— Нет, — ответила она.
— Но это же нехорошо. Нужно, чтобы и с твоей стороны кто-нибудь был.
Она представила толпу людей — со стороны жениха. С кем пойдет она об руку? Кто подведет ее к Пелу, к алтарю?
— Почему бы не попытаться позвонить ей в Израиль? Может быть, если ты…
— Нет! — она хотела, чтобы на свадьбе был ее отец. Отец и брат. Отец, который отправил ее сюда.
Пел приехал в следующие выходные, а через две недели Жени полетела в Нью-Йорк. Они виделись по крайней мере дважды в месяц, обычно попеременно: то в Нью-Йорке, то в Бостоне. Иногда Пел еще прилетал, чтобы поужинать с ней.
Она чувствовала, что ему трудно, что их разлука влияет на него сильнее, чем на нее. Ее постоянно окружали люди, и она вся была погружена в работу, и когда, как обычно, в шесть часов, звонил Пел, Жени вдруг понимала, что не вспоминала о нем целый день.
Но услышав его голос, осознавала, что соскучилась по будущему спутнику, лучшему своему другу.
На пасхальные каникулы она приехала в Нью-Йорк. Ходили в Центральный парк смотреть, как катают яйца, гуляли среди детей и их родителей, взявшись за руки, и ощущали себя женатой парой.
Через две недели они уже бродили по бостонским садам, убегающим от «Ритц-Карлтона», но, в ожидании предстоящих экзаменов, Жени никак не могла расслабиться. Первый из них предстоял чуть больше чем через неделю.
Пел улетел из Бостона раньше обычного — на пятичасовом рейсе. Как всегда, взял такси и, прежде, чем ехать в аэропорт, высадил Жени возле общежития.
Он уже садился в самолет, когда Жени позвали к телефону:
— Нам нужно кое-что обсудить, — начал Бернард. — Твое официальное положение в качестве моей подопечной.
Звонок застал ее врасплох. Ей хотелось бы передать трубку Пелу или притвориться, что связь оборвалась, но рука не слушалась. Она стиснула губы, боясь проронить хоть слово. За закрытыми веками возникла картина библиотеки, в ушах зазвенели отзвуки собственных криков, заглушая голос Бернарда.
— …думаю, нам лучше встретиться.
— Нет, — выдохнула она. — Только не это.
— Повторяю, официально ты — моя подопечная и останешься ею до тех пор, пока тебе не исполнится двадцать один год. Ты не гражданка США или какой-нибудь другой страны, и, наверное, догадываешься, что без моего разрешения не можешь выйти замуж. А я не намерен тебе давать разрешение.
— Почему? — прошептала Жени.
— Плохо тебя слышу. Если ты не согласишься на встречу со мной, я дам указание адвокатам прекратить всяческое финансирование. А это означает для тебя конец Гарварда. Ты вылетишь оттуда, и тебе, как большинству безродных, придется зарабатывать на хлеб собственным потом.
— Но… — что-то подхлестнуло ее мысли, заставило думать логично. Если официально она все еще его подопечная и зависит от него, не значит ли это, что и он обязан выполнять условия сделки, пока ей не исполнится двадцать один год?
А этот возраст наступит всего через несколько недель. Чем тогда может грозить ей Бернард?
— Скоро твой день рождения, — продолжал он. — Тебе будет двадцать. Целый год до того, как ты станешь «свободной женщиной», — Жени расслышала, как он усмехнулся. — Слишком свободной, если угодно. Без положения и без мужа…
Дальше она его не слушала. Сердце подпрыгнуло внутри. Он и в самом деле сказал «двадцать»? Она была почти уверена в этом. Он просто забыл ее возраст, перепутал на год.
Ему, конечно, не трудно проверить. Но если он так уверен, то это не придет ему в голову.
Жени решилась испытать удачу:
— Я встречусь с вами. 11 мая, в конторе вашего адвоката.
Бернарда удивило, что Жени передумала так внезапно. Он стал размышлять, чем это было вызвано, но решил, что она просто поняла, что так поступить в ее интересах, ей нужна его опека и лучше забыть о том прискорбном случае.
Он не станет ее умолять, с удовлетворением сказал он себе. Пусть все идет своим чередом. В течение лета сделает ее своей женой и даст все, что только не пожелает это прелестное создание. Оба они сумеют не вспоминать о его безумии.
Когда память стала постепенно возвращаться и картину за картиной воспроизводить в уме, Бернард ужаснулся тому, что сделал с Жени. Сначала он не хотел в это верить, убеждал, что живые образы, встающие перед глазами — лишь продолжение «болезни».
Но приходилось верить, и стыд обволакивал его, как густой сироп, сковывая движения. Потом он вспомнил, чем кончилось их сражение — как Жени свалила на него лестницу и лишила сознания. Неужели она хотела его убить?
Если так, они были квиты. Но если она просто защищалась, то Бернард теперь в ее руках. Девушка может его шантажировать, а клан Вандергриффов ее поддержит. Ему станут угрожать судом…
Вскоре после Пасхи врач Бернарда объявил, что он совершенно поправился, и в тот же день бизнесмен решил, что женится на Жени — для собственного спокойствия и из-за ее красоты. Его жена будет предметом зависти для всех, но принадлежать — только ему.
Звоня Жени, он ждал отпора — и вместо уговоров стал запугивать. Проверенная тактика — и много раз приводила к успеху.
Бернард с нетерпением ждал 11 мая, когда он упросит, убедит или принудит Жени. В двадцать лет она стала потрясающей женщиной! Хотя и осталась мелковатой.
Адвокат провел его в отделанный красным деревом кабинет, и Бернард понял, что Жени еще не пришла. Через пятнадцать минут он начал нервничать.
— Крепитесь, — юрист слишком уж по-свойски положил ему руку на плечо. — Девушка не придет.
— Что это значит? — сердито спросил Бернард. — Конечно, она придет. Не может не придти.
— Думаю, что может, Бернард, — отозвался адвокат. — Видите ли, вчера Жени исполнился двадцать один год. Она совершеннолетняя.
24
В день свадьбы Жени проснулась в четыре утра и тихо лежала в постели, прислушиваясь к собственному сердцебиению в теплом полумраке. Она думала о своем подвенечном наряде: длинной юбке, цвета слоновой кости, волочащейся за ней, кружевной отделке, облегающих заканчивающихся разрезом рукавах до оснований пальцев. Платье было зимним, купленным для свадьбы в декабре. Для июня шелк был плотен, но оно оказалось слишком красивым. На голове — испанского стиля простая кружевная мантилья.
Бледный свет начинал проникать в комнату: светлые пятна длинными пальцами легли на простыне.
Ей поможет одеться Мег, только Мег, хотя портниха будет рядом, в соседней комнате. Сама Мег наденет темно-бежевое с оранжевым. Эти цвета ей великолепно идут. Со дня смерти Филлипа она похудела, но прежняя живость к ней вернулась, и она выглядела привлекательно, как никогда. Хотя и постарела, думала Жени.
Внешность Лекс тоже стала лучше. Под руководством Мег она научилась обращаться с косметикой, чтобы кожа казалась гладкой и здоровой. И она потеряла несколько фунтов во время длительных прогулок, на которые брала с собой «Phaedo» или «Crito» Платона. Она увлеклась чтением древних, хотя предпочитала об этом не говорить, по-прежнему оставаясь молчаливой. Она как будто жила в своей скорлупе, не замечая мира вокруг.
В шесть тридцать Жени услышала, что в дверь тихонько скребутся, словно внутрь пытается проникнуть кошка или даже мышь. Она встала и повернула ключ.
— Привет, Жени, — за дверью стояла Лекс в легком хлопчатобумажном платье и с босыми ногами. Жени заметила, что подруга уже наложила на кожу грим и вымыла волосы: и теперь они были накручены на толстые розовые бигуди. Лекс отказывалась от услуг парикмахера, приглашаемого Мег в дом.
— Входи, — улыбнулась Жени. Лекс будет прекрасно выглядеть на свадебных фотографиях рядом с Пелом или с ней самой.
Прежде чем войти, Лекс нервно секунду помялась на пороге:
— Я на минуту.
— Садись.
Но Лекс продолжала стоять.
— Давно не была в этой комнате, — проговорила она. — Пришла тебе сказать… — она запнулась, беспомощно взглянула на Жени и начала снова. — С сегодняшнего дня… Да, сегодня… Ты ведь почти… Черт возьми, Жени, надеюсь, ты счастлива… Я надеюсь…
Жени шагнула вперед и обняла Лекс. Подруга отступила, опустила к полу глаза и продолжала:
— Пару лет назад я мечтала, чтобы мы стали сестрами. И теперь мы почти сестры. А прошлое…
— Пусть останется прошлым, — докончила за нее Жени.
Лекс кивнула.
— Но оно не совсем таково — никогда не останется прежним, — Лекс села на стул рядом с туалетным столиком. — Прошлое, Жени, точно ловушка. Я много думала об этом, — Жени пододвинула к подруге свой стул с искристой обивкой. — Да, похоже на ловушку. В один прекрасный день кончается детство, но ты не знаешь когда, и все, что ты не хочешь знать или чувствовать — остается внутри.
Жени подалась вперед, чувствуя, каких усилий стоило Лекс разговаривать с ней вот так.
— Все в порядке, если ловушка закрыта. Но стоит ей чуть-чуть приоткрыться, и все демоны вырываются наружу, — она посмотрела на Жени с мольбой. — Понимаешь, что я хочу сказать?
— Думаю, что понимаю, — кивнула Жени. — Мне самой часто хочется запереть свое прошлое.
— Правда?
— Наверное. Ведь многие это чувствуют. Прошлое есть прошлое, и никто не в силах его изменить. Пустая трата времени, — в первый раз после несчастного случая Жени ощутила себя как в Аш-Виллмотте, когда и ей, и Лекс казалось, что они знают друг друга с детства.
— Конечно. Я не могу вернуть назад отца.
— Тебе его недостает.
Лекс впервые заговорила о Филлипе после его смерти.
— Ужасно, — Лекс судорожно сглотнула. — Когда он был жив, я и не представляла…
— Чего?
— Как мне хочется быть похожей на него. Или заставить его мной гордиться.
— Он тебя очень сильно любил. Очень о тебе беспокоился.
— Все, что я ему приносила, — грустно заметила Лекс, — это беспокойство. Не гордость. Иногда мне казалось, что я его ненавижу. Но это потому, что я не могла ему дать того, что хотела. А теперь — слишком поздно!
Жени поежилась, вспомнив, как с отвращением отстранялась от прикосновений отца. Может быть, и ей слишком поздно пытаться дать что-либо отцу?
Она заставила себя вернуться мыслями к Лекс:
— Пел во многом похож на Филлипа. Может быть, через него…
Лекс кивнула:
— Я думала об этом. Ты очень тонко чувствуешь, ты об этом знаешь, Жени. Будешь хорошим врачом. Теперь мы одна семья. Будешь лечить меня на дому, — она усмехнулась. — Сестра.
— Спасибо, — ответила Жени.
Лекс поднялась и направилась к двери:
— Увидимся на представлении, — в ее голосе вновь зазвучали насмешливые нотки. — Если от возбуждения ты свалишься в обморок, я тебя подхвачу.
— Спасибо, — повторила Жени, на этот раз с улыбкой.
Под звуки органа Эли провел ее через придел к алтарю, где ожидал Пел. Он смотрел на нее, и Жени тоже подняла взгляд на жениха. Эли опустил руку, и Жени удивленно скосила на него глаза, как будто не ожидала здесь увидеть. Потом снова перевела взгляд на Пела. Он явно нервничал, был бледен, и это успокоило Жени. Они застенчиво улыбнулись друг другу и повернулись к священнику.
«Дорогие возлюбленные…» — Жени пыталась сосредоточиться на словах, скользивших, словно нанизываемые на нить драгоценные камни. Она машинально повторяла за ним:
— Я, Евгения Сареева, торжественно клянусь…
Потом заговорил Пел, и они надели друг другу кольца. Жени пришлось помочь Пелу: его руки дрожали и он никак не мог продеть кольцо через костяшку безымянного пальца. Потом они вновь повернулись к священнику, и тот напомнил, что они могут поцеловаться. Повиновавшись, молодожены рассмеялись.
Потом она снова шла через церковь, но на этот раз рука об руку с мужем. Гости вставали со скамей, приветствовали молодых. Впереди всех стояла Мег. Она улыбалась, и по ее щекам катились слезы, и Жени подумала, как Мег, должно быть, скучает по Филлипу. Пел увлекал Жени сквозь море лиц, и ей пришла в голову мысль: «Я замужем». Среди других она выискивала одно лицо, но не находила…
Потом они вышли из церкви под всполохи вспышек и солнечный свет и сели в лимузин. Машина унесла их от фотографов и репортеров, промчала по Парк-авеню, мимо квартиры Вандергриффов, где должны были состояться свадебные торжества. Жени спросила, куда они едут.
— Сюрприз, — ответил ей Пел, с раскрасневшимся от счастья лицом. Мы успеем на свадьбу, сначала немного покатаемся.
Они проехали на юг, почти до самой оконечности Менхэттена, и остановились у официального здания.
Обычно по субботам закрытое, сегодня оно было открыто для них. Жени села на скамью в своем свадебном наряде и кружевной мантилье, и ей стали задавать вопросы. Она отвечала: два сенатора от каждого штата, представительство в соответствии с пропорцией населения, президент избирается электоратом на четыре года. Внезапно она разволновалась: является ли Нью-Йорк столицей штата Нью-Йорк? Вспоминай. Нет, Олбани.
— Поднимите правую руку и поклянитесь на Библии.
Жени поклялась соблюдать законы страны и защищать ее флаг.
— Поздравляем. Теперь вы гражданка Соединенных Штатов Америки.
Стоя рядом с Пелом, Жени испытывала небывалое счастье и дала обет хранить верность новой родине и мужу, с которым сочеталась час назад.
Прежде чем возвратиться обратно, машина объехала весь Манхэттен. Отделенная полосой воды Статуя Свободы возвышалась на острове, и Жени показалось, что каменная леди поднимает факел в их честь.
Свидетельство о гражданстве Государственного департамента выдавалось на руки в понедельник. Жени и Пел поехали вместе в паспортное управление Рокфеллеровского центра и в течение двадцати четырех часов Евгения Сареева Вандергрифф получила американский паспорт.
А через два дня они пересекали Атлантику, чтобы начать свой медовый месяц.
Это была идея Пела — еще одно свидетельство его глубокой и всепонимающей любви. Из Стокгольма они проедут в Финляндию и посетят Круккаласов, которые теперь постоянно жили в загородном доме. Пел продумал все заранее, но хранил планы в секрете до тех пор, пока Жени не получила паспорт.
— Не знаю, что со мной делается, — призналась Жени. — Мне кажется, я таю от счастья.
— Ты врач, — муж тоже не скрывал своей радости. — Тебе лучше знать, что означают эти симптомы.
— Загадочную болезнь, — ответила она со смехом. — В книгах о ней не говорится.
— Что-нибудь серьезное? Излечиться нельзя?
— Уверена, это смертельно.
С посадкой в Копенгагене перелет занял тринадцать часов. В Стокгольме молодожены провели ночь в «Гранд-отеле», а наутро взошли на борт парохода «Сверрестром», совершающего круиз по фьордам к островам Балтийского моря. Судно оказалось скромным, по сравнению с океанским лайнером, но каюта была достаточно просторной и удобной. На выбор предлагалось: три бара с танцами под настоящие оркестры, а обед оказался таким обильным, что Жени не надеялась съесть и малую часть предлагаемых блюд, и это приводило ее просто в отчаяние.
Из двадцати сортов сельди она смогла попробовать только пять. Три блюда из семги, две разновидности устриц, вазы с бледно-желтой икрой, оленина, нарезанная ломтиками тоньше бумажного листа. Выбранные блюда они приносили на столик у окна, смакуя лишь самое экзотическое, а за стеклом проплывали золотистые острова, в паутине солнечных лучей высились скалистые фьорды.
Больше всего Жени поражал свет, северный свет, который она почти забыла, белые ночи детства, ленинградский июнь, когда испытываешь необычайный подъем, от того, что можно допоздна оставаться на улице.
После обеда они поднялись на палубу и долго, обнявшись, стояли у поручней. Вода подернулась зыбью и серебрилась под бледным небом. Острова походили на опаловые черточки и точки.
— Самая прекрасная ночь в моей жизни, — проговорила Жени.
— А ты — самая прекрасная из женщин, — для Пела это было очевидным. Он отошел, чтобы оглядеть ее всю: глаза блестели, как черные алмазы, волосы платиновым ореолом обрамляли совершенное лицо, изящная фигура, на которой слегка волнилось зеленоватое платье.
— Не надо, Пел, — улыбнулась Жени. — А то я засмущаюсь.
— Извини, — пробормотал он.
— Пойдем потанцуем, — предложила она, чтобы развлечь мужа.
Из бара они снова вышли прогуляться перед сном и бродили по палубе, взявшись за руки. Жени чувствовала, как близко она от дома. Скоро корабль войдет в Финский залив, омывающий берега недалеко от Ленинграда. Прошло восемь лет. Тогда она была тринадцатилетней девчонкой, а теперь — взрослая замужняя женщина. Она повернулась к Пелу.
— Ты дал мне все. Даже покой, — она взяла мужа под руку и повела вниз в каюту.
В ванной Жени переоделась в шифоновую ночную рубашку, которую ей купила Мег — в качестве части приданого — короткую, до колен, на манер греческой туники. Смочила туалетной водой волосы и кожу.
Вошла в комнату, где кровати были привинчены к полу у противоположных стен. Пел стоял между ними. Жени подошла к нему, обвила шею руками и поцеловала в губы. Они качались, как будто в танце, в такт движения корабля. Жени гладила мужа по волосам, кончиками пальцев ласкала щеки — от висков к уголкам губ, обвела подушечками вокруг рта, потерла губы, пока они не раскрылись. Пел простонал, крепче прижимая к себе жену. Она приняла пальцы и снова прижалась ко рту губами — язык следовал дорожкой, проложенной рукой.
— Боже, Жени, — пробормотал Пел, когда они двинулись к дальней от иллюминатора кровати. Она упала на матрас, а он навалился сверху, он быстро изменил позу так, чтобы вес приходился на локоть и плечо.
Он начал ее целовать — все быстрее и быстрее, почти грубо впиваясь губами в незащищенную кожу.
— Нет, Пел, — мягко проговорила Жени и приподнялась на локтях. Он извиняюще отстранился. — Нежнее, — улыбнулась она и, взяв его руку, провела по телу от шеи, по груди и животу к раскрытым бедрам. Поцеловала и повлекла его руку от колен по внутренней стороне бедра, потом отпустила руку.
Пел улыбнулся ей в ответ, и рука потянулась к треугольному островку.
— Любимая, — он накрыл островок ладонью, пальцы обвели его границы, направились вниз и проникли в его теплоту, слегка лаская.
— Да, — прошептала Жени и закрыла глаза. Пел всматривался в ее лицо, любовался темными ресницами на фоне бледной кожи, молочной в свете иллюминаторов, и корабль раскачивал их над бездонной глубиной. Пел ощутил ее жар, почувствовал влагу на трепещущих губах, услышал, как участилось дыхание. Его голос обволакивал ее:
— Жени, любимая, жена моя, — при слове «жена», она открыла глаза, и, заглянув в них, он почувствовал страх — обожание лишало его мужества: его супруга была слишком красивой, чтобы ею обладать. Он сразу ослаб, но продолжал ее ласкать, наклонился и поцеловал в губы. Тогда Жени отвела его руку и сказала:
— Потом.
Пел уже собирался перебраться на другую кровать, но она поймала его за руку и притянула обратно. Они ютились на одной кровати, вынужденные лежать на боку — Пел у стены, а Жени, подлаживаясь под изгиб его тела, как недостающая деталь головоломки.
Утром она почувствовала, как он ласкает ее груди и целует волосы. Рука с нежностью направилась вниз, по телу, к бедрам, он оказался над ней, и Жени крепко прижалась к груди мужа, страстно желая почувствовать на себе его вес. Они занимались любовью долго и не спеша, и им обоим было хорошо.
Хорошо. А будет еще лучше, думала Жени, напевая что-то под душем. Напряжение ослабло, нечего было таиться. Любовь их станет такой же прочной, как их доверие, как их узы.
После завтрака они сошли по трапу на берег и прогулялись по Турку — городу, бывшему когда-то столицей Финляндии. Ленинград — в прошлом Санкт-Петербург — был тоже столицей, пока инициативу не перехватила Москва. Турку оказался маленьким городком с собором и рыночной площадью.
Жени и Пел бродили от прилавка к прилавку, а торговцы предлагали свои товары, но молодожены не могли разобрать ни единого слова, даже отличить «да» от «нет». С Круккаласами Жени разговаривала по-русски, и для ее уха финский звучал так же, как и для уха Пела. Странное, сбивающее с толку ощущение — быть окруженной непонятным говором, но вместе с тем здорово, что только они двое — Пел и она — владеют языком, который никто рядом не может понять.
Вернувшись на корабль, они снова гуляли на палубе, как накануне вечером. Но перед ужином — занялись любовью. А потом поели за тем же столиком. А корабль в это время брал курс на Хельсинки.
Их рост, их элегантность и красота Жени приковывали к ним всеобщее внимание во время танцев. Они танцевали очень медленно, неуклюжесть Пела скрадывалась в объятиях жены. И снова после танцев — вышли на палубу взглянуть на серебристую воду и мерцающую сушу. Потом спустились вниз, легли в одну постель — и на этот раз Жени испытала полное удовлетворение.
Утром пароход пришвартовался в Хельсинки, и они направились в свой отель. Пел заполнил карточку, и когда портье прочел его имя, подал ему лист бумаги:
— Вам телеграмма, мистер Вандергрифф.
Пел прочел и без слов передал ее Жени.
ЛЕКС УМЕРЛА, было напечатано в телеграмме.
25
Утонула, прочитали они в некрологе, в газете, на борту самолета. Лекс почти на три четверти переплыла озеро в Топнотче. Ныряльщики вытащили тело только после семи часов поисков.
В аэропорту их встретил Генри Вандергрифф, вокруг которого увивались, как обезьяны, охотники за автографами, которые тут же набросились и на Пела с Жени. Нью-йоркские полицейские расчистили им дорогу в толпе, и они поспешили к лимузину губернатора.
По дороге в город Генри рассказал им все, что знал. За три дня до этого, 28 июня, кухарка Мери поднялась, как всегда, в пять тридцать и, выглянув в окно, заметила Лекс в купальном костюме, но без полотенца — как она вспомнила позже. Девушка направлялась к берегу озера. Тогда Мери ничего не заподозрила: она привыкла к тому, что Лекс постоянно занималась спортом и неожиданно принималась за какие-нибудь серьезные упражнения. За два вечера до этого девушка ходила купаться после заката и вернулась через полтора часа, дрожащая и с синими губами. Тогда Мери приготовила ей чашку горячего шоколада.
На следующий день, 27 июня, она купалась утром и сказала Мери, что вода становится теплее. Лекс плавала в озере со Дня памяти погибших [7], и свой озноб накануне объяснила болезнью.
— Но до конца июля чертовски холодно, — перебил дядю Пел.
— Лекс сказала Мери, что стало теплее, — повторил Генри, но согласился, что вода, если и потеплела у берегов, на середине озера оставалась ледяной. Ведь глубина там превышала восемь футов.
Мери приготовила завтрак к восьми, но Лекс так и не объявилась. Кухарка зашла в ее хижину, но девушки не было и там. Она не заметила никаких следов, чтобы Лекс возвратилась с купания. Мери стала искать ее в главном здании, в других хижинах и в округе, спустилась по тропинке к озеру, стала звать девушку по имени.
Наконец она позвонила в полицию. В десять утра, плача от страха, она набрала номер Мег в Нью-Йорке. Мег сообщила Генри, и они вместе вылетели в Топнотч.
Тело нашли вскоре после пяти вечера. Лекс заплыла дальше центра озера — самой холодной его части — и там силы покинули ее. Плавание в ледяной воде истощило ее, решили власти. А если она еще и могла позвать на помощь, на таком расстоянии ее никто бы не услышал. Но скорее она и не кричала: холод сковал ее, сделал немой, она плыла все медленнее и медленнее и наконец ушла под воду.
Тело перевезли самолетом вчера, сообщил Генри, когда они подъезжали к квартире Мег. Похороны назначены на завтра, чтобы Жени и Пел успели вернуться.
Их пытались разыскать по телефону, но это оказалось невозможно — оператор не смог соединиться с кораблем. И тогда Генри послал телеграмму в отель, чтобы она дождалась их прибытия.
О смерти Филлипа им сообщили почти при тех же обстоятельствах, подумала Жени. Неужели смерть будет подстерегать их в каждом путешествии?
Они вошли в здание и поднялись на лифте. Жени была потрясена, но до сих пор не могла поверить: она знала, что Лекс очень сильная пловчиха и намного выносливее ее самой. К тому же Лекс прекрасно знала озеро — плавала в нем с детства сотни, а может быть, тысячи раз. Такой невероятный просчет невозможно было понять.
Они переступили порог. Мег сидела на диване. Она выглядела изможденнее и старше своей матери, которая, в тщетной попытке утешить, похлопывала ее по руке. Жени и Пел устроились в противоположном конце комнаты — сидели, взявшись за руки. Жени вспомнила, что они не разжимали рук с тех самых пор, как прочитали телеграмму, ладони слиплись от пота — мужа или своего, Жени не могла разобрать.
— Несчастный случай, — мрачно проронила Мег.
— Расследование не окончено, — повернулся Генри к Пелу и Жени.
— Заткнись! — Мег вырвала у матери руку. — Это несчастный случай!
Мег была близка к истерике. Но что могло ее утешить? Вторая смерть — и так быстро после первой — оказалась еще ужаснее. Смерть утонувшей дочери.
Наконец Роза Борден — теперь Роза Борден Марен — подхватила Мег и почти на руках повлекла в спальню, не переставая поглаживать по спине и в то же время давая знак остальным уйти.
— Сейчас, сейчас, — приговаривала она. — Все будет хорошо, дадим тебе чаю. Мама останется с тобой. Одну тебя не оставит… — ее голос постепенно удалялся, и присутствующие в гостиной ощутили всю тяжесть страдания Мег: когда собственное горе будто затягивало в самую середину ледяного озера.
После похорон Пел и Жени собирались, хотя бы на короткое время, остаться с Мег, но она их отговорила. Ей нужно было уехать. В Топнотч она не вернется — никогда, и нью-йоркская квартира была полна призраков. И пока она решила переехать к матери.
— Сама я в матери не гожусь, — сказала она Пелу, крепко обнимая сына.
— Ты великолепная мать, — успокаивал он ее, гладя исхудавшее тело. — Я тебя люблю.
Ответ прозвучал невнятно. Но освободившись из объятий, Мег четко произнесла:
— Если любишь, оставь пока одну. Мне теперь самой нужно побыть ребенком. Я совершенно растеряна, — она взглянула на сына. — И не знаю, что делать.
Пел снова притянул ее к себе. Жени смотрела на них — любовь, беспомощность и горе отражались на лице мужа, и она поняла, что две потери заставили его навсегда распрощаться с юностью.
— Живите с нами, Мег. Потом, если захотите, — предложила она, и поверх головы матери Пел послал ей благодарный взгляд.
— Спасибо, дорогая, — вежливо, но отчужденно поблагодарила миссис Вандергрифф.
А когда они прощались, Мег расцеловалась с ней, как с мимолетной знакомой, приложившись щекой к щеке Жени и чмокнув воздух. И Жени стало жутко. Неужели Мег считает ее виноватой? Неужели в горе неспособна принять вместо умершей дочери?
В Вашингтоне Жени продолжала размышлять о возможной связи их брака и гибели Лекс. После свадьбы они уехали вдвоем, а Лекс одна вернулась в Топнотч. Не ощущала ли она, что ее все оставили? Не была ли оскорблена их клятвами друг другу? Или это было совпадением, несчастным случаем, как на том настаивала Мег. Из-за того, что Лекс переоценила свои силы, не учла воздействия долгого пребывания в холодной воде?
Жени убеждала себя в том, что нет смысла задавать себе бесчисленные вопросы, на которые все равно нельзя получить ответов. Но проходя по пустым или полупустым комнатам их нового дома — с рабочими, «консультантами», а чаще одна — она не могла избавиться от нахлынувших на нее дурных предчувствий.
Но Пелу о своих сомнениях она не говорила. Они так мало бывали вместе, что встречи хватало только для создавания будущего счастья.
Пел полагал, что его работа в Фонде к июню завершится и он вернется на государственную службу. Его шестимесячный отпуск уже кончился. Но обязательства перед Фондом еще существовали, и он мотался между Нью-Йорком и Вашингтоном, возлагая на Жени основную нагрузку по обустройству дома. Но сам тоже хотел участвовать в этой важной части их совместной жизни: помогать выбирать ткани, спорить о цветах, советовать, не подвинуть ли полки вправо и не повесить ли их на дюйм выше. Жени знала это и сообщала о всех даже мельчайших проблемах по телефону или когда он приезжал домой. Но нагрузки были слишком велики, он не мог сосредоточиться и сделать выбор и в конце концов почти умолял ее принять решение самой.
В Нью-Йорке Пел по-прежнему старался выбраться из Фонда, оставив там надежную власть и сильное руководство. Дяди — Генри и Джадсон — помогали ему советом и делом, но присутствие Пела было необходимо на совещаниях и конференциях Фонда, где разрабатывались ими решения для претворения в жизнь.
Концепция «тройки» в основном была Джадсона. Руководитель транснациональной корпорации, Джадсон слыл знатоком в передаче полномочий и распределении власти. Он предложил разделить бывшую службу Филлипа на три части: Джон Дубрей, работавший в Фонде с его основания, отвечал за внутренний менеджмент и персонал; Джек Лузи, финансовый маг и превосходный администратор, должен был распоряжаться денежными вопросами; а Санфорд Вайтмор станет генератором идей. Его видение Фонда как организации, поддерживающей все сферы человеческого благосостояния, было близко взглядам Филлипа.
Планы были подготовлены, программы составлены, но летом 1965 года Пел по-прежнему был необходим, чтобы координировать действия трех сфер власти и организовывать работу Фонда единым фронтом.
Ему приходилось летать в Нью-Йорк, по крайней мере, дважды в неделю. А это сильно мешало работе помощника подсекретаря. Из занимающих такие посты в Государственном департаменте, Пел был самым молодым и получил его за неделю до того, как был вынужден попросить об отпуске. Это сильно его расстраивало. Но когда вышестоящий чиновник предупредил Пела:
— Я не собираюсь больше выполнять вашу нагрузку вместе со своей, — он холодно ответил, что в этом нет необходимости. Со своей он справится и сам. В Вашингтоне он работал по двенадцать — четырнадцать часов в день, приезжая на службу на двадцать секунд раньше клерков и выходя из здания вместе с уборщиками.
Напряжение двух работ было невыносимым, к тому же Пел мечтал проводить больше времени с Жени, как другие мужья, оставаться с женой долгими спокойными вечерами, во время которых расцветает и зреет взаимопонимание. Ему не хватало домашних забот, и он понимал, что когда лето кончится, упущенного не наверстать: Жени возвратится в Гарвард, а ему по вечерам придется приходить в пустой дом.
Напряжение, истощение, и отчаяние в связи со смертью сестры, и беспокойство за мать — все это, и ощущение ускользающего времени — заставляло Пела забыть уроки любви, которые Жени давала ему в Финляндии. По ночам он набрасывался на нее со слепой настойчивостью, и Жени принимала мужа, но пассивно, не испытывая возбуждения. А он, понимая, что не удовлетворяет жену, приходил в отчаяние.
Теперь Жени мечтала вернуться обратно в медицинскую школу, заполнить дни занятиями. Их брак начинался в любви, красоте, когда белыми ночами медового месяца рождались удивительные надежды. Теперь они удалялись друг от друга и вскоре даже наедине будут оставаться порознь.
10 августа официально завершилось расследование смерти Лекс. Но его результаты оставались неубедительными: полиция обнаружила в комнате девушки пустой тюбик из-под лекарства. Рецепт выписан три недели назад — пятьдесят капсул снотворного, каждая из которых содержит 100 миллиграммов барбитуратов.
Если утром 28 июня Лекс приняла все капсулы или хотя бы большую их часть, ей никогда бы не удалось переплыть озеро. Узнав об этом, Пел, сидя во все еще полупустой гостиной наверху, в тот же вечер предположил:
— Пустой тюбик может означать, что она пыталась и раньше, — большой бокал виски, который он теперь наливал себе каждый вечер, дрожал в его руке.
— Пыталась? — Жени тоже пригубила спиртное. Кондиционер работал на пределе — ночи были по-прежнему жаркими. Но проглотив коньяк, она ощутила озноб.
— Одно из предположений, не включенных в отчет — она уже могла «совершить попытку», могла проглотить все капсулы когда-нибудь раньше.
— И вытошнить их. Непроизвольно или нарочно, — закончила Жени. Она неотрывно глядела на Пела. — Но если она приняла лекарство, чтобы умереть, а потом заставила себя отрыгнуть, значит…
— Что?
Жени не могла высказать вслух свою мысль.
— Значит, она передумала, — сказал за нее Пел.
— Да, — она опустила глаза к полу, только что отциклеванному и покрытому лаком. Неужели Лекс передумала и в последний раз? Она вошла в озеро с намерением утонуть, но, подхваченная ритмом гребков, плыла все дальше. Миновала самую глубокую часть на середине, не в силах погрузиться, а завидев противоположный берег, решила жить?
Пел поставил бокал на стол, длинные руки повисли между колен и достали пола. Сердце Жени рвалось к мужу. Ей хотелось его обнять, утешить. Но тогда Пел прижмется к ней и они вместе отправятся в спальню…
Она откинулась на стуле и прикрыла руками глаза. А когда вновь взглянула на мужа — тот уже спал. Боль и усталость отражались на его лице.
Через пять дней Жени получила письмо от Мег. Оно было адресовано ей, а не Пелу. Внутри она обнаружила еще один запечатанный конверт и записку на голубой бумаге, почерком Мег: «Это я нашла в хижине Лекс. Написано тебе».
Жени разорвала второй конверт. Оттуда выпал лист, разлинованный синим, с розовыми полями — страничка из студенческой тетради. «Дорогая Жени!»было перечеркнуто, а линейкой ниже написано: «Дорогая, дорогая Жени!»
Почерк поразил Жени, как будто она услышала голос Лекс и подруга восстала из мертвых.
Жени принесла письмо в свою спальню, глубоко вздохнула и заставила себя прочитать:
Мне здесь очень одиноко. Никогда бы не подумала, что могу испытать такое одиночество, что такое одиночество может кто-нибудь перенести. Родители называют меня затворницей — теперь они должны знать, что я вовсе свихнулась.
«Родители» — это означает, что Лекс писала еще до смерти отца. Когда? Год назад? Больше? Почему она так и не отправила письмо?
Свихнутый урод — куда хуже, чем разжиревшая леди. Но здесь кроме врачей и слуг меня никто не видит. А им за неудобства платят. Это мое единственное место, и я останусь здесь навеки.
Шрамы могут поджить, и мама все время посылает мне газетные вырезки о косметике. Косметика, маски — какая разница? Я так и не научилась быть женщиной.
Создав меня женщиной, Кто-то весело пошутил.
А теперь мне предстоит быть твоей подружкой на свадьбе, стоять рядом.
Рядом, Жени. А я ведь урод. Единственная моя защита — кожа — безобразна, как грех.
Я могу поменять всю кожу, но останусь прежней. Такой, какая я есть. Грешной и безобразной. И я люблю тебя всею своею грешной душою.
На этом, без подписи, письмо обрывалось. Прежде чем запечатать в конверт, Мег, вероятно, его прочитала.
— Прости меня, — прошептала Жени в пустоту. Она вспомнила Лекс на свадьбе, ее только что закрученные волосы, их разговор на рассвете. Лекс призналась, что хотела быть похожей на отца, но не оправдала его любовь. Она подтвердила, что Жени правильно почувствовала, что Пел напоминает Филлипа, и с помощью брата собиралась исправить все, что не сложилось с отцом, заслужить в собственных глазах прощение.
А через несколько часов Жени вышла замуж за Пела.
Жени взглянула на письмо, которое все еще держала в руке. Не было надобности его перечитывать, а Пел никогда не должен его видеть. Она смяла в комок разлинованный синими полосками листок бумаги, вошла в ванную и спустила его в унитаз.
Спустя месяц слова «Ятак и не научилась быть женщиной» вновь всплыли в ее голове, но обрели значение в собственной жизни Жени.
Она была одна из немногочисленных женщин, обучающихся в медицинской школе, не наладившей с ними никаких отношений. Женщины были еще более самодовольны, чем мужчины, и казалось, постоянно держали себя в руках, чтобы не проявить доброту. Солдаты на страже или в карауле, они ежеминутно боролись против дискриминации.
Жени почувствовала ту же дискриминацию женщин, которая царила в медицинской школе. Она проявилась задолго до поступления — с требованием психологической оценки девушек. И продолжалась на занятиях, где, если женщины предлагали свой ответ на вопрос, мужчины-однокурсники смотрели на них, как на чудо. Будто на танцующих на задних лапах собак. Профессора зачастую нарочито покровительственным тоном хвалили студенток.
И тем не менее, Жени не испытывала духовного родства с остальными жертвами дискриминации. Она понимала, что должна заниматься более важными вещами, а не тратить время на перевоспитание нетерпимых. Медицина не имела пола, и призвание Жени не было связано с ее женской сущностью.
В конце концов большинство студенток стало относиться к ней с настороженностью из-за ее взглядов и из-за того, что она была замужем за Вандергриффом. Они демонстративно избегали ее.
Ни подруг, ни отношений с Мег. Жени чувствовала, что и жена из нее не удалась: она не могла ни помочь мужу, ни утешить его. Она не делит с ним жизнь, не создает ему дома. И в постели она снова была холодна, лишая мужа уверенности в себе.
Может быть, она была какой-нибудь ненормальной. Может быть, совсем наоборот, но, как и Лекс, она тоже не сумела сделаться «настоящей женщиной»? Не гомосексуальность, а какая-то мужеподобность отличала Жени от других женщин. От таких, как ее мать. Иногда Жени задумывалась, а какой женщиной была Наташа?
Несмотря на все сомнения и продолжающиеся ущемления, второй год в школе Жени нашла легче первого. Очевидно оттого, что она научилась воспринимать материал с большей эффективностью. К тому же, в этом году предметы были связаны больше с клинической практикой, а не с механическим запоминанием, и Жени могла выделить день или даже все выходные, чтобы навестить Пела. И в связи с этим не испытывать, как в прошлом году, паники, что что-то недоучит.
Она по-прежнему жила в общежитии. С их домом-мечтой в Вашингтоне казалось неразумным заводить еще квартиру в Бостоне, чтобы Пел мог останавливаться на день или два. Лучше было ей самой при первой возможности летать в Вашингтон.
Другой жизни, кроме работы, в Бостоне у Жени не было. Она занималась днями и вечерами, часто захватывая и ночи, а свободное время, которое она «экономила», отдавала поездкам к Пелу. Он был поначалу благодарен, даже восхищен тем, что она урывала для него свободную минуту. Но шли месяцы, и Жени почувствовала, что Пел хотел бы, чтобы она жила в Вашингтоне, он даже этого требовал.
Разрыв между женщиной и врачом становился все глубже. В Вашингтоне она носила шелковое платье и развлекала дипломатов, в Бостоне влезала в джинсы и училась. В медицинской школе у нее не было друзей. В своем доме в Вашингтоне она была постоянно окружена людьми. В Гарварде — просто студентка, в столице — жена Пела Вандергриффа. Она посещала посольства, ходила на приемы в Белый Дом, где танцевала с президентом Джонсоном. А днем позже ела у себя в общежитии холодную пиццу.
Жизнь была расколота на две половины, и по мере того как время текло, Жени чувствовала, что два ее «я» все больше и больше удалялись друг от друга. Надо было как-то решать этот конфликт, она это прекрасно понимала, но каждое, было слишком сильным. Жени любила то, что делала, и любила Пела.
Пел скучал по Жени гораздо сильнее, чем позволял себе показать. Он нуждался в ней не только как в хозяйке, очаровательной жене, прекрасно управлявшей приемами, которые они устраивали у себя в доме. Больше всего он скучал по человеку, дорогому другу, любимой женщине. Хотел быть с ней рядом, делить с ней жизнь, приходить к ней со своими проблемами и сомнениями, которые наваливались на него со всех сторон.
Она стояла в стороне от его профессии и могла бы судить обо всем объективно, а он бы рассказывал ей, почему разочаровался в своей новой должности и о работе в департаменте. Со своими знаниями проблем Восточной Европы и особенно СССР он вдруг был назначен помощником секретаря по делам Африки.
Это означало, что весь его приобретенный опыт превращался в ничто. А в Африканских делах он был новичком и не мог принять квалифицированных решений. И какова же могла быть международная роль США, если сотрудники департамента иностранных дел будут все такими же необразованными?
Пел мог бы вернуться в Фонд, но чувствовал, что время для этого было неподходящим. Мог бы принять предложение Администрации по международному развитию, но это означало бы работу за рубежом.
Так многое зависело от Жени. Их постоянная разлука создавала сильное напряжение. Хорошо еще, что они часто встречались и каждый день могли разговаривать по телефону. Из-за нее Пел не мог принять никакого предложения, которое бы означало отъезд за границу или предполагало частые командировки. Но он не осмеливался, не считал правильным просить ее жертвовать своим профессиональным будущим. И поэтому не говорил о том, что его волновало. Просто оставался на государственной службе, но был разочарован. А Жени, если та спрашивала его о работе, отвечал, что все «хорошо».
Жени чувствовала, что он оберегает ее от забот, чтобы она могла спокойно учиться. В ответ она тоже старалась не говорить о своих неприятностях. Сдерживалась и не упоминала об отце. Она понимала, что Пел больше не имел доступа к информации об СССР. Новая работа его угнетала, и Жени не хотела наваливать на него еще и новую ношу. Если бы она попросила помочь, Пел бы сделал все, что в его силах, но он уже и так поддержал ее во всем, и Жени не могла просить его о большем.
Друг с другом они говорили не так уже свободно, и их жизни все больше и больше расходились. Пел все чаще вспоминал отца, его советы. Ему ужасно не хватало Филлипа, его ободрений. А до свадьбы Жени надеялась, что Пел поможет ей в поисках отца.
Во время весенних каникул на третьем курсе медицинской школы Жени и Пел давали прием на П-стрит в своем новом доме. Перед приездом гостей Пел проводил обычную проверку: охлаждаются ли вина в холодильниках, положены ли салфетки на подносы, стоят ли в вазах цветы, есть ли на столе карточки с именами, напротив каждого стула.
— Я хотел бы, — он улыбнулся Жени, — чтобы это удовольствие ты разделяла со мной.
Жени ничего не ответила. Его удовольствие — это ей наказание: Жени следовало самой присматривать за вечеринками и не давать это делать ему.
Пел вытянул из середины букета оранжевую розу и подал жене. Жени взяла его за руку, и он вдруг крепко прижал ее к себе, смяв цветок между собой и женой.
— Мне так одиноко без тебя, Жени!
— И мне тоже одиноко.
— Правда?
— Да. Очень часто.
Он поцеловал ее в губы и неловко погладил по волосам, боясь испортить прическу.
— Пожалуйста, Жени, оставайся со мной.
Она отступила на шаг:
— Здесь? В Вашингтоне?
— Везде. Мы должны быть вместе. Я знаю это. Я это чувствую. — Жени кивнула. Иногда такое чувство было и у нее.
— Нужно потерпеть, Пел. После окончания школы я попрошусь в интернатуру где-нибудь в этом районе.
— Но я… — ее интернатура будет еще только через полтора года. А до этого ему предстоит оставаться на прежней работе. И даже после этого она не сможет надолго уехать. На годы окажется привязанной к больнице. — Сейчас, Жени. Я не могу больше ждать.
— Сейчас?
— Я хотел сказать… когда кончится этот учебный год. Пожалуйста. Возьми отпуск. Дай нам шанс…
— Дать нам шанс, — медленно повторила Жени.
Стол был накрыт превосходно. Тонкие серебряные канделябры хранили в себе свечи цвета слоновой кости. Меню на вечер изысканное: после холодного с белым насыщенным — Бордо, красное вино. Роскошная жизнь. Надушенные гости, в драгоценностях и сшитых на заказ костюмах, были не только влиятельными людьми, чьи имена гремели не только в вашингтонских кругах. Они проявляли себя как забавные, даже интересные собеседники.
Богатая жизнь. Пел ждал ответа, пристально глядя Жени в лицо. Он был человеком, которому она доверяла больше всего на свете. Добрейшим, ответственным, высоких моральных качеств. Жени это знала. Она поцеловала его в губы.
— Пойду-ка я лучше переоденусь. Меньше чем через час начнут собираться гости.
Его лицо потухло:
— Жени… — начал он снова, но она уже уходила от него. — Хорошо. Одевайся.
Через сорок минут они сидела в гостиной наверху и по традиции подняли бокалы перед приходом гостей.
Оба, как обычно, молчали, готовясь к роли хозяев приема. Внезапно Пел пробормотал:
— Прости меня, — и нелепо пожал плечами, не понимая, зачем он это сказал.
Жени посмотрела вопросительно на мужа и вздохнула. Конечно, она простила его во всем, в чем нужно было его прощать, но беспокойство закралось ей в душу. Ни один из них не понимал, что прощение требовалось за то, что случится в будущем.
Через месяц она получила от Пела письмо. Он говорил, что не в состоянии выносить их брак таким, каков он есть. Больше всего он хотел бы видеть Жени своей женой, но настоящей женой, а не только по названию. Он понимал, как сильно ее стремление стать врачом, отдавал себе отчет, что Гарвард дает лучшее образование. Он извинялся за слабость и за то, что не может больше так тянуть.
«Я уже не чувствую себя мужчиной, — объяснял он. — И с работой клеится все хуже и хуже. Поэтому, если любишь меня, дорогая, ты должна жить со мной».
Жени любила его — настолько сильно, что не могла больше мотаться между двумя мирами и двумя «я». Ей невыносима была боль, которую она ему причиняла.
Но и ее собственная боль была не менее сильной, когда она дрожащей рукой выводила:
«Дорогой, Пел. Я должна стать хирургом. Пожалуйста, прости меня…»
26
Пасхальные каникулы в Бостоне — такого одиночества Жени еще никогда не испытывала. Не к кому было пойти, не с кем было даже поговорить. Хотя она и оставалась в дружеских отношениях с Тору и Бейкерсфилдом — ее бывшими партнерами по анатомичке — ни с кем из них в отдельности она даже не говорила. Ее единственным близким другом был Пел, а семьей — семья Вандергриффов.
Теперь не осталось никого, и Жени не могла развеяться работой. Она начала сомневаться в правильности своих решений. Вместо того чтобы сидеть в скучной комнате, обложившись книгами и статьями, она могла бы жить в собственном доме в Джорджтауне, окруженная людьми и заботами любящего мужа. В Пасхальное воскресение они пошли бы на лужайку к Белому Дому смотреть, как дети катают яйца. А вместо этого приходится брести мимо закрытых магазинов одной, разыскивая ресторан, чтобы пообедать. Но и есть она не могла. За столиками Жени оказалась единственной женщиной без спутника — кругом ее окружали семьи — и ей казалось, что люди смотрят на нее с жалостью.
Это было хуже всего. Ей захотелось позвонить Пелу, услышать его голос. Много раз рука тянулась к трубке, пальцы набирали вашингтонский код, но в конце концов она опускала трубку на рычаг. Что она скажет ему? Было бесчестно заключить брак и разрушить его. Но она могла бы восстановить его и сейчас, если бы захотела.
Оглядываясь на прошлую жизнь, Жени видела одни обломки, точно яичная скорлупа, усеивающая тропинку от детства: осколки отношений, разорванные семейные и дружеские связи, лишь воспоминания после расставаний и смертей.
Она решила, что вернется к Пелу, сделается его настоящей женой, станет поддерживать в работе, управлять домом, родит детей. Детей?
Она вспомнила Синди, ясно увидела ее лицо. Маленькое несчастное ущербное личико. Ребенка, хотевшего жить в мышиной норке.
Не может она вернуться к Пелу. Во всей путанице ее жизни одно оставалось неизменным. Если она не станет стремиться к цели, вся прошлая жизнь покажется легкомысленной. Если бросится в распростертые объятия Пела, предаст и отца, и саму себя.
Жени приняла решение вскоре после пасхальной полночи. А с ним пришло и другое. Ей нужно было открыть нечто в себе самой. Особенно после того, как Пел заявил, что он больше не чувствует себя мужчиной. Неужели с ним это сделала она? Знает ли она, что значит быть женщиной?
Она набрала номер коммутатора:
— Я хочу послать телеграмму за рубеж. В Израиль.
Жени прилетела в Израиль 3 июля. Ответ матери пришел через два дня после ее телеграммы, и Жени заказала билет на 7 июня до Иерусалима. Пятого в Израиле разразилась война, и все рейсы были отменены. Жени жадно следовала за новостями, в первый раз в жизни регулярно слушала утренние и вечерние новости, читала репортажи в газетах. Через шесть дней израильтяне отвоевали свою территорию, и война прекратилась.
Только шесть дней. Через три недели в иерусалимском аэропорту Жени почувствовала продолжающееся кипение. Толпы вооруженных солдат. Они улыбались и окликали ее по-английски и на иврите. Она улыбалась им в ответ, выходя из терминала и садясь в автобус, который должен был увезти ее на север, где неподалеку от сирийской границы в кибуце жила мать.
Окна были открыты, но ветерок не облегчал нестерпимой жары — иссушающей и прожаривающей насквозь. Пыль покрывала кожу и волосы, проникала под одежду. Губы потрескались и спеклись, как русла рек, которые они проезжали.
Пейзаж большей частью был однообразен: каньоны и кратеры, мили пустыни, выжженные солнцем россыпи камней. «Земля не изменилась здесь со времен Моисея», — думала Жени. Но временами они проезжали военные машины и черные круги выжженной почвы, обозначавшие места бивуаков, вокруг которых были набросаны ящики из-под вооружения.
— Смотрите, — мужчина, сидевший рядом, толкнул ее локтем и указал в окно. Жени увидела два развороченных танка, наполовину занесенных песком, как будто кто-то предпринял нелепую попытку их похоронить. — Египетские. Не было еще времени их убрать.
Под слоем пыли проступала прожженная солнцем кожа мужчины, на фоне которой сверкали глаза цвета аквамарина.
— Меня зовут Дан, — он протянул ей руку.
— Жени, — рукопожатие оказалось крепким, на Жени он смотрел без улыбки.
— Ваш первый приезд? — спросил Дан с британским акцентом.
— Да.
— Немного опоздали. В прошлом месяце застали бы стрельбу.
Как будто в ответ на его слова раздался взрыв. Автобус вильнул с дороги. Солдаты подхватили винтовки и высыпали из дверей, вслед за ними вышли пассажиры и поспешили к укрытиям. Дан потянул Жени за руку к задней двери и заставил вместе с собой заползти под автобус. Он лежал рядом, широко раскрыв глаза, и не проявлял ни малейшего страха.
Жени услышала выстрелы, еще один взрыв и какие-то звуки, которых определить не смогла. Распластавшись на горячем песке, она закрыла глаза. Жара обволакивала, горячий воздух удушал. Жени почувствовала, что задохнется, прежде чем в нее угодит пуля. Уши горели, сердце колотилось — громко, как барабан, — и это был единственный звук, который она слышала.
А потом она поняла, что вокруг наступила тишина — ни взрывов, ни свиста осколков. Она открыла глаза. Дан молча, не двигаясь, смотрел на нее. Он едва заметно кивнул, давая понять, что опасность миновала, и стал выбираться из-под автобуса, таща за собой и Жени.
Они отряхнулись — тучи песка хлынули с одежды — и вновь сели в автобус. Другие пассажиры тоже выходили из укрытий и, счистив пыль с одежды и тела, влезали в двери. Заняв места, тут же начали переговариваться друг с другом, и говор их казался Жени непринужденным, даже веселым.
— Такой уж у нас климат, — объяснил Дан. — Арабский ураган. Нужно привыкать.
Жени поняла, что дрожит. Автобус тронулся в путь.
— Кто-нибудь ранен? — спросила она.
— Не думаю. Кажется, мина. Осталась с прошлого месяца. Могла быть и нашей, — он пожал плечами. Уклоняться от смерти стало его привычкой.
— Вы сражались в войне? — спросила Жени.
— Конечно. У нас все сражались. Весь Израиль — одна армия. Каждый гражданин — солдат. Он говорит на разные голоса, но смысл всегда один: «Верните нам наши земли».
— Вы должны очень гордиться, — проговорила Жени.
В автобусе, громыхающем на все лады, царило возбуждение. Возбуждение уцелевших от смерти? Или просто веселье при виде, как вещи приходят в обычный порядок? Что бы ни ощущала Жени, она чувствовала, что подвергалась экзамену и теперь имеет право находиться здесь.
— Гордиться? Конечно, — Дан распрямил плечи, взгляд устремился вперед. — Я был с Даяном. На третий день мы вернули Древний Город Иерусалим — святейшую из наших святынь. Так сказал Даян. Я не верующий, говорил он, но это не имеет значения. Соединимся в Иерусалиме! — он повернулся к Жени, и на его лице внезапно вспыхнула улыбка. — Каждый из нас почувствовал, как будто мы все обрели прошлое.
Жени откинулась на спинку сиденья. В этом и была ее цель поездки в Израиль — повидаться с матерью и, может быть, вернуть то, что было потеряно.
Дан сошел перед ней, на восточной оконечности Галилейского моря. Кроме солдат, Жени осталась единственной пассажиркой в автобусе, когда он прибыл на конечную станцию.
Автобус встречала женщина среднего роста, с темными волосами, подернутыми сединой. В ее поведении сквозила неуверенность или беспокойство. Увидев ее, поняв, кто она должна быть, Жени почувствовала желание соскользнуть с сиденья, спрятаться и не выходить из автобуса. Но когда страх приутих — когти огромной птицы отпустили сердце — она уже знала, что поднимется, возьмет багаж, соскочит с подножки и сделает шаг навстречу незнакомке, которая когда-то была ее матерью. Оставалась ею и теперь. Биологической матерью: женщина в бесформенных одеждах, тискающая руки. Десять лет назад — больше: десять с половиной — в январе 1957 года, она убежала от них.
Направляясь к ней, Жени заставила себя натянуто улыбаться. За несколько шагов она разглядела глаза — знакомые голубые глаза с косинкой, как у Дмитрия.
Наташа, казалось, приросла к земле, а Жени продолжала подходить: высокая, полногрудая женщина с блестящими волосами цвета ореха. Наташа бросилась к ней, чуть ли не прыгнула.
— Дочка, — шепот был едва различим и прозвучал как вопрос.
Жени поставила чемоданы и кивнула. Она никак не могла вспомнить, как по-русски звучит «мать».
Потянувшиеся было к ней руки безвольно упали:
— Женечка, ты здесь.
И снова Жени кивнула, раздумывая, расплачется ли мать. Ее глаза были сухими и изучающими: она выискивала следы слез на лице Наташи.
— Пойдем. А это я понесу, — рука Наташи потянулась к чемоданам.
— Нет, не надо, — Жени одновременно взялась за ручку, и их руки встретились. От прикосновения — ее ледяная улыбка растаяла. — Здравствуй, мама, — но прежде чем Наташа успела ее обнять, она подняла чемоданы и застыла в ожидании, когда мать покажет, куда идти.
Они шли рядом, и Жени заметила, что у матери совсем другая фигура. Наташа была ниже и жилистее. Как Дмитрий. Мать и сын походили друг на друга, а она пошла в отца.
Дома были грязновато-желтыми, прожаренными солнцем, как и все вокруг, казались частью этой местности, словно гряда камней. Там и сям мелькали полоски зеленого — сады или посевы. К тому времени, как они подошли к дому, где Жени предстояло остановиться, ее руки горели огнем, оттянутые под весом чемоданов, но она не позволила себе ни разу остановиться и передохнуть. Была полна решимости показать свою силу.
— Вот твоя комната, если тебе подойдет.
Жени поставила чемоданы и согнула руки, потирая локти. Комната оказалась чистой и строгой, как спальня в студенческом общежитии: мебель только та, что была необходимой, и никаких украшений, кроме покрывала на кровати с арабским рисунком.
— Спасибо.
Мать все еще явно нервничала и с трудом подбирала слова:
— Хочешь принять ванну? Или душ?
— Душ как раз то, что надо, — Жени вспомнила горячий песок под автобусом. Она все еще ощущала его кожей — месиво, в котором поджаривалась.
— Хорошо. А потом поешь? Или сначала отдохнешь? Поездка была утомительной?
Да, она слишком устала, слишком ей было жарко и неудобно, чтобы рассказывать о путешествии, о взрывах. В эту минуту Жени хотелось побыть одной.
Наташа принесла полотенце, мыло и маленький тюбик с желтым шампунем и, не сумев скрыть облегчения, вышла из комнаты.
Жени медленно разделась. Сон, казалось, вот-вот пересилит желание вымыться. Обнаженная, она вошла в душ и открыла кран. Напор оказался слабым. Тонкие струйки коснулись руки, прокладывая в запекшемся песке бороздки. Жени захотелось оказаться где-нибудь еще, в более удобном месте с современной сантехникой, чтобы вода потеплее, чем здесь, лилась на нее как проливной дождь. В Джорджтауне сияющую хромом головку душа можно было регулировать, стенки кабинки были сделаны из затемненного стекла, а ванная облицована ручной работы изразцами. Однажды, когда Пел поздно вернулся с работы, они мылись вместе. Не как любовники, а забавляясь, как дети, как брат и сестра. Теперь она по нему скучала.
Шампунь, который ей дала Наташа, первые два раза не вспенился. С третьей попытки она добилась жиденькой пены. Долго терла волосы и стояла под душем, пока все тело — каждый его изгиб и впадина — не стало чистым.
Тогда она вышла из-под душа и растерлась грубым полотенцем, потом намотала его вокруг головы, как тюрбан. Подошла к кровати и рухнула на нее. И тут же заснула.
Войдя, Наташа застала ее голой и натянула на дочь простыню, потом осторожно, точно пытаясь поймать мыльный пузырь, коснулась пальцами лба…
Проснувшись, Жени не могла сообразить, сколько же она проспала и который был час. Она прилетела из Бостона в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Лондон, провела там ночь, но спала урывками. Перед тем как сесть на борт самолета компании «Эл Ал» прошла строжайший контроль. Потом автобус, взрывы, глаза соседа цвета аквамарина, прибытие в кибуц и встреча с матерью. Какое долгое путешествие, думала она, чувствуя усталость, хотя только что проснулась. Не ошибка ли — это сентиментальное путешествие, и в конце — встреча, или ссора — с женщиной, которую она так мало знала?
— Доброе утро, — Наташа вошла с подносом. — Я принесла тебе завтрак. Сегодня день рождения твоей страны — Америки, — она произнесла это так, как будто репетировала слова: чтобы поразить Жени своими знаниями.
Значит, сейчас утро четвертого июля. Жени приподнялась, откинула простыню. На завтрак оказалась яичница, ломтики серого хлеба, маслины, помидоры, кусочек соленой рыбы и чай. Жени внезапно захотелось есть, даже вот это, и она приняла поднос, который Наташа поставила ей на колени.
Пока она ела, мать рассказывала ей что-то о кибуце. Здесь жили люди разных национальностей. И хотя только Наташа и еще одна женщина были выходцами из СССР, русских по происхождению здесь было много. Европейский по духу, кибуц исповедовал социалистические взгляды и отчасти был по-старому революционен. Поселенцы до вечера трудились, а потом могли заниматься своими делами — читали, слушали музыку или сами играли на музыкальных инструментах, жарко спорили с соседями.
— Я работаю в детском саду с младшими детьми, — сообщила Наташа, ее руки были скромно сложены на коленях. Если хочешь, я возьму тебя с собой. Дети просто чудо.
— Правда? Никогда бы не подумала, что тебя может заинтересовать такая работа, — Жени показалось иронией судьбы, что женщина, оставившая своих детей, заботится о чужих, и называет их чудесными.
Но ирония ускользнула от самой Наташи:
— В саду есть нянечка. Но у нее так много работы, что она не в состоянии присмотреть за всеми. Если побудешь здесь, может быть, захочешь ей помочь. Твое медицинское образование пригодится.
Жени рывком сдвинула поднос с колен.
— Меня учили не для того, чтобы помогать нянечке! — ярость нахлынула на нее, и она почти выкрикнула эти слова. Что же до того, чтобы здесь побыть, не думаю, что это удастся, — она смотрела на овал своих колен с подносом, не в силах поднять глаза на мать.
— Жаль это слышать, — мягко ответила Наташа. — Я надеялась, что ты поживешь со мной.
Но Жени уже думала, что ей вовсе не стоило приезжать. Смешной порыв, вызванный ложным любопытством. Ей нечему учиться у этой женщины.
— Я надеялась, — продолжала Наташа, — что у нас хватит времени познакомиться друг с другом и стать… друзьями, — она произнесла это так застенчиво, как маленькая девочка, упрашивающая подругу поиграть с ней.
— Десять лет назад, — криво усмехнулась Жени, — ты не захотела оставаться моим другом.
— Десять лет назад, Женечка! Неужели через все эти десять лет ты пронесла ненависть ко мне?
Жени захотелось, чтобы мать ушла. Она чувствовала себя, словно в ловушке, под простыней. Встать означало показаться во всей наготе.
— Сказать по правде, — солгала она, — я почти не думала о тебе с тех пор, как ты от нас ушла.
Наташа не отводила глаз, и Жени с раздражением и одновременно с облегчением поняла, что мать ей не верит. Возраст отпечатался на ее лице, хотя кожа была по-прежнему гладкой, слишком гладкой для седины в волосах. Глаза смотрели встревоженно, и в них Жени увидела, какой была мать молодой, еще пятнадцать лет назад — красивой, надушенной, когда она приходила взглянуть на детей перед отъездом с друзьями в театр. Живой, очаровательной женщиной, умеющей слушать, что говорят другие, и легко и остроумно им отвечать. Та Наташа убежала с актером и потом была осуждена за политическую неблагонадежность, которую Дмитрий простил, потому что считал наивной.
— Зачем же ты тогда приехала в Израиль? — глаза Наташи сверлили дочь. — Зачем, если все эти годы не думала обо мне?
— Потому что… — Жени почувствовала, что ее поймали. — Потому что рухнул мой брак.
— Боже! — Наташа потянулась, чтобы обнять Жени, но та отвернулась. Она не хотела жалости и не понимала, зачем она это сказала.
Наташа села на место:
— Когда был разрушен мой брак, я пережила самые черные годы в жизни.
— Но ты ушла. В этом не было никакой необходимости.
— Была, Женя, — она говорила печально, но уверенно. — Георгий меня ненавидел. Вернувшись обмороженным, он оказался растерзанным не только физически, но и духовно. Не мог взглянуть на себя, и мне не позволял смотреть на него, — она помолчала. — И ни разу не позволил до себя дотронуться.
— Но ты всегда казалась счастливой, — возразила Жени, вспомнив мать на своем двенадцатилетии, как та танцевала в своем красном платье.
— А какой еще я могла казаться? Это все для тебя и Дмитрия. Для себя. И для него тоже. Если бы я убивалась, его ненависть не имела бы выхода, и обратилась бы на вас и на себя самого. А она была слишком велика, чтобы ее снес один человек. Он видел, какая я сильная и независимая, и в тот день, когда я уходила, сказал, какое отвращение он ко мне испытывал.
— Правда?
Наташа так печально кивнула, что Жени захотелось уронить простыню и взять мать за руку.
— Давай забудем об этом. Это не то, что ты хочешь услышать об отце.
— Но ты ведь сбежала с актером?
— С Костей? Да. Почти тринадцать лет у меня не было мужчины.
Жени не хотела слушать, не хотела ничего знать об интимной жизни матери — и все же сочувствовала ей.
— Это было агонией, — продолжала Наташа. — Оставить детей. Все эти годы вся моя жизнь была в тебе и Дмитрии. Больше я не знала ничего. Только позволяла другим говорить любезности. Любезности — о, Женя! Какой я была легкомысленной.
И одинокой, подумала Жени.
— А потом меня сослали, и еще годы я училась, как быть серьезной.
— Но тебя признали виновной…
— Да. Пустое, формальное обвинение. Меня никогда не интересовала политика. И Георгий не хотел, чтобы я в это вмешивалась. Но он был влиятельным человеком. Намного влиятельнее, чем я думала. И когда его гнев вырвался наружу, он меня раздавил.
— Как? Ты хочешь сказать, что он устроил твой арест? Посадил в тюрьму? — Жени вспомнила, о чем ей говорил Дмитрий. Но она в это никогда не верила. Как мог один человек управлять правосудием? И кроме того, несмотря на то, что сейчас говорила Наташа, она знала отца — он не мог быть таким мстительным.
— Я не выдвигаю никаких прямых обвинений. Какой смысл? «Космополитизм» — расплывчатая формулировка. Ее применяли ко всем евреям. Сейчас мы больше не будем с тобой разговаривать, — Наташа убрала поднос со столика рядом с кроватью и встала. — Я и так задержалась, пора на работу. Может быть, еще соснешь, а потом навестишь меня в детском саду?
— Договорились.
— Ну вот и хорошо. Я кого-нибудь пришлю за тобой.
Когда мать выходила, Жени хотела остановить ее, сказать, что сейчас что-нибудь набросит и пойдет вместе с нею. Она понимала, что мать была бы счастлива.
Но Жени не проронила ни слова. А когда дверь закрылась, вновь скользнула в постель и вскоре опять спала.
Когда же она снова проснулась, в комнате было светло и очень жарко. Надела шорты, блузку без рукавов и сандалии, спустилась по лестнице, и когда открывала наружную дверь, к ней подошел мужчина среднего возраста:
— Женя, подожди. Я отведу тебя к Наташе.
Она озадаченно посмотрела на него. Откуда он узнал ее имя?
Он улыбнулся и протянул широкую ладонь:
— Я Наум Бен-Дов. Видел тебя вчера в автобусе.
— Ах вот как?
— Да. Пришел посмотреть на очаровательную дочку из Америки. Но в последний момент — как это вы говорите? — сробел. Затряслись жилы.
— Оробели? Затряслись поджилки?
— Да, да, поджилки. Решил, что мне там не место, когда воссоединяются мать и дочь. И вот стал невидимым, как кролик.
Жени рассмеялась. Мужчина был почти на голову выше ее, с бочкообразным животом. Для него стать невидимым выше всяческих сил, которыми обладает любой волшебник.
— Кролики не исчезают, — поправила она. — Они возникают из шляп.
— Бедные кролики. Никак не могу взять в толк, зачем им нужно жить в шляпах. Ну, пошли, — он взял ее под руку, как будто они были старыми друзьями. — Мы идем в детский сад.
Симпатичный, подумала Жени. Хотя и некрасивый: широкий рот, крупные торчащие уши, светло-рыжая копна перепутанных волос.
— Ты полюбишь эту страну, — говорил он, когда они проходили небольшой фруктовый сад. Я в этом уверен так же, как и в том, что меня зовут Наум Бен-Дов. Страна, на которую жмут со всех сторон. И нажим этот заставляет людей вырастать изнутри, яснее понимать себя.
Жени удивленно посмотрела на него. Неужели он раскусил ее так быстро?
По дороге в детский сад Наум показывал на здания: вот больница, зал, столовые, магазины — все желтовато-грязное, незаметное. Жени улыбнулась, вдруг вспомнив Топнотч — грубые хижины на лесистых горах: возврат миллионеров к природе, где дома призваны гармонировать с пейзажем. Здесь же — человек попытался овладеть природой, и строения, которые, казалось, выросли прямо из земли, доказывали его превосходство над враждебной силой.
В детском саду Наум звонко поцеловал Наташу в щеку. Она улыбнулась ему, и лицо женщины стало мягче и моложе.
«Так вот в чем дело», — подумала Жени. Рыжеволосый великан был любовником матери. Наташа не выносила жизни без мужчин. Жени сделалось неприятно. Она не хотела, чтобы ей напоминали о сексе, особенно если это напоминание исходило от матери.
Наум почти сразу же ушел, и Наташа начала для Жени экскурсию по детскому саду. Комната для занятий. Спальня, вдоль стен уставленная кроватками. Кухня, где стерилизовали бутылочки и соски. Комната для начинающих ходить, некоторые из них в манежах, и странный набор игрушек из пластмассы и дерева — обучающие игрушки, знакомые Жени по Америке; тряпичные куклы и игрушки, которые могли показаться древними.
— Да, ты права, — подтвердила Наташа. — Ты заметила, что в Израиле мы не делаем различий между новым и старым. Мы не грезим прошлым, как в Европе, или будущим, как в Советском Союзе и, как я слышала, в Америке тоже. Здесь вещи не имеют ценности вне самих себя. Что бы мы ни обнаружили, мы стараемся это использовать. Так или иначе используется все, — она наклонилась над девочкой, которая играла чем-то, что представилось Жени отполированным камнем, и что-то спросила на иврите. Улыбнулась, выпрямилась и объяснила Жени. — Вот магический диск. Он прилетел к нам с Луны. Если его поднести к уху, он станет с нами разговаривать.
Она снова выслушала ребенка и перевела Жени:
— Например, он рассказывает о цифрах. Может отгадать любое число.
— Какое? — Жени улыбнулась голубоглазой девочке с белыми кудряшками и розовыми щеками.
— Сейчас я спрошу, сколько ей лет, — сказала Наташа.
Магический диск в кулаке ответил «три», и девочка торжествующе улыбнулась. В нескольких ярдах от нее мальчик полез на стул и упал, но не заплакал, а, полежав немного, поднялся сам, потер колено и скривил губы в гримасе, явно отражающей его твердое намерение не зареветь.
Наташа наклонилась над ним и рассмотрела синяк. Успокаивая, заговорила на иврите, а когда взъерошила ему волосы, мальчик улыбнулся.
— Это Арон, — объяснила Наташа Жени по дороге в медпункт, куда они отправились за йодом. — Ему два с половиной года, и я сказала ему, что он храбрый, как солдат. Все дети хотят стать храбрыми солдатами.
Жени вспомнила детей Хиросимы. Но их мужество было уникальным. А большинство американских детей в такой ситуации, конечно же, расплакались бы.
— Как вы учите таких маленьких детей такому самообладанию? — спросила она Наташу.
— Обычно ребенок кричит больше от страха, чем от боли. Пугается при виде крови. А заслышав собственный плач, трусит еще больше. Но здесь дети не боятся. Даже самые маленькие видели кровь. Мы не прячем ее от них. Иногда специально колем себя булавкой, чтобы показать, что ее нечего бояться. Пролитая кровь — все равно, что пролитый кофе или пролитое молоко. Надо просто вытереть — и все в порядке.
Слова матери невольно произвели на Жени впечатление. Они вернулись к Арону, и Наташа нарисовала йодом на его коленке пятиконечную звезду. Малыш взглянул на нее с гордостью бойца, получившего орден.
Наташа умела обращаться с детьми. А с ней она тоже так обращалась, когда Жени была маленькой?
— В прошлом месяце у нас было много раненых. И мы водили детей в больницу смотреть на них. Хочешь заглянуть в нашу больницу?
— С удовольствием, — при слове «раненые» в Жени разгорелось любопытство. Может быть, в больнице в кибуце проводят реконструктивные операции.
— Скоро сможем туда пойти, — Наташа закрыла пузырек с йодом, шлепнула Арона по спине, и тот умчался прочь. — Когда придет замена.
Через двадцать минут она уже вела Жени через футбольное поле, мимо гандбольной площадки, горки и нескольких качелей. Они прошли рядом с библиотекой — «наше старейшее здание», объяснила Наташа, и концертным залом, который по строению очень напоминал больницу.
Почти все кровати были заняты ветеранами Шестидневной войны. Дежурный врач доктор Стейнметц, молодой, но с изможденными глазами, смог уделить Жени всего лишь несколько минут, сказав, что некоторые из раненых содержатся здесь лишь до того момента, когда найдутся места в другой больнице.
— Им требуются сложные операции, проводить которые нам не позволяет оборудование. Мы можем заниматься только простыми ранами — как в большом полевом госпитале. Многие из них и поступили из полевого госпиталя, который я с коллегой развернул к югу от кибуца во время боев, — меж глаз врача пролегла глубокая складка, зрачки затуманились воспоминанием. — Раненые проявляли величайшее мужество, даже мальчишки. Никто из них не просил особого внимания, никто не требовал перевязать его первым. Наоборот, как бы не были серьезны раны, люди просили сперва заняться их товарищами. «Сперва его», слышал я со всех сторон.
Жени подумала об Ароне, который упал, разодрав колено, но не заплакал. Еще двухлетний, он уже готовился к войне?
— «Сперва его», — повторил доктор Стейнметц. — Для некоторых это означало, что будет уже слишком поздно. Теперь здесь самые крепкие, — врач махнул рукой в сторону палат. — Те, которые выдержали ожидание. Без глаза или уха, частично обезображенные, с пробитыми лбами, разможженными челюстями.
— Позвольте мне поработать с вами, — попросила Жени. Она быстро рассказала о своей практике с доктором Ортоном, о трехлетнем образовании в медицинской школе, о своем решении стать пластическим хирургом.
Она говорила с врачом и не заметила появившееся на лице Наташи выражение удивления, когда Жени упомянула о своей будущей специальности.
— Спасибо, — проговорил доктор Стейнметц. — Но сейчас у нас даже больше врачей, чем надо. Добровольцы со всей страны и даже из Америки. Поговорите со старшей сестрой. Она будет благодарна за любую помощь. А теперь извините, я должен вернуться к больным.
После утреннего взрыва, когда мать предложила ей помогать нянечке в детском саду, Жени, конечно, не могла принять предложение врача, особенно при Наташе. Когда они вышли на улицу, мать спросила:
— Когда ты решила стать пластическим хирургом?
— Я всегда хотела, — выпалила она в ответ.
Некоторое время они шли в молчании, а потом Наташа тихо проговорила:
— Ты очень любишь отца.
Жени не ответила. Слова прозвучали как обвинение.
— Да, — продолжала мать. — Его увечье определило и мою, и твою жизни. Мы женщины, взрощенные ладожским льдом.
— Ты — может быть. А я никогда не знала отца другим. Он был мне хорошим отцом. Особенно после того… как ты нас оставила.
— Понимаю.
— Взгляни фактам в лицо. Ты от нас убежала. Может быть, у тебя и были для этого причины, но могла бы немного и подождать. Тогда мне было еще двенадцать лет. В этом возрасте девочки нуждаются в матерях. А у меня матери не стало. И не потому, что ты умерла, а потому, что решила уйти от нас.
— Уйти? Как ты можешь так говорить? Я тебя любила, была в отчаянии…
— Еще бы! — Жени ускорила шаг. — Я знаю только одно — ты меня бросила. Да ладно, это старая история. Теперь я взрослая. И прошлое не имеет никакого значения.
— Я не бросила тебя, Женя. И Дмитрия тоже. Я бросила его.
Жени не ответила.
— Лед, — снова начала Наташа, — унес его мужское начало.
— Что ты имеешь в виду?
— Яички. Это первое, что у него отняли.
Жени продолжала идти. Ей казалось, она никогда не сможет постигнуть глубины того, что сделал лед с ее семьей.
Они помолчали.
— Ты его простила? — наконец спросила Жени.
— Давно, — ответила Наташа и через несколько минут добавила: — Он направил меня сюда. Странно: тот же самый человек, который засадил меня в тюрьму, пожертвовал собой, чтобы вызволить меня оттуда. Так я слышала. Сложный человек — Георгий. Страсть всегда в нем кипела. То ненавидел меня всем сердцем, то простил. Кто знает, может, он поступил так, сознавая свою вину. Когда-то любил меня, потом из неосуществимой любви родилась ревность.
Жени слушала с большим вниманием, удивляясь сложности отношений между родителями. Жизнь матери определила любовь, а не лед, думала она. Так вот как чувствуют женщины.
— Сам он мне ничего не сказал, — объявила Наташа. — Последний раз я его видела в день суда, рядом с тобой.
Они обменялись взглядами, но Жени не могла понять их значения:
— А как он смог отправить тебя сюда?
— Говорят, что-то предложил. А может, согласился на предложение, которое сделали ему. Что бы там ни было, решил: в обмен на разрешение мне выехать из СССР подписать ложное признание. Ведь это был период десталинизации. При Сталине отец занимал видный пост, который получил в благодарность за проявленный во время войны героизм.
Жени кивнула. Все это она знала.
— А сам он был сталинистом? — спросила она.
Наташа пожала плечами:
— Был сыном своего народа. Машинистом по профессии. Но он был умным человеком, хотя и не имел образования. Его влияние распространялось лишь в сфере торговли. Не думаю, что он встречался с людьми из партийной верхушки — теми, кто делал политику. И уж конечно, не был знаком со Сталиным и кем-либо из его окружения.
— А что за признания он сделал?
— Я слышала, что подписался под целым списком преступлений, о которых никогда и не слышал.
— Но зачем?..
— В Америке вы этого не понимаете, — Наташина улыбка сделалась отстраненной. — Во время десталинизации требовались козлы отпущения. Нужны были имена, виноватые. Твой отец был достаточно известен как герой войны. Поставив подпись, он удовлетворил жажду людей к отмщению. А партии дал возможность проявить великодушие: его не расстреляли, а отправили в лагерь. Показали, какие они милосердные. Он принял ярлык преступника, предателя, в обмен на мою свободу. Как я могла его не простить?
Да, — простая история детства — мать бросила, отец арестован — превращалась в сагу, историю предательства, расцветшего из любви, и любви, приводящей к самопожертвованию. Что-то такое было у Достоевского. Как мало она понимала тогда на занятиях по литературе!
Жени вспомнила о книге, которую будто бы писал отец:
— А ты что-нибудь знаешь о его мемуарах?
— Мемуарах?! — теперь лицо Наташи расплылось в настоящей улыбке. Ты шутишь! Твой отец не мог до конца написать ни одного предложения.
— Ходили слухи… я слышала от приятеля, — она запнулась. — От чиновника из Государственного департамента, что отец пишет политическое разоблачение.
Наташа, все еще улыбаясь, покачала головой:
— Никогда бы в это не поверила. Слова у него никак не согласовывались друг с другом. Знаешь, какие он мне писал любовные записки: «Роза, снег, запах сосен, ты». Я находила их очень романтичными. Считала почти стихами.
Пел никогда ей не писал любовных записок, вдруг поняла Жени. Только Дэнни. Но он был настоящим поэтом. В письмах Пела сквозила любовь, но она была упрятана между строк.
— А как вы жили? — спросила она.
Наташа едва заметно улыбнулась:
— Сначала у моих родителей. Было трудно. Они и Георгий были такими разными людьми. Мы — евреи. Но прежде чем мама умерла, они научились ладить.
Потом родился Дмитрий. Дед в нем души не чаял, и это сблизило их с Георгием. И он захотел, чтобы мы с Георгием поженились.
— Поженились? — Жени выглядела озадаченной. — А разве вы?..
— Нет. Я была прописана у своих родителей. Георгий официально жил со своими, но на самом деле у нас. Мы опасались, если станем расписываться, нас обнаружат, и Георгий больше не сможет там жить.
— А почему вы не приобрели свою квартиру?
— Снова в тебе говорит Америка, — рассмеялась Наташа. — Не так-то это было просто. Уже шла война, и Россия со дня на день могла в нее вступить. Для молодой пары в Ленинграде не было квартир. Даже в лучшие времена стояли в очереди не меньше года. А тогда наступали не лучшие времена. Но вот родился Дмитрий. А потом в Ленинград пришла война.
Они подошли ко входу в детский сад. Наташа направилась к скамейке, и они присели…
— Тогда мы только несколько дней были вместе. Его отправили на оборонительные работы, а я не могла поехать с ним — кормила Дмитрия. Потом его перебросили на Ладогу. Я не видела его месяцами и очень скучала.
Она надолго замолчала, потом тяжело вздохнула и продолжала:
— Он приехал домой в ночь, когда родилась ты. Стоял у изголовья моей кровати и смотрел на меня. На лице зияли черные дыры, кожа сползла лоскутами. Увидев его, я закричала.
Жени содрогнулась.
— Не позволила приблизиться, коснуться меня. И он мне этого никогда не простил. Хотя потом мы и расписались.
— После того, как я родилась?
— Да. Нам предоставили дом. Тогда Георгий уже был героем.
Жени встала и ждала. Наташа оставалась на скамейке. Жени протянула ей руку. Мать слегка тряхнула головой и поднялась. Они шли рядом, прислушиваясь к звукам детской игры, доносящимся из сада.
— Когда ты и Дмитрий были детьми, я любила вас, как частицу себя. И продолжаю любить до сих пор. Но после ночи твоего рождения любовь к Георгию начала во мне замерзать. Я оправилась от потрясения при его появлении, но не смогла оправиться от его ненависти.
Они поднимались по лестнице, и ладонь Жени поглаживала плечо матери.
27
Но на следующий день Жени уже избегала отвечать теплотой на теплоту матери. Наташины откровения оказались слишком запоздалыми. Жизнь Жени закрылась для матери, когда она была еще ребенком. А подростком — отсутствие матери сформировало характер так же, как и арест отца и отъезд из страны. Она стала женщиной, не получив уроков, как ею быть. Ее примерами были лишь Соня, да позже Мег.
И сейчас для Жени женственность Наташи была слишком всеобъемлющей. После крушения брака, одолеваемая сомнениями в себе, она отправилась в Израиль, чтобы разыскать мать, а в откровениях Наташи нашла молодую женщину, обуреваемую страстями, чья жизнь была слеплена любовью мужчины.
В том числе и любовью Наума. Он подарил ей любовь мужчины, и он, не Жени, больше занимал ее чувства.
Жени говорила себе, что приехала в Израиль из любопытства, а совсем не для того, чтобы обрести исключительную материнскую любовь, которой ей так не доставало в детстве.
Теперь она уже была взрослой. Ей предстоит вернуться к собственной жизни, далеко отсюда, и вести эту жизнь в одиночку. И поскольку предстоял скорый отъезд, Жени предпочитала отчужденность.
Но она не могла не восхищаться Наташей. И Наум ей тоже понравился. Добрый, отзывчивый и от природы любвеобильный человек. Он легко обнимался во всеми, даже с мужчинами, но когда прикасался к матери, понимание их близости больно кололо Жени.
Она узнала, что они были друзьями задолго до того, как стали любовниками. Наум и его жена Рут пригласили Наташу к себе, когда она только что приехала в кибуц, приняли как свою сестру. Они понимали, как трудно будет неверующей, да еще из России, прижиться в Израиле. Наташа не просила о выезде в Израиль, как многие советские евреи, но в другие страны отъезд ей был заказан. Ей сообщили, что «позволяют воссоединиться со своим народом» — благовидный предлог для советских властей, чтобы выкинуть ее из страны, как нежелательный элемент.
Наум и Рут приняли ее без осуждения и через несколько недель все трое сильно сдружились. Хотя Наташа проводила больше времени с Рут, чем с Наумом.
Рут была чешской еврейкой, слегка старше своего мужа, прямодушной и разговорчивой, чей веселый юмор часто обращался на саму себя. Одна из самых влиятельных поселенок в кибуце, она призывала к сочувствию, а не к ненависти — это пришло к ней со всем ее жизненным опытом: она пережила заключение в концлагере в Чехии и в лагере смерти в Аушвице.
В конце 1965 года, во время налета палестинских коммандос, в нескольких километрах от кибуца — Рут была застрелена. Наташа оплакивала ее вместе с Наумом. Часами бродили они по твердой земле и говорили только о Рут: припоминали ее жесты, ее словечки, призывы ко всепрощению. Наум называл свой брак благословенным.
После смерти подруги Наташа осталась подле Наума. Они нуждались в обществе друг друга и неизбежно стали любовниками.
Даже теперь, через восемнадцать месяцев после гибели Рут, они часто говорили о ней — она стала частью их любви — любви, окрепшей в дружбе и взаимном уважении. Каждый раз, когда Жени видела их вдвоем — острее ощущала собственные потери. И у нее могли бы сложиться такие же отношения. Но счастье с Пелом она променяла на призрачное будущее хирурга. Глядя на ладонь Наума, покоящуюся на плече матери, на его пальцы, поглаживающие ее шею или трогающие ее волосы, — она начинала сомневаться в правильности своего выбора.
Тогда она написала Пелу, что выбора у нее нет, но, запечатав конверт, тут же усомнилась в этом сама. Но теперь не оставалось ничего другого, как следовать выбранной дорогой.
Жени работала в детском саду и в больнице. Ее былое высокомерие бесследно исчезло. Ни ребенку с больным животом, ни солдату, которому взрывом мины разворотило лицо, не было важно, какую степень она готовилась получить в медицинской школе. Первый долг врача — лечить всеми средствами. Ее голос, ее руки, ее платье — приносили утешение. И это утешение, по крайней мере сейчас, убедило ее, что выбор был сделан правильно.
Чтобы не думать о Пеле, Жени изматывала себя работой. В бесформенном халате с волосами, стянутыми в тугой узел, она ухаживала за ранеными, искалеченными и больными. При виде горестей других людей она забывала о своих.
Через восемь дней она меняла бинты у Якова — человека, чья шея и голова сильно пострадали во время военных столкновений. Он был один из тех, кто ждал реконструктивной операции. Не жалуясь, стараясь быть веселым, он все старался подвинуться так, чтобы Жени было удобнее делать осмотр. Закончив, она вдруг почувствовала, что кто-то стоит за ее спиной. Подняла голову, и ее обжег взгляд. Черные, блестящие, как уголь, глаза смотрели на нее.
— Брат, — поприветствовал его Яков и дружески приподнял руку. — Миках.
Мужчина кивнул и снова уставился на Жени. Глаза откровенно ласкали ее лицо.
— Жени из Америки, — представил Яков. — Студентка медицинской школы. А это Миках — герой Синая. Брат по оружию, парашютист-десантник. Самый смелый из всех.
Не обратив никакого внимания на представление, тот продолжал по-прежнему смотреть на Жени.
Она опустила глаза.
— Красивая, — почти шепотом проговорил Миках.
Не поднимая глаз, Жени отошла от кровати Якова и не оборачиваясь закрыла за собой дверь палаты.
Когда работа закончилась, она медленно провела руками по телу… На следующий день по дороге в детский сад Жени внезапно остановилась как вкопанная: он возник перед ней, будто выскочил из-под земли — пустая улыбка играла на его лице.
— Вот мы и снова встретились, — голос оказался низким и глубоким.
Она снова двинулась вперед, и он пошел рядом:
— Вы — Женя Сареева, дочь Наташи.
— Да, — она не поворачивала к нему головы, но чувствовала, что задыхается, как будто ее с силой ударили в грудь.
— Вы прилетели из Америки, чтобы встретиться с матерью после долгой разлуки?
Тон был резким. Проверяет, подумала Жени. Следит за мной, шпионит. Но не почувствовала ни гнева, ни страха, которые испытала в Кембридже.
Она чувствовала его присутствие рядом, силу, заключенную в его теле: грубую и примитивную.
— Конечно, все это чушь, — она ощущала его взгляд на своей шее.
— Что чушь? — у нее перехватило дыхание и голос показался девичьим.
— Разыскивать мать. Родители — это просто доноры спермы и яйцеклетки.
— И больше ничего?
— Ничего, — внезапно он взял ее за подбородок, уставился на губы, потом стал смотреть в глаза… Жени взглянула в его глаза. Жар бросился ей в голову, и она затерялась в их бездонной глубине…
— Так будет, — он отпустил ее подбородок и быстро пошел прочь.
Когда Жени вошла в детский сад, дыхание к ней еще не вернулось, и прежде чем подняться по лестнице и зайти в детскую, она решила передохнуть внизу.
Наум, как любвеобильный медведь, дружески похлопал ее по локтю.
— Миках Кальман — человек страсти, — проговорил он. — Его прозвище «Лев». А ты что-нибудь знаешь про львов? Когда лев попадает в прайд, он убивает соперников, а потом спаривается со всеми львицами.
Все утро Жени оставалась в расстроенных чувствах. Она путала вещи, делала ошибки, и Наташа несколько раз ее спрашивала, хорошо ли та себя чувствует. Жени раздражали эти вопросы, к тому же она сердилась на Наума, и когда после обеда Наташа в очередной раз запричитала:
— Ты выглядишь что-то усталой, Женя. Не лучше ли тебе отдохнуть?.. — она взвилась.
— Я не нуждаюсь, чтобы обо мне кто-нибудь заботился или вмешивался в мою жизнь!
— Что ты хочешь сказать? — Наташа была огорошена.
— Твой дружок Наум взял на себя роль моего защитника. Можешь ему сказать, что защитники мне ни к чему.
Наташа складывала чистые пеленки:
— Мы случайно заметили, что ты идешь с Микахом Кальманом. Он сложный человек. Знаешь его историю…
— Не хочу ни о чем слышать, — выкрикнула Жени, — и в двери появились удивленные детские личики: прежде они не слышали, чтобы в детском саду повышали голос.
Жени повернулась к ним спиной и стала доставать стерилизованные бутылочки и соски.
— Терпеть не могу, когда за мной следят, — уже тише сказала она матери.
— Никто за тобой не следит. Просто случайно выглянули в окно. Ты вольна поступать, как знаешь. Но здесь ты новенькая и не разбираешься в тонкостях жизни в кибуце. Миках родился в Германии. Родителей отправили в лагерь смерти. Его воспитывали люди, которые обращались с ним, как со слугой.
Жени наполнила стерилизатор новыми бутылочками.
— Миках очень рано познал ненависть. От нацистов, от приемных родителей. Когда он сам в четырнадцать лет приехал в Израиль, ненависть обратилась против арабов. Он экстремист. Для него единственное решение конфликта — убивать.
Жени вспомнила, что прежняя жена Наума отрицала насилие.
— Догадываюсь, — проговорила она, опуская наполненный стерилизатор в воду, — почему они с Наумом враги.
— Враги — это слишком сильно сказано, — возразила Наташа. — Просто исповедуют разные, может быть, противоречащие друг другу идеологии.
— И поскольку я твоя дочь, то должна быть на твоей стороне и на стороне твоего любовника.
— Это жестоко, — обиженно воскликнула Наташа. — А я тебя считала за друга.
— Друга? Да ты меня почти не знаешь, — она направилась в детскую. Там у перильцев стояла девочка и тянулась кверху, чтобы ее взяли на руки. Сначала Жени прошла мимо, не обратив на нее внимания, потом повернулась и подняла девочку. С ребенком на руках вернулась назад, где стояла, застыв у стопки пеленок, ее мать.
— Извини.
— Извинить? — эхом откликнулась Наташа. Она стояла спиной к Жени и разглядывала руки.
Ее униженная поза взорвала Жени:
— Хочешь сразу всего? — колко бросила она. — Когда тебе угодно, играешь в матери. А я в двенадцать лет научилась обходиться без матери. И в двадцать три переучиваться поздно. Слишком поздно.
Она поставила девочку у Наташиных ног и сбежала по лестнице, выскочила из детского сада и, несмотря на жару, бросилась бегом. В спасительном одиночестве своей комнаты она упала на кровать и расплакалась.
Следующим утром, в десять часов, Жени садилась в небольшой военный самолет, который должен был отвезти ее и Якова в Иерусалим. Ему собирались делать операцию в Хадассахском медицинском центре Еврейского университета, доктор Стейнметц разрешил Жени сопровождать больного.
Жени поправила над его головой бутыль с внутривенным вливанием, проверила, как бежит по трубке жидкость, и надежно, лентой, закрепила иглу на запястье. Яков лежал на носилках с закрытыми глазами. Бинты на голове скрывали его боль. Жени знала это и взяла его за руку. Яков тяжело дышал.
— Готовы? — спросил пилот. Но прежде чем она успела ответить, дверца снова растворилась, и в самолет забрался Миках, усевшись рядом с нею.
Двигатель взревел. Самолет подпрыгнул и взмыл в воздух. Они молчали, но Жени локтем чувствовала его руку. И по руке жар распространялся к ее телу. Губы пересохли. Взглянув на него, она поняла: он пришел за ней — на лице Микаха сквозило удовольствие.
— Ну, так что же? — проговорил он. — Где же твоя мать?
Жени пожала плечами.
Миках улыбнулся, откинул голову назад и замер.
— Нас зачинают, — начал он снова через несколько минут, — вынашивают, рожают. Но первое, что мы познаем в жизни — это расставание.
Его слова напомнили Жени о Пеле.
— Большинство людей слабы, — продолжал Миках. — Они не принимают правды. Пытаются соединить то, что соединить нельзя и называют это любовью.
— Вы не верите, что любовь существует?
Миках сузил глаза:
— Она существует в приверженности. Любовь — не ласки и не сахарные слова. Она — не обожание ребенка и не когда к тебе ластится животное, — выражение его лица стало горьким, голос суровым. — Такая любовь вызывает презрение: любовь-самообожание, любовь-самолюбование. Настоящая любовь сурова. Когда в приверженности к делу, в приверженности к стране, своему народу, забываешь себя. Она требует беспощадности ко всем, кто угрожает делу.
Жени ощутила рядом с собой силу, напряжение его тела. Яков не открывал глаз. Дыхание было тяжелым, но регулярным. Когда самолет приземлился в Иерусалиме, их уже поджидала медицинская бригада и машина скорой помощи.
Они приехали в больницу, и Жени передала историю болезни Якова дежурному хирургу.
— Первая операция назначена на завтрашнее утро, — сообщил ей хирург. Она кивнула и, повернувшись, встретилась глазами с Микахом. Они вышли на улицу и зашагали на юг, «в сердце города», как назвал его Миках, в Древний Иерусалим.
Через несколько минут он потянулся к ее руке, и она дала ему ладонь. Миках повел ее дальше по израненным улицам.
Дома истерзаны осколками, покрыты шрамами войны, крыши сорваны, и там и сям в стенах зияют дыры, виднеется чернота потушенных пожаров. «Здания, как и люди», — думала Жени. Как у тех, в больнице: все раны напоказ и они ждут излечения.
По-прежнему держа ее за руку, Миках шел впереди, поднимаясь по ступеням узенькой дорожки, обрамленной каменными фронтонами, соединяющими дома с каждой стороны. Он остановился ступенью выше и крепко прижал два пальца к внутренней стороне ее запястья:
— Теперь пора. Пошли.
Внезапно он бросил ее руку, и Жени последовала за ним: по камням, испещренным пулями, через толпу, гомонящую на смеси всевозможных языков. Жени едва успевала замечать, что ее окружало, стараясь не упустить из виду быстро идущего впереди Микаха. По узким старинным улочкам они проследовали к маленькому дому с арочным входом, прошли через дворик по лестнице в комнату, в которой был лишь огромный матрас на полу, умывальный столик с кувшином и тазиком, кран с металлическим вентилем, голая лампочка, висящая на шнуре с потолка и бросающая резкий желтый свет на ободранные стены.
Миках крепко обнял ее за талию и притянул к себе, перегнул назад в поясе, бедра оказались крепко прижатыми к нему. Жени заглянула в его черные глаза — текучий огонь. Она почувствовала, как тает ее тело, меняет сущность, сливается с его телом. Миках протянул руку, чтобы выключить свет, и они вместе рухнули на матрас.
Всю вторую половину дня и ночь они занимались любовью. Для Жени это стало очищением, крещением огнем. Она не могла ни о чем подумать, ощущала себя не самой, а новым существом, возрожденным к жизни страстью Микаха.
Он завладел ею сзади. Схватил за волосы, пригнул вниз голову и притянул к себе за ягодицы — устраивал собственное удовольствие. Потом, когда он насладился ею, освобожденная от его рук, она рухнула вперед на матрас.
Затем он принудил ее склонить голову к его плоти и больно держал ее там, пока у Жени к горлу не подступила тошнота. Миках не отпуская широко развел ноги и снова пригнул ее голову. Она повиновалась бездумно, без сопротивления, подчиняясь каждой команде его тела — до самого утра.
— Ну вот, — Миках привстал на локте и посмотрел сверху вниз на Жени. — Красивая. Новая девственница.
Жени все это время сотрясало в урагане, самом сильном, который ей пришлось переживать, но теперь ее окружал мир, и она чувствовала себя успокоенной и притихшей.
— Ты моя женщина.
Она улыбнулась, лишь наполовину приподняв прикрывавшие глаза веки. На остров,где она лежала, слова долетали откуда-то извне.
Миках поднялся, налил в тазик воды и тщательно вымыл губкой свои гениталии.
Жени не двигалась, только смотрела на него: Миках вытерся, взял одежду и быстро нацепил ее на себя. Он действовал так, как будто находился в комнате один.
Она подумала, насколько он был красив: приземистый, естественный, сильный. Его кожа поблескивала, руки бугрились мускулами, движения были уверены и изящны. Настоящий лев. Запах его тела исходил от кожи Жени.
Жени потянулась, распрямила конечности и ощутила себя львицей, его самкой, которую он брал снова и снова во всепожирающей страсти. Прежде ее тело никогда не достигало такого самовыражения, такой естественной дикости.
Жени закрыла глаза. Ноги и руки болели, губы распухли, соски саднило. Бедра и живот были все в синяках. Если она пыталась вздохнуть поглубже, меж ребер пронизывала резкая боль. Она снова задремала и не видела, как он ушел.
Проснулась она, когда Миках вернулся с фруктами, сыром, помидорами, рыбой, хлебом и вином. Жени села на матрасе, и он ее накормил, кладя кусочек в ее рот, а следующий — в свой. К ней возвращались силы, которые он отнял у нее, а Миках выбирал лучшие куски, как зверь, ухаживающий за своей самкой.
Когда с едой было покончено, Миках налил в тазик воды и губкой, которую использовал для себя, начал обтирать Жени. Вымыл под мышками, груди. Она была его самкой, его женщиной, и он отмывал ее дочиста. Прополоскал губку и стал тереть снова. Проводил губкой между ног, раздвигая их, по треугольнику внизу живота — без нежности и напора, казалось, не понимая, что трет.
— Почти полдень, — проговорила Жени. — Якова скоро повезут в операционную. Мне нужно идти.
Миках продолжал ее умывать.
— Да. А потом ты на несколько дней останешься в Иерусалиме. Поговоришь с профессорами медицинской школы.
— Профессорами? Зачем? — она посмотрела на его руку.
— Ты можешь закончить обучение здесь, в Израиле.
— Но это абсурд?!
Миках положил губку в тазик и поставил его обратно на стол. Потом вернулся с полотенцем к их низкому ложу.
— Я собираюсь обратно в Гарвард.
Он сложил полотенце и повесил его на крюк.
— Теперь ты моя.
Внезапно Жени испугалась. Он отнял у нее все и ничего. И она его совершенно не знала.
Миках вернулся и встал в ногах матраса, она отодвинула от него ступни, но он заговорил наставительным тоном.
— Профессора, с которыми я хочу, чтобы ты встретилась, люди умные. Ты узнаешь, каких достижений в медицине здесь добились.
— Да, — согласилась она. — Спасибо.
— Вот список. Договариваться о встрече заранее нет необходимости. Просто упомяни мое имя, и все двери откроются.
— Хорошо, — повторила Жени.
— Ты станешь врачом, и мы сможем пожениться. Ты сильная, умная, привлекательная. Наши дети будут героями.
Безумие его предложения заставило Жени содрогнуться. Не было смысла говорить, что она все еще официально замужем. Он не просил ее руки, просто потянулся и взял ее. Она не знала его, а он не знал ее, если не считать самого естественного знания.
Он подобрал ее одежду и принес ей. Прижав одежду к груди, она смотрела, как Миках выходил из комнаты. Вид его внезапно ее напугал.
— Ты вернешься? — ее голос сорвался.
— Нужно кое-что сделать. Увидимся в кибуце, — он вернулся, сжал ее голову и грубо поцеловал. — До встречи.
Жени обвела взглядом пустую комнату и принялась одеваться. Замужняя женщина. Образ Пела возник перед ее глазами. Другой мир, другое время.
Миках закрыл за собой дверь. Жени не знала, где она находится и как добраться до больницы. Она оделась. Тело ломило. Руки безжизненно висели от плеч. И в этот миг ее вновь охватило желание. Внутри все заныло. Огромная волна вожделения всосала ее в себя…
Неужели прошедшая ночь доказала, что ее сущность — лишь потребности собственного тела. Никакой не хирург, а просто женщина, дочь своей матери…
Когда Жени вошла в больницу, операция Якова как раз начиналась. О ее ходе еще не было сообщений, но она должна была продолжаться около шести часов. Лоскуты кожи возьмут со спины и ягодиц и пересадят на голову. Жени представила полоски кожи, которые держат во влажной среде, пока хирург не окажется готовым их вживлять. «Интересно, есть ли кондиционер в операционной», — думала она. На такой жаре лоскуты кожи не долго сохранятся.
А почему кожу берут со спины и ягодиц? Ее подмывало спросить, потому что она провела ночь с Микахом. Ведь она грубая. Для лица больше подойдет с внутренней стороны бедер — хотя она знала обычное правило: донорскую кожу берут как можно ближе к месту пересадки.
Так почему же со спины? Жени поняла, что об этом она не слышала. Может быть, если попросить, ей позволят посмотреть операцию? В любом случае, на некоторые вопросы ей ответят. Ответили бы, если бы она их задала, вместо того, чтобы отправляться в маленькую пустую комнату.
Она взглянула на список, который дал ей Миках — имена и кабинеты. Большинство из них располагались в соседнем здании, как ей сообщила сестра. Жени направилась туда, но кабинеты оказались пустыми: то ли у профессоров были летние отпуска, то ли, как в Гарварде, принимали в определенные часы по предварительной договоренности. «У Микаха слишком большое самомнение, — решила она. — Вообразил, что все, даже профессора медицины будут в любое время к его услугам».
Но даже распахнутые настежь двери с табличками, коридоры и доски объявлений вселили в Жени чувство приобщенности. Знакомый дух университета, пусть даже чужого, привел ее в себя.
Решительными шагами Жени направилась в научную медицинскую библиотеку. Прошлая ночь была затмением, чем-то вроде экзорсизма. Воспоминания о Микахе меркли, рассеивались, точно ночные видения. К полудню возвращалось ощущение собственного я. Она была отцовской дочерью.
Таблички на иврите прочесть Жени не могла, но кое-где надписи были сделаны латинскими буквами, и имена очень напоминали те, или были такими же, с какими она встречалась в Гарварде: Либерман, Мейберг, Левин… Она остановилась, как вкопанная, перед выцветшей табличкой. Доктор Соломон Езар. Неужели тот самый? В учебниках о Соломоне Езаре писали, что он открыл быстрый способ переливания крови и награжден Нобелевской премией. Или она путает, и Нобелевскую премию получил доктор Саммер из Гарварда за работу о циркуляции крови? Тот Езар, должно быть, давно умер. А это его сын. «Интересно», как сказал Миках, поговорить минутку с таким человеком.
— Я могу вам чем-нибудь помочь? — обратилась к Жени по-английски молодая блондинка, выходя из двери.
— Доктор Езар у себя?
Женщина кивнула:
— Вы американка. Учитесь здесь или просто приехали?
— Приехала.
— Обучаетесь в медицинском?
— Да. В Гарварде, — Жени нахмурилась, опасаясь, как бы та не подумала, что она хвастается.
— Проходите. Я уверена, доктор Езар примет вас с радостью, если только не работает. — Она провела Жени в маленькую приемную. — Подождите здесь. Я посмотрю.
Она разглядывала акварель Скопуса, когда из кабинета в приемную вылетел маленький человечек. Он выглядел одновременно и стариком, и юношей: лицо морщинистое, голова лысая, но глаза сверкали и губы складывались в такую гримасу, как будто он постоянно пытался сдержать смех.
— Соломон Езар, — человечек протянул руку.
Жени пожала ее. Вот он — великий человек. И совсем живой.
— Большая честь встретиться с вами, — пробормотала она.
— Будете судить об этом, когда немного поболтаем, — игриво ответил он. В его английском явно чувствовался британский акцент. — Заходите в кабинет. Выпьем кофе.
Доктор Езар провел ее в кабинет, не больше гардеробной в спальне джорджтаунского дома Жени. Беспорядок, книги в кожаных переплетах до потолка напомнили ей о кабинете доктора Ортона. На одной из полок красовался подогреватель, а на нем поднос с ароматным кофе.
— Турецкий, — объявил врач, разливая почти черную жидкость по крошечным чашечкам. Одну он подал Жени и, устроившись за столом, показал ей на единственный в кабинете стул, а сам при этом сдвинул в сторону ворох бумаг. Подув на кофе, он сделал несколько быстрых коротких глотков и поставил чашку перед собой.
— Так чем могу вам помочь? Кто вы такая?
— Меня зовут Жени — Евгения Сареева.
— Ах, русская. Красивое имя. Имя императрицы и очень вам подходит. Вы здесь живете?
— Нет. Здесь живет моя мать, а я приехала ее навестить.
— Прекрасно. Постойте-ка, моя секретарша сказала, что вы из Гарварда. Вы, наверное, необычайно одаренная.
Она покачала головой, смущаясь от того, что он тратит на нее свое драгоценное время. А про себя отметила, что молодая женщина была его секретарем, а не сестрой.
— Вот вы в Израиле, сразу же после окончания последней войны, в Еврейском университете и, видимо, думаете здесь остаться. Стать врачом и жить подле матери.
— Нет!
Доктор Езар внимательно пригляделся к Жени. Лицо его на мгновение посерьезнело и сделалось необычайно старым — высохшим, как древняя рукопись. Потом вновь оживилось, врач улыбнулся.
— Совершенно правильно. Здесь нигде вы не получите такой хорошей и престижной подготовки, как в Гарварде.
— Но я не поэтому…
— Не поэтому? Так-так. Что ж, в моем возрасте свойственно ошибаться. Так вы — туристка и пришли осмотреть университет?
Он улыбался ей, и у Жени появилось чувство, что он ее понимал.
— Не совсем, — Жени ощущала, что он читает ее мысли, те, что она сама скрывала от себя. С ней бывало так и раньше с людьми, кого она считала великими. Но в этом тщедушном старичке, герое медицины было нечто большее. И Жени с изумлением услышала собственные слова:
— Я бы и хотела жить подле матери, но боюсь.
Нисколько не удивляясь, он кивнул, как будто она сделала замечание о погоде.
— Это славная страна для врачей. Приходится много лечить — и души, и тела. Страна, где раны вновь открываются под шрамами или гноятся, пока не становятся опасными. Еще кофе? Нет? Самая решительная страна и самая бесшабашная в мире. Здесь нет ничего невозможного, но требуется постоянное переливание надежды.
Я родился давным-давно в Польше. Учился в Англии. Подружился с Хаимом Вейсманном. Был рядом, когда в 1917 подписывали Балфурскую декларацию, и здесь, в Израиле, когда создавалось государство и он стал нашим первым президентом.
Я прожил очень много. И в любой другой стране был бы уже на пенсии. Но в Израиле пенсии быть не может. Здесь постоянно требуется лечение.
Жени напряженно слушала. Слова доктора Езара, казалось, имели для нее особое значение. «Гноящейся раной» был Миках, чья страсть противостояла любви. Надежда — врачевание. Он советовал излечить разрыв с матерью, остаться в Израиле и найти здесь умиротворение.
Но она им не принадлежала.
— Мой отец — не еврей.
— И мой тоже, — улыбнулся доктор Езар. — Как говорите вы, американцы, не может же всем так везти.
Жени улыбнулась в ответ:
— Я пойду, я вас отрываю от дел. Познакомиться с вами была и впрямь большая честь для меня.
— Вы уверены? — его глаза блеснули. — Значит, правда, что я умею обходиться с красивыми женщинами.
Он проводил Жени до двери:
— Заходите еще. Окажите и мне честь.
Они пожали друг другу руки.
— Доктор Езар? — решилась спросить Жени. — А можно лечить других, если не излечилась сама?
— Лучший способ вылечиться, — заверил ее врач.
Она вернулась в больницу. Яков был все еще в операционной. Операция должна была длиться до десяти, а потом его должны были перевести в реанимацию. До утра посещения были запрещены.
— Спасибо, — поблагодарила Жени медсестру. Выйдя из больницы, держа рюкзак, который накануне оставляла в камере хранения госпиталя, она махнула рукой такси.
— Отвезите меня в американский отель.
— В какой?
— Неважно, — Жени откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Цена не имела значения. Ей необходимо побыть в прохладе, где бы ее никто не побеспокоил.
В сияющей, отделанной пластиком комнате она крепко уснула на первой, попавшейся ей с момента приезда в Израиль, удобной кровати. Проспав тринадцать часов, проснулась голодной и отдохнувшей — почувствовала себя лучше, чем когда-либо за последние месяцы: тело окрепло, голова ясная.
Она потянулась и посмотрела на окно, откуда сквозь ставни пробивались солнечные лучи. Хорошее состояние показалось ей даром ниоткуда, и она вспомнила маленького человечка, примостившегося у края стола. Да, оптимизм и трезвость ума подарил ей Соломон Езар.
Жени открыла ставни и плеснула на лицо холодной водой. Двигаясь, она все же ощущала еще в теле усталость. Впервые за несколько месяцев как следует отдохнув, она поняла, насколько сильно вымоталась, оказалась на грани истощения. И решила остаться в этой комнате на несколько дней: навещать Якова и побродить, как туристке, одной по городу. После напряжения последних лет, больше всего ей нужен был отдых.
Вымыв волосы, приняв душ и набросив на себя смятую одежду, решила сегодня же купить себе новую, вместе с тальком и туалетной водой — пора было встряхнуться и всерьез заняться собственной жизнью.
После завтрака она направилась в больницу. Операция продолжалась до полуночи, и Яков до сих пор еще не пришел в себя.
Жени забеспокоилась и попросила о встрече с дежурным хирургом. Совершенно измотанный, он вышел к ней через полчаса. Сомкнул ли он глаза в прошедшую ночь? — подумала Жени.
— Ничего не понимаем, — безнадежно сказал он. — У анестезиологов нет никаких объяснений. Делаем все возможное, чтобы его оживить.
И она осталась в комнате для посетителей. В одиннадцать тридцать ей сообщили, что пульс Якова слабеет и давление опасно понизилось. А в два — хирург сказал, что Яков умер.
— Жаль, он был славным малым, — извинился он.
— Но почему? Почему?
— Не знаем. Во время операции возникли осложнения — мы обнаружили несколько осколков кости, их потребовалось удалить. Но сама операция прошла успешно. Наверное, сердце. Тромб. Мы хотим провести вскрытие.
Жени покачала головой и медленно вышла. Ответов не было нигде. Медицина была сплошной неясностью. Доктор сказал, что операция прошла хорошо, но Яков умер.
Почему, черт возьми? Жени шла все быстрее и быстрее, почти побежала. В соседнее здание, по коридору, к двери со стершейся табличкой.
— Могу я видеть доктора Езара? Только на одну минуту? — спросила она секретаря.
Женщина нахмурилась:
— Сейчас он занят. Он ведь вам не назначал?
— Нет, — Жени вышла из приемной и медленно поплелась еле волоча ноги. Не оставалось больше ничего, как вернуться в гостиницу и спать. А потом она вернется в кибуц и начнет залечивать разрыв с матерью.
Она открыла дверь. Солнечный свет ослепил, мир взорвался перед глазами, и ее отбросило в сторону.
28
Взрыв разметал землю, сдвинул с места кирпичи и камни, поднял их в воздух вместе с осколками стекла, бетона, дерева и железа и обрушил вниз на кричащих и разбегающихся в разные стороны людей.
Через несколько секунд за первым взрывом последовал второй, меньшей силы, а затем наступила тишина. Жени поднялась на ноги и увидела, что фасад противоположного здания, как в замедленной съемке, рушится внутрь. Она почувствовала на щеке что-то теплое, тронула рукой и заметила на ладони кровь.
Люди уже не кричали, но стонали и плакали — сидели и лежали на земле. Жени обтерла ладонь и бросилась к ближайшему: он лежал в расплывшейся луже крови.
Юноша, почти мальчик, лицо которого не знало еще бритвы. Левая часть головы раздроблена, глаз выпал из глазницы. Левая рука оторвана и лежала в нескольких футах от него. Жени склонилась над ним и стала рвать по швам свое платье на жгуты и бинты. Кровь, бившая из ран, за секунды уносила жизнь.
Жени попыталась остановить кровотечение, обмотав юноше голову и перетянув артерию руки. Она не знала, как вправить в глазницу глаз, и единственными инструментами были ее пальцы, покрытые кровью и грязью.
Она продолжала рвать платье, делая новые бинты. Подвязала связанной в кольцо лентой глаз, чтобы удержать его на весу. Движения были механическими, на раздумья не оставалось времени.
Платье было уже изорвано до пояса. Кровотечение уменьшилось. Кровь текла теперь не ручьем, но струйки еще просачивались через ткань. Она рванула лиф, но материал устоял, потянула еще и тут же отпустила, почувствовав прикосновение к плечу. Мужчина отстранил ее и с напарником вдвоем они стали укладывать мальчика на носилки. Подняв свою ношу, они побежали к грузовику с заведенным мотором, и как только влезли в него, тот загрохотал по камням. Наблюдая, как переваливался из стороны в сторону грузовик, направляясь к госпиталю, Жени подумала, насколько болезненна для раненых эта поездка.
Она поднялась, и в этот миг чья-то рука поддержала ее под локоть.
— Отлично сработано, — услышала она голос доктора Езара и только тут поняла, что стоит лишь в нижнем белье, вся покрытая кровью.
Доктор Езар улыбнулся:
— Не хотите немного привести себя в порядок?
— Спасибо. Это было бы чудесно.
Он проводил ее к машине — «Лендроверу», а потом опять вернулся к раненым. Автомобиль направился к больнице. Всю дорогу подкидывало на камнях и обломках и время от времени автомобиль вилял в сторону, чтобы не наехать на крупный булыжник или лежащее тело. Выдержат ли ее жгуты и бинты этот сумасшедший путь и доедет ли юноша живым, гадала Жени.
— Он еще жив, — ответил ей в госпитале врач. — Вас вымоют и осмотрят порезы.
— Они ерундовые. Неглубокие, — возразила Жени, но врач уже уходил, а к ней подошел молодой медик-студент, чтобы отвести в осмотровую палату.
Жени настаивала, чтобы ее немедленно отпустили. Ей нужен просто пластырь, а не госпитализация.
— Хорошо, — сухо согласился врач. — Вы свободны. Но я бы не решился отправиться по улицам в таком наряде.
— Можно принять душ? И взять взаймы халат?
— Гардеробом я здесь не распоряжаюсь, — и врач оставил ее. Жени не могла понять атмосферу неодобрения, царящую вокруг нее. Неужели не обладая медицинской степенью, она не имела права спасать жизнь? И доктор Езар сказал: «Отлично сработано». Почему же другие относятся к ней так враждебно?
Пришла сестра и отвела ее в душ.
— Вот, — сказала она, подавая голубую одежду. — Можете надеть, а завтра принесете.
Жени внезапно разозлилась:
— Почему здесь со мной все так обращаются?
— Так вы ведь та самая, что спасла от потери крови этого арабского ублюдка. Разве не так?
Жени была так ошарашена, что смогла лишь кивнуть головой.
— Он со своим отцом заложил бомбы, — холодно объяснила сестра. Старшего разорвало, когда он держал бомбу в руках. Разметало на мелкие кусочки — счастлива вам сообщить. Трое наших уже погибли. И могут быть смерти еще. Девятнадцать ранено.
И вы спасли этого мальчишку. Вы — американский ангел милосердия, — и сестра в ярости вышла из душевой.
Дрожа от возмущения, Жени вымылась, надела мешковатый халат и, не обмолвившись больше ни с кем ни словом, вышла из госпиталя.
На следующее утро в платье, только что купленном в магазине неподалеку от гостиницы, Жени вернула халат. Она сказала, что хочет увидеться с врачом, занимавшимся ранеными после вчерашних взрывов.
— Зачем он вам нужен? — переспросила сестра. — Доктор Галили очень занят.
— И я тоже, — отрезала Жени. Ее внезапно осенило. — У меня к нему поручение от доктора Езара.
— Хорошо. Сейчас спрошу. А пока посидите, — ответила сестра.
Через минуту врач уже стоял перед Жени.
— Вы! — с удивлением воскликнул он.
— Я пришла узнать насчет мальчика. Как он?
— Сестра мне передала, что вам что-то поручил…
— Да, доктор Езар. Как он?
— Не хотите ли посмотреть сами?
— Очень хотела бы. Вы меня проводите?
Врач сердито показал ей дорогу. У дверей в палату стояли с автоматами два израильских солдата. Пройдя между часовыми, Жени оказалась в комнате. Юноша лежал на кровати, к его телу тянулись трубки, вся грудь и голова были забинтованы, свободным оставался лишь один глаз. Мальчик не двигался, и Жени не поняла, в сознании ли он.
— Привет, — тихо проговорила она, и его не замотанное веко чуть-чуть дрогнуло.
— Ты говоришь по-английски?
Жени различила какой-то свист или, быть может, так болезненно вырывалось его дыхание.
Из-за спины донесся насмешливый голос врача:
— Ну хорошо, вы спасли ему жизнь. Превосходно. А теперь ждете от него благодарности. Неужели вы не понимаете, что если к нему вернется сила, он попытается вас убить? Пошли, — он потянул ее за локоть и вывел мимо солдат в коридор.
— Жизнь есть жизнь, — проговорила Жени. — Вы ведь врач.
— Вы учите меня моему ремеслу?
— Нет, я вас просто не понимаю.
— Этот мальчик — араб. Террорист. Его всю жизнь учили, что евреи — его заклятые враги. И если он будет их убивать, то попадет на небо. Это вы понимаете, — в возбуждении выкрикнул он. — Вернуть его к жизни значит оживить убийцу.
— Нет, не понимаю. Совсем не понимаю, — Жени повернулась спиной к израильскому врачу и вышла в приемный покой. Его бессердечие возмущало ее. Так что же, арабский врач откажется лечить и его? Или отказался бы оказать помощь Якову и Микаху, если бы те истекали кровью?
Может быть, и так — в этой раздираемой политическим безумием стране, где руки таких, как Миках, постоянно на горле другого. Но клятва Гиппократа не признает никакой политики. И для врача жизнь — единственная ценность: ее следует спасать, а не уничтожать намеренно или по недосмотру.
Но Жени больше не пришла навещать юношу. Не было смысла снова делать себя объектом ненависти и презрения персонала госпиталя. Она сделала то, что сделала. Все, что смогла.
В последующие два дня она много спала и просыпалась абсолютно безвольной, двигалась, как сомнамбула, не в состоянии даже упаковать вещи, чтобы отправиться на остановку автобуса и уехать обратно на север.
Что-то произошло с ней в Иерусалиме, что-то в корне изменилось, пока она спала. Поступки и события формировали ее жизнь: напор Микаха и ее податливость, смерть Якова, разговор с доктором Езаром, взрыв и арабский юноша.
Как будто в Иерусалиме она ступила на перекресток, где ее поджидала судьба, чтобы вести в будущее.
На третий день Жени поднялась с постели и вышла из гостиницы, чтобы поесть. На улице моросил мелкий дождь, легкая дымка вилась у ног, окутывая их, точно сероватая вуаль. Завтра она вернется к матери и попросит у нее прощения. Мать оказалась человеком на перепутье, который предложил ей руку. Наташа пыталась предупредить о Микахе, но она не послушала. Наташа понимала больше других, почему она решила стать пластическим хирургом. Мать была права: их жизни слепила Ладога.
Жени вернется в кибуц, чтобы залечивать, а не разрушать. Они станут говорить, как друзья, как женщина с женщиной, как мать и дочь. Жени во всем ей откроется, расскажет о своем одиночестве, что сопровождало ее всю жизнь, о годах опекунства Бернарда, о Лекс, о Пеле. Спросит у матери, не совершила ли ошибки и есть ли возможность вернуться обратно к мужу, не отказываясь от собственной цели.
Солдаты толкались и добродушно смеялись вокруг нее, и Жени ускорила шаги.
На фоне бледно-молочного неба город казался оливково-монотонным. Улицы запружены людьми, попавшими в благодатную сеть дождя.
Трудно было пробираться через толпу. Она приостановилась у магазина, витрина которого была завалена вещами, не имеющими друг к другу никакого отношения. Кукла, дорожный утюг, мужской комбинезон, нить жемчуга, лампада, медный поднос. Казалось, все товары были выставлены в окно. Рядом с корабельным барометром лежала слонового цвета с золотом шаль, украшенная вышивкой. Знаки на ней Жени так и не смогла разобрать.
Она вошла в магазин, который и в самом деле был лишь на несколько футов шире витрины, и попросила показать шаль. Хозяин, почти такой же старый и высохший, как доктор Езар, улыбнулся ей беззубым ртом и раскинул перед ней свой товар.
Шаль была великолепна. Отделанная бахромой, она укрыла старичка от плеч до пят.
— Надпись на арабском и иврите, — он пожал плечами и осторожно сложил шаль. — Наверное, шаль для молений.
Смесь алфавитов по белому и золотому шелку, вышитые звезды и луны, концентрические круги — все навевало спокойствие, мир и единение.
— Я беру ее, — произнесла Жени. — Для матери.
На следующее утро, с завернутой в грубую серую бумагу шалью под мышкой, она пришла на автовокзал.
— Автобусов не будет, — сообщили ей в билетной кассе. — Отменены.
— Как же так? Как можно отменить автобус?
— На севере волнения. Сирийцы атакуют кибуц. Идет сражение, — и кассирша повернулась к следующему в очереди.
— Пожалуйста, — снова начала Жени, но по глазам женщины поняла, что это бесполезно.
Из газет, продающихся в киоске, она не узнала ничего. Британские сообщали вчерашние новости, а местные на английском языке были уже распроданы. Что происходит? Почему отменили автобус? Сирийцы атакуют кибуц. Идет бой. Кто-то же ей должен сказать? Она в отчаянии оглянулась, ища кого-нибудь, кого по одежде можно было бы принять за американца или американку или по крайней мере за человека, говорящего на английском.
Какой-то человек ругался с кассиршей. «Он тоже, — подумала Жени, — намеревался отправиться на север». Чем-то он показался ей знакомым. Когда он отвернулся от билетного окошка, Жени узнала в нем недавнего соседа по автобусу и быстро подошла:
— Дан! — проговорила она с облегчением.
Он крепко пожал ей руку и нахмурился:
— Я только что думал о вас.
— Почему?
— Ваш кибуц. Вы ведь тогда говорили, что едете повидаться с матерью. Ужасно, правда?
— Я ничего не слышала.
Дан удивленно посмотрел на нее:
— Обычный пограничный конфликт. Но этот похуже других. Банда сирийцев на рассвете пересекла границу, прорвалась через колючую проволоку и перерезала глотки израильским часовым. Бог знает, как быстро они прошли через кибуц и захватили детский сад.
— Нет! — от этой новости у нее подогнулись колени и она чуть не упала.
— Пойдемте. Сядьте там, — Дан проводил ее к скамейке. — Выпейте вот это, — он заставил Жени отхлебнуть из фляжки, и она почувствовала, как жидкость обожгла ее нутро.
— Я должна быть там.
— Я знаю, — успокоил ее Дан. — Я возьму вас с собой.
— Но как?
— Есть разные способы. Ждите меня здесь, — он наложил фляжку в ее ладонь. — Пейте, как только почувствуете необходимость. Я скоро вернусь.
Появился он вместе с джипом. За рулем и рядом на переднем сиденье устроились солдаты, а она с Даном расположились на заднем, стиснутые со всех сторон грузом: оружием, лентами с патронами, кислородными баллонами, металлическими коробками с красными крестами, фотоаппаратами.
По пути радио то работало, то замолкало. Треск помех, взрывы звуков, слова, которые она не понимала, и пугающая тишина.
После каждого сообщения Дан ей переводил: «Детей взяли в заложники. Требования террористов пока неясны, — он пожевал нижнюю губу. — Земля, что же еще».
Дети. Жени представила девочку с золотисто-каштановыми волосами, светловолосую девчушку с магическим камнем. Арон старается не расплакаться. На рассвете. Наташа еще не уходила на работу. Нянечка там ночует, а Наташа обычно приходит к завтраку. Обычно.
Дан перегнулся вперед, стараясь сквозь треск и помехи расслышать слова, и покачал головой.
— Вы знаете человека по имени Миках Кальман?
— А что случилось? Что он сделал?
— Насколько я могу судить — все еще очень путано — сирийцы утверждают, что действуют в порядке самообороны. Говорят, что израильтяне, люди из кибуца, захватили их территорию. И прямо обвиняют этого Кальмана, называя его главарем.
Они заявляют, что Кальман и его приспешники еще до шестидневной войны совершили рейд на их сторону, убили двух детей и незаконно перенесли ограждение из колючей проволоки.
Теперь они требуют, чтобы израильтяне отошли назад, но не на прежние рубежи, а, в качестве компенсации за жизни, отдали бы им полосу земли шириной в милю.
— А если им откажут? — со страхом спросила Жени.
— Тогда они грозят перестрелять всех детей.
Где теперь Наташа? Где Наум? Как она сказала тогда? Противоборствующие идеологии, как будто говорила о спорящих сторонах в диспуте. А Наум с его огненной шевелюрой, огромным животом и оттопыренными ушами. Хороший человек. Умный и добродушный. Но что он может сделать сейчас, чтобы остановить кровопролитие?
Они ехали прямо через пустыню, а не по дороге, как следовал автобус. Жени заметила два танка. Один из них лежал на боку. Те же, что она видела и в тот раз? Вряд ли — страна была наполнена свидетельствами недавней войны.
Солдаты перекинули назад крекеры и яблоки, но Жени не могла есть.
Раздался треск, и динамик выплюнул несколько слов. Лицо Дана посуровело.
— В пять часов. Ультиматум вступил в силу. Если до пяти их требования не выполнят, дети умрут.
В кибуц они приехали уже после четырех. Толпа репортеров собралась за баррикадой, загораживая им путь. Камеры и аппараты были установлены на кузовах грузовиков. Зрелище поразило Жени. Смерть превратилась в аттракцион. Водитель джипа держал ладонь на сигнале, стараясь пробиться вперед, но репортеры и фотографы, отругиваясь, не давали дороги.
Джип встал, солдаты выпрыгнули из него.
— Держи, — один из них бросил сверток Жени. — Надевай. Стоит попробовать.
В свертке оказалась какая-то медицинская одежда: то ли хирургический халат, то ли халат сестры вместе с шапочкой. Жени быстро надела его.
— Возьми и это, — солдат указал на сумку первой помощи.
Схватив ее, Жени стала прокладывать путь сквозь толпу.
— А женщина где? — услышала она, как спросил кто-то из журналистов.
— В детском саду, — ответил другой.
— Какая женщина? — Жени остановилась, определив по пластиковой карточке, что репортер из «Рейтера».
— Та, что пошла в детский сад, когда тот был уже захвачен. Она попросила, чтобы в заложницы взяли ее, а детей отпустили. Невероятно. Не знаю, как она сумела пробраться туда и ее не застрелили.
Жени побежала, но охранники на баррикаде не дали ей пройти.
— Вскоре вы нам можете понадобиться, — грустно сказал один из них, разглядывая ее медицинскую форму. — Но пока еще рано.
Она узнала его. Молодой человек, которого часто видела вместе с Наумом. Она сняла шапочку:
— Это я, Жени. Я здешняя, — и воспользовавшись его удивлением проскочила мимо него и баррикады в кибуц.
Никто за ней не последовал, и она кралась незаметно, как только могла, не сводя глаз с детского сада. Пока ее еще скрывали кусты и тень, но через несколько футов открывалось незащищенное пространство, тянувшееся до самых деревьев у входа в садик. Жени остановилась перед последним кустом, пульс громко барабанил в виски. Зачем бежать? В этом нет никакого смысла. Из окна второго этажа они ее прекрасно разглядят и смогут убить.
Мать предложила свою жизнь за жизнь одного из детей. Которого? Какое это имеет значение?
Жени съежилась за кустом, глядя на детский сад. Внезапно изнутри блеснул свет и входная дверь открылась. Жени затаила дыхание.
В проеме возник человек. Его черт разглядеть было невозможно, свет за спиной превращал его — просто в тень. Левой рукой он держал за руку мальчика, а в правой сжимал мегафон. Глаза у мальчика были завязаны.
— Сейчас без двадцати пять, — объявил мужчина. — Даем вам еще один час. До шести. Он двинулся обратно к свету, держа мальчика перед собой. Это был Арон.
Что заставило их дать отсрочку? И какую выгоду та может принести? Надежду, сама себе ответила Жени. Еще шестьдесят минут жизни.
Дверь оставалась открытой. Мегафон снова поднялся к чьим-то губам, и она услышала голос матери.
— Я призываю вас, мои братья и сестры, примите их требования. Двое детей умерли по ту сторону колючей проволоки во имя клочка земли. Прошу вас, не позвольте другим детям умереть.
Приглушенный звук, а потом тот же, что и прежде, мужской голос прозвенел в воздухе:
— Мы не жестоки. Мы не ищем мести, а только справедливости. Мы должны защищать себя, а вы — отвечать за свои преступления. Послушайтесь женщину, вашу соплеменницу.
Дверь закрылась, Жени неподвижно стояла за кустами. Она всматривалась в детский сад, стараясь взглядом проникнуть за стены, понять, что происходит внутри. Где участники переговоров? Находятся ли посредники в детском саду или поддерживают связь с террористами по радио?
Небо стало темнеть. Снова открылась дверь, и Наташа вышла наружу. На руках у нее был ребенок. Ее освободили, подумала Жени с отчаянной надеждой.
В следующую секунду из куста рядом с детским садом грянул выстрел.
— Предательница! — голос был похож на голос Микаха. Наташа повернулась и кинулась обратно в здание — еще один выстрел раздался изнутри, и кто-то другой прокричал:
— Еврейская свинья!
Жени выпрыгнула из-за куста и бросилась бежать. Стреляли из-за деревьев и из окон детского сада. Наташа бежала через поле, крепко прижав ребенка к груди. Ее движения были замедленны, тело согнуто пополам. Следующая пуля угодила в плечо и отбросила ее в сторону.
— Наташа! — закричала Жени. Имя рвануло, точно взрыв в темноте, и слилось с залпом пальбы. — Мама! — она бежала изо всех сил, превозмогая боль в голенях и страх, рвущийся в уши.
Наташа остановилась, смущенная голосом дочери.
— Мамочка! — Жени вдруг вспомнилось, как она называла Наташу в детстве, и слово невольно сорвалось с губ, а вслед за ним грохнула пулеметная очередь.
Наташа согнулась, осела и повалилась на землю.
Жени преодолела последние несколько ярдов.
— Нет! Нет! Нет! — бормотала она, пытаясь предотвратить то, что уже случилось.
Наташа не отвечала. Из отверстия в затылке, пенясь, бежала темная кровь. Ночь внезапно затихла, и выстрелы больше не прорезали темноту.
Жени перевернула мать на спину. В выемке, куда Наташа вжала его своей грудью, лежал ребенок. Весь в крови, но живой.
«Она это совершила. Она отдала свою жизнь, чтобы спасти другую», — подумала Жени. Ее пальцы царапали землю, стараясь углубить выемку. Устроив ребенка в воронке, она прижалась лицом к матери. Из глаз на волосы Наташи хлынули слезы, смешиваясь с кровью на затылке убитой матери.
Она оставалась у тела матери долгие часы, дни, а может быть, всего несколько минут. А потом ее кто-то тихонько приподнял, и она всем весом повисла на его руках. Смутно она припоминала, что когда-то его уже видела.
— Пойдем, — поддерживая, он повлек ее в сторону.
— Куда? Куда? — она протягивала руки к Наташе, пытаясь вырваться.
— Нужно ее унести. И ребенка тоже, — доктор Стейнметц крепко прижимал ее к себе.
Жени ничего не понимала. Он усадил ее в машину. Тело ее обмякло. Она была в крайнем изнеможении.
— Куда вы меня везете?
— В больницу.
— Меня не надо. Везите ее. Со мной все в порядке.
— Миках хочет вас видеть.
Жени отшатнулась, как от пламени:
— Нет!
— Он умирает. Ранен в грудь.
— Пусть умирает.
— Долго он не протянет, — заверил ее врач.
— Он убил мою мать! Убил! — она забилась в истерике, на губах показалась пена.
— В любом случае, может быть, уже слишком поздно, — жестоко ответил врач.
В госпитале он провел Жени туда, где лежал Миках. Для сопротивления у нее уже не оставалось сил. И вот она уже у кровати и смотрит на него, тело ее обмякло от нахлынувшего страха.
Миках был при смерти, но глаза сверкнули так, будто со смертного одра он собирался ее испепелить.
— Я ненавижу тебя, — прошептала Жени.
— Я знаю, — ответил умирающий, и даже по этим двум словам Жени поняла, каких усилий ему стоило их произнести.
Но она продолжала:
— Я слышала твой голос. Ты назвал ее предательницей.
Его бледная улыбка походила на восковую:
— Умиротворение не может служить альтернативой насилию.
— А разве ты знаешь какую-нибудь альтернативу? Насилие — твой образ жизни. Все, что ты знаешь. Насилие и ненависть — твоя единственная страсть.
— Если ты не ненавидишь отца и мать, — выражение его лица не изменилось, но каждое слово с трудом вырывалось из груди, преодолевая барьер боли. — Ты меня не поймешь.
Дыхание прекратилось. Из угла рта вытекла струйка крови, но глаза Микаха остались открытыми, как будто смеялись над Жени.
Слезы подступили к глазам, и слова, которые рвались наружу, так и остались нерожденными. Теперь она никогда не узнает, кто выстрелил первым, и участвовала ли его винтовка в том залпе, убившем ее мать. Не узнает, был ли это голос Микаха, назвавший Наташу предательницей. Она ни в чем не была уверена, кроме того, что и Наташа и Миках мертвы.
Кроме них погибли еще трое детей, хотя Арон и ребенок, которого Наташа защищала своим телом, остались живы. Несколько других получили ранения, но детский сад был спасен.
В тот миг, когда Наташа упала на землю, командир сирийцев получил пулю в грудь. Еще два террориста были ранены, а оставшиеся трое, смущенные непредвиденным поворотом событий и численным превосходством противника, побежали спасаться в комнату грудников. Там их и захватили два израильтянина, пробравшиеся в здание по стене через окно третьего этажа.
«Кибуц одержал победу», сообщали газеты. Хотя пятеро погибли и среди них Миках Кальман — герой сражения, осмелившийся выстрелить в террористов и отдавший жизнь за землю, принадлежавшую Израилю.
Следующим утром солнце светило тускло и придавало полю оттенок армейской формы. На месте, где погибла Наташа, возвели платформу. На ней стоял стол, накрытый шалью, той, что Жени купила для матери.
Наум, чьи глаза покраснели так, что стали подобны цвету его волос, произнес краткую речь. Он говорил о Наташином мужестве, о чистоте души, доброте и красоте. Потом повернулся к Жени и глазами спросил, хочет ли она что-нибудь сказать.
Жени подошла к столу, сняла с него шаль, понесла к сосновому гробу, в котором лежала Наташа. Приподняла ее и закутала в шаль.
— Я купила это для тебя, мамочка, — она остановилась, внезапно осознав, что на нее смотрят. — Это ей, — она поднялась на ноги. — Чтобы мы жили в согласии и простили друг друга. Теперь уже слишком поздно.
Потом пошла к краю платформы, но не доходя, остановилась и повернулась к Наташе.
— Я люблю тебя, мамочка, — прошептала она и начала спускаться.
29
Письмо Наума застало ее в Бостоне. В конверте оказалась черно-белая фотография Наташи. Она выглядела очень молодой, но невероятно худой: руки, точно тростинки, высовывались из коротких рукавов блузки. «Наверное, ее снимали сразу же после приезда в кибуц», — решила Жени. Наташа смотрела прямо в объектив, улыбаясь с милым смущением, в глазах застыло смятение, из-за впалых щек скулы очерчены резче. Как Наум опять повторил в письме, Наташа была красива.
Жени окантовала фотографию в маленькую рамку из темной кожи и держала у себя на столе. Она часто смотрела на нее, пока образ матери не стал для нее таким же привычным, как собственные руки.
Письмо Наума она поместила сверху Наташиных писем, перевязала золотым шнурком и положила в нижний ящик. Пора было двигаться дальше.
Наташа все время заботилась о других и отдала свою жизнь за другого. Дочерний долг в честь памяти матери — заботиться о живых.
Семестр начинался через несколько дней. Студенты четвертого курса состязались за право получения должности в городских клиниках и больницах. Зарабатывали его самые прилежные и везучие. Несмотря на большое число медицинских центров в Бостоне, по сравнению с другими городами, число мест для практикантов было ограничено.
Жени питала мало надежд. Хотя она и заполнила заявление, но к концу весеннего семестра не стала ничего предпринимать. После Пасхи ее пыл сильно поугас. Летом она тоже ничего не сделала и теперь, в начале осеннего семестра, найти место могло помочь только неожиданное чудо. А если она когда-нибудь и верила в чудеса, то только не теперь.
Но она хотела работу, которая бы заполняла ее время между занятиями. Надеялась работать среди больных и увечных, чтобы по-настоящему отдать долг памяти матери. К тому же она нуждалась в средстве зарабатывать деньги, чтобы избавить себя от зависимости от Пела, а его — от обязательств по отношению к ней.
После возвращения Жени из Израиля Пел ей звонил. Его соболезнования были самыми искренними. Более того, он почти умолял ее разрешить приехать в Бостон. Жени потребовалось много усилий, чтобы справиться с голосом, когда она отвечала, что лучше ему не приезжать. Лучше, потому что по голосу Пела поняла: он станет предлагать ей свои охраняющие руки и сердце.
Но ему сказала, ей будет легче не проходить снова сквозь смерть и не оживлять болезненные воспоминания. Он понял и заверил, что будет всегда на кончике ее пальца, стоит ей только набрать номер телефона.
Через три дня она позвонила ему сама:
— Семестр вот-вот начнется. Нам нужно кое-что утрясти… Прежде всего деньги. Поскольку мы больше не же…
— Но мы женаты! — перебил он ее.
— Официально да, — это тоже нужно будет решать, подумала Жени. Нечестно сохранять свое положение на случай, если ей вдруг придет в голову передумать. — Но ты, Пел, прекрасно понимаешь, что в действительности я уже тебе не жена. Поэтому, — заспешила она, — мне кажется неправильным, что ты расходуешь на меня свои средства. Платишь за обучение.
— Я это предусмотрел, — печально ответил он. — За следующий год уже оплачено. И я собираюсь поддерживать тебя и в других расходах. Подожди, Жени, послушай меня. Я уважаю твое стремление к независимости. Но то, что ты говоришь, просто глупо.
— Но…
— Дай мне закончить. Ты прекрасно знаешь мое финансовое положение, а я твое. Будет просто безумием, если во время учебы ты откажешься от моей помощи. Причина, по которой мы расстались, то, что ты хочешь стать врачом — самая главная цель в твоей жизни. Я уважаю твое решение. Оно означает, что все силы ты должна отдавать обучению в медицинской школе, а не работать, чтобы достать себе средства. Тогда все вообще теряет смысл.
— Что все?
— То, что ты от меня ушла. Ты должна, Жени, я повторяю, должна принять мою помощь.
Она молчала, понимая, что Пел все еще надеется на ее возвращение. И будет ей помогать несмотря на то, что она его отвергла.
— Спасибо, Пел, я ее приму, — сейчас у нее нет сил его оттолкнуть, но она решила немедленно начать зарабатывать. Ее цель и ее независимость были тесно переплетены.
После их разговора она просмотрела объявления о вакансиях, но не нашла ничего по своей квалификации. Решила попытать счастья в больницах — не на практикантской должности, а согласиться на любую работу. После кибуца Жени была готова к этому — особенно если работа связана с уходом за тяжелобольными и увечными.
В первом же месте, куда обратилась, она получила должность в Бостонском Генеральном госпитале — им вечно не хватало рук на двенадцатом этаже, откуда все старались перевестись в другое отделение.
На этом этаже располагалось ожоговое отделение, где больные оставались неделями и даже месяцами, испытывая постоянную — а в первые часы поступления казавшуюся невыносимой — боль. Жени начала работать в качестве помощницы, которую могут попросить вымыть пол или вынести утку, принести поднос или отвезти больного в операционную. И она помогала там, где в ней нуждались, не обращая внимания на презрительные взгляды практикантов и пренебрежение врачей, зато заслужила восхищение старшей сестры.
Чарлен Элридж, больше известная как Чарли, была плотной, необыкновенно энергичной молодой женщиной, которая уже в течение семи лет с успехом, занималась штатом санитаров. Не обращая внимания на должности, она могла высказать врачам все, что думала, и хотя некоторые ратовали за ее смещение — оставалась в клинике старожилкой, в то время как менялись врачи и целые ожоговые бригады.
К больным она всегда относилась с уважением, какими бы трудными или капризными они не были. Поняв, что и Жени стремится к работе с пациентами и пришла не из желания выдвинуться, она решила, что та заслуживает ее одобрения, хотя первая реакция на появление Жени в клинике — точно кинозвезды или светской дамы — была иной:
— А ты не шутишь?
Но уже через две недели Чарлен Элридж поощрительно заметила:
— С тобой все в порядке, — и решила брать Жени с собой на обходы.
Жени была благодарна Чарли: никто не потрудился рассказать ей о работе клиники, видимо, предполагая, что все, что ей положено знать, она выучила по учебникам. Но знания Чарли были совсем иного рода: пересекаясь со знаниями врачей, составляли особую область, основанную как на медицинских, так и на чисто человеческих нуждах.
— Начнем отсюда, с ванных. Всех, кто сюда попадает, окунают в них, и мертвая кожа уплывает прочь. Сестры стараются держаться подальше от этих процедур, а я люблю. Мне нравится быть с пациентом, когда он только-только поступил — ему это своего рода утешение. Ванны болезненны, как и все остальное, и пугают, особенно маленьких, — она помолчала. — Если дети понимают, что черная жижа вокруг них — их собственная кожа, они начинают паниковать. Одна малышка у меня принялась собирать кусочки и при этом кричала: «Я не хочу облысеть! С меня слезает кожа!» Что тут ответишь? — Чарли задумчиво улыбнулась. — А другой малыш заявил, что будет голый до костей, и просил приклеить к нему какую-нибудь ткань. Это меня совсем потрясло.
«И Лекс побывала в такой вот ванне, — подумала Жени. — И ей, наверное, было страшно».
— Ванны для того, чтобы предотвратить обезвоживание? — спросила она, вспомнив, как лила воду на обгоревшую Лекс и пыталась заставить ее попить.
— Верно. Это основная опасность. Другая — инфекция. И вот здесь, — Чарли показала рукой, — отделение бактериологического контроля.
Жени даже не разрешили войти в кабинет, где за прозрачными стенками лежали больные. Она знала, что опасность заражения длится долго, пока тело не сформирует собственного покрова.
Вчера, прежде чем подать поднос с едой женщине, находившейся в клинике больше трех месяцев, но все еще считавшейся в критическом состоянии, ей пришлось надеть стерильные перчатки, маску и шапочку.
— Основная проблема, — продолжала Чарли, когда они выходили в коридор, — что с обожженными невозможны никакие прогнозы.
— Что вы имеете в виду? — Жени была озадачена.
Чарли прервалась, чтобы подписать формуляр, поданный санитаркой:
— Не понимаю, почему мне приходится это делать каждый день? — пожаловалась она. — Основное предписание: никаких рентгеновских лучей без крайней необходимости.
Санитарка кивнула и пошла по коридору, унося папку.
— Больная беременна, — объяснила Чарли Жени. — И каждый чертов день мне приходится напоминать им об этом. Извини, но все думаешь, что они запомнят. Так о чем мы говорили? Ах, да. Кто такие обожженные? Подумай-ка!
— Дети. Старики, — предположила Жени.
Чарли улыбнулась:
— Все. Всех возрастов и социальных положений. Старики в доме престарелых, футболисты во время пожара в самолете — любой. Поэтому нельзя делать никаких прогнозов, никаких обобщений. Мне говорят: у пациента обгорело двадцать пять процентов кожи, но я еще ничего не знаю. Может быть, у него шумы в сердце, или диабет, или проблемы с почками. Может быть, депрессия или шизофрения. Или это восемнадцатилетний парень из хорошей семьи, полный здоровья, с кучей друзей и влюбленной в него по уши девушкой.
Быстро, не останавливаясь, они шли по коридору. Сестрам и практикантам, которые, казалось, хотели о чем-то ее спросить, Чарли бросала:
— Попозже. Если что-нибудь важное, зайдите ко мне в кабинет. Вот тебе несколько примеров, — повернулась она к Жени. — Здесь справа лежит мистер Моррисон. Он старый и сгорбленный, но настоящий джентльмен. Он обжегся, не так уж и сильно, от газовой плиты, но его шансы поправиться невелики. Ему под восемьдесят, полгода назад умерла жена и его воля к жизни ослабела. А без этого никто из нас ему не в силах помочь… Напротив — беременная леди, Эдит Фалькон. Она была уже на пятом месяце, когда получила ожог от электропроводки. Это случилось два месяца назад. Электроожоги требуют совсем иного лечения, чем те, что были результатом открытого огня.
Жени хотела, чтобы она продолжала, но Чарли остановилась у следующей двери:
— Пойду навещу своего паренька, Брюса Шварцмана. Из-за утечки бензина его машина вспыхнула, и он обгорел почти весь. Но парень молодец. Вживляет лоскуты так, как будто отторжение до сих пор не открыто. И с едой все нормально — все восемь тысяч калорий без всяких трубок, — Жени уже знала, что обожженным требуется пища втрое калорийнее обычной, чтобы набрать вес. В больнице готовили специальные «высококалорийные коктейли», которые многие больные выпивали самостоятельно, но редко кто обходился без специального внутривенного питания.
— Брюс просто чудо. Каждый раз у него новая шутка. Большинство из них довольно скользкие, но смешные, — она подмигнула Жени. — Еще увидимся.
Жени проводила ее взглядом и почувствовала разочарование: она хотела бы услышать больше, но Чарли была вечно занята. Как и сама Жени. Меньше чем через час ей предстояло бежать на лекцию, потом — вечерние занятия. Иногда по ночам в своей однокомнатной квартирке она принималась раздумывать: неужели призвание всегда означает одиночество?
Через два дня, в конце смены, Чарли пригласила Жени в кабинет.
— Ты хорошо справляешься. Больные тебя любят.
— Спасибо, — в устах Чарли это была высокая оценка.
— Можешь завести тетрадь, — посоветовала старшая сестра, — и заносить туда все особенности больных.
— А разве этого нет в историях болезни? — Жени села на диван, повинуясь приглашению Чарли.
— Я имею в виду не медицинские особенности. Мы работаем с людьми, а не просто с травмами и интересными осложнениями. В этом-то и беда большинства врачей. Люди для них — ничто, и все внимание они уделяют их болезням.
Чарли подошла к шкафу, сунула руку за стопку журналов и извлекла оттуда бутылку виски.
— Старое ирландское. Хочешь немного?
Жени покачала головой, улыбнулась и подумала, что она еще совсем не знает Чарли.
Старшая сестра взяла с раковины стакан, быстро ополоснула его и налила порцию на два дюйма. Затем одним глотком выпила содержимое.
— Чувствуй себя как дома. А я пока наброшусь на писанину. Потом сможешь со мной поужинать?
— С удовольствием! — Жени откинулась на старом коричневом диване, который был местами порван и наспех зашит: стежки уже начинали расходиться. Чарли делала пометки и выписывала замечания для старшей сестры на следующую смену. Зазвонил телефон. Она коротко ответила на звонок, точно пролаяла в трубку. Жени смотрела на нее с восхищением: старшая сестра казалась ей костяком больницы. Вспомнился первый день в кибуце, как Наташа предложила ей помогать нянечке в детском саду. И свое высокомерие, о котором не могла думать без стыда.
Чарли положила ручку и зажгла сигарету, два раза глубоко затянулась:
— Маленькая Эми, — печально произнесла она. — Вряд ли выживет.
— Я думала, она поправляется, — трехлетняя девочка поступила с ожогом почти всего тела, еще в начале лета. Ее белокурые волосы снова отросли, и она часто улыбалась. Казалось, все приходит в норму.
— Да, — вздохнула Чарли. — Родители перестроили ее комнату в доме. Думают, она вот-вот вернется. Я пыталась их подготовить, но куда там, и слушать не хотят. Врачи! Вот кого нужно винить, — со злостью проговорила она. — Не так уж трудно поддерживать надежду, выглядеть такими важными. Спора нет, никто не хочет, чтобы пациент умирал.
Она снова вздохнула:
— С маленькими труднее всего — невозможно видеть, как они уходят. Когда я сюда впервые попала, а к тому времени я уже полтора года работала в госпитале, на моих руках умер маленький мальчик, — она несколько раз затянулась табачным дымом. — Эми не выживет, — повторила старшая сестра. — И она это откуда-то знает. Мы только вдвоем — я и она — знаем об этом.
Чарли вернулась к работе. Единственным признаком ее волнения оставался лишь густой табачный дым, витавший вокруг. От первой сигареты она зажгла вторую, ответила на несколько телефонных звонков и кончила записи.
— Готова? — она встала и потянулась. — У меня все.
Когда Чарли надела пальто, Жени заметила, какой та была полной. Более чем полной. Застегнутое пальто так тесно облегало ее фигуру, что старшая сестра стала похожа на узел, набитый множеством вещей. Щеки отвисали, глаза на широком лице казались маленькими и посаженными слишком близко друг к другу, цвет кожи неровный.
И все же — Жени этого раньше не понимала — Чарли нельзя было судить по обычным меркам красоты. Лицо было постоянно в движении: подвижность и теплота были его главными качествами. Жени вспомнила Лекс. Ее нелюбовь к своей внешности. Но Чарли, казалось, нисколько не заботило, что она некрасива, так же как и вокруг это никого не заботило.
Они прошли три квартала до «Тино».
— Замшелое древнее местечко, — объяснила Чарли, — но тебе понравится. Еда здесь просто божественна.
Когда они вошли, Тино бросилась их приветствовать, расцеловала Чарли в обе щеки, как сестру, с которой долгое время находилась в разлуке.
— Как это у вас получается? — Жени села напротив старшей сестры. — Люди смотрят на вас, как будто им принесли торт ко дню рождения.
Чарли рассмеялась от удовольствия:
— Такая уж работа. Я о них забочусь и понимаю, что с ними происходит. Несчастный случай — чаще всего физическая травма, но и личность тоже страдает. И это может так же сильно испортить жизнь. Я сказала что-нибудь?..
— Нет, нет, продолжайте, пожалуйста, — Жени покачала головой.
— Труднейшая часть восстановительного процесса — убедить больного, что он не останется прежним. Поначалу все считают, что изъян со временем пройдет, так же как срастается сломанная нога. Я стараюсь их убедить, что жизнь их будет другой, окружающие будут по-другому к ним относиться и им необходимо примириться с тем, что случилось. Вот поэтому я и предложила тебе вести тетрадку. Как только пациент становится способным разговаривать, я спрашиваю, где он родился, как звать его детей, что у него за работа — обо всем на свете. Это мне помогает понять, кем он был, или по крайней мере, каким видел себя до настоящего времени. Понимаешь, о чем я говорю?
Жени кивнула:
— Потому что изъян может превратить его в незнакомца для себя самого.
Чарли одобрительно улыбнулась.
— Именно так, девочка. У тебя есть способности.
— Поэтому вы и решили меня обучать?
— Верно. Врачам времени не хватает. И я подумала, что смогу обучить тебя не хуже других.
— Что ж, вы совсем не самонадеянны, — пустила шпильку Жени.
— Конечно нет, — рассмеялась Чарли. — Я знаю, в чем я сильна. И не стыжусь напоминать об этом врачам.
Официант уже два раза подходил к ним, и женщины принялись серьезно изучать меню.
— А вы сами никогда не хотели стать врачом? — спросила Жени, и официант, поняв полную безнадежность когда-нибудь получить заказ, удалился снова.
— Никогда. Мне нравится моя работа. Бедный Джованни, — она посмотрела в сторону официанта. — Считает нас чокнутыми.
— Хорошо. Давайте сосредоточимся.
Когда принесли заказ, Чарли набросилась на еду, словно голодала неделями.
— Моя близкая подруга сильно обожглась, — неожиданно проговорила Жени. — И я чувствую себя виноватой.
— И ты все это делаешь ради нее, — Чарли подцепила на вилку макароны. — Твоя подруга поправилась?
— Умерла.
— Извини, — Чарли перестала жевать. — Из-за ожогов?
— Косвенно. Она была сильно искалечена.
Старшая сестра кивнула. Казалось, она читала мысли Жени.
— Я наблюдала, как увечье выворачивает людей наизнанку, так, что не остается ничего, кроме ненависти к себе.
— И я тоже, — задолго до Лекс, про себя подумала Жени. — Но тогда я была еще слишком мала, чтобы понять, что к чему.
— Послушай, Жени, многие из нас в клинике работают по личным мотивам. Мой отец был пожарным. И пока я росла, успела наглядеться страшных вещей — что делает с человеком огонь. Личные мотивы — это прекрасно, если они заставляют помогать другим. Чем больше во что-нибудь погружаешься, тем больше привязываешься к этому делу.
Жени облегченно вздохнула:
— Мне так давно было не с кем поговорить.
— Это никуда не годится. Попробуем с этим что-нибудь сделать. Переезжай-ка ко мне.
Жени удивленно подняла брови, как будто не расслышала Чарли.
— Моя квартира для меня велика. Две спальни. Та, с кем я ее делила, переехала в Нью-Йорк, и теперь я плачу за аренду одна.
— Вы правда этого хотите?
— Жени, ты знаешь меня целых шесть недель, и задаешь еще такие вопросы.
Жени рассмеялась.
— Тогда решено, — заключила Чарли. — Как скоро ты сможешь перебраться?
В общежитии Жени нужно было предупредить за две недели.
— Первого ноября?
— Великолепно. Но какого черта ты плачешь?
Жени промокнула глаза салфеткой.
— Ничего, — ответила она и широко улыбнулась.
— Ты слишком долго оставалась одна, — заключила Чарли.
В ту неделю, когда Жени переехала к Чарли, ее положение в больнице изменилось: из помощника ожогового отделения она превратилась в медика-ассистента.
Декан пригласил ее к себе в кабинет, чтобы поздравить:
— Многие хотели бы получить место в Бостонском Генеральном госпитале, а яблочко сорвали вы. Работа в ожоговом отделении — самая ответственная и разнообразная.
— Да. Мне повезло, — улыбнулась Жени.
— Не уверен, что это можно отнести за счет везения, — коротко заметил декан, пожевывая оправу очков. — Везение редко служит основанием для приема на работу наших студентов. Но признаюсь, я был удивлен.
— Вряд ли ваши слова можно принять за комплимент, — Жени постаралась обратить обиду в шутку.
— Я и вправду считаю, что у вас есть серьезный изъян.
— Не могу понять, о чем вы говорите, — она сердито поднялась.
— Подождите. Пожалуйста, останьтесь. Извините, я неправильно выразился. Хотя это и в самом деле «изъян» или по крайней мере стал таким, с тех пор как я декан. Я имею в виду то, что вы женщина. А красивая женщина — это двойной изъян.
Декан выглядел таким мрачным, что Жени тут же отогнала мысль, что он пытается с ней заигрывать.
Он опустил очки на крышку стола и сложил дужки.
— Честно говоря, красивая женщина — изгой в медицине. Я могу перечислить на пальцах одной руки привлекательных женщин, которые, полностью отучившись в этой школе, стали хорошими врачами. Удивляюсь, как вы дотянули до четвертого курса. И просто потрясен тем, что доктор Барлоу подал на вас заявку.
Доктор Питер Барлоу был одним из директоров клиники. Чарли настояла на том, чтобы он встретился с Жени, и встреча прошла блестяще. Когда врач спросил, есть ли у нее какие-нибудь рекомендации, Жени назвала Эли Брандта и Вилльяма Ортона.
На следующий день Питер Барлоу снова вызвал Жени к себе в кабинет и тепло пожал ей руку:
— Я разговаривал с Биллом Ортоном. Мы ждем вас здесь.
Декан вновь посадил на нос очки.
— Поздравляю, мисс Сареева. Может быть, вы станете первооткрывателем.
Тем вечером Чарли принесла домой шампанское. Она весело смеялась, когда Жени перерассказывала ей разговор с деканом, особенно ее развеселило слово «изъян».
— Отныне, — выдавила она между двумя взрывами смеха, — я буду тебя называть «милая моя калека».
— Не забудь, калека вдвойне.
— Помню, помню. Ну что будешь делать с такими людьми.
— Пусть себе гадают, в чем тут дело, — предложила Жени. — А я точно знаю, что местом практиканта обязана тебе.
— Брось, — Чарли осторожно тащила пробку из бутылки. — Я всего лишь незаметная женщина. Медсестра. Клянусь, будь ты самой Жанной д'Арк или даже Богородицей, по моей рекомендации тебе не позволили бы даже полы мыть. Это — мир мужчин, золотце, и ты должна это знать. Если бы Барлоу не поговорил с Ортоном, у тебя бы не было шансов получить это место.
— Дай попробовать, — Жени потянулась к бутылке. — Но если наш мир — мир мужчин, как же удалось справиться Жанне д'Арк?
— Всех надула. Ее приняли за парня. Ну вот!
Пробка выстрелила в потолок, и Жени быстро подставила бокал под горлышко бутылки. Вино вспенилось, они наполнили второй.
— За тебя, доктор Сареева, — Чарли опрокинула бокал в рот и тут же снова наполнила его. — Кстати, а почему Сареева? Ты ведь еще замужем. Имя Вандергриффов много значит.
— Слишком много. Так заряжено, что, кажется, взорвется, когда его произносят. Поэтому я всегда предпочитала называть свое, даже тогда… когда полагала, что из нашего брака что-то выйдет. А теперь, — грустно закончила она, — пользоваться фамилией Пела просто некрасиво.
За короткое время они многое узнали друг о друге и теперь Чарли понимала Жени больше, чем кто-либо другой. Была в курсе основных событий ее жизни.
— Давай опять за тебя — под любой фамилией, — снова подняла бокал медсестра. — Жалко только, что теперь на работе мы не будем видеться так часто.
— Конечно, будем, — заверила ее Жени.
Но в следующие несколько дней она поняла, что Чарли была права. Хотя она и продолжала выполнять работу, от которой другие отворачивались, делать ее никто не обязывал, — теперь она входила, пусть пока и без определенной должности, в ожоговую бригаду и принадлежала к врачебному, а не санитарному персоналу.
Ожоговое отделение включало в себя множество различных специалистов — медиков и даже не медиков: психиатров, психологов, терапевтов, косметологов, изготовителей париков — все были призваны лечить пациентов на двенадцатом этаже.
Жени чувствовала, что это самое интересное, самое трудное и самое многообещающее место, где она только могла оказаться. И она хотела проводить в клинике как можно больше времени, растянуть день, как резинку.
Из-за разного расписания Жени и Чарли иногда целыми днями не могли перемолвиться и словом, особенно когда медсестра работала во вторую смену: с четырех до полуночи. В декабре они в первый раз за две недели ужинали вдвоем. Обе были совершенно измотаны. Чарли жаловалась на двух медсестер, которые проявляли такое отсутствие сострадания к больным и даже отвращение к тем, у кого оказались изуродованы лица, что она предложила им бросить санитарию и отправиться работать секретаршами в ателье мод, где они могут вволю насмотреться на смазливые физиономии.
Жени утомленно улыбнулась. Она так устала, что не могла даже есть:
— Не знаю, правильно ли ты поступила. Предубеждения против увечий распространены очень широко.
Чарли сердито посмотрела на нее. До этого они еще ни разу не спорили и, посреди их макаронного ужина, она не хотела затевать спор, но не удержалась и воскликнула:
— Медсестер ты вполне можешь оставить на мое попечение.
Жени различила в голосе Чарли обиду и промолчала. В конце концов, та была права. Разбиралась в санитарии гораздо лучше, чем она, хотя медицинские познания Жени были гораздо глубже.
Она вспомнила день, проведенный в клинике, особенно смену повязок у двух больных, которую ей пришлось выполнять. Тогда и поняла, почему сестры ненавидят эту операцию.
Они приносят больному боль, подвергают пациента мукам и ничего не могут с этим поделать. Сегодня больная вся сжалась от страха и этот страх вылился в раздражение против Жени. И она так прониклась чувствами больной, что сама ощутила злость на себя.
— Сестрам приходится не сладко, — сказала она вслух.
Чарли вскинула глаза, как будто хотела что-то возразить, но вместо этого положила в рот еще одну порцию спагетти, а, прожевав, кивнула:
— Все время гладят против шерсти. Нервы стали ни к черту. Извини.
— Ничего, — улыбнулась Жени. Напряжение спало, но есть по-прежнему не хотелось.
Она смотрела, как Чарли расправляется с макаронами.
«Мы очень разные люди, — думала Жени, — но во многом я гораздо ближе Чарли, чем кому-нибудь другому». Она сама толком не понимала, что подразумевала под словом «разные». Конечно, не профессию. Они занимались различными аспектами одного и того же дела. И не разницу в физическом обличии, которому обе придавали так мало значения. Светло-каштановые волосы Чарли были прямыми и тонкими. Цвет своих глаз та описывала, как «нечто среднее между тиной и прокисшим пивом». Чарли по крайней мере на тридцать фунтов весила больше, чем ей бы следовало. Когда они оказывались вместе на улице или в магазине, Жени смущало, что привлекает всеобщее внимание. Но Чарли не ревновала. Напротив, та, казалось, гордилась всезавоевывающей красотой подруги, и если какой-нибудь незнакомец заговаривал с Жени, начинала добродушно любезничать с ним, а потом говорила:
— Он пытался к тебе подкатиться, а я перехватила беднягу.
Чарли выросла в небольшом городке на побережье в штате Массачусетс. Ее отец, по профессии каменщик, пошел по призванию в добровольный пожарный отряд. Мать, в прошлом преподавательница в детском саду, перестала работать после рождения младшей сестры Чарли. Девочка родилась отсталой и умерла в четырнадцать лет в специальном заведении, куда родители поместили ее за год до кончины, не в силах больше выдерживать все более и более саморазрушающее поведение. Но тринадцать лет, пока сестра жила дома, Чарли часто приходилось служить ее сиделкой, когда мать одолевали долгие приступы депрессии. После смерти девочки — в то время Чарли исполнилось девятнадцать — депрессии матери вызвали настолько острый флебит, что она уже редко вставала с постели.
Для Чарли Жени представлялась пришелицей из другого мира — блистательного, сверкающего богатством, наполненного иностранными именами.
— Не поверю, что тебе со мной интересно, — как-то сказала она, но Жени так и не поняла, что она имеет в виду.
Жени все еще чувствовала себя иностранкой — слепком кусочков и осколков, которые составляли ее жизнь.
Они понимали друг друга, откровенно делились друг с другом своими мыслями. Но несмотря на близость, каждую формировала своя среда, свое социальное окружение. Отец Жени был видным функционером, опекун — богачом и влиятельнейшим человеком, муж — из семьи Вандергриффов. Жени всю жизнь провела с прислугой.
Чарли ни разу не была замужем, хотя однажды чуть не пошла под венец, когда сблизилась с упаковщиком мяса. И единственной прислугой, которую она знала, была Чарли сама.
Переделать прошлое они не могли и подчас приходили в отчаяние, споря о ценностях и стилях жизни.
К Рождеству Жени купила Чарли двустороннее пальто, с длинным мехом с одной стороны, и предвкушала, как будет его дарить. Чарли все еще носила свое узкое серое шерстяное пальтишко, которое делало ее еще грузнее, чем она была на самом деле.
Но когда на Рождество Чарли открыла сверток, она тут же заявила:
— Мне это не нужно.
— Конечно, нужно, — возразила Жени. — Только примерь. Увидишь, как оно тебе пойдет.
— Ни к чему было тратить на меня столько денег, — проговорила медсестра тусклым голосом, не прикасаясь к подарку.
— Но ты — моя лучшая подруга, — она была рада похвалиться перед Чарли. — У меня еще хватит заплатить за аренду, — пошутила она. — Деньги не самое главное.
— А для меня они важны, — вспыхнула медсестра. — Я зарабатываю достаточно, чтобы купить себе одежду.
— Тогда отдавай обратно, — выпалила Жени. — Я думала, оно тебе понравится, — и повернулась спинок к подруге.
Чарли вздохнула:
— Жени, я знаю, ты хотела сделать как лучше. Но пойми, людей нельзя купить.
Жени резко обернулась:
— С ума сошла? Как я могу тебя «купить»? Я думала, мы подруги, а подругам позволяется дарить друг другу подарки и не подозревать в подкупе, — она почувствовала, как слезы подступают к глазам и бросилась к себе в комнату.
Через несколько минут Чарли постучала в дверь. Когда Жени открыла, та не вошла.
— Извини, — пробормотала она с другой стороны порога, обрамленная дверной притолокой. — Я… я не знаю. Всю свою жизнь я полагалась только на саму себя. И мне не так просто принимать подарки, — она вернулась в гостиную, и Жени последовала за подругой.
Чарли развернула пальто.
— Красивое, — она продела руки в рукава, свободно завязала пояс и повернулась вокруг.
Жени смотрела и думала: «Вот мой ближайший, самый дорогой друг».
— Ты меня тоже извини, — произнесла она. — Я никак не хотела тебя обидеть. Думала, обрадуешься моему подарку.
— Я и радуюсь, — она сказала это заносчиво, точно девчонка, предлагающая: «Попробуй возрази!»
Жени рассмеялась и, подбежав, крепко обняла подругу.
— Чарли! Я просто не могла больше переносить твое шерстяное пальто.
— Паршивенькое, — согласилась медсестра. — Ну как я выгляжу?
— Просто потрясающе.
— И мне так кажется. Знаешь, все они неправы.
— Кто?
— Те, кто говорят, что отдавать труднее, чем брать. Все совсем наоборот. Но мне надо учиться преодолевать трудности.
Жени отступила на шаг, чтобы ее оглядеть.
— Эти туфли. Они совсем сюда не подходят. Давай пойдем и купим…
— Ну уж нет! На рождественское утро мне хватит и одного урока смирения.
30
В новогодний вечер, когда обе подруги были свободны от работы, Жени предложила остаться дома и распить бутылку шампанского.
— По бутылке на каждую, — возразила Чарли. — И я надену свою самую соблазнительную фланелевую ночную рубашку.
— И шлепанцы, как у Микки Мауса?
— А что? На Новый год я становлюсь совсем ненормальной.
— И я тоже, — призналась Жени. — А знаешь, что я надену?
— Подожди, сейчас отгадаю. Фирменное неглиже от Диора, оставшееся у тебя после ночи, проведенной с королем Хуссейном?
Жени рассмеялась:
— Нет, совсем не то. Я подумываю послать к чертям всяческую скромность и нарядиться в кокошник.
— Все вы, русские, психи, — хихикнула Чарли. — Но и я буду тебе под пару во фланелевой рубашке и фламандском чепце.
— Давай. Прекрасно проведем время, — несколько лет Новый год означал для Жени Пела. Но и остаться дома с Чарли показалось ей приятным.
Но в праздничный вечер Чарли передумала.
— Будет еще забавнее куда-нибудь выйти. Мы и так почти все время сидим дома. Тебя кто-нибудь приглашал?
Жени приглашали, и Чарли тоже. Подруги решили приберечь шампанское на следующий день и вместе появиться на обеих вечеринках.
Первая намечалась в Бруклине у Тору, давнишнего партнера Жени по занятиям в анатомичке еще на первом курсе. Шесть недель назад они встретились на улице, и хотя с тех пор и договаривались встретиться несколько раз, только за два дня до Рождества сумели на полчаса выбраться в кафе.
За стаканом коки Тору рассказал, что прошлое лето провел дома в Киото, где обнаружил, что совсем отвык от семьи. Из высшего общества, его родители придерживались старых традиций и строго следили за выполнением малейших формальностей.
— Мои волосы показались им слишком длинными, а поведение невероятно диким. Я совершил ошибку и рассказал им о своей подружке в Бостоне. Они прямо заявили, что если я женюсь на европейке, она не будет принята в доме, — Тору вздохнул. — Я всегда был любящим и почтительным сыном. Но этим летом не проявил должного уважения к родителям. И как же можно уважать других, когда они не уважают тебя? — спросил он почти печально.
— Как грустно терять родителей вот так, — отозвалась Жени.
Он благодарно тронул ее руку:
— Как только мы встретились, я понял, что мы подружимся. Мы оба лишились своей национальности.
Жени не рассказала Тору о своих потерях в прошлое лето. Им нужно было бежать, но Тору взял с нее слово, что Жени придет на новогоднюю вечеринку.
Глаза всех обратились к Жени, когда в ярком красном шерстяном платье она вошла вместе с Чарли в прокуренную квартиру Тору, которую тот снимал вместе с врачом-онкологом. Жени улыбнулась всем присутствующим, представила, кому могла, Чарли и, рассчитывая на живость подруги, предоставила ей самой вступить в разговор.
В двадцать минут двенадцатого настало время уходить. Они заранее условились, что попадут на вечеринку Чарли к полночи. Но Чарли не хотелось уходить. Она много говорила с Тору и теперь грустно глядела на него, когда он подавал ей пальто.
— Счастливого Нового года, дорогая Чарли, — высокий, худощавый, он наклонился, чтобы поцеловать женщину.
Вместо того чтобы чмокнуть Тору в щеку, как обычно поступала с другими, Чарли подставила ему губы и, вспыхнув, быстро вышла.
Жени расцеловала однокурсников в обе щеки и последовала за подругой, тихонько улыбаясь. Такой Чарли она еще никогда не видела.
— Он человек, этот Тору, — проговорила Чарли в такси, и Жени знала, в ее устах это было высшей похвалой.
— Давай как-нибудь в ближайшие дни пригласим его на ужин, — предложила она.
— Великолепно, — Чарли застенчиво улыбнулась. По дороге в Кембридж Жени начала строить планы: какое составить меню и под каким предлогом после ужина оставить их одних.
Они ехали на север, к Гарварду. Недалеко от колледжа миновали «Л'Эндруа», окна которого подмигивали праздничными огнями. Жени вспомнила тот день, когда был убит президент, а вслух сказала:
— Мы обедали с Дэнни в этом ресторане.
Чарли припомнила, что Жени рассказывала ей о юноше, подающем надежды и полном страсти:
— Ты скучаешь по нему? — спросила она.
— Иногда я думаю о нем, — призналась Жени. — Вспоминаю, что он мне говорил.
— Ты его любила, — напомнила Чарли.
— Он был не как другие. Романтиком. Такие мужчины никогда не вырастают.
— Они сказочны. Или могут быть такими. Заставляют почувствовать возбуждение жизни.
— А разве жизнь не возбуждает? Мы на пороге целого нового года — 1968. В этом году я стану врачом, а ты поменяешь работу. (Чарли пригласили во вновь открываемый Францисканский ожоговый институт, где предполагалось оказывать помощь и лечить детей.) И кто знает, что еще, кроме этого, случится с нами.
— Я знаю — мы постареем.
— Никогда, — рассмеялась Жени. — Мы с тобой, Чарли, никогда не постареем.
— Ты в этом уверена?
— Чувствую всеми своими костями.
Такси подкатило к дому.
— Ты хочешь сказать, руками. Ты ведь станешь самым лучшим пластическим хирургом. Лучше, чем Понс де Леон.
— Это пластический хирург?
— А разве ты не знаешь? — Чарли достала деньги из кошелька и расплатилась с шофером. — Намного обогнал время. Подтяжка лица без надрезов — фонтан молодости.
Смеясь, без десяти двенадцать, подруги вошли в большую гостиную. Здесь гости были намного старше, чем на первой вечеринке: мужчины оглядели Жени с головы до ног и снова обратили взоры к своим женам.
В двенадцать часов Жени чокнулась с Чарли, они обнялись и она почувствовала грусть и ностальгию: вспомнив Дэнни и его семью, вспомнив мать, Лекс, Филлипа, Соню, всех, с кем разлучила ее смерть или прошлое. Потерянный брат. Отец где-то в ссылке. А с кем сегодня вечером встречает Новый год Пел?
В час они уже в такси ехали домой.
— Не наши люди, — сонно проговорила Чарли.
— Но ведь хозяйка — твоя давнишняя подруга?
— Даже не знаю, были ли мы когда-нибудь подругами. В детстве вместе играли — и то, потому что жили на одной улице. Или все-таки дружили? Не могу припомнить, — Чарли зевнула. — А она выглядит как та, прежняя девочка, хотя и превратилась в кого-то другого.
— Странно, — Жени закрыла глаза. В последние месяцы так поздно она не засиживалась.
— Странно, — отозвалась Чарли. — Внешность — вещь странная, — ее голова упала на грудь, и Чарли моментально заснула. Жени этого не заметила, потому что сама уже спала, и шоферу пришлось будить подруг, когда они подъехали к дому.
Они хотели как следует выспаться следующим утром и начать новый год со свежей головой, но привычка подняла их спозаранку. В шесть тридцать Чарли осторожно прошлепала на кухню, чтобы приготовить кофе. Она унесла его к себе в комнату, чтобы не побеспокоить Жени.
Жени вышла на кухню в семь, разогрела чай, приготовила бутерброд и тоже унесла к себе.
В десять часов, когда позвонил Тору и извинился за ранний звонок, обе подруги не спали уже несколько часов, но не решались выйти в гостиную. Он спросил, не придут ли они обе к нему на поздний завтрак около часа.
— Сейчас спрошу Чарли, — ответила Жени. Чарли стояла от нее в нескольких футах и вся светилась. Когда она узнала о приглашении, лицо выразило такое счастье, что Жени тут же произнесла в трубку: — Чарли свободна, а я вот, наверное, не смогу.
— Прекрасно! — откликнулся Тору. — То есть, я хотел сказать, очень жаль, что ты не можешь прийти, — тут же поправился он. — А Чарли… как ты думаешь, ей понравится копченая семга?
— Она ее просто обожает, — и, улыбаясь, Жени повесила трубку на рычаг. — Шампанское прихвати с собой, — сказала она Чарли. — Оно прекрасно подойдет к тому, что вам предстоит есть. А я ночью напилась им на целый год.
Вернулась Чарли невероятно радостная. Они завтракали одни — сосед Тору в этот день работал.
— Мы успели поговорить «обо всем», — заверила она Жени.
Это была первая из многих их с Тору встреч. Жени радовалась непривычному счастью Чарли и тому, что причиной этого стал Тору. Для себя она не хотела никаких новых связей: ее жизнь была наполнена и так, и когда мужчины начинали проявлять к ней явный интерес, она их отвергала. Какой бы покой она не испытала в той маленькой пустой комнате в Иерусалиме, потом от него осталось одно лишь отвращение.
Но связь подруги она поощряла и через три месяца стала надеяться, что эта связь будет длиться и дальше. Она подала заявление в интернатуру и по праву надеялась, что ее примут в Корнелл-Эпископалиан-госпиталь в Нью-Йорке. А это означало, что в конце учебного года Жени прокинет квартиру Чарли. Ей будет недоставать подруги и Генерального госпиталя, но после восьми лет в Бостоне пора было что-то менять.
— Где Тору собирается проходить интернатуру? — спросила Жени Чарли, когда субботним утром в середине марта они занялись уборкой квартиры.
— Он тоже собирается уехать из Бостона. Может быть, в Вилльям Лок в Балтиморе, — Чарли протирала стекло, Жени — дерево, и вдвоем они передвигались по квартире, чистя и полируя: Чарли с жестянкой спрея и ворохом бумажных полотенец, Жени с лимонной политурой и тряпочкой. — Мне тоже придется уйти из ожогового института, — добавила медсестра.
Жени промолчала и взглянула на подругу. Чарли прицеливалась соплом распылителя в нижнюю часть окна. Потом стала растирать стекло круговыми движениями.
— Мне нужен отдых, — объяснила она. — Ожоговая сестра действует, как правило, полтора года, а потом становится неэффективной. С большинством происходит именно так — слишком они утомлены. Я уже в четыре раза превысила этот срок, но теперь чувствую, что и я на пределе. Не могу дать больному надежду, как это делала прежде.
— И что же ты будешь делать?
— Ищу административную или преподавательскую работу. Тору считает, что я могла бы написать книгу о детях с сильным повреждением лица, но для этого мне нужен писатель.
— Ты останешься в Бостоне? — Жени не собиралась любопытствовать, но все же ей хотелось знать, что происходит между Чарли и Тору.
— Не знаю, — Чарли полюбовалась на сверкающее стекло. — В любом случае решение принимать надо мне самой. Тору на семь, почти на восемь лет младше меня.
— Ну и что из этого? — Жени тоже приостановилась, чтобы рассмотреть свою работу. Стол сиял, и в комнате плавал свежий насыщенный запах лимонной политуры.
— Он тоже говорит «Что из того?» Может быть, разница в возрасте и не имела бы такого большого значения, если бы это было все. Но он из другого мира, из Японии. И даже на завтрак ест сырую рыбу.
Жени улыбнулась и опустилась на колени, чтобы отполировать деревянные ножки.
— Он из влиятельной семьи — они родственники императора — никак не меньше. Представляешь меня беседующей с его матерью? — Чарли покачала головой. — Невозможно.
— Ты уверена?
Чарли тяжело вздохнула:
— Я ни в чем не уверена. Он самый понимающий из всех мужчин, каких я когда-либо встречала. И станет прекрасным врачом. Потому что, как и ты, рассматривает тело лишь частью всего человеческого существа. К тому же он так забавен и ужасно привлекателен.
— Тогда что же тут невозможного?
— Ну зачем блестящему великолепному юноше связываться со старой перечницей?
— А может быть, он любит старую перечницу?
Глаза Чарли широко раскрылись и она рассмеялась:
— Думаю, что любит.
— И что же?
— Посмотрим, — и Чарли повернула аэрозольный баллончик в сторону зеркала. — Пока нет смысла ни о чем говорить… Чертовски… — она еще раз окатила из распылителя влажное зеркало, а Жени взялась за пылесос.
Через неделю Тору позвонил Жени в ожоговое отделение и спросил, не сможет ли она встретиться с ним вечером.
— Что-нибудь случилось?
— Нет, просто я хочу поговорить с тобой, Жени.
В шесть она хотела пойти на лекцию по хирургии руки:
— Хорошо. Где мы увидимся?
— В баре «Ритц-Карлтона».
— Но там ужасно дорого, — напомнила она. Жени знала, что несмотря на влиятельных родственников, средства Тору были весьма ограничены.
— Там тихо, и я чувствую себя увереннее, когда разговоры о деньгах — единственный звук, который я слышу.
Жени улыбнулась:
— Постараюсь подойти туда к шести.
Войдя в вестибюль отеля, она поняла, что не была здесь с тех пор, когда провела ночь в номере Пела. Они впервые здесь обедали еще на первом курсе, Пелу было столько же лет, сколько сейчас Тору.
Она медленно прошла в бар. Тору вылетел ей навстречу, расцеловал в щеку, провел к столику.
— Спасибо, Жени. Ты — настоящий друг, — он указал на свой стакан. — Я пью виски. Тебе тоже?
— Коктейль с белым вином, пожалуйста, — совсем немного алкоголя ей было достаточно, чтобы избавиться от нервозности. Тору заказал и провел пальцем по кромке своего стакана.
— Уж лучше я сразу начну. Речь идет о Чарли. Просто не знаю, как за ней ухаживать.
Слово прозвучало настолько старомодно, что Жени никак не связала его с живым открытым характером Чарли.
— Это все мое воспитание. Или, как говорит Чарли, мое дурацкое воспитание. Я не хочу давить на нее или проявлять неуважение… Жени, ты была замужем. Посоветуй, как мне заставить Чарли поверить?
— Поверить во что?
— В то, что я хочу быть с ней, — лихорадочно выпалил Тору.
— Мне кажется, ее беспокоит разница в вашем возрасте…
— Нет, — перебил он Жени в волнении. — Это не имеет никакого значения. Зрелых женщин больше уважают.
— …И еще различия в вашем положении. Ты ведь мне сам говорил, что твои родители никогда не примут в дом европейку.
— Я отрезал себя от них. Теперь я сам по себе. Скажи ей об этом.
Жени печально улыбнулась, вспомнив, как неловко ей делал предложение Пел. Неужели, думала она, застенчивость — признак благородства в юношах?
— Не могу. Но я совершенно уверена, что Чарли тебя любит. Скажи ей сам.
— Я уже говорил — по-своему.
— Скажи еще.
— Так ты считаешь, что можно надеяться? — улыбнулся Тору.
— Безусловно.
— Спасибо, — он взял ее руку и поцеловал. Жени заметила, что его ладонь дрожала.
Жени рассчитывала услышать от Чарли новое об их отношениях с Тору. Но вместо того чтобы расцвести, их роман, казалось, начал чахнуть, и с каждым днем подруга становилась все напряженнее и раздражительнее. Она часто срывалась без причин или по пустякам, а однажды Жени услышала, как та говорила по телефону Тору, что слишком занята.
«Переутомилась», — решила Жени. Чарли уже подала заявление об уходе из Францисканского института с первого июня или даже раньше, если к тому времени ей подыщут замену. Но это не принесло облегчения и не сняло стресса. Она стала прибавлять в весе — верный признак обеспокоенности, стала часто уходить не причесавшись.
— Ты на грани срыва, — заявила Жени. — Тебе нужно немедленно прекратить работать.
— Не могу, — Чарли плотно сжала губы. — Ким во мне нуждается.
Ким была девочкой лет двенадцати, чье тело обгорело на семьдесят пять процентов, когда щитовой домик, в котором они жили, вспыхнул, как свеча, и похоронил ее отца и сестру. Мать Ким с грудным ребенком навещала родных и, вернувшись, застала дом сожженным дотла. Ким отшвырнуло взрывом, который развалил дом, и она, вся в огне, упала на соседском дворе. Оттуда ее незамедлительно отвезли во Францисканский ожоговый институт.
Когда девочка пришла в себя, она не могла говорить и не реагировала на окружающее, казалось, даже не узнавала мать. Все в ней как будто умерло, кроме боли. Тело настолько обгорело, что, куда бы не прикасалась Чарли, она доставляла девочке страдание. Неповрежденными остались лишь несколько дюймов на шее.
Потом Ким стала постоянно плакать. Она будто вернулась в младенчество, что-то непонятно бормотала, мочилась в кровать. Но по глазам было видно, что она узнавала мать и Чарли, когда те приближались к ее, покрытой пластиком, кровати.
— Ким во мне нуждается, — повторила Чарли. Было половина седьмого, но по ней казалось, что она не спала всю ночь. И это была не первая ночь без сна. Ким вошла в нее, как наваждение. — Она никогда не выздоровеет, — голос сестры был бесцветным, она казалась взъерошенной, кожа отливала нездоровым оттенком. — Сколько бы операций Ким не перенесла, она навсегда останется уродом. Будет бояться выходить из дома. Мать не сможет с этим примириться и в конце концов прогонит ее прочь.
Жени вдруг озарило, почему Чарли так страдает из-за девочки, но, глядя на ее обезумелое лицо, она боялась выразить свое предположение вслух.
— Ее жизнь разбита. Почему она никак не может умереть?
Вечером она нашла Чарли скорчившейся и рыдающей на стуле в гостиной. Жени опустилась перед подругой на колени, взяла за руку. Прошло несколько минут, прежде чем Чарли поняла, что она рядом. Потом обняла Жени, прижалась щекой к ее шее.
— Она умерла. Я как будто потеряла сестру.
Жени долго прижимала Чарли к себе, зная, что сказать нечего, что ее горе достигло вершины и должно прорваться, перед тем как начать утихать.
Постепенно рыдания стали утихать. Жени поднялась, чтобы приготовить чаю.
— Хочешь, я позвоню Тору?
Лицо Чарли было все сморщено, глаза покраснели и опухли. Она только кивнула.
Было уже почти двенадцать, но Тору ответил, что немедленно выезжает.
Чарли поднялась со стула:
— Ты не сможешь… — попросила она сбивчиво, — … не сможешь расчесать мне волосы?
Жени отвела ее в ванную, умыла лицо холодной водой, расчесала и подала губную помаду. Чарли вопросительно посмотрела на подругу, потом повернулась к зеркалу и. аккуратно подвела губы. Когда через двадцать минут постучался Тору, она, приветствуя его, тепло улыбнулась.
Ким умерла восемнадцатого апреля. А двадцать третьего — Жени столкнулась с пациентом, потрясшим ее больше других.
Винстону было двадцать четыре года и, судя по фотографиям, сделанным в его восемнадцатилетие, он был на редкость привлекательным. Высокий, симпатичный, с ясными зелеными глазами. Он стоял на фоне небольшой «Сессны», и откровенная улыбка придавала еще большее обаяние его чертам. «Полный солнца юный бог», — подумала Жени. У юноши было все. Подобно Вандергриффам, его родители были чрезвычайно богаты и ничего не жалели для своего единственного сына.
Через несколько недель после того как был сделан снимок, самолет потерпел аварию и загорелся. Пассажирку Винстона, девушку по имени Джи-Джи Френч, при ударе отбросило на несколько десятков ярдов. Она сломала обе ноги, получила смещение плечевого сустава, но через пару месяцев оправилась. Пристегнутый к сиденью Винстон обгорел до неузнаваемости. То, что он выжил, казалось чудом: ожог третьей степени охватил все лицо, юноша лишился ушей, носа и четырех пальцев на правой руке. Через шесть лет после катастрофы он снова лег в госпиталь для реконструктивной операции, но внешность его по-прежнему оставалась отталкивающей. Молодые сестры содрогались, когда входили к нему в палату. Но их реакция не особенно расстраивала Винстона — он прошел и через худшее.
Он рассказал Жени о случае, произошедшем примерно через год после катастрофы. Тогда он второй раз решился покинуть дом и пошел повидать кузена: в гостях оказалась и пятнадцатилетняя девочка. Завидев Винстона, она прыснула от хохота.
— Такой страшной маски я еще никогда не видела, — проговорила она, превозмогая смех. — Сейчас же ее сними!
Винстон окаменел, а девочка подбежала к нему и попыталась снять «маску», а когда закричала от ужаса, юноша рванулся к двери и следующие полгода выходил из дома только тогда, когда нужно было ехать в больницу.
Накануне операции Жени рассказала ему, что и ее отец выглядел как он.
Оправляясь после операции, Винстон рассказывал Жени, как увечье изменило его характер.
— Я стал враждебным, подавленным, замкнутым — превратился в обузу для самого себя. Молил лишь о смерти.
Он был полностью откровенен, но лишь с теми, кто его принимал. И не делал даже попытки заговорить с любым другим, кто проявлял признаки отвращения. Жени слышала, что его появление на этаже создало такую атмосферу, что пришлось собирать специальное совещание. Председательствующий психиатр заявил, что Винстон представляет собой ярко выраженный клинический случай «социальной смерти».
Жени ненавидела этот термин — слишком много он для нее значил: и Лекс, и отец были его жертвами. Но не Винстон кто преодолел себя, познавая свое существо.
Возвращение в общество было медленным процессом, рассказывал он ей. Самым трудным оказалось принятие самого себя, когда другие видели в нем лишь урода.
— Видели, — он с усилием улыбнулся. — А мне было трудно что-либо видеть из-под «маски».
Его интуиция поразила Жени — он точно и конкретно воспринимал свое моральное уродство. Она записала его исповедь в тетрадь и подчеркнула слова, удивившие ее определенностью и поэтичностью.
Когда Винстон выписался из госпиталя, Жени стало его не хватать. Своим примером и своим осознанием вещей он многому ее научил. Она яснее поняла, что пыталась сказать ей мать: как той приходилось уживаться с направленной на нее ненавистью социально мертвого человека. Раньше Жени этого не хотела понимать. А теперь, понимая Наташу после ее смерти лучше, чем при жизни, было поздно проявлять к ней сострадание.
Через три недели после того, к аквыписался Винстон, и за четыре дня до выпуска из школы, Жени завершила последний день практики в Генеральном госпитале. Четвертого июля, в День Независимости, она переехала из Бостона в Нью-Йорк и поселилась в своей квартире на Риверсайд драйв и 116-й стрит, откуда всего за несколько минут могла добраться на подземке в Корнелл-Эпископалиан госпиталь.
Чарли сохранила за собой квартиру. Бросив работу во Францисканском ожоговом институте, она согласилась при необходимости выступать у них консультантом. В сентябре она должна была получить должность содиректора в организации, ведущей с населением противопожарную разъяснительную работу и проводящей в жизнь связанные с этим мероприятия. Тору получил интернатуру в госпитале Бет Дэвид в Бостоне.
Он переехал к ней. Хотя Чарли и не была готова выйти замуж за «маленького», как она называла Тору, по телефону она сообщила Жени, что из него вышел прекрасный сосед по квартире.
— За тобой, конечно, не угнаться, но кто-то же должен оплачивать половину аренды.
После первой недели совместной жизни она позвонила Жени:
— В квартире с мужчинами еще тяжелее, чем с кошками. Лезут повсюду.
Но еще через неделю призналась, что мужчины как собаки — любящие и привязанные.
А еще через неделю попросила Жени стать почетной матроной на свадьбе.
31
Корнелл-Эпископалиан госпиталь был расположен в начале Бродвея, в загруженнейшей и опаснейшей части города, но пользовался превосходной репутацией среди лучших клиник. Его пациентами становились и миллионеры, которые попадали туда по рекомендации лечащих врачей, и бедняки, и даже бездомные.
Жени работала днями и ночами и подчас следующая ночь подступала незаметно вслед за предыдущей. Ее смены длились по тридцать шесть часов. Она дремала урывками, чтобы не свалиться. И даже засыпая, мечтала о сне. Хотела забыться так надолго, какими долгими бывают лишь зимние метели, и беспробудно спать, как спят очарованные в сказках.
Другие, занимающиеся в интернатуре, тоже постоянно говорили о сне, как голодные о хлебе. Для них для всех — усталость была пропуском в медицинскую профессию. Они боролись с ней иронией, которой научились поддерживать свое здоровье, которым рисковали, спасая здоровье других.
Большинство времени отнимала известная текучка. Но Жени была свидетельницей и высокой драмы больницы, особенно в приемном покое скорой помощи. Вой сирены и проблесковый маячок сообщали о поступлении нового пациента: истекающего кровью от ножевой или огнестрельной раны, пьяницы, серьезно повредившегося, падая с высокого стула в баре или в хмельной драке, одинокого старика, чья болезнь подошла к конечной стадии. «Как в зоне боевых действий», — думала Жени. Смерть в приемном покое скорой помощи была обычным явлением.
Ей дали несколько дней отпуска после «рождественского всплеска», времени, когда кривая попыток самоубийств достигает наивысшей отметки. И несмотря на усталость, она полетела навестить, как и обещала, Чарли и Тору.
Они обрадовались ей, как вернувшейся домой сестре. В тот вечер в доме друзей, озаренном их счастливым браком, впервые за несколько месяцев Жени ощутила покой.
В их доме все уже устоялось, как будто они поженились годы назад. Они любили друг друга, но вместе с тем, Жени не чувствовала себя посторонней, не ощущала, что вмешивается в чужую жизнь. Чарли и Тору больше походили на любящих друзей, чем на романтических влюбленных, и у каждого из них хватало чувства и на нее.
Жени сидела на кухне с Тору, пока тот готовил завтрак и они обменивались рассказами о трудностях интернатуры. Потом, взявшись за руки, кутаясь от холода, они гуляли с Чарли по набережной. Жени заметила, что пальто, которое она подарила подруге, стало ей на размер велико.
Когда она сказала об этом, Чарли улыбнулась:
— Это все Тору. С ним я счастлива. А когда я чувствую себя лучше, то начинаю худеть.
— Лучше? — принялась поддразнивать Жени. — А я считала, у тебя все великолепно.
— Так оно и есть, — смеясь, согласилась Чарли. — Я нарисовала себя на пьедестале. Или встала на пьедестал, — от счастья у нее путались слова. — Но теперь с ним я даже себе нравлюсь. Он заставляет почувствовать себя личностью. Понимаешь, о чем я говорю?
Жени стиснула руку подруги. Она надеялась, что когда-нибудь сможет сказать такое и про себя.
Но попав в Нью-Йорк и завертевшись в круговерти, настолько устала, что не могла думать о себе самой. Днями, неделями, месяцами не хватало времени ни на какие мысли, кроме сиюминутных: где вторая колба с кровью для переливания, кто снял респиратор и какова неотложная помощь, если неудачное вливание привело к спадению стенок вены и вызвало шок?
Не было времени для раздумий и вне стен больницы. Прежде всего нужно было выспаться, а потом заняться упражнениями. Жени не упускала никакой возможности развивать физическую силу: выполняла на счет приседания, сгибала ноги в коленях. Ей очень не хватало плавания, но выкроить время на бассейн она не могла.
Когда на втором году требования немного ослабели, а Корнелл-Эпископалиан стал признанным местом ее работы, Жени взяла дополнительные занятия и ночами просиживала в больнице и клинике, чтобы заработать себе на жизнь. Нью-Йорк оказался дороже Бостона, и у Жени не было никого, с кем она могла бы разделить арендную плату.
Она работала и, когда могла, спала. Мысли, чувства и всю свою жизнь сжала в кулак. В интернатуре она вообще не встречалась с Пелом, но на следующий год видела его дважды: весной 1970 и следующий раз — осенью. Они так и не заговорили о разводе — Жени не нашла в себе мужества затронуть эту тему. Пел, насколько она знала, так ничего и не предпринял, а она не решалась его подталкивать. Никто другой Жени не интересовал, и развод представлял собой чистую формальность, но формальность, требующую времени. Как бы то ни было, они официально расстались, но Жени подозревала, что Пел подготовил бумаги лишь для того, чтобы заставить ее принимать его помощь. Когда к ней стали поступать чеки, она выбрасывала их, не подписывая. Тогда Пел открыл на ее имя счет в банке и стал регулярно вносить на него деньги. Жени делала вид, что его не существует.
В первый свой приезд Пел заехал за ней в госпиталь и они направились в зоопарк в Бронксе. Стояла весна: деревья возвращались к жизни, уже набухли почки, освобожденные от зимних одежд дети обгоняли родителей, и их бьющая через край энергия соответствовала пробуждающейся природе. У многих к запястьям были привязаны воздушные шарики. Иногда шарик вырывался из рук и устремлялся в небо, а из глаз малыша текли слезы.
Пел и Жени проходили мимо животных в открытых вольерах. Останавливались, чтобы купить бутерброды, и шли дальше. Пел капнул горчицей на рубашку, и когда Жени вытирала ему салфеткой, легонько обнял ее за талию.
Они подошли к клетке с жирафами. Высмотрев самого длинношеего, Пел указал на него:
— Это я.
— А я хотела бы быть одной из них, — проговорила Жени у вольера с медведями, вспомнив об их месяцах спячки.
— Нет-нет, — возразил Пел. — Тебе больше пойдет шкура большой кошечки: леопарда или, быть может, пантеры. Элегантные, уверенные, красивые.
Они оба нуждались в этих беззаботных часах друг с другом и не хотели говорить о серьезных вещах, понимая, что серьезный разговор неизбежно приведет к теме развода, а первым никто из них не хотел этого касаться. Жени чувствовала, что Пел по-прежнему лелеет надежду, и была благодарна ему за то, что он не облекает надежду в слова.
Коротко он рассказал, что ушел из Государственного департамента и теперь работает в Международном валютном фонде, часто ездит в командировки. Спросил, нет ли у нее известий об отце. Жени пристально посмотрела на Пела:
— А откуда они у меня могут быть?
— Извини, — проговорил он. — И мне нечего тебе сказать, — тон у него был такой, словно он провинился. Может быть, подумала Жени, поисками отца он рассчитывал привязать ее к себе?
— Но я бы услышал, — добавил Пел, — если бы произошло что-нибудь определенное.
— Ты хочешь сказать, если бы он умер?
— Да. Пусть отсутствие новостей будет хорошей новостью, Жени. И не теряй надежду. Надежда — это то, что заставляет нас двигаться вперед.
— Хорошо, — тихо ответила она и позволила ему тихонько потрепать себя по рукаву.
В ноябре, спустя неделю после того как Жени второй раз встречалась с Пелом, воскресным утром ее застала дома Чарли.
— Я беременна, — объявила та с такой яростной живостью, что Жени отвела трубку на фут от уха. — Наконец после двух лет нам это удалось!
— Замечательно!
— Я назову ее в честь тебя.
— Подожди. А ты уверена, что будет девочка?
— Я даже не уверена, — голос подруги притих, — даже не уверена, что беременна. Слишком еще рано, результаты сомнительны. Или, может быть, назвать ее Ким? — голос Чарли задрожал. — Как ты думаешь, какие шансы у ребенка?
— Великолепные, учитывая, кто его родители.
— И будет нормальным?
— С такой-то матерью, как ты, — непременно сумасшедшим, — Жени обрадовалась, услышав смешок Чарли. Она понимала, как подруга волнуется. Отсталое развитие представляло собой загадку, и никто не мог ответить на вопрос, почему такой родилась сестра Чарли.
В конце года беременность Чарли подтвердили. Рожать она должна была в середине июля.
В марте 1971 года Чарли приехала в Нью-Йорк.
— Мне дали отпуск по беременности, — объявила она.
— Что-то рановато.
— Я сказала, что мне нужна новая одежда, и мне дали день.
Чарли в первый раз приехала навестить Жени. И хотя днем Жени была на работе, вечер оставался свободным. Они забежали поужинать в «Фэрмонт» — маленький австрийский ресторанчик напротив студенческого городка Колумбийского университета на Амстердам авеню.
Чарли потеряла достаточно веса, чтобы ее новая полнота казалась привлекательной. Она как следует промыла волосы, и теперь они подходили к ее горчичного цвета блузке.
— Это была ложь, — призналась она. — Мне вовсе не нужна новая одежда. У меня дома целые коробки, помеченные «Толстая Чарли», наполненные старыми платьями, и я думаю, теперь они прекрасно подойдут.
— Я приеду в Бостон, когда придет время рожать, — пообещала Жени.
— А разве нам потребуется пластический хирург? — за легкостью тона Жени почувствовала беспокойство подруги. — Но все равно, приезжай, — ответила та себе самой. — И довольно об этой картофелине, — хлопнула она себя по животу. — Расскажи мне о себе и о своих тяжелых временах.
— Это одно и то же.
— Одна работа?
— Почти. Не то чтобы я хотела превратиться в затворницу, просто ни на что не хватает сил за стенами госпиталя.
— Мужики должны за тобой увиваться, — предположила Чарли. — Они и раньше за тобой ухаживали, а с каждым годом ты становишься все красивее и красивее.
— Просто у тебя слабеет зрение. Несколько раз я проводила вечера то с одним, то с другим, но всегда удивлялась, отчего не осталась дома и не урвала времени для сна или не почитала книгу.
— А как насчет интимной жизни, Жени? Тебе что, она вовсе не нужна?
— Я не уверена, — Жени постаралась ответить честно. — Может, у меня низкое либидо. А может быть, просто устала.
— Или «напугана»?
Жени задумалась. В последний раз это случилось почти четыре года назад с Микахом. Она отдалась так полно, что потеряла себя. Она вспомнила блестящие черные глаза — глаза змеи. Не претит ли ей снова отдаться так до конца?
— Возможно, — ответила она Чарли. Во время свиданий она больше всего боялась конца вечера — уязвленный взгляд мужчины, когда она не разрешала ему войти и даже поцеловать на прощание. — В этом году я дважды виделась с Пелом.
Чарли подалась вперед:
— И?..
— Он очаровательный человек, — ответила Жени, принимаясь за венский шницель. — Мило было снова с ним встретиться.
В ноябре они обедали в «Ла Каравелле». Метрдотель подошел к ним и поздоровался с Пелом по фамилии, и Жени почувствовала, как снова окунается в прошлое. На ней было платье, которое она не надевала годами: шелковое от Гуччи — платье из ее гардероба в бытность миссис Вандергрифф.
После обеда Пел заскочил к ней в квартирку на кофе и сказал, что сдает их дом в Джорджтауне, но продавать его не собирается — пока. На этот невысказанный вопрос Жени ничего не ответила.
Он ей также сообщил, что Мег продала Топнотч и квартиру на Парк авеню и теперь постоянно живет в небольшом доме по соседству с матерью. Восьмидесятилетняя, но все еще крепкая, Роза завела оранжерею и с увлечением принялась взращивать цветы с таким же, как у нее, именем. По поводу отца Жени Пелу удалось выяснить лишь то, что слухи вокруг его имени затихли и никакой книги воспоминаний, написанной им или кем-либо другим, так и не появилось.
Расставаясь, он мимолетно поцеловал ее в губы — застенчиво, как будто мальчик, целующийся в первый раз.
— А ты не смогла бы вернуться к нему? — спросила Чарли.
— Как знать. (Она легонько оттолкнула Пела, когда его мимолетный поцелуй сделался более настойчивым.) Тебе не нравится здешняя кухня? — Жени заметила, что Чарли оставила все наполовину недоеденным.
Подруга улыбнулась ее нежеланию говорить, но тоже переменила тему.
— Восхитительно. Но по определенным причинам я не могу сейчас есть много. Набита до отказа моей собственной картофелиной.
— Ты еще долго будешь работать?
— Я не собиралась бросать работу до самого конца.
— А после рождения ребенка? Кто будет с ним сидеть?
— Я. Мы так решили, и я уже объявила у себя на работе. Пока буду нянчиться с чьими-то, моя будет со мной. Поменяю кабинетный диван на кабинетную люльку.
— А не слишком ли она мала для службы с девяти до пяти? — Жени подали яблочный струдель со сбитыми сливками. Ей часто приходилось оставаться без нормальной еды, и когда выдавалась возможность, она набрасывалась на пищу с упоением.
Чарли наблюдала за подругой и вспоминала их прошлые трапезы, когда сама угощалась так же охотно, как и Жени.
— Не знаю, — проговорила она. — Не представляю себя матерью. Это мне кажется намного сложнее, чем быть медсестрой. Иногда мне снится, что я рожаю очаровательную маленькую девчушку размером с куклу. И она мне говорит, чтобы я ни о чем не беспокоилась, она все знает и будет обо всем мне рассказывать, — Чарли улыбнулась. — Мне нравится этот сон.
— Ты будешь превосходной матерью, — убежденно заявила Жени.
— Я решила, что единственная вещь, которую я могу отдать своему ребенку, это я сама. И я не позволю никому другому ухаживать за ним. Мы будем все больше и больше узнавать друг друга.
— Ты никогда не жила в кибуце, но твой метод воспитания детей смахивает на кошерный. Для Нью-Йорка он просто превосходен.
Обратно в квартиру Жени они шли, взявшись за руки. После долгих протестов Чарли все-таки согласилась занять кровать, а хозяйка устроилась на диване. Жени поднялась рано и оставила подругу мирно спящей. С тех пор она не видела ее, пока маленькой дочери Чарли не исполнилось почти шесть часов.
Тора Джой родилась на неделю раньше положенного — пять минут назад наступило 4 июля, и стране исполнилось 195 лет. У девочки были густые черные волосы, длинные реснички и сморщенное личико.
— Оказывается, не картошка, скорее слива. Правда ведь она красивая? — Чарли широко раскинула руки навстречу подходящей к кровати Жени и обняла подругу с такой силой, что почти повалила на себя.
— Материнская слепота, — заявил Тору, стараясь сохранить серьезное лицо. — Наш ребенок выглядит, как все новорожденные: что-то среднее между Черчиллем и ракообразным, — улыбка, которую он старательно сдерживал, все же прорвалась на лице. — Но она чудесна!
Тора Джой лежала рядом с матерью в небольшой кроватке, и Чарли не могла оторвать от нее глаз дольше чем на минуту.
— Больше шести фунтов, — объявил Тору. Он оставался с женой с начала родов и в больнице пребывал лишь в роли мужа, а не врача.
— Утирал мне лоб, — с гордостью сообщила Чарли Жени, — советовал, как дышать, а сам затаил дыхание, говорил, когда тужиться, и все время держал за руку.
Он первым заметил головку и остальное тельце, показавшееся между ног Чарли — покрытое кровью и связанное с утробой матери.
— Девочка! — закричал Тору и лишь тогда на миг отвернулся и выпустил руку матери.
Чарли глядела на мужа с любовью.
— Роды дались ему труднее, чем мне. Я просто тужилась, а он следил за всем.
— Пустяки, — Тору пожал плечами.
Жени была названа крестной матерью. Она сумела вырваться рано, хотя четвертого июля и дежурила — успела на двухчасовой рейс и еще до четырех оказалась в госпитале Вет Дэвид. Побыв там лишь три часа, она поспешила на последний рейс в Нью-Йорк, чтобы с утра уже объявиться на работе.
Когда она вошла в вестибюль своего дома, сзади кто-то появился из тени. Она почувствовала, что он следует за ней. Жени пошла быстрее, но ощущала, что преследователь приближается. Она подумала, не стоит ли повернуться и попытаться прорваться на улицу, но вспомнила, что в праздничный вечер улица совершенно безлюдна. Он был сзади, совсем уже рядом. Тело сковал страх. Ударит ножом или выстрелит? Нельзя жить одной, было ее последней мыслью перед тем, как он крепко схватил ее за плечо. Жени зажмурила глаза.
Он впился губами в ее губы. «Изнасилование», — подумала Жени. Она открыла рот, чтобы закричать, но его язык проник глубоко в горло, заглушая вопль. Он крепко держал ее за обе руки, рот делал немой, язык кругами носился по внутренней стороне губ.
Руки двигались к талии. К ужасу Жени, насильник оказался нежным. Но еще страшнее было то, что она отвечала на его ласки.
Она открыла глаза, и он ослабил напор.
— Дэнни!
— Привет, Россия!
Она обняла его за шею. Закрыв глаза на этот раз, провалилась в нежное искрящееся пространство. Они пошли назад к лифту.
Поднимаясь, не прикасались друг другу, но пространство между ними становилось осязаемым и заряженным. На шестом этаже они вышли, и Жени провела его к своей двери. Пальцы не слушались. Она неловко копалась с ключами, уронила их на пол. Дэнни поднял, подал ей. Она взяла со смущенной улыбкой и наконец сумела открыть дверь.
— Ты смущаешься, — тихо проговорил Дэнни. — Это тебе идет, красавица.
Жени прошла вперед, включила свет и кондиционер.
— Ужасно жарко.
— В самом деле? Погода просто пугающая.
— Хочешь выпить? — предложила она, застывая на миг.
— Превосходная идея.
Он остался у бара, а Жени принесла из холодильника лимонад.
— Разбавить? — она разлила по рюмкам водку. — Откуда ты взялся?
— Из Калифорнии. Вылетел сразу, как только ты меня позвала.
— Я тебя позвала?
Дэнни кивнул.
— Ясно, как будто по телефону. Я прогуливался вдоль берега в Малибу в сопровождении лишь пеликана и веретенника. Ближайшие люди были в милях от меня. Внезапно твой голос окликнул меня с волн. Мы все трое его отчетливо слышали. Мои пернатые друзья сразу же рванулись к тебе, и я тоже вылетел вслед за ними и вскоре оказался в тени твоего подъезда.
У Жени вырвался смешок:
— А я думала, что ты собираешься напасть на меня, когда вот так возник из темноты.
— И я тебя не разочаровал? — Дэнни подошел к ней сзади, в то время как Жени наклонилась над столиком, чтобы расставить стаканы, пропустил пальцы под мышками, погладил шею. — Я по тебе скучал.
Она выпрямилась, повернулась, коснулась рукой его щеки, потом губ, кончики пальцев наткнулись на его язык. Заглянула в глаза и задрожала, схватила его голову и крепко прижалась губами к его губам.
— Дэнни, — шептала она в его открытый рот, вновь и вновь повторяя имя.
Он кивнул. Их руки встретились, и они направились в спальню. Там встали над кроватью, так сильно прижавшись друг к другу, что их тела пронзила общая дрожь. Слова сами собой возникали в ее голове: «Это было так давно».
Но ее руки помнили, и пальцы помнили; губы тоже помнили. Она расстегнула его рубашку и ощутила соль на его коже. Он пах океаном, и она почувствовала, как в ней самой нарастает прилив.
Сбросив рубашку, расстегнув ремень, он стоптал с себя брюки. Они стояли и, обнявшись, раскачивались. Он опустил молнию на ее юбке, и та упала к лодыжкам. Переступив через юбку, она сбросила блузку, сняла бюстгальтер и снова повернулась к нему:
— Дэнни.
Он снял ее трусики, потом свои, нежно коснулся бедер. Дыхание вырывалось толчками, тело пронзали разряды. Они пошатнулись, но он ее поддержал, медленно, будто в танце, повел к стене. Она прижалась, наклонилась, коснулась пальцем его плоти. Он застонал, отбросил ее руку, прижался к ней всем телом, нашел ладонью ягодицы и вошел в теплый поднимающийся прилив ее любви.
— Дэнни! — имя слетело с губ, и понесло на гребень волны, где обоих разбило в мелкие брызги.
Потом они прижимались друг к другу — выжившие после кораблекрушения, и он обвел пальцем границу ее влажных волос.
Она взяла его за руку и повела к кровати. Скинула одеяло. Их тела остывали под бризом из кондиционера, работавшего в соседней комнате. Потом он поднялся на локтях, заглянул ей в лицо, губами лаская все ее тело.
Язык касался кожи, передавая легкие и возбуждающие послания: по груди, вокруг сосков, невесомо, быстро, вниз к животу, потом проник меж потаенных губ, кружил у теплой пуговки снова и снова. Волна прилива вновь поднялась в ней. Она закричала, и тело внезапно выгнулось, рванулось к нему. И он повел ее к общей вершине.
Утром будильник прозвонил в шесть. Жени автоматически выключила его и уже почти спустила ноги с кровати и только тут вспомнила. Повернулась. Ей улыбался Дэнни.
— Выходи за меня замуж.
— Не могу, — она тоже улыбнулась ему.
— Тогда возьми отгул.
Она рассмеялась и решила попробовать. Она позвонит и скажет, что заболела. Раньше она никогда этого не делала. Ей требовалась работа, и она была благодарна за то, что сумела ее подыскать на лето в хирургическом отделении своего же госпиталя.
Поговорив по телефону, Жени вернулась в кровать.
— Хорошо, — одобрил ее Дэнни. — Первый шаг сделан. Самый трудный. А теперь выходи за меня замуж. Я знаю, ты уже много лет назад рассталась со своим Горе-Вандером,хотя и узнал об этом только месяц назад — от старых знакомых из Кембриджа.
Она не смогла ему сказать, что до сих пор еще официально замужем — простая формальность, которую легко ликвидировать, — не хотела, чтобы Пел и теперь стоял между ними и уязвлял его гордость.
— К тому времени, когда я закончу здесь практику, и еще через два года специализации я превращусь в старуху.
Он поцеловал ее в мочку уха:
— Разве ты забыла? Мы ведь одного возраста. К тому же одного веса и прекрасно друг другу подходим: и в вертикальном и в горизонтальном положении. Будешь стареть со мной.
Жени посмотрела на него: черные кудри, полные смеха глаза, чувственный рот. Если бы у них был ребенок, он был бы на самом деле красив.
— Дай-ка я собью тебя с ног.
— Опоздал. Я уже лежу, — нежно рассмеялась Жени. А сама подумала: «А почему бы и не попробовать? И работать и любить. Так, как живет Тору. После пациентов, обходов, процедур, почему бы не становиться женщиной в руках Дэнни? Почему не чувствовать любовь, которая приносит смех?»
Через три часа, когда она отправилась готовить завтрак, Дэнни попросил разрешения воспользоваться телефоном. Он не появлялся из спальни больше получаса, и Жени гадала, не звонит ли уж он в Калифорнию. Дэнни рассказывал, что писал сценарий для телевидения, и один из персонажей мог умереть в последующей серии. Актер требовал повышения гонорара и угрожал, что уйдет, если не добьется своего. На студии ответили, что просто вымарают его роль, угробив, скажем, его персонаж в автомобильной аварии. И теперь Дэнни, как он выразился, был «парализован» с пальцами, повисшими над клавишами пишущей машинки, не зная, давить ли их в направлении жизни или смерти героя.
Но потом Жени вспомнила, что в Калифорнию звонить было еще слишком рано. Без четверти десять, все еще обнаженный, Дэнни вывалился из ванной.
— Превосходный день, — объявил он, целуя Жени. — Пойдем в парк. Проведем наши золотые часы на солнце.
Одеваясь, Жени испытывала уколы совести из-за того, что обманула в госпитале. Так поступить было безответственно. Но счастливые минуты так редко выдавались ей, утешала она себя, что следовало ими воспользоваться. Стали ли они бы длиться, если бы она жила с Дэнни?
— У нас только сегодняшний день. Завтра мне надо возвращаться на студию, — полотенце все еще было намотано вокруг его бедер.
Счастье внезапно стало меркнуть. Еще несколько часов назад он предлагал замужество, а через несколько часов снова уедет.
Дэнни поцеловал ее в плечо и смотрел, как она причесывается перед зеркалом.
— Вот как ты ловишь в свои сети мужчин. В свою золотую паутину.
Жени улыбнулась его отражению. Не надо думать о вечности. Сейчас он рядом, и каждый час с ним — настоящее сокровище, навсегда остающееся в памяти. Она громко его расцеловала.
Они вошли в парк ближе к одиннадцати и направились к Шип Медоу. Центральный парк в ярких летних одеждах искрился всеми цветами: многочисленными оттенками зеленого в кронах деревьев и траве, раскрывшимися бутонами и пестрыми зонтиками, затенявшими лотки торговцев. Дэнни рассказывал ей о семье. Хаво учился и по-прежнему бегал в марафонах. Его речь практически нормализовалась, и женщины находят его неотразимым.
— Родители в порядке и до смешного влюблены друг в друга. Вечерами они сидят и планируют путешествия в самые невероятные места, куда необходимо делать прививки. Часто говорят о тебе. Думаю, они не были бы против советской оккупации, если бы она означала, что ты станешь их невесткой.
— Передавай им привет.
— А почему не тебя саму?
Желтый комочек нырнул перед ними и скрылся в кустах.
— Канадский соловей, — узнал Дэнни птицу. — Самец; видишь черную оторочку вокруг шеи?
Он называл и других птиц, когда они мелькали перед глазами. Жени и не знала его в роли естествоиспытателя. В последнее лето в России, по пути с дачи, отец рассказывал ей о птицах. Теперь в Центральном парке — другие птицы и другой учитель.
— Их имена замечательны. И все они певчие. Слога имен мелодичные, чтобы удержать жемчужины пространства. Промелькнули — и их нет.
Волосы Дэнни ерошил легкий ветерок, играя с ними так же нежно, как несколько часов назад Жени. Рубашка нараспашку почти до пояса. Вечером Жени сама расстегнула эту же рубашку.
Он сжал ее руку:
— Мы превосходная пара, дорогая.
Помня о прошедшей ночи, они в совершенстве понимали друг друга. «Но где же мы будем жить?» — раздумывала Жени. Где свить гнездо? Она вспомнила дом в Джорджтауне. Пел стоял на земле, а Дэнни витает в облаках. Вот если бы как-нибудь сложить их вместе…
Дэнни спросил, чему она улыбается.
— Так. Просто счастлива, — нельзя же было говорить, что она воображает, как бы скрестить жирафа с птицей.
У небольшой рощицы Дэнни остановился и потянул ее вглубь деревьев.
— Давай передохнем, — он погладил ее по лицу. Они поцеловались и легли на спины, глядя в бездонное голубое небо, испещренное крошечными островками пушистых облаков.
Внезапно он выпрямился и указал рукой куда-то вверх.
— Посмотри туда!
Жени проследила взглядом за его пальцем, ожидая увидеть птицу, но он показывал на маленький самолетик, вырисовывающийся на фоне голубизны.
— Смотри, смотри! — повторил Дэнни.
Клубы белого дыма за самолетом стали формироваться в буквы: Ж…Е… Жени широко раскрыла глаза, а буквы тем временем принялись складываться в слова: Ж-Е-Н-И Я Т-Е-Б-Я Л-Ю-Б-Л-Ю В-Ы-Х-О-Д-И 3-А М-Е-Н-Я 3-А-М-У-Ж.
Пока формировались новые буквы, предыдущие тускнели, ширились и растворялись в воздухе. Слова взмывали вверх, как молочные пряди. Жени не сводила с них глаз, пока не исчез последний их след.
Дэнни держал ее за руку и смотрел в лицо. Жени опустила глаза к земле, трава померкла. Бесполезно мечтать о долгих отношениях: сам Дэнни, как и его предложение, выведенное на небе, уплыл в облака.
Он долго не двигаясь смотрел на нее.
— И теперь нет? — он выпустил ее руку.
— Не выйдет, — она медленно покачала головой.
— Но почему? Ты ведь меня любишь. А я люблю тебя.
— Ты просто сказка, Дэнни.
Его веки от волнения трепетали. Он предлагал ей сердце и впридачу небеса.
— Мечтатель.
— Ты тоже можешь мечтать. Пойдем со мной в мою мечту.
— Нет, Дэнни, — нежно ответила Жени. — У меня своя мечта и она очень основательна. На ней я построила всю свою жизнь. Десять лет она была со мной, значила для меня все, — больше чем замужество, подумала она про себя, больше, чем счастье. — И теперь я не могу рисковать.
— Не понимаю, как замужество может помешать твоей мечте?
— Ты художник. Гений, если твоя мать права. А я думаю, что она во многом права, — Жени не выдержала наигранную легкость. — Тебя не привяжешь ни к работе, ни к месту. Ты, как птица, мелькнешь — и уже где-то далеко. С ветки на ветку, с дерева на дерево, — а может быть, как в прошлом, от женщины к женщине? — Тебе нужна свобода, а мне мое призвание, — докончила она вслух.
— Через годы, когда ты закончишь свою подготовку…
— Это будет не скоро. И тогда мне понадобится обеспеченность, чтобы обзавестись практикой.
— Я всегда думал, что из-за этого ты и вышла замуж за Вандергриффа. Его деньги и связи. Но когда я услышал, что ты развелась…
— Это неправда, — она разглядывала травинки.
— Что неправда? Жени! — он тряс ее за плечи. — Жени! Смотри на меня! Что неправда?
— Я все еще замужем за Пелом.
Он отпустил ее, как будто обжег ладони:
— Что же ты за женщина? Несколько часов назад клялась, что любишь меня.
— Люблю. И не живу с Пелом больше четырех лет. Но формально я его жена. Мы даже не говорили о разводе.
— Понимаю, — он уже стоял на ногах. — Вот это лучший из всех возможных миров. Хочешь ради шутки заняться со мной любовью? Пожалуйста, если есть настроение. И семейное состояние при тебе. Поздравляю. Ты держала меня за дурака. Но не беспокойтесь, миссис Вандергрифф, я больше не потревожу вас своим вниманием, — он быстро вышел из рощицы и побежал по полю.
Жени окликнула его, а потом вскочила на ноги и быстро, как только могла, побежала вслед, зовя по имени.
Если требовалось, она могла бегать быстрее, чем он, и вскоре настигла Дэнни. Но когда она поравнялась с ним, он не замедлил бега, даже не оглянулся, и она побежала рядом.
— Дэнни, пожалуйста. Дэнни, послушай, я тебя люблю. Я люблю тебя, Дэнни.
Внезапно он остановился, притянул Жени к себе и зло, со страстью ее поцеловал. Она с такой же страстностью ответила на поцелуй.
Когда они наконец оторвались друг от друга, Дэнни спросил:
— Что же мне делать, Жени?
— Не знаю, — и в ее голосе, как и в его, прозвучала мука. Позволить Дэнни уйти из ее жизни — означало еще большее одиночество, которое она не смогла бы вынести. Но что еще было делать? Лететь с ним в Калифорнию? Нельзя. Она привязана к госпиталю. Подать уведомление об уходе, ждать недели, потом вылететь вслед за ним? — Не знаю, Дэнни. Поцелуй меня.
Он грубо ее поцеловал и отпихнул от себя, она вгляделась в его лицо.
— Нет, — заявил он с внезапной решимостью. — Мы не можем весь остаток жизни быть врозь. Ты должна получить развод.
— Но это не проблема. Пел не будет возражать. Дело в тебе и во мне…
— Развод! — настаивал он и вновь привлек для поцелуя. Жени не возражала, чтобы, выйдя из парка, они вернулись в ее спальню.
32
Когда Торе Джой исполнился месяц, Жени послала поздравительную открытку. Все это время она не получала вестей от Дэнни.
Минутная мечта, осязаемая не более, чем облака. Жени была глубоко уязвлена, хотя и убеждала себя, что все к лучшему. Что бы они не решили, в один прекрасный миг Дэнни все равно бы улизнул. Она ведь с самого начала знала, что ничего не получится. Еще восемь лет назад, задолго до свадьбы, в День Благодарения 1963 года, когда они в первый раз любили друг друга.
Она понимала это еще тогда, и с тех пор ничего не переменилось, кроме того, что утекли годы. Но с годами она стала более уязвимой. В двадцать семь более открытой для сомнений, чем в девятнадцать. «Неужели это зрелость, — грустно размышляла она, — различать оттенки вещей, а не видеть только белое и черное?»
По крайней мере она не обидит Пела. Просить его о разводе и сказать, что любит другого, значит серьезно ранить его. И вовсе необязательно: «другой» был словно перелетная пташка, летний гость. Причинил ей боль, но она не передаст эту боль Пелу, мужчине, который ее все еще любит.
В сентябре Жени получила фотографию двухмесячной Торы Джой. И так же ни слова от Дэнни.
В ноябре, когда птицы устремились на юг и в Центральном парке прекратилось цветение, Жени перестала ждать.
Она ехала с Пелом по Парк драйв в его машине с шофером. Пел заехал за ней в госпиталь после работы и сказал, что нужно поговорить. Наступал вечер, солнце уже село, и голый парк был сплошной тенью. Жени чувствовала, как напряжен Пел. Он сидел очень прямо на заднем сиденье лимузина и каждый раз, когда они проезжали под фонарем, быстро моргал.
Говорил он безликим голосом, почти помертвевшим от усилия сдержать чувства.
— Я снова переменил работу. То есть, я все еще в Международном валютном фонде. Но теперь меня направляют за границу. В чем заключается работа, станет яснее там, но в основном я должен буду вести переговоры с экономистами различных стран с целью стабилизировать национальные валюты. Начну с Вены, хотя через несколько месяцев могу оказаться в Югославии. Срок командировки не определен.
Жени ждала. Между ними на заднем сиденье было не меньше фута. Его официальный тон сковывал их обоих, но Жени поняла, что этого он и добивался.
— Я выставляю дом на продажу, Жени.
Машина затормозила перед красным светом, и Жени услышала собственные слова, произнесенные звонче обычного:
— Ты просишь меня о разводе?
Пока не сменился сигнал светофора, он не отвечал, потом повернулся, быстро моргнул и попытался улыбнуться, положил руку на кожу сиденья между ними. Жени накрыла ее своей ладонью.
— Я надеялся… — теперь его голос звучал естественно. — Все это время — четыре года. Нет, больше, Жени, — четыре с половиной…
— Я знаю, — прошептала она.
— Надежда — это тюрьма.
Странная улыбка, подумала она. Ее муж похож на отца.
— Тюрьма, — эхом отозвалась она. Почему же она ничего не предприняла, чтобы его выпустить.
— Это не твоя вина, Жени. Я сам был своим тюремщиком. Но теперь я уезжаю из страны и расставание должно быть незапятнанным, — он неодобрительно рассмеялся непроизвольной шутке. — Ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Да.
В конце парка он спросил ее, не хочет ли она поужинать. Жени не ощущала голода и сказала, что хотела бы побыть одна.
Пел открыл было рот, чтобы попытаться ее переубедить, но лишь печально кивнул и, наклонившись вперед, распорядился шоферу поворачивать. У дверей дома Пел поцеловал ее так же мимолетно, как в тот вечер, когда они ходили в «Ла Каравеллу». Но теперь касание губ не напоминало первый поцелуй. В нем не было сладости обещания, только горечь прощания с любовью.
Они встретились снова в начале 1972 года, чтобы подписать бумаги, прежде чем Пел уедет в Европу. После этого оба оказались свободными, но Жени восприняла свободу, как потерю. Она говорила о своем браке, как о формальности, но сама не ожидала, что старые чувства вспыхнут, когда эта формальность у нее будет отнята. Многие годы Пел не был ей мужем, но оставался другом, словно брат, связывал с единственной семьей, которая у нее была в Америке. Лекс и Филлип умерли. Мег не хотела ее видеть после письма дочери. А теперь от нее уходил и Пел. Он оставался для нее тихой гаванью, в которой можно укрыться во время шторма. Но он уезжал из Америки, теперь уже не муж, и Жени снова должна была выплывать сама.
Год 1972/73 стал пятым годом Жени в интернатуре. Из общего отделения она перешла в хирургию и выбрала специальностью ортопедию, потому что чувствовала, что глубокое знание костей необходимо для реконструктивных и пластических операций. Из всех отраслей хирургии, ортопедия требовала больше всего физической силы, и Жени была единственной женщиной на этаже.
В ту неделю, когда она приступила к работе, ее шеф доктор Крис Соренссен уехал в отпуск. Его заменил хирург, чье самомнение и связи привели его в штат госпиталя. Вскоре Жени обнаружила, что доктор Радьярд Блеквелл ставит себя почти что превыше всего. Выходец из Англии, он смотрел на американцев сверху вниз. А как зрелый самец, звал женщин любого возраста «девушками» и рассматривал их естественными жертвами для грабительских развлечений.
В кабинете доктор Блеквелл планировал операции на следующий день. На верхних ребрах — он пальцем показал предполагаемый разрез, проведя линию по груди Жени от ключицы через левую грудь и сосок. Застигнутая врасплох, она сначала никак не отреагировала, но в следующее мгновение подпрыгнула со стула и попятилась назад.
— Я вам не анатомическое пособие, — закричала она на него.
Врач лениво улыбнулся. Его блеклые тонкие волосы лежали наискось через лоб, ниже под белесыми ресницами серели глаза.
— Я — хирург, — настаивала Жени.
Он с удивлением оглядел ее, и Жени поспешила вон из кабинета. В своем возмущении она собиралась немедленно сообщить о происшедшем, но через несколько шагов поняла, что это бесполезно. Жаловаться было некому, кроме как главному врачу хирургического отделения. И к тому же они с Блеквеллом были наедине. Что значили ее слова по сравнению с утверждениями законного члена персонала госпиталя.
На следующий день, когда они мыли руки, Блеквелл назвал ее по имени. Она ответила ему «Радьярд». Врач нахмурился. Она чувствовала его враждебность и гадала, сколько сможет с ним проработать. Во время всех процедур он вел себя с ней, как с сестрой, а не как с ассистирующим хирургом. А когда операция подошла к концу, попросил принести ему кофе. Жени отказалась и поняла, что приобрела врага.
В следующий понедельник в отделение возвратился доктор Соренссен. При первой же встрече Жени почувствовала облегчение — он разительно отличался от Блеквелла, человек, которому можно было доверять. Несмотря на нордическое имя, Крис Соренссен оказался черноволос, с темными глазами и овалом лица походил на славянина. Когда Жени узнала, что его мать финка, и рассказала о Круккаласах, особенно о Минне, та напомнила ему его бабушку, которая и в восемьдесят семь лет все еще ежедневно работала за столом, иллюстрируя детские книги.
Они сразу же стали называть друг друга по именам. По диплому, вывешенному в раме на стене, Жени подсчитала, что он старше ее лет на семь или восемь, хотя по виду ему можно было дать от двадцати пяти до сорока пяти. Крис откровенно обожал женщин: бабушку, мать — садового архитектора, прабабушку, которая дожила до девяноста шести, курила сигары, пила шнапс и до девяноста лет ездила на велосипеде.
— Когда я был подростком, — вспоминал Крис, стоя с Жени у сестринской кладовой с сахарно-белым от пончика ртом, — прабабушка мне говорила: «Когда мне исполнилось семьдесят, я могла уже делать все, что хочу. Молодые должны остерегаться, если планируют что-нибудь опасное. В конце концов это может их убить. Но если ты прожил семь десятков лет, это уже не имеет значения. Несколькими годами больше, несколькими меньше — какая разница? Самый подходящий возраст для приключений».
Его уважение к женщинам было так велико и он так разительно отличался от Блеквелла, что Жени снова почувствовала себя среди своих, проработав неделю с человеком совсем иного сорта.
Она чувствовала враждебность Блеквелла, где бы ни встретилась с ним. Похоже, ее присутствие он воспринимал как личное оскорбление. Жени умудрялась поддерживать с ним холодно-вежливый тон. Она понимала, что он считает ее уродкой, но не собиралась извиняться за то, что родилась женщиной.
Женщины в ортопедии почти не работали. Произвести тракцию, вправить сустав, наложить тяжелую металлическую шину на раздробленное бедро — все это требовало физической силы. Послеоперационные исследования больше походили на поднятие тяжестей: ведь кости заживают гораздо дольше, чем все остальное, и пациент еще не способен двигаться.
Несколько раз в неделю Жени плавала в бассейне, бегала по утрам, занималась дома с гантелями. Высокая зарплата, которую ей положили как члену штата хирургического отделения, позволяла оставить другие подработки. Стиль ее жизни был простым, ей не требовалось никакой роскоши, а для путешествий, если бы и было желание, не хватало времени. Освободившиеся часы она использовала для физических занятий, чтобы поддерживать тело в норме.
Крис, восхищавшийся в женщинах силой духа, был поражен, заметив недюжинную физическую силу Жени. Но только на короткое время, а потом принял как должное. Но на этаже Жени прозвали Чудо-Женщиной.
Через пять месяцев после начала работы в ортопедическом отделении Жени задала себе вопрос: не ослепляет ли ее восхищение других, не заставляет ли относиться к себе легкомысленно.
В середине февраля ей удалось получить ответ. В больницу привезли юношу в бессознательном состоянии с профузным кровотечением. Его мотоцикл налетел на грузовик и был совершенно разбит.
В считанные минуты Жени оттерла руки и подошла к операционному столу, когда в палату, утыканного иглами для постоянного переливания крови, вкатили пациента. Жени начала исследование с головы: перелом основания черепа, глубокая рана от левого уха до правой ключицы. Она начала извлечение осколков костей. В это время, отвлекая ее, что-то воскликнула сестра, призывая обратить внимание на обильное кровотечение из разорванного заднего прохода.
Повернувшись на крик, Жени невольно сильнее, чем нужно, нажала на инструмент, и скальпель проник в ткань головного мозга. Струйка крови брызнула у юноши изо рта. Через несколько секунд сердце остановилось. Никаких надежд на оживление не оставалось.
Собравшиеся врачи успокаивали Жени. Вскрытие показало, что повреждения, полученные молодым человеком, были смертельны, и никакое хирургическое вмешательство не в состоянии было его спасти.
Не согласился лишь один доктор Блеквелл. То, что травма оказалась смертельной, не извиняет ошибки хирурга, утверждал он. И с такой силой убеждал всех, что Жени представляет собой угрозу в отделении, что врачи были вынуждены вынести ей легкое порицание.
Крис был возмущен и собирался заявить протест, но Жени удалось его отговорить. Выговор был справедлив. В Иерусалиме Яков умер на операционном столе без видимых причин — здесь из-за оплошности хирурга. Оплошности слишком дорого стоят. Жени дала себе слово больше заниматься и в будущем стараться всеми силами избегать ошибок.
Она урывала время ото сна, еды, занятий спортом, и, засев в библиотеке госпиталя, стала вновь просматривать учебники по хирургии. Хотя ортопедия и покоряла ее, мечтала она по-прежнему о пластической хирургии.
Жени читала, делала выписки, заносила в тетрадку пришедшие ей мысли. Вернулась к своим записям, которые сделала еще в ожоговом отделении, и наткнулась на слова Винстона, подчеркнутые синим: «Трудно что-либо разглядеть из-под маски».
Сначала в голову пришло название, потом возникла идея написать работу о влиянии реконструктивной хирургии на психику сильно искалеченных людей. Она начала работать в апреле и послала выдержку в госпиталь Спенсера Харкнесса. Писала она до июня, часто приходила в библиотеку проверить цитаты и ссылки.
Через два дня после завершения из госпиталя Спенсера Харкнесса пришел ответ — приглашение прислать работу «Личина, скрывающаяся за лицом» на конференцию «Последствия хирургического вмешательства», которая состоится в октябре 1973 года и рассмотрит терапевтические, психологические и социальные аспекты проблемы.
Прибыв в Балтимор к началу конференции, Жени разнервничалась, почувствовав себя необразованной среди известных ученых, многих из которых она знала по статьям и книгам. То и дело мелькали знакомые лица — она видела их на фотографиях или во время лекций. Ее волновало, что пластические хирурги не придут слушать ее разглагольствования, но вместе с тем и беспокоило, что они явятся и сочтут ее, еще не приступившую даже к специализации, самонадеянной и невежественной.
Но пластические хирурги, как и все остальные, пришли на ее доклад, и Жени, как только начала раскрывать тему, почувствовала в аудитории интерес. Нервозность исчезла. Она говорила убежденно, и в ее убеждении сквозило знание. После выступления началась дискуссия. Вопросов оказалось так много, что Жени не уложилась в отведенное время. К ней подходили в перерыве, поздравляли, просили оттиск доклада.
К концу дня издатели двух известных журналов предложили ей опубликовать статью, а составитель сборника — включить в книгу.
В Нью-Йорке Крис, поздравляя, обнял Жени.
— Я уже слышал. Твоя работа почти классическая. Ты прославишься как пластический хирург задолго до того, как получишь специальность.
— Конечно, — рассмеялась Жени, тепло отзываясь на его объятия. Толпы народа уже бьются в очереди, чтобы я искромсала их носы и сделала подтяжку задниц, только потому, что я написала статью об увечьях лица.
— Вот увидишь, — улыбнулся врач.
В том году она напечатала еще две статьи. Обе в «Журнале пластической и реконструктивной хирургии», получила приглашения на пять конференций и посетила три. 10 мая, на свое тридцатилетие, она прочитала самую успешную из своих лекций и вскоре завершила хирургическую практику, хотя еще стояла только на пороге специализации. Но в то же время ее знали как ученого, внесшего в отрасль большой вклад.
В последнюю неделю работы с Крисом Жени поняла, как ей будет его не хватать. Хотя они и не встречались вне госпиталя, их отношения выходили за рамки просто рабочих. Они стали друзьями, интересующимися друг другом и привлекательными друг для друга.
Но вскоре после того, как Жени стала членом персонала, Крис заявил ей, что никогда не смешивает личное и служебное.
— Никогда не назначаю свиданий тем, с кем работаю: ни пациенткам, ни сестрам, ни коллегам.
— Хорошее правило, — похвалила Жени, понимая, что они оба хотели бы, чтобы его не существовало.
В ее последний день в госпитале Крис сказал:
— Я горжусь, что мне пришлось работать с тобой. Твоя интуиция так же глубока, как и твои надрезы.
Она улыбнулась похвале. Они стояли у сестринского пункта, и, к восхищению сестер, Крис крепко поцеловал ее в губы.
Тем же вечером он позвонил и пригласил Жени поужинать с ним на следующий день.
Она согласилась. Они сидели в уютном французском ресторанчике при свечах, а после еды пошли танцевать и тут обнаружили, что оба любят танцы и как партнеры идеально подходят друг другу.
С тех пор они встречались каждую неделю и танцевали повсюду в городе: в Роузленде, у Джимми Райана, в отелях, на дискотеках, которые, казалось, открывались и закрывались каждый месяц. Но больше всего им нравились классические танцы — вальс, фокстрот, танго.
Куда бы они ни шли, Жени всегда платила за себя сама. Сначала Крис протестовал, но потом принял ее условия; Жени не хотела быть обязанной, не желала чувствовать, что хоть в какой-то степени принадлежит мужчине. С Крисом она развлекалась. Он был занятным и привлекательным человеком. Иногда она начинала думать о нем, представляла себя с ним вместе, но предпочитала продвигаться вперед не спеша.
Она видела: Крис ждет от нее первого шага. Он не делал никаких предложений, не стремился к физической близости, но во время танцев их тела двигались, как одно. И когда он помогал надеть ей пальто или касался руки, Жени чувствовала, что она ему нравится.
Он держал себя, ждал, а Жени разрывалась. После вечера, завершающегося поспешным поцелуем, она хотела его вернуть, хотела, чтобы он остался с ней. А когда за ним закрывалась дверь, еще сильнее переживала одиночество.
Но она не хотела поощрять Криса, была еще не готова. Одного неудачного брака оказалось достаточно. Не следовало делать новых ошибок.
Проходя по Пятой авеню в неброском темно-бордовом платье, которое так шло к ее золотистым волосам, Жени в тридцать лет привлекала окружающих своей красотой сильнее, чем раньше. Люди останавливались и смотрели ей вслед, полагая, что узнали известную актрису или фотомодель с обложек журналов. Она поражала естественной, дикой красотой, как тигр из драгоценных камней в витрине у Тиффани, мимо которой она, не заглядывая, проходила на углу Пятьдесят седьмой стрит.
Она не замечала и эффекта, который производила вокруг. За годы Жени привыкла к своей наружности и не обращала внимания на реакцию людей. Профессиональный недостаток, но средство, при помощи которого можно проникнуть в любой круг людей, красота была чем-то, с чем Жени привыкла уживаться, как с частью самой себя, не представляющей ценности.
Ее походка была быстрее, чем у большинства людей, и отличалась налетом спортивности. Решительным шагом она переступила порог кабинета доктора Ортона на пять минут раньше, чем было назначено.
Джилл больше не служила сестрой, но приемная выглядела все так же, как и тогда, когда одиннадцать лет назад она работала здесь еще студенткой. Знакомая обстановка потрясла ее, как будто она распечатала письмо, написанное давно умершим человеком. Целая эпоха позади: тогда она еще жила у Бернарда в качестве его подопечной. Соня умирала. И в конце лета ее ждал Скандалв библиотеке.
«Новая» сестра — она работала с Ортоном уже шесть лет — провела Жени в его кабинет, все так же уставленный книгами. Огромный, долговязый и, казалось, постаревший на четверть века, Ортон поднялся из-за стола. Он всегда выглядел старше своего возраста. А сейчас, подсчитала Жени, ему должно быть что-то около шестидесяти пяти. Но в отставку он собирался не более, чем в первый день своей практики.
— Хорошо, что зашли, — произнес он в своей отрывистой манере. — Выглядите исключительно.
В ответ на его приглашение она села напротив — на стул и улыбнулась, но его серьезное выражение лица не изменилось.
— И вы тоже, — ответила она, хотя эта фраза никак не характеризовала доктора Ортона. Лицо глубоко прорезано морщинами, на голове по-прежнему грива седых волос. «Как само время,как бог», — подумала Жени.
— Ваши статьи просто превосходны.
Его короткая и грубоватая похвала доставила Жени удовольствие, — как будто школьница, заработавшая высший балл.
— Превосходны, — повторил врач, постукивая пальцами по крышке стола. — И имеют отношение к моей теперешней работе с ветеранами.
— Я знаю, — в их области революционные методы доктора Ортона были широко известны — черепные операции на волосок от мозга и зрительных нервов. — Феноменально.
И снова никакой улыбки.
— Чем ближе место, откуда изымается донорский материал, тем лучше, — повторил он истину, которой учил студентов-первокурсников. Сам он брал материал из черепа. — Лоскуты, завернутые изнутри, не оставляют шрамов.
При работе с жертвами Хиросимы шрамы беспокоили его больше всего.
— А раненые из Вьетнама отличаются от получивших ранение во время второй мировой войны? — спросила Жени.
— Если пожелаете, сможете ответить на этот вопрос сами. Тем летом я обнаружил в вас дар, и вы не обманули обещаний.
— Спасибо, — Жени не поняла, почему врач уклонился от ответа на вопрос.
— Мне прислали вашу характеристику. Полагаю, доктор Соренссен. Думаю, вы не возражаете…
— Нет, но…
— Я хочу, чтобы вы работали со мной в Маунт Зион и в моей новой клинике.
У Жени перехватило дыхание. Легкий подъем уголков губ Ортона означал, что он улыбается. Она тихонько выдохнула. Неужели ей посчастливится завершить специализацию с Ним Самим,как о нем говорила Джилл.
Улыбка прошествовала вверх по лицу Ортона и чуть-чуть приподняла его брови. Жени подскочила к врачу, протянула руку, но вместо того, чтобы обменяться рукопожатием, в последний миг наклонилась и поцеловала в щеку.
— Хорошо, — грубовато проговорил врач. Жени отступила и в смущении вышла из кабинета.
— Замечательно, — пророкотал Крис, когда Жени заскочила к нему с новостями. — Поздравляю! Хотя, конечно, поздравлять надо его.
— Но с ним не пойдешь танцевать. Давай в выходные отметим это в Роузленде?
— На танцевальных соревнованиях?
— А почему бы и нет? — Жени подумала о пузырьках шампанского, лопающихся у края бокала, о мыльных пузырях, плавающих в воздухе и вбирающих в себя все цвета радуги. Тридцать ей будет еще не скоро. Она чувствовала себя на шестнадцать.
— Там нужен пиджак и галстук?
Жени улыбнулась вопросу: типично его. Крис обожал любой повод, который давал ему возможность надеть официальный костюм, и выглядел необыкновенно драматично в смокинге, рубашке со складками и бабочке.
— Конечно.
— Тогда я принимаю приглашение, — учтиво произнес врач. И Жени подумала, насколько свободны их отношения: не нужно играть, не нужно оглядываться на социальные условности. — А ты надень белое шелковое платье с соблазнительными оборками, — предложил он. — Я достану тебе в волосы розу. Какую хочешь, доктор? Кроваво-красную или розовую, как плазма?
— Костно-золотистую.
— Костно-какую? — Крис рассмеялся. — Ах, да. Ты слишком умна для меня, Жени.
— Просто счастлива, — она рассмеялась собственной шутке.
Роза, которую Крис принес в субботу, оказалась карминной, почти пурпурной. Он тщательно заколол розу в прическу Жени, на шею выбилось несколько прядей.
— Очень изысканно, — ободрил он и поцеловал сверху вниз: сначала в лоб, потом в кончик носа и в верхнюю губу. — Тебе нужно пойти на телепередачу под названием «Чем я занимаюсь?» Никто не догадается.
А что скажут про меня? — Крис тоже не выглядел, как хирург. «Может быть, актер, — подумала Жени, — с притягательностью Брандо». Романтический преступник. Завоеватель, как Худини.
Крис отступил назад:
— Я бы сказал, биржевой маклер. Да, что-то вроде этого.
Но таксист, повезший их в Роузленд, судил по-своему:
— Вы, ребята, не из шоу-бизнеса?
— Да, — ответил Крис. — Жречествуем над иссечением жировой клетчатки.
— То-то, ребята, мне показалось, что я видел вас по телевизору.
— Наверное, видели, — серьезно ответил Крис и, выходя из машины, отвалил таксисту огромные чаевые.
Они танцевали часами, переходя из тура в тур, и к часу ночи остались среди последних десяти пар. Через полчаса отсеялись еще пять пар, а остальных попросили показать румбу, ча-ча-ча, вальс и протанцевать девяносто секунд импровизации.
Жени и Крис сделались любимцами публики. По сравнению с другими, их классические костюмы казались невероятно элегантными: темный фрак Криса контрастировал с белым платьем Жени. Ее мягкая юбка ни разу не поднялась выше пределов, дозволенных скромностью, даже когда партнер вращал и опрокидывал ее. Они подходили друг другу по росту — Крис на два дюйма был выше Жени — оба были красивы и красивы как пара.
Они получили высшую оценку в вальсе, а в общем зачете заняли второе место. Но публика приветствовала их намного дольше, чем победителей. А когда Крис поднял Жени и поцеловал в губы, бальный зал разразился аплодисментами одобрения.
«Какая мы все-таки пара», — думала Жени. Завоевали награду без единой репетиции, хотя другие, без сомнений, тренировались неделями. Этот вечер подтвердил, если у Жени и оставались еще сомнения, что их тела жили в унисон.
Когда Крис поставил ее на пол, Жени пристально посмотрела ему в глаза и положила руки на плечи. Он перевел взгляд на ее волосы.
— Роза, — прошептал он и, вынув увядший цветок из прически, подал ей.
— Не вынесла жара, — рассмеялась она и, взяв партнера под руку, проговорила на ухо:
— Пойдем ко мне.
Крис стиснул ее ладонь. В такси он был молчалив, отдыхая от напряжения последних часов. Жени откинула голову на спинку сиденья и почувствовала, как ноют икры и ступни. Ощущение было приятным, давало понять, что тело поработало на славу.
В квартире оба ощутили смущение, и Жени вспомнила ночь с Дэнни, его яростный поцелуй в вестибюле и прелюдию на кухне, когда они оставили стаканы и отправились в спальню…
Сегодня все происходило не спеша. Крис был застенчивее Жени, ему, казалось, приходилось себя принуждать.
Жени предложила выпить, чтобы расслабиться, но он отказался. Она гадала, когда же Крис снимет смокинг.
— Подойди, пожалуйста, ко мне, — он сел на диван и похлопал ладонью рядом с собой.
Жени устроилась рядом, но Крис не обнял ее, как обычно делал в такси.
— В медицинской школе я влюбился в одного человека, — начал он низким голосом. — Мы любили друг друга. Важно, чтобы ты это знала.
У Жени сжалось горло:
— И ты все еще ее любишь?
Крис покачал головой.
— Его. Мы были любовниками больше двух лет. Он хотел стать хирургом и женился на богатой женщине. Теперь у него двое детей и обширная практика. Может быть, ты о нем слышала.
Жени сидела очень прямо, как деревянная кукла:
— Извини.
Крис обнял ее за плечи:
— Нет, Жени, это я должен извиняться. Я никогда не был с женщиной… Я надеялся… Ты ведь знаешь, я и в самом деле тебя люблю.
Она кивнула.
— Вместе мы великолепны. Замечательная пара…
— Да, — как та замечательная пара на свадебном торте, слепленная из крема.
— Мы будем с тобой видеться?..
— Да, — она была так уверена, что нравится ему. Жени похлопала Криса по руке. — Не беспокойся.
— Я знал, что ты поймешь. Можно тебя поцеловать, Жени? — он наклонился, чтобы поцеловать ее в губы, но она отвернулась, и он ткнулся в щеку.
— Я тобой восхищаюсь и очень ценю, — он поднялся и направился к двери.
Разве можно требовать большего, подумала Жени и привалилась спиной к двери, когда та закрылась за ним. Звук шагов в коридоре, двери лифта открылись, затем закрылись, и от Криса не осталось ничего, кроме тишины.
33
Жени повторяла план утренней операции. Ей предстояло ассистировать доктору Брайт. Она была довольна. Они слаженно работали вместе, что у других врачей вызывало недоумение. Считалось, что две женщины-хирурга должны неизбежно стать противницами. Женщина — пластический хирург была сама по себе необычным явлением, а две в одной команде — просто небывалым феноменом, уродством, подобным рождению сиамских близнецов.
Жени, врач с шестилетним стажем, была моложе Сэлли Брайт. Они сразу понравились друг другу, хотя другие не скрывали по их поводу скепсиса.
— Не обращай внимания, — посоветовала в первую неделю Сэлли Жени. — Чисто мужское отношение, разделяемое и некоторыми женщинами. Часть заговора, направленного на то, чтобы женщины восхищались мужчинами, а не друг другом.
Сэлли была миниатюрной симпатичной женщиной, лишь на шесть месяцев старше Жени. Бледная и худощавая, она казалась слишком хрупкой для работы хирурга, но с железной волей шла к своей цели. С четырнадцати лет, еще со школы, Сэлли постоянно подрабатывала на стороне. В семье она была старшим ребенком, первой пошла в колледж и, получив степень бакалавра, окончила медицинскую школу Йельского университета. Оттуда пошла прямо в интернатуру, а затем получила место. Она никогда не была замужем, не выезжала за пределы страны и смотрела на Жени как на человека с большим жизненным опытом, чем у нее самой.
— Ты великолепно для всего этого подходишь, Сэлли, — заверяла ее Жени. Ее восхищали диагностические способности доктора Брайт, превосходившие ее собственные, и желание экспериментировать со всем новым. Жени быстро поняла, почему Ортон выбрал ее в свою команду.
Ринопластическая операция, которую они должны были выполнять вместе, была перенесена из-за больного, у того две недели назад были повреждены глазницы. Это произошло в ходе реконструктивной операции. Теперь из-под кожи выпирала кость, все вокруг загноилось и пациент, без сомнения, должен был потерять зрение. Срочные мероприятия были проведены, чтобы воспрепятствовать разъединению частей лица и уменьшить нестерпимую боль.
Глаза они спасти не смогли. Когда больного, двадцатилетнего ветерана, увезли в реанимационную, Сэлли Брайт сняла маску. Ее кожа мертвенно побледнела.
— В чем дело? — с тревогой спросила Жени.
Сэлли пошатнулась и ухватилась за край операционного стола, чтобы не упасть.
— Это сделал Ортон, — произнесла она в ярости. — Он был пациентом Ортона. Ортон его искалечил.
— Сэлли, — Жени обняла коллегу за плечи. — Сэлли, возьми себя в руки. Никто его не калечил. Произошел несчастный случай, ошибка.
— Держись от него подальше, — Сэлли согнулась, ее стошнило.
Жени успела подхватить Сэлли, и, потеряв сознание, та не упала навзничь и не разбилась.
На ночь ее оставили под наблюдением в госпитале, а утром отправили домой восстанавливать силы. Жени вела и ее больных, и своих, удвоив нагрузку.
Но уже через пять дней Сэлли вернулась к работе и выглядела посвежевшей. Она поблагодарила Жени, но ничего не сказала о собственном срыве. Жени тоже не заговаривала об этом, хотя ей хотелось бы утешить коллегу, объяснив, что такие вещи случаются с врачами, особенно в начале их карьеры. С этим ничего нельзя поделать, но обморок не имел никакого отношения к тому, что Сэлли женщина. Он стал результатом истощения, многих лет недосыпания и напряжения.
Жени понимала, что и она от этого не застрахована. Только-только отпустившее переутомление снова нахлынуло на нее, главным образом из-за исследовательской работы, совмещаемой с работой в клинике. Ей нужно было к определенному сроку подготовить статьи для журнала, материалы для конференции.
Через десять дней после срыва Сэлли Жени предстояло ехать на конференцию в Бостон, и коллега настояла на том, чтобы взять теперь Жениных пациентов. Это справедливо, заявила Сэлли. И хотя Жени чувствовала, что сейчас нагрузка для Сэлли может оказаться непосильной, выхода не оставалось: она не могла обидеть Сэлли, да и поздно было отказываться от конференции. Втайне она была рада, что вскоре предстоит встреча с Бостоном.
Три месяца назад Эли Брандт спрашивал ее, не сочтет ли она возможным принять участие в организуемой им конференции, и зачитал имена приглашенных.
— Возможным? — воскликнула Жени, услышав список знаменитостей. — Но это же большая честь!
— Ты создала себе собственную нишу, — объяснил Брандт. — Работаешь над «человеческим» аспектом реконструктивной хирургии.
— Вы очень великодушны, Эли.
— Я хотел бы, чтобы ты написала статью о врожденных уродствах.
— Вы ее получите. И еще раз спасибо за приглашение.
Бостонскую конференцию запланировали на два дня: она начиналась в десять часов во вторник, а в четыре в среду выступал последний докладчик. Это означало два дня в обществе Эли. Хотя оба они работали в Нью-Йорке, их дорожки редко пересекались. Время от времени говорили по телефону, иногда встречались на профессиональных совещаниях, но главным образом жили в разных мирах. Эли — блистательный хирург, о нем писали журналы мод, и его присутствие в компаниях освещалось в светской хронике.
В самолете Жени почти сожалела, что согласилась остановиться у Чарли и Тору, а не в гостинице вместе с Эли и другими участниками конференции.
Но приземлившись, она тут же забыла о своих сожалениях. Навстречу бежала Тора Джой и кричала:
— Анжени! — так в детской скороговорке звучало «Тетя Жени!» Девочка была уже достаточно большой, чтобы произносить все правильно, но предпочитала привычное детское имя.
Жени бросила чемоданы и подхватила девочку на руки, и Тора Джой ткнулась ей носом в шею. Черноволосая, с темными, как у отца, но более округлыми глазами, она представляла собой сгусток энергии, трепещущей любви. Жени поставила ее на землю и обняла Чарли.
— Моя крестница у вас что надо, — и Чарли ответила ей горделивым кивком.
В машине Тора Джой сидела на коленях Жени и играла с ее волосами.
— Мама говорит, что ты очень красивая. А мама тоже красивая?
— Конечно. И ты красивая тоже.
— Я? — девочка внезапно посерьезнела.
— Т.Дж. начала воспринимать окружающий мир и очень беспокоится о своей внешности, — объявила Чарли.
Дома Т.Дж. повела Жени на экскурсию:
— Вон папины книги. Папа хирург, а мама только сестра.
В конце путешествия Жени раскрыла чемодан с подарками: альбом с фотографиями зверенышей, пушистый свитер, кукла — Т.Дж., казалось, не могла поверить, что такое богатство привалило ей сразу. Жизнь так прекрасна, говорило ее выражение лица.
— А мы были когда-нибудь так счастливы? — спросила Жени, когда Тора Джой понесла к себе в комнату свои новые сокровища.
— Вряд ли, — Чарли собралась на кухню. — Но Т.Дж. доставляет мне небывалое счастье.
— А помнишь свой сон, когда ты еще была беременна? Про девочку, которая тебе говорила, что делать?
Чарли кивнула и улыбнулась:
— Вот как все обернулось.
— Ты все еще каждый день водишь ее с собой на работу?
— Водила, но теперь взяла отпуск, чтобы написать книгу, — Чарли извлекла из холодильника кочан салата. — Об уходе за детьми с травмами лица. Задумок много, но нет еще твердого контракта… Ты ведь мне обещала! — подняла она глаза на Т.Дж., которая бросилась от двери назад, чтобы дать взрослым поговорить. — Кое-что я набросала, но законченных страниц еще мало.
Жени сидела за столом напротив Чарли и, потягивая вино, смотрела, как подруга готовит еду. За много лет у Жени это будет первый семейный обед. Руки Чарли двигались автоматически, а сама она без умолку говорила:
— Я должна тебе признаться, Жени. Я кое-что сделала без твоего разрешения.
— Без моего? — Жени наблюдала, как руки Чарли месят, отбивают, режут, тянутся за солью и перцем, и представляла собственные руки во время операции. Вот женские руки, подумала она и на мгновение позавидовала Чарли — ее уверенности на кухне. Сама Жени готовила неважно — приходилось готовить лишь для самой себя.
— Да. Без твоего. Я надеялась… Может, я совсем свихнулась. Я мечтала написать книгу вдвоем с тобой. И вот, — она подхватила чищенную картофелину, — я послала копию твоей «Личины, скрывающейся за лицом» — издателю, заинтересовавшемуся моей книгой. И теперь он готов подписать контракт.
— Что ты хочешь сказать?
Чарли бросила картошку в миску с холодной водой и взяла другую.
— Он заявил, что если мы будем работать в соавторстве, он подпишет контракт, не глядя. Хочет, чтобы в книгу были включены и проблемы взрослых. Считает, что сотрудничество врача и сестры придаст вес книге, — Чарли отвернулась, чтобы не прочитать отказа на лице Жени.
Но идея подруге понравилась.
— А как мы будем работать? Ты здесь, а я — там?
— Тору получил предложение, — ответила Чарли и медленно повернулась к Жени. — Из Нью-йоркского ортопедического госпиталя.
— И серьезно думает об этом?
— Очень.
— Так, — Жени еще отхлебнула вина. Она уже продумывала тематику книги: увечье и его влияние на характер человека, объяснение смысла коррективной хирургии, доступной на современном этапе, советы тем, кто живет с калекой — родственникам, друзьям, тем, кто просто общается с ним — сестрам, обществу в целом. — Книга будет замечательной.
— Знаю, — застенчиво произнесла Чарли.
— Может быть… — интуиция подсказывала Жени, что за дело стоит приняться. — Ладно, обсудим это попозже.
Чарли вытерла руки об юбку и крепко обняла подругу. Та ответила на объятия, проникаясь ее энтузиазмом. Время как-нибудь Жени выкроит. Для начала не станет принимать приглашений на конференции и в следующем году запретит себе писать статьи для журналов.
Зазвонил телефон. Т.Дж. вырвалась из своей комнаты, потому что пришел Тору:
— Папа! Папа!
— Привет, дорогой, — Чарли пошла поднимать трубку, — Жени уже здесь.
Тору расцеловал Жени в обе щеки.
— Это тебя, — подала Чарли трубку подруге.
Эли спрашивал, не сможет ли она встретиться с ним попозже. Он освободится к половине десятого, в крайнем случае — к десяти.
В нескольких футах, обняв жену, стоял Тору. К родителям прижалась дочь. Они представляли единое целое — семью. На час она сможет отлучиться к человеку, который хочет уделить ей свое внимание.
Т.Дж. потянула Жени за пояс, стараясь втащить в свой кружок.
— Боюсь, сегодня не выйдет, Эли. Давайте завтра.
— Я должен уехать сразу же после обеда.
Жени почувствовала острое разочарование:
— Но ведь конференция кончается только послезавтра?
— Я хотел остаться до конца, но шансов на это мало. Но твой доклад я обязательно прослушаю.
— Спасибо, — она должна была выступать в половине четвертого.
— Ты уверена, что сегодня не сможешь? Хотя бы ненадолго. Выпьем что-нибудь — я давно тебя не видел.
— Встретимся завтра на конференции, — и повесив трубку, она улыбнулась Т.Дж., серьезно смотревшей на свою крестную мать.
Во время выступления Жени, не проронив ни звука, Тора Джой сидела в зале рядом с матерью, сложив на коленях руки. Жени назвала свой доклад «Незнакомец в зеркале» и посвятила его становлению собственного образа у ребенка после реконструктивной операции. «Обычно у нормального ребенка представление о себе складывается к трем годам, — начала она и посмотрела в сторону Т.Дж. — Но если ребенок подвергся восстановительной операции, он может не узнавать себя».
Она попыталась передать особенности искалеченной психики такого ребенка, а перед ее внутренним взором стояло лицо Синди. Зал притих, потрясенный ее описанием. Жени пояснила, что хирургическое вмешательство — лишь часть восстановительного процесса. Врожденное уродство требует, как правило, серии операций. И планируя следующую, врач должен учитывать не только физическое, но и психологическое состояние пациента. Пластический хирург должен быть уверен, что пациент перенесет следующий шаг. «Я хочу сказать, — она отложила тезисы и обратилась прямо в зал, — что ребенок должен узнавать себя в зеркале. Если этого не произойдет, даже самые современные методики окажутся бессильными. Мы должны идти рука об руку с нашим маленьким пациентом. А иногда позволять ему вести нас самих. Спасибо за внимание».
Она закончила, но аудитория безмолвствовала. Жени сошла с трибуны, и тут раздались аплодисменты. Они продолжались несколько минут — невероятный случай во время медицинской конференции.
Горделиво улыбаясь, к ней пробирался Эли. Но Жени уже стояла рядом с Чарли и Т.Дж. Прежде чем Чарли успела ее поздравить, проговорила:
— Мы напишем эту книгу вместе.
В среду вечером она прилетела в Нью-Йорк и рано утром в четверг вышла на работу. На этаже ей все показалось странно притихшим, будто приглушили звуки. Жени не поняла, что таилось в атмосфере, но почувствовала тревогу и даже угрозу. Сестры и санитары едва поздоровались с ней, едва пробормотав «Доброе утро».
Медик из интернатуры катил тележку с лекарствами.
— Что происходит? — спросила она у него, но он, будто не узнав ее, прошествовал дальше.
Жени разыскала старшую сестру:
— Что-нибудь случилось?
— Доктор Сареева, — пробормотала та, вглядываясь Жени в лицо, чтобы понять, что ей уже известно. — Доктор Брайт прошлой ночью совершила самоубийство.
Жени задохнулась.
— Ее нашли в два часа ночи в квартире, — докладывала сестра монотонным голосом, словно декламировала наизусть. — Она уже окоченела. Причина смерти — огромная доза лидокаина, введенного внутривенно.
— Понимаю, — безнадежно ответила Жени.
Держась очень прямо, сестра пошла на свое место. Через несколько минут Жени попросила у нее папки с историями болезни пациентов доктора Брайт.
— Они здесь, — указала сестра. — Я приготовила их для вас.
Жени упорно совершала обход, а когда один из больных Сэлли спросил, где его врач, ответила только:
— Сегодня я за нее.
Когда-нибудь им придется рассказать, но прежде нужно осознать самой и убедить себя относиться к случившемуся спокойно.
В два часа главный хирург доктор Мессер вызвал ее к себе в кабинет.
— Весьма печально, — он сочувственно протянул руку Жени. — Мы все переживаем смерть вашей коллеги. Кажется, ее стресс был слишком велик.
«Тут было нечто большее», — подумала Жени. Сэлли Брайт — слишком сильный человек, приверженный делу и своим больным, чтобы отнимать у себя жизнь под влиянием «стресса». Но вместе с тем Жени понимала, что совсем не знала коллегу. Они помогали друг другу во время операций, кое-что рассказывали о себе, но не имели времени сблизиться, даже как следует познакомиться. Может быть, Сэлли Брайт страдала неизлечимой болезнью или переживала из-за несчастной любви. Но и эти причины казались недостаточными. Женщина, с которой Жени приходилось рядом мыть руки, была борцом.
— Трагедия как будто подтверждает предрассудок, сложившийся в нашей профессии против женщин, — говорил сухопарый лысеющий врач. — Но я всегда был против предрассудков. И отчасти по этой причине, несмотря на случившееся, решил просить вас стать старшим хирургом.
Жени чувствовала запоздалую реакцию, но все же была способна понять, какой необычный поступок совершает главный хирург: заменить одну женщину на другую, сделать ее, врача с шестилетним стажем, старшим хирургом и поставить над другими, кто уже работает семь или восемь лет, — это было весьма необычно.
— Решение принял я сам, — продолжал он. — Но доктор Ортон его горячо поддержал.
Жени попыталась улыбнуться.
— Враждебность к вам из-за повышения может усилиться, но для этой должности вы самый квалифицированный врач. Ваш послужной список безупречен, вы обладаете богатым опытом, и ваши научные работы получили заслуженное признание.
— Спасибо.
Руки Мессера по-прежнему покоились на крышке стола. Он говорил тихим голосом, как будто берег силу легких.
— Может быть, вы и не станете меня благодарить, когда приступите к работе. Сэлли Брайт не первая сломалась под гнетом напряжения. У вас не останется времени на исследовательскую работу или на что-либо другое. В вашем ведении окажутся шестьдесят пациентов, включая тех, кто проходит курс интенсивной терапии: три клиники, где в каждой от тридцати до пятидесяти больных. Вы будете оперировать своих пациентов и в экстренных случаях. О предубеждениях против женщин вы знаете, но теперь и ваша собственная бригада будет относиться к вам по-другому. Так что удачи вам.
— Спасибо, — повторила Жени.
Она вышла из кабинета доктора Мессера, думая о Пеле, как всегда, когда жизнь подбрасывала на ее пути очередной камень. Но связаться с ним в Югославии она не могла. Теперь он был вне досягаемости, и у Жени не было на него прав.
Нужно позвонить Чарли. Но стоило ей повернуть за угол, на нее набросился медик из интернатуры, сестра и два врача — каждый со своими проблемами, возникшими за последние полчаса.
Лишь дома, не в силах есть от усталости, она смогла позвонить Чарли. Надо, чтобы подруга узнала все тут же.
Чарли сочувствовала, поздравляла Жени с новой должностью, успокаивала ее.
— Но это означает… — начала Жени.
— Понимаю. Ты не сможешь писать книгу.
— Сейчас нет. Может быть… удастся все отложить?
— Может быть, — успокоила ее Чарли. — Не волнуйся об этом. Буду пока сама потихоньку царапать. Обязана перед своей аудиторией. А у тебя там своих забот хватает; прежде больные, а читатели потом.
— Чарли, я тебе никогда не говорила, что ты сказочный человек?
— Наверное, говорила, но я не помню.
Жени усмехнулась:
— Привет всем твоим. Вы мне столько дали!
— Что именно? — в этом была вся Чарли, подумала Жени. Человек бесконечной доброты, но не терпящий сентиментальности.
— Вернули аппетит, — ответила она и повесила трубку. Великодушие Чарли немного улучшило ее настроение. Она приготовила легкий ужин из сыра, хлеба и фруктов, сбросила туфли и включила музыку. Писать книгу с Чарли было бы наградой в жизни. Но подруга была права: в карьере Жени сейчас больные стояли на первом месте.
Грудь выглядела хорошо, несмотря на все еще кровянистую линию швов. Жени осторожно дотронулась до кожи:
— Не больно? — спросила она полную седовласую женщину.
— Доктор, дорогая, — широко улыбнулась женщина. — Боль не имеет никакого значения. Мне вернули грудь — вот что важно.
Три года назад у миссис Гроллман была удалена грудь. За это время новых опухолей не возникло и хирург дал разрешение на восстановительную операцию. После операционной та постоянно была в приподнятом настроении и неумолчно болтала:
— Мой муж Морти мне все повторял: «Радуйся, что жива». Конечно, это славно. Но живы все. И каждый, не только мужчины, хочет выглядеть получше. Разве я не права?
Продолжая осмотр, Жени улыбнулась миссис Гроллман, а ту все несло:
— Морти груди до лампочки. Я ему как-то сказала: «Морти, ты ляжешь в кровать с носорогом и даже не заметишь». Но он не обиделся. Ответил, как философ. «Если Бог лишил женщину груди, нужно любить ее с той, что осталась». Я тогда расхохоталась. Представила, что у мужа два хобота вместо одного. Но сама просто с ума сходила. Не могла на себя в зеркало смотреть, не ходила в магазины одежды, не хотела, чтобы продавщица меня видела.
— Вы в хорошем состоянии, миссис Гроллман. Мы можем вам выписать на день раньше. Хотите?
— Ну… здесь так мило. Девочки все такие славные. А вы мой самый любимый доктор, — она широко улыбнулась. — Но Морти там совсем отощает. Так что нужно возвращаться на кухню и немного его подкормить. Я люблю, чтобы мужчины были большими. Понимаете?
Жени собралась уходить, но миссис Гроллман коснулась ее руки:
— Подождите, доктор. У меня для вас кое-что есть.
Она болезненно повернулась, чтобы достать до тумбочки, открыла ящик и достала заколку для волос, украшенную эмалью:
— Купила ее в свой медовый месяц. Хочу подарить ее вам. К вашим волосам очень пойдет. Всегда мечтала, чтобы и у меня на голове были такие волосы.
Жени с улыбкой приняла подарок:
— Большое вам спасибо. Буду носить и вспоминать вас и Морти во время вашего медового месяца. Куда вы едете?
— В Питтсбург. Куда же еще? Храни вас Бог, доктор.
Следующей больной была девочка-подросток, которой Жени сделала ринопластическую операцию. Нос все еще выглядел опухшим, и девочка казалась разочарованной. Жени бесстрастно выслушала пациентку, ее реакция была предсказуемой. А когда жалобы кончились, сказала:
— Сейчас ты удивляешься, зачем тебе все это понадобилось, сожалеешь, думаешь, что твой старый нос был не так уж плох.
— Откуда вы узнали?
— Большинство людей так чувствует. Злятся на врачей за то, что исковеркали им кости.
Девочка кивнула.
— Нос опух. Через несколько дней результат тебя восхитит и ты позабудешь все свои черные послеоперационные мысли.
— Вы уверены?
— Уж поверь мне, — улыбнулась Жени.
— Хорошо, — облегченно согласилась девочка.
Следующие полчаса Жени осматривала больных. У большинства дела шли хорошо. Хотя выздоровление мистера Клиари осложняла почечная инфекция, а у двенадцатилетнего Роджера, чью руку раздробило дверцей машины, все время поднималась температура. Грейс Литтлтон не ела.
Жени быстро обнаружила, что причина этого заключалась не в физиологии. Мисс Литтлтон отказывалась от пищи, утверждая, что она непригодна для человеческого пищеварения. Человек света, объездившая полмира, она привыкла к высокой кухне. Жени объяснила, что больничный рацион был нарочито нейтральным, чтобы удовлетворить самые различные вкусы, и подходит к различным диетам. Она согласилась, что блюда здесь пресные, и посоветовала держать в палате приправы, чтобы как-то скрасить больничную пищу.
— Неплохая идея, — отозвалась мисс Литтлтон. — И пока вы здесь, доктор, не могли бы вы выписать разрешение, чтобы приезжал мой повар и привозил еду?
Жени пожала плечами и написала несколько слов в блокноте с предписаниями. Если пациентка не будет есть, выздоровление пойдет медленно. Ей нужно было восстанавливать силу. И если единственная возможность для этого — отбивная по-веллингтонски или foie gras, что ж, пусть так и будет.
Жени закончила обход и присела выпить чашку чая. В два часа у нее была назначена пластическая операция нижнего века, и, хотя операция была несложной, Жени не хотела наедаться перед входом в операционную. Она заметила, что обеды ее расслабляют, а подходя к столу, она хотела быть предельно сосредоточенной.
Пока она наливала себе чаю, в комнату вошла Рамона Чин.
— Привет, шеф! Как дела? — весело спросила Рамона.
— Все под контролем, — улыбнулась в ответ Жени. Ей нравилась Рамона, молодой рентгенолог, напоминавшая ей о Т.Дж. Рамона тоже унаследовала черты отца с Востока и американской матери.
— Хочу тебя кое о чем спросить, — Рамона оглянулась — не подслушивают ли их.
— Давай. Пошли ко мне в кабинет, — Жени взяла чашку с чаем и поднялась. Рамона последовала за ней. — Ну, так что же, Рамона?
— Это о докторе Брайт. Меня не должно касаться… Но мне интересно, ты не слышала…
— О чем?
Рамона смущенно заерзала:
— Вы ведь дружили… Она могла тебе сказать…
Жени нахмурилась:
— Боюсь, что не понимаю, о чем ты говоришь.
— Я слышала, что ее принудили, — пробормотала Рамона. — Доктор Ортон заставил это сделать.
— Что?!
— Что он обладал над ней какой-то властью… Между ними что-то происходило… ну… темное, мистическое.
— Рамона, — твердо произнесла Жени, глядя прямо на молодую женщину. Уж не подвержена ли и эта воздействию сильного стресса. Или просто разыгралось воображение. — Глупости. Абсолютные глупости. Доктор Ортон блестящий хирург и добрейший человек. Все, кто с ним работал, восхищаются им. Как и я. И как восхищалась доктор Брайт. Что бы ни привело ее к самоубийству, не имеет никакого отношения к нему. Даю тебе слово.
Рамона с сомнением посмотрела на Жени.
— Хорошо, — она поднялась и направилась к двери. — Но люди все-таки поговаривают.
«Спектакль, — подумала Жени. — Наверное, насмотрелась мыльных опер и мыло совсем забило мозги». И она допила чай.
Но в последующую неделю она слышала подобные суждения и от других на этаже, к мнению которых она привыкла прислушиваться. «Откуда они возникли?» — недоумевала Жени. Доктор Ортон был врачом высшего разряда, хирургом из хирургов, как его однажды назвали. Все свое время и умение он отдавал жертвам войны, тысячам других людей, таких, как Хаво. Почему же ему приписывают «черное влияние»?
Загруженность по работе не позволяла Жени откликаться на приглашение Ортона проводить вместе с ним осмотры или ассистировать на операциях. Но получив записку с просьбой зайти к нему в кабинет, Жени твердо решила освободиться.
34
— Давненько не виделись, — проговорил доктор Ортон, открывая дверь.
— Моя вина, — улыбнулась Жени, но внешний вид врача ее обеспокоил: вокруг глаз красные круги, руки трясутся. Неужели возраст брал свое? Раньше — десятилетия оставляли на нем лишь отметины, а сейчас годам, кажется, удалось завладеть им — завладеть полностью.
Они прошли в кабинет.
— Что-нибудь выпьете?
Жени пожала плечами:
— Разве что вина вместе с вами. — Она заметила, что он уже выпил порцию-другую. Не похоже на него, но спиртное восстанавливает кровообращение и в небольших дозах даже рекомендуется в старшем возрасте.
— У меня пациент с болезнью Реклингхаузена, — начал он без всякого предисловия. Мы с доктором Гол-дом из моей команды и хирургом по сосудам Полем Инскиллом запланировали серию операций. То, что мы наметили, чрезвычайно радикально. Такое никто еще не пытался сделать.
Другого врача можно было заподозрить в хвастовстве, но доктор Ортон просто констатировал факты.
Он налил Жени бокал вина и подал вместе с фотографией больного. Лицо было ужасным — все покрыто опухолями, проступающие из-под кожи кости изъедены и деформированы. Хотя Жени и читала об этом заболевании, больше известном под названием фиброматоз или слоновость, с больными ей встречаться не приходилось.
— Опухоли доброкачественные? — спросила она, чтобы проверить себя.
— Да. И сосуды тоже вовлечены. Стоит полезть внутрь, и кровотечение будет профузным. Я предлагаю полностью перелить кровь.
— Сколько лет больному? — по фотографии судить было невозможно.
— Четырнадцать. Развитие выше среднего, прекрасно начитан. По понятным причинам школу не посещает, но занимался с учителями дома.
Мальчик — а на фотографии — человек без возраста, безликий в своем уродстве. Черты лица едва проступали и не походили на человеческие. Ужасное уродство. Гораздо страшнее, чем «маска» Винстона и лицо отца. У отца недоставало только носа и уха. Кожа съежилась, сползла лоскутами, но оставалось человеческой. А если бы он выглядел вот так… Жени недоумевала, как родители мальчика могли уживаться с таким чудовищем.
— Плохая наследственность? Кто-нибудь болел фиброматозом в семье? — спросила она.
— Никто. Хотя в документах может и не быть отмечено.
— Вы хотите сказать, что раньше таких детей просто убивали?
— Возможно. В любом случае нам не удастся узнать, унаследовал ли больной этот ген от предков или мутировал в утробе матери.
«Да это и неважно», — подумала Жени. Но шансы унаследовать такой ген ничтожно малы. Разве может такое создание кого-нибудь воспроизвести?
— Мы не станем пытаться в данном случае добиться нормы. Наша цель — существенно уменьшить уродство. Не хотите присоединиться к нашей бригаде?
Предложение Ортона поразило Жени. То, что он разрабатывал, могло произвести переворот в черепной хирургии. И он приглашал ее — принять участие в событии исторического значения.
Ее молчание он принял за ответ:
— Хорошо. Снимки и рентгенограммы просмотрим вместе. А на дом я дам вам задание: проглядеть основную литературу и все, что было опубликовано по этому заболеванию. Затем — неопубликованные работы и диссертации, некоторые из них не переведены, но вы читаете по-русски? Я не ошибся? Вот и славно. Потом я хотел бы, чтобы вы взглянули на несколько французских и немецких статей. Свои заметки по операции я готовил по различным источникам, некоторые из них кажутся едва ли ценными. Готовы начать?
— Конечно.
Если она даже вовсе не будет спать, откуда взять время?
В небольшой лаборатории доктор Ортон демонстрировал слайды, чтобы объяснить патологию. Многие из них представляли собой образцы биопсии: насыщенные контрастным веществом больные клетки выглядели необыкновенно красиво, и Жени, глядя на них, пыталась представить себе самого мальчика.
Вспыхнул свет.
— Ну вот, — проговорил доктор Ортон. — Пойдемте обратно в кабинет.
Он опять щедро налил себе вина. Бокал Жени был еще наполовину полон.
— Теперь можно и расслабиться. Я рад, что вы присоединяетесь к нам. Серьезный шаг к нашему будущему сотрудничеству.
Его снарядыложились перед ней, совершенно безопасные, пока не взрывались пониманием в мозгу:
— Сотрудничеству?
— Через год вы, может быть, захотите присоединиться к моей практике, — лаконично объяснил врач. — Буду рад работать с вами, Жени.
Раньше он никогда не звал ее по имени — все пошло слишком быстро. Он предлагал слишком многое. Жени это чувствовала, и в этот миг почему-то вспомнила о Сэлли Брайт. Она хотела спросить его о ней. Знал ли он причину, по которой Сэлли совершила самоубийство, но вместо этого сказала.
— Я ужасно польщена, — голос ее прозвучал выше обычного.
— Мое доверие к вам обосновано. Я наблюдал за вами долгие годы.
Жени сидела на самом краю кресла, скрестив ноги. Доктор Ортон встал и посмотрел на нее с высоты своего громадного роста, и внезапно она ощутила робость, даже страх.
— Я могу вам верить, — повторил он, как будто размышляя. Глаза сделались серебристо-серыми — цвета бессолнечного моря. — Вы работаете так же упорно, как и я. Те же нагрузки; жизнь хирурга, — его седая шевелюра сердито растрепалась по лицу. «Бог, —вспомнила Жени. — Его называют богом».
Он сел наискосок от нее, сжимая в ладони стакан с виски.
— Вы знаете, как людям, подобным нам, трудно расслабиться. Весь день начеку. Весь день наедине со своей ужасной мощью. За хирургом последнее слово. Он вторгается в тело и извлекает болезнь…
Его манера говорить не была обычной, рубленой, как будто через него сейчас с Жени беседовал другой.
— Уже поздно, — Жени оперлась ладонью о подлокотник кресла, чтобы подняться. — Мне предстоит столько прочитать…
— Чтение подождет, распорядился Ортон. — Вы — сильная здоровая женщина с крепким телом и духом. И мне необходима часть вашей силы, — на последней фразе голос дрогнул, словно он умолял Жени.
— Что вы хотите сказать?
— Сейчас объясню, — он подошел к полкам и открыл дверцу под ними. — Смотрите сами.
Сначала ей показалось, что там были увеличенные модели хирургических инструментов. Серебряный отсвет — она как будто узнала приспособление для удержания в месте частей сломанного бедра: крепкий длинный стержень, отверстия для винтов. Она рассмотрела щетки со странными стальными ручками, веревки. Ортон достал кожаный кнут.
— Мы все смертны и сотворены из плоти, — глаза его сияли металлическим блеском, — и должны быть смиренными. Хирург преклоняет голову перед человеческим телом и почитает его.
Он встал на колени перед Жени и вложил кнут ей в руку.
— Научи меня быть смиренным, — он расстегнул ворот и обнажил перед ней, как перед палачом, морщинистую шею. — Ударь меня. Хлестай за мои грехи и недостоинства, — лицо Ортона необычно светилось, губы раскрылись. — Я преклоняюсь перед тобой! Ударь меня! Не жалей! Ударь со всей силой своего крепкого тела.
Жени попыталась встать, но он навалился на ее колени грудью.
— Делай, что я говорю!
В ужасе она дернулась назад, но он поднял с кнутом ее руку.
— Прошу тебя! Я дам тебе все: мои знания, все, что у меня есть. Только помоги мне! Помоги почувствовать страдания мира. Муку, для которой мы рождены, страдания плоти.
Помимо ее воли рука повиновалась, действовала сама по себе, и кнут прошелся по спине врача.
— Так. Ты само совершенство природы. Моя богиня, — он разорвал на себе рубашку, расстегнул брюки и сдернул их вниз вместе с нижним бельем, лихорадочно скатывая от каждого колена.
Обнаженный он бросился на пол перед Жени:
— Наступи мне на спину. Избей меня. Разорви каблуками кожу.
Кнут бессильно свисал с ее ладони, и Жени в страхе смотрела на Ортона. Он изогнулся, дотянулся до ее запястья, поднял руку и опустил на себя вместе с кнутом. Стал поднимать и опускать: на грудь, на спину, на шею, на плечи.
— Тело — это плоть, — кричал он. — Сокруши мою плоть! Распни мое тело! Да, да! Вот так! Еще сильнее! Боль есть любовь. Величественнее, чем жизнь. Любовь, да боль. Вот оно! Наступает!
Ортон извергнул семя и омертвел.
Жени лишь на секунду смотрела на него, потом вскочила, переступила через его тело и быстро пошла к двери.
— Подожди, — крикнул он ей вслед. — Ты должна остановиться, — и поднялся на ноги.
Командный тон после безумных бормотаний. Жени растерялась и замедлила шаги.
— Вы забыли материалы по фиброматозу. Они вам понадобятся, — он уже был рядом с Жени и как будто удерживал ее взглядом. Тон почти нормальный. Он говорил кратко, по делу. — Во время операции мы иссечем фасцию из бедра и произведем блефарографию. Смысл этого объяснен в третьей секции Конгресса Маккау и в работе Роббипса.
Он подал ей материалы:
— Здесь требуется усердие, — терпеливо объяснил он. — Нужно многое изучить. Опыт — лучший педагог.
— Доброй ночи, доктор Ортон.
— До свидания, доктор Сареева, — он пытливо посмотрел на Жени. — Приятно будет работать с вами.
На улице на Жени накатила тошнота. Она вспомнила закрытую библиотеку и Бернарда, лежащего в луже крови.
Как только пресса обнаружила «Слонового мальчика»Ортона, так больного быстро окрестили корреспонденты, за врачом стали ходить по пятам в надежде на «чудесный» исход операции, что могло бы стать сенсацией на страницах газет и экранах телевизоров. Другие преследовали Ортона по иным причинам… Слухи о его роли в самоубийстве Сэлли Брайт настоятельно циркулировали в госпитале. Вместе с тем, коллеги-хирурги и весь персонал госпиталя были обеспокоены: случай с фиброматозом стал широко известен за пределами больницы, в то время как другие пациенты Ортона страдали от забвения и невнимания. Было необычайно много осложнений. С тех пор как умер ветеран, через неделю после неотложной операции, еще два пациента Ортона — участники войны и, по-видимому, здоровые люди — скончались на операционном столе, один через три дня после другого.
Одни из коллег подозревали спиртное, другие считали, что дело в эмоциональном срыве, третьи полагали, что Ортон страдает потерей памяти или плохо координирует движения. Слово «раскоординация» возникало все чаще и чаще в спорах врачей, но только в своем кругу. Они понимали, что это серьезное обвинение, требующее веских доказательств.
Жени отметила необычные осложнения и смерти, но в спорах врачей не участвовала. В госпитале она слыла протеже Ортона, и ее сознательно исключали из этих дискуссий или ограждали от своих суждений.
В два часа ночи Жени по-прежнему лежала без сна, в десятый раз передумывая, что можно было сделать. Ясно было лишь одно — с Ортоном она больше работать не будет. Жени не представляла, как он может ее принудить. Хотя, конечно, он мог использовать свое влияние, и так же, как сделал ее старшим врачом — понизить в должности или даже уволить. Хотя в последнем она сомневалась — после смерти Сэлли Ортон вряд ли решится на необычные поступки.
— Слегка — и не более — она жалела, что не будет участвовать в новаторской операции. И лежа без сна, продумывала, какие шаги предпринять.
Если она выдвинет официальное обвинение, Ортон безусловно откажется и обратит обвинение против нее самой. Ее представят неуравновешенной, как Сэлли Брайт. Жени знала, что сексуальные извращения не являются основанием для судебного преследования, если только он не направлял их против своих пациентов, а такого, она была уверена, быть не могло, или если будет доказано, что он непосредственно виновен в смерти Сэлли, а это тоже было маловероятно. Даже если бы удалось доказать, что он склонил подчиненную к извращенному акту — Сэлли была совершеннолетней. Кто поверит, что сама Жени не согласилась на это добровольно?
Жени не с кем было даже поделиться, не кому рискнуть обо всем рассказать. Конечно, кроме Чарли, но ее сочувствие ничего не даст. Нужен был некто равный Ортону по силе и влиянию.
В четыре утра Жени решила обратиться к Эли Брандту. Она уговорила себя подождать и смотрела, как стрелки часов движутся к семи тридцати. И тогда подняла трубку и, сознавая, что может подойти его жена, набрала номер Эли.
Он ответил сам и, узнав, что Жени хочет его видеть по срочному и деликатному делу, пообещал встретиться с ней вечером.
Эли ждал ее в вестибюле «Платцы» и повел в «Оук-бар», где их усадили за столик у окна. Жени была слишком возбуждена, чтобы любоваться Центральным парком, не смотрела она и Эли в лицо, думая о том, что должна ему сказать.
— Жени, в чем дело? Обещаю, я тебя не укушу.
Она подняла глаза и, встретившись с ним взглядом, улыбнулась, почувствовав себя спокойнее. Его глаза она знала много лет, помнила солнечные искорки, мерцавшие в них. Когда-то в них она увидела собственное будущее. Старалась предстать в них лучшей.
Друг и учитель с тех пор, как она была еще подростком. Жени тяжело вздохнула:
— Речь идет об Ортоне.
— О Билле Ортоне? А что с ним такое?
Несколько лет назад она защищала его от Эли, а тот был доволен, что устроил ее к нему на работу.
— Не знаю, с чего начать, — она остановилась и улыбнулась. — Извините, я говорю, как героиня из мыльной оперы.
— Я не видел тебя такой расстроенной, — Эли заботливо наклонился к ней. — Ты здорова?
— Я здорова. А вот Сэлли Брайт умерла, — она рассказала о самоубийстве, о котором он смутно слышал, о разговорах, ходивших вокруг этого. Рассказывая, она вдруг вспомнила восклицание Сэлли перед тем, как та упала в обморок: «Ортон его искалечил». Внезапно все «совпадения» — смерти и осложнения с больными — сложились в схему.
Жени помолчала, прикидывая, в каком порядке рассказать все Эли: начала со смерти Сэлли Брайт и закончила своей встречей с Ортоном накануне вечером. Но не могла открыть Эли, что случилось на самом деле, а просто сказала:
— Он делал мне очень сомнительные предложения.
Улыбка играла в уголках губ врача:
— До этого я и не знал, что старик имеет представление о сексе. Считал его святым что ли, монахом. Ни разу не был женат, никаких слухов о том, что он имеет гомосексуальные наклонности, ни малейшего следа женщины. В медицинской школе мы за его спиной шутили, что у него комплекс спасителя. И что ты знаешь?
Жени покоробила его реакция, но она понимала, что винить можно только себя. Она сменила тему, стала говорить о беспокоящих несчастных случаях среди пациентов Ортона.
Эли откинулся в раздумии. Разглядывая его, Жени решила, что он выглядит точно так же, как и тогда, когда они встретились в первый раз. На висках появилась седина, но от этого он не казался старше, только пикантнее. Его вечный загар стал немного слабее, не таким интенсивным, но он оставался потрясающе привлекательным мужчиной.
— Боюсь, мне особенно нечего предложить, — он снова наклонился к ней. — Наверное, ты сама не хуже меня знаешь все возможные линии поведения. Юридическую ответственность установить нельзя. А без этого расследование может проводить только комиссия, учрежденная медицинским обществом. Если, такое произойдет, возможно, будет вынесена резолюция, что он «несостоятельный врач».
— И что это будет означать?
— Скорее всего, не так уж и много. Расследование займет годы, особенно если Ортон не пойдет комиссии навстречу, а он, видимо, так и поступит. К тому времени, когда комиссия сделает какие-то выводы, ему будет уже за семьдесят и за ним укрепится мировая известность. Если он решит проигнорировать рекомендации расследователей, никто не сможет его принудить уйти. Запомни, Жени, в нашей игре больше всего хотят избежать скандала.
— Почему же больше всего?
— Потому что пластические хирурги больше других уязвимы для иска по поводу некачественно сделанной операции. Из-за тех рыночных врачей, которые готовы выполнить любую работу, если пациент им платит, — выражение его лица сделалось кислым. — Из-за тех, кто себя рекламирует. А некоторые из них даже не имеют диплома. Они неумелы, не обладают репутацией, но из-за них страховки на случай неудачно проведенной операции взлетают выше Гималаев. Скоро сама это почувствуешь. И единственный путь, чтобы не подняться выше Эвереста — избегать скандалов.
— Но ведь это совсем не то. Его несостоятельным признают коллеги.
Эли Брандт пожал плечами:
— За свою долгую карьеру Вилльям Ортон проделал великолепную работу. Он известен, как что-то вроде Альберта Швейцера, и эта репутация только укрепится после экспериментов со слоновым мальчиком.Подумай о сотнях людей, которым он помог. И заложил основы, чтобы в будущем оказали помощь сотням и тысячам других. Вот этот образ все мы, пластические хирурги, и хотим сохранить в памяти. Выставить на свет его извращения или хотя бы показать, что он теряет квалификацию, никому из нас не принесет пользы. Он стар. Наверное, ощущает свой возраст. Так пусть работает и потрясает мир своей победой над нейрофиброматозом. Как знать, может быть, после этого случая он выйдет в отставку.
Жени холодно посмотрела на Эли Брандта и подумала, кто же из них изменился. Она пришла к нему за советом и за поддержкой. Неужели он потерял отзывчивость, что ее так восхищала, отзывчивость, которую он проявлял к Лекс, всей ее семье и к ней самой? Или она только воображала его, видела не таким, каким он был на самом деле?
— Ты изменилась, Жени, — наконец произнес он, как будто для него она была раскрытой книгой.
— Я?
— Да. Ты уже больше не девушка. Хирург и зрелая женщина, которая знает свои способности и знает себе цену.
Жени неуверенно улыбнулась. Она чувствовала, какой бы сильной она не казалась, это все показное, а за внешностью лишь сомнения и неуверенность по поводу Ортона.
— Ты ворвалась в мою жизнь, как метеор, — произнес Эли. — Молодая. Восхитительная. Ты поразила меня, похитила сердце. Ты была нежна, уязвима, почти ребенок, а я… — он запнулся, и его голос дрогнул.
С годами она стала еще красивее, думал Эли. Удивительная красота — с каждой их встречей становится все совершеннее. Самая желанная женщина, какую он когда-либо знал. Даже старина Ортон хочет ее. А может быть, и все коллеги-врачи и пациенты мужчины.
Теперь она была зрелой женщиной, а не девочкой, до которой он боялся дотронуться. Она побывала замужем и, вероятно, имела много мужчин, некоторым из них отвечала взаимностью. Что за девушка! Это тело, эти распущенные золотистые волосы, которые могут так разметаться по подушке, эта кожа.
— …Жаль, что у вас не сложилось с Пелом, — произнес он вслух.
— Мне тоже, — она отказалась еще от одной порции спиртного. — И еще жаль, что ничем нельзя остановить Ортона. Спасибо, что смогли встретиться со мной. Надеюсь, что не доставила вам слишком много хлопот… — Жени поднялась.
Эли Брандт последовал за ней:
— Подожди. Я отвезу тебя домой.
— Вам не по пути.
— Жени, пожалуйста. Ты так красива. Давай будем вместе.
Она удивленно посмотрела на Эли, не веря, что правильно поняла его слова. Его взгляд был прикован к ее губам:
— Сегодня, — добавил он.
Он перевел взгляд выше, и даже в полумраке Жени заметила в его глазах золотые отсветы.
— Думаю, что всегда тебя хотел, Жени, — он заговорил почти что басом. — И хочу сейчас.
Глаза держали ее, ласкали и согревали.
— Тогда вечером, — начала она. Вечером в день смерти Сони. — Вы пригласили меня на ужин. Здесь, в Нью-Йорке.
— Помню. К Джиордано, — он взял ее руку в обе свои ладони.
— А по дороге обратно я все думала в машине…
— О чем?
— Я все думала… — она встряхнула головой, — о нас.
— И я, дорогая. Но я не осмелился. Ты была слишком молода. Еще девочка. Я не хотел причинять тебе боль.
«Потому что ты был женат, — подумала Жени. — И женат до сих пор. Приведи тебя домой, и через несколько часов ты уйдешь обратно к жене».
— Я сейчас расплачусь, мы возьмем такси… и поедем. Официант!
— Нет, Эли. Девочки, которая была в вас влюблена, больше нет. Она превратилась в меня.
— Давай забудем о ней. Девочки больше нет, но есть женщина!
Жени рассмеялась. Напряжение спало, и внезапно она почувствовала облегчение, ощущение свободы.
— Женщина проголодалась. Отвези-ка меня не домой, а куда-нибудь поужинать.
Эли в изумлении посмотрел на нее и вдруг понял: эта женщина уже не та девочка, которой он бредил с десяток лет назад. Она стала еще прелестнее и превратилась в коллегу. И она предлагала ему не связь, не чувство, а дружбу. Путь к любви простирался в другую сторону.
— Официант! — снова позвал он. На этот раз официант появился сразу же, неся на подносе счет. — Нам нужен столик в соседнем зале, — объявил Эли расплачиваясь.
— Хорошо, сэр. Пожалуйста, следуйте за мной.
Они направились за официантом.
— Не разделишь со мной жаркое из барашка? Они не делают на одного, а я его очень люблю.
— Зависит от того, какой прожаренности. Средней?
— Совершенно верно.
— Тогда разделю.
— Ну слава Богу, — и он поцеловал ее в волосы, когда они переходили из бара в ресторан.
Они ели, не спеша, говорили о самых разных вещах, но постоянно возвращались в Ортону. Эли продолжал рассуждать, а за десертом заключил:
— И все же я не вижу способа остановить Ортона. Во всяком случае, не сейчас. И я не хочу, чтобы ты оставалась у него. Это может быть опасным, — врач нахмурился. — И я решил тебя похитить.
Жени не знала, смеяться или нет. Но Эли серьезно продолжал:
— Я использую все свои связи, чтобы тебя перевели в другой госпиталь, где не распространяется влияние Ортона.
— А что я скажу доктору Мессеру? — запротестовала Жени.
— Ничего. Я все улажу сам. И с ним тоже. Он один из моих старинных однокашников по медицинской школе, и я могу полагаться на его скромность. Я немедленно предупрежу его, чтобы начинал подыскивать тебе место. А тем временем возьмешь неделю или две отпуска.
— Я не могу!
Эли Брандт улыбнулся:
— Вот она, моя Жени. Не думаю, чтобы ты когда-нибудь пользовалась отпуском по болезни.
— Взяла лишь один день для Дэнни.
— Тогда делай, что тебе говорят. По возвращении ничего не придется рассказывать. В этом городе мне многие обязаны и по крайней мере трое заведуют хирургическими отделениями. Куда бы ты не пошла, будешь работать в той же должности, что и теперь.
— Невозможно! — произнесла она, но в тот же миг поняла, что Эли способен совершить невозможное. Он держал слово. — Не знаю, как тебя и благодарить.
— Зато я знаю, — лицо Эли осветилось улыбкой. — Будешь обедать со мной так часто, как только мы сможем встречаться.
— Не слишком ли много запрашиваешь?..
— Знаю. Знаю, доктор. Признаю, что веду себя нечестно: пользуюсь растрепанными чувствами девы в беде. Извини, старею. Согласен выполнять на твоей свадьбе роль отца и полагаю, это дает мне право просить об услуге, которую ты легко окажешь старику.
Жени наклонилась к Эли и поцеловала его.
35
Город лежал под ней в лучах бледного солнца, окрашивавшего дома в цвет грубого полотна. Подобно амфитеатру они поднимались симметричными рядами из расселины между горами. Как в амфитеатре в операционной, как места в анатомическом классе, подумала Жени. В белом хирургическом халате она стояла на узкой вершине горы. Сильный ветер трепал ее волосы, пытался заставить согнуться, но она крепко стояла на ногах. В безопасности на вершине, она смотрела вниз в долину и улыбалась…
Жени открыла глаза и повернулась к будильнику: как и каждое утро, в одно и то же время даже без звонка — 5.56. Она все еще улыбалась сну, но образы уже начинали растворяться.
Она потянулась. Хороший сон. И смысл его ясен. Через несколько недель она получит диплом — достигнет вершины после долгого подъема по склону: двенадцать лет назад она поступила в медицинскую школу и уже восемь лет занималась врачебной практикой.
Она завершала ее в новом Амстердамском университетском госпитале на Второй авеню. Эли сдержал слово, и во время обеда через шесть недель после их первой встречи, Жени рассказывала ему, что новая работа такая же ответственная и многообещающая, как в Маунт Зион или Эпископалиан.
Что она станет делать после аттестации — Жени еще не знала. Когда-нибудь обзаведется собственной практикой, но сейчас для этого у нее не было денег, а в долги залезать не хотелось. Бывшие коллеги предлагали принять участие в их делах, но она чувствовала, что такой компромисс не сможет ее удовлетворить. Она могла остаться там, где работала, или перейти в другой госпиталь в Нью-Йорке, но после восьми лет Жени жаждала перемен.
— Я просто в затруднении, — говорила она Эли. — Мне повезло: предлагают так много мест, но я никак не могу выбрать.
— Это не везение, — поправил ее Эли. — Когда-то я тебе уже говорил, что ты нашла свое место в жизни, а из тех мест можешь выбирать любое.
Ей предлагали преподавательскую работу. Это была бы перемена, и она высвобождала время для исследований. Жени подмывало согласиться, но, по сравнению с другими местами, здесь платили достаточно мало, а основная ее цель была собственная практика.
Она одевалась в предрассветных сумерках и вспоминала обрывки своего сна. Классический пейзаж — искусственный, но ничем не украшенный. Ни одного человека, кроме нее самой. Неужели на вершине ей придется постоянно оставаться одной? Изолированной от других, в довольстве и созерцании собственного совершенства?
Жени получила из Загреба письмо от Пела. Перед квалификацией он слал ей наилучшие пожелания. Сам он был доволен работой и вскоре собирался в командировку в Брюссель, Женеву и Париж. Он был бы рад узнать что-нибудь о ее семье. Но несмотря на близость к советскому блоку, несмотря на то, что многие из его знакомых часто ездили из Югославии в СССР, выяснить удалось очень немногое. Физики назвали бы это «отрицательным результатом». «Никто и понятия не имеет, где находится твой отец. Ходят слухи, что он: 1) на Украине работает на бензоколонке; 2) крестьянствует в Сибири. Не очень ободряющие сведения, я понимаю. Он стал абсолютно безликим и не проживает нигде. Но я уверен, что он жив.
О Дмитрии я узнал, что он работает в институте. Он физик, но преподавать ему не разрешают из-за его непатриотических (читай, диссидентских) взглядов. Поскольку, если он и публикует статьи, то не под своим именем, установить институт, где он работает, не удается.
Я не оставляю попыток и сообщу сразу же, если удастся что-нибудь обнаружить. А пока шлю тебе свою любовь».
На Тридцать четвертой стрит Жени села в автобус, направлявшийся к госпиталю. Она проснулась счастливая, с чувством выполненного долга, но жизнь будет продолжаться и после квалификации. Будущее представлялось ей туманным, и она оказалась совсем одна. Наверное, как и отец, как и брат. Все Сареевы одиноки, хотя никто из нас не выбирал одиночества.
В десять вечера она была уже в постели. Для нее слишком рано, тем более что следующий день был выходным. Но она сказала себе: завтра решу, что делать дальше. «Но куда дальше идти, — сонно размышляла она. — Ведь я уже на вершине».
Ветер развевал ее волосы на вершине. Она оторвала глаза от блеклого города, скользнула взглядом по долине и посмотрела на вершину соседней горы. Она была той же высоты, что и первая, но поплоще, было больше места, чтобы стоять. Вершина возвышалась над кронами деревьев — гладкая и белая. Из долины доносился звук колокола, свадебный перезвон с колокольни церкви. Звон стал громче, и на соседней горе Жени различила две фигуры. Невеста закутана в тафту, которая ниспадала к подножию. Бой колокола все приближался, становился настойчивее, раздавался под самым ухом…
Жени сняла трубку.
«Должно быть, телефон звонил трижды», — решила она, мотая головой, чтобы стряхнуть сон. Потянувшись к прикроватному столику, она включила лампу: семь минут четвертого утра.
— Доктор Сареева, — сказала она в микрофон.
— Мой долг сообщить тебе, товарищ доктор, что твой день рождения только что начался. Так что прими поздравления.
Потребовалась лишь доля секунды, чтобы узнать этот голос. Свадебные колокола замерли в пространстве, наряд невесты растворился в воздухе.
— Дэнни! Ты знаешь, сколько сейчас времени? Три часа утра!
— А здесь полночь. Точнее, прошло семь минут нового дня. 10 мая — годовщина твоего славного рождения.
— Я и забыла, — сегодня ей исполнялось тридцать два года. — Ты где?
— На противоположном берегу, где Тихий океан вовсе не оправдывает своего имени и швыряет разъяренные волны на терпеливые пески. Я тебя люблю, Жени.
Она усмехнулась:
— Ты напился.
— Весьма вероятно, что это сущая правда, — серьезно ответил он. — И тем не менее, я тебя люблю.
Жени зажала трубку между ухом и плечом и слышала в ней ритмичный пульс — звук волн, накатывающих на берег…
Он сделал ей предложение, написав его в небе, но буквы растворились в прошлом. Много лет назад, и ни одной весточки с тех пор. А сегодня в три утра он звонит по телефону.
— Я люблю тебя пьяный. Люблю трезвый. Ты свободна?
— Свободна?
— Разведена?
— Да.
— И ты не дала мне знать! Тысячи раз я собирался набрать твой номер. Тысячи раз сочинял в голове письма: такие умные, поэтические, романтические, но все кончающиеся печальной нотой, и я не мог переложить их на бумагу. Я ждал. Ждал все время этого магического слова, открывающего дорогу в рай, волшебного слова «развод». Слова, позволяющего русской и мадьяру соединиться в пространстве.
Жени не сдержалась и рассмеялась, выдав свою радость — слишком давно с ней никто так не разговаривал.
— С первой нашей встречи помню этот смех. Тогда ты убежала на химию.
— Ты был невозможен.
— Вовсе нет. Рассудительный, с расчетливой импульсивностью, я сразу же привлек твое внимание. Послушай, Жени, сегодня я наконец решил позвонить, потому что, во-первых, у тебя день рождения, и во-вторых, я намереваюсь добиться успеха. Шикарнейшие и богатейшие, как Крез, женщины молят о моей руке, а я сохранил ее для своего хирурга.
Жени никак не могла перестать смеяться:
— Замечательно, Дэнни. А что это за успех?
— Я начинаю снимать самый смотрибельныйфильм, который когда-либо задумывали. Скоро мое имя будет таким же употребительным в каждом дому, как шампанское и икра.
— В некоторых домах.
Дэнни тоже рассмеялся в ответ. Жени свернулась под одеялом с трубкой у уха, и ей казалось, что Дэнни лежит рядом.
— Приезжай ко мне.
— Не могу.
— Возьми отгул. Или два.
— У меня скоро квалификация, — она вкратце рассказала о своей работе и о неопределенном будущем.
— У меня есть предложение.
— Дэнни, — упрекнула его Жени.
— Не то, о чем ты думаешь. На север отсюда, в Монтерее, есть клиника. Ею руководит ветхий старикан Макс Боннер, прозванный Максом-ножом, — замечательный человек. Он каким-то образом раздобыл развалюху — видимо, старое имение — и превратил в госпиталь для ветеранов. Там он делает реконструктивные операции. Нас познакомил один мой актер, его бывший пациент, чей череп был когда-то раздроблен под его зеленым беретом. Клиника, как сказал мне Макс, занимается спорной хирургией, режет верхнюю часть головы, а методы разработал какой-то старый врач в Нью-Йорке. Максу нужен человек, знакомый с его методикой.
— Я знаю работы, о которых он говорит, и самого врача тоже, — голос Жени сделался напряженным.
— Замечательно. Я так и думал, что Макс станет морковкой, которую я повешу перед твоим носом, чтобы заманить сюда. Сам буду снимать рядом с Монтереем, в Биг Суре. Тебе понравится Калифорния. А когда я закончу фильм, мы…
— Не могу, — грустно ответила она. Радость ушла из ее постели, а минутой раньше она ощущала присутствие Дэнни, кожа горела от воображаемых прикосновений. Но она не способна броситься на другой конец континента только потому, что Дэнни позвонил среди ночи. Она положила трубку. Было почти четыре. Почти час она провела в мечтаниях.
Но через три дня Дэнни позвонил снова, уже в девять вечера по нью-йоркскому времени. Они снова говорили почти час, и перед тем, как попрощаться, Жени вдруг спросила, когда он позвонит опять.
— Завтра.
Абсурд, решила она, но счастье заблистало, будто солнце в потоке воды.
С тех пор Дэнни звонил по крайней мере дважды в неделю, и каждый звонок был еще драгоценнее, каждый разговор интимнее. Жени заметила, что жизнь сама собой изменилась: по вечерам, когда он мог позвонить, она хотела быть дома и про себя высчитывала, когда наступит пять часов по калифорнийскому времени. Каждый раз он просил ее приехать и каждый раз она отвечала отказом, но «нет» постепенно изменилось в «пока еще нет». Потом стало «а почему бы и нет?», но Жени не осмеливалась высказать это вслух.
Ей присвоили квалификацию, но работу она так и не выбрала, оставаясь до конца лета в новом Амстердамском госпитале.
После этого ей захотелось расстаться с больницей большого города, и по описанию Дэнни, клиника неподалеку от Монтерея сулила то, что ей было нужно. Но Жени убедила себя быть практичной. Нужно было в короткое время заработать как можно больше денег. До сорока лет ей хотелось открыть свой кабинет.
Лучшее предложение поступило из клиники Кутюр, занимающейся исключительно косметическими операциями. Она была расположена на Северном побережье, неподалеку от старейшего поместья Вандергриффов — Ванвуда.
По дороге на собеседование ей захотелось попросить водителя проехать мимо, чтобы узнать, не продала ли Мег и Ванвуд, или он принадлежит всей семье и им управляет один из дядей Пела. Вернется ли сюда когда-нибудь сам Пел? Может быть, с новой женой? Жени откинулась на спинку сиденья, разглядывая розовое и белое цветение за окном. Нет смысла менять маршрут. Нет смысла совершать путешествие в прошлое.
Они проехали через сверкающие ворота и направились по петляющей дорожке, обсаженной платанами. Сама клиника представляла собой элегантное, в колониальном стиле, поместье, с налетом неоклассицизма. Она прошла под колоннами в приемную, назвала свое имя, и ее немедленно провели к директору.
Директор и основатель клиники Кутюр, доктор Дональд Кламмер, пришел от Жени в восторг — не от ее рекомендательных писем и обширного опыта, а от ее наружности. Прежде чем она успела спросить, чем ей предстоит заниматься, Дональд Кламмер воскликнул:
— Работа ваша! Хирург, который выглядит вот так, дороже миллионной рекламы. Какая кожа! Какие груди…
Жени почувствовала отвращение, которое все более нарастало по мере того, как они ходили по клинике. И постепенно переросло в ярость. Она узнала, что пациентов — о которых говорили лишь как о «клиентах» — не подвергали даже рентгеновскому обследованию, зато выполняли их любую, даже самую несусветную просьбу. Клиника, представлявшая нечто среднее между роскошной парикмахерской и фешенебельным борделем, хвасталась, что осуществляет «немедленные перемены». Рекламные листовки обещали придать обратившимся именно тот образ, который они выносили в своей голове, или преобразить в того, кто больше всех нравится. Многие клиенты, рассказывал доктор Кламмер, приходят сюда с фотографиями из журналов и газет, где изображены модели или великие мира сего, и просят их сделать такими же.
— И вы соглашаетесь? — спросила потрясенная Жени.
— А почему бы и нет? Каждый из них перед тем как попасть в операционную, подписывает соответствующий документ. И если результаты клиенту не по душе, мы все равно оказываемся прикрыты.
«Неумелые и не располагают никакой репутацией», — Жени вспомнила, что о таких врачах говорил Эли. Возможно, их деятельность еще и незаконна. Но вслух она ничего не возразила директору, когда тот водил ее по палатам. Каждая была отделана в собственном стиле. Больничные койки напоминали: то топчан из эпохи раннеамериканских колонистов, то викторианские медные кровати, то французские, в стиле ампир. Стены затягивал атлас или бархат, на полах лежали мягкие ковры. Палаты, где находились больные, никак не могли быть стерильными, поняла Жени. Цветовая отделка была везде выполнена в одних и тех же тонах: от бургунди до пурпурного, наверное, чтобы скрыть пятна крови и другие выделения тела.
Кутюр предлагала широкий спектр пластических операций, некоторые из них были потенциально опасными, как, например, имплантация силиконовых частей, или бесполезное, эффект которых длился от нескольких недель до нескольких месяцев. Никакую процедуру здесь не называли хирургической. Сестры, чьи шаги скрадывал роскошный ворс, носили форму, на которой красовалось имя известного модельера. К хирургам обращались как к «скульпторам», работающим непосредственно с моделью-клиентом. Толстые ляжки, ягодицы и животы становились худыми (а как же со шрамами, подумала Жени), бицепсы на руках крепчали, зады переставали казаться обвисшими, груди делались больше и крепче, носы выпрямлялись и укорачивались, изменялась форма подбородков, с лиц убирались веснушки и родинки, новые волосы внедрялись в череп, перекраивалась форма кистей и ступней. Казалось, ни одна часть тела не оставалась у клиентов доктора Кламмера естественной. Его собственной специализацией было «устранение национальных черт».
Через полтора часа Жени вышла из клиники совершенно подавленной. Заведение показалось ей гигантским сборочным конвейером, где у клиентов уничтожают все индивидуальные черты, а те с удовольствием платят тысячи долларов за то, что их превращают из людей в безликий продукт.
Хотя раньше Жени занималась в основном реконструктивной хирургией, она нередко выполняла и косметические операции, но никогда не ощущала, как здесь, их банальности. Ее больные просили об операции, чтобы добиться гармонии с собой, клиенты Кламмера, наоборот, старались убежать от себя. Требуя, чтобы им сделали внешность, как у кого-нибудь другого, они обнаруживали глубокое неудовлетворение собой, подчас даже настоящую ненависть.
Она думала об искалеченных, обгоревших на пожаре, рожденных с изъяном. Их самовосприятие формировалось из того, какими их видели другие. Но другие с обычной внешностью, кто приходил к Кламмеру и просил сотворить им наружность фотомодели, нуждались в помощи и утешении, которую им не мог предоставить хирург. Хищник Кламмер — и вероятно, другие, подобные ему, играли на слабости богатых людей, готовых заплатить любые деньги, только чтобы укрыться в оболочке другого.
Вечером, когда позвонил Дэнни, Жени сказала, что возьмет несколько свободных дней и через неделю или две прилетит в Калифорнию.
…Утренняя дымка еще не рассеялась, когда Жени подошла к северному викторианскому зданию, части которого, как различные замыслы, распространялись в разные стороны. Буйная растительность покрывала землю и наполняла терпким ароматом воздух. На северный вкус здешнее утро в конце июня было слишком изобильным.
Жени поднялась по лестнице к распахнутой двери и вошла в круглую комнату с высоким потолком, по стенам которой стояли простые скамьи. Комната была разделена. В другой ее части, напротив, на возвышении за столом сидела сестра и что-то писала, другая ручка покоилась у нее за ухом. Она оторвалась от работы и улыбнулась Жени:
— Доброе утро.
— Доброе утро. Где я могу найти доктора Боннера?
— Знаю не лучше, чем вы, — пожала плечами сестра. — Попробую разыскать.
Она взяла со стола серый микрофон, и ее объявление смешалось с хрипом громкоговорителя:
— Макс, здесь кто-то к тебе пришел. Если меня слышишь, выйди.
Жени нахмурилась. Простота комнаты ей понравилась, но запанибратское обращение сестры показалось непрофессиональным. Та не спросила ни имени Жени, ни цели ее прихода и вызывала врача так, будто была с ним ровней. Жени заподозрила, что клиника, как и здание, в котором она располагалась, была доморощенной, а врач — любителем или шарлатаном.
Ждать не было смысла. Она уже почувствовала, что из себя представляла эта клиника. У Дэнни были самые лучшие намерения, но он не мог судить о качестве медицинского учреждения, а восторг по поводу «хорошего человека» врача объяснялся тем, что Дэнни собирался сделать его героем одной из своих повестей.
Ради него она все же подождет десять минут, но не больше. Когда время истекло, Жени поднялась и направилась к выходу. За ней поспешил коренастый человек.
— Вы та самая, которую прислал Ритко? — грубо спросил он.
Жени снова нахмурилась, но слегка согласно кивнула в ответ.
— Хорошо, детка. Хочешь осмотреться?
Жени уже хотела сказать, что не стоит. Ее никто еще не называл деткой, и она, тридцатидвухлетний хирург, приехала сюда не для того, чтобы ее опекали.
Но мужчина протянул руку:
— Я Макс Боннер. А вы — Жени Сареева, так? Ритко не было смысла рассказывать мне о вас. Я читал ваши работы. Высший класс.
Его рука оказалась меньше ее: широкая ладонь с короткими пальцами — вовсе не кисть хирурга. Рукопожатие было почти сокрушительным, но Жени поразила доброта, мелькавшая в глазах врача.
Он двинулся вперед, слегка выставив одно плечо, и она последовала за ним. Коридор вился и разветвлялся, как будто они шли по лабиринту. Позади оставались палаты, лаборатория, операционная, аптекарская. Макс не удосуживался объяснять, полагая, что назначение каждой комнаты ясно и так.
Но пока они шли, он ни на минуту не умолкал, не позволяя Жени вставить вопрос.
— Впервые я увидел боевые действия в Корее, поехал добровольцем во Вьетнам, но быстро смылся оттуда, потому что два ненормальных офицера меня вовсе затрахали — везде совали свои носы, учили, что делать. Не люди, а задницы. Хотели, чтобы я прямо там делал реконструктивные операции. Это в условиях-то полевого госпиталя. Ненормальные. Солдат прежде всего нужно эвакуировать. Такие операции требуют времени и специальных инструментов.
Я удрал, а их носы так и завязли в чужих делах. И вот я здесь. В этом доме был детский сад, пока он не разорился, и я купил здание за бесценок.
Мы сразу же привезли сюда ветеранов и начали с ними работать, еще до того, как приобрели оборудование. Дьявольщина. В других местах ветеранов заносят в списки ожидания и заставляют побегать за страховыми деньгами. Стоило ехать на войну, куда их послали сражаться, чтобы потом ходить с протянутой рукой.
Мы провели первую операцию в тот самый день, когда открылись. Еще не было проводки, но опыт работы в боевых условиях приучил импровизировать. Как-то мне даже пришлось воспользоваться перочинным ножом, и ребята окрестили меня Максом-ножом, или для краткости просто Ножом. Мне-то что. Думаю, парни считают меня жестким и от этого жестче становятся сами. Вьетнам вытряхнул стержень из многих мужчин. Я их не осуждаю. Сам был там и видел, с чем им приходилось сталкиваться.
Макс остановился у кровати тощего веснушчатого юноши и подал ладонь:
— Дай пять, — юноша попытался улыбнуться. Вся левая сторона его лица была в шрамах. Левого уха и части носа не хватало. — Как дела, детка?
— Так себе.
— Не забывай, что я тебе говорил. На этой неделе займемся носом, а может быть, и ухом. А потом уж приступим к челюсти. Вызовем доктора Рачида — величайшего разэтакого хирурга-дантиста во всей Калифорнии.
— Спасибо. Надеюсь, что сработает.
— Надеешься? Послушай, детка, никогда не говори этого слова. Разве я тебе не обещал?
— Обещал, Макс.
— Ну, и что же я тебе обещал?
— Что с моей наружностью будет все в порядке.
— Ну нет! — заревел врач. — Не все в порядке! Ты будешь так чертовски симпатичен, что ни одна леди не даст тебе пройти.
— Да.
— Вот что я обещал, — и помахал рукой, отходя от кровати. — Парню досталось, — рассказывал он через несколько минут Жени. — Пошел с приятелем-однополчанином в разведку и на ничейной земле нарвались на мину. Дружка убило, а старину Хэнка бросили там умирать. Семнадцать лет. Провалялся три дня, пока не подобрали. Потом переправили на самолете в Сайгон и наспех заштопали перед тем, как отвезти домой. Гнусная работа. Как только он попал сюда, пришлось снимать все швы, и в тот же день умерла его мать — сердечный приступ: скоты послали ей телеграмму, что сын погиб в бою, — Макс энергично затряс головой. — Тяжело. Но парень выберется!
Они навестили и других больных, а потом Макс каждый раз рассказывал, при каких обстоятельствах они получили увечье. «Тяжело, — подумала Жени, — можно отнести к любому из них».
Они завершили обход и, сделав полный круг, вернулись в круглый вестибюль, где сестра по-прежнему что-то писала.
— Теперь слушай, детка, — Макс встал спиной к двери. — Я был не против показать тебе клинику и ценю твой интерес. Ты первоклассный врач, все рекомендации при тебе, работала с лучшими хирургами, но это место не для тебя. Здесь тяжело, мало оборудования и людей, слишком много пациентов, денег никаких, времени тоже, одна сверхурочная работа. Приходится полагаться на приходящих хирургов-добровольцев, как этот самый Рачид, который будет выкраивать челюсть Хэнку. Но и они чертовски загружены, так что остается только поворачиваться. Иногда мы назначаем операцию после полуночи. Разве это место для леди-хирурга из Гарварда?
— Может быть, для разнообразия и мне будет позволено что-нибудь сказать?
Брови Макса поползли вверх:
— Конечно, детка.
— Прежде всего, я не детка. Затем, не ваше дело объяснять мне, подходит мне это место или нет. Моя специальность — пластическая краниальная хирургия, особенно на верхней части черепа. Из того, что я здесь увидела, я поняла, что мой опыт вам нужен. И я буду с вами работать, нравится это вам или нет, — ее собственные брови тоже изогнулись от удивления, когда она поняла, что только что сказала.
Макс усмехнулся:
— Ладно, капитан. Но для меня здесь все детки. У нас нет званий. Достаточно было этих трахнутых званий в армии. Если ты здесь работаешь, то ты «детка» или «Жени» или как еще кому вздумается тебя назвать. Будешь делать то же, что и я. Оперировать станешь лишь часть времени, а большую часть придется работать санитаром, сестрой и даже целой бригадой уборщиц. И зарплату хирурга не жди. Близко к тому не получишь. Хирург с Восточного побережья, вроде тебя, мог бы разъезжать на трахнутой спортивной машине, а на то, что тебе предлагаю я, купишь только подержанную — а то еще и мотоцикл. Говорю тебе сейчас — ты не выдержишь, детка. Я здесь за старшего, и у меня все как в чертовой армии. Никаких увольнительных, и я не признаю усталости. Ежемесячных передышек тоже нет. Суровое место для женщины, особенно для такой обалденной. Здесь секс тебе ни к чему, образование тоже. Нужна лишь пара рук, и они принадлежат мне. Так что видишь, доктор, не то это место.
— Пошел ты, — в первый раз в жизни выругалась Жени и, оттолкнув Макса, протиснулась в дверь.
А он морщился изнутри на солнце:
— Эй, детка, хочешь, приходи завтра в восемь утра.
Жени шла, не оглядываясь.
По дороге обратно в Биг Сур во взятой на прокат машине Жени пыталась разобраться в мешанине мыслей и чувств. Чувства оказались явно сильнее. Настолько сильнее, что она, не размышляя, согласилась на работу с Максом. А тот был настолько черствым, что в ответ продолжал ее обижать.
С таким человеком она работать не могла. Особенно после того, как узнала о столь скудном вознаграждении. Это значило бы похоронить мечту о собственной практике. В Нью-Йорке она все взвесила, напомнила себе Жени, и пришла к выводу, что прежде всего следует заработать денег.
И почему она сказала Максу, что будет с ним работать, нравится тому это или нет? Такие заявления были не в ее характере: она привыкла взвешивать свои шаги и не принимать необдуманных решений. Не потому ли, что почувствовала, что в ней здесь нуждаются? Или это просто реакция на клинику Кутюр, чья помпезная роскошь казалась насмешкой над простотой здешней больницы?
Рядом с насыпью шоссе № 1 расстилался океан. Над водой летали пеликаны. Всю дорогу Жени ехала с опущенным стеклом, и ветерок овевал ее лицо свежестью деревьев и моря. В четыре, когда Дэнни закончил съемку, она будет с ним снова, почувствует, как от его прикосновений оживает кожа, ощутит естественный аромат его тела, манящий сильнее, чем запах цветения. Их губы сольются воедино, и они, как ночью и утром, снова отдадутся друг другу. Она ощутит свободу и растворится в его светлой радости, светлее, чем сверкающий в потоках солнечных лучей океан справа от шоссе.
Стрелка спидометра застыла у семидесяти. Она отпустила ногу и снизила скорость. Пятьдесят. Решение было принято за нее еще до того, как она села в самолет. Дэнни.
Когда она приехала, он был уже в отеле и ждал во дворе у входа в их коттедж. Жени выпрыгнула из машины, но что-то в его лице подсказало, что у Дэнни не все в порядке.
— Ты не снимаешь…
Он быстро поцеловал ее:
— Проблемы с камерой. Может быть, саботаж. Операторская бригада требует прибавки и выплаты вперед.
Они вошли внутрь и сели на кровать, и Дэнни начал рассказывать о трудностях с труппой, съемочной бригадой, о нехватке денег.
— Все одно и то же. Спонсоры охладевают, средства не поступают так, как было обещано, — он выглядел скучным, разочарованным. Никогда Жени не видела Дэнни таким. Его бьющая через край энергия казалось такой же его неотъемлемой чертой, как и черные кудри.
Он нежно погладил Жени по волосам:
— Может быть, все эти годы я переоценивал себя, — его голос звучал глухо. — А на самом деле мне и нечего предложить.
— Не говори так.
— Бывший человек, которого вовсе никогда не было, — Дэнни отрывисто рассмеялся и отнял от ее волос руку. — Я тебе не рассказывал, как расхвалили мой последний фильм «Судорожное движение»?
— Замечательно. Где же?
— На страницах некрологов. Самая короткая в истории жизнь. Создателя благосклонно сравнивают с авангардом. Замечают только, что у него недостало приличия умереть вместе с другими авангардистами, — он поднялся и прошелся вдоль кровати. — Я попытался создать роман из основ квантовой теории. Фантазия нашего века. Думал, фильм сплетет воедино науку и искусство, землю и космос. Оказалось, до этого еще множество световых лет. Но звезды будут мертвы, когда их свет достигнет экрана.
— Дэнни…
Он перестал расхаживать.
— Иди сюда.
Жени раскрыла объятия, и он бросился в них, губами прильнул к ее рту и соединенные они упали на кровать. Они целовались до тех пор, пока Жени не оттолкнула его, чтобы набрать воздуху. Он поднял ее юбку, нащупал рукой трусики.
— Сырые, — удивленно произнес он.
— Давай.
Он разделся наголо, снова лег и тут же овладел ею, без игр, без ласк. Она хотела объять его всего, с его разочарованием и гневом, превратить их в грубое желание, чтобы разочарование и гнев он излил в нее.
Сжимая ее ягодицы, он был глубоко уже в ней, но не отводил глаз от лица. И Жени не опускала век, видела его гримасу оргазма, сама ощутила наивысшее напряжение и следом за ним освобождение. Волнами снова и снова, пока едва могла дышать, хотела остановиться, но, как на воде, продолжала качаться. Потом волна замедлила свой бег и наступил покой.
Их тела были по-прежнему слиты. Дэнни всем весом лежал на Жени. Дыхание вырывалось толчками.
— Я люблю тебя, Дэнни.
Он не ответил, даже не пошевелился. Потом Жени почувствовала, что он дрожит. Он поднялся на локтях. На лице уже не было боли, только удивление и следы слез. Одна из них упала Жени на губы, и она ощутила солоноватый вкус, попробовала языком. И в тот же миг Дэнни прижался к ней губами. Поцелуй был бесконечно нежным.
На следующий день Жени поехала в клинику и сказала Максу, что выйдет на работу в сентябре. Сначала она должна была вернуться в Нью-Йорк и выполнить все обязательства перед госпиталем, а потом уже готова была приехать обратно.
Макс пожал плечами, пробормотал несколько слов, но Жени их не расслышала, потом крепко пожал руку:
— Спасибо, детка, — грубовато поблагодарил он.
В самолете она ощутила, что жизнь приобретает новую полноту. Она возвратится в Калифорнию в объятия Дэнни и в клинику Макса. И хотя работа будет ее удовлетворять, она не станет единственным смыслом ее жизни. Жени сможет стоять на обеих вершинах: оставаться хирургом, увлеченным исцелением людей, и быть женщиной, любящей и любимой одаренным человеком, который в ней нуждается. Она влюбилась в него еще девочкой, и он был ее первым мужчиной. Ее тело, та его часть, которая сопротивлялась рассудку, всегда его любила.
Они еще ничего не решили о браке. Пока еще нет. Жени прирастет к клинике, а Дэнни постоянно мотается: то редактировать и править, то проталкивать и распространять материал. Съемочная бригада вернулась и объяснила, что хотя они все и обожают Дэнни, все же захотели посмотреть, сможет ли он достать больше денег.
— Ваше искусство замечательное, — без обиняков заявил старший оператор, — но ведь нам нужно есть. Ну да бог с ним. Будем держаться вместе. Поголодаем сейчас, поедим потом. Начнем крутить.
Рассказывая об этом вечером, Дэнни снова был полон энтузиазма и как никогда верил в успех фильма.
«Космическая любовь» станет гвоздем сезона, соберет небывалую аудиторию зрителей и превратится в веху на пути создания новых фильмов о космосе, звездах и времени на долгие годы вперед. Он разбогатеет, Жени откроет свою практику в Южной Калифорнии, и они заживут в роскоши.
Но ночью на него снова нахлынул пессимизм: никто не поймет его фильма, судить о нем будут снова неправильно, публика над ним станет смеяться и фильм умрет. Если это случится, Дэнни вновь уйдет на вольные хлеба и вернется к сценариям. Они поселятся где-нибудь неподалеку от клиники Макса, и на юг он будет уезжать, только когда потребуется обсудить сценарий.
В любом случае, как только Жени вернется в Калифорнию, они заживут вместе, а когда настанет время, поговорят о браке, а может быть, и о детях.
Жени не хотела ждать, но сейчас она находилась в воздухе и летела, чтобы закрыть нью-йоркскую главу своей жизни. Ей она казалась уже историей.
В последующие недели стояла изнуряющая жара. Жени не могла припомнить, чтобы время тянулось так медленно, тяжелые, как черная патока, дни едва сменяли друг друга. Она была в Нью-Йорке и нет, постоянно помня, сколько времени теперь в Калифорнии, по вечерам устраивалась у телефона: они решили звонить попеременно, чтобы поделить расходы.
В воскресенье Жени разговаривала еще и с Чарли. В Нью-Йорк они собирались переехать не раньше Дня Труда, когда Тору должен был приступить к работе в Ортопедическом институте. Тогда — время длилось бесконечно — Жени уже окажется в Калифорнии.
Все трое приехали в Нью-Йорк на пятую годовщину Т.Дж. и на двухсотлетие Америки. Жени взяла свободный день. Они вспоминали то четвертое июля, когда родилась Джой, и Чарли заметила, как по-новому светится Жени, когда говорит о Дэнни. Она настоятельно рекомендовала подруге подумать о браке.
— Единственный институт в мире, которому люди должны быть привержены, — заметила она и послала Тору через стол изумленный взгляд любви.
К августу Жени стала уже настолько беспокойной, что не могла заснуть по ночам. Даже из-под закрытых век она видела, как формируется ее новая жизнь. И чем ближе было начало, тем меньше она видела причин, чтобы откладывать свадьбу.
36
Зимние птицы облетали побережье, когда серым прохладным утром в середине ноября Жени бежала вдоль кромки воды. Соленый воздух и физические упражнения освежили ее. Птицы сторонились, как будто признавая ее право на бег, но слишком были горды, чтобы взлетать. Не останавливаясь, Жени улыбалась им. Дэнни рассказывал ей о птицах, давал бинокль, показывал определитель, учил, как узнавать их из окна кухни, на побережье и в лесу. Птицы его очаровали. Разговаривая с Жени, он мог замолчать, отвлечься, если внезапно мелькала птица.
Жени считала, что это очарование было неотъемлемой частью его артистической натуры. Птицы казались Дэнни и дикими, и ручными, жили среди людей, но независимо от них. Они расцвечивали своим полетом пространство и были свободными.
В клинике мужчины лежали рядами, не обладая свободой забыть войну, исказившую их тела, изувечившую лица, мертвой хваткой держа сердца и умы. Жени знала, что реконструирование их внешности являлось только первым шагом.
Она была поглощена работой. Умение Макса поражало. Его швы были необычайно аккуратными, надрезы миниатюрными и точными, несмотря на толстые короткие пальцы. Он вынужден был проявлять артистизм, импровизируя, когда не хватало инструментов и оборудования. Делал молниеносный выбор между традиционными и новаторскими методами.
Меньше чем за два месяца Жени привязалась и к Максу, и к самой клинике. О частной жизни врача она знала только то, что он сам ей рассказал при первой встрече — большую часть жизни Макс провел в армии, от сестер она услышала, что он разведен и не хотел, чтобы кто-нибудь упоминал о его прошлом браке.
А вот о Дэнни Жени знала все и любила его. Но чем дольше они жили вместе, тем, казалось, дальше отодвигалась их свадьба. Им нравилось оставаться вместе, но не хватало для этого времени. Дэнни часто отлучался в Голливуд для завершающих штрихов своего фильма, встречался с людьми, обещающими продвигать его на экраны. А когда он возвращался в их маленький домик — больше напоминающий коттедж на территории усадьбы — Жени частенько была на работе. Иногда она проводила в клинике по шестнадцать часов или все сутки, ассистируя на операциях специалистов-добровольцев, вызвавшихся помочь в свободные часы. А это означало, как и предупреждал Макс в июне, что операции начинались глубокой ночью.
Свой распорядок дня она никак не могла приспособить к работе Дэнни, и он тоже не мог поступиться своими планами. Первые десять дней — их «медовый месяц», как вспоминала о них Жени — оказались насыщенными счастьем. Любая минута, когда они были вместе, напоминала оазис, где находила отдохновение их любовь. Они говорили о будущем, придумывали смешные имена своим детям, распределяли домашние роли (Дэнни собирался готовить, Жени предстояло менять электролампочки и вызывать сантехника, стирку они поделили на двоих, но дом решили поставить на сваи, чтобы внутрь не проникала никакая грязь и ее не пришлось отчищать) и неопределенно рассуждали о предстоящей свадьбе: где состоится церемония и кого на нее приглашать.
Теперь же они редко заговаривали о будущем. Сложности совместной жизни в настоящем нахлынули на них. Последние три дня Дэнни был в отъезде. Они говорили сейчас даже реже, чем тогда, когда прошлым летом Жени жила в Нью-Йорке.
Несколько последних минут Жени ощущала спазм в боку, но не обращала на боль внимания: обычно если она продолжала бежать, боль проходила и у Жени наступало состояние невесомости, она не чувствовала ни боли, никаких других неудобств.
Но сегодняшним утром спазм не отпускал. Жени пришлось замедлить бег, перейти на трусцу, потом на шаг. Стайка песочников бросилась врассыпную, но другие птицы посторонились лишь на ярд и продолжали возню в поисках пищи.
Схватившись за бок, Жени пошла еще медленнее, с мокрого попала на сухой песок и, волоча ноги, с каждым шагом отбрасывала его перед собой. Дэнни до полуночи не вернется, думала она. И тогда он расскажет ей, что с ним случилось с тех пор, как они виделись в последний раз, а потом они займутся любовью. И будут счастливы, скрепив свои узы крепче слов.
Заснут они в два или три утра, а через несколько часов она тихо, чтобы не тревожить его, поднимется, не станет греметь на кухне, а выйдет на несколько минут раньше и позавтракает по пути.
Завтра, ради сна, она пожертвует бегом, но все равно будет чувствовать себя усталой. Сейчас их тела жили не в общем ритме. И Жени мечтала о времени, когда и днем, под сверкающим солнцем, как тогда в июне, когда они решили сойтись, они станут проводить часы вместе.
После того как фильм будет завершен, говорила она себе, они вернутся на солнце.
Жени повернула обратно. Спазм немного отпустил. Она ускорила шаг — боль не усиливалась. Тогда она побежала, сначала осторожно, легко, затем в обычном своем ритме. Боль стала проходить. Вскоре Жени пришла в обычную форму — бег, как всегда, снял неприятные ощущения в теле. Через десять минут она была в машине, натянула рубашку и перед клиникой отправилась домой, чтобы принять душ.
Утро по-прежнему оставалось серым и небо угрожало дождем. «День предстоит длинный», — подумала Жени.
Она включила зажигание. Машина чихнула, но не завелась. Жени к этому привыкла: старый «Шевроле» обычно пускался с третьего раза. Она купила его в первую неделю в Монтерее, как только был открыт ее новый счет, и назвала «бабушкой»,потому что машина, как старая леди, не могла тронуться не поворчав. Сегодня она запустилась лишь с пятой попытки, но мотор заработал мягко, легонько похрапывая.
На дорожке к коттеджу путь Жени перегородил «Ягуар» серебристого цвета. Она остановилась за ним, размышляя, кто бы это мог их навестить в такой ранний час. К тому же приехав в такой машине. Может быть, кто-нибудь из пластических хирургов из Беверли Хиллз, с блистательной клиентурой, решил проконсультироваться по поводу операции на верхней части черепа? «Вряд ли», — подумала она, — с неизменным стуком открывая дверь «бабушки».
В машине никого не оказалось. Может быть, водитель сам себя впустил в дом — ее дверь никогда не бывала закрытой.
Жени вошла и окликнула:
— Эй, кто здесь?
— Прибыл сам принц Очарование, — из кухни с широкой улыбкой выступил Дэнни. Заметила маленькую безделушку, которую я тебе привез из города Ангелов?
— Где она? — Жени быстро оглядела комнату.
Он взял ее на руки, поднял в воздух, поцеловал в шею, подбородок, рот, в глаза. Когда Дэнни поставил ее на пол, Жени задохнулась больше, чем он.
— Машина. Она твоя.
Жени уставилась на него:
— У тебя что, крыша поехала?
— Да, да, я ехал всю ночь. Снялся из Лос-Анджелеса в два. Эта серебристая кошечка идет семьдесят, а думаешь, что тридцать, — несмотря на долгую поездку, Дэнни сиял. «Космическая любовь» покупали для общенационального проката и делали ему хорошую рекламу. — Жена процветающего голливудского режиссера не должна ездить в битом «Шевроле».
— Она не битая, это «бабушка», — попыталась Жени защитить машину, которую купила на скудные сбережения, скопленные за годы практики.
— «Ягуар» твой. Я твой. И мир — наш, — Дэнни прокружил ее в танце по комнате. — Теперь мы очень важные персоны или скоро ими станем. — На премьеру куплю тебе алмазы или, если хочешь, изумруды. Твои розовые плечи покроем горностаем, в огненные локоны вплетем диадему, на каждый палец наденем по кольцу, на ноги — жемчуг.
Жени кружилась с ним вместе по комнате:
— Дэнни, Дэнни, ты сумасшедший, — протестовала она.
Он поцеловал ее, отстранил, затем снова притянул к себе:
— Не сумасшедший. Просто преуспевающий мужчина. Богат, знаменит. И без пятнадцати семь уже танцую с самой красивой женщиной в мире, чьи тренировочные костюмы будут отныне оторочены норкой, когда после бега она станет возвращаться на своем «Ягуаре» по Родео драйв к себе в каньон Лаурель.
— Я не понимаю ничего из того, что ты говоришь.
— Беверли Хиллз. Тебе понравится каньон Лаурель. Смог там поставлен вне закона. Все чисто и ясно, как на только что отпечатанном тысячедолларовом билете. Ты предпочитаешь дом в стиле Тюдор? Или в испанском стиле? Или, может быть, тебя устроит небольшой замок на манер Версаля?
— Я подумаю. Через день или два скажу, что решила.
— Подожди. Я придумал еще лучше. Мы построим копию Зимнего дворца. Хочешь, моя Россия?
— Вечером скажу. А теперь мне пора в душ. Я и так опаздываю.
— Разве ты собираешься сегодня в клинику? — ошеломленно спросил он. — Я всю ночь не спал. Сейчас мы займемся невероятно дикой любовью, а потом поедем прокатиться на нашем новом серебристом чаде. Или может, хочешь предаться любви в его красивом чреве?
— Дэнни, побудь немного серьезным, — Жени улыбнулась и постаралась пройти мимо.
Он схватил ее за руку.
— Отпусти. Я опаздываю.
— Неважно. Я хочу, чтобы сегодня ты оставалась дома, — Жени поняла, что он не шутит.
— Вечером я приду, — мягко проговорила она.
— Ну уж, дудки. Ты останешься со мной.
— Ты устал. Поездка была тяжелой…
— Нечего меня опекать!
— А на меня нечего давить, — Жени с силой выдернула руку.
— Если ты уйдешь, я отвезу «Ягуар» туда, откуда привез.
— Пожалуйста, — холодно ответила она. — Сейчас уберу мою машину. Она мешает тебе проехать.
Жени вышла из дома и задом подала машину на улицу. Когда она вернулась, Дэнни ждал у дверей. Он нежно погладил ее волосы:
— Жени, пожалуйста, останься. Ты была со мной в трудные времена. Раздели со мной успех.
Просьба тронула ее. Этот гордый человек не умел извиняться. Блестящий мужчина, поведавший свои горести, позволял утешать его своим телом.
— Извини, — проговорила она. — Я хочу делить с тобой успех и хочу делить с тобой жизнь. Я хочу, чтобы и ты делил свою жизнь со мной. Я горда тобой и радуюсь за тебя, и вечером мы это отпразднуем. Но сейчас я нужна в клинике и должна принять душ, — Жени хотела погладить его по щеке, но он отстранился.
Выйдя из ванной, Жени окликнула Дэнни по имени, но не получила ответа — ни из спальни, ни из гостиной, ни из кухни. Дэнни не было нигде в доме. Она выглянула из окна на дорожку и поняла, что «Ягуар» тоже исчез.
— Где ты была? — закричал Макс, как только она вошла в клинику. — Час назад у Вилльяма началось сильное кровотечение. Мы подготовили операционную к неотложной операции. Что ты вытворяла? Крутила со своим партнером?
— Не твое дело, — твердо ответила Жени. — Потом, ведь ты обожаешь Дэнни.
— Бездельница, — пробормотал Макс. Сегодня он был необыкновенно ершист, может быть, из-за того, что сильно беспокоился по поводу кровотечения Вилльяма. Но Жени была не в настроении спорить с ним дальше.
— Давай начинать, — предложила она. — Пойду мыть руки и через несколько минут буду готова.
— Больно уж ты быстро моешься, — проворчал Макс и последовал за ней.
На мгновение раздражение против него и Дэнни перешло в раздражение против всех мужчин. Высокомерные и самовлюбленные — эти жалкие существа стараются утвердиться тем, что кричат на женщин.
Жени сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Потом она вспомнила о Вилльяме, нежном создании, так любящем сладкое. Когда боль одолевала его, он закатывал глаза. Может быть, сейчас он истекает кровью. Жени подошла к раковине и включила воду.
Она ассистировала Максу, как делала всегда во время внеплановых операций, когда не требовались ее специальные знания, порой он казался ей волшебником: так страстно хотел спасти человеческую жизнь, что его энергия представлялась сверхъестественной, мысль летела так быстро, что Жени осознавала, что они сделали, только после окончания операции.
Когда они очистили лицо Вилльяма от крови, кровотечение оказалось не таким серьезным, как они ожидали. Швы по обеим сторонам лица у восстановленных ушей не кровоточили. Кровил лишь шов, разошедшийся на шее у основания черепа. Через сорок минут операция была закончена.
— Задница, — ворчал Макс, когда сестра покатила Вилльяма в реанимационную. — Я просто задница. Как я мог это допустить?
— Ты же не бог, — напомнила врачу Жени.
Он бросил на нее взгляд, пожал плечами и едва заметно улыбнулся:
— Ты права, детка. Я всего лишь Егонож. Но иногда мне хочется, чтобы сам генералводил моей рукой. Ну ладно, детка. Отдохни, съешь булочку. На утро у нас по плану Ленни, и насколько я могу судить, мы проторчим здесь целый день.
Услышав совет, Жени улыбнулась:
— Возьми и ты булочку. И не волнуйся, все будет хорошо.
Операция на лбу Ленни означала работу в опасной близости от мозга. Необыкновенно сложная, она представляла потенциальную угрозу и напоминала то, что делал Ортон и результаты чего публиковал в своих статьях. Но Ортон работал с высококвалифицированной бригадой и имел в распоряжении сложное оборудование, доступное только избранным. А все чудеса Макса оставались непризнанными.
Для Макса Боннера любое ранение, особенно увечащее человека, было личным врагом, и он использовал все средства, чтобы его победить. Если соответствующий метод еще не был разработан, он старался придумать его сам. Сталкиваясь с самыми страшными травмами, он ложился в засаду и читал все, что имело хоть малейшее отношение к подобным случаям, включая теоретические статьи о будущности хирургии. Он вычерчивал для себя диаграммы, изучал фотографии, которые делал сам, прикидывал риск, составлял списки возможных осложнений. Потом откладывал записи и часами размышлял, пока вдохновение не подсказывало ему, что нужно делать. И тогда он шел в атаку.
— Нужно незаметно подкрасться к засранцам, — так он называл наносящие опустошение вражеские силы. — Пусть не знают, что нам известно их число, — и он рассказал Жени план операции.
Слушая, она покачала головой. Он собирался извлечь донорскую кость для пересадки изнутри черепа. Сходный метод применял Ортон, но Макс решил действовать радикальнее.
— Думаю, тебе и самому известно, что это невозможно, — улыбнулась Жени, когда он закончил. А улыбалась она оттого, что заранее знала его ответ.
И через секунду он кричал:
— А зачем бы я тут распинался, если бы это было невозможно. Точно так и с Камбоджей. Ведь когда Ленни подстрелили, президент заявил, что у нас там нет ни одного солдата. Мы это сделаем, детка: ты и я. Потребуются месяцы, десяток, а то и больше операций, но Ленни выйдет отсюда чертовски красивым.
Его преувеличенная вера в собственные силы покоряла многих молодых врачей. В десять тридцать Макс и Жени приступили к первой операции Ленни. Им помогала бригада самых рисковых врачей-практикантов из Стенфордского университета.
В четыре — Ленни мирно спал под наблюдением сестры, а врачи готовились отпраздновать успех. Жени пошла умыться и переодеться, и когда напряжение спало, перед глазами вновь предстала утренняя сцена с Дэнни.
Теперь, через несколько часов, все выглядело нереальным: машина, разговоры о домах и дворцах. Фильм еще не вышел, а Дэнни уже превратил их в мультимиллионеров. А ее — в свою жену, живущую в богатстве и роскоши. «Безумные мечты и только», — подумала Жени. Но автомобиль, перегородивший дорожку, был реальностью. Неужели за один вечер Дэнни завоевал успех и теперь ждал, что она бросит все, расстанется со своей жизнью, чтобы быть все время рядом? Появляться с ним на торжествах, стать его тенью?
Жени отступила от раковины, вышла на середину комнаты и сердитыми взмахами расчесала волосы. А как насчет ее успеха? С тем, что она делала со лбом Ленни?
— Привет, Россия.
Жени выпрямилась, крутнулась назад, как оружие, сжимая в руке расческу:
— Как ты сюда проник?
— Дверь была открыта, а Макс сказал, где тебя найти. Я пришел извиниться.
Рука с расческой бессильно повисла.
— Меня унесли прочь мечты, пригрезившиеся по дороге к тебе, — он подошел и откинул с ее лба волосы. Потом сжал ладонями лицо и притянул к себе. Губы Жени раскрылись навстречу, и они поцеловались. Пальцы Дэнни скользнули вниз, спустились по шее к левой груди, стали кружить вокруг соска.
— Жени, — пробормотал он. — Я люблю тебя. Извини меня.
Жени ничего не могла с собой поделать. Ее соски отвердели. По телу прокатилась знакомая теплая волна покорности. Она уперлась ладонями Дэнни в грудь и отстранилась на несколько дюймов.
— Мы только что завершили успешную операцию. Рискованную. Но все кончилось хорошо.
— Замечательно. Значит, нам обоим есть что отпраздновать. Я приглашаю тебя поужинать «У Ванессы».
— Ты можешь ужинать, но я не могу принять приглашение. Стоимость ужина там больше зарплаты сестры за неделю — да дома и уютнее. Ты не согласен?
И ее тело наполнилось вместо гнева смехом и желанием оказаться в его объятиях, желанием полностью отдаться ему.
Спор больше не возникал, но «Ягуар» стоял на месте. Месячные выплаты за него были в два раза больше их арендной платы. В начале декабря, когда Дэнни узнал, что выпуск фильма откладывается до марта, он сообщил Жени, что неспособен заплатить свою половину. На самом деле, признался он, он рассчитывал занять у нее денег на машину.
Жени отказалась ее водить. Появление ее на стоянке клиники было бы вызывающим и оскорбительным — из-за отсутствия денег им часто не хватало даже крови.
— Продай «Ягуар». Верни его обратно. Как-нибудь избавься от него, — посоветовала Жени.
Но Дэнни настаивал на том, что роскошная машина ему необходима:
— С ней и с тобой я чувствую, что могу завоевать весь мир.
— Начни с завоевания половины, — Жени постаралась свести все к шутке. Престижная машина бесила и угнетала ее, но она пыталась понять, почему она так нужна Дэнни. Она вспомнила, что он рос, не видя роскоши, и, наверное, страстно о ней мечтал, для нее же самой богатство было само собой разумеющимся. «Бабушка»стоила восемьсот долларов и вполне ей годилась.
В декабре Жени заплатила полную арендную плату и дала Дэнни двести долларов на машину. Но ее сбережения были уже на исходе, в то время как зарплата, как и предсказывал Макс, оставалась скудной. Подошло время январских платежей. Дэнни еще не вернул ей долга и признал, что и в этот раз ей придется платить самой. Но обещал, что вскоре все переменится: деньги потоком хлынут на них и никогда вновь не станут проблемой.
Они сидели в гостиной — оба в толстых свитерах, чтобы экономить тепло. После обеда Дэнни, как обычно, налил себе изрядно коньяку.
— Ты слишком много пьешь, — раздраженно проговорила Жени. Коньяк был дорог.
— Прекрати. Ты ведь не мой лечащий врач, — отозвался Дэнни и положил свободную руку ей на бедро. — Ты моя любовница, а как только выйдет фильм, станешь моей женой.
— Не уверена, — медленно ответила Жени.
Рука сделалась настойчивее, поползла вверх по внутренней стороне бедра.
— Хорошо, пусть будет последний коньяк за вечер. Нет, предпоследний, — поправился он. — Мне он нужен вместо центрального отопления.
— Не надо, Дэнни, — она приняла его руку с бедра и тут же почувствовала ее отсутствие, как подушка, хранящая тепло человека, который только что на ней сидел. — Может быть, нам лучше не жить вместе?
— Не понимаю, — он опрокинул в рот коньяк и налил себе снова. — Мы идем к супружескому блаженству, семейному счастью. Было трудно, когда ты первая уходила из дома и я пропадал по несколько дней. Но теперь большинство ночей, если ты не занята, мы проводим вместе…
— Дело не в этом, — перебила его Жени. И дело было не только в деньгах. Она выдыхалась. Когда он был дома, они ложились невероятно поздно. Сам Дэнни никогда не начинал работать до одиннадцати утра. И хотя он утверждал, что труд писателя настолько тяжел, что никто не выдержит его больше четырех часов, Жени иногда казалось, что он вообще ничего не делал. И конечно, ему никто не платил за этот «напряженный» труд.
— И ведь каждая ночь лучше предыдущей, — уговаривал он ее. — Все по-новому, по-другому, не так, как раньше.
Она кивнула. Губы ее были плотно сжаты. Это-то и держало их вместе. Каким бы блестящим Дэнни не был писателем, любить он мог не хуже, чем творить. Он был отзывчив, изобретателен, нежен, горяч… и всегда любящий. Неважно, если они поругались, если Жени пришла поздно, если ужин оказался испорченным, если он слишком много выпил… Каждую ночь в спальне они вступали в Эдем согласия, красоты и глубокого взаимопонимания.
«Будет ли это вечно?», — подумала она и слезы навернулись на глаза. Почему все не так, как она себе представляла, когда прошлым летом удерживала себя от надежд? Или как ей все представлялось в их первые десять дней?
— Ты не согласна? — настаивал Дэнни.
— Да.
— Тогда пойдем. Время ложиться в постель, — он положил руку ей между ног, и Жени почувствовала, как у нее перехватывает дыхание — предвестие страсти.
— Дэнни, у нас с тобой разные ценности. Мы смотрим на жизнь по-разному, — ей требовалось больше сил, чем она была в состоянии собрать. Даже не могла убрать его руку, и та посылала волны наслаждения и путала все ее решения.
— У нас разные тела, — Дэнни добрался до ее трусиков и направил пальцы во влажную плоть, чтобы убедиться в том, как крепнет ее желание. — И все-таки есть способ их соединить.
Он встал перед ней на колени, осторожно и нежно раздел.
— Дэнни… — Жени пыталась протестовать, но, откинув голову, позволила ему себя ласкать.
Неделю за неделей Жени пыталась это прекратить, но каждый раз тщетно, и Дэнни снова и снова уговаривал ее заняться любовью. Потом на несколько дней она оставила сопротивление, стараясь убедить себя, что все уляжется, когда выйдет фильм, начнут поступать деньги и напряжение между ними спадет.
Она оплачивала аренду, ссужала Дэнни деньгами, хотя ее собственные сбережения окончательно подошли к концу. Она попросила в банке заем, предложив, в качестве гарантии, счет в Нью-Йорке, открытый когда-то для нее Пелом и, насколько ей было известно, существующий до сих пор. Жени не собиралась трогать эти деньги, считая их деньгами Пела, но они позволяли рассчитывать на ссуду в это острое для них время. Вскоре заем будет возвращен из того, что поступит за «Космическую любовь».
Жени старалась не волноваться по поводу денег или из-за того, что ее отношения с Дэнни совсем не развивались. Сладость и свобода, приносимые его любовью, были слишком дороги. Она не могла выйти за Дэнни замуж, пока в их жизни не произойдут серьезные перемены, но не могла и представить себе, что останется без него.
«Никаких решений до того дня, пока фильм не выйдет на экраны», — пообещала себе Жени. Она не будет обращать внимания на блеск и перезвон злата, а будет довольствоваться наслаждением от работы и еще большим в ночном обнаженном Эдеме.
В феврале спонсоры решили, что задержка с выпуском фильма на экраны лишь принесет ему пользу. В марте в прокат поступил фильм о космонавтах, рассчитанный на обычную публику. Он должен был подогреть к теме интерес и подготовить зрителей к восприятию картины Дэнни. Ему обещали, что она выйдет до конца апреля.
Новая отсрочка заметно угнетала Дэнни. Его оскорбляло, что его картину опередил фильм о космонавтах — типичная голливудская поделка, в которой компания шалопаев резвится в пространстве.
Узнав об этом, Дэнни выпил бутылку вина и с каждым часом его раздражение все нарастало. На следующий день он проспал до полудня, наскоро позавтракал и, будто впав в летаргию, даже не начал готовить обед к приходу Жени.
Она поставила на плиту воду под спагетти и спросила его, когда он собирается приняться за поиски работы.
Вода закипела, и Жени выключила плиту. И тут Дэнни выплеснул на нее весь свой гнев, а потом окончательно впал в депрессию. Он не может так жить, заявил он. Тогда Жени поинтересовалась, каким образом они заплатят за аренду? Я уезжаю в Лос-Анджелес, сообщил он. Друзья мне помогут.
Вернувшись следующим вечером домой и увидев, что «Ягуар» исчез, Жени испытала легкое облегчение. Но оказавшись в постели одна, поняла, что многое потеряла. Ночью Жени часто просыпалась, пытаясь дотронуться рукой до Дэнни.
В три утра зазвонил телефон. Голос Дэнни звучал с искажениями. У него радостная весть, сообщил он — машина вдребезги разбита, починить нельзя.
Жени с беспокойством спросила о нем.
— Ничего. Лучше не придумаешь. Я лечу.
В отдалении Жени услышала гомон голосов и смех. Должно быть, он на вечеринке, решила Жени. Но как же он попал в город? И в это время совсем близко от трубки ясно прозвучал женский голос:
— Дэнни, малыш, иди сюда. Я совсем замерзла.
Жени тут же повесила трубку.
Дэнни больше не перезвонил. Не позвонил он и на следующий день и через день. На третий — после полуночи приехал сам.
— Привет, леди доктор, — промычал он, заваливаясь с ней рядом на кровать в одежде.
Жени оттолкнула его:
— Ты пьян. Поговорим утром.
Он схватил ее за грудь и больно стиснул.
— А что, знаменитый хирург, не голодала без своей кухарки?
— Прекрати.
Он снова сжал ее. Плечо уперлось в желудок.
— Ну так как, не голодала? — настаивал он издевательским тоном. — А вот повар в свой отпуск нашел кое-кого, чтобы готовили ему. Что ты на это скажешь?
— Что тебе лучше уйти.
— Уйти? Но разве здесь не наше маленькое любовное гнездышко, где после тяжелого трудового дня домашний муж спешит тебя встретить с тапочками?
Жени приподнялась и толкнула его с такой силой, что Дэнни слетел с кровати.
— Убирайся!
Он медленно поднялся. Казалось, падение отрезвило его и он заговорил трезвым голосом:
— Я свинья, Жени. Сам себя презираю. Совсем пропитался спиртным, — и он провел пальцами по волосам. — Пойду приму холодный душ и выпью кофе. Больше этого не случится.
— Не случится, — согласилась Жени. — Потому что ты отсюда уйдешь.
— Я люблю тебя.
Жени закрыла глаза, чтобы не видеть, как он стоит у спинки кровати с опущенными плечами и сбившимися на лоб волосами.
— И ты меня любишь. Это проклятый фильм нас разлучает. Но я этого не позволю, — и он начал снимать пиджак.
— Не надо.
— Когда «Космическая любовь» выйдет на экраны, все кончится и мы снова будем счастливы. Как тогда, когда ты приехала сюда. Еще счастливее.
— Я не могу, Дэнни, — ее голос дрожал. Любовь на его лице заставляла раскрыть навстречу ему объятия. Жени чувствовала, что ощущение потери нарастает в ней, как волна прилива, и сокрушит ее, когда он покинет дом.
Дэнни пожал плечами и натянул пиджак.
— Через месяц. От силы два. Тогда мы снова будем вместе. Начнем все сначала. Это наша судьба. Я куплю нам дом…
— Пожалуйста.
— Я вернусь, Жени. Любимая.
Она почувствовала, как ее тело рванулось навстречу его голосу. Навстречу ему. Через два месяца…
Дэнни вышел из спальни, из гостиной. Жени слышала, как за ним закрылась входная дверь. Огромная волна не сокрушила ее. Она откатилась назад. Океана вокруг больше не было. Ее окружала пустыня. Тело иссохло и подсказывало ей, что они никогда снова не будут вместе.
«Космическая любовь» завоевала полный успех. Она понравилась и критике, и широкой публике. В тридцать три года Дэнни Ритко стал известным и влиятельным человеком в Голливуде. Он фотографировался со звездами и купил себе дом в каньоне Лаурель. Жени он послал чек, чтобы вернуть банковский заем, и к этому прибавил еще немного.
Жени получила по чеку деньги и использовала их, хотя могла теперь платить аренду и сама — Макс настоял на том, чтобы после отъезда Дэнни она приняла прибавку к жалованию.
Она догадывалась, что дополнительные средства могли взяться только из его собственной скудной зарплаты. Но когда она попыталась это выяснить, Макс сердито глянул на нее и проворчал:
— Не суй нос в мои денежные дела, детка. Немного деньжат развеют тебя после всей этой мерзости.
Фильм Дэнни Жени смотреть не пошла. Слишком все это было для нее еще болезненно.
37
В августе 1977 года, когда Жени проработала в клинике почти уже год, навестить ее приехали Чарли и Тора Джой. Т.Дж. исполнилось шесть лет. Худощавая и высокая, как и отец, любознательная, живая девочка тут же все перетрогала в маленьком доме, схватила со столика ракушку морского уха. Жени как-то подобрала ее во время бега вдоль моря, когда та перламутрово подмигивала ей с песка.
— Красивая, — похвалила ее Т.Дж.
— Она твоя, — ответила Жени. В отличие от дочери, Чарли скользила по предметам взглядом, но ничего не замечала.
— А для чего она? — улыбнулась в знак благодарности Т.Дж.
— Для чего придумаешь.
— Просто красивая, — девочка переложила раковину из одной ладони в другую.
— Красота приносит вечную радость, — процитировала Жени.
— Это я радость. Я — вечная радость, — закричала Тора Джой [8].
Смех Чарли показался вымученным. Жени заметила, что подруга устала, как-то сразу постарела. Ей исполнился сорок один год, и в ее жизни что-то было явно не так. Но Жени не хотела спрашивать при ребенке.
Позже, когда Т.Дж. улеглась в кровать, подруги устроились во внутреннем дворике и Чарли с горечью призналась:
— Плохо, Жени. Совсем плохо. Наш брак ломается, — в ее голосе Жени ощутила новую боль. — Я люблю Тору так сильно, что это меня пугает. Но я уже ничем не владею, не ощущаю себя прежней. Просто старая, изношенная женщина.
— Чарли, но у тебя есть так много. Ты забыла о Т.Дж.?
Чарли мрачно кивнула:
— Она единственное, что меня еще поддерживает. Если бы не она, мне бы незачем было вставать по утрам. Для меня это такое усилие и кажется совершенно ни к чему. У Тору есть кто-то другой.
— Нет! — Жени почувствовала, как боль Чарли отдается в ней самой. — Это ненадолго. Все уладится, — она попыталась утешить их обеих. — Тору тебя любит. Он всегда с такой гордостью смотрел на тебя и с гордостью о тебе говорил.
— В этом-то и весь кошмар. Абсурд. Он и сейчас иногда так глядит на меня.
— Может быть, ему просто сейчас трудно. Переживает стресс, как ты тогда в клинике с Ким. Тогда ты чуть не сорвалась.
— Да, — Чарли раскачивалась взад и вперед, перебирая пальцами одежду на груди. — Я бы его во всем поддержала. Но я его почти не вижу. Он с нами так редко встречается. Не отвечает, когда я с ним заговариваю, не реагирует на Т.Дж., больше с ней не играет, — она запнулась и с силой прикусила нижнюю губу. — Говорит, что ему надо отдохнуть от брака. Что я сделала не так?
— Ничего. Чтобы между вами ни происходило, это из-за него, а не из-за тебя. Ты замечательная, как мать, как друг, лучшая в мире ожоговая сестра, и твоя книга сделала тебя такой известной…
— Ну и что? Извини, я знаю, ты хочешь помочь, но понимаешь, я все это сама себе повторяю. Но все это для меня уже не важно. Обидно, что у Т.Дж. такая мать.
— Не надо. Ты не о ней горюешь, а о себе.
— Ты права. Я это знаю, но ничего не могу с собой поделать. И ради нее хочу прийти в норму. И ради себя тоже. Вот почему мы и приехали сюда. Из того, что ты мне писала о клинике, я решила, что смогу в ней поработать.
— Ты? — в первый момент идея показалась Жени блестящей; клиника не сыщет лучшей сестры, чем Чарли. Максу она понравится, больным тоже. У нее есть опыт… Но в следующую минуту она принялась высказывать возражения. — А как быть с Т.Дж.? Рабочий день у нас бесконечен, зарплата мизерная. Вдвоем вы на нее не проживете. В какую школу пойдет Джой? И разве можно ее вот так отрывать от отца? — она решительно покачала головой. — Нет. Тебе необходимо попытаться сохранить брак.
— Наверное, ты права, — разочарованно проговорила Чарли. — Но женщине, с которой он встречается, тридцать лет. Разве меня можно с ней сравнить?
— И не надо. Ты несравненная. Кто может сравниться с тобой?
— Я страшная. Тебе это не понять. Ты всегда была красива, — злость лишь на миг прозвучала в ее голосе, и он снова сделался ровным. — Когда он мне сделал предложение, я не поверила. И была права. Тогда он оторвался от семьи и ему, наверное, нужна была мать. А теперь потребовался кто-то другой: молодая красивая женщина.
Фонари во дворике отбрасывали глубокие тени. Жени взяла Чарли под подбородок, подняла лицо и начала его профессионально изучать. Глазом хирурга она посмотрела на черты подруги и поняла, что никогда раньше не глядела на нее таким образом. Отрешившись от обаяния личности, она видела перед собой просто женщину в горести и прикидывала, чем ей можно помочь.
Кожу надо натянуть, челюстные кости уменьшить, убрать лишнее с век.
— Ты никогда не задумывалась о пластической операции? — забросила она пробный вопрос и убрала руку.
С тех пор как они начали разговор, глаза Чарли впервые остановились на лице Жени. Она покачала головой.
— Я не настаиваю, просто предлагаю. Тебе она вовсе не обязательна. Раньше мне это просто в голову не приходило. Ты выглядела нормально. Но если с возрастом внешность начала тебя беспокоить, может быть, стоит решиться, — Чарли всегда производила на других такое впечатление, что казалась им привлекательной, думала Жени. И теперь ей необходимо вернуть веру в себя.
— Я никогда об этом не задумывалась, — изумленно проговорила Чарли. Она смотрела на подругу так, как будто та резко распахнула перед ней дверь, ту, что она раньше вовсе не замечала. — Мне никогда и в голову не приходило, что с моей внешностью можно что-то сделать. Убогое мышление, а ведь моя лучшая подруга — пластический хирург! — она рассмеялась. — Вот мне уже и лучше. Хоть что-то реальное можно предпринять. Но как я такое осилю?
— Не думай об этом. Получше все прикинь. Пусть эта мысль в тебе утрясется. А если решишься — вперед. Я в твоем распоряжении.
— Хорошо, я все обдумаю, — Чарли широко раскрыла глаза. — И может быть, соглашусь на небольшую починку. Вокруг глаз, снять одутловатость?
— Веки?
Чарли кивнула:
— Буду выглядеть отдохнувшей, немного помолодевшей. Или капитальный ремонт? С подтяжкой? Может, стану походить на себя. На ту, которой девять лет назад он сделал предложение.
— Время покажет, — Жени обняла подругу, они возвращались в дом. Она понимала, что если Чарли решится на операцию, то не потребует от нее сверхъестественного. А это само по себе гарантировало успех.
Перед тем как закрыть за собой дверь в ванную, Чарли прижала к себе Жени:
— Мне кажется, сегодня я смогу уснуть. В первый раз за многие недели.
— И подняться утром?
— Конечно. Может быть, с заплывшими глазами, но постараюсь, чтобы с распушенным хвостом. Спокойной ночи — и спасибо тебе.
Жени посмотрела, как Т.Дж. свернулась в комочек на диване. Она на цыпочках подошла к ней и вгляделась в лицо ребенка: длинные темные ресницы дрогнули от света лампы. Потом наклонилась и поцеловала Т.Дж. в лоб. «Ты еще слишком мала, — подумала она, — чтобы отец тебя бросил».
— Ты хочешь воспользоваться клиникой, чтобы сделать какую-то мерзкую подтяжку лица? — на следующее утро недоверчиво переспросил ее Макс.
— Может, только блефаропластику, — ответила Жени. — И я хочу, чтобы ты сам посмотрел ее, Макс. Не хочу ошибиться — это моя лучшая подруга.
— Здесь? Делать операцию, чтобы ублажить чье-то тщеславие? — кипел врач.
— Подожди, не ругайся, — остановила его Жени. — Вот увидишь Чарли, тогда посмотрим. Сам захочешь для нее все сделать. Она же моя лучшая подруга, — повторила она.
Макс смягчился, но все еще протестовал:
— Я ничего не имею против компании молодых Робин Гудов, но если я начну тратить свое время на подтяжку дамочек, которые хотят удержать мужей — пиши пропало. И вообще, зачем она вышла замуж за мальца моложе себя?
— Она его любила. И прекрати, Макс. Я сама сделаю операцию. А тебя прошу только с ней поговорить.
— Будешь оперировать в свое свободное время. Слышишь?
Жени улыбнулась: «свое свободное время» было единственным, которое существовало в клинике.
Уходя, Макс бросил ей:
— А как, ты говоришь, имя девочки?
— Тора Джой.
— Боже Праведный, — и он пошел прочь, что-то бормоча себе под нос. Но через несколько шагов остановился: — Я посмотрю ее в два… нет, в три.
— Ты прелесть, Макс.
— Никакая я к едрене-фене не прелесть, — зычно прогудел он в коридор, и из палаты ему эхом ответил смех молодых ребят.
Вечером Чарли рассказала подруге о встрече:
— Он заявил, что мои трахнутые мозги вовсе ни к черту. Что, я, кажется, правильно цитирую, что я вполне нормально выгляжу и нечего трахаться с моей наружностью. Тогда я ему ответила, что трахание с моим лицом или другими частями тела мне вовсе ни к чему, а просто я хочу нормально смотреться или чуточку лучше.
Жени рассмеялась, представив, как они вдвоем сидят друг против друга в маленьком кабинете — Чарли очень походила по манере вспыльчивому Максу.
— И что же он на это сказал?
— Сказал, что я тупая девица, что нет такого мужика, ради которого мне стоило бы менять свою внешность. Я ужасно разозлилась и чуть было не ушла, но он посмотрел на меня так, будто что-то пришло ему в голову, Если хочешь знать мое мнение, заметил он, твой муж осел. Ты нормальная баба, не хуже других, но если решила валандаться с этой чепухой, я приду ассистировать Жени.
— Так и сказал?
— Думаешь, я могу передать его речь? — Чарли усмехнулась. — Но он согласился и назначил подтяжку на восемь в понедельник.
— Назначил? Что же ты с ним такое сделала? Опоила его любовным зельем?
— Это в тебе он души не чает, Жени. И делает ради тебя.
— Ему просто нравится, как я работаю, вот и все. И он знает, что вместе у нас неплохо получается.
— Он рассказал, что был женат двадцать три года. И жена оставила его, когда он приехал из Вьетнама. Тяжело, — слезы внезапно наполнили глаза Чарли. Сама Жени никогда не говорила с Максом о его браке. Эта тема считалась в клинике запрещенной. Наверное, он сравнивал себя с Чарли, как та сравнивала сейчас себя с ним. — Ты когда-нибудь думала о Максе? Я хочу сказать, с тех пор, как ты и Дэнни… — Чарли смахнула слезы с глаз.
— Макс вовсе не романтик, — оборвала ее Жени.
— Нет, но…
— И я теперь тоже.
— Мне жаль, что так все обернулось.
— Все к лучшему. Я бы никогда не смогла стать голливудской женой. Дэнни постоянно нужна аудитория. У меня бы это не вышло.
— Думаю, что нет; и все же тебе ведь порой одиноко. И Максу, наверное, тоже…
— Нечего меня сватать, — Жени напряженно улыбнулась. — Я хороший хирург, я это прекрасно знаю, но у меня вовсе нет способностей для роли жены.
— Ты ошибаешься, дорогая. Просто ты до сих пор еще не встретила подходящего мужчину.
— Вряд ли теперь уже встречу. К тому же я его уже наверно встречала — давным-давно — и ничего не вышло.
Чарли изучающе посмотрела на подругу, но ничего не сказала. И ей пришло в голову, что у красавиц не больше шансов для замужества, чем у простушек — и тем и другим нужно было найти любовь. Мысль показалась ей новой, и теперь она раздумывала, правильно ли поступила, согласившись на операцию.
На следующий день она все тщательно взвешивала. Любая операция представляет потенциальную опасность, так же как и анестезия. И каким бы ни был искусным хирург, а лучше Жени было не найти, всегда оставались опасения, что могут сохраниться шрамы. Проведя полжизни рядом с операционной, Чарли не могла этого не знать, хотя подозревала, что пациенты пластических хирургов, как правило, об этом не задумываются. Риск был не велик, но все же существовал.
На другую чашу весов Чарли поместила все «за«. И снова ее жизненный опыт подсказывал, насколько важно сохранить свой образ. Она сама ведь писала в книге, что реальное увечье не столь важно, сколь самовосприятие больного. Теперь ее восприятие. Чарли улыбнулась.
— Т.Дж., — позвала она девочку и посадила себе на колени. — В понедельник я собираюсь в больницу к тете Жени. Там мне сделают операцию, и я стану красивее и буду чувствовать себя лучше.
— Хорошо, — ответила дочь, сгибая и разгибая материнские пальцы. — А мне можно с тобой?
— Да, — Жени устроила для Чарли, единственной пациентки-женщины, отдельную палату, в которой она могла оставаться с дочкой.
Джой захлопала в ладоши:
— Я буду твоей сестрой! А папа придет навещать тебя с цветами?
— Папа далеко. И я ничего ему не говорила про операцию. Пока не говорила.
— Значит, это секрет! — Т.Дж. прижала палец к губам и восторженно посмотрела на мать. У нас общий секрет!
— Да, и еще пицца на завтрак, — объявила Чарли и, спустив девочку с колен, встала. Вялость проходила и вместе с ней депрессия. Она сможет с собой что-то сделать.
В субботу вечером все трое вырезывали из журналов кукол и сооружали семью из папы, мамы и маленькой дочки, когда зазвонил телефон. Говорил Тору, и Жени попросила Чарли поднять трубку в спальне.
Когда мать вышла из комнаты, Т.Дж. сняла со стола бумажного отца и скомкала его в ладони.
— Глупая игра, — заявила она. — Детская.
Но когда Чарли вернулась и сказала, что отец хочет с ней поговорить, девочка подпрыгнула и бросилась к телефону. Чарли улыбнулась вслед дочери:
— Ему одиноко, — объяснила она Жени. — Он по нам скучает. Хочет, чтобы мы к нему вернулись.
— Это значит, что подтяжка тебе не потребуется? — спросила Жени.
— Смеешься! Я сказала, что мы тоже скучаем, но обещали побыть с тобой недельки две. Он сказал, что завтра опять позвонит.
Смеясь в комнату ворвалась Т.Дж.:
— Мама! Я не выдала ему наш секрет, — девочка повернулась к Жени. — Папочка меня любит. Он сам сказал.
Жени прижала ребенка к груди и вспомнила, что когда сама была девочкой, любовь отца сильно смущала ее. Вырвавшись из объятий, Джой нагнулась за смятым клочком бумаги и разгладила его на столе:
— Бедный папочка! Мы тебя вылечим. С тобой будет все в порядке.
Жени и Чарли обменялись улыбками поверх ее головы.
На следующий день Чарли легла в клинику, сдала анализы, прошла предоперационное обследование. Т.Дж. так внимательно за всем наблюдала, как будто делала заметки в уме. В палату вошел Макс и долго пристально смотрел на девочку. Она ответила ему таким же пристальным взглядом.
— Ты сестра? — спросил ее врач.
Прежде чем ответить, Джой вопросительно обернулась к матери.
— Я помощница сестры.
— Тогда ты как раз та, кто мне нужен. Можешь уделить мне несколько минут? — он протянул ей руку. — Будешь помогать нашим больным.
— Хорошо, — Джой вложила свою ручонку в ладонь Макса и гордо последовала за ним из комнаты.
— Вот это да! — воскликнула Жени. — Никогда бы не поверила, если бы не увидела своими глазами.
— Добрый человек, — отозвалась Чарли.
Жени пропустила мимо ушей ее откровение.
— Я принесла твои медицинские фотографии. Будешь изучать их вместе со мной?
Мягким графитовым карандашом Жени наметила места надрезов: вдоль линии волос, вниз к ушам, закруглила на шее.
— В основном потрудиться придется здесь: в районе шеи и подбородка.
— Хорошо. Значит, мои челюсти останутся при мне. А сколько все это займет времени?
Терпеть не могу предсказывать. Но обычно подобная операция длится от двух до пяти часов.
— А в моем случае применимо слово «обычно»?
Жени улыбнулась:
— Да. Ты вполне молода и здорова для подтяжки.
— А повязки накладываются надолго?
— На сутки. От силы на двое. Через день тебя уже выпишут.
— Быстро. А боль будет сильная?
— Никакой. По крайней мере, никто из тех, кому я делала подтяжку, на боль не жаловался. И сонливость быстро пройдет. Наркоз будет местным, а значит, бодрость вернется вскоре после операции. Хотя бинтами тебя замотают до глаз, точно куколку.
— Лучше предупредить Т.Дж.
— Правильно. Хорошо, что ты об этом подумала. Первые двадцать четыре часа мы постараемся ее занять, пока ты будешь на жидкой диете.
Прежде чем уйти, Чарли обняла подругу:
— Нет величественнее любви, чем эта: доказать ее другу скальпелем.
— Ох, — рассмеялась Жени.
— Ты понимаешь, о чем я говорю.
— И рассуждать не о чем, — но когда за Чарли закрылась дверь, Жени поняла, что она вовсе не так уверена, как хотела казаться. Дело было не в операции. Жени умела выполнять гораздо более сложные вещи, чем подтяжка лица. Но угроза шла не от рук. Слишком ее лично все это касалось.
На следующее утро, уже в халате и с вымытыми руками, она постаралась скрыть волнение, когда вкатили Чарли. Она ободряла ее и улыбалась из-под маски, пока не подействовал наркоз. Когда пришло время начинать, Жени тяжело вздохнула и подняла глаза на Макса. Он успокаивающе моргнул. Жени улыбнулась ему в ответ и сделала первый надрез.
От уха она пошла вниз к челюсти, освободила кожу от тканей под ней, завернув ее вверх и вниз, наложила над ухом и ниже скрепляющий шов и срезала лишнюю кожу. Потом двинулась к вискам.
Никаких осложнений — как в учебнике. Она приступила к другой стороне лица. Вся операция займет не более двух часов.
Внезапно она остановилась:
— Потрогай, — прошептала она Максу так тихо, чтобы не могла расслышать Чарли.
Макс нахмурился. В нижней части лица в тканях прощупывалась небольшая киста. Наклонившись к уху Жени, он прошептал свое молниеносное решение:
— Иссеки и закрой.
Это означало, что после получения результатов биопсии им предстояло исследовать ткани рядом с удаленной опухолью. Но Жени продолжала искать и нашла еще несколько цист, самая большая из которых была размером с горошину. Чтобы удалить их все, потребовалось бы несколько часов, еще наркоз и, возможно, переливание крови.
— Нет, Макс, буду делать сейчас, — и громче, Чарли: — Мы тебя сейчас усыпим. Ничего страшного. Просто мне легче работать, когда ты вовсе не двигаешься, — она дала распоряжение анестезиологу и попросила подготовить капельницы с кровью. И после этого приступила к операции. Макс был рядом наготове с зажимами, чтобы останавливать кровь. Жени удалила всю вереницу цист, некоторые — не больше родинки, тщательно исследовала каждый миллиметр, и только после этого вернулась к подтяжке, и затем наложила аккуратный шов. Когда все было закончено, Макс мягко отстранил ее от стола.
— С тебя довольно. Перевязку я сделаю сам.
Жени сделала шаг назад и почувствовала дурноту.
Результаты биопсии поступили еще до того, как Чарли покинула реанимационную — никакого признака злокачественной опухоли. От облегчения Жени ощутила слабость, но в следующую секунду принялась себя упрекать, что нанесла подруге ненужную травму.
Макс понял ее состояние:
— Ты все правильно сделала, — гаркнул он на нее.
— Спасибо, — но она чувствовала себя виноватой.
Доброкачественная киста — частое явление в подкожной жировой прослойке. Нужно было слушаться Макса. Тогда бы не пришлось делать эту никчемную операцию.
Когда через несколько часов Жени пришла навестить Чарли, та уже оправилась от наркоза и лежала в своей палате, укутанная бинтами, как куколка, что заранее и пообещали Т.Дж.
— Спасибо, — проговорила она. — Макс мне все рассказал про кисту.
Черт возьми, подумала Жени, зачем после всего беспокоить Чарли?
— Я не послушалась его совета. И не прислушалась к мнению, более справедливому, чем мое. Его мнению.
— Он сказал, ты дралась, точно тигрица за своего тигренка.
— Видишь ли, — Жени окинула взглядом забинтованную голову, — наверное, нельзя оперировать друга. Требуется большая отстраненность.
— К дьяволу отстраненность. Ты, может быть, спасла мне жизнь. И разве нельзя добавить в хирургию каплю любви?
Прежде чем Жени успела ответить, Чарли снова погрузилась в сон. Она задумалась над вопросом и поняла, что любовь в первую очередь и привела ее в медицину. Любовь или потребность любви к отцу. Ее давнишней мечтой было восстановить его лицо. А вместо этого она только что сделала подтяжку здоровому человеку — своей подруге. Разве это не одно и то же? Нет, она знала, что мечта остается мечтой. Она знала, что отец где-то жив — Пел уверил ее в этом. А если жив, значит, живет калекой. И мечта должна получить разрешение: либо ее руками, либо смертью.
Выздоровление Чарли шло не так быстро, как надеялась Жени, но все же нормально. Массивную повязку сняли через сорок восемь часов, и Жени заменила ее на другую, более легкую, еще на двенадцать.
Т.Дж. сделалась любимицей палат и прекрасным психологом. Она переходила от койки к койке и несла с собой обувную коробку с бумажными фигурами. И те пациенты, кто чувствовал себя достаточно хорошо — а таких было большинство, другие же просто бодрились, когда к ним подходила шестилетняя девочка — начинали игру с Т.Дж., придумывая с бумажными персонажами маленькие драмы. С неосознанной мудростью и просто потому, что так было смешнее, девочка предоставляла мужчинам решать, кто есть кто, и давать всем имена. Но если ветеран отказывался или у него не получалось, она доставала фигурку из коробки и говорила:
— Это ты, — остальное складывалось проще: женский персонаж оказывался матерью, женой или сестрой.
Минут на пятнадцать девочка и солдат погружались в игру. Ее тема часто была — возвращение домой. Мать плакала. Жена говорила: «Как ты плохо выглядишь. Я ухожу от тебя» или что-то вроде этого. Иногда куклу-мальчика называли по имени больного и тогда играли в детство или юношество до того, как он ушел на войну.
Макс с восторгом поддержал игру:
— Ребенок берет их за живое, — говорил он Жени. — Заставляет выпустить наружу то, что сидит у них в печенках. Серьезные ребята — никогда не признались бы ни в чем психиатру, а тут к ним подходит девочка с бумажными куклами и выворачивает наизнанку.
Жени заметила, что Макс не упускал ничего, что могло бы принести пользу его ребятам. Он спасал им конечности, которые другие хирурги ампутировали бы не задумываясь. Умудрялся находить надежду, где, казалось, не было никакой. И он был достаточно мудр, чтобы позволить ребенку себя учить.
Чарли провела в клинике лишний день, но Т.Дж. все равно была расстроена. Она полюбила свою работу и хотела бы ее продолжать. И когда Макс предложил, чтобы Жени приводила ее каждое утро с собой, приняла это с восторгом. Уговор был такой: девочка остается в клинике не больше двух часов, а потом, если никто из сотрудников не может отвезти, Макс за свой счет отправляет ее на такси.
И вот каждое утро Т.Дж. и Жени уезжали на работу вместе, оставляя Чарли спокойно отдыхать примерно до десяти часов. Но дважды она ездила с ними, снимать швы.
Жени только приступила к работе и занялась передними швами, как ее позвали к телефону. Сестру так поразило имя звонящего, что она решилась оторвать ее от дела.
— Дэнни Ритко, — сестра почти задохнулась. — На проводе Дэнни Ритко. Он хочет говорить с вами.
— Скажите, я не могу подойти. И пожалуйста, больше так не врывайтесь.
— Хорошо, доктор, — ответила сестра, которая обычно называла ее Жени.
Руки Жени не дрогнули, когда она снимала последние стежки. Чарли тоже ждала, пока подруга не кончит работу.
— А как ты думаешь, что он хотел?
— Не могу себе даже представить, да и нет в этом никакого смысла.
Лампочка все еще горела в ее аппарате. Она потянулась и осторожно подняла трубку. Дэнни так и не дал отбоя.
— Пожалуйста, помоги, — просто начал он, как только заслышал ее голос.
— Чем?
Они снимали пробы для телесериала по его «Космической любви». Трюки не были как следует подготовлены. Петарда рванула прямо в лицо их ведущему актеру Элиоту Хантеру и повредила правую щеку и висок.
— Отвези его в больницу, — посоветовала Жени.
— Да. Но окажут ли ему надлежащую помощь? Ведь это верхняя часть черепа — твоя специальность.
— И другие пластические хирурги могут выполнить такую работу.
— Но их может не оказаться в госпитале, когда мы туда прибудем. У нас здесь маленький самолетик, и за час на нем можно долететь до Монтерея. Он в ужасном состоянии, Жени. Лицо — это его будущее. И мое тоже. Тут нужны лучшие руки.
— Не думаю, чтобы Макс согласился.
— Пусть он ничего не знает. Мы не намерены ничего афишировать.
— Ах вот как, — проговорила Жени.
— Это еще не все. Произошел несчастный случай, а ведь ты — врач. Я хочу, чтобы Элиотом занимался лучший специалист в штате. Назови цену.
— Но у нас нет… — Жени запнулась. — И никаких ограничений?
— Никаких.
— Подожди, — она побежала разыскивать Макса. Его реакцию нетрудно было предсказать.
— К черту трахнутых актеров! К черту одолжения!
— Это не для Дэнни, — успокоила она его. — Это для тебя, для нас. Никто ни о чем не узнает, а мы запросим, сколько захотим. Десятки тысяч.
— Мне они не нужны.
— Пожалуйста, Макс, — уговаривала Жени и все время помнила, что трубка лежит на столе, а на другом конце провода ждут Дэнни и истекающий кровью актер. В конце концов она убедила Макса и бросилась к телефону.
— Присылай своего актера. Но сам здесь не появляйся, — это было условие Макса. — И сделай взнос в Клинику Боннера. Большой, — Жени ждала.
— Десять тысяч? Пятнадцать? Двадцать? — предлагал Дэнни.
Жени внутренне присвистнула и долю секунды помолчала. Так ему удалось… Его богатство — конец его радуги?
— Десять тысяч, — сухо ответила она. — Только в виде пожертвования. Сумма не включает плату за операцию. Чек подпишешь, когда мы все закончим. Будет что-то около того, что ты назвал в последний раз.
— Спасибо, девочка. Я знал, что ты посмотришь на все по-моему.
— Наоборот, я смотрю на это по-своему.
Вслед за Жени в комнату вошел Макс. Чарли тоже оставалась еще здесь. И Жени переводила взгляд с одного на другую:
— Слышали, что я ему сказала?
Оба кивнули.
— Вот так.
— Да-а, — протянул Макс и широко улыбнулся: — Пойду в операционную.
— Он будет там паинькой, — заметила Чарли, когда за ним закрылась дверь.
38
Элиота Хантера привезли в клинику после обеда, в сознании, но напичканного морфием. Его сопровождал помощник продюсера, передавший Жени конверт. Дэнни сдержал слово и подписал клинике чек на десять тысяч долларов.
К тому же он преувеличил повреждения: Жени опасалась, что предстоит пересадка костей и кожи, что Элиоту Хантеру придется делать целую серию операций.
Его лицо и шея были сильно изрезаны, на голове кусочки стекла проникли под кожу, отовсюду торчали щепки, но перелома костей и разрыва мышц Жени не обнаружила — ничего, что изменило бы форму головы. Некоторые порезы были достаточно глубоки, и шрамы для Элиота Хантера, как для актера, представляли самую серьезную опасность, Но у него был тип кожи, который легче всего поддавался заживлению.
Любой квалифицированный пластический хирург мог бы выполнить эту работу, подумала Жени. Но Дэнни настоял, чтобы ее сделала она, и направил Хантера в их необычную клинику. Может быть, таким образом он хотел пожертвовать крупную сумму денег и поддержать то, что организовали они с Максом? Но для этого не требовалось никакого предлога — он мог бы и раньше направить им чек. Тут было что-то другое, чувствовала Жени.
Клиника гарантировала скромность, даже тайну. Не исключено, что проект не был должным образом застрахован или не была обеспечена страховка трюков, или еще хуже — Дэнни обвинили в том, что он подвергает опасности жизнь актеров.
Жени не рассказала Максу о своих сомнениях, но подозревала, что и его мысли шли в том же направлении. Они могли бы не предъявлять чека, предварительно не выяснив, что за всем этим стояло. Но клиника отчаянно нуждалась в деньгах. Поэтому, наверное, лучше было получить по чеку наличные, представить сразу после операции Дэнни счет, а чтобы избежать вопросов, постараться как можно скорее избавиться от актера.
Его кровяное давление было выше нормы. Жени посоветовалась с анестезиологом и решила положиться лишь на морфий, который ему давали, не прибегая к другим средствам.
Эффект морфия длился все два часа, пока она выполняла операцию. Все это время Элиот Хантер не спал и оказался на редкость терпеливым пациентом, даже интересовался, что с ним делают. А когда Жени нашла осколок стекла в опасной близости от глаза, пробормотал:
— Везет.
Но в отдельной палате, освобожденной еще для Чарли, он забеспокоился. Его лицо распухло, испещренное порезами.
— Как я буду выглядеть, доктор? — спросил он.
— Наверное, как и раньше. Только не хмурьтесь. И не улыбайтесь. Это, видимо, трудно актеру, но я хочу, чтобы ваше лицо оставалось неподвижным. Поэтому пусть оно не выражает ничего. И боюсь, ночь вам придется провести с приподнятой головой — так быстрее подживут порезы. Сестра получит указание давать вам обезболивающее или снотворное, если они вам потребуются. Увидимся утром.
Рано следующим утром она мыла руки вместе с Максом, а их больной уже лежал на столе. Неделей раньше Макс восстановил переносицу у Бо Фортинелля, но пересаженный участок без видимых причин начал отторгаться. Операцию Макс выполнял один и теперь попросил Жени ассистировать ему в надежде, что она разглядит источник отторжения. Он брал донорский материал из-за уха. Операция продолжалась уже двадцать минут, когда внезапно фонтаном хлынула кровь, залив в считанные секунды подбородок и шею.
— Аневризма, — пробормотал Макс. — Нужно найти вену. — Пока он искал сосуд, кровь брызнула ему в глаза. Он наскоро смахнул ее рукавом.
Вена не обнаруживалась, и кровь продолжала хлестать.
— У нас только три банки крови, — предупредила сестра.
— Как?!
— У него вторая группа, резус отрицательный.
Если бы все пошло, как надо, переливание, скорее всего, вовсе бы не понадобилось.
— Дьявол! — выговорил Макс.
К тому времени когда он нашел и пережал вену, жизнь Бо Фортинелля висела на волоске. Без дополнительного переливания он должен был непременно умереть.
Единственной надеждой было, что среди сотрудников или больных клиники найдется кто-нибудь с такой же редкой группой крови, готовый поделиться с умирающим. По внутренней связи объявили тревогу. Но и через двадцать минут никто не откликнулся. Практиканты и сестры перелопачивали истории болезни в поисках возможного донора.
Через два часа Бо Фортинелль умер.
— Дьявольщина, дьявольщина, — повторял в бессильном гневе Макс. — Двадцать пять лет, родился на реке, прошел всю эту поганую войну, получил Пурпурное Сердце и умер на столе только потому, что для него не хватило крови, — он издал странный устрашающий звук, все его тело сотрясалось, и Жени поняла, что Макс плачет без слез. Но звуки прекратились так же внезапно, как и начались. — Хватит этого дерьма, — он резко повернулся к Жени. — Никто не должен рисковать жизнью, входя в операционную, только из-за того, что наша вонючая клиника не имеет никакого оборудования. Все случайности не предусмотришь. Но нужно к ним готовиться или закрыться.
Чек Дэнни в десять тысяч все еще лежал на столе Жени. Мог бы он спасти эту жизнь — им никогда не узнать.
— У нас есть то пожертвование в десять тысяч…
— И сколько на него можно купить крови? — вскинулся Макс.
— Заработаем еще, наверное, тысяч десять…
— И что? Купим банку крови, израсходуем ее и будем ждать, пока на нас не свалится еще один актеришка? Нет, нам нужны постоянные поступления, а не случайный заработок, когда сумасшедший режиссер жаждет прикрыть свои делишки.
— Понимаю.
Макс бессильно опустился на стул, точно куль с песком. Жени положила ему руку на плечо. Лицо его дернулось, и он удивленно посмотрел на нее. Жени быстро отдернула руку. Макс не переносил собственной слабости и не терпел утешений.
— Как-нибудь выкрутимся, Макс. Я подумаю. Приходи ко мне завтра вечером, и мы все обсудим.
— Чарли и Т.Дж…
— После обеда я снимаю Чарли последние швы, чтобы завтра, как и предполагалось, они отправились домой. К вечеру они обе придут попрощаться.
— Хорошая женщина. А девчонка — настоящее чудо, — к Максу возвращалось душевное равновесие.
— Они обе без ума от тебя. Особенно Т.Дж. Через несколько лет хочет начать у тебя работать. Ты должен продолжать, Макс. То, что ты делаешь, очень важно.
— Да, — пробормотал он. — Хорошо, я буду у тебя вечером, а утром не приходи на работу.
— Спасибо, — и она пошла отмываться, прежде чем пойти к Элиоту Хантеру и начать обход. А Макс так и остался сидеть сгорбленным на своем стуле.
У Элиота дела шли хорошо. Он смог заснуть без лекарств, и его кровяное давление снизилось. Жени предсказывала, что он поправится очень быстро. Его кожа, чистая и гладкая, уже начала избавляться от последствий взрыва и принялась сама себя заживлять.
Уже через пятнадцать часов после операции состояние Элиота значительно улучшилось. «Хирург, — размышляла Жени, переходя в другую палату, чтобы проверить состояние скоб на челюсти Брюса Паттерсона, — лишь один из членов бригады, а другие — везение и хорошие гены больного».
У Чарли было и то, и другое. После обеда Жени сняла ей последний шов за ухом. Она осталась довольна результатом операции, а Чарли — почти в восторге. Ни намека на припухлость, а несколько синяков — желтоватых и коричневатых — можно было легко скрыть косметикой. Чарли помолодела и, пока восстанавливала силы, похудела на восемь фунтов. Глаза блестели, движения выдавали в ней женщину, которая знает, что привлекательна.
— Ты подарила мне новый мир, — сказала она Жени. — Новую жизнь. Я приехала сюда полумертвая. Жизнь оставалась позади. А теперь — посмотри! — она крутилась, как много лет назад, когда Жени подарила ей пальто. — Может быть, этого никто и не скажет. Но я — красива! Золушка! А волшебная палочка в твоей руке, Жени.
— Она называется скальпель, — рассмеялась Жени, в то время как Чарли ее горячо обнимала.
— Мне неважно, как она называется, но ты — волшебница.
Что-то шевельнулось в ее памяти.
Волшебницей называла ее Лекс в Аш-Виллмотте перед тем как «окрестить» Жени.
— Пожалуйста, не говори больше так, — попросила она Чарли.
— Хорошо, — подруга объяснила ее просьбу скромностью. — Но Т.Дж. мне никогда не удастся убедить, что ее крестница — не фея.
Девочка ходила по палатам и прощалась с больными. Многие из них ей что-нибудь дарили: осколок снаряда, камешек, засушенный листок — сувениры войны. Она складывала все в свою коробку из-под обуви — богатство, значение которого не была еще способна оценить.
Потом она вернулась в осмотровую палату, где поджидала ее мать, и они вместе направились к Максу.
На следующее утро по дороге в аэропорт Чарли рассказывала, как он поднял девочку на руки и неуклюже погладил широкой ладонью.
— Почти как собственную дочь. Из него вышел бы замечательный отец.
Жени вернулась в клинику в половине двенадцатого, а через семь часов уехала домой. Все было спокойно. Выздоровление Элиота поражало своей быстротой.
В девять — во входную дверь постучал Макс. Она впустила его, предложила выпить или поужинать. Он отказался и от того, и от другого.
— Давай ограничимся чашкой слабого кофе, но зато с сильным советом.
— Проходи. Если тебе удобнее, снимай ботинки, — Макс редко работал меньше четырнадцати часов в день. И присаживался перекусить, только если с кем-то разговаривал, читал или делал пометки.
Вместе с кофе Жени принесла небольшой пирожок, купленный по дороге домой, и Макс, что-то одобрительно промычав, съел его в три приема. Потом развязал шнурки от ботинок, но оставил их на ногах. Он сидел на диване. Жени пододвинула рядом стул.
— Ты хорошо выглядишь. Как девушка, — сказал он в смущении.
— Спасибо, — комплименты Макса, какими бы они не были неуклюжими, казались редкими и дорогими.
Вернувшись домой, Жени успела принять душ и переодеться в кремовую кофту-джерси и любимую мягкую юбку, ниспадающую складками к ступням. Волосы она расчесала и оставила распущенными по плечам. Максу так и не удалось скрыть восхищения. И Жени понимала: такой, в домашней обстановке, он ее еще не видел.
Она положила на тарелку еще один кусок пирога.
— Ну, хорошо, перейдем к делу. Я не все еще продумала, но две вещи знаю наверняка. Первое: клиника должна продолжать работать. И второе: нам нужны деньги.
— Ты угодила в точку, детка, — улыбнулся Макс, заставив ее покраснеть из-за того, что она изрекла очевидные вещи. — Но пункт два как раз и мешает работе. Мы существуем на скудные дотации тех же самых корпораций, которые выбрасывают миллионы на войну, а нам достается подачка, чтобы починить повреждения.
— Добавь сюда же пожертвования, — напомнила Жени.
— На что они годятся. Поступают редко. Пустые деньги.
— Я сама предъявила сегодня чек Дэнни.
Макс кивнул с отсутствующим видом, как будто она сказала что-то несущественное.
— Я думаю, и другие бы с радостью пожертвовали деньги, если бы знали, чем занимается твоя клиника. Беда в том, что никто об этом не знает.
— Ты считаешь, детка, что мы должны себя рекламировать? Пускать слезливые коммерческие ролики о ветеранах-уродах?
— Подожди, Макс.
— И платить за каждый по десять тысяч долларов, чтобы его показали на телевидении? — безжалостно продолжал он.
Жени покачала головой. И Макс заметил, как разлетаются ее золотистые, как плотный шелк, волосы.
— Извини, детка, я знаю, какой я сукин сын.
— Наверное, Макс. Я думала, не поговорить ли мне с моим бывшим мужем. Фонд Вандергриффов поддерживает многие…
— Нет! И так уж нелегко брать этот чек от Ритко. никакой благотворительности. Пусть даже от тех, кто захочет порадовать свою маленькую Жени. Поговоришь со своим бывшим — и глазом не успеешь моргнуть, как это все превратится в клинику Вандергриффа. Налоги платить не надо, и прихлебатели Вандергриффа понесутся сюда сломя голову. Превратят все в дерьмовую клинику красоты. Нет, актер — это все! Я не косметолог, а врач.
— Пел не такой, — возразила Жени. — И сам Фонд не такой. Основал его мой свекр — добрый, великодушный, порядочный человек.
Макс искоса поглядел на Жени, когда она назвала Филлипа своим свекром. Но она настаивала:
— Они пожертвуют деньги без каких-либо условий.
— Может быть, может быть. Оставим это на самый крайний случай, хоть мне это и не нравится. Совершенно не нравится.
— И что же ты собираешься предпринять?
— Не знаю, — он откинулся на диване и закрыл глаза. — Наверное, продолжать клянчить — там кровь, здесь сканер, где-то еще — несколько драгоценных часов занятого хирурга. Все как раньше, — он открыл глаза, и в них не было никакой надежды. — Таскаться повсюду, как старый нищий слепец. Выставляться перед людьми. Слава Богу, характер позволяет снести. Вот я какой дерьмовый герой, — он презрительно хмыкнул. — Военачальник. Только не говорите войскам, что склады пусты. Пусть надеются, черт побери, и пошло все к дьяволу. Так все и было, а потом появилась ты и я подумал…
— Да?
— Нелепые мечты, детка.
— Но ведь я с тобой заодно, Макс. Ты же знаешь.
— Н-да, коллега.
— Не только коллега.
Он выжидательно посмотрел на Жени.
— Мы — одна команда. Мы — друзья.
— Для меня, Жени еще больше. Я старый дурак, но когда-нибудь это должно было выйти наружу. Никогда не чувствовал ничего подобного. Когда ты здесь появилась, то не казалась мне настоящей. Лучший хирург. Внешность, как из книжки. Шли недели, месяцы, и я никак не мог в тебя поверить. К тому же ты жила с этим мерзавцем.
— А что произошло потом? — спросила Жени.
Макс тяжело дышал.
— Думаю, ты догадываешься. Когда я поверил, что ты настоящая, я… я… нет, никак не могу это выговорить. Мне нечего тебе дать, Жени.
— Ты дал мне уже почти что все, — она встала, подошла и села рядом.
Удивленным взглядом Макс проследил за ней.
— Ты лучшая женщина из всех, каких я только знал.
Она взяла Макса за руку. Он опустил глаза и взглянул на их соединенные руки:
— Ты хочешь сказать, что тебе нужен такой обормот, как я?
— Ты не обормот, — Жени наклонилась вперед и поцеловала его. — Ты лучший и добрейший из всех людей. И мы вместе потащим эту клинику.
— Ты и я?
— Да.
— Боже, — вздох облегчения вырвался у Макса. Он притянул к себе Жени и поцеловал в волосы. — Любимая, — поцеловал в глаза. — Что за чертово чудо.
Когда на следующий день позвонила Чарли, то бормотала, как Т.Дж.
— Мы дома. Здесь все так здорово. У меня все прекрасно. Он меня любит. Он нас любит. Кошмар рассеялся без следа, превратился в сон, в пустоту, — она перевела дыхание и рассмеялась… — Я несу чепуху, но, Жени, дорогая, я чувствую себя девчонкой. Порадуйся со мной.
— Я радуюсь, — Жени рассмеялась в ответ. — За нас обеих.
— Это Макс! Ты прислушалась к своим чувствам!
Как Чарли хорошо ее знала. Жени рассмеялась еще веселее.
— Это ты помогла мне их понять. Рассказывала, какой он хороший человек.
— Самый лучший, — подтвердила Чарли, но тут же поправилась. — Почти самый лучший. Но не его ведь вина, что он не родился в Японии.
— Я счастлива, — повторила Жени. — Наконец я нашла человека, которого могу любить и с кем могу работать.
— Держись за него, — посоветовала Чарли. — Всю свою жизнь.
— Буду держаться, — пообещала подруга. — Передай привет Тору и поцелуй Т.Дж. Скажи, я по ней скучаю. Я скучаю по вас по всем.
— Ну, за работу, — распорядилась Чарли.
Жени повесила трубку и вернулась в палату. В клинике все было нормально. В отдельной комнате Элиот Хантер бил все рекорды сроков выздоровления.
Уже через десять дней актера выписали и он смог вернуться в труппу. Перед отъездом он назвал Жени настоящей колдуньей, а через несколько дней она получила письмо от Дэнни, в котором он называл ее мастерство сверхъестественным. Жени выбросила листок в корзину: подобная лесть ей была ни к чему — дело сделали удача и гены.
Но через несколько дней после того, как выписался Элиот, ей стали звонить. Сначала она решила, что это ошибки или совпадения.
Звонившие представлялись актерами или людьми из шоу-бизнеса, но не называли своих фамилий. Все они ссылались на Элиота Хантера и просили проконсультировать «по незначительным проблемам». После полдюжины таких звонков Жени поняла, что решение финансовых вопросов клиники найдено. Решение пришло к ним само.
Она завела папку, куда стала заносить звонящих под теми фамилиями, которые они ей называли, указывала номера телефонов и адреса, а в особой графе — характер операции, о которой они просили. Она отвечала всем, что клиника сейчас переполнена, и обещала дать знать, когда появится просвет.
Просвет означал согласие Макса, а Жени знала, насколько ему претила «косметическая или тщеславная» хирургия. Сначала она намекала, но намеки он пропускал мимо ушей. Когда она стала предлагать открыто, он тут же все отмел:
— В моей клинике операции для избранных? У нас что, лавочка для тех, кто хочет удержать свои многомиллионные контракты?
— Иногда людям нужно выглядеть лучше. Вспомни Чарли. Крупным чиновникам это тоже часто необходимо.
— Ну и пусть идут в храмы тщеславия. Их полно в Калифорнии. И там только и жаждут, чтобы заработать денег.
— Но мы умрем, если не станем зарабатывать, — настаивала Жени.
Ответом был лишь сердитый взгляд.
Жени не оставляла попыток убедить Макса. Каждый вечер, когда они были вместе, она снова и снова заговаривала об этом. В воскресенье, за разогретым ужином, он хмуро произнес:
— Я понимаю так: либо смерть, либо хирургия тщеславия. Нам не добиться постоянного притока средств, пока у нас не будет постоянно платных пациентов. Мне этого вовсе не хочется. А спаржа что-то потемнела.
— Долго лежала под открытым небом. Я знаю, Макс, тебе не хочется принимать в клинике пациентов для пластических операций. И поначалу это будет трудно. Труднее, чем когда бы то ни было. Придется работать по двадцать четыре часа в сутки, как будто вновь оказались в интернатуре. Но ты выносливый, Макс. Мы оба это знаем. И скоро наступит облегчение. Мы сможем платить большему числу персонала и купим все необходимое оборудование.
— Нечего давить на меня логикой. Она сбивает меня с толку.
Жени рассмеялась и, потянувшись через стол, поцеловала в губы.
— И это тоже, — проворчал Макс. — Еще сильнее, чем логика.
Съев в доме все, что можно было переварить, и выбросив остальное, они отправились спать. Жени больше не упоминала о косметической хирургии. Это время она не использовала для убеждений: слишком он в такие моменты был раним — боялся, что не будет на высоте.
Они любили друг друга всего несколько раз и никогда не говорили о его опасениях. Макс все еще не раздевался перед ней: гасил свет, забирался под одеяло и только тогда стягивал трусы. Жени чувствовала напряжение его тела, скованность мышц, как будто его сдерживала крепкая узда. В миг любви он не говорил ни слова, но Жени чувствовала приближение развязки по тому, как он замедлял движения, останавливая себя. Тогда она крепче прижималась к нему, раскрываясь навстречу и как бы давая на все разрешение. Когда все кончалось, она ощущала в тишине вопрос, но Макс никогда не задавал его вслух. Жени удивлялась, кто же смог так разрушить его уверенность в себе, но не заговаривала об этом, опасаясь, что любое упоминание о сексе заставит его нервничать еще сильнее.
Со временем придет доверие и излечит рану. Жени была в этом убеждена. А пока наслаждалась физической близостью, лежа рядом с мужчиной, который любил ее и обнимал, понимая, что скованность пройдет и они научатся любить друг друга, как научились быть коллегами, друзьями, людьми, привязанными к общему делу и друг к другу.
В четыре утра Жени почувствовала, что Макс осторожно, чтобы не разбудить ее, вылезает из кровати. В сумерках она смотрела, как он одевается, а потом позвала. Макс вернулся, поцеловал ее, пригладил волосы ладонью.
— Увидимся в клинике, — проговорил он. — И принеси мне тот список.
— Список?
— Клиентов в лавочку подтяжек.
— Слушаюсь, сержант, — она поцеловала Макса в лоб. — Самое позднее в семь.
Он ушел, а Жени еще час пролежала в кровати без сна, лихорадочно обдумывая, что предпринять.
Первым прибывшим для пластической операции пациентам Макс представился как «старший механик». Но через несколько недель, к удивлению и облегчению Жени, он уже наслаждался новым видом деятельности и, кажется, с нетерпением ожидал очередную косметическую операцию.
— Не так уж и плохо, — признал он как-то в пять утра, в ожидании пока закипит кофеварка. — Не то, чтобы я стремился посвятить этой пластической лепке жизнь. Но результаты иногда получаются больно симпатичные.
Жени кивнула. Такое разнообразие ей тоже казалось приятным. Вместо того чтобы устранять увечье, теперь они добивались красоты. Большинство их платных пациентов были изначально привлекательны и четко себе представляли, чего хотят от операции — устранить признаки возраста, чтобы еще немного посоревноваться за ведущие роли и повременить с переходом на второстепенные. Такая просьба была самой распространенной. Или требовали чего-то конкретного: убрать двойной подбородок и мешки под глазами, выпрямить нос, нарастить подбородок. Макс и Жени работали и как хирурги, и как скульпторы, изучая под всеми углами медицинские фотографии и вынашивая в голове идеал. Иногда они предлагали нечто, о чем пациент и не подумал — например, вместе с операцией на подбородке изменить форму носа, чтобы добиться совершенной симметрии лица.
Жени сидя за столом потягивала апельсиновый сок, пока Макс готовил кружку для своего кофе и чашку для чая Жени.
— Да, — отозвалась Жени, внося, как обычно, скупую лепту в их разговор. Несмотря на то, что, открывая по утрам глаза, она уже привыкла прежде всего видеть Макса, понять его страсть к разговорам до завтрака она не могла.
Макс все понял и, ставя перед ней чашку с чаем, тихонечко обнял. Пока она принимала душ и одевалась, он выжимал сок из апельсинов, ставил на стол джем и мед, готовил кофе и чай.
Они уже привыкли друг к другу. В те дни, когда Жени не нужно было появляться в клинике раньше семи, она бегала по утрам, а потом до завтрака принимала душ. И в другие дни выходила на кухню тоже из душевой.
Макс просыпался с сильным желанием тут же проявить красноречие, утихающее в нем к концу утра. Жени же, наоборот, спозаранку никогда не была склонна к беседам. Но они приспосабливались друг к другу, когда-то подстраиваясь под другого, когда-то действуя в унисон, пока второе, третье и даже четвертое дыхание держало их на ногах. Как и предсказывала Жени, с новыми пациентами заметно прибавилась и нагрузка.
Оба, когда вечером ложились в постель, были уже вконец измотаны. И свернувшись друг подле друга, как дети, которым нужны объятия, предавались неспешным ласкам. Даже если Жени ложилась в постель безмерно напряженной, с где-то еще витающими мыслями, Макс клал ей на грудь широкую ладонь и свежий запах его тела (он никогда не приближался к кровати, не приняв душ) тут же ее успокаивал.
Ручеек платных пациентов превратился в поток, когда между Кармелем и Монтереем разнеслась весть о бесподобных результатах, которых добиваются в чудо-клинике.
Хирургов Боннера и Сарееву стали называть «секретным оружием» развлекательной индустрии. Их считали даже лучше тех, кто работал с Мерлин Монро, Ракелом Велчем и Джоном Вейном. Хотя кое-кто из избранных с подозрением относился к «примитивной клинике», большинство были заинтригованы жестким сержантом и прекрасной русской. Клиника превратилась в желанное место знаменитостей.
Они больше не скрывались за вымышленными именами, а называли те, под которыми были известны в индустрии — теле- и кинозвезды, сценаристы, писатели из Голливуда, два газетчика, ведущих колонки слухов, и известный политик.
По мере того, как разрасталась клиника и в нее попадали люди разного круга, получала известность и их работа с ветеранами. От частных лиц и организаций стали поступать пожертвования. Фармацевтическая компания поставила большую партию медикаментов, другая фирма — медицинское оборудование, прачечная предложила два года обслуживать их бесплатно. А чеки продолжали приходить — многие только на десять или двадцать долларов от семей ветеранов.
Самый крупный чек в пятьдесят тысяч долларов Вашингтонского банка, округ Колумбия, поступил от анонимного жертвователя.
— Нет ли тут какого-нибудь подвоха? — забеспокоился Макс. — Не потребуют ли от нас сделать подтяжку подвыпившему члену правительства, угодившему лбом в фонарный столб. Или Первой Леди в салоне президентского лайнера в полете отсюда до Рио.
Жени рассмеялась. Изучив чек, она поняла, что он выписан чиновником, который вел дела Пела, когда они поженились.
Совпадение? Или это значило, что Пел вернулся в Америку и, как и раньше, снова незримо поддержал ее? Она сказала Максу, что Филлип был очень щедр и Пел унаследовал от отца это качество. Она почувствовала прилив признательности и мысленно послала Пелу благодарность и любовь, где бы он ни находился. А вслух, поднеся чек к электрической лампочке, заявила:
— Нет, Макс, я не вижу здесь никакого подвоха.
К лету клиника была хорошо оборудована и прекрасно обеспечена. Средствам диагностики, мониторинга и лабораториям мог позавидовать городской госпиталь. Оплачиваемый персонал был вполне достаточен, а хирургам-специалистам уже не приходилось работать с ветеранами на добровольной основе, хотя некоторые из них по-прежнему отказывались от оплаты своих услуг.
Расписание Макса и Жени стало нормализовываться. Не так уставая, они любили друг друга по ночам или в предрассветные часы, и всегда без слов и никогда потом не обсуждали своих отношений или скованности Макса. Оно таилось не в самом акте, догадывалась Жени, а в том, что с ним сделала война. Не с телом — он был по-мужски крепок — а в душевных ранах, разобщающих его с собственной плотью во время любви. Он был так же уязвим, как и ветераны в их клинике.
Днем они строили планы крыладоктора Сареевой, предназначенного исключительно для пластической хирургии. Макс делал лишь наброски, заявляя, что он вовсе не архитектор, большей частью оставляя решения за Жени. И хотя обладал правом вето, редко им пользовался. Он доверял Жени и, даже подтрунивая над ней, восхищался ее талантом «капиталистического предпринимательства».
Крыло,или пристройка, было на самом деле отдельным зданием, соединенным с основным переходом, крытым гнутыми панелями стекла цвета морской волны. Оно уходило в небо, как будто летело.
Жени решила открыть крылос двадцатью комнатами. Если бы потребовалось, в течение нескольких месяцев его можно было перестроить и расширить. Каждая палата была рассчитана на одного человека.
Цены она назначала высокие, но несравнимые с теми, что требовали южнокалифорнийские «суперхирурги». Хотя у Жени и были намерения привлечь в основном состоятельных людей, она не хотела отпугивать и других, с более скромным достатком, для которых операция означала продолжение или начало карьеры.
Строение росло быстро, и его аквамариновые стекла уже сверкали радугой, напоминая гвоздики на зеленом и голубом. Однако меблировка палат должна была занять месяцы.
— Я составила план, — заявила Максу Жени, когда воскресным утром — редкий случай — они брели вдоль Кармельского побережья.
— Господи, помилуй!
Жени улыбнулась:
— Да, крылодорогое. Нужно искать дополнительный источник финансирования.
— Я тебе говорил, что это безумие. Рай для глупцов, — но Макс никак не мог разозлиться. Он понимал, что Жени спасла его клинику, где теперь стало возможным самое лучшее лечение.
— Строительство вышло дороже, чем мы рассчитывали. Пожертвования поступают ежедневно, но только на них полагаться нельзя. Нужно обратиться к самим пациентам.
Жени замедлила шаг, чтобы приспособиться к Максу. Он хмурился, но ее не перебивал.
— Цены поднимать нельзя? Нет, — ответила она себе. — Если завысишь их, потеряешь много пациентов. И какова бы ни была наша репутация на севере, следует помнить о неудобстве нашего расположения.
Макс уперся глазами в песок, и Жени не могла разобрать, одобрял ли он ее мысли.
— Но, — продолжала она, — некоторые из наших потенциальных клиентов богаты по-особому.
— Что ты хочешь сказать? — Макс скосил на нее глаза, но продолжал идти.
— Им неуютно, если они не могут потратить деньги. Они делаются тогда подозрительными. Все, что похоже на сделку, их не устраивает. Для них цена равносильна ценности.
Он коротко кивнул:
— Как в военном руководстве — военные расходы — первейший приоритет богатых наций. Психи.
— Я говорю об отдельных людях, Макс. Я жила с богатыми. Некоторым до денег, как до шелудивого пса, — она вспомнила Топнотч и Дайамонд Рок. — Но другие видят в деньгах способ самоутверждения. Чем больше у вас есть и чем больше вы можете показать — тем лучше вы сами. Превосходнее всех остальных. Картины, иконы, изделия Фаберже.
— Психи, — повторил Макс. — Говнюки.
— Конечно, — она стиснула его руку. — Но дело в том, что они хотят платить много. Это вселяет в них уверенность в себе. Таким людям — а их немало — я хочу предложить палаты и номера, напоминающие маленькие дворцы, и требовать за них целое состояние. Цены за операции оставим прежними, но за «проживание» в роскошных номерах сделаем такими же роскошными. Вот и получим приток средств, — торжествующе закончила Жени.
— Ненормальные.
— Пять сотен за ночь, а за номера и больше. И список ожидающих растянется до восьмидесятых годов.
— Ты серьезно, детка?
— Я тут набросала кое-какие мысли по отделке: комната Романовых, Версальский номер… Что-то в этом роде.
— К черту твои идиотские мысли! Ты думаешь, я соглашусь на эту околесицу? Это против всех моих принципов, — он выдернул руку и пошел вперед, все так же наклонившись и опустив голову.
«Попробовать стоило», — думала Жени. Но она не могла и не хотела идти против его убеждений. Нужно было придумывать что-нибудь еще.
Макс сердито уходил от нее, и Жени позволила ему удалиться достаточно далеко, пока он не показался незнакомой фигурой на фоне песка.
Что-нибудь другое. А что? Жени глубоко уважала Макса. Но какой бы план она не предлагала, он не хотел идти на компромисс. Идея с номерами казалась ей озарением.
Жени увидела, как вдали Макс нагнулся и что-то подобрал с песка. Потом остановился ее подождать.
Когда Жени поравнялась с ним, на его лице играла улыбка. Он вынул из-за спины руку и подал ей белое перо.
Благодарить словами не было смысла: белый цвет означал перемирие, а перо символизировало крыло — ее крыло.
39
Несколько комнат попроще приняли пациентов весной 1979 года. Но официально крыло доктора Сареевой открылось на пять месяцев позднее, когда дворцовые номера достигли того уровня устройства, который требовался Жени. Она тянула с открытием, понимая, какой фурор они произведут в прессе и в общественном мнении.
Мотивы комнат были навеяны вещами и событиями из жизни Жени. Столик с украшенным драгоценными камнями изображением лебедя в городской квартире Бернарда подсказал идею комнаты Романовых, его официальная гостиная — Версальский номер. Многие годы она без боли не могла вспоминать ни о чем, связанном с ее покровителем. Но планы отделки гостиницы позволили посмотреть по-другому на прошлое, претворить его в будущее для себя и Макса.
В других комнатах пациентам предлагалось неброское спокойствие Джорджтауна, неяркое барокко Зимнего Дворца, шик каюты океанского лайнера.
Репортеры и фотографы на открытии на все лады превозносили комнаты, сравнивали крыло с дворцом Херста в нескольких милях по побережью и предлагали назвать его Тадж Махалом.
Макс ходил в чернейшем настроении, и оно испортилось еще сильнее, когда молодая журналисточка подскочила к нему и в восторге выдохнула прямо в лицо:
— Это мир, которым правит юность и красота.
— Ну уж дудки, — ответил он. — Просто ловушка для выкачивания денег. Кому нужна эта обивка и прочие штучки-дрючки? Бесполезная мишура. Эту кучу дерьма мы построили с единственной целью — помочь людям вон там, — и он указал на старую клинику. — Там нет ни юности, ни красоты, леди. Никакой этой чуши. Их тела и лица разорваны, и они по-настоящему ужасны, как ужасно лицо войны. Вот так-то, леди, — говоря с репортершей, он близко придвинулся к ней и теперь, повернувшись и трясясь от ярости, пошел прочь от нее и ото всего сборища.
На следующий день его замечания, правда с некоторыми купюрами, появились в газетах. Но вместо того чтобы обидеться, его потенциальная клиентура оказалась только заинтригованной. На следующий же день позвонила известная кинозвезда лет пятидесяти и попросила зарезервировать, для подтяжки лица, Джорджтаунский номер. Это уже четвертая ее подтяжка, призналась она.
— И я хочу, чтобы операцию мне делал тот крутой человек. Мне нравятся как раз такие. Нравится, когда приходится ломать их сопротивление.
Сестра, принявшая звонок, смеялась, сообщая Жени об этом разговоре.
— Я ей сказала, что вы с Максом всегда меняете друг друга и что открытие Джорджтаунского номера состоится в феврале 1981 года. И что, прежде чем записать ее на операцию, она должна приехать на консультацию. Она настаивала и сказала, что будет здесь через неделю.
— Проследите, чтобы я осматривала ее одна. И ничего не говорите о ней Максу, — его ярость непомерно росла и была готова вот-вот взорваться. Жени понимала, что он чувствовал себя загнанным. Хотя сначала пластические операции ему нравились точно так же, как и ей, в последние два месяца он злился все больше и больше. Он ненавидел новое блестящее здание, его театральную отделку, богачей, подъезжающих в сделанных на заказ машинах. Дошло до того, что он прогнал прочь жену известного продюсера, назвав «грязной сукой», когда та попыталась с ним заигрывать.
Жени изо всех сил пыталась оградить его от этого мира, но парящее крыло было их состоянием и благополучием, и пустить все на самотек она не могла.
Отношение Макса заставляло Жени скрывать свои чувства к тому, что она делала. Он говорил о пациентах Крыла Сареевой,как о «твоих», а тех, кто лежал в старом здании, называл «своими». Но в остальном их методы работы не изменились: оба крутились между двумя зданиями, осматривали новых больных, консультировались друг с другом, как прежде.
Ненависть, зревшая в Максе, и раньше выплескивавшаяся время от времени в ругани, теперь изливалась целыми тирадами. В темноте он мог еще по-прежнему расслабиться с Жени, и, устав от работы, они по ночам ласкали и обнимали друг друга, но Жени слышала тикание и знала, что бомба замедленного действия уже заведена.
Вместе с раздражением на Макса нахлынула новая волна неуверенности в себе.
— Я не нужен тебе, Жени, — заявил он с горечью, когда они были дома наедине. — Я старый выжатый человек. От меня остались только мои руки и нож. Ты красивая, молодая, — последнее он бросил ей, как обвинение. — Ты должна иметь детей. А я на это не способен, — признался он.
Жени всегда уверяла его, что не хочет ребенка, что счастлива с ним и той работой, которую они делали вместе. Он не выжат, а просто устал. Она уговаривала, подбадривала его, иногда поглаживала. Часто это его успокаивало на какое-то время, но потом гнев вновь охватывал его, а вместе с ним приходили старые страхи.
Однажды, в начале января, он пришел в новый кабинет Жени, размахивая газетой:
— Ортон умер, — объявил он. — О нем написали на первой полосе. Не многие хирурги удостаиваются такого.
— От чего он скончался? — спросила Жени, сохраняя внешнее спокойствие.
— Кто знает. Говорят, внезапно, в своем кабинете. С ним была молодая ассистентка. На нем обнаружили синяки — может быть, следы падения. Он ведь был уже старый. Наверное, удар.
— Да, — новость напугала Жени.
— На первой странице о нем напечатали: из-за его «Слонового мальчика».
— Еще бы, — только несколько месяцев назад Ортон завершил шестнадцатую операцию над больным и утверждал, что «восстановил» его. Хотя с фотографии глядело еще явно обезображенное лицо, в нем уже явно угадывались человеческие черты. Взявшись за один из самых тяжелых случаев нейрофиброматоза, Ортон пошел дальше, чем любой другой хирург, и умер светилом медицинского мира. Соболезнования, сообщала газета, поступали от врачей со всего света. Близких у него не осталось.
— Тебе повезло, что пришлось с ним работать, — проговорил Макс.
— Эта работа привела меня сюда, — твердо напомнила ему Жени.
Но все утро она не могла успокоиться, спрашивая себя, не принудил ли Ортон молодую ассистентку совершить над собой то, что привело его к окончательному падению. В ее глазах он стоял обнаженным, умоляющим избивать свое тело.
Она хотела поговорить об этом с Максом, но он был занят весь день. К тому же она понимала, что не имела права перекладывать на него весь этот ужас. Можно было позвонить Эли, который попросил бы ее войти в положение «ее старика», напомнил бы, что Ортон за свою жизнь хирурга спас бесчисленное количество людей. И это была сущая правда. Но в самом Ортоне шла постоянная борьба и зло одерживало верх над добром. Но Эли напомнил бы, что врач уже мертв, не нуждается в прощении и недоступен для ненависти.
«Что ж, он был прав», — сказала себе Жени, как будто и в самом деле разговаривала с Эли Брандтом. Ортон ушел и нужно выбросить его из памяти.
Она больше не заговаривала об Ортоне. Макс пришел домой после десяти. Его лицо избороздили морщины усталости, и на нем отпечаталось выражение, которое слишком часто появлялось в последние дни — выражение отвращения.
— Сколько в этом чертовом мире контрастов, Жени, — пробормотал он, сбрасывая пиджак. — Везде боль. Везде уродство.
— И красота тоже, — но он, казалось, ее не слышал и с горечью на лице продолжал швыряться словами. Жени пошла приготовить ему слабый кофе и все время убеждала себя, что Макса не сломает усталость. Но когда она наливала кофе, ее руки дрожали, и она поняла, что боится за Макса.
Название «Крыло Сареевой Клиники Боннера»было слишком путаным, и через год после открытия в октябре 1980 года его переделали в Клинику «Боннера — Сареевой». Объединение имен оказалось обманчивым. Вместо того, чтобы руководить всем, Макс теперь занимался только старой клиникой и ее пациентами, а в новой хозяйничала Жени. Каждый из них нанимал помощников независимо друг от друга, и молодые хирурги переходили из здания в здание лишь в случае экстренной необходимости.
Когда о разделении стало известно, репутация Макса как Альберта Швейцера только возросла, в то время как о Жени писали, как о «хирурге звезд».Ее открыли журналы мод, а «Вог» сообщил своим читателям, что «в эффектной Кармельской клинике доктор Сареева творит чудеса… одним прикосновением эта прекрасная женщина излечивает все приметы возраста».
Заметка рассердила Жени. Она вспомнила отвратительную рекламу Клиники Кутюр и позвонила в «Вог».
— Я понимаю вашу обеспокоенность, — согласился редактор, и через несколько номеров в журнале вновь появилось сообщение о ней: «Цельная женщина с абсолютным вкусом, она придерживается старозаветной добродетели и скромности. Она отрицает и магию, и чудо. Но мы видели результаты — они просто чудесны».
Она постаралась отмахнуться. Непрошеная огласка прибавила ей пациентов со всей страны. Лист ожидания простирался на год, и Жени дала указание строить новые комнаты.
Чем моднее становилась она, тем известнее делались ее пациенты. Первые величины и звезды постоянно настаивали на защите и анонимности, и после нескольких вторжений репортеров-ищеек Жени пришлось распорядиться соорудить секретный проход, из проулка в подземном гараже к потайной двери, в ее кабинет.
Популярность привела к ней и нежелательных лиц, стремившихся воспользоваться ее услугами. Как два года назад она сказала Максу, эти люди были богаты «особым» образом и приходили из причуды, чтобы купить юность и красоту. Примерно десять процентов всех обращающихся Жени отсылала обратно, понимая, что их просьбы просто нереальны и с самого начала обрекают операцию на неудачу.
Грузная женщина просила сделать липэктомию [9]и сообщила, что все остальное она уже перепробовала. Но Жени попросила список ее лечащих врачей и проконсультировалась с каждым. Оказалось, что время от времени она и впрямь садилась на диету, но у нее не хватало терпения продолжать ее после потери первых двадцати фунтов. Жени категорически отказала ей в операции:
— Приходите после того, как похудеете на пятьдесят фунтов.
— Вы меня прогоняете, — блеснула глазами женщина.
— Да. Скоро вы все равно наберете этот вес. Вам нужно взять себя в руки, а потом уже думать об операции.
— Ну это мы еще посмотрим. Я уверена, другой хирург будет прыгать от счастья, только дай ему возможность меня прооперировать.
— Может быть, — согласилась Жени, — но это не в ваших интересах.
— Что вы знаете о моих интересах? — возмутилась миссис Грейбар. — Кто вы такая, чтобы указывать людям, что им делать? Вы не Господь Бог, а просто жалкая шлюха…
Жени нажала кнопку интеркома:
— Пожалуйста, проводите миссис Грейбар, — попросила она сестру.
Но большинство приходящих на консультации прислушивались к советам Жени и соглашались отложить операцию и сначала сесть на диету, обратиться к терапевту или разрешить назревший кризис. Назревший кризис обычно был связан с расставанием: муж уходил от жены, дети покидали дом, умирал кто-нибудь из родителей или любовник. В последующие недели и месяцы человек терял свой внутренний образ и был бы разочарован даже самыми потрясающими результатами операции. Но позже, когда притуплялся гнев или горе, тот же самый человек мог получить от пластической операции большую пользу.
Когда комедиант Джошуа Голд попросил сделать ему ринопластическую [10]операцию, Жени первым делом спросила, почему он решился на это.
— Слишком уж я ярко выраженный, — объяснил он. — Это сильно портит мои шансы. Хватит уж мне кривляться.
Жени выслушала его и узнала, что Джошуа Голду было тридцать три года. Его карьера началась сразу же после колледжа и никогда форма носа его не беспокоила. Он играл в клубах и забегаловках, преуспевал, и зарабатывал достаточно для себя и для матери. Они купили большой дом и каждые полтора года меняли обе свои машины.
Полтора года назад после того как он появился в вечернем телешоу и гастролировал в Лас-Вегасе, Майами и Чикаго, Джошуа Голд вдруг решил, что плесневеет. Ему захотелось чего-то нового, революционного.
Он продал дом в Коннектикуте и переехал с матерью в Калифорнию. Но через год она умерла. Женщину верующую, ее хоронили по правоверному обряду синагоги.
Теперь он жил один. Завел новых друзей. Но они были не те, что прежде, не такие, с которыми он вырос. С тех пор у него было несколько неудачных интрижек. Женщины в Калифорнии какие-то «вообще не такие», заявил он.
Жени не возражала.
— Не хотите посмотреть на несколько рисунков? — спросила она.
— Хорошо. А зачем?
— Чтобы помочь мне в работе, — она достала стопку зарисовок. Этот тест она придумала сама — обычная проверка внутреннего образа.
— Какой из них больше всего напоминает вас? — зарисовки были сделаны анфас, в три четверти и в профиль.
Он выбрал.
— Прекрасно, — ответила Жени. — А теперь сравним это с рисунками, которые были сделаны с вас — просто переведены с ваших фотографий.
Джошуа уставился на нее:
— Не могу поверить, — наконец выговорил он. Жени распорядилась принести фотографии и положила поверх них переведенные рисунки.
— Боже! — выговорил Джошуа. Выбранный им рисунок был карикатурой с его собственной фотографии. В его сознании его нос удлинился почти вдвое.
— Я играю в эту игру, чтобы защитить себя, — объяснила Жени. — Буду откровенной. Если у человека изначально сформировался искаженный собственный образ, то никакая хирургическая операция не сможет его удовлетворить. Мне ваш нос представляется вполне нормальным и по размерам, и по форме. Но скажи я вам это сразу, вы бы мне не поверили, — она улыбнулась.
— Не поверил бы, и сейчас не верю. Но, — он улыбнулся ей в ответ, — вы мне доказали, что прежде чем заниматься носом, нужно ужать всю голову.
— Вы правильно мыслите, мистер Голд. Если хотите, приходите на консультацию через три или четыре месяца, — она протянула руку. — Позвольте мне сказать, что когда однажды я увидела вас в телешоу, вы мне показались ужасно смешным.
— А вы хитрюга, — рассмеялся он. — Мне кажется, я вас полюбил, доктор Сареева.
— Желаю успехов. И сообщайте мне обо всем.
Работая с такими, как Джошуа Голд, Жени получала огромное удовлетворение от того, что операция оказывалась не нужна. С другими, как с Клиффом Харлеем и Ру Максвелл, от того, что достигала блестящих результатов. Подтяжка лица пятидесятитрехлетнему Клиффу почти немедленно принесла заглавную роль в большом кинематографе. А Ру Максвелл так в нее уверовала, что бросила истощающие ее выступления, завела лавку и вышла замуж за юриста — и все в течение какого-нибудь полугода.
Преображения. Когда они происходят, косметическая хирургия так же важна, как и все остальное. Она приносит новую энергию, воссоздает собственное я, меняет взгляды на жизнь, а может быть, и саму жизнь.
Но большинство пациентов представляли собой середину между этими крайностями. И хотя они доставляли Жени удовлетворение и даже радость, она скучала по трудной работе, такой, которую делал Макс. Работе — с большим риском и большими требованиями. Ей хотелось заниматься также исследованиями: теорией и новыми методами.
Когда хватало времени, она устраивала совещания с Максом, заезжими хирургами и специалистами, и каждый рассказывал о новых достижениях в своей области. Но возможностей для этого становилось все меньше и меньше: возросший поток пациентов и увеличивающийся штат отнимали все ее время.
Макс часто проводил ночи в клинике и в дом Жени приходил всего несколько раз в неделю. Его увлеченность работой становилась все сильнее.
— Старею, — объяснил он Жени. — Времени остается немного.
— Если бы это сказал кто-нибудь другой, ты бы его так послал, — возразила она.
Макс улыбнулся:
— Что бы там ни было, детка, не могу остановиться. Как будто кто-то ведет меня за руку. И самое ужасное, что я все это люблю и не хочу останавливаться.
— Приходи ко мне вечером, — был четверг, и он не заходил к ней с субботы. — Я по тебе скучаю.
— Правда? — его удивление казалось неподдельным. — А я думал, все твое время занимает работа.
— Займет, если ей позволить. Но я хочу быть с тобой.
Макс подошел к двери и плотно ее прикрыл.
— Если бы я знал, что ты хочешь быть со мной… по-настоящему хочешь…
Жени улыбалась и ждала.
— Но я хочу, — проговорила она.
— А не могли бы мы… Как ты думаешь, нам не поздно, детка…
— Что?
— Знаешь, мы могли бы взять ребенка. Кого-нибудь вроде Т.Дж.
— Тех, что вокруг уже не хватает?
— Да. Правда, — он стоял перед ней с выжидающим выражением лица, руки по швам. — Ты права, детка, — наконец выговорил он своим сержантским голосом.
Жени его обняла:
— Я тебя тоже люблю, — она слышала, как стучит его сердце, и хотела успокоить. Знала, как он может любить. Он показал это ветеранам, Т.Дж. и сильнее всего ей, когда его страхи приутихли. — Вечером, — повторила она. Он поцеловал ее:
— Буду в девять тридцать. Самое позднее — в десять.
Из его кабинета Жени бросилась в свой. Там ее уже ждали шесть пациентов.
К восьми она с продуктами была уже дома и принялась готовить ужин. Омары и шампанское. Праздник в честь предстоящей свадьбы. Когда она станет его женой, доверие Макса будет все возрастать, раздражение и страхи постепенно пройдут. Брать ребенка они подождут, но не так долго. В мае Жени исполнится тридцать семь — не так уж и молода для матери. Оба пересмотрят свое расписание, станут больше времени выкраивать для дома. Она кого-нибудь наймет, чтобы вести всю административную работу, а сама снова станет просто хирургом. Женой и матерью.
Жени поставила в вазу цветы, приняла душ и надела бежевое джерси с мягкой юбкой. Потом подкрасила перед зеркалом лицо, потому что сегодня во всем поступала как героиня из женского журнала или романа. Как девчонка, подумала она и ободряюще улыбнулась себе самой. Наступало время расслабиться, насладиться тем, что она женщина, что она красива, своим домом, вот этим столом. Она подушилась ароматными мускусными духами, которые как-то купила по случаю, но еще ни разу не пользовалась.
В десять его еще не было, да Жени и не ждала его вовремя. Нет, не ждала, убеждала она себя, хотя сегодня вечер был особенным.
В половине одиннадцатого Жени почувствовала легкое раздражение. Неужели хоть на один вечер нельзя поставить на первое место их счастье и личную жизнь?
В одиннадцать она забеспокоилась и позвонила в клинику. Ночная сестра сообщила ей, что видела, как Макс уходил еще до девяти. Нет, он не сказал, куда собирался.
Через пятнадцать минут зазвонил телефон. Испытывая огромное облегчение, Жени схватила трубку уже на первом звонке. Макса она давно простила.
Но голос был не его.
— Доктор Сареева?
— Да.
— Говорит капитан Морган, полицейский участок Кармеля. Произошла авария. Мне очень жаль, но доктор Боннер…
— Нет! — закричала она.
40
Отсутствие Макса в клинике и в ее жизни, словно постоянная боль, создало пустоту. Но боль временами становилась острой и Жени сгибалась от непереносимой потери. Только одиночество и бессмыслица вокруг. Не хотелось расчесывать волосы и умываться, не было сил бегать по утрам. Но потом она представляла, как Макс говорит: «Черт побери, детка, тебя ждет работа», и заставляла себя улыбаться в присутствии пациентов, сосредоточить все свое внимание на их проблемах.
Она так и не узнала, была ли катастрофа случайностью. Может быть, Макс так устал, что был невнимателен за рулем. А может с дороги его согнал страх, страх, что он недостаточно хорош для Жени, слишком стар или страх самого счастья, в которое никак не мог поверить.
Она чувствовала себя одинокой и покинутой. Но когда Чарли предложила приехать и побыть с ней несколько дней — одной или с Т.Дж., Жени попросила ее остаться дома. Лучше было окунуться с головой в работу в надежде, что, как и в прошлом, работа поглотит ее всю.
В клинике, как прежде Макс, Жени работала по четырнадцать часов: вместе со своими делала и его операции. Таким образом она оплакивала его, собственной жизнью воздвигая ему памятник.
И через десятилетие после войны в Юго-Восточной Азии ветераны продолжали поступать в клинику, хотя поток искалеченных и начал сокращаться. Пустующие койки Жени стала отдавать детям с врожденным уродством. Как и пострадавших на войне, их принимали бесплатно. Жени передала другим почти всю административную работу, а свое время посвящала хирургии и исследованиям. Она снова начала писать статьи для профессиональных журналов и продолжала испытывать новые методы. Ее слава новатора распространилась далеко за пределами медицинских кругов, а непосредственной специальностью стала верхняя и средняя часть черепа, особенно синдром Тречера Коллинза.
Она отказывалась давать интервью и избегала вокруг себя шумихи. И вовсе не «скромность», как предположил когда-то «Вог» заставляла ее с подозрительностью относиться к репортерам. Напротив, она чувствовала себя уверенной, как никогда, и часто переходила границы традиционных методов. Но беседы с газетчиками казались ей ненужной тратой времени. Ни к чему было заботиться о своей репутации или привлекать внимание к клинике. Каждый натиск со стороны репортеров оборачивался новым потоком пациентов, которым приходилось отказывать. Даже с дюжиной новых комнат и девятью постоянными хирургами они не могли обеспечить и тех, кого приводила сюда молва. А журнальные статьи к тому же могли возбудить у читателей неразумные и нереальные надежды.
Жени избегала и встреч с представителями медицинских и научных изданий. Это они так превознесли Вилльяма Ортона, соорудили ему такой пьедестал, на высоте которого он стал недоступен даже для официального расследования.
Постепенно пресса оставила ее в покое, и Евгения Сареева стала фигурой возвышенной и загадочной: высший авторитет в определенных областях хирургии, деловая женщина, сумевшая организовать роскошную и прибыльную клинику, удивительная красавица и человек, бережно охраняющий от посторонних свою личную жизнь.
Она жила среди больных, коллег и персонала клиники, но редко кто из них бывал у нее дома. Через три месяца после смерти Макса она переехала в новый дом, вдвое больше прежнего, но все же скромный по сравнению с соседскими в Кармеле и Дель Маре на западе. После его гибели она не могла оставаться в старом доме. Там она жила сначала с Дэнни, потом с Максом, и ее на каждом шагу подстерегали воспоминания.
Ее новый дом был спроектирован так же просто, как и прежний, но ей очень нравился роскошный бассейн в шестьдесят футов длиной, где она могла плавать днем, защищенная от взглядов посторонних и почитателей.
«Если бы Макс был жив, он бы меня осудил, — иногда думала она, ныряя в прозрачную толщу воды. — Но только поначалу. Потом бы я ему объяснила, почему мне нужны физические упражнения — одновременно чтобы собраться с силами и расслабиться». И в конце концов он бы согласился, что ей необходим шестидесятифунтовый бассейн, подогреваемый большую часть года и освещаемый по ночам.
Иногда, плавая, Жени осуждала себя за то, что заставила Макса поступиться слишком многим. Может быть, если бы она не построила своего крыла, он бы не погиб, жил бы с ней, ворчал на своих больных и возвращал их к жизни.
Но теперь она осталась одна, и как чаще всего в своей взрослой жизни, заполняла время работой. Хотя поток приглашений был нескончаемым — на ужины, в Оперу Сан-Франциско и на балет, на бенефисы и частные вечеринки — большинство из них Жени отклоняла. У нее образовалось много знакомых, масса мужчин хотели с ней сблизиться, и она завела несколько друзей. Но ни с кем из них не сложилось откровенных отношений. Кроме Чарли, с которой она постоянно разговаривала по телефону. А вскоре после переезда в новый дом начал звонить и Пел.
Он постепенно и незаметно возвращался в ее жизнь.
Прислал соболезнование, прочитав в газетах о смерти коллеги, через полгода позвонил, и с тех пор поддерживал постоянную связь.
Во время первого звонка, Летом 1981 года, он хотел передать сведения о ее семье в России. Говорил из Нью-Йорка, где жил уже три года после возвращения из Европы, работал в Фонде и занимался политикой.
По иронии судьбы он узнал о ее родных на открытии художественной выставки. Прежде, живя по соседству с Советским Союзом, Пел так и не сумел ничего выяснить, и вот теперь наткнулся на знакомого в художественной галерее на Мэдисон авеню. Бывший мелкий служащий Посольства СССР, а теперь корреспондент ТАСС, смог кое-что сообщить Пелу за ужином после выставки.
Дмитрий работал в московском Институте механики твердого тела. Он по-прежнему отказывался вступить в КПСС, но его статьи признавались блестящими, и власти благодушно закрывали на него глаза. Его работы публиковались под фамилией какого-то «признанного» физика, но коллеги знали их истинного автора. Дмитрию не разрешалось выезжать за пределы страны, но во всем остальном его терпели и из-за его трудов прощали диссидентство. Жена его, Вера Ивановна, была инженером-химиком. У них родилось двое детей — оба мальчики.
Вера Ивановна! Жени была поражена. Игривая женственная Вера, с ее засушенными цветами, была теперь инженером-химиком и имела двоих сыновей. Ее, Жениных, племянников: как странно иметь родственников в другой части земли, будто живущих на другой планете или в другой эпохе. Вера и Дмитрий всю жизнь прожили вместе. Она околдовала брата в шестнадцать лет. Жени было столько же, когда она встретила Пела. Сложись все по-другому, и у них могли бы быть дети и общая жизнь.
— С твоим отцом, кажется, тоже все в порядке. Его реабилитировали. Он не герой, но больше уже и не враг. Он ветеран войны, получает небольшую пенсию и преподает историю СССР пионерам.
«Неужели дети по-прежнему видят в нем чудовище? — спрашивала себя Жени. — Или отца «реабилитировали» и в физическом плане?
— Могу я ему написать? Им обоим? — спросила она у Пела.
— Попробуй. Перешли письмо мне, а я попытаюсь что-нибудь организовать через своего знакомого из ТАССа.
— Спасибо, Пел. Ты настоящий друг.
— Не за что. Просто поспрашивал о своей бывшей родне.
Только повесив трубку, Жени сообразила, что ничего не узнала о самом Пеле — так ее поразили новости.
Она написала коротенькие письма — одно отцу, другое Дмитрию и Вере и переслала Пелу с запиской, в которой благодарила его и говорила, как рада была получить от него весточку, и выражала надежду на общение в будущем.
Он позвонил снова, и с тех пор они говорили довольно регулярно. Пел рассказал, что все больше и больше увлекается политикой, сворачивая с дорожки отца и устремляясь по стопам дяди.
— Дядю Генри, после того как он покинул губернаторское кресло, назначили федеральным судьей, — сообщил он. — Он по-прежнему в суде и втайне демократ, хотя никогда в этом не признается. Но я подозреваю, что Уотергейтская заваруха ссадила его со спины слона [11]и вернула в лоно семьи. И я слышал, с каким пренебрежением он высказывался об актеришках, старающихся править миром.
Жени улыбнулась:
— Ты метишь в губернаторы?
— Довольно с меня и сенатора. На будущий год буду баллотироваться от Нью-Йорка.
— Ты пройдешь, — у Жени в этом не было никакого сомнения. — Политика — это твое поприще, — она подумала, что его приход на политическую сцену будет подобен возникновению нового Кеннеди.
— Я рад, что ты тоже так счастлива, — ответил Пел. — Это для меня важно.
С тех пор, как бы ни был занят Пел и где бы он ни находился, он не реже двух раз в месяц звонил Жени. О ее семье у него больше не было новостей, но он рассказал, что его мать и бабушка по-прежнему живут вместе. Они чувствуют себя прилично, хотя Роза отпраздновала свое девяностолетие и стала жаловаться на артрит. Мег увлеклась работой в оранжерее матери, где пытается выращивать недорогие растения с высоким содержанием протеина.
Он говорил, как идет его избирательная кампания, шутил, и Жени вспоминала тон его писем, тех, что он присылал из Принстона в Редклифф. Иногда он замечал, что его шансы на избрание были бы гораздо выше, если бы он был женат.
— Но я так и не смог найти женщины, способной занять твое место, — признался он. — Ты, Жени, заставила меня отвернуться ото всех.
— Извини, — пробормотала она. — Я не хотела.
Жени ждала звонков Пела. Она по-прежнему тяжело переживала смерть Макса и радовалась возвращению старых друзей. Поговорив с Пелом и Чарли по телефону, она не чувствовала себя такой одинокой.
Она уже перестала надеяться получить ответ из Советского Союза, когда в декабре пришло письмо от отца.
Сначала она не решалась к нему прикоснуться. Потом осторожно распечатала конверт кухонным ножом и медленно вытащила единственный листок. Почерк был ровный, аккуратный, буквы кириллицы разбегались по желтоватой бумаге. «Дорогая Женя!»,прочитала она и села за кухонный стол, обхватив руками голову.
«Твое письмо доставило мне величайшую радость, но и величайшую боль. Я вспомнил то время, когда ты была маленькой».
Наташа рассказывала, что его записки читались как стихотворения, что они были безграмотны и что Георгий не мог докончить ни одного предложения. Но Жени отец никогда раньше не писал и не с чем было сравнить его теперешнее письмо.
«Я думаю о нашей разлуке. Вопросов много. Но ответов нет. Одна боль.
Жив ли еще Бернард Мерритт? Считаешь ли ты его своим отцом?
Твой образ не стерся в моей голове, но глаза стали старыми. У меня нет больше желания, как перед смертью увидеться с тобой. Но этого не будет. Мы разлучены на всю жизнь, красавица моя. Обнимающий и любящий тебя отец.
Г.М.С.»
Жени поднялась, приготовила чай и села перечитывать письмо снова. Голос отца дошел до нее через двадцать четыре года разлуки. Ответов нет. Одна боль.
Она чувствовала то же самое.
Мы разлучены на всю жизнь. Но почему? Неужели она не сможет устроить, чтобы его выпустили из СССР? Или не сможет приехать навестить его сама?
— Я выясню, — пообещал Пел, позвонив через несколько часов. — Твой приезд туда может быть даже сейчас для него опасным. А сюда он, может быть, не захочет эмигрировать, или знает, что ему не разрешат. Пожалуйста, ничего не предпринимай сама, пока мы не убедимся в его безопасности.
Жени согласилась. Меньше чем через неделю она получила другое письмо — от Дмитрия. Это было длинное: пять отпечатанных с одной стороны на машинке листов бумаги и фотографии. Вера была по-прежнему привлекательной и женственной, в платье цветами, лицо обрамляли мягкие вьющиеся волосы. Она выглядела счастливой и гордой, положив руки на плечи сыновей: девятилетнему Васе и семилетнему Мише. Сзади стоял их отец и смотрел на что-то вдали.
Как и раньше, подумала Жени: в самом кругу семьи, но как будто посторонний. Василий был сильно на него похож — такой же честный взгляд, продолговатое лицо и прямая осанка под ладонью матери. Он сам обнимал Веру за талию. А младший, с удивлением отметила Жени, больше походил на мать: лицо шире, чем у брата, пухлые губы, полные щеки, взгляд казался полусонным.
Письмо в основном было посвящено работе Дмитрия. Хотя он и не мог посещать международные конференции, присутствие на которых избавило бы его от месяцев расчетов и раздумий, он был доволен работой в своем институте. «Не для цензуры ли он прибавил последнее замечание», — подумала Жени.
Мальчики были здоровы, хорошо учились, особенно Вася. И жилось им всем четверым хорошо. Об отце Дмитрий написал только вскользь. Рассказал, что тетя Катя была еще жива, но ослепла и находится в доме для престарелых.
Только в последнем абзаце тон Дмитрия был другим. Он слышал, что во время гибели матери Жени была рядом, и умолял написать о подробностях. Жаловался, что не достоин любви Веры, чувство которой струилось, как кристальный поток, а его — мучимого неудовлетворенностью собой — походило на застойный пруд. Он рассказал, что предпринимал все, что мог, чтобы вновь увидеть сестру, и в конце письма призвал ее «свернуть горы и переплыть моря»,чтобы они вновь оказались вместе.
Жени изучала фотографию и гадала, их ли это садик и сколько в их домике спален: две или всего одна? Как сложился брак Дмитрия? Он хоть и обвинял себя в неспособности достойно ответить на чувство Веры, супруги жили вместе давно. Теперь они уже родители, потом будут бабушкой и дедушкой. Их жизнь удалась. Нет, не Дмитрий был посторонним. Чужая для всех оказалась — она, Жени. Преуспевшая в чем-то больше, чем он, — она всю жизнь провела одна.
Когда Жени сообщила Пелу о письме Дмитрия, он задумался о возможности вызвать его в США, предоставив стипендию Фонда Вандергриффов. Такие стипендии предполагалось специально выделять людям науки и искусства из Восточной Европы, с целью развития отношений между Востоком и Западом. Они предоставлялись на срок от трех месяцев до года.
— У нас здесь уже побывало несколько людей, считающихся в своих странах политически сомнительными. Но семьи, если они женаты, всегда оставались дома. В целях безопасности.
— В качестве заложников, — поправила его Жени.
— Ты права, — отозвался Пел. — Видишь, дипломатия уже у меня в крови, стала моей привычкой.
— Не самая плохая привычка, — ответила она.
— Я сегодня же представлю фамилию твоего брата в качестве кандидата на получение стипендии Фонда. Нужны рекомендации. Но это не слишком сложно. Ведь работы Дмитрия здесь известны. Мы можем взять отзывы у профессоров Гарварда, Беркли и Массачусеттского технологического института.
Хорошо бы сделать что-нибудь подобное для твоего отца. Дай мне пару месяцев, и я выясню, есть ли возможность ему эмигрировать или просто посетить США. Шансы, конечно, невелики.
— Я понимаю, Пел. Спасибо. Мне всегда приходится тебя благодарить. А не могу ли для разнообразия и я для тебя что-то сделать?
— Если только вытравить несколько моих морщин. Руководитель моей кампании заявил, что я безнадежно нефотогеничен.
— Вынуждена отказаться, — улыбнулась Жени. — Мне твои морщинки понравились с первого раза. Они идут твоему лицу, как прожилки листику.
— Теперь уже осеннему. Но есть кое-что, что ты можешь для меня сделать.
— Что же это?
— Приезжай повидаться.
— Может быть, и приеду, — ответила Жени после короткой паузы. — Мне хочется снова увидеть Нью-Йорк.
— А как насчет Вашингтона? Дом, в конце концов, так ведь и не был продан. Оказалось выгоднее, пока я был за границей, сдавать его в аренду, а потом продать. Но вернувшись в 1978 году, я так и не смог этого сделать. Ведь это красивый дом, Жени. Наш дом.
— Наш? Красивый, — согласилась она.
— И я продолжал, — заторопился Пел, — сдавать его в аренду на год или на два. Нынешние жильцы должны выехать через месяц. И я не собираюсь больше его отдавать никому. Пусть стоит пустой. На случай… — он рассмеялся. — На случай, если он понадобится мне самому. Если я захочу вернуться в столицу.
— Ты там будешь, — заверила его Жени. Со своим обаянием, известным именем, репутацией, умом и преданностью делу (как он мог не пройти?) — Я постараюсь приехать на выходные. Может быть, весной.
— Не постараешься, а приедешь. И быстрее. Что скажешь насчет четырнадцатого февраля?
Жени перелистала календарь на 1982 год. Этот уикэнд был почти еще через два месяца.
— Пока никаких планов.
— Вот и хорошо. Приезжай, — твердо заключил он.
До ее визита в Вашингтон Пел звонил ей дважды в неделю. В начале месяца он сообщил, что Фонд Вандергриффов направил в СССР запрос по поводу возможности приезда на научную стажировку Дмитрия Сареева, за счет Фонда. Пока брат не получит выездной визы, лучше ничего не предпринимать по поводу Георгия, предупредил он Жени.
А через десять дней Жени летела в Вашингтон и только там вспомнила, что 14 февраля было Днем Святого Валентина.
К празднику Пел подарил ей медальон в виде маленького золотого сердечка, куда можно было поместить две крохотные фотографии.
— Я хотел удивить тебя фотографиями отца и брата, но так и не сумел их достать, — объяснил он.
— Отец никогда не снимался, — ответила Жени, запирая на шее изящную цепочку.
— Извини, — Пел вспыхнул, совсем как прежде. — Я не подумал…
— Он чудесный! — Жени радостно поцеловала Пела в губы. — А я тебе ничего не приготовила.
— Но ты здесь.
— Да. Как будто и не прошло пятнадцати лет, — несколько стульев были обтянуты новой обивкой, на стенах появились картины из Топнотча и Ванвуда, но в основном все осталось по-прежнему, как тогда когда она была его временной хозяйкой. — Красивый дом. Помнишь, как мы первый раз сюда пришли?
— Мы сидели здесь, — показал Пел. — А миссис Ар-мор угощала нас невероятно крепкими напитками.
— Армор. Да, так ее звали. Марджори Нил Армор. Эксцентричная пожилая леди. Она была просто великолепна, — они улыбнулись друг другу, вспомнив прошлое. Пел обнял Жени за талию.
— Ты нисколько не изменилась. Ни на день не постарела. Такая же красивая, — его губы коснулись волос Жени.
— Начинаю седеть. Перед отъездом сюда выдернула три волоска.
— Не может быть. Ты?
— Конечно, — она посмотрела на него. Рост Пела ее всегда поражал — самый высокий из ее мужчин. И это Жени нравилось. — Я изменилась, стала старше. Мне почти сорок. А в сорок лет ведь и мир начинает казаться другим. Когда мы достигаем среднего возраста…
— Ты его никогда не достигнешь, — Пел сжал ее руку и тут же отпустил. — А вот я уже мужчина средних лет. И думаю, всегда был таким. Эдаким увальнем. Может быть, это и стало нашей главной проблемой. Не разница в годах. Ты была молода, отважна, уверена в себе…
— Девчонка, ищущая родителей, — перебила его Жени. — А уверена я была в себе, как все молодые. Одно самодовольство — глядеть только вперед, и ничего не видеть вокруг.
Пока она говорила, Пел глядел на ее губы и моргал.
— Я был таким самонадеянным, что хотел заботиться о тебе.
— Скажи лучше — добрым, — Жени коснулась руки Пела. Он прав, подумала она, и в двадцать лет он был человеком среднего возраста. И теперь остался таким, хотя немного погрузнел и поредели волосы — копия себя самого в молодости, молодой человек с серьезным выражением лица, брат ее лучшего друга, обучающегося на дипломата. В двадцать два он уже, казалось, принял на себя ношу будущей ответственности: прежде всего за семью, потом за всех остальных людей.
— Чему ты улыбаешься? — он положил руку ей на плечо.
— Вспоминаю, сколько лет мы знаем друг друга. И потом мне здесь хорошо.
— Жени… — они поцеловались не спеша, не как старые друзья, а как недавно познакомившиеся любовники: сначала сдерживаясь, потом с нарастающим жаром и поразились сами, когда их губы раскрылись и языки встретились. Оторвавшись друг от друга, они подняли удивленные глаза. «Неужели он так изменился, — думала Жени. — Или я так старательно смотрела вперед, что не видела ничего у себя под носом?»
Эти два дня стали оазисом в их загруженной, занятой постоянным принятием решений, жизни. Они ели дома, не выходили на улицу, где и Пела и Жени могли узнать, и выходные, проведенные вместе, привели их души в состояние гармонии. Но оба понимали, что это не их настоящая жизнь, к которой им предстояло вернуться в понедельник. Это была просто пауза, передышка от гнета постоянных забот.
— У меня кто-то на проводе, — сообщила сестра Жени, как только та вошла в клинику утром в понедельник. — Он хочет записаться, но настаивает на разговоре лично с вами.
— Кто это?
— Не сказал, — пожала плечами сестра. — Может быть, сообщить ему, что вас нет?
Жени покачала головой. Кто бы это ни был, решила она, он будет настаивать до тех пор, пока не добьется своего. Какая-нибудь знаменитость. Из тех, что до умопомрачения боятся огласки.
— Я возьму трубку в кабинете, — и пройдя к себе, она плотно закрыла за собой дверь. Обычно она терпеливо сносила все требования пациентов сохранять скромность, даже если они казались ей сумасбродными. Она и сама тщательно охраняла клинику от репортеров.
Жени нажала кнопку соединения:
— Сареева слушает.
— Доброе утро, доктор. Это Боб Моррелл, адвокат.
— Чем могу вам помочь?
— Я звоню, чтобы записать своего клиента.
Жени подумала, не маскировка ли это. Под именем Боба Моррелла мог звонить известный актер, который станет обманывать ее и дальше, записав в клинику кого-то еще.
— Боюсь, что не выйдет. Я должна побеседовать с будущим пациентом сама, — она давно установила это правило, когда дети стали записывать родителей, жены мужей, а те в итоге так и не показывались. Если человек не решался даже позвонить по телефону, не было никакого смысла с ним встречаться.
— Ему нужна подтяжка лица, и он готов вам заплатить вдвое больше обычного, чтобы операция была произведена немедленно. Но ему необходимо ваше письменное подтверждение того, что анонимность будет соблюдена.
— Я врач, — возмутилась Жени, — а не полицейский осведомитель.
— Мой клиент привык получать все, что ему необходимо… И чтобы было все, как он хочет…
— Я тоже, — перебила его Жени. — Советую вашему клиенту обратиться куда-нибудь еще, — она положила трубку и раздраженно посмотрела на телефон. Несносный человек. Ей наплевать, будь хоть его клиентом сам президент США.
Но на следующий день мистер Моррелл и его клиент очутились в ее приемной, и Жени из любопытства согласилась встретиться с ними. Пожилой человек, лицо которого было скрыто под огромными солнечными очками, вошел один. Волосы старика были совершенно седые, лоб испещрен коричневыми пятнами, руки тоже в пятнах и артритных шишках. Но держался он прямо и было трудно судить, сколько ему лет.
— Доброе утро, Женя, — он снял очки.
Ее руки сами собой сжались в кулаки на коленях. Прошла минута.
— Доброе утро, Бернард, — ответила она.
— Как всегда, красивая.
Она кивнула. Бернард выглядел так, будто по его лицу прошел торнадо, сея на своем пути разрушения.
Он пододвинул себе стул.
— Моя самая большая компания на грани бунта. Директора хотят от меня избавиться и решать все сами. Обвиняют меня в том, что я слишком стар и властолюбив. Распускают слухи, что я впадаю в старческий маразм. Чушь, конечно. До ежегодного собрания, через шесть недель, я их прижму. А потом хочу выступить перед основными совладельцами и показать им, что я бодр и способен распоряжаться. Поэтому я хочу, чтобы ты прооперировала меня немедленно.
Жени покачала головой:
— У нас все занято на два месяца вперед.
Казалось, он не слышал ее.
— Ты знаешь, принцесса, я приобретаю только лучшее. А в этой области лучшее — ты. Торговаться я не буду. Скажи, что тебе нужно? Еще одну клинику? Исследовательский центр? Это будет твоим. Назови цену.
«Ему, должно быть, хорошо за восемьдесят», — прикинула Жени. Кожа потеряла эластичность, пересекаясь, ее избороздили морщины, как схемы маршрутов на карте, которыми он летал по миру. В конце концов он встретил силу, более могущественную, чем он сам, и оказался во власти времени.
— Вы стары, Бернард, — удовлетворенно сказала Жени. — И наконец выглядите на свой возраст.
— Как врач, ты обязана помогать людям, — резко заметил он.
— На этот счет у меня есть собственное мнение и я буду придерживаться его. Я не стану вас оперировать.
— Чертовски глупо. Другой хирург на коленях приползет на мой зов.
— Вы слышали мой ответ.
— Я только что луну тебе не предлагаю. Требуй, что хочешь. Неужели ты не понимаешь, как мне нужна эта операция? Мне нужно сохранить акционеров, свой образ.
Лицо Жени оставалось решительным и безучастным. Секунду Бернард глядел на нее, потом его глаза расширились:
— Я слышал, твой отец еще жив? Его, кажется, оставили в покое. Так вот, я могу рассказать, как он украл и переправил…
— Шантаж. Не пройдет, Бернард. Это вы уже пробовали много лет назад. Вы не только стары, но и себялюбивы, — Жени поднялась. — Заботитесь только о том, что вам принадлежит или чем можете распоряжаться. Я приехала к вам четырнадцатилетней девочкой и жаждала вашей любви. Или по крайней мере, чтобы вы проявляли ко мне хоть какой-нибудь интерес. Но для вас я являлась лишь частью коллекции — безделушкой, которую можно выменять на более ценную вещь, — она пристально посмотрела на него, как будто приглашая вспомнить «девочку из Киева» и его нападение в библиотеке. — Вы говорили, что дали мне все. Но то, что вы мне дали, было выкупом. И я рада, что мне представился случай вам это сказать. У вас нет власти надо мной, Бернард. Я не девочка, я врач, и я хочу, чтобы вы ушли из моего кабинета. Я ничем не могу вам помочь.
Бернард медленно поднялся и уперся в Жени выцветшими глазами, всю жизнь смотревшими на страх и нужды людей. Она выдержала его взгляд. Они стояли друг против друга, словно на качелях, ожидая, кто перевесит. Наконец его глаза померкли и он отвел взгляд.
— Все такая же — точно как я, — прошептал Бернард и вышел из кабинета.
Через девять месяцев, в первый вторник ноября, напряжение в штаб-квартире Вандергриффа достигло высшей точки и стало спадать. За час до окончания голосования несколько добровольцев еще звонили куда-то, но скорее, чтобы скоротать время, чем в расчете на десяток-другой дополнительных голосов, опущенных в урны в последнюю минуту.
Кандидаты шли так близко друг к другу, что никто не решался делать никаких предсказаний. Гаррис обогнал противников на два процента, и, как отмечала передовица «Таймс», предрекать что-либо было все равно, что пытаться угадать, какой стороной упадет подброшенная вверх монета.
Сама статья стала для лагеря Вандергриффа большим разочарованием. Казалось бы, опыт Пела в международных отношениях, его твердая позиция в вопросах о правах человека, его вклад в развитие науки и либеральные взгляды позволяли рассчитывать на поддержку «Нью-Йорк Таймс». Но вместо этого передовица, ссылалась на знания кандидата-священника, упоминала его работу в Сенате, в области бюджета и налоговых реформ, упоминала его поддержку аграриями. Передовая предполагала, что он представляет штат в целом, особенно его сельскохозяйственные районы. А Пел Вандергрифф, вышедший на первое место в городе, интернационалист, и его приверженность штату и местным проблемам еще не оценена.
Когда стали поступать первые сведения, преимущество Пела в городе стало очевидным, но не таким, на какое рассчитывали в его штаб-квартире. Манхэттен был полностью за него, Бруклин тоже, но выбор Квинса, Бронкса и Острова Стейтен был еще неясен.
Через два часа голосование завершилось, но окончательные результаты еще не были подведены. Мег глотала вторую таблетку валиума [12], а Роза, сидя в кресле-каталке, потягивала коньяк и время от времени ободряла телекомментатора: «Ну, давай же!»
Почти в полночь у Вандергриффа в номере раздался звонок. Через пятнадцать минут конкурент будет в эфире, чтобы признать свое поражение и поздравить Пела.
Яростно моргнув, Пел поправил галстук, прошелся расческой по волосам и отправился вниз в зал, сопровождаемый ближайшими помощниками, родственниками и телохранителями.
Речь конкурента, транслируемая до десятку телевизоров вокруг, была короткой и красивой. Под поздравительные возгласы и свист, заполнившие зал, Пел подошел к трибуне.
— Спасибо! — закричал он в микрофон и подождал, пока не замрет шум. — Спасибо, сенатор! Спасибо всем, кто собрался здесь сегодняшним вечером. Особое спасибо тем, кто участвовал со мной в кампании, тем, кто поддерживал меня и верил в меня. Спасибо людям, которые отдали мне свои голоса! Спасибо всем! — он снова ждал, а зал аплодировал ему и себе.
— Кончились выборы, но начинается работа, на которую дал нам право мандат людей Нью-Йорка. Но прежде чем я обращусь к этим людям, — его лицо расплылось в широкой мальчишеской улыбке, — позвольте мне представить мою семью. Вот моя бабушка — Роза Борден-Марен — нежный борец.
Царственная, как королева-мать, Роза склонила голову перед хлопающей аудиторией.
— Маргарет Вандергрифф, моя мама Мег, — он обнял ее за шею и под вспышки корреспондентов поцеловал в щеку.
— А это — доктор Жени Сареева, моя жена.
41
Их брак узаконил мировой судья в их доме в Джорджтауне в День Труда. Они специально выбрали праздники, чтобы их отсутствие на работе осталось незамеченным и их не узнали в опустевшем городе. В тот же вечер на самолете Вандергриффов Жени улетела обратно в Калифорнию.
Они рассказали Розе, Мег, а Жени еще и Чарли, но со всех взяли клятву молчать. Слишком близко были выборы, чтобы объявлять о свадьбе. Избирателям она могла показаться поспешной, к тому же они заключили брак повторно, и это сказалось бы на образе Пела. К тому же у Жени не было времени принять участие в предвыборной кампании, и избиратели могли расценить ее отсутствие как нежелание нести бремя жены сенатора или как неверие в мужа.
Об этом не знал даже руководитель кампании Пела и продолжал пропагандировать образ кандидата как сорокалетнего холостяка, разведенного и без детей.
Но представление в миг победы сделало его, их обоих, еще более популярными у жителей Нью-Йорка. Новый сенатор женат! Жена его исключительно красивая женщина, та же самая, на которой он был женат почти двадцать лет назад, пластический хирург, и лучший из всех! Для тех, чей брак складывался трудно, или кому пришлось расстаться, пример Пела и Жени мог послужить надеждой — любовь одерживает верх над всем, даже над разводом.
Бульварные газетенки окрестили их «перелетными Ванами», хотя и сохранили за Жени фамилию Сареева. О них писали как о семейной паре будущего. «Транспортный вариант брака заключен»,гласил заголовок на светской полосе «Таймс», а статья объясняла, что новая тенденция подвижных браков работающих и ученых супругов, которую можно назвать «раздельно, но вместе»,получила яркое подтверждение в союзе Сареевой — Вандергриффа.
Жени написала короткое письмо отцу — одна боль — и рассказала, что вышла замуж за бывшего мужа и что его избрали сенатором. Она не упомянула, когда они могут увидеться. Приезд Дмитрия в США до сих пор был под сомнением, хотя Пел и надеялся, что его место в Сенате позволит ему надавить на Советы, чтобы те сделали жест доброй воли.
После выборов Жени взяла двухнедельный отпуск для «медового месяца», который они запланировали еще в сентябре, и супруги уехали на крошечный остров, принадлежащий приятелю семьи Вандергриффов. Он предоставил им его, чтобы там, в Карибском море, они могли укрыться от гласности.
Они оказались не просто на небе — в маленьком раю: бархатный песок, кристально-чистая вода, бананы на деревьях, щебет радужных птиц, живые коралловые рифы, меж которых плавали сияющие рыбы. Еду им готовил повар с соседней Мартиники. Таких мягчайших круасанов Жени еще никогда не встречала, а его меню основывалось на сегодняшнем улове рыбы и креветок.
До завтрака Пел и Жени купалась, потом перекусывали на террасе, глядя на бухту, где только что плавали. Они облазили весь островок, путешествуя пешком и на лошадях, иногда брали лодку и уплывали вдоль побережья к рифам, ныряли к ним в масках, а потом возвращались в свою светлую спальню, где каждый день предавались любви.
— Я никогда не чувствовала себя счастливее, — призналась Жени, прижимаясь, обнаженной, к груди Пела, в мягких лучах абрикосового солнца. — Я люблю тебя тихо. Люблю безумно. Люблю здесь, — она поцеловала его. — И здесь, — она поцеловала его. — И здесь. И даже когда я там, я тебя люблю.
— Рад слышать, — улыбнулся Пел и перевернул ее так, чтобы она лежала на нем. — Должен признаться, доктор, ваш осмотр меня очень возбуждает, — Жени еще теснее прижалась к нему, собственным телом ощутив это возбуждение.
— Политика и медицина — странные компаньоны в постели.
— Конечно. Так как ты их хочешь соединить.
— Я сделала тебе больно? — Жени замерла и посмотрела на Пела сверху вниз.
— Нет, просто мне кажется, там полетели искры, — рассмеялся он.
Жени потерлась еще сильнее:
— Такие?
Он крепко обнял ее за спину, перевернул, и она в третий раз за день открылась ему.
Потом они приняли душ и спустились к ужину, накрытому на столе с белоснежной скатертью и свечами в серебряных канделябрах.
— Не могу представить, что все это кончится, — проговорила Жени, оглядываясь вокруг. Они переоделись к ужину: Жени — в длинное, облегающее бледно-фиолетовое платье, Пел — в бежевый шелковый пиджак. На шее Жени красовался кулон, подаренный Пелом ей на День Святого Валентина. Она вложила в него лишь одну фотографию — мужа. — Мне кажется, что реальность — вот это. А клиника существует где-то в мечтах.
— У нас еще пять дней, — напомнил ей Пел.
Она ела креветок, приготовленных в изысканном соусе с легким ароматом шафрана:
— А потом назад, через всю страну, к правде жизни утра в понедельник.
— Я прилечу на выходные.
— Да, — она положила вилку. — Как ты думаете, что чувствовали Адам и Ева, когда им пришлось покидать свой сад?
— Разве ты не понимаешь? Они вышли из него рука об руку и потом работали вместе на земле.
— Счастливые. Тогда не было самолетов. Странно, Пел, наш брак так похож на первый. А тогда никто не называл его «транспортным вариантом».Значит, мы намного обогнали время.
— Самих себя, — поправил ее Пел. — Нам было рано жениться. У каждого из нас была своя цель.
Жени кивнула:
— А теперь мы их достигли. Или почти достигли. И поэтому наш теперешний брак совсем не такой, как тот, первый.
Пел перевернул ее руку ладонью вверх и провел пальцем по линиям.
— А первым-то кажется этот брак. А не тот.
— Я знаю. Я это чувствую, — она зажала его палец в ладони. — Но как бы я хотела не путешествовать, чтобы встречаться, а просто жить.
Жени надеялась передать свою должность в клинике кому-нибудь другому или другим и переехать на восток, открыть собственную практику в Нью-Йорке или Вашингтоне. Но она чувствовала ответственность перед своими пациентами, особенно перед теми, с кем начинал работать Макс. Она не передаст управление клиникой никому, кто интересуется только косметическими операциями или наживой. С другой стороны, директор-идеалист может забросить практическую сторону дела и нарушить установившийся в клинике баланс — Жени называла это балансом Робин Гуда, — благодаря которому увечные и молообеспеченные могли лечиться за счет богатых.
Она не представляла, сколько времени пройдет, прежде чем она сможет покинуть клинику. Но даже тогда, когда у нее будет собственная практика, лучшая ее часть навсегда останется в медицине. Пел будет заниматься политикой, станет избираться на второй срок, а может, пойдет и выше. Она поддержит его во всем, что не будет противоречить клятве, данной пациентам и самой себе. И они всегда будут вместе, но порознь.
— Когда мы покинем Эдем, — начала Жени, снова берясь за вилку, чтобы подцепить очередную золотистую креветку, — мы пойдем рука об руку. Даже если не будем касаться друг друга. Рука об руку, — и развеселившись, добавила: — Щека к щеке, голова к голове.
— И сердце к сердцу, — проговорил Пел.
Через два дня их идиллию нарушил повар, спустившись в бухту и сообщив, что мистера Вандергриффа кто-то просит к телефону из Вашингтона. Чтобы ответить на звонок, Пел быстро по камням взбежал вверх по холму. Жени шла медленнее и через несколько минут присоединилась к нему на террасе. Прежде чем сесть, она бросила на сиденья двух стульев их полотенца. Пел продолжал стоять.
— Сообщение из Советского посольства, — взволнованно передал он ей. — Дмитрию разрешили приехать на стажировку в Массачусеттский технологический институт на шесть месяцев — вдвое больше, чем мы просили. Не исключено, что сможет приехать и его жена с детьми.
— Замечательно!
— Но неизвестно, сможет ли он приехать в этом году или только на будущий.
— Они объяснили такую задержку?
— Они никогда ничего не объясняют. Жени, мне сказали кое-что еще: твоему отцу позволят выехать в США.
Жени подпрыгнула и схватила Пела за руку:
— Но как же это стало возможно?
Он оставался мрачным:
— Они назвали цену. Все советско-американские сделки, даже такие частные, основываются на принципах бартера. Это называется сотрудничеством. Я уже ломал голову над тем, что бы им предложить. Но только что узнал их требование.
— И ты можешь им дать то, что они просят?
Пел быстро заморгал на солнце.
— Не уверен, — он обнял Жени за шею и притянул к себе. — Они хотят тебя.
Сделка была простой. Жени летит в Россию и делает операцию неизвестному пациенту. Пел догадывался, что это кто-то из советской верхушки и поэтому операцию требовалось сохранить в тайне как внутри страны, так и за рубежом.
Жени представила кого-то вроде отца, кто решился, а может быть, его и заставили пойти на пластическую операцию. Она с детства помнила фамилию Гроллинин, тоже герой блокады, обмороженный, как и отец. Но позже его оперировали, и он занимал высокие посты.
Жени хотела поехать, но возникло неожиданное препятствие — вмешалась политика. Советско-американские отношения стали прохладнее: Советы критиковали политику Рейгана, в США осуждали СССР. Через восемь месяцев после первого контракта Пела с Советским посольством, Жени наконец получила разрешение и готовилась выехать на следующей неделе. Но в это время Пел выступил в Конгрессе по польскому вопросу, и поездка не состоялась.
Наконец, через пятнадцать месяцев после телефонного звонка на остров, Жени села в самолет, вылетающий из Сан-Франциско в Вашингтон. Несколько часов она провела с Пелом, предупреждавшим, чтобы она на каждом шагу опасалась слежки, напомнившим, что каждое ее слово, произнесенное даже в машине, будет записываться на магнитофон.
От беспокойства за нее он выглядел измученным:
— Удачи тебе, дорогая. Помни, где бы ты ни была, я всегда с тобой.
В Далласском аэропорту они попрощались. Как общественный деятель, Пел избегал пользоваться собственным самолетом. И особенно в этой поездке. Его жена должна была вести себя, как все другие пассажиры. Репортерам заявили, что она летит в Лондон на встречу с коллегами, и те посчитали новость настолько несущественной, что она не попала на страницы газет.
В Лондоне Жени пересела на рейс «Аэрофлот» до Москвы. Там, через день или два, она должна была принять участие в операции еще неизвестного больного.
Она заняла место рядом с другими пассажирами, и стюардессы обращались с ней, как с остальными туристами. Жени огляделась вокруг, стараясь понять, кто из них был агентом КГБ, следящим за ней. Но следить за ней мог любой, и она бросила это занятие.
Она не собиралась тревожить его или их — слишком велика была ставка — и намеревалась строго следовать инструкции.
Она откинулась на спинку кресла, думая об иронии судьбы, которая ведет ее в Москву, где живут Дмитрий и отец. Девочкой она мечтала попасть в столицу, пройтись по Красной площади, посмотреть на колокольню Иван Великий, полюбоваться сокровищами Кремля, с которыми, как она поняла позже, могла сравниться коллекция Бернарда. И теперь, почти в сорок лет, Жени подлетала к Москве — городу-мечте своего детства. Но подлетала как американка, и не для того, чтобы осматривать достопримечательности или навестить брата, но чтобы проделать работу, которая вызволит ее родных из России.
— Пожалуйста, пристегните ремни. Мы приземляемся в Москве, — объявление по трансляции прозвучало сначала по-английски, потом по-русски. Жени щелкнула замком и выглянула в иллюминатор. За стеклом клубились снежные облака, становились светлее по мере приближающихся огней «Шереметьево».
«В Калифорнии снег бывает только в мечтах», — подумала она, когда самолет коснулся земли, пробежал по полосе и замер.
Жени уже расстегнула ремень, когда к ней подошла стюардесса:
— Оставайтесь, пожалуйста, на месте, доктор Сареева, — произнесла она твердым голосом. — Вам не нужно выходить из самолета.
Жени ничего не поняла, но не возражала. Остальные пассажиры покинули салон, и двери закрылись.
— Меры предосторожности, — успокоила ее бортпроводница шепотом.
К самолету подошел топливозаправщик, и через полчаса огромный лайнер, с единственной пассажиром — Жени — на борту, снова взмыл в воздух.
Она испугалась. Но как только самолет оказался в воздухе, из динамика послышался голос пилота.
— Доктор Сареева, мы летим в Ленинград. Перевозить вас для нас большая честь.
Тогда она все поняла. Москва была ложной целью, чтобы запутать следы, исключить слежку. Подозрительные русские устроили этот обманный полет, чтобы выяснить, не сопровождает ли кто-нибудь тайно жену сенатора.
В Ленинграде Жени встретил человек в форме и провел из самолета прямо в автомобиль. Он влез с ней вместе на заднее сиденье и за всю дорогу не проронил ни слова. Видимо оба: и он, и шофер получили инструкции заранее.
Они проезжали укрытые снегом дома и машины. Утреннее небо начало розоветь — заря предвещала появление солнца. Снег прекратился, но белизна тротуаров была еще не тронута ногой пешехода. На окраине города Жени заметила новые дома — одинаковые высокие многоквартирные здания. Государственное строительство, догадалась она, для рабочих и их семей. Интересно, в восьмидесятых имеют ли шанс молодожены получить квартиру?
Машина вынырнула к Неве и поехала вдоль набережной. Мост, связывавший сверкающие снегом берега, казался меньше, чем она помнила его с детства. Да и Нева на взрослый глаз представилась не такой широкой. Но она пробудила воспоминания детства, вытащила из глубин, укрытых мостами времени.
Машина резко свернула налево, проехала по улице несколько десятков метров и остановилась у серого каменного здания. Сопровождающий открыл ей дверь и повел к подъезду, а водитель следовал за ними с чемоданами. На доме не было ни номера, ни таблички, лишь звонок у двери. Но прежде, чем сопровождающий успел нажать на кнопку, дверь отворилась сама. Навстречу им шагнула молодая женщина в английском твидовом костюме — пиджак был укорочен, как для езды на лошади. Она кивнула мужчине, и тот сейчас же удалился к машине, а водитель поставил чемоданы в подъезд.
— Федор Иосифович вас ждет, — сказала женщина на безукоризненном оксфордском английском. — Пожалуйте сюда.
Жени прошла вместе с ней по коридору к тяжелой дубовой двери. Женщина постучала и тут же открыла ее, слегка подтолкнула Жени вперед, а сама попятилась в коридор.
— Мой дорогой доктор! — навстречу ей шагнул с распростертыми объятиями крепкий мужчина лет пятидесяти, широколицый, с густыми волосами и загрубелой кожей. Когда он приблизился, Жени разглядела, какой у него был странный цвет глаз: желтовато-оранжевую радужную оболочку обрамлял темный кружок.
— Большая честь! — он крепко пожал ей руку и улыбнулся, глаза прикрылись, и от уголков к волосам побежали морщинки. — Поездка была приятной? Последняя часть, наверное, немного неожиданной? Но так уж было необходимо. Чем-нибудь подкрепитесь. Чай? Водка?
— Пожалуйста, чай, — Жени и забыла, что русские служащие, как и рабочие, часто пьют по утрам водку.
— Хорошо, — он отдал распоряжение в мегафон интеркома на столе — массивном образце мебельного искусства девятнадцатого века, и предложил Жени сесть на диван.
Сама она предпочла бы постоять — тело после длительного полета свело, ноги затекли. Дверь тут же открылась: все та же женщина в твидовом костюме внесла поднос с чаем. После того как та закрыла за собой дверь, Федор Иосифович налил чашку чая Жени, потом еще одну — для себя, и, сидя в кресле напротив, держал чашку на весу.
Он спросил Жени о погоде в Калифорнии, сказал, что ему известна ее блестящая репутация хирурга, поинтересовался, участвует ли она в работе мужа. Жени вежливо отвечала, но не могла понять, зачем нужны были эти церемонии перед тем, как ей скажут, что ей предстоит делать. Очевидно одно: Федор Иосифович не являлся ее пациентом. Его упоминали во время инструктажей — важная фигура в Советском руководстве, Федор Иосифович стоял за сценой, но, обладая колоссальной властью, был одним из кандидатов на пост руководителя партии в будущем.
Он продолжал незначительный разговор, как бы оценивая свою гостью. «Чай это хорошо, — говорил он. — Полезно для здоровья». Сам он выпивает в день не меньше десяти чашек. И только черный — прочищает организм, выводит шлаки.
Жени слушала вполуха, изучая человека, сидящего напротив. Он спросил, есть ли у них дети. Но Жени прекрасно понимала, что он знает ответ из досье и вопрос задан, чтобы направить разговор в нужное русло.
— К сожалению, нет. А у вас?
Он был вдовцом и жил с единственной двадцатилетней дочерью Ольгой — прекрасным агрономом, девушкой с острым политическим умом.
— Как у меня, — добавил он.
— Но Ольга очень некрасива, — вздохнул Федор Иосифович. — Добрая, умная, но некрасивая. Прекрасная душа, но страшный подбородок. Уши, как капуста. Нос, — он пожал плечами, — как огурец.
«Косметическая хирургия», — разочарованно подумала Жени. Не операция по восстановлению лица мужчины, а пластика, чтобы сделать симпатичнее девушку.
— Ольга влюбилась в Ваню, — продолжал Федор Иосифович. — Сына моего друга. Очень важного друга, — повторил он с нажимом. Жени догадалась, что друг, наверное, состоял в Политбюро и от него зависело будущее Федора Иосифовича.
— Ваня ищет красотку. Как все молодые ребята, хочет красивую жену. Почти уже обручился с дочерью одного ответственного работника.
Соперника, поняла Жени. И Федор Иосифович хочет превратить свою дочь в красавицу, чтобы Ваня на ней женился, а его отец поддержал Федора Иосифовича в борьбе за власть. Пластическая хирургия на службе у политической интриги? Для нее это не имеет значения, сказала себе Жени, надеясь только на то, что и девушка, как и ее отец, хочет операции.
— У вас есть ее фотография? — спросила она.
Он пропустил мимо ушей ее вопрос.
— Вы лучший в Америке пластический хирург. Вы женщина и хорошо понимаете женское сердце. И, — он поднял вверх указательный палец, — вы не любите западных журналистов.
Жени кивнула. Он предупреждал, что она не имеет права ничего разглашать по возвращении в Америку. Она соглашалась, не мучаясь угрызениями совести — любому своему пациенту она обещала анонимность.
— Я люблю Ольгу. Вы любите отца. Ведь так?
Она снова кивнула. В его вопросе слышалась угроза.
— Вы сделаете Ольгу красивой, — заключил он.
Профессиональная честность заставила ее возразить:
— Не могу вам этого обещать. Я ведь даже не видела вашу дочь.
— Вы увидите Ольгу. А теперь отдыхайте. Операция завтра.
Он встал, и в комнату вошла женщина в твидовом костюме. Встреча подошла к концу.
Следующим утром в семь часов Жени начала с ринопластики, изменила форму кончика носа, убрала горбинку с переносицы, сузила нос, разбив и сдвинув в новое положение носовые хрящи. Потом наложила несколько легких швов на слизистую оболочку и на несколько минут прервалась, пока девушке давали дополнительный наркоз.
Она не хотела делать все за один раз: и из-за пациентки, и из-за себя самой. Операция продолжительностью в целый день была неоправданно травматической. Жени понимала, что устала и не была достаточно подготовлена. Ассистирующие ей, небольшая бригада, не понимали ее жестов и команд. Она теряла время на объяснения и не чувствовала себя такой же уверенной, как у себя в клинике.
Но Федор Иосифович распорядился сделать все в один день, включая изменение формы ушей — операция, на которую обычно уходят недели и месяцы, пока не приживется донорский материал.
Прокалывая левое ухо, Жени совершенно расстроилась. Она привыкла планировать все заранее, обсуждать все шаги с пациентом и по возможности предусматривать осложнения.
Раздражение, граничащее с гневом, заставляло ее спешить. Жени глубоко вздохнула. Макс рассказывал ей о мерзавцах, учивших его работать. И ему приходилось оперировать в невероятных условиях, как-то с помощью одного перочинного ножа, сидя в засаде.
Здесь, в специально оборудованной клинике, у Жени было все, что ей могло потребоваться. Гневу не место в хирургии. Она сосредоточилась и ее следующий надрез вышел таким аккуратным, что у ассистирующего хирурга вырвался возглас восхищения.
После ушей настала очередь подбородка. Жени прикрепила имплантант, потом сняла несколько миллиметров для лучшего соотношения новой формы носа и подбородка.
Кроме пластики носа, ушей и подбородка, Жени слегка изменила конфигурацию шеи.
Им обеим здорово досталось, подумала она, проверяя у Ольги последние швы. Она чувствовала к пациентке симпатию и ощутила с ней даже какое-то родство. Может быть, Ольга всерьез и не хотела операции. Но и она, и Жени вытерпели последние часы ради своих отцов.
— Ну вот, — объявила Жени бригаде. — Она ваша. Моя работа окончена, — и пошла к раковине. В это время к ней подошла сестра:
— С вами хочет поговорить Федор Иосифович.
— Сейчас? — она недоверчиво подняла глаза на сестру. Она оперировала целый день, и весь ее халат был запятнан.
— Как можно скорее, доктор.
Она вымыла руки, лицо, сорвала с головы шапочку и направилась по коридору к комнате, где он поджидал ее. Двери оказались распахнутыми, и Жени переступила порог без стука.
— Вы меня хотели видеть?
— Поздравляю! Мне сказали, вы прекрасно поработали, и моя Ольга будет красавицей.
— Судить еще слишком рано, — сухо заметила Жени. — Ваша дочь спит. Пришлось дать ей сильный наркоз. Хорошо, что у нее здоровое сердце, — укоризненно заключила она.
— Ольга выйдет замуж за Ваню! Правда ведь здорово, доктор!
Жени пожала плечами:
— Я навещу ее позже. Какое-то время продержатся синяки и отечность…
— Вам нет никакой необходимости ее навещать. Ваши помощники за всем присмотрят.
— Но она — моя больная, — возразила Жени.
— Совершенно верно, Доктор. Но и моя дочь.
Жени безнадежно посмотрела на него.
— Сейчас вы как следует выспитесь, а потом полетите обратно к мужу.
— Но…
— Поверьте мне, так будет лучше, — его желтоватые глаза превратились в желтушные, когда растянулись в улыбке.
— Мой отец… — начала Жени.
Федор Иосифович махнул рукой:
— Георгий Михайлович — сложный человек. Тоже некрасивый. Гораздо некрасивее Ольги. У нас с ним было много проблем.
— Когда я его увижу?
Федор Иосифович посмотрел на часы:
— В свое время. Через недели, через месяцы, как знать. Сперва Ольгино лицо, потом свадьба. Придется подождать, доктор. В свое время.
— А мой брат?
— Умный человек. Ему тоже придется подождать до свадьбы. Кстати, доктор, не хотите приехать в Москву гостьей на свадьбу? — желтые глаза сделались красными, как капельки крови дочери на халате Жени.
— Нет! — Жени повернулась и поспешила из комнаты.
На следующий день в три часа самолет поднял ее в холодное ясное небо. Из иллюминатора ей на секунду открылся вид на голубовато-зеленый Зимний Дворец на фоне белого снега.
Во вторник на дорожке к ее дому остановился ярко-красный «Феррари». Было десятое мая — сорокалетие Жени. Пел щурился под весенним калифорнийским солнцем, и его улыбка то вспыхивала, то затухала, как солнечные зайчики на лице, пробивающиеся сквозь колышущиеся ветви.
— Не стоило… — начала Жени и крепко обняла его за шею. — Но я так рада! — она поцеловала мужа в губы и подбежала к машине — погладила по крыше, по дверце, по ветровому стеклу. — Какая красивая!
Застенчивая улыбка Пела стала шире, и он с облегчением рассмеялся. В прошлом он не осмелился бы подарить ей что-нибудь столь экстравагантное. Тогда Жени не любила роскошь, думая, что дорогие подарки привязывают.
— Давай прокатимся! — она расхохоталась.
Пел согнулся и устроился рядом с ней на сиденье.
— Там, в перчаточнике, есть еще кое-что для тебя.
— Довольно, довольно! — закричала Жени, наигранно сердясь, но, протянув руку, повернула ручку. Открыла. Внутри что-то написано от руки. «С днем рождения! Со свадьбой! Ольга и Ваня поженились шестого мая в Москве».
Она радостно вскрикнула и, плача от счастья, бросилась к нему в объятия.
42
В специальной комнате Далласского аэропорта Жени прохаживалась, то и дело поглядывая на часы. Пел подошел, обнял за талию и повел к стулу. Она устроилась на кончике, как пугливая птица, повинующаяся кормящему ее человеку.
Но тут же вскочила, когда отец переступил порог. Он шел медленно, шаркая ногами и низко опустив голову. Жени бросилась навстречу и раскрыла объятия. Он поднял лицо, и ее руки застыли, на миг онемели ноги: на нее взирала маска с провалом посередине. Взгляд отца показал, что он понял, как потрясена дочь, и она, стыдясь, рванулась к нему и поцеловала в щеку.
— Здравствуй, папа. Добро пожаловать.
— Здравствуй, Женя, — ответил он и пристально посмотрел на нее. Она заставила себя улыбнуться, руки было поднялись, но опять безжизненно упали вдоль тела. Она искала глазами Пела, и он подошел к ним с протянутой рукой.
— Здравствуйте, Георгий Михайлович, — проговорил он, но на этом его русский и кончился, и приветственные фразы переводил уже другой человек.
Жени слушала, как отец говорит обычные благодарственные слова. Его язык был сух, хотя Пел отвечал ему с теплотой.
Ее отец — бывший советский функционер, иностранец, человек без носа и без уха, на чьем лице безжизненная кожа свисала складками — это ее отец? Его увечье определило всю жизнь Жени, но теперь, увидев его, она снова стала ребенком, побоялась прикоснуться, и сгорала от стыда, когда представляла друзьям.
И пока Жени испытывала эти чувства — доктор Сареева смущалась и наблюдала. Но врач не мог подавить в ней дочь. «Ужасная ошибка, — думала она и ее глаза обратились к Пелу: зачем я заставила его приехать? Что я делаю с Пелом, с собой, со всеми нами?»
— Я буду скучать, — прошептала она, когда они целовались на прощание.
Муж поцеловал ее еще раз и ободряюще сжал плечо. «Как хорошо он меня знает», — подумала Жени и помахала Пелу рукой. Она заставила улыбку задержаться на губах и, повернувшись к отцу, взяла его под локоть и повела к самолету, вылетающему в Сан-Франциско.
В аэропорту люди бросали на них взгляды и быстро отводили глаза. В Жени вспыхнул гнев. Какое они имеют право. Увечье — такой же случай, как красота и гениальность. Ей приходилось сталкиваться с куда более ужасным уродством — дети, искалеченные ядерным взрывом, юноши, превращенные огнем в безликие мумии. Она крепче сжала локоть отца и, высоко подняв голову, встречала чужие взгляды, защищая отца от невежества и черствости. Это мой отец, говорили ее глаза, он пострадал от сил, с которыми не в силах был справиться.
Но в самолете Жени почувствовала облегчение, когда отец почти тут же заснул и проспал весь полет. Нет, он справлялся. И не только с пытками во время войны, но и со всем остальным, что выпало на его долю после. А мог бы выбрать тот же путь, что и Гроллинин.
Они приземлились, и на «Феррари», оставленную Жени на стоянке аэропорта, отправились домой. Георгий, казалось, оцепенел и не сказал по дороге ни единого слова, даже тогда, когда они подкатили к двери.
Жени провела его по дому, распаковала чемоданы и вынула шерстяной костюм. Местами он протерся и порвался, но был тщательно зашит. Жени повесила его на деревянной вешалке в шкаф — такой теплый пиджак был ни к чему в Калифорнии. Три пары брюк она повесила туда же, зажав концы в отдельные клипсы, а свитера свернула и положила в ящик. В другой — нижнее белье, носовые платки и шерстяной шарф. Ящик остался на две трети пустым. Со дна чемодана Жени достала томик Пушкина и сказки и положила книги на туалетный столик.
В ванной она достала из кожаной сумочки его туалетные принадлежности: кусок мыла, зубную щетку, щетку для волос из кабаньей щетины. Жени вспомнила, что точно такую видела, когда была маленькой. Кто-то привез щетку отцу из Англии, и он с гордостью показывал ее Жени. Она подержала ее в руках, потом снова стала доставать вещи: расческа, пузырек одеколона. Вот и все. Она вынула все, что у него осталось.
Нужно пойти в магазины, думала она. Теплые осенние дни еще могут обернуться жарой. Но как он выдержит встречу с продавцами в Кармеле и Монтерее? И как эту встречу выдержит она?
Жени оставила отца дома, переоделась и пошла в бассейн. И там мощными гребками старалась перебороть разочарование от угасающей мечты, столкнувшейся с реальностью существования ее отца.
Через полчаса она вышла из воды и завернулась в длинный махровый халат. Что ей предстоит впереди. У Георгия нет другого дома, кроме ее, и он пожелает жить в нем затворником. Здесь, в дельмарском лесу это было возможно. Но как теперь мечтать о переезде в Джорджтаун? Пел занят, и ему приходится видеться с множеством людей. В эту жизнь отец никогда не сможет вписаться.
Что она наделала? — мрачно думала Жени в десятый раз за день. Открыв стеклянную дверь, она проскользнула к себе в спальню. Что станется с ее браком? С ними со всеми?
На следующий день, отдохнув, Георгий начал проявлять интерес к окружающему. Он никак не мог поверить, что Жени владеет таким домом с четырьмя акрами земли. Бассейн его просто поразил. Разве может его хозяином быть один человек? — удивлялся он. Такого бассейна хватило бы для рабочих целой фабрики.
— Нет, невозможно, — качал он головой. Потом рассмеялся. — Я и забыл, что это Америка.
— Хочешь искупаться? Вода подогревается.
— Купаться в это время года? Очень странно.
На следующее утро он вошел в бассейн и, стоя по плечи в воде, наблюдал, как плавает дочь.
— Ты хорошо плаваешь, — заметил Георгий, когда она закончила. — Настоящая спортсменка. А девочкой была неловкой.
— Неуклюжей, — согласилась Жени, встряхивая волосами. — Помнишь, как меня выгнали из балетной школы?
— Да, да, помню. Как давно это было, Женечка.
Ласковое слово удивило их обоих. Жени подала отцу халат, и они вместе отправились домой.
— Заварить чай? — предложила она.
— Давай.
Жени сделала его по-русски черным и крепким, и Георгий процеживал горячую жидкость сквозь кусочек сахара, языком прижимая его к зубам.
— Хорошо, — он поставил чашку на стол. — Я для тебя обуза, Женечка.
— Мы привыкнем друг к другу, — принялась отрицать она. — Нужно только время. Ведь столько лет…
Он кивнул.
— Я сомневался. Думал, мне слишком поздно что-либо менять.
Жени вспомнила об одежде, которую купила ему. Она лежала у него в шкафу. Отец потрогал, похвалил материал, но даже не примерил.
— Когда мы виделись с тобой в последний раз, ты была еще ребенком, а теперь взрослая женщина, жена. И ты должна быть со своим мужем.
Их глаза встретились и они поняли, что оба думают о Наташе.
— В последний раз, когда я тебя видел… — его голос растворился во времени.
Она стояла на верхней площадке лестницы с Дмитрием и Катей и видела, как он с достоинством сходит вниз, упрекая солдат за то, что они ломали двери. Гордый человек с военной выправкой. И следующая встреча почти через двадцать семь лет: сломленный старик, шаркающий ногами по незнакомой комнате с низко опущенной головой.
— Я стар. Жизнь уже прожита. Мои ошибки останутся со мной, — он посмотрел на свои руки. — Когда-нибудь я расскажу, в чем они заключались. Страшные ошибки. Я был слепым глупцом. Все эти годы я молил твою мать о прощении.
— Мою мать?
— Ее память. Она постоянно во мне.
Георгий замолчал. Жени не знала, о чем его спросить, что ему еще рассказать. Стрелки часов показывали половину восьмого.
— Мне пора одеваться и идти в клинику, — в десять у нее была запланирована подтяжка лица престарелому сценаристу. — Хочешь пройтись посмотреть округу?
— Пока нет, — его голос звучал еще печально. — Ты правильно сказала, необходимо время.
Постепенно они стали узнавать друг друга. Иногда проходили дни, а они даже не говорили друг с другом, но, ощущая друг друга рядом, вспоминали прошлое, как будто в их памяти открывались новые ячейки. Одна за другой. Постепенно Георгий начал носить одежду, которую ему купила Жени. Кое-что было велико, но он и слышать не хотел, чтобы поменять вещи.
Иногда день или два они не виделись, когда Жени улетала на восток. Она предпочитала видеться с Пелом там, хотя он постоянно предлагал приехать в Калифорнию. Еще рано, говорила она ему. Она не могла думать без содрогания о них троих в одном доме.
Поездки Жени ободряюще действовали и на нее, и на Георгия. После выходных с Пелом она чувствовала себя увереннее, а отец ждал ее дома, соскучившись по разговорам.
Готовясь к поездке в Америку, Георгий вернулся к учебникам, чтобы освежить английский. Когда уезжала Жени, он разговаривал с поваром, много читал, час или два в день смотрел телевизор. И к концу зимы свободно говорил, набравшись американских разговорных выражений. Теперь они с Жени общались больше по-английски, чем по-русски. Ее владение родным языком было хуже, чем его — английским.
— Ты говорил, что у тебя были сильные сомнения, — напомнила отцу как-то вечером Жени. — Так почему же ты решил сюда приехать?
— Из-за тебя, — ответил он, повернув руки ладонями вверх. — Ты меня ждала.
— Только поэтому?
— А почему же еще? Я прошел через слишком многое, чтобы теперь меня заботила политика или волновали политические системы. Я мог бы дожить жизнь и в России. Но приехал в Америку, потому что меня просила об этом дочь.
— А Дмитрий? А твои внуки?
Если ничего не произойдет, в конце следующего лета они приедут в Америку. Фонд расширил стажировку Дмитрия, и теперь он проведет в Массачусеттсе целый год.
— Мы даже не были друзьями. Дмитрий меня так и не простил за то, что я сделал с его матерью, — Георгий пронзительно посмотрел на Жени. — Это я услал ее туда.
Жени выдержала его взгляд.
— Я знаю. Она мне говорила.
— Я рад, что она тебе сказала. Ненависть свела меня с ума, и я был с ней жесток.
— Но она мне сказала, что ты пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти ее.
— Она так сказала?
— Да. Что ты принял наказание за преступления, которые не совершал, чтобы ей разрешили эмигрировать.
Георгий заплакал.
— Это правда? — мягко спрашивала Жени. Ей хотелось, чтобы он подтвердил это сам. — Ты был чист, но признался?
Он не мог говорить, но кивнул головой.
— Она тебя простила, — прошептала Жени. — За все, что случилось в прошлом.
Несколько минут Георгий еще тихонько всхлипывал, потом достал из кармана большой белый платок и вытер глаза.
— А ты, Жени? Ты меня простила?
— Девочкой я обвиняла во всем ее. Во всем, что случилось после ее ухода. Я осуждала ее за то, что она сбежала с актером, что оставила семью. Считала ее плохой, а тебя хорошим.
— Хорошим? Меня?
— Когда я подросла, — продолжала Жени с трудом, — я постаралась вовсе выкинуть ее из головы. Старалась о ней не думать. Но когда мой брак сломался, я почувствовала себя совершенно одинокой, сомневалась во всем. Я поехала в Израиль, чтобы снова ее найти, и поняла, что моя мать — женщина героической доброты, — она перевела дыхание. — Я так и не сказала ей… Не сказала, что люблю ее. Она умерла у меня на руках. Было слишком поздно.
— Она бы тебя простила, — Георгий обнял дочь.
Жени кивнула:
— А я прощаю ее. Она этого хотела.
Она подвинула стул ближе к отцу, и они сидели, взявшись за руки, и оплакивали разбитую Наташину любовь.
Успокоившись, Жени начала рассказывать о цели своей жизни, как она впервые узнала в Аш-Виллмотте о пластической Хирургии.
— Тогда я уже знала, что стану хирургом. Я провела лето с убогим от рождения ребенком и думала о тебе. Во время учебы в медицинской школе и все годы практики — восемь лет — я думала о тебе. Я мечтала одержать верх надо льдом.
— Льдом? Ладожским? Но когда это случилось, ты еще не родилась.
— Я родилась в этом. И это сделало меня такой, какая я есть.
Он удивленно посмотрел на нее:
— Никогда бы не подумал… Моя дочь… И у тебя до сих пор сохранилась эта мечта?
— Да.
— Ну, тогда я твой.
— Ты хочешь, чтобы я сделала операцию? — выдохнула Жени.
— Да. Дам тебе хоть это, — пробормотал он и добавил. — Я так мало тебе дал.
Через десять дней, без пятнадцати семь, на утро операции Жени в последний раз рассматривала четкие снимки реконструирующей компьютерной системы. Компьютер был их последним приобретением, современным средством диагностической технологии, дающим возможность наиболее точного промера ущербов. Он давал послойные изображения, закодированные в цифровой системе, и позволял планировать операцию на различных ее стадиях. В конце концов получалось трехмерное изображение искомого результата. И сейчас, еще не приступая к операции, Жени видела реконструированное лицо отца.
Систему установили в здании Боннера, в той комнате, где когда-то лежала Чарли, а потом Элиот Хантер: историческая комната. Руки Жени дрожали. Она волновалась и перед операцией Чарли, но сейчас несравнимо сильнее.
Она изучала Снимки, стараясь понять, что могло пойти не так, как надо, во время операции, то, что не предусмотришь заранее, пока не сделаешь разрез. Сейчас она не нашла ничего, никаких возможных погрешностей.
Она отвернулась от сканера и взглянула на часы: семь. Теперь каждую секунду сестра может дать демерол, чтобы в полузабытьи везти пациента в операционную.
Вдруг Жени потеряла всякую уверенность. Вот сейчас она должна идти к нему. Она вскочила и бросилась из компьютерного кабинета к Георгию. Сестра уже готовила шприц.
— Оставьте нас на секунду, — попросила Жени. — Я хочу поговорить с отцом наедине.
Сестра растерянно посмотрела на нее, но повиновалась и вышла, неся перед собой шприц вверх иглой.
Георгий приподнялся на подушках:
— Женечка, что ты здесь делаешь? Я думал, мы увидимся теперь только после…
Жени пододвинула стул к кровати:
— Ты говорил, что приехал в Америку только потому, что я этого хотела. Это правда?
— Правда. Но почему ты…
— Это очень важно. Чрезвычайно. Скажи, почему ты согласился на операцию?
— Для тебя.
— Но разве ты сам не хочешь избавиться от увечья? — у Жени перехватило дыхание. — Разве это не для тебя?
— Я сохранил свое лицо таким, чтобы каждый, кто его видит, вспоминал, что фашисты сделали с нами — с нашей страной, с нашим народом. Когда после войны мне предложили пластическую операцию, я отказался из гордости. Но я знал, что мое лицо заставит меня прятаться от людей.
— Но все это в прошлом! — возразила Жени. — Ты мне рассказывал, как изменился с годами.
Георгий продолжал, как будто она ничего и не сказала.
— Когда я вернулся, я уже не был мужчиной и я заставлял Наташу страдать. Она была красива, желанна. А я ее ненавидел, потому что был страшен и был неспособен ее любить. Я превратился в собственные раны. Понимаешь? Искалечена была душа.
Жени кивнула:
— Но ты говорил, что в ссылке о многом передумал.
— Да. Я понял, что я наделал и кем стал.
— Почему же ты сейчас не хочешь операции?
— Я хочу, Женя. Ради тебя. Согласен нести на своем лице знаки собственной жестокости. Помнить нужно теперь мне одному, а не другим. Я не должен забывать свою чудовищность.
Жени взяла его за руку:
— Ты за все заплатил. Твое наказание длилось слишком долго.
— Недостаточно. Я хотел нести его до смерти, — он сжал ее ладонь и попытался улыбнуться. — Но что я хочу, теперь не имеет значения. Мне надо дать тебе, что ты желала всю жизнь.
— Нет, ради себя я не могу подвергать тебя риску и боли. Я почти забыла, что я врач, и пыталась строить из себя бога, — она положила его руку на кровать. — Я скажу, чтобы тебе принесли завтрак. Можешь одеваться. Мы отменяем операцию.
Лицо отца осталось прежним. Но после несостоявшейся операции и его признания, Георгий стал ей понятен, превратился в настоящего человека и больше уже не был тем, кого она придумала в своем воображении. Всю жизнь Жени любила — или старалась полюбить его, потому что он был ее отцом. Теперь, узнав его, она полюбила его как личность.
Пригретый дочерью, Георгий изменился. У него появились новые интересы, вкус к жизни. Как-то днем Жени провела его по клинике, давая на ходу объяснения. Рассказала о высокоточном оборудовании, о работе, которую они выполняли в обеих частях клиники, о некоторых пациентах. «Утром, — говорила она, — была проведена ринопластическая операция — изменена форма носа Джейн Дарвин, которую до этого оперировали по поводу изменения пола».
— Превращать женщину в мужчину? Не может быть, — твердо заявил Георгий. — Это какая-то несусветная чушь.
В старом здании он почувствовал себя свободнее и тут же понравился пациентам — детям с врожденными недостатками.
Жени купила отцу машину, и два или три раза в неделю он ездил в клинику навестить детей из здания Боннера. Его уже ждали в палате, и он рассказывал о России, вспоминал сказки, которые читал или слышал, рассказывал о днях своей юности. Дети ухватывались за слова, просили повторить полюбившиеся места и наслаждались маленькими пирожками, которые он сам для них готовил. Они называли его дядей Георгием, но думали о нем как о волшебнике-дедушке, который всегда их подбодрит и который знает секрет, отличающий их от других людей.
По вечерам Георгий читал газеты и вырезывал все, что находил о своем зяте. Он гордился Пелом, любил его и восхищался им. И Пел испытывал те же чувства к Георгию, и в один из своих приездов в Калифорнию сказал:
— Понятно, почему мы так ладим: мы оба любим одну и ту же женщину.
Георгий совсем не походил на отца Пела, но после смерти Филлипа в жизни его сына образовалась пустота, и Георгий мало помалу занимал его место. Пел звал его по-русски «отец», и Георгий отвечал ему «сын».
— Ты мне больший друг, чем Дмитрий, — как-то признался он.
Но хотя Георгий радовался обществу Пела в доме на полуострове Монтерей, в Вашингтон он ехать отказался.
— Неприглядный будет вид. Политический деятель не должен иметь такого, как я, родственника, — категорически заявил он.
Жени по-прежнему летала на восток так же часто, как и Пел, приезжавший их навестить. Теперь она могла взять несколько дней подряд: покидать клинику ей стало несравненно легче. С ней работал Стив Лукас, грубоватой манерой напоминавший Макса, и такой же преданный делу квалифицированный хирург. И Клэр Вашингтон, начинавшая в косметическом крыле, и теперь ведущая большую часть административной работы. С Клэр и Стивом — «совестью» клиники — Жени смогла постепенно отстраняться.
Она надеялась открыть кабинет в Вашингтоне или недалеко от города. Пела безусловно переизберут на второй срок, если он захочет еще быть сенатором. Хотя, может быть, он займется и чем-нибудь другим — о Пеле поговаривали как о восходящей звезде. Его работа в сенаторском комитете по международным отношениям привлекла внимание всей страны. Аналитики предсказывали, что если демократы победят на выборах 1988 года, Пел может получить место в правительстве или стать послом США при ООН.
И возможности на этом не ограничивались. Кто знает, какие перспективы откроют для Пела выборы 1992 года? Размышлять об этом было слишком рано, но Вашингтон всегда считался городом Пела, и Жени мечтала там обосноваться.
Но она не спешила, по-прежнему принимая новых пациентов. Не спешила, потому что не знала, что делать с отцом. Он казался довольным, навещал детей, много читал и недавно на собственной земле начал заниматься огородничеством. Но он был стариком в чужой стране и покинул родину ради нее. Как она могла теперь его бросить?
В Вашингтоне ему станет неуютно. Внешность и политическое прошлое, о котором еще многие помнят, заставят его снова прятаться от людей. Жени чувствовала ответственность за отца, но и своего счастья с Пелом она упускать не хотела. Ведь ей уже перевалило за сорок.
Когда Дмитрий очутился в аэропорту Джона Кеннеди, первым впечатлением Жени было, что брат слишком быстро постарел. На фотографии его лицо было слегка размыто, и она удивилась, увидев брата взрослым мужчиной. В жизни он казался лет на десять старше ее. Длинную бесформенную бороду испещрила седина. Брат был очень худ, и не так высок, как она представляла. Видимо, поняла Жени, она еще продолжала расти, когда он уже перестал.
Жени помахала рукой, чтобы брат заметил ее, и окликнула его по имени. Он подбежал и крепко обнял сестру. Они прижимались друг к другу, смеялись и плакали, и не могли выговорить ни слова. Наконец с застенчивой улыбкой вперед выступила Вера, и Жени из объятий брата попала в объятия детской подруги, ставшей теперь ее сестрой.
— Вот твои племянники, — женщины отстранились и посмотрели друг на друга. — Миша чем-то похож на тебя, хотя мальчики не бывают красивыми, по крайней мере, он сам так считает.
Мальчики с достоинством протянули тете руки.
— Они оба красавчики, — рассмеялась Жени, притянула ребят и поцеловала в макушки.
Из аэропорта они отправились в Ванвуд, куда собирался приехать и Пел, после расследовательской миссии в Никарагуа.
— А где дедушка? — спросил Василий, старавшийся перед Мишей играть взрослого. — Когда мы увидимся?
Жени посмотрела на брата, ожидая его ответа. «Сын меня не знает, — заартачился Георгий, когда она позвала его с собой встречать Дмитрия в аэропорту. — И я не хочу навязываться ни ему, ни его семье».
— Дедушка в Калифорнии, — объяснила она мальчику. — Вы встретитесь позже. Для старого человека такое путешествие не из легких.
— Но ведь Калифорния в Америке, — возразил Вася. — Один из ее штатов.
— И тем не менее она далеко, — мальчик напоминал отца, как на той фотографии. Но глаза были бабушкины. Жени пожалела, что Георгий не приехал с ней.
На следующий день, в Ванвуде, Жени и Дмитрий долго гуляли перед завтраком, рассказывая друг другу жизнь с самого детства.
Дмитрий объяснял, о чем написал в письме, рассказал о доме, который они делили с другой семьей, говорили о работе, о своем институте и статьях.
Жени рассказала о клинике, вспоминала Макса, восхищалась его гением хирурга и длившимся всю жизнь его крестовом походе против увечья и боли.
Дмитрий слушал с глубочайшим вниманием.
— Мы очень похожи друг на друга, — проговорил он, когда она закончила. — Настоящие брат и сестра. Врач и физик. Ты исправляешь лица и тела, чтобы вернуть им порядок. А я изучаю порядок во вселенной, который придает форму всему. И мы оба привержены красоте. Видеть ее научила нас мать. Показала, как разглядеть во всем: в звездах, цветке, снежинке, в ней самой. Порой мне кажется, что постоянное открытие красоты в вещах поддерживает во мне жизнь, не дает унынию овладеть мной. Ведь мои сыновья красивы?
— Да. И Вера тоже.
— И Вера. Как бумажный цветок. Помнишь, когда мы познакомились? На твое тринадцатилетие.
— Как я могу забыть. До того дня она была моей лучшей подругой. А когда я увидела, как ты на нее смотришь, стала ужасно ревновать. Вот какой я была несносной девчонкой, — Жени улыбнулась.
— Просто девчонкой, — поправил Дмитрий. — Тогда я бы тебя тоже ревновал. До сих пор помню, что я почувствовал, когда увидел Верины глаза. Бархатные. Я решил, что они будут согревать меня всю оставшуюся жизнь, — он рассмеялся. — Я был, как и мать, романтиком.
— Хорошо, что ты ее любил. Прекрасная, удивительная женщина.
Его брови вопросительно изогнулись.
— Я ее тоже любила. Наверное, всегда. Но погребла любовь, когда она ушла от нас. Но теперь по-прежнему люблю.
— И я люблю. И любил всегда.
— И отец тоже.
Лицо Дмитрия потемнело:
— Он ее погубил. Отправил в ссылку.
— А потом спас. И перед смертью она простила ему.
Несколько минут они шли молча, а потом Дмитрий снова заговорил о семье:
— Когда мы поженились, мы были с Верой влюблены друг в друга. И я уверен, она и сейчас меня любит. Но ей со мной тяжело живется. Она не жалуется. Но я знаю, нам всем было бы гораздо легче, если бы я делал то, что от меня хотят. Был бы как все. Вступил бы в партию. Не высовывался.
— Нет, — они шли взявшись за руки, и хромота Дмитрия была почти незаметна, хотя он слегка и подволакивал поврежденную ногу. — Ты сын своего отца. Иди своей дорогой, — и она рассказала о несостоявшейся операции.
— Да, мы все такие, как раньше, — заметил Дмитрий. — И старик по-прежнему упрям.
— Ты хочешь с ним увидеться? — спросила Жени, когда уже показался дом.
— А почему бы и нет? — грубовато ответил брат. — Я буду в МТИ целый год. Если захочет, пусть приезжает.
Как только они вошли в дверь, к Жени подошла служанка:
— Доктор, вам звонят из клиники. Вы возьмете трубку?
— Конечно, — Жени прошла в кабинет.
— Доктор Сареева?.. Жени, — говорила Клэр Вашингтон. — Я хотела выяснить, когда вы возвращаетесь. У меня в плане операция. Мне надо знать, будете ли вы ее делать.
— А почему я? — Жени взяла неделю отпуска и хотела провести ее с родными. И через несколько часов в Ванвуд приезжал Пел.
— Реконструктивная операция. Лицо.
— Стив Лукас ее хочет выполнить.
— Но пациент просит вас.
Жени нахмурилась:
— Кто бы это ни был, скажите ему, что меня нет в городе…
— Но пациент ваш отец, — перебила ее Клэр.
Как только Клэр положила трубку, Жени набрала свой домашний номер. Ответил Георгий:
— Да, это так. Преступление и наказание подошло к концу. У меня есть еще несколько лет жизни, и я хочу их провести со своими детьми. Хочу помочь Пелу стать лидером вашей страны. Он еще не настолько стар, чтобы помощь отца ему была не нужна, — говорил отрывисто Георгий. — Да и тебе, красавица, нужно иметь приличного родителя, чтобы люди не думали, что ты родилась из устричной раковины.
— Папа, — перебила его Жени. — Ты ведь знаешь, ради меня не надо делать никакой операции. Я не хочу играть в бога.
— Играй во что хочешь. О Боге я никогда, положим, много не знал, и жизнь заканчиваю с дьяволом. Будь добра, сними с меня эту маску. Или мне искать другого хирурга?
— Нет. Я твой личный специалист. Вернусь через три дня. Скажи Клэр, чтобы ставили операцию на следующий понедельник.
— И раз уж мы соединились, передай-ка трубочку сыну. Я имею в виду твоего брата, а не мужа.
Жени выбежала за Дмитрием.
В следующий понедельник, пятнадцатого июля, Жени вошла в операционную, ощущая абсолютную уверенность. Ни малейшего волнения, которое она испытывала во время операции Чарли и в прошлый раз у отца. В халате и в маске она стояла у стола и протягивала руки в ожидании инструментов. Потом склонилась над головой Георгия и почувствовала рядом с собой Макса.
— Твой старик чертовски мил, — произнес он. Сам Ножбудет ассистировать тебе на этот раз. Вперед, детка.
Жени улыбнулась и сделала первый разрез.
Рождество вся семья провела в Джорджтауне. Не приехала только Роза, которой исполнилось девяносто четыре года. Она извинилась и сказала, что дома праздновать будет еще романтичнее. В семьдесят лет Мег снова сделалась живой, энергичной женщиной, как тогда, когда Жени с ней только познакомилась, и возилась с Дмитрием и его сыновьями, пока Вера не запротестовала:
— Вы мне их на всю жизнь испортите.
— А я и хочу, — Мег обняла ребят. — Мы собираемся оставить всех вас здесь. Правда ведь, Пел?
— Я это прорабатываю, — Пел моргнул, и это означало, что он надеется решить вопрос.
Распятие и ветви омелы украшали гостиную на первом этаже. Ель, в шесть футов вышиной, сверкала огнями, мишурой, стеклянными игрушками и шоколадом в золотой и серебряной фольге.
— Как в Топнотче, когда ты впервые появилась у нас, Жени, — заметила Мег. Печаль пробежала по ее лицу и пропала. Она повернулась к мальчикам и попросила их раскрыть висящие на камине чулки с подарками.
Жени и Пел смотрели на ребят, и Жени вспомнила очарование своего первого Рождества — в Финляндии: как они рубили с Олафом елку и тащили по глубокому снегу через лес в теплую кухню к Минне.
— Смотри-ка, — закричал Миша, доставая из чулка телескоп. — Как у папы, чтобы смотреть на звезды!
— Ну теперь все звезды твои, — заметил сыну Дмитрий.
Вася распечатал подарок Жени — большую иллюстрированную книгу о человеческом теле.
— Спасибо, — он поцеловал тетю. — Меня это очень интересует, — мальчик старался говорить по-взрослому. Жени рассмеялась и обняла его.
— А раскрой вот это, — Георгий указал на квадратную плоскую коробку. — Это вам обоим.
Жени заинтересовалась и подалась вперед. Отец не сказал ей, что собирается подарить внукам.
— Для тебя будет тоже сюрприз, — только и ответил он.
Вася снял ленту и подал пакет Мише. Тот стащил бумагу. Жени нагнулась. В руке мальчика оказалась фотография женщины в серебряной рамке. Глаза Жени затуманились, а Миша воскликнул:
— Это ты, дедушка! С какой-то красивой женщиной.
— Твоей бабушкой. Это ее единственная фотография, которая у меня сохранилась.
Жени опустилась на пол подле отца и положила голову ему на колени. Вася рассматривал фотографию:
— А молодым ты был красивый.
Мальчик улыбнулся. Его глаза, как у Наташи, скосили к переносице:
— Но теперь ты еще красивее, дедушка.