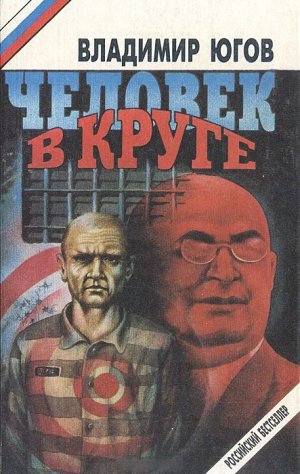
1
Автоматная очередь вдогонку убегающему.
Первый допрос в кабинете цензора.
Посадка «кукурузника» в арчовнике.
Берия выбирает самую трудную, но ближнюю дорогу.
Он стрелял вначале стоя и вверх, однако, поняв, что дело серьезнее, чем он подумал, когда начальство, спокойно перейдя полосу и пошагав размеренно туда, куда идти никому не полагалось, стал на колено и, тщательно целясь в ноги уходящему, бил короткими очередями размеренно и зло. Но ему сегодня не везло. Отличный стрелок, владевший, пожалуй, с одинаковым успехом и охотничьим ружьем, и боевой винтовкой, и ППШ, Смирнов не уложил или сошедшего с ума полковника, или притворявшегося все время настоящего шпиона и врага.
Майор из СМЕРШа Железновский уже через час допрашивал Смирнова в небольшом кабинетике подполковника Мамчура, работающего оперативником в штабе дивизии и заодно выполняющего обязанности цензора в нашей дивизионной газете «За Родину». Черт дернул меня, ответственного секретаря этой газеты, именно в тот час пойти с очередным номером к Мамчуру, человеку деликатному, мягкому, но ужасно придирчивому. Дверь была почему-то открыта, хотя Мамчур всегда запирался на ключ после того, как у нашего шифровальщика что-то исчезло и дивизия пережила всеобщий страх проверочных комиссий с их железными оргвыводами.
Я перешагнул порог в тот момент, когда Железновский пытался, видимо, еще раз ударить Смирнова. Это ему не удалось. Солдат увернулся. Я увидел лишь, как рука Железновского повисла в воздухе, сам он уставился на меня, и глаза его забегали по нашим лицам — Мамчура и моему.
— Кто это еще? — спросил Железновский Мамчура, опустив руку и потирая ее (будто и не пытался только что ударить солдата) о зеленое сукно стола, заляпанное в некоторых местах чернилами.
Подполковник Мамчур, как первоклашка, стал объяснять, что я тот самый журналист, который в окружной газете пропагандирует передовой опыт нашей дивизии, пишет о ее лучших людях, не боится и укусить (так и сказал: укусить) кое-кого из начальства… Мамчур очень старался хвалить меня только потому, как я понял, что я вполз сюда непрошенно и стал свидетелем допроса с мордобитием. Что Смирнова Железновский бил, не стоило сомневаться: под глазом у пограничника синело, из вспухшего носа временами покапывала кровь.
— Давайте я подпишу газету, — сказал, не глядя на меня, Мамчур.
Я подошел ближе к столу, протянул пахнущий краской номер.
— Вы знаете, я уже читал все здесь. — Небольшой ростом Мамчур стал еще меньше, голова его, седая к сорока годам, втянулась в плечи. То, что он сказал, относилось, конечно же, к Железновскому. Он оправдывался перед ним и даже заискивал.
Железновский, покосившись на нас, совершающих обряд пуска газеты в свет, вразвалку двинулся к двери. Был он высок, строен, безукоризненно сидела на нем форма — китель с погонами артиллериста, брюки навыпуск, достаточно широкие и достаточно узкие, отлично по длине сочетающиеся с начищенными до блеска желтыми туфлями.
В дверях он столкнулся с полковником Шмариновым, таким же высоким, но чуть сутуловатым и с замедленными движениями, когда не требовалось у волейбольной сетки принять мяч и отправить его на сторону соперника с адской силой. Я хорошо знал полковника, мы играли с ним в одной команде, входили в сборные корпуса и армии. Но сейчас полковник был для меня не коллегой, а начальником СМЕРШа нашей дивизии, как и его новый сотрудник Железновский представлял это ведомство. По молодости я, естественно, не понимал, что при любом моем промахе уже само присутствие здесь чревато для меня непредсказуемыми последствиями, хотя интуитивно чувствовал это и (с подписанной газетой в руках) ждал только случая, чтобы улизнуть отсюда.
Шмаринов, видя, с какой охотой уступает ему свое место Мамчур, не стал ломаться, сел и, отодвинув от себя бумаги оперативника, извинительно сказал тому:
— Железновский, наверное, объяснил, почему облюбовали твой кабинет?
Мамчур кивнул.
— Только теперь не знаем, сколько это продлится. — Шмаринов взглянул на Смирнова вроде мимолетно и снова уставился на Мамчура. — Телефон у тебя на штаб округа выходит?
— Да, — охотно ответил Мамчур. — И внутренний надежный.
— Я уже проверял, — подтвердил Железновский.
Полковник закурил и, рассматривая теперь Смирнова, о чем-то думал.
— Ты сибиряк, выходит? — наконец, спросил пограничника.
— Выходит, — зло ответил солдат. — Когда сибиряки нужны были под Москвой, то они… — Смирнов закашлялся. — А теперь… Я шесть лет срочной тяну… А вы…
— Вижу, — сказал Шмаринов. — А как прикажешь с тобой поступать, ежели ты, давно став придурком — шофером ведь службу тянешь, — ухмыльнулся, — не смог его ссадить с седла! Когда последний раз из автомата серьезно стрелял по цели?
— Пару лет тому назад, — не стал хитрить Смирнов.
— Вот видишь! А ты ведь всегда пограничник!
— Я мотался на лайбе столько, сколько хотело начальство. Что приказывали делать, то и делал.
— Вас всех с границы нужно под метелку, — нервно засмеялся Железновский, показав ряд белых ровных зубов. Он, скорее всего, не ожидал, что его начальник придет сюда и увидит, как разукрашен солдат. Ему показалось, что Шмаринов, когда мельком взглянул на Смирнова, остался им, Железновским, недоволен (он уже за короткое время изучил своего непосредственного начальника).
Шмаринов затушил в пепельнице папиросу и только теперь увидел меня, унизительно стоящего и так и не нашедшего свой случай исчезновения из кабинета Мамчура.
— Ты по газете, что ли, к подполковнику пришел? — забурчал он, вдруг выстрелив взглядом в Железновского. И сразу, не дождавшись моего ответа, он знал всегда и все и кое-что еще, но его смущало присутствие своего подчиненного — он то ли не доверял ему, то ли боялся, — стал ощупывать меня своим сонным, на вид безразличным взглядом. — Послужить Отечеству не желаешь? Ты ведь, если мне не изменяет память, являешься в управлении дивизии секретарем комсомольской организации? Мы людей подбираем, чтобы сменить вот эдаких, извините за бедность мысли, сибирячков, которые стрелять по движущимся мишеням уже разучились… — Шмаринов оглянулся на Железновского, тускло глядящего куда-то на окно, потом перевел взгляд на меня и скрипуче сказал, не предвидя возражения: — Иди, пусть газету майор Прудкогляд делает. — А ты поедешь… — Теперь он посмотрел на Железновского жестко, начальственно. — Майор, надо встретить, — замялся, самолет. Круговая охрана нужна. Бери этого спортсмена-газетчика, — он кивнул на меня, — распоряжаться может. — И тут улыбнулся открыто, широко. — Взводом радиотелеграфистов командовал в школе сержантов артиллерии. Теперь вот на офицерской должности, хотя и старшина… Бери, майор, не ошибешься. Мы тоже тут кое-что знаем. — Шуткой похвала в мой адрес не обернулась — между ними что-то стояло. И Шмаринов, поняв это, шумно подошел к окну кабинета, которое выходило на юг, опять перешел на скрипучий наставительный уставной стиль. — Кувык наш и остальные с ним там. Тебе, выходит, самолет… Не встретим… Это… Это, майор… Это, считай, вышка для всех нас…
На улице, как говорится, буяла весна; воздух был божественно хорош после кабинетика цензора. Я перебежал улицу, зашел в типографию. Надо печатать номер.
Сидели и ждали уже солдаты, привезенные из гауптвахты, чтобы крутить колесо. Станок был допотопный, все делалось вручную, так и приходилось обращаться за помощью к непутевым солдатам, чтобы их физическими усилиями вышел номер, прославляющий лучших, а их критикующий.
Подписав еще раз свеженький номер, я зашел к редактору Прудкогляду. Обычно желтоватое его рябое лицо было сегодня еще желтее. Я знал его тайну, он рассказал мне о ней в прошлую осень, когда мы были с ним на рыбалке. Мы тогда с ним по маленькой клюкнули. Перед поездкой на эту рыбалку меня вызывали в политотдел и почему-то спрашивали, к какой, на мой взгляд, газетной квалификации я отнес бы квалификацию своего редактора? Я понимал майора, который со мной беседовал. В то время мои очерки, стихи, зарисовки печатались во многих газетах среднеазиатских республик — в Ташкенте, Ашхабаде… Следовательно, как такого, печатающегося газетчика, майор мог и спросить, несмотря на то, что я — старшина, а мой редактор майор. Ведь у квалификации не может быть ни офицерских, ни полковничьих звезд. Но насторожила меня пристрастность политотдельца. Он плохо говорил о моем редакторе (следовательно, и о газете), потому я горячо отверг все наветы в адрес Прудкогляда.
Он, оказывается, узнал о разговоре, который я, как мне виделось, вынес с честью. И Прудкогляд исповедался в тот осенний вечер на рыбной ловле. В 37-м его, пограничника, отстранили от службы. «Теперь бы я был чином не ниже полковника»… Прудкогляда долго держали в тюрьме. Первая жена от него отказалась. Отказались несовершеннолетние дети… И все-таки ни одну вину в свой адрес он не признал, твердил: «Нет, нет!»
Его выпустили и, как уже было там дальше, как он попал в военную газету после того, как отвоевал от звонка до звонка, вот опять, почти через десяток лет, когда у Прудкогляда новая семья из шести человек — «и все девки, шут бы их побрал», когда такая же, как он, рябая, голосистая жена, берущая все призы в художественной самодеятельности — «она могла бы петь в Большом театре», — говорил наш дирижер Шершнев, — ему накручивает кто-то судьбу с сумой: ни военной пенсии, ни будущей работы в гражданской газете, если речь идет «о брехне, что я списываю все из старых газет, сам не умею писать». Ему виделось все то, что уже было.
— Можешь ты мне объяснить, — печально начал Прудкогляд, прищуривая свои зеленоватые глаза, — что там происходит?
— Где? — вроде не понял я, хотя понимал, что обижаю старика — тогда все мои начальники старше сорока казались мне стариками.
— Да везде, — не обиделся на меня Прудкогляд. — В городе. На границе.
— А что такое? — Я подумал, что он меня прощупывает на бдительность как это его отпустили в тридцать седьмом? И в газете работает? — Я подумал нехорошо о нем. Стучит?
Он, видимо, понял, что я притворяюсь, а не подозреваю его, гневно выдавил из себя:
— Да моя старая дура… Прямо по телефону… Соседке! А соседку замели! Нашу соседку.
— Какую соседку? — Я уже не юлил и не подозревал. Я просто вспомнил о словах Шмаринова — «считай, вышка для всех нас».
Прудкогляд не заметил во мне перемен — страх, видно, бродил на моем лице. Он махнул рукой осуждающе:
— Да все они, дуры, набросились на нее, когда она приехала…
— На кого они набросились? — Я уже хотел все понять.
— Да на жену коменданта, — сузил глаза редактор. — Ну ты же был там… У Мамчура… СМЕРШ туда пока перебрался. А в СМЕРШе разместится, он оглянулся, — разместится… — Тут же замахал рукой. — Я не знаю, кто разместится… А моя дура-певица — все по телефону! А телефон сейчас, не будем наивны, прослушивается.
Я хотел что-то сказать, но тут без стука вошел Железновский.
— Вы готовы? — обратился он ко мне, даже не взглянув на Прудкогляда.
Мой редактор, не зная, кто перед ним, всегда привык меня выручать при нагрузках со стороны штаба и политотдела, и в этот раз бросился в защиту, пискляво возразил майору, что идет печатание газеты (так он всегда выражался, отдавая этим самым дань священному процессу рождения очередного номера), и что никто не имеет права брать меня куда-то, это немыслимо!
Железновский только теперь увидел одинакового с ним по званию офицера, он удивленно повернулся ко мне и спросил:
— Ты что, не доложил?
Я пожал плечами.
— Он вам не доложил? — Железновский уже глядел на Прудкогляда.
— Но у нас газета, товарищ майор! — Прудкогляд все выглядел петухом.
— А у нас — задание, — четко отрезал Железновский. — Товарищ майор, наша система не уговаривает, а приказывает!
Прудкогляд нервно повернулся, пошел к своему месту:
— Простите, я еще не видел вас. И не представлял!
Более нервно редактор стал искать кисет, трубка в руке у него подрагивала. Он несколько раз хмыкнул.
— Но газета, газета… — Прудкогляд подергивал правым плечом, найдя кисет и набивая в трубку табак.
— Я забираю вашего секретаря. — Железновский, видно, оценил протест Прудкогляда, но не сжалился над ним. — И — баста! — отрубил. — И никому ни слова, майор! Вы поняли?!
Прудкогляд затянулся на все шнурки, его рябое лицо выражало протест, глаза сузились, однако он вдруг забормотал, не стесняясь меня:
— Простите! Ради бога, простите! — И после жалкой паузы, закашлявшись, добавил: — Конечно, забирайте! Конечно!
Когда я наспех захватил шинель и вещмешок (я жил в казарме комендантского взвода управления дивизии, она была рядом с редакцией), когда к нам подкатил «додж» и мы уселись, оказывается, только вдвоем, майор отпустил водителя, ибо сам Железновский сел за руль, я — рядом с ним, мы поехали. Вдруг он ласково положил мне руку на плечо и шепнул:
— Давай дружить! У меня тут друзей пока нет… — Убрал сразу руку и, то ли всерьез, то ли притворяясь, под нешумный бег «доджа» заисповедывался: — Ох, жизнь сложная… Ну, скажешь, зачем ударил солдата? Да там, где я был… Разве так бьют? Ведь — дешевка! Сука! Не пристрелил!.. А теперь эти вонючие мусульмане, с той стороны: «Нема дыды!» [Что такое? В чем дело? (узб.)] Понимаешь, — глядел на меня долго и внимательно — это не помешало ему вести машину великолепно, она неслась, подчиняясь ему, туда, куда он хотел, — каждую минуту докладывали. Эти же вонючки! Только наши. На нас которые работают. Вот сейчас, де, этот полковник, драпанувший от нас, находится в их аэропорту! Вот сию минуту американские разведчики повели его под ручку к самолету! Вот сейчас они вылетели в сторону Турции!.. А мы стоим и слушаем. И — впроглот! И только зубами скрипи от бессилия! И все из-за сибирячка дешевенького!
Он неожиданно навалился на меня плечом, мне стало неудобно сидеть, я попытался отстраниться, притом мне было неприятно от запаха водки — я понял сразу, когда сел в «додж», что Железновский выпил перед дорогой. Теперь его развозило.
— Чего ты отстраняешься? Хвастаешься, что с полковником моим в дружбе? Но это же я хотел тебя взять первый! Я до этого ему сказал, когда у нас с кадрами затор возник! Мы не боги, спиной и грудью все не прикроешь! Потому я и захватил тебя с собой. Скажи, комфортно едем? Ну, скажи?
— Ничего, неплохо!
— «Ничего, неплохо!» Газетчик тоже! Найди слова благодарности. Точные и сочные. «Ничего!» Остальные топают в общих машинах, пыль глотают! А мы с ветерочком! Бежим по весне, дорогой писака!
— Спасибо. — Мне не хотелось с ним спорить и заострять отношения.
— Чудак! — Железновский снова положил мне руку на плечо. — Газетчик, а смирненький какой-то! Не умеешь общаться… А меня подмывает говорить! Не знаю вот, не знаю!.. Аэропорт… Аэропорт, как меня учили, есть транспортное предприятие, состоящее из аэровокзала, аэродрома и других сооружений. А тут — бедлент. Ты газетчик, то есть вполне интеллигентный человек, обязан знать, что это — дурные земли. Они обычно не пригодны для земледелия. — Он посерьезнел и, отодвинувшись, убрав опять с плеча руку и положив ее на руль, скрипнул зубами: — Ты что-то понял? Вышка! Такие земли непригодны и для посадки воздушного транспорта. Зубцы, пирамиды, острые гребни!
— Все-таки, кого мы встречаем? — спросил вдруг я, не зная почему.
— Не спрашивай так моего брата никогда. Это — опасно, — ощерился он.
— Я это понимаю сам, — сказал я. — Но в вышку играю и я.
— Молодчага! — Железновский выставил руку с большим пальцем. — Браво! — И снизив скорость, прошипел: — Они там, — кивнул в сторону, откуда мы ехали, — конечно, занимаются, может, делами поважнее. Но как тебе нравится мой начальник, а твой друг по волейбольной команде? Он же сует нас под эту самую вышку, а?
— Почему ты сказал — не спрашивай так моего брата никогда? Давай дружить, — сказал ты. И так припугнул… Если ты хочешь дружить со мной, почему я не могу спросить у тебя, кого мы встречаем? И почему ты не скажешь мне насчет вышки? Что за дешевые угрозы? У вас всегда так?
— Ну, во-первых, о дружбе. Дружить с тобой буду я, а не ты. — Он засмеялся. — Слишком ты размахнулся!
— Ты думаешь? — Я в душе окрысился, хотя сдерживал себя.
Железновский это заметил и снисходительно пожурил:
— Ну не сердись. Дружить — так дружить… Не вешают же нас сию минуту за срыв задания… Будем дружить! И я тебе скажу, кого мы будем встречать. Впрочем… Я за язык уже страдал. Ты думаешь попасть из Киева сюда, в эту дыру, так уж приятно? И всего-то за пьяненький язычок! Но я бы тебе все равно сказал. Ты — не дешевка. Значит, потерпи!
— Потерплю, — мирно улыбнулся я.
— Ну не надо так! Говорю тебе, что ты не дешевка. Значит, знаю. Дешевка не мог защитить своего солдата от тюряги. А ты защитил! И наши парни за это на тебя зуб имеют!
— Не удалось шпионом сделать?
Я бахнул напрямую. Мне уже говорили, что я наступил кому-то на больную мозоль, когда в комсомольское бюро принесли «дело Семенова». Был у нас такой писарь. В прошлом году при демобилизации в его чемодане, во время осмотра, нашли какие-то записки о командире дивизии, начальнике штаба, начальнике оперативного отдела. Я знал Семенова хорошо. Тихий, радостный, он иногда, после своей нелегкой писарской работы в штабе, приходил по вечерам в редакцию, восхищался тем, что видел, — как идет набор только что написанных и выправленных материалов, как, оттиснутые на белой бумаге, они становятся ровными рядочками разных повествований и сообщений… Одним словом, он мечтал о журналистской работе после демобилизации. И надо же — шпионские записи! Везет с собой, чтобы куда-то передать! В записях ничего секретного! Как, к примеру, командир дивизии чихает и как при этом что-то говорит, вроде того: боже мой, боже мой, опять этот чих-пых. А начальник штаба, здороваясь с женами офицеров, что-то тоже тихо говорит и делает зубами ця-ця-ця! Наблюдения Семенова дешевенькие. Далеко ему до классиков. Но — шпион. Делать его шпионом на наше комсомольское собрание пришел один из комсомольских работников политотдела дивизии. Я ездил перед собранием в туркменский совхоз по заданию окружной газеты и делал материал об одном дне Героев соцтруда и почти с дороги попал на собрание. И я, секретарь комсомольского бюро, вместо того, чтобы поддержать представителя политотдела, начал рассказывать о смешном Семенове. А когда политотделец попытался меня оборвать, я разъярился и заявил, что поддерживать уже вроде решенное дело не намерен. И все бюро пошло за мной. Но откуда мне было знать, что дело-то Семенова сотворяли ребята Железновского? И откуда было знать, что на меня они имеют зуб?
Теперь майор выговаривал мне, что в мой адрес иногда от Семенова, из его родной Рязани, где он устроился заведующим заводского какого-то клуба, идут ведь письма?
Железновский глядел на меня в упор и как-то снисходительно покачивал головой.
— Впрочем, — сказал он, — я так и не ответил, кого встречаем. Встречаем, мой друг, самое высокое наше начальство. Конечно, не знаем, кто прилетит. Не сам. Но дело — серьезнейшее. Сбежал-то не Смирнов, шофер пусть и первого класса. Сбежал — комендант. Ты шурупаешь?
— У вас — что? Никто и никогда не сбегал? Я читал…
— Ты поменьше читай. Я имею в виду, о таких вещах… Так вот: такие не сбегали! И что хочу сказать, я рад. — Нагнулся ко мне и задышал водочным перегаром — пожалуй, был слишком пьян для таких слов. — Знаешь, почему я рад?
— Знаю. Ты хочешь отличиться. Там, где ты был, начальства много. А здесь ты да полковник Шмаринов.
Железновский резко повернулся ко мне, взял меня слегка за грудки. Я оттянул от себя его руку.
— Ну, ну! — усмехнулся он, возвращая машину в чуть заметный след. Ты, брат, в историю лезешь.
— Я не лезу в историю, — раздельно, почти по слогам сказал я. Только не люблю, когда меня берут за грудки и снисходительно предлагают дружбу, прямо скажем, невысокого качества.
— Обиделся! — засмеялся он. — Конечно, обиделся… Но ведь и я на тебя обиделся… Если по-честному говорить, туда ему, подонку, и дорога! Пусть сбежал! Нам с тобой лучше! Ты ведь с его женой танцевал в Доме офицеров. И оглядывался: нет ли рядом мужа?.. У меня ее из-под носа увел, старшина!
— Погоди, погоди! Ты был тогда в гражданском?
Я все сразу вспомнил: как был на танцах (политотдел выделил мне «вольную»: хотя я служил срочную, но ведь был на майорской должности, получал офицерские деньги и по выделенной этой «вольной» имел право посещения, причем в любое время дня и ночи, всего гарнизона), как упоенно танцевал и как у какого-то шмакодявки гражданского увел из самых его рук очаровательную женщину. Если это был он, Железновский, и он знает, что она жена коменданта, сбежавшего за кордон, то, следовательно, мы с ним ее знаем. И если это была она, трудно представить, как от такой женщины можно куда-то бежать?
«Додж» вкатил на дурные земли. Конечно, я не знал этого слова «бедленд». Я не знал английского языка. Железновский знал и это слово, и говорил по-английски и по-французски. Я не знал тогда, что он сын известного генерала. Даже известный генерал не мог оградить его после проступка, который совершил Железновский. Пришлось снять с него звездочку и отправить сюда, в ад и пекло, где, как пишут, местный сухой юго-западный или южный ветер, направленный из Афганистана в районы Западного Памира и верховий Амударьи, ветер, называемый афганцем, нещадно несет вам в лицо сухую пыль и угнетает не только вялую жалкую растительность, но и любые, даже самые сильные человеческие души.
Уже сотни людей трудились тут, превращая почву, взятую эрозией, в ровную накатанную площадку.
— Пошли! — коротко скомандовал мне майор Железновский. — Найдем сейчас, — довольный смешок, — найдем коротким способом, тех, кто за этих лошадок отвечает… Браво, уже бежит первый!
Действительно, к нам быстрым шагом направлялся человек в военной форме. Это был кругленький сдобненький подполковник в новой, плохо сидящей на нем форме. Не доходя до нас метров десять, подполковник перешел на смешной строевой шаг и, неловко остановившись перед Железновским, неумело приложил руку к козырьку уже потной фуражки.
— Товарищ майор, — затрубил он неожиданно приятным баритоном, команда номер семь к работам приступила два часа назад. Докладывает подполковник Штанько.
По всему было видно, что Железновский доволен собой, своим положением.
— Бросьте, подполковник, циркачить, — заурчал начальственно он. Если уж в запасе соскучились по строевой, то — после всего этого… — И обвел царским взглядом все окрест.
— Слушаюсь!
Штанько стал демонстрировать отход, но толстые его ножки запутались в принесенной сюда ветром перекати-траве, он едва не упал, но не терялся и пробормотал:
— Простите, товарищ майор! Извините мне мою неловкость… Я все равно слушаю ваши указания.
— Вы кто по специальности?
Железновский все-таки был человеком — он помог Штанько удержаться на ногах, поддерживал его теперь, заглядывая в лицо.
— Я инженер, — Штанько, наконец, ловчее устроился на этой дурной земле, он отряхивался. — Точнее — главный инженер. Еще раз — простите мою неловкость… Всегда у меня так! О вашей строгости мне говорили и, поверьте, я все сделаю, что в моих силах. Вы, наверное, видите уже…
Железновский нетерпеливо перебил:
— Хватит, подполковник! Слушайте внимательно. Мне нужен аэродром к ночи. Вы поняли?
— Да, я уже это знаю. Мне это уже ясно. И потому понятны строгости.
Железновский смягчился:
— Ну строгости такие… Кровь из носа — чтобы мягкая посадка.
— Но, товарищ майор… Вы знаете, я не успел даже захватить отдельные приборы. У нас кое-какие приборы отсутствуют.
— Так вы что? За приборами собираетесь махнуть? — насупился майор.
— Что вы! Что вы! — испугался Штанько. — Это же… Пройдет вечность!
— Так зачем вы о них говорите? Зачем они вам нужны? Вы что, здесь останетесь навсегда? Нам главное — посадить. И отсюда вывести и довезти.
— Я это так и понял, — почему-то обрадовался Штанько. — Сейчас мы разбились на три группы… Только позвольте спросить… Две группы я отправил на дороги. Но — какие? По каким они поедут?
Железновский окаменел, глаза его побелели:
— Что?! Я не понял? Повторите!
— Но поверьте… Это не праздный вопрос. И я тоже — секретный человек. Я руковожу большим оборонным заводом.
— Вы руководили заводом, — холодно отрезал Железновский. — Сейчас вы руководите строительством аэродрома. И если вы будете руководить так, как теперь, — вам не вернуться на завод. Вы забудете о нем навсегда. И спрашивать о дорогах, по которым поедет прилетевший товарищ, вам никогда больше не придется.
Ловкое доброе лицо подполковника Штанько как-то вытянулось, губы побелели, но голос он не потерял, баритон его заклокотал уверяюще: «Есть, слушаюсь». Но сам Штанько стоял все, не поворачивался.
— Идите, идите! — брезгливо проворчал Железновский, но тут же смягчился: — Палатку, надеюсь, поставили?
Штанько уловил этот смягчающий тон майора и забарабанил:
— Для вас — да. И со всеми удобствами.
— А вода?
— Вода, товарищ майор, даже минеральная. Холо-одная, бестия! Я с ледком вез!
— Это отлично!
— Конечно, товарищ майор, отлично! — Штанько вдруг впервые заулыбался, его лицо стало похоже на наливное яблочко. — И еще кое-что, к воде минеральной!
Железновский молча оглядел его и пошел туда, где, по его представлению, была поставлена палатка. Он через некоторое время оглянулся. Увидев, что я стою на месте, рассердился:
— Пойдем, пойдем… Умоемся, пообедаем…
Я поплелся за ним.
Всех этих людей, усыпавших бэдлэнд (Железновский произносил так: bad lands), как я понял из разговора, мобилизовали четыре часа тому назад, обмундировали уже в военных самолетах, потом посадили в старые вагоны и довезли до маленького городка Н. Оттуда на танках — другой вид транспорта практически непроходим — доставили сюда и сразу бросили на эти земли, где была облюбована площадка для посадки самолета. Кто ее выбирал — даже не дело Железновского, которого назначили старшим. Штанько был крупным инженером. Он построил немало и дорог, и электрических станций. В войну отличился в Беларуссии. Его тоже, как и всех, подняли на ноги, когда он только что притопал пешочком на завод — чтобы чуть похудеть, не пользовался транспортом. Вместе со всеми заводчанами впихнули в самолет, дали форму подполковника (он был подполковником запаса) и везли потом, после самолета, на ветру, в вагонах и на танках.
Штанько все-таки заскочил в нашу палатку на несколько минут, все это он сумел пересказать коротко с юмором, с украинской улыбочкой.
Железновский налил ему рюмку коньяка, который оказался в палатке. Но Штанько наотрез отказался. И превратил отказ тоже как бы в юмор.
— Кто будет отвечать, если что? Штанько? Пусть уж скажут, что он был совершенно трезв.
Когда за ним захлопнулась оригинальная дверь палатки, Железновский хмыкнул — он уже выпил три рюмки:
— Смекай!.. Да ты садись поближе. Учись общаться. Вижу, совсем неотесанный ты чурбак. Как мой начальник.
— Воспитание страдало. — Я присел к столу, уютно, посередине палатки поставленному для нас двоих. — Некогда было учиться. Да и не у кого.
— Не у кого! Тоже скажешь… Учись на опыте. Моем дурном опыте. — Он выпил еще рюмку. — Я думаю, завтра утром прилетит. Так что сегодня можно и расслабиться.
— Утром?! Завтра?!
— А чего ты удивляешься? Думаешь, этот кругленький подполковник не справится? Да он носом рыть станет! Он же привык все выполнять. Ты что, по его харе не видишь? Да он их… Он их всех в гроб положит, а выполнит.
— Ты посмотри, чем они копают…
— Ну это ты землекоп. Ты в этом деле понимаешь. А мне… Мне наплевать, чем они копают… Хоть бы ч… копали.
— Насчет землекопа… Ты что, в мое дело уже заглянул?
— Смешной ты… Взял тебя от души, а ты все расспрашиваешь. А впрочем, что же тут такого, ежели бы и посмотрел?.. Ну посмотрел! Так ведь легче с тобой. Одному мне, признаться, всегда скучно. Я и взял тебя. Правда, полковник Шмаринов сказал. Я быстро согласился. Думаю: что он вообще из себя представляет, этот шустрый старшина, который из самой души женщину увел. — Он уже повторялся — выпивка не красила его ум.
— Женщина, женщина… Она не твоя и не моя. Она теперь врага народа. — Я тоже уже трижды приложился к рюмке.
— Жаль не будет моей, — притворно или нарочно вздохнул Железновский.
— Это почему же?
— Виноват Штанько. Он все сделает хорошо. И я буду на коне. Представляешь, в двенадцать тридцать телеграмма из Москвы: сообщите место посадки самолета с ответственным лицом. В тринадцать ноль-ноль — есть место посадки!.. Вы же… Вы же… Ну что — вы?! Вы даже аэродрома не имеете! К вам поезд через день идет развеселый… А начальству надо присутствовать. Прилететь, приехать… Ладно! Ты лучше скажи, она к тебе тогда прижималась? Ну когда ты цеплялся к ней, танцевал? И, слушай, где ты этим па научился? Вроде не вилки, ни ножа держать не можешь, а танцуешь с этими па приличненько.
Я поглядел на него с иронией. Он этого не заметил.
— Забрал ты ее в самый такой момент… — Он не жаловался, а вроде исповедывался. — В самый такой момент, когда я хотел с ней поговорить. Язык у него уже заплетался. — Просто еще и заданьице. А ты… Вообще, старшина, если откровенно, ходишь ты слишком широко. И тогда широко бортанул меня! Вроде я никто, а ты… Ты вроде — первый танцор и первый хахаль! Ты что, не знал, что с ней майор танцует? И не простой майор, а со знаком качества! Особый майор!
— А ты бы взял и повесил на себя табличку: «Не подходить! Заданьице имею!»
Железновский мотнул головой, будто стряхивая с себя алкоголь.
— Заданьице есть заданьице, турок! — снисходительно и доброжелательно пояснил. — Если ты этого не понимаешь, спи тогда. Буханул и спи… Мне не хочется вокруг да около… Но чтобы ты знал! Одно другому не мешает, когда такую встретишь! Кстати, ты ее увел тогда, а я, — Железновский поглядел на часы, — я ее вчера привел. К себе привел! В свою контору! Так что… Вот так! Ты, я знаю, просто ее расспрашивал, а я ее буду допрашивать!
Он довольно и откровенно засмеялся.
Утром я проснулся очень рано. Вышел из палатки. И не узнал всего вокруг. Передо мной расстилалась ровная, как стол, площадка. Она уходила к горизонту. По краям площадки вповалку спали люди. Я увидел, что ко мне идет вразвалочку подполковник Штанько. Лицо его было таким же свежим, как вчера. Он добродушно улыбался.
— Спят? — кивнул на палатку.
Мне стало стыдно перед этим человеком за нас двоих, по сути бездельно проведших все это время, пока люди трудились, наверное, без передышки. Я все-таки кивнул головой: мол, спят!
— Ну и хорошо, что спят. Я так понял ваш кивок?
— Да, так.
— Знаете, это — люди. Люди с большой буквы. — Он обвел взглядом спящих. — Без продуктов, учтите. Пообещали, правда, что подвезут… Такой великолепный народ. Главное, кругом были арчовники. Это ксерофитные редколесья. Они образованы главным образом арчой. Это различные виды древовидного можжевельника. Трудно людям было выкорчевывать их. Ночь темная. Все на ощупь. И посмотрите, как прекрасно!
— А дороги? Вы для себя решили — по какой?
Зачем я спросил? Все — журналистское любопытство. Да обида за вчерашнее хамское, с угрозой, поведение Железновского.
— Один конец. Просто и не знаю, что делать! Мне в войну казалось: надо прорубить дорогу к океану за ночь — так и прорубим. А тут… Инструмент не подвезли!.. Самое страшное, кто прилетит?
— Почему вы так спросили? Его спросили? — Я кивнул на палатку.
— Говорят — Берия, — сказал он, не отвечая на мой вопрос. — И ошибка… Тут ее не может быть. И майор прав на все сто процентов!
— Вроде все выглядит подготовлено. — Мне хотелось подбодрить его.
Штанько посерел как-то сразу лицом. И заторопился.
— Проснется, — кивнул на палатку, — скажите, что мы старались. О дорогах, особенно ближней, я вас прошу, не надо говорить. Не волнуйте!
К часу дня в небе появился самолет. Мы все с трепетом ожидали его. Надо отдать должное, Железновский был в восторге от работы, которую проделали люди Штанько. Он расцеловал подполковника перед неровным строем этих мобилизованных, еще не накормленных людей. И все они, вместо того, чтобы возмущаться, кричали ура и бросали вверх свои зеленые пилотки. Теперь их увели куда-то, спрятали. Железновский теперь твердо знал, что прилетит Берия. Сюда, на полевую радиостанцию, телеграмма была продиктована открытым текстом. Теперь все зависело от того — выдержит ли аэродром такой самолет.
Площадка выдержала. Пилот был, чувствовалось, классный. Говорили потом, что он был из местных, в войну много летал и сбивал. Но тогда мы с Железновским были счастливы, что Берия вприпрыжку вышел из самолета значит, все в порядке. Железновский побежал докладывать.
Я услышал смех Берии. Смех был вовсе не злой, а этакий шутливый, капризный, скорее.
Он добродушно забурчал:
— А что, у вас генералов нет? Майор, быть тебе генералом!
По дороге к нашему «доджу» Берия говорил, что он предупрежден о ситуации с транспортом и дорогами.
— Давай, майор, поедем на твоей кобыле, — пошутил Берия. Преклоняешься перед иностранщиной?
То ли это было сказано шутя, то ли всерьез. Но Железновский нашелся и сказал, что от американской техники осталось лишь белье — верх. Вся теперь начинка наша.
— Верно? — повернулся к нему Берия.
— Так точно, Лаврентий Павлович!
Берия полушутливо покачал головой:
— Что, дорогой, не знаешь моего звания?
— Знаю, товарищ Берия. Очень много генералов, но Лаврентий Павлович Берия у нас один.
— Или шутишь. Или хитрый. Но все равно — приятно.
Берия подошел к «доджу». Оглядел его.
— Лишь бы не было какой другой начинки, — засмеялся он. — Садимся? Кто еще поедет с нами?
— Мы двое, кроме вас, Лаврентий Павлович. А сопровождающие — следом.
— На этих железных коробках? — Берия показал на танки. — Слушай, майор. Чтобы они ехали подальше от нас. Гудел самолет. Очень гудел самолет. Теперь будут гудеть эти твои железки. Думать мне надо. Вы тут натворили черт знает что! А Лаврентий Павлович должен думать, чтобы разобраться.
— Лаврентий Павлович, — вынул карту Железновский — мне нравилось, как он спокойно ведет себя, не заискивает, не выпендривается, — есть три дороги…
Берия мельком посмотрел на карту, поданную в развернутом виде, и тут же спросил:
— Какая дорога короче?
Железновский смутился.
— Что это значит? — Берия глядел строго.
Видно, Штанько более подробно, чем мне, рассказал о дорогах и об этой короткой дороге Железновскому, потому он и потупился.
— Не привели толком в порядок. — Он смело поглядел на Берию. — Сил не хватило, Лаврентий Павлович. Людей поздно отмобилизовали. Да и техники нужной не успели подбросить.
— Ты храбрый, майор. И мне это нравится. Мне лгут. Мне лгут отчаянно. Боятся и лгут. — И вдруг перевел взгляд на меня. — Кто это? Это тот, что вы — вдвоем?
— Лаврентий Павлович, это наш человек. Мы ехали сюда с ним вместе.
— Слушай, — обратился ко мне Берия, — собак стрелять умеешь? Здесь невероятно злые собаки. Об этом мне сказали в Москве. Громадные пастушьи собаки. Чтобы они были злее, тут, как у нас на Кавказе, рубят им хвосты. Ты можешь защитить Лаврентия Павловича, если они бросятся на эту американскую железяку? Видишь, какая она низкая?
— Отстреляемся! — Я храбро улыбнулся.
— Майор, найди ему хороший автомат. И — тогда в путь. Мне ты нравишься, майор… Посмотрю еще, какой ты водитель… Кстати, где тот шофер, который вез негодяя до самой последней черты?
— Мы его допросили.
— И что? Он не признался, что сговорился с ним?
— Я думаю, Лаврентий Павлович, этого там не было.
— Кто его допрашивал?
— Я.
— Ты лично?
— Я лично, Лаврентий Павлович.
— Почему он его не убил?
— За это он получил, Лаврентий Павлович.
— Вы его…
— Нет, Лаврентий Павлович.
— Лаврентий Павлович, Лаврентий Павлович… Больше ничего не можешь сказать! А этот подлец ушел. Знаешь, сколько он нам стоит? Все надо менять! Мы не случайно поручили вам это дело. Вам, войсковикам. Не пограничникам. Конечно, нельзя мерить всех на один аршин. Но теперь… Теперь, извините… Теперь и пограничники будут, — он подыскивал долго слово, — будут сеяться, сеяться. Пока не добьемся чистой муки!
Берия замолчал, насупился. Машину подбрасывало, качало. Железновский всякий раз виновато глядел на важного спутника. Когда это Берии надоело, он добродушно улыбнулся и проскрипел:
— Ладно! Что ты так печально смотришь? Ну дорога! Ну и дорога! Я тысячи барханов объехал. Я по белкам недавно ездил. Знаешь, что такое белки? — Берия обращался к Железновскому.
— Пятна снега, — бросил тот, следя за дорогой.
— Верно. Ты что, был на севере?
— Был.
— Бора знаешь? Северный ветер, сильный, холодный? Знаешь?
— Знаю.
— Такой ветер сюда надо. Чтобы выветрило все. Все! До смерти.
— Правильно.
— Именно правильно. Слушай, майор… А жена его? Где?
— У нас, Лаврентий Павлович. Мы вам освободили все наше. Жить будете нормально.
— «Нормально!» — Берия хмыкнул. — Это ты считаешь нормально? Подлецов много. Разве можно жить нормально?
Много воды утекло в тех арыках, которые мы переезжали колесами «доджа», много поколений злых пастушьих собак сменилось, много барханов сместилось в тех пустынях благодаря ветровой аккумуляции (Железновский знал и об этом)… Я теперь многое не могу объяснить. Почему Берия ехал с нами, отпустив свою личную охрану туда, к пяти танкам, сопровождавшим нас на почтительном расстоянии? Могу лишь сказать одно: кажется, ему сразу понравился майор Железновский. Он ему доверился во всем. Особенно после того он, Берия, стал ближе, ближе к нам, смертным, когда узнал, что жена полковника Шугова, этого перебежчика, находится в распоряжении СМЕРШа и под охраной.
— Давай к штабу отряда, — сдержанно приказал Берия Железновскому. На углу, — он показал глазами, — подождем охрану.
Потом он вдруг повернулся ко мне:
— Служите здесь давно?
— Шестой год.
— Срочная?
— Так точно!
— Это отлично. В царской армии служили по двадцать пять лет. Ничего страшного. Зато, какие навыки у солдата! Верно?
— Естественно! — отчеканил я.
Мне и на ум не пришло возражать. Конечно, естественно. Приказано служить — служим, хотя война давно кончилась, и моя мама заждалась помощника в еще недостроенном доме. Ушел отец на войну, погиб. Не успел достроить. Не могу достроить дом и я.
2
Начальник заставы дает приказания.
Повар Егоров чувствовал: тут что-то не так!
Была ли на заставе наглядная агитация?
«Можешь убить джейрана?»
Лена, жена полковника Шугова Павла Афанасьевича.
Мы въехали в услужливо распахнутые перед нами железные ворота, где расквартировывался штаб отряда. Телохранители поспрыгивали со своего студебеккера. Это были ребята на подбор, любого ставь к волейбольной сетке, он достанет рукой ее верхнюю часть. Я видел в фильмах: так становятся немцы, когда ожидают из любой дырочки случайного или не случайного выстрела.
— Майор, идите вперед, — произнес тихо, вкрадчиво Берия и стал медленно протирать пенсне платочком, до этого вынутым из кармана. — Вы здесь, надеюсь, уже были?
— Был, Лаврентий Павлович. — Железновский легко выпрыгнул из машины и, оправляя на ходу одежду, подтягивая ремень, пошел вперед, не глядя на то, следуют ли за ним или нет. Берия следовал. Он шел не спеша, не глядя по сторонам, не видя даже своих телохранителей — лишь обозревая их ноги, обутые в хромовые сапоги, у всех голенища — «в гармошку».
Железновский легко вбежал по ступенькам лестницы. Они были новенькие, сделали вчера. Семь ступенек. Берия их преодолел без одышки, одним махом. Я шел за ним.
В коридоре стоял полковник Шмаринов. Видно, профессия разведчика не позволила ему встречать начальство там, во дворе.
Берия подошел к нему, пожал руку, потом выдернул ее из крепкой руки полковника, похлопал того по плечу и с укором сказал:
— Вот где мы встретились, Шмаринов. Ты думал, не встретимся?
Берия пристально изучал лицо, всю фигуру полковника. Что-то во всем его облике и нравилось, и не нравилось. Все вокруг молчали. И Берия продолжал бесцеремонно изучать Шмаринова.
— Не постарел, — сказал он, — не стал хуже, полковник.
Обошел со всех сторон.
— Устал. Устал, конечно. Это так. Все устали. Это видно.
Махнул рукой на охрану, и она пружинно оттеснилась к воротам, будто ее не стало.
— Я говорю, ты молчи, полковник. Доехали хорошо. Аэродром тоже хорош. И у тебя все хорошо. Ступеньки сделали новые. Подмели, полы вымыли…
Берия все что-то хотел сказать Шмаринову еще, но продолжал изучать его, и тот стоял не шевелясь, сдержанно молчал, точно ожидая, когда гость скажет главное.
— Скажи откровенно, — Берия подошел вплотную, — думал, не встретимся? Только откровенно? Я, к примеру, когда-то встречи ждал. И очень ей рад, этой нашей горькой встречи. Я рад ей, пусть и такая она.
— Я тоже очень рад, Лаврентий Павлович! — Полковник заговорил искренне, голос его даже дрогнул.
— И я теперь рад. А тогда… Тогда ты уходил от меня — я не был рад. Я печалился. Почему такой офицер уходит от меня?
— Вы же помните, Лаврентий Павлович, было назначение. Я не перечил.
— Но я же тебя спрашивал: ты хочешь остаться? Ты ничего тогда не сказал! Обидел меня! Но — ладно! Кто старое вспомнит — тому глаз вон!.. Веди, полковник: к этому сосунку, к этому начальнику заставы! Что он тебе говорит? Что хорошая была наглядная агитация о бдительности на заставе?
Шмаринов пожал плечами. Берия улыбнулся по-хорошему, махнул рукой:
— Узнаю тебя, Митя. Слов на ветер не бросаешь. Да и что теперь этот ссыкун скажет? Только станет просить, чтобы и жену не расстреляли с детишками… Сколько у него детей?
— Пятеро.
— Ого! На заставе света, что ли, нет? Работает сам? Или кто-то помогает?
— Все там нормально, — сдержанно ответил Шмаринов.
Начальник заставы, отец пятерых детей, был на удивление малюсенького роста. Лишь голова большая, круглая. Он сидел в углу тридцатиметровой комнаты, в комнате было всего четыре стула и стол. Именно на нем, на чистой скатерти, принесенной из столовой, покоилась эта круглая неудачливая голова тридцатилетнего, уже, кажется, всего повидавшего и вдоволь нажившегося теперешнего, уже не начальника заставы, а подсудимого старшего лейтенанта Павликова.
— Встать! — повелительно скомандовал Шмаринов.
Павликов поднял голову, тяжело встал и вытянул руки по швам.
— Медленно встаешь, солдат. — Берия сморщился. — Да какой ты хрена начальник заставы, если не можешь быстро встать?
— Я не спал двое суток, товарищ Лаврентий Павлович.
— Гляди, узнал? — Берия рассмеялся. — Несмотря на то, что много не спал, а узнал. — В тоне его теперь улавливалась снисходительность. — Чего скажешь в свое оправдание, старший лейтенант? Покайся!
— Мне, товарищ Лаврентий Павлович, не в чем каяться. Я службу нес всегда достойно.
— Сколько же ты служишь?
— Я служу уже четырнадцать лет.
— Тебе сейчас сколько?
— Пошел тридцать первый.
— Иисусу было тридцать три. Ты не подумал, что следствие по такому случаю может затянуться на годика два? Тебе будет как раз тридцать три, когда приговорят к стенке.
— Не за что, товарищ Лаврентий Павлович. Он приехал — как комендант. Перед этим уведомил. Я…
— А почему он приехал? Ты спросил?
— Начальство не спрашивают. Начальству докладывают.
— Но это, старший лейтенант, граница! Это — не базар, куда идут покупать яйца. Что он тебе сказал, когда говорил, что приедет?
— Он не объяснил по телефону цель своего приезда.
— А ты, что же, так и не спросил? Товарищ комендант! — спросил бы ты. — Почему вы хотите приехать ко мне на участок? — Я — что? Плохо служу? Или у меня было нарушение границы? У вас было нарушение?
— Не было.
— Видишь! — Берия резко повернулся к Шмаринову и Железновскому. — У него не было нарушения! Видишь! — Он их, двоих, Шмаринова и Железновского, видел за одного. — У него не было нарушения. И он позволил коменданту приехать и развести антимонию! Он к тебе на заставу заходил?
— Заходил, товарищ Лаврентий Павлович.
— И что он тебе хорошего сообщил? Ну говори! Говори!
— Если точно…
— Ты думаешь еще говорить не точно?! Говори совсем точно!
— Я уже говорил, товарищ Лаврентий Павлович!
— Брось это свое «товарищ Лаврентий Павлович!» Говори дело!
— Я уже говорил, что он слегка пожаловался…
— На что он слегка пожаловался?
— На семейные обстоятельства, това… На семейные обстоятельства.
— Он — что? Тебе — ровня? Ты с ним дружил?
— Нет. Он приехал, вы же, наверное, знаете, полгода тому назад в отряд.
— Это я и без тебя действительно знаю.
— Он посмотрел на моих детей и сказал, что…
— Что он сказал? Что?!
— Что был бы счастлив иметь хоть одного ребенка…
— У него не было ребенка? — Берия резко повернулся к Шмаринову. — Вот в чем дело, подлец! Не имел детей! Не имел родины! Не имел настоящих друзей! Приезжал и жаловался таким начальникам застав, у которых голова большая, как арбуз, а ничего существенного в смысле бдительности не варит! Ты дурак, старший лейтенант! Как только он ушел от тебя, ты бы послал ему вслед своих этих всех пограничников! Раз он затосковал, значит, не наш! Значит, что-то плохое задумал! А ты сидел, сидел, как клушка, около своих детишек и радовался, какой ты счастливый! Ох, какой я счастливый! Даже этот комендант, который видел большой город Ленинград, учился там, приехал сюда на высокую должность, но несчастливый человек! Он одинокий! А я герой-отец! У меня дети плодятся, как кролики! Слушай, а не мешают ли тебе дети нести настоящую пограничную службу? Они не кричат, когда ты спишь? И ты сонный идешь по тропе, чтобы других уличить в плохой службе! Ты сам плохой! Пусть его уведут! Пусть приведут тех, кто о нем что-то хорошее скажет!
Берия плюхнулся на стул и закрыл рукой пенсне. Он сидел так долго, вроде задремал. Старший лейтенант Павликов, испугавшись гнева начальства, вышел на цыпочках, сухонькое его тело с висящим на животе ремнем боялось потревожить даже воздух, в котором еще стояли длинной очередью слова, произнесенные гневно, государственно. Шмаринов тоже не шевелился. Как и я. Как и Железновский.
— Кто там еще? — Берия неожиданно поднял голову.
Никто не заметил, только он, что за дверью стоят люди, и только он ждет их и только он может ими распоряжаться.
— Пусть заходят! — приказал Берия.
— Лаврентий Павлович, — Шмаринов нагнулся низко, по-рабски, — там обед… Готов… Обед готов…
Берия поднял еще раз голову:
— Митя, какой обед, когда допросить их надо! «Обед!» Хорошо тебе рассуждать! А у меня… У меня, Митя, тут болит. — Он постучал по сердцу. — Какие кадры! Ну дерьмо, дерьмо, Митя! Хорошо, что я вам доверил! Когда мне сказали, что ты здесь… Я и на охрану махнул рукой! Если Митя тут, значит, тут есть охрана… «Обед!» Еще пообедаем! Зови! Они топчутся за дверью, как слоны!
— Говоришь, Егоров фамилия?
— Егоров! Ефим Егоров! То есть… Рядовой Егоров!
— Ты не дрожи, Егоров! Ты чего дрожишь?
— Я? Я не дрожу… Мне чего дрожать? Я не начальство. Я лишь обед варю… Я, Ефим Егоров… Обед варю! И спросите! Все всегда довольны. Мною всегда довольны. Это так.
— Ты в свой котел еще мяса сто пудов толкаешь. И довольны тобой!
Берия снял пенсне и с любопытством рассматривал неуклюжего толстого Егорова.
— Вон ты как набил свою кизю! Посмотри! Пупка, пожалуй, не видишь? Повар! А, знаешь, какой инстинкт самосохранения у твоего брата? Когда басмач нападает на заставу, как правило, повар остается в живых. Спрячется в своей кухоньке. И сидит… У тебя было такое ощущение, что случится на заставе беда?
— В каком смысле? — Глаза повара осоловели, он подумал: теперь можно отличиться. Но что же сказать в ответ? Чтобы понравилось?
— В каком смысле? Ну в человеческом… Ты подумал, когда угощал коменданта: а что-то не так!
— Вот вам крест — подумал! — Поварские лисьи глазки ласково раскрылись, и он радовался, что придумал ответ. — Я же… Я и не угощал его! И тогда сразу подумал: что-то не так! Начальство, они приезжают весело, чтобы было… А этот… Даже не притронулся ни к чему! «Э-э, брат! — подумал я. — Да у тебя гроб висит в душе! Что-то ты приехал к нам не с радостью…»
— Видишь! — воскликнул Берия, одевая снова пенсне и в упор разглядывая теперь Егорова. — Этот… Этот распознал… А тот, с большой головой, начальник его, не распознал!
Берия стал носиться по комнате и хвалить Егорова, на ходу постукивая его порой по крутому жирному плечу. Так надо относиться к пограничной службе! Бдительность, бдительность, бдительность! Насчет наглядной агитации… Смеемся. А была бы настоящая наглядная агитация о бдительности — не посмел бы комендант, который учился в академии, был пропущен через сито, улизнуть на сопредельную сторону! Сейчас бы мы сидели рядом и этот повар готовил бы котлеты из джейранины!
— Ты можешь подстрелить джейрана? — остановился Берия резко перед испуганным таким напором радости начальством.
— Мо-огу! — заверил Егоров.
— Видишь? — Берия опять обращался к двоим — Шмаринову и Железновскому. — Может! А тот лысый индюк не распознал! Он, уверен, не может убить и джейрана!
Потом Берия буквально вытолкал Егорова. И допрашивал уже замполита Семяко — длинного худющего лейтенанта с угреватым лицом. Кричал и ему о наглядной агитации. Не все сделано в этом плане! Не все проработано! И в первую очередь — виноват, значит, замполит! Имея такого многодетного начальника заставы, замполит обязан был тянуть лямку за двоих. Ежедневно надо было бы, как молитву, твердить о бдительности. Ни на минуту не упускать из виду этот вопрос…
Где-то в четыре часа был подписан Берией приказ (об этом мне сказал, придя вечером в редакцию, Железновский): разжаловать до рядового начальника заставы старшего лейтенанта Павликова, разжаловать до рядового лейтенанта Семяко. Дело их передать в военную прокуратуру. Вместе с Павликовым и Семяко под стражу были взяты еще семь человек: старшина заставы Вареник, сержанты Енгибаров, Король, Строев и Зиннатулаев, а также младший сержант Урузбаев и ефрейтор Самвелян. Все они служили на заставе по шесть лет срочной. Никто из них не имел дисциплинарных взысканий.
— Ты молодец! — Железновский развалился в редакторском кресле. Вовремя ты умеешь исчезать.
Я действительно сумел уйти вовремя и незаметно. Только они пошли на обед, я выскользнул из помещения, где производились допросы. Охрана придирчиво меня оглядывала, несмотря на то, что видели меня.
— Ладно, пусть топает, — сказал один из них, старший. — Он был там, с самим.
Я бы не сказал никому, тем более Железновскому, кого я увидел, выходя из ворот штаба. Это была та самая женщина. Та самая. Та самая, с которой я танцевал. Которую увел от Железновского. Я думаю: он мне этого не простил. Я думаю также: он тянется ко мне потому, что я победил его в поединке. Он привык к легким удачам. А тут натолкнулся на сопротивление. Поединок окончился не в его пользу. Я таких, кому проигрываю, не люблю. Но Железновский оказался добрее. Лучше меня.
Я наблюдал за ним. Он все качался в кресле редактора, рассказывал, что отобедал лишь чуточку, а потом занялся делами охраны. Я же должен понимать: все идет спонтанно, на быструю руку. Не дай Бог, что-то случится! Тогда действительно всем, всем… Тогда… Как этого большеголового чмура — к стенке!
— Почему ты так говоришь? Что, его уже — к стенке?!
Мне до боли стало жалко начальника заставы — это худенькое, бедненькое создание, невинно втесавшееся в разговор с начальством, стало уже жертвой? Но говорилось же только об отстранении от должности и разжаловании?
Я давно поднял голову от рукописи, которую должен был сдать в набор еще день тому назад: мой редактор совсем отключился, страх заполнил его душу.
— А я разве сказал, что к стенке? — заулыбался Железновский. — Тебе послышалось. Ты же отключен, читаешь.
— Послушай, все-таки ты серьезно говорил? — Я встал, подошел к нему. — Не мог же я ослышаться. Сперва ты сказал о разжаловании, а потом вдруг о стенке.
— А тебе это не все равно? — Он стал раскачиваться в кресле размашистее. — Чего ты так ерепенишься? Чего прыгаешь?
— Вы зачем меня брали? Почему?
— Людей не хватает, сударь. На безрыбьи и рак рыба. — Он издевался.
— Вот так, майор! «Давай дружить! У меня тут — никого-о!» А потом приходит и говорит: я пообедал, я отобедал… Лишь чуточку! А того-то чмура — к стенке!
— Чудак! Я знал, главное, что ты такой! Я и взял тебя — как летописца. — Железновский вдруг хихикнул. — Ну кто еще потом, по-отом расскажет человечеству, как меня, к примеру, забросило в этот вонючий край шакалов? Кто расскажет, кроме тебя, моему дорогому предку, как я, необузданный и чаще смиренный, живу сегодня, снова болтаю языком? И меня, бывшего подполковника, работающего на генеральской должности, допрашивает сопляк, который ко всему испортил мне однажды такой чудный танцевальный вечер? Он хочет знать о стенке! Но, мальчик, — держи и ты язык за зубами. Даже Шмаринов, который вроде любит тебя, не спасет от твоего языка и истерик! Даже он сморщился, наблюдая за тобой во время допросов. Ведь на твоей простецкой роже все было написано. Ах, как ты был против всего! Что-то появлялось у тебя и другое на роже! Может, мол, меня постеснялись не били? Заносит уже вас, мой друг!
— Ну говори еще, говори! Конечно, я — рожа! Я дергался, когда… Впрочем, я не знаю, как у вас бьют, не был у вас еще…
— Успокойся, даже если бы ты захотел — не били бы! Обычно стараются пешечки. Они и выбивают потроха, когда начальству не отвечают толково.
— Ты меня запугивать, что ли, пришел?
Железновский резко встал с кресла. Все же он был красив, этот Железновский. Он был строен, широкоплеч, высок ростом. Почему она пошла со мной, а не с ним? Что же он хочет теперь от меня? Он ее уже допросил? И что он ей в самом начале говорил? Позвольте, полная вы арестантка сегодня! Ваш муж — беглец. Мы все падаем с ног, улаживая его бегство. А что же вы? С кем — вы? Может, с такими неотесанными газетчиками, жалеющими все и вся? Тогда — отвечайте за все сразу.
Он догадался, о чем я думаю. И, стоя уже на выходе, в дверях, проговорил устало:
— Ладно! Пошел ты!.. Главное, чтобы ты знал, пока жива и здорова наша женщина… Ты о ней стал думать?.. Сразу после стенки?
— Ты еще и циник… Думается так, как не ожидаешь. Я действительно думал и о ней, и о нас.
— Мне бы сейчас твои заботы! Летописец ты летописец, найдешь ли ты когда-то все это сырье, которое варится, варится. И она, и он — тут. И мы — тут. И твой разлюбезный Шмаринов, который был дураком и останется таковым, тут…
— Не лезет в душу начальству, как ты? — укусил я.
Железновский смерил меня презрительным взглядом:
— Чучело ты. Человек и живет для карьеры. Он же, этот твой волейболист, ушел от такой могучей силы, от такой крыши! Ну и пусть хлебает свой жиденький супик! За что?! Ну за что?! Ведь все равно — все подпишет! Каждый листик, каждую телеграммку здешнюю! Праведник! А телеграммки-то, летописец! Такие телеграммки! Поглядел бы ты на них. Не стал бы и расспрашивать…
Через много лет я в архивах нашел три телеграммы: они относятся к тому приезду Л.П.Берия в наш тихий городок, стоящий на самой границе.
Первая телеграмма.«Москва. Совершенно секретно. Спецотдел погранвойск СССР. Передать лично И.В.Сталину. Мною на месте сразу по приезде выяснены подробности утечки материала. Первые данные указывают на следующие обстоятельства. В первую очередь, на данном участке границы существенно ослаблена бдительность. Суду подвергнуты все задействованные в боевых порядках ранее лица. Расстреляны начальник заставы и его заместитель по политчасти, до десяти лет каждый получил сержантский состав. Представлен к награде из рядовых некто Егоров Виталий Федорович. Он предупреждал начальника заставы, что намечается политическая акция на участке границы, который охраняет застава. Все пограничные войска на этот час сменены и расформированы.
БЕРИЯ».
Вторая телеграмма.«Москва. Совершенно секретно.
Спецотдел погранвойск СССР.
Передать лично И.В.Сталину.
Даю личную характеристику материала, ныне не подвластного мне.
ШУГОВ ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ. Призван на пограничную службу в 1937 году. Рядовой, курсант, офицер. Образование — высшее, военное. Окончил с отличием академию семь месяцев тому назад. Направлен кадрами сюда, хотя подозревался, как и многие, на курсе. В учебном заведении, где проходил службу Шугов П.А., был выкраден Боевой Устав. Выкрадка постраничная. Устав был в руках и Шугова, что свидетельствует о причастности его к постраничной пропаже целого Устава. В Москве мною даны указания тщательного расследования причастных лиц, назначивших полковника Шугова комендантом, а также присвоившим ему очередное воинское звание. На месте, тут, к материалам, компрометирующим несколько старших офицеров, давших беспрепятственную дорогу к безнаказанной деятельности коменданта, добавились многочисленные данные. Версия ухода коменданта из-за семейных тяжелых обстоятельств тщательно мною проверяется. Жена полковника Шугова находится под арестом; сняты первые показания, связанные с пребыванием ее мужа на учебе, и тут, в качестве коменданта. Материалы обобщаются. Я доложу о них лично по приезде.
БЕРИЯ».
Третья телеграмма.«Москва. Совершенно секретно. Спецотдел погранвойск СССР. Передать немедленно лично И.В.Сталину. Нашими компетентными контрразведывательными органами, и мною лично, раскрыта преступная группа врагов Родины. Под личиной жены майора интендантской службы Соловьева скрывалась Соломия Яковлевна Зудько — фашистская прислужница, работавшая в войну в концлагере. В ее доме обнаружены тайники с радиоаппаратурой, деньгами советского и зарубежного производства, шифры и всякие иные принадлежности, которые свидетельствуют о полном их противоправном назначении.
Компетентными органами в качестве доказательств представлены многочисленные фотографии, где Зудько выступает как на первом плане, так и на теневых. Фотографии показывают расстрелы советских людей, их захоронения пленными. Зудько на каждом снимке — в фашистском мундире. Здесь, на приграничной полосе, она свила клубок вражеского отребья. Это бывшие полицейские Плинов и Силаев. В настоящее время они взяты под стражу. Признались, что, работая на железнодорожной станции, имели главное задание: во время столкновения на границе сделать так, чтобы не подать под военную технику войск железнодорожные вагоны. С ними заодно был и начальник станции, недовольный строгим режимом приграничной железнодорожной сети и ее работой. Ведем следствие. Муж Зудько разжалован за то, что отвергает все предположения, называет их сфабрикованными. Он „не признает“ на фотографиях свою жену. Говорит, что это совсем другое лицо. Хотя экспертиза полностью разоблачила шпиона Зудько, работающего, как она призналась на допросе, на американскую разведку.
БЕРИЯ».
Конечно, тогда я не знал, что такие телеграммы все-таки идут, я мало верил Железновскому. И даже больше — их посылают мои недавние друзья по школе сержантов артиллерии и взводу радиотелеграфистов: мы там научились кое-чему. Один из них приходил потом в редакцию, что-то говорил мне. Я не понял. Я и потом не мог представить, почему попал тогда в одну машину с самим Берия (хотя о нем так сильно не говорили в то время, такого не было), присутствовал при допросе, почему был выбран на роль помощника Железновского. Скорее всего, воля случая. Я встретил Железновского, ничего плохого не сделал ему тогда там, на танцах — лишь увел женщину. Не его женщину. Почему он после этого хотел подружиться со мной? Не знаю, не знаю.
Я после его ухода заперся в редакции. Я начинал тогда писать повесть. И писал ее медленно, придумывая шут знает какие ситуации. Я и не представлял, что за окном моей редакции была настоящая, очень страшная, трагедийная ночь. Людей брали тихо и шумно. Никто ни о чем и не догадывался. Военный городок обычно живет и тихой, и шумной жизнью. И особенно шумной, когда объявляется тревога. Офицеры, посыльные снуют по городку с фонариками, без них. Каждый спешит куда-то. Женщины, дети спокойно привыкли к этому, они спят, не волнуются или волнуются. И все это — жизнь приграничного военного городка.
В ту ночь брали людей, куда-то везли.
Никто не кричал, так как в военных городках никогда и никто не кричит. Все привыкли к тревогам, к маршам, вызовам.
Я отложил свою писанину. Я стал думать: почему Железновский так всегда неровен? Рожа! Я привык защищать себя кулаками. Я бы дал ему по роже — но это может пахнуть и военным трибуналом. В конце концов, не знаю — что хочет Железновский. Но, может, у него такое же заданьице в отношении меня. Как заданьице на танцах. Заданьице в отношении женщины, которую он, как уверяет, любит.
И для меня она была женщиной. И я не сказал о ней и о себе многого. Тем более, этому Железновскому. Что от того, что я тогда победил с ним в соперничестве? Что от того, что она пошла танцевать со мной, а не с ним? И что от того, что я пошел ее тогда провожать и ни разу не сказал об этом Железновскому?
Я тогда шел с ней рядом. И не помню теперь, о чем тогда говорил. Я был нахальным зайчиком, наверное. Я тогда много читал. Из меня сыпались цитаты; память была четкой, стремительной. Я мог цитировать целые прочитанные страницы. Я участвовал в школе сержантов артиллерии в художественной самодеятельности. Читал лучшие, как мне казалось, на то время, стихи со сцены. И девчата из военторга всегда встречали меня словами хорошими, даже пытались иные из них повторять строки, которые запомнились им лишь потому, что я якобы их преподнес. Я еще и пел со сцены. Наш капельмейстер Шершнев, несмотря на то, что я написал как-то, еще не будучи работником редакции, фельетон о его музвзводе, который, приходя в парк, где отдыхали семьи офицеров и сами офицеры, сачковал, выдвинул меня запевалой в сводном хоре. И вроде здорово получалось у меня «Во поле березонька стояла».
Наверное, я был высокого мнения о себе. Я болтал, наверное, чепуху, красовался, был последним трепачем. Женщину, которая шла тогда со мной, звали Леной. Она снисходительно поначалу поглядывала на меня, чижика, чирикающего не свои песни. Я этого не замечал. Видно, я был законченно самоуверен и оттого безнадежно глуп. Но отрезвляло меня то, что она была совсем другая женщина. Я видел их уже много и они походили не на волны на море — хотя и одинаковые, но романтичные, а на нудные песчаные дюны, где хозяйничает афганец: все одинаковые, все изъеложенные языком ветра, все в рябинках.
Меня завораживал запах ее духов. Волосы у нее были длинные, жгуче черные, глаза большие, синие, нос у нее был прямой, лоб белый, какой-то весь широкий, умный. Я описываю по своим тогда представлениям. Довольно скудным портретным мазком я даже и на капельку не приблизился бы к описанию истинной ее красоты. Я просто не понимал ее этой особой красоты, которую, конечно же, понимал сын генерала. Я просто еще не ходил с такой женщиной. Я просто еще не знал таких духов рядом, их запах был густ, первозданен, как свежий первый иней в прекрасное зимнее утро.
Мне тогда казалось, правда: красивее такой женщины на свете и не бывает. Теперь я могу еще сознаться: я был в то время, кроме всего, брошенным: мой бывший редактор, до Прудкогляда, майор Назаренко, переведенный на должность редактора армейской газеты, имея пятьдесят лет от роду (если сорокалетние для меня были старики, то Назаренко дед-дедом!), увез машинистку Валечку, женившись на ней законным образом. Валечке было тогда двадцать. Мы в праздничные дежурства, когда из Москвы принимали приказы министра обороны, целовались тайно в коридоре. Она предпочла старика, а не меня.
И теперь этот снисходительный взгляд женщины, в которую я опять же, позабыв недавнее поражение, влюбился на танцах сразу же, казался мне вовсе и не обидным: кто пережил измену, тому такие взгляды уже не страшны.
Я будто нечаянно касался теплой руки Лены. Я еще не знал, что ее муж уехал в командировку, я вообще не знал, что у нее есть муж; я не знал, что она ведет меня к себе, в свой дом. Я не знал, что за нами, когда мы вошли в ее двор, наблюдают многие окна. Она же не предавала этому значения.
Все дома нашего городка были тогда одноэтажными. Строили эти дома когда-то, еще в том веке, немцы. Строили добротно, казарменно. И мне казалось, что, идя по коридору, я никогда не пройду его до конца. Коридор был длинный-длинный, вдали лишь, в самом его конце, тускло горела лампочка. Возле нее вилась какая-то мошкара, и от этого было еще темней.
Она остановилась в конце коридора, повернулась направо, и стала искать в сумочке ключ. Замок вскоре щелкнул. Я спросил:
— Мне можно?
Она кивнула. Я шагнул в темную, пахнущую такими же духами, как пахла и она сама, комнату…
Мне вдруг захотелось пойти к Железновскому. Пойти и кое-что ему рассказать. Сказать, как все чисто и светло бывает. И как нехорошо он сказал о женщине. Он сказал, что я ее расспрашивал, а он будет ее допрашивать. Но если любишь, — разве можно допрашивать? И почему он такой? Почему он так сказал? Ну я — рожа! Я ничего не стою. Но он же там, напившись, в той палатке, говорил о какой-то женской особенности. Он говорил, что женщины в любви никогда неподсудны, что им дарено свыше всепрощение. Они не ходят по земле, они плывут на волнах добра, их несут ветры над землей. Потому все — что они украшают все. И они дают счастье всем — детям, цветам, мужчинам.
И теперь он ее допрашивал, забыв про то, что она тоже плавает над землей, не греша. И она не виновата, что любила, а он, ее любимый, оказался не тем, кого она выпестовала в своей душе…
Мы обменялись с Железновским адресами еще тогда, в разгульной палатке, когда целуешься со всеми углами и, конечно, с возникающими фигурами людей. Потому я нашел его быстро. Железновский оказался дома. Он встал и двинулся в мою сторону.
— Летописец, а-а! Сколько страниц поправил?
— Ни одной, — сказал я холодно.
— Так ты себя всегда переписываешь?
— А ты видел мои рукописи?
— Видел. Размашисто переписываешь. — В его голосе появилось что-то, еще более раздражающее. — И размашисто они ее теперь допрашивают… Ты не представляешь, как распирает меня ревность. Убил бы всех за нее.
— Ты действительно ее любишь? — Мы сели с ним за стол.
Железновский опустил руки на спинку стула, нагнулся и мучительно выдавил:
— Мальчик!
Отпрянул легко от стола, правой рукой потрепал мой чуб и вздохнул:
— Ты когда-нибудь по-настоящему любил?
Теперь я поднял на него глаза:
— Конечно. Я любил здешнюю машинистку. Я чуть не сбесился, когда она уехала с нашим бывшим редактором.
— Самолюбие просто, — махнул он рукой. — Что там в ней, этой Валечке? Я как раз приехал, видел ее у вас, когда приходил к вашему редактору.
— Ты что и за нас отвечаешь?
— Ну ты даешь! Все-то ты знаешь! Все! Хорошо, что уеду. Иначе тебе бы несдобровать.
— Значит, и ты все знаешь про меня.
— Знаю. Ты же все написал. Отец погиб в сорок третьем. Хотя документа нет. Мать, правда, отсудила у государства, что муж ее считается умершим.
— Выходит, и сестры мои не воевали?
— Нет, сестры воевали. Одна из них замужем за Героем Советского Союза. Это тебя и спасло, когда ты шорох поднял в противотанковом дивизионе, не хотел полы мыть. Оружие на офицера поднимал?
— Поднимал. Офицер меня ударил.
— Доказал бы ты! Скажи спасибо, что тогда нашли под подушкой эти фотографии. «Братику от сестрички и ее мужа!» — Железновский помолчал и неожиданно предложил: — Хочешь к нам? Или — не хочешь?
Почему-то я давно был готов к этому. На это мне давно намекали. Но Назаренко когда-то сказал мне: «Никогда к ним не ходи! Даже в волейбол играть на их площадке не играй!» Я много раз потом вспоминал его эти слова и благодарил. Потому спокойно ответил Железновскому:
— Я по своей дороге пойду.
— У нас тоже можно писать.
— Это тебе кажется.
— Неужели ты не хочешь иногда помочь? Неужели ты теперь не хочешь ей помочь?
— Как? — глянул я на него. — Скажи.
— Это наша забота, а не ее. Ведь она тогда тебя чаем поила… — Он, как всегда, ехидно хихикнул. — Снизошла! К вашей персоне лично… А ты сидишь и от всего отказываешься! — Неожиданно застонал, вихрем снялось это хихиканье, уплыл издевательский, насмешливый тон: — Ее же, ее!.. Ах, как больно! Уеду, а помнить этот час буду!
— Они тебя отстранили?
Железновский взял меня за руку и повел к порогу, на улицу. Небо было темным. Как всегда, во все дни моей тут службы, на горе возвышался Романовский крест. Кто-то сегодня зажег на нем лампочку. И он освещался.
Железновский, оглядываясь, сказал почти шепотом:
— Я ударил, да! Но… Это — капля… Сейчас там они кричат, эти остальные ребята. — Опять оглянулся. — Какие все-таки ребята! Никто, понимаешь, ни-к-то, — он произнес это слово по буквам, — не раскололся. Я представляю таких, когда они служат! Нет, даже у нас народ дрянь по сравнению с пограничниками.
— Их пытают? И пытают ее? Это же несправедливо! Разве виноват начальник заставы, что ее муж сбежал? Разве…
— Да заткнись ты! «Разве, разве!»… Ты же летописец. Неужели не соображаешь? Что бы он сделал, приехав из Москвы? Он должен все раскрыть! Жертвы при таком госте нужны!.. Сними шапку!
— Зачем?
— Ну сними свою фураню, говорю тебе!
Я в недоумении снял фуражку.
— Нет уже головастика, понял, писака! Понял?! Понял, спрашиваю?!
Я постоял на месте, потом надел фуражку и пошагал к штабу отряда.
— А ты говоришь — к вам! — цедил я сквозь зубы. — Ты говоришь… И говоришь — любишь! Ты все говоришь!..
Железновский ничего не отвечал. Шел за мной. Он понимал, куда я иду. Я только не понимал, куда иду. Я иду к начальнику заставы? Или к его осиротевшей вдове? Куда я иду? Иду к женщине, которая меня очаровала запахом духов?.. Почему она так взглянула на меня, когда я, увильнув от обеда, увидел ее там, у ворот штаба? Почему так горько и печально она посмотрела на меня? Чем же я ей могу помочь теперь?
Железновский вдруг меня притормозил.
— Слушай, не будем нарываться на скандал. Мы и так слишком выперлись. Нас просто… не поймут!
3
Полковник Шмаринов меня предупреждает.
Записка от Лены.
Железновский достает «дело Шугова».
Вдова начальника заставы Павликова.
Я потом не раз благодарил судьбу за то, что повстречал в тот вечер Шмаринова. Есть люди, которые дружат по-мужски крепко, не слюнявятся, а делают в самый нужный час то, что следует делать, чтобы у тебя не слетела с плеч голова. Шмаринов был из таких людей. Мы с ним, люди разного положения — он полковник, я старшина — молча, стиснув зубы, бились на волейбольной площадке, когда играли за сборную дивизии. Игроков стоящих было раз, два и обчелся. В позапрошлом году нам дозарезу нужна была победа, чтобы прорваться на армейские соревнования. Победа, впрочем, нужна всем. Шмаринов был тогда, как говорили у нас в спортивной дружине, на подъеме.
— Надо их сделать, ребятки! — говорил он про радиолокаторщиков, которые, живя где-то в горах, спускались к нам, в долину, чтобы «наставить нам рога».
Я был в тот год капитаном команды, шумливо вел себя на площадке, дергал порой то одного игрока из своих, то другого. Все это видели, но прощали мне — видно за то, что как-то «везуха» была с нами, а победившего капитана уже не судят.
Перед игрой с радиолокаторщиками Шмаринов меня предупредил: «Ори поменьше! Сцепи зубы и играй! Веди примером!» Он предупредил меня — как старший по возрасту и как старший по званию. Я не обиделся. Тон у него был братский. Я действительно сцепил зубы, и у нас с Шмариновым получалось. Я ему выкладывал мячи, как на блюдечке, а он бешено, неустанно резал. Я сам порой бил с левой. И у нас с полковником несколько раз получалось: эта неожиданная комбинация, когда мяч взмыл над сеткой, ждут третий удар, а я бью со второго, бью колом, перед носом растерянных охранителей неба. Они в замешательстве от первого, второго, выигранного тобой очка, в третий раз начинают выяснять отношения — кто должен страховать меня, в четвертый и пятый — уже бранятся. А ты вроде притих, вроде стал незаметным, а Шмаринов дает первый пас тихонечко, ты лениво, но стремглав взмываешь вверх и бьешь, бьешь, а то вдруг откидываешь ему, своему лучшему, любимейшему в эти секунды партнеру, а этот партнер хочет убить их, шестерых, на той стороне площадки…
Вот тогда, поймав игру, мы, наконец, их повергли. И мы с Шмариновым впервые обменялись взглядом, наверное, как профессионалы. И было нам обоим понятно, что мы вытянули игру вдвоем, что ребята, вдохновленные нами, тоже старались, как никогда. И они были нами довольны. И мы довольны ими, может, тоже по-настоящему, впервые.
На подъеме Шмаринова (так мы окрестили наш взлет) мы тогда легонько прошли корпусные соревнования, заняли первое место, и лишь на армейских споткнулись в последний день на каких-то музыкантах — ребятах, по-моему, уже тогда готовых сражаться, может с самим ЦДКА.
Я не знал, что Шмаринов опекал меня. Я был горяч, несдержан. Я шел, как мне говорил майор Прудкогляд, против ветра. А это все равно, что идти безоружным на нож, — подчеркивал он. Шмаринов (я узнал об этом значительно позже, от бывшего политотдельца майора Кудрявцева) замял «мое дело» с «шпионом-писарем», вздумавшем описывать характерные привычки командного состава нашей дивизии. Тогда выплыла и шла рядом история, которая до сих пор и для меня остается загадкой. История с моим отказом мыть полы, история, когда командир батареи ударил меня, а я в ответ одним прыжком достал заряженный автомат (у нас в дивизионе не было тогда караульного помещения и оружие хранилось в казарме, где мы жили. А на мой грех, перед этим наряд сменился, автоматы были поставлены: ребята, простоявшие на морозе четыре часа, бросились в свои койки и «не застегнули» оружие проволокой и замком) и потом лежал с ним, автоматом, до утра, удалив предварительно из казармы батарейного (я его на виду у всех «положил» на пол и заставил ползти к порогу, что он и сделал).
Железновский был, конечно же, точен, когда объяснил, что мое неподчинение «скатилось» на тормозах только потому, что у меня под подушкой нашли свежий конверт, письмо от сестры и фотографию, где она была снята со своим мужем Героем Советского Союза. Мало ли их, героев, в ту пору шли по тюрьмам за провинности, подрывающие основы железного порядка, установленного в стране-победительнице… Спасибо Шмаринову. Он в свое время, не зная меня, уговорил подполковника Брылева, командира нашего дивизиона, не придавать огласке факт неподчинения солдата и рукоприкладство офицера: дивизию и так в то время лихорадило какими-то проверками. Меня тогда забрал в «придурки» замполит майор Олифиренко, я три месяца варил ему борщи, подметал в его холостяцкой квартире… А затем попал в школу сержантов артиллерии курсантом.
Шмаринов, как рассказывал мне Кудрявцев (я уже был офицер, учился в Ленинграде на высших курсах политсостава), взял на себя и «мое дело» с нашумевшим к тому времени шпионом-писарем в самом штабе дивизии и, видимо, после того, как мы в комсомольском бюро подготовили на этот счет документы, отредактировал их в нужном русле.
И теперь мой добрый коллега по волейбольной площадке, сразу как-то постаревший, сошедший с лица, полковник Шмаринов встал грудью на мою защиту. Я не послушал Железновского, когда он стал уговаривать: нас просто не поймут! Ну и сиди, поворачивай! — крикнул я ему тогда. И — попер опять прямо к штабу, тому штабу, где была уйма этих придурков-охранников, этих, окруживших здания, танков. Куда я прорывался? Безумство мое было диким, смешным и глупым. И Железновский поддался ему. И даже, когда попятился назад, сказал — просто не поймут — и я все-таки пошел, он пошел за мной. Только потом, через годы, я потом-потом понял, что ему все это стоило идти с пацаном, которому когда-то все сошло с рук в противотанковом дивизионе! Он любил Лену. Он ее любил. Потому и шел.
Правда, мы шли с Железновским с большим уже отрывом. Мы шли все к штабу с еще неосознанной целью — то ли выручать женщину, в которую были оба влюблены, то ли кому-то сказать: так нельзя, так нельзя!.. А что — так нельзя? Почему — нельзя? И соображаем ли, куда прем?
Шмаринов остановил меня резко. У него всегда была сильная правая.
Он видел наше настроение. Мне показалось, что он в эту минуту больше зауважал Железновского. В мою сторону Шмаринов глядел с какой-то болью и сарказмом.
— Чижики!
Это было значительным ругательством Шмаринова. Когда мы проигрывали, он всегда говорил: «Чижики!»
Железновский опустил голову и пробурчал:
— Я же ему говорил!..
— Чижики! — Шмаринов не отпускал мою руку. — Ну вы… — Он обычно называл меня на «ты». — Вы этого не понимаете… А ты, Железновский, ты-то должен понять… Во-первых, тут все — инкогнито! Вы поняли? Вы, оба? Не вижу, что поняли. — Больно сжал мне кисть руки. — Не поняли, чижики! Следовательно, вы не ехали, вы не встречали, вы не видели аэродром, вы никуда не выезжали… Тем более, не шли никуда…
— Я не понял, о чем вы говорите. Что значит, мы не видели аэродром?
Железновский растерянно смотрел на своего шефа.
— Майор, в городе идут аресты. Вы это хотя бы знаете?
— Не врубился… — Железновский заморгал глазами. При свете луны это было видно.
— Пили, майор? — Шмаринов заскрипел голосом.
— Нет, он не пил, — заступился я за Железновского.
— Помолчи! — раздраженно прошипел Шмаринов. — Майор, ну это — чижик! — Кивнул опять на меня. — А ты… — Он, кажется, повторялся, однако он был взволнован, видел, что мы стараемся не понять его. — Вы сунетесь сейчас… Что вы придумали — не знаю. Но сразу попадете! Точнее, он попадет. — Снова кивнул на меня. — Вы Соловьева знаете? — Шмаринов обращался ко мне.
— Соловьева, Соловьева… — Я это пробормотал, ничего, собственно, не понимая.
— Майора Соловьева. Интенданта! Знаете? Ну с женой его где-то в самодеятельности пели?
— Знаю, — просветлел я умом.
— Дома у них были когда-нибудь?
Я сразу ответил, что не был. Я и в самом деле никогда там не был.
Шмаринов зашипел:
— Марш! Марш в казарму! Бегом! Бегом!
Железновский будто очнулся:
— Дмитрий Васильевич, а если…
— Никаких — «если!» — рубанул полковник рукой. — Никаких! Пусть сидит — как мышка!
Я что-то начал понимать.
— Его взяли? — спросил зловеще. — Соловьева?
— Не твоего ума дело! — оборвал меня Шмаринов. — Беги!.. Погоди… Тебе тут кое-что передали. Прочтешь — и сожги.
Я шел, а не бежал. Я всего теперь боялся. Я понимал, что мой славный партнер по волейболу в эту минуту думает и обо мне. Что-то может со мной случиться. Я до этого не раз читал: обычно-то все случается с теми, кто участвует в событиях. Я — участвовал. Я встречался, я видел, я ехал, я уже где-то, пожалуй, трепался. Значит, я — трепло. Я не оперативный работник СМЕРШа. Это главное. Я — чужой человек. Я варился в этой чаше. Потому знал. Что-то знал. И многое знал. И Шмаринов прав. Я должен бежать, а потом лежать на своей солдатской койке. Среди солдат я солдат. Я слишком далеко зашел в своей вольнице. И за это я расплачусь. Как же останется без меня мама? Что будет с братишками, если меня теперь же, тоже обвинят, заберут? Докажу ли я, певший с ней, с этой дурой, дуэтом очередную модную песенку, что я с ней ни о чем больше не говорил? Что я им скажу в ответ, если они мне станут втолковывать, как втолковывали начальнику заставы Павликову то, что они хотели ему втолковать? И этому лейтенанту, замполиту, и этим всем остальным, наверное… Они же не слушают! Они же только говорят сами! И говорят глупо, предвзято, без всякой логики!
По спине моей поползли мурашки. А если они уже ждут меня? Все узнали и ждут?
Нет, тогда не стоит идти в казарму! Не стоит!
Надо идти куда-нибудь… И спрятаться… И пусть-ка найдут! Они все инкогнито. И я буду жить инкогнито. Убегу. Спрячусь. Не найдут. А то замордуют и заставят во всем признаться. А в чем признаваться? Но они скажут: вы давно спелись и потому молчите, не раскрываетесь!
Я шел около штаба дивизии. Вдруг меня кто-то окликнул. Старшина Кравцов! Он был до этого близок. Мы с ним проворачивали дело по защите этого писаря-шпиона. Кравцов был всегда мягок, у него круглое добродушное лицо всегда по-бабьи жалостливое. Он тогда страдальчески выставлял свое это лицо, когда на только что отшумевшем собрании остались одни члены бюро, которым поручили составить все документы и сказал:
— А шут с ними! Пусть выгоняют! Дослужим и в части!
— Чего это ты решил, что выгонят? — спросил кто-то.
— Так в омут лезем. Закроют все выходы потом. И все закроют.
— Что — все? — опять последовал вопрос.
— Все… И институт, и продвижение по службе…
Он тогда уже знал все. Я же был романтик. Я пер напропалую. А он шел в омут. Кравцов был лучше меня. Сильнее меня. И теперь он был лучше меня, потому что, испугавшись, наконец, я не представлял бы, как мог в таком положении его пригласить к себе. А старшина Кравцов взял меня за плечо дружески, при свете лампочки его лицо было сегодня суровым, губы сжались:
— Идем ко мне!
— Зачем? — поначалу не понял я.
— Скажем… в случае чего… Комсомольские дела приводим в порядок.
— Зачем? — Я непонимающе все глядел на него.
— Так надо… Так мой начальник сказал.
Начальником у него был полковник Матвеев. Наш начальник политотдела. Я запомнил однажды его на стрельбище, когда получил уже офицерские погоны и был срочно из редакции вызван на стрельбище. Матвеев стрелял с обеих рук. Стрелял в две мишени. В одной из пятидесяти было сорок два очка, в другой — сорок три. Его потом, когда я уже учился в Ленинграде, обвинили в многоженстве. Хотя у него была одна жена. Может, были другие женщины. И, может, та, которая написала в политуправление округа, претендовала на его любовь, но, говорят, он тут был ни при чем.
Мы зашли в уютный кабинет, хорошо обставленный небольшими картинками патриотического характера («Переход Суворова через Альпы», «Полтавская битва» и еще что-то), и стали копаться в бумагах.
— Ты побудь тут, — сказал через некоторое время Кравцов, — я сбегаю в туалет. Чаю надулся сегодня…
Мне уже давно жгла боковой карман бумажка, которую передал полковник Шмаринов. Лишь только старшина вышел, я сразу достал ее.
«Дорогой мальчик, зеленый огурчик! — читал я с бешено колотящимся сердцем, ибо эта записка пахла теми же духами, от которых у меня кружилась голова. — Я пишу тебе наспех, и ты, умненький стилист, не ищи моих ошибок. Я передаю эту записку, верю в это, с надежным человеком. Прочтешь — сразу уничтожь ее. Ж-ский вверг тебя в опасность. Как огородиться тебе? Я имею в виду — огородиться от этой опасности? Не знаю, не знаю… За все то, что вы пережили с Ж-ским, не прощается. Тебе надо впредь — и долго! — не высовываться и жить с оглядкой. Больше идти на компромиссы. Не разобъешь, мой мальчик, лбом эту каменную стену! Я пыталась. И что из этого вышло?
Не надо тебе пояснять, в каком я положении. Ты умненький. Сам догадаешься. Я жена сбежавшего к врагу человека. Что мне делать — покажет время. Но я не сдамся. Я хочу жить.
Передай Ж-скому, мой мальчик, что… не получилось! Не вышло! Так, значит, тому и быть!
Прощай, мой зеленый огурчик!
ЛЕНА».
Кравцов глядел на меня с порога. Его бабье широкое лицо выражало любезность и одновременно тревогу. Он не спросил меня, что это я так внимательно читаю. Не спросил и тогда, когда я стал прятать записку в боковой карман.
— Я, пожалуй, пойду! — сказал я.
— Ага.
— Ну пока?
— Пока.
— Саша, спасибо тебе за все, — сказал я. — И за то… Ну с этим… И…
— Я бы тебе не советовал сейчас идти… Хотя… Не знаю, не знаю! Тоже — чего сидим? Чего? Еще и в штабе? Нашлись стратеги…
— Верно. Прощай.
— С Богом.
Я поглядел на него с недоумением. Мы тогда так и говорили.
…Я знал, где найду Железновского. Я пришел как раз вовремя. Он укладывал чемоданы.
— Видишь, уезжаю, — сказал Железновский спокойно и тихо.
— Вижу. Мне нужно дело Шугова, Игорь.
— А еще тебе ничего не нужно? Может, тебе дать данные о моем новом шефе?
Он отложил в сторону чемодан и неожиданно сказал:
— Впрочем, пока здесь — успеешь?
— Успею.
Железновский с дна чемодана вытащил толстую папку, взял из нее самую тонкую папку и подал мне.
— Только не понимаю, зачем тебе?
Я взял папку под мышку и стал доставать из бокового кармана записку.
— Возьми. Тут и о тебе.
Железновский, удивленно глядя на меня, взял записку, развернул, долго читал, потом сел на табуретку.
— Спасибо. Я Лену люблю. Ты проницательный парень. Давно усек, что к чему. — Он, наверное, не помнил, что говорил в пьянке о любви к ней.
— Да, я догадался давно, — схитрил, будто никогда у нас не было разговора о Лене. Еще тогда догадался. Пойти со мной и потанцевать — это одно, а пойти и быть любимой… — Я не сказал опять ему о палатке, о недавних его словах о Лене. Он — что? Он не помнит, что говорит?
— Ты думаешь, что она меня любит? Нет, нет! Эта каша у Шугова из-за нее. Только из-за нее! Она никого не может любить. Только играет.
— И ты говоришь, что любишь ее? — не выдержал я нашей игры.
— Люблю, — стал ерничать он. — Но уже не так. Любить, когда она жена коменданта, — это одно, — засмеялся он, — а любить, когда она жена врага народа — совсем другое. Ты разве это не ощущаешь? — Теперь мне уже не казалось, что он передо мной не хочет себя связывать с ней.
— Что-то есть. Но что-то и тянет. — Я тоже решил ему подыграть.
— Видишь! А я — серьезно говорю… Хотя… Серьезно многие говорят… В том числе и я. — Железновский саркастически ухмыльнулся. — Ну — читай, читай! А то не успеешь. За мной вот-вот придет машина… — И неожиданно одарил: — Ты теперь уже за себя не бойся.
— Так у вас? Обещание — так твердое?
— Так, так! — отмахнулся от меня Железновский.
Я долго помнил наизусть, знал потом жизнь предателя Родины полковника Шугова Павла Афанасьевича. Потому что всегда было надо сопоставлять эту жизнь с жизнью Елены Мещерской. Как складывается она, жизнь, рядом с ней? Почему так, а не по-другому? Любовь вначале. Идет в них, идет рядом. Любовью дышат двое. И постепенно, как из прохудившегося мешка, высыпается золотая россыпь любви. И вот уже нет этой россыпи, одна пустая мешковина…
Он, Шугов, родился…
Я жадно вчитывался в листки, которые аккуратно были подшиты один к одному, пронумерованы и прошнурованы, и составляли папочку, заведенную на человека, дослужившегося до полковника и сменившего мундир свой на заграничный костюм.
Рождение… Так… Это обычно… Место рождения? Это тоже обычно. Тысячи людей рождаются в деревнях, ходят потом в школу, хорошо учатся. Они обгоняют друг друга в учебе. Но так распорядилась директор школы, некая Анна Ивановна Синюхина. Она настояла на том, чтобы самое почетное звание первого ученика было отдано не Шугову, а Елене Мещерской. Правда, принята в школу недавно; но — уважительная причина: отец ее не выбирает место жительства — этим ведает партия. Зиновия Борисовича Мещерского недавно единогласно избрали секретарем райкома партии; в районе этом и находится школа, где с успехом, оказывается, занимается Елена Мещерская — дочь секретаря райкома.
Все шло у Шугова по накатанной… Но — стоп! Почему же вмешалась директор школы и переиграла первого и второго учеников? Оказывается, не все так гладко в биографии Шугова (фамилию его Елена Мещерская так и не взяла). По сигналу, пришедшему со стороны, Синюхина, когда речь зашла о якобы подтасовке документов на звание первого и второго учеников, вынуждена была доказывать, что у безусловно способного, даже очень способного ученика — так, не гладко, не гладко. Его дед ссылался, как кулак. Правда, ссылался на самый короткий срок — вроде ошибка. Но ошибки, ее ведь так не бывает. Дыма без огня не бывает, как и огня без дыма тоже не найдешь. Дед не сразу поступил в колхоз, волокитил, был молчун. Потому внуку и досталась роль второго ученика.
Я быстро осилил тексты (сокращенные) трех писем, клеймивших позором единоличника Афанасия Афанасьевича Шугова. Отец однажды на колхозной сходке якобы буркнул соседу, что, мол, дошли до хреновой жизни и как из нее выпутаться, уж и не знаешь. На что сосед, мол, ему резонно заметил: жидковаты люди стали, и ты, в частности. Твой отец, гляди, на пуп подымает все, а ты только и норовишь чуток приподнять.
При проверке, правда, оказалось, что отец говорил не о самой жизни в круговом порядке, а о председателе колхоза, который — раздолбай и работать не умеет. Вскоре слова отца подтвердились: председателя уличили в жульничестве, отдали под суд и загнали туда, где Макар телят пасет. На письме том и резолюция: оказался, сволочь, прав! За язык бы — привлечь. Да нету повода!
Я похохотал над откровенной резолюцией. Может, какой шутник ее подмахнул, чтобы избавиться от лишнего копания и в бумагах, и на месте событий.
Еще было несколько «но», тревожившее кадровиков. Но им оставалось лишь коротко, в некоторой мере разумно к жизни полковника Шугова все пришпилить, зафиксировать. Мне показалось, ими, этими «но», пренебрегли в известном училище, куда поступил после окончания школы будуший полковник. Здесь шли о нем отличные характеристики. Между прочим, помогал поступать в это училище Шугову Зиновий Борисович Мещерский: аккуратные довоенные кадровики не могли избавить документы будущего офицера от личной и письменной просьбы секретаря райкома партии — де, знайте, если мы ошиблись в нем, Шугове, то первый повод к ошибке преподнес нам партиец с солидным стажем.
Впрочем, кадровики не дремали. К личной просьбе в письменном виде Мещерского была прилеплена докладная какого-то Иванова, который свидетельствовал, что у партийца Мещерского — заинтересованность в Шугове: прочит он свою дочь в жены нынешнего курсанта. Резолюция на докладной Иванова гласила: «Присмотреться! Проследить!» И позже, когда Шугов все-таки женился на Лене Мещерской, на резолюции Иванова добавлена вторая резолюция: «Ничего страшного, просто хорошая семья».
Есть еще одна докладная по этому поводу, она появилась позже. Кто-то писал по поводу женитьбы, увязывая в ней накрепко Мещерского, так и работавшего первым секретарем райкома. Отца, — писал аноним, — дочь беспокоила своей тихой и непримиримой (так Мещерский выражался в узком кругу, и это зафиксировано) оппозицией. Секретарь райкома и в то же время отец своей дочери вытащил ее из такой компании, где (далее все подчеркнуто красными чернилами) проповедовалась неприятие режима, что существует уже не только на одной шестой части земли. Аноним писал, что немало стоило отцу усилий, чтобы дочь осталась как бы неприкосновенной.
К этому времени относится еще одна докладная некого Петренко, помещенная в деле тогда курсанта Шугова. В докладной рассказывалось, как последний, курсант Шугов, приезжал в родной город в отпуск. Здесь Мещерский вплотную, оказывается, взялся за замужество дочери. Здесь, впервые серьезно, одноклассники как бы заново познакомились. Мещерский признался, что по просьбе дочери, посылал в училище письмо и ходатайствовал о зачислении способного юношу в училище, чтобы иметь в кадрах Красной Армии достойных людей. В докладной говорилось (это даже подчеркивалось) о якобы несправедливости по отношению молодого человека при распределении наград первого и второго учеников.
Сообщалось в докладной, что после отъезда курсанта Шугова в училище зачастили в его адрес письма от Мещерской. Петренко намекал, что за курсантом теперь потянулась ниточка причастности Мещерской к сомнительным компаниям, всевозможным высказываниям. Петренко подчеркивает, что Мещерский пытается как-то уберечь и курсанта, и свою дочь от мутного (так и сказано) потока прошлого, но он тут бессилен что-либо сделать: его власть районного масштаба не распространяется на дальние расстояния.
Петренко в отдельных трех листиках, приложенных к рапорту, выпестовал вину Мещерской в прошлом. На первом листике, озаглавленном «Проказы», говорилось, что Л.Мещерская по-прежнему, несмотря на то, что пишет письма Шугову, вольно ведет себя, ходит на всякие вечеринки, иногда пьет вино, иногда целуется с чужими мужчинами. Когда она танцует, то плотно прижимается к телам мужчин, иногда кладет голову на их плечи. Мужчины перечисляются на листике фамильно. Особенно часто упоминается второй секретарь райкома партии — «женатый человек».
Второй листик посвящен джазовым увлечениям Л.Мещерской. Они не прошли, продолжаются.
Третий листок утверждал все-таки связь Л.Мещерской со вторым секретарем райкома. Шли детали.
Нет, ничего, оказывается, у нас не забывается. Неужели так исследуется жизнь каждого? Курсант Шугов с отличием оканчивает училище, докладные следуют за ним. Он стал офицером, и это отмечено в коротких докладных. Негатив собран, чувствовалось, наспех, им была напичкана папочка. Шугова направляют служить на границу. Леночка едет вместе с ним. Вдруг пошла безупречная служба. Положителен! Положителен! Как из рога изобилия сыпались благодарности и награды. Ему ни разу не задержали присвоение очередного воинского звания. И быть бы ему генералом, не случись такой вот страшный финал в его карьере.
Это зрело все-таки (или так теперь выглядела скромная жидковатая в общем-то папочка). Четыре доноса не по бывшим коллегам, с которыми Елена Мещерская общалась, прикладывались ныне к судьбе ее мужа, но касались только ее деяний. Шугов вовлекался в «негатив» через посредство опрометчивости своей жены. Два доноса касались его ревности.
Вот они, я их тогда успел выписать.
«Доношу до Вашего сведения, что 23 февраля на вечеринке у старшего лейтенанта Шугова я наблюдал следующее. Жена Шугова, одетая не совсем прилично, — ее тело просвечивалось сквозь материю и было, как вскользь бросил капитан Пионтик, великолепным, на замечание мужа, сделанное им на кухне один на один, заразительно засмеялась и сказала: „А я хочу, чтобы меня пожирали глазами! Я чувственная женщина, и мне приятно, когда на меня жадно глядят“. Шугов, слегка уже опьяненный, резко отреагировал. „Ты всегда была проституткой. Твой отец был не глуп, сплавив тебя в военный гарнизон, где все видны — как на ладони. Если бы тебе большой город, ты бы смогла легко обслуживать половину города“. Лена Шугова бросила в последнего тарелкой. Он ее, как жонглер, поймал. И тогда на кухню вошел капитан Пионтик, попытался сделать из этого всего юмористического свойства представление. Этот факт свидетельствует о ненормальной обстановке в семье пограничника-офицера Шугова. Прошу принять к сведению.
СЕРЫЙ».
«На первомайской маевке, у моря, три офицера и их жены (Куликовы, Светлановы и Шуговы) вели фривольный разговор о том, что в последнее время нравы стали падать. Шугова засмеялась и сказала: „А почему это кого-то должно волновать? Неужели нет другой работы, как лишь заглядывать в замочную скважину и наблюдать: кто как и кто с кем?“ Светланов заметил, что для офицера-пограничника и это важно. Мораль должна быть внутри человека: мало ли что кому хочется? Следует придерживаться коммунистических заповедей. „В чем они? — уже серьезно спросила Шугова. Не в том ли, что кое-кто, проповедуя всяческие моральные кодексы, сам пытается потихонечку обнять чужую жену за талию“. — „К тебе всегда лезут“. — Капитан Шугов нахмурился и настроение его улетучилось. — „А ты запри меня в клетку и оттуда показывай своему начальству. Все вы, мужики, отчаянные лгуны. Только помани вас пальчиком — кто бы вы ни были пограничники, чекисты, политотдельцы — вы распустите, как петухи, свои хвосты и — вот уже сражены!“ — „У вас было много поводов, чтобы обвинить в моральном падении всех воинов?“ — сказал обиженно Светланов. — „Ой, не зарекайтесь! Захочу — и вы как щенок поползете к моим ногам“. Это жена Шугова сказала уже тогда, когда ее муж ушел от компании.
Таким образом, все мною услышанное лишний раз свидетельствует, что в любую минуту жена офицера Шугова может нарушить нашу советскую мораль, сделать из любого воина морально-неустойчивого человека, который меньше всего будет думать о выполнении своих уставных обязанностей.
МЕРИДИАН».
Ну что ты так долго возишься? — спросил меня Железновский. — Не пора ли кончать? Все равно нигде не пристроишь, — заухмылялся, как всегда.
— А вдруг наступит время и о таких будут рассказывать? — Я говорил это уже на ходу, неся ему папочку.
— Никогда! Это ты заруби на носу! Никогда!
Майор Железновский спрятал папку опять на самое дно чемодана и, выпрямившись, поглядел на меня снисходительно:
— Ты не спросил — почему?
— Почему?
— Потому что каждый второй из вас — в таких папках. Писали! Каждый второй, учти! А на кого писали… Эти злые! Открой все папки — друг друга погрызут.
Он ошибался, Железновский. Открыли папки, и мир не рухнул, и люди оказались — не звери. Всепрощенцы, эти люди. Всегда верят, что все плохое проходит, а хорошее остается с ними. Плохое, — говорят они, — забывается. Забываются доносы, пасквили, оповещающие человечество о вреде там, тут, рядом, далеко. Все плохое, записанное в бумажках, весом в миллиарды тонн, хранится теперь в тайниках, и ничего, выходит, оно не значит для добра, заложенного самой природой в человеке.
За окном загудела машина.
— Ты не провожай! Провожать запрещено даже полковнику Шмаринову. И нигде ни звука — кто тут был и что тут было.
— Ты уже предупреждал, — сказал я спокойно. — Ты любишь предупреждать… Что сказать Лене?
— Не беспокойся. Она едет с нами.
— В качестве кого?
— В качестве… А впрочем, какое твое дело? О ней я тебе уже все сказал. И о себе в отношении ее тоже все сказал.
— Завязал? Чтобы — ни пятнышка, ни капельки на мундир?
— Ну допустим. Я же тебе объяснил, что существует понятие карьеры. Для тебя это ноль-ноль целых, ноль-ноль десятых.
— Я обделен? Судьбой?
— Неужели ты так ничего и не понял, летописец? Вашему брату, этим срочникам, которые служат уже по шесть лет, карьера закрыта. Неужели ты этого еще не понял? Взяли вас в шестнадцать, сейчас вы молоды — всего по двадцать три. Но шесть лет — не догонишь. Хозяин тебе ответил насчет службы. В царской армии служили по двадцать пять. И ничего! Для вас еще медные котелки делают! Какая карьера?
— Вы только… Только генеральские сыночки! Новая элита! Вы!
— Что-то в тебе есть, милый, за что не хочется погнать по этапам! Но когда-нибудь наткнешься… Я бы тебе показал — генеральские сыночки! Да ладно! Живи!
— Доберешься еще. — Я озверел. — Не поленись тогда добраться сюда из столицы.
Железновский придвинулся ко мне чуть ли не с кулаками:
— Ты что, действительно считаешь, что все, в том числе и я, законченные суки? Дал бы я тебе в рожу, да драться ты умеешь, скот! Подкрасишь — неудобно перед начальством. — Он вдруг по-доброму засмеялся.
— Все-таки — о ней? В каком качестве Лена едет?
— Я тебе уже сказал. Какое твое дело?
— И какое мое дело? И какое твое дело?
— Принципиальный, зануда!
— Ну, конечно, не к тебе же она шла, когда я выходил, перед вашим этим общим обедиком, из штаба отряда?
— Может, ее вели… Чтобы снять очередные показания… — Он по привычке оглянулся, он стал самим собой. — Ты что, всего не переварил, что случилось?
— Многое из того, что случилось, я не понял. Не понял!
— Ну и скажи себе спасибо, что не понял. Иначе кто-то бы тебе помог, чтобы ты все сразу понял. За женой интенданта Соловьева зашагал бы с песней. Что не пошагал, за это благодари Шмаринова.
— И тебя, конечно.
— Может меня — в большей степени, придурок.
Я набычился, замолчал. Потом мне пришла ясная мысль о продолжении всего, что идет, и о том, что это продолжение уже его, Железновского, не касается. Он уедет, забудет все. У него карьера. Он хитер, изворотлив. Он даже меня готовил к тому, чтобы о нем я никогда не говорил плохого в связи с женой сбежавшего коменданта. Железновский не обижал Мещерскую! Он будет ехать, сопровождать ее, сделает вид, что никогда с ней не танцевал, никогда в палатке не говорил о своей любви к ней. А я останусь здесь. Мне — заслон перед карьерой. Мы опоздали. Поезд уехал наш. Они учились, эти все. А мы шесть лет, изо дня в день занимались шагистикой. Напра-аво! Нал-л-ево! Часовой — есть лицо неприкосновенное! Стой, кто идет! Разводящий со сменой! Стой, стрелять буду!.. Проклятье! Жалость, жалость, жалость!
Но я сказал, о чем думал:
— Пустит меня Шмаринов на заставу Павликова, как ты думаешь?
Он от двери уже ответил:
— Это он уже будет решать. Без моей подсказки… Впрочем, вы братья по волейбольному оружию. Почему бы ему не подтолкнуть тебя к виселице? — И издевательски усмехнулся: — Прощай, газетчик! Молю тебя, не дай Бог интересоваться всем тем, чем ты интересуешься в таких дозах. Сбрасываю все на нервные перегрузки. Пашешь-то за двоих. Редактор твой каждый день портки стирает от страха…
Я ему сразу же все почему-то простил. Ведь не замел же он меня? И ведь он там, в палатке, когда отключился, был человеком. Ведь он говорил там по-другому. На нашем человеческом языке говорил. Сейчас он — карьера. Мчится к ней. Но все-таки говорит. Со мной говорит. Что для него я в сравнении с ним? У него — крыша! Какая крыша! А я? Я остаюсь один на один со своим трусливым редактором. И — никого более. И впереди непроверенно-длинный срок службы. И Романовский крест над головой. И афганец-ветер. И тоска смертная — Лена уехала! Лена уехала!
— Счастливо, Игорь! — мягко, как можно мягко сказал я ему, не посадившему меня вместе с женой интенданта Соловьева. — Не поминай лихом. И не думай, что я такой дурак, чтобы болтать языком и в чем-то копаться. Это серьезно.
Он поглядел на меня долгим, изучающим взглядом и дружески помахал мне рукой.
— Слушай, — порывисто вернулся. — Не надо уверять, что завяжешь с разбором этого всего, что было. Сам же поедешь на заставу… Зачем же хитришь… Нас же, каждого из нас, не переделаешь! И не все же мы подонки. Эти ребята… Впрочем, я тебе уже говорил! Но неужели ты думаешь, что это не урок?.. И пойди к ним, оставшимся. Пойди! И передо мной не стелись. Ты другого уверяй, что не станешь копаться. Мы все — идиоты и будем копаться, хотя это очень страшно. Ты еще этого не знаешь!
Дверь хлопнула, потом, под очередное гудение машины, хлопнула калитка.
Шмаринов сразу согласился: поезжай. Он снабдил меня документом, посадил в машину, которая спешным порядком отправлялась на заставу Павликова.
— Выйди-ка на минутку, — когда уже загудел мотор, сказал он.
Я быстро выскользнул из кабины. Мы отошли от всех.
— Знаешь, зачем я согласился так быстро? — спросил Шмаринов. — Ведь семья Павликова там. Обычно в таких случаях… Да хоть подыхай!.. Да что там говорить! — Он махнул бессильно рукой. — Катей ее зовут. А малышей не помню. Ты сам уже довези ее. Тут я буду стараться…
В машине со мной ехало новое пополнение — ребята крепкие, но какие-то уж больно, для взгляда солдата, прослужившего столько лет срочной, неотесанные. Форма на них сидела неуклюже, топорщилась. На все мои вопросы, однако, они отвечали односложно, увиливая от прямых ответов. Кто-то с ними поработал по всем пунктам этого недурного для военных слова — бдительность. Они были бдительны, насторожены. И во мне даже, человеке, которого посадил в машину полковник, как они поняли, старший тут, подозревали чужака, которому ни в коем случае доверяться нельзя. Что тут произошло, они толком, пожалуй, не знали, но чувствовали: произошло немаловажное, раз их так быстро обмундировали, выдали автоматы и винтовки и спешно везут на машине куда-то далеко, в пески.
Полулунные, серповидные очертания барханов показались вдали. Мы ехали к ним с наветренной стороны. Вытянутые по ветру «рога» приблизились прямо к колесам машины, бугристые пески шли теперь и справа, и слева. Они, эти «салажаточки», притихли, перестали даже сморкаться. Были среди них русские, один с Байкала. Когда задул афганец, это перед тем, как я сел в машину, он сказал, что у них баргузин — так то ветер, а этот, мол, южный, весенний — чепуха — перетерпим; были среди них грузины, один тоже что-то сказал про влажные тропические ветры и растения… Были армяне, азербайджанцы… Они, оказывается, из школы сержантов. Не доучились. Всех подняли. И едут сменять, как в войну, своих побратимов…
На заставе был один повар Егоров и семья старшего лейтенанта Павликова. Когда остановилась машина, я спрыгнул первым и пошагал к домику, где, по моим представлениям, должны были находиться квартиры недавних тутошних офицеров.
Меня резко перенял Егоров.
— Что-то начальства большого нет, товарищ старшина? — заискивающе заблеял он козленочком. — Может, вы решите вопрос? Я ить вас видел там, средь начальства крупного!
— А зачем тебе начальство? — сурово спросил я.
— Товарищ старшина! Ить их, то есть жану ево, все одно выселят отсель. А у меня мука клякнет, песком порошится. То ль дело — простор! А у них и стол человечный…
— Ты, что же, хочешь побыстрее выселить их?
— А их самих выселять. Оне — жена врага. И дети еи тоже таковые будут.
Он имел большие руки, они у него скреблись, ползали по засаленным карманам: видно, что-то всегда таскал в них, чтобы вовремя отправить в свой широкий рот с толстыми губами.
— Наверное, старший лейтенант Павликов тебя любил, Егоров. И в обиду не давал?
— Эт точно! — расплылся он в ухмылке.
— Так чего же ты парку гонишь? Или уже невмоготу терпеть в своей кухне? Хорошо же знаешь… Вдруг с сопредельной стороны, пользуясь такой ситуацией, придут сюда ночью. В диких беглецах окажешься. К первому-то — к тебе, в домик хороший. Подумают, что начальство, а?
— Разрешите идти? — нахмурился Егоров. — Шуткуете, товарищ старшина! А мне не до шуток… Я ить в действительности для них, — кивнул на пограничников, быстро выстраивающихся, — стараюсь! И жайранчика кокнул. С первого выстрела, товарищ старшина. И уж посвежевал. А от с лапшой — не больно разгонишься. Я сто раз говорил старшему лейтенанту, что стол нужон. А ен — нетути да нетути!
Я зашел в домик. Жена Павликова сидела почему-то на чемоданах. Детишки все уже собраны. Павликова оказалась маленькой тридцатилетней женщиной, глаза ее выплаканы. Она догадалась, что на этом свете уже вдова, однако последняя надежда, как и у каждой любящей женщины, в ней теплилась. И, увидев меня, понимая хорошо в званиях, понимая, что я, старшина, не могу ей помочь так, как она бы хотела, все-таки поднялась с чемодана и, заглядывая мне в глаза, спросила:
— Что с моими Сашенькой? Вы знаете?
Я сел на табуретку. Она была сработана надежно, крепко. И семья тут стояла и жила надежно и крепко. И вот — случай. Случай этот все решил вмиг. Все зависело от одного слова человека, который приезжал даже не на заставу, где все произошло, а в город, инкогнито. Сейчас он мчится к себе, в Москву, охраняемый молодцами в хромовых сапогах, и Игорь Железновский тоже обслуживает его вместе с этими молодцами.
С ними Лена?
Ах, Лена, Лена! Игрунья Лена!
Где теперь твой муж, жизнь которого в деле, в той папочке, — как на ладони?
Что же ты, Лена, сделала, что он ушел от тебя не просто к другой женщине, а туда, к чужим женщинам, к чужим людям?
Почему так вышло? Кто в этом виноват?
Ничего так и не ответил я Павликовой. Я вернулся к размещающимся пограничникам и вскоре нашел старшего из них — лейтенанта Дайнеку. В машине он был до того скромен, что не претендовал даже на то, чтобы ехать вместо меня в кабине. Правда, может он бы и захотел поехать в кабине, но, видно, увидел полковника, который там распоряжался и выделил меня на роль отмечаемого особым вниманием.
Я извинился за то, что Дайнеку вроде оттер. Он засмеялся:
— Ну вот еще! О чем это вы!
Я рассказал ему о Павликовой и ее малышах, все ожидающих решения свыше. Намекнул на просьбу тамошнего начальства — сказал, что в штабе мне поручили позаботиться о них, ну и тому подобное. Дайнека оказался смышленым и добрым малым. Только он спросил:
— А почему же они меня не предупредили?
Законный вопрос. Мне не хотелось подставлять Шмаринова. Вдруг Дайнека кому-то станет говорить и назовет его. Я стал нажимать на его сознание.
— Так будьте без разных указаний человеком, — сказал я. — Оградите ее пока от бед, постарайтесь накормить и ее, и детишек.
Дайнека, конечно же, видел, кто сажал меня в машину, в привилегированную кабину. Просто так не сажают. Он-то это уже понял на службе.
— А все-таки, кто вы такой будете? — поинтересовался он.
— Старшина.
— Это я понимаю, — согласился со мной Дайнека. — Я о другом. Я же солдатам тоже должен сказать, кто тут между ними ходит.
— Я редакционный работник. Организовываю материал для газеты.
— А для какой газеты? Для нашей, пограничной?
— И для пограничной. — Я стал набрасывать на себя важность. — Я печатаюсь широко. — Тут я Дайнеку не обманывал — даже Железновский на подпитьи, в той самой палатке, где была даже газированная и минеральная холодная вода, мне напевал, какой я великий деятель: печатаюсь, мол, безостановочно, нет управы!
— Понятно, — задумчиво произнес Дайнека. — Но все же… Это — как сказать… Произошло тут, конечно, дело нелегкое. И служба новая пойдет…
— Служба-то пойдет. Но людей забывать не надо.
— Ясное дело, не надо. И все же — на виду, однако. Наказание несет всегда и ближний.
— Согласен. Но мне не хочется писать, право, негативное. Еще не так просто во всем разобраться.
Дайнека вдруг озарился:
— Товарищ старшина! В чем вопрос! Или не люди мы? Сделаем! Я лично пока этот домик и не собираюсь оккупировать. Я — с солдатами.
— Ну и договорились по-человечески. Мне поручено забрать семью. А сегодня уж… Приглядите! И за поваром понаблюдайте. Вы за ним приглядите, за поваром, приглядите. — Я специально заострял. — А то у него слишком большие претензии к людям.
— В чем вопрос, товарищ старшина. Повара у нас из своих найдутся.
— Присмотрите за ним. Чтоб жену своего бывшего начальника не обижал, — сказал я напрямую, понимая, что лейтенант еще не совсем точно уясняет, что я от него хочу.
— Присмотрим, — пообещал лейтенант, наверное, только недавно вышедший из училища.
Конечно, в житейских таких передрягах он еще не был и не совсем четко представлял положение вдовы и ее детей. Не останутся же они тут в качестве нахлебников, никто на границе держать их не станет.
Я пробыл на заставе до утра, пользуясь правом газетчика. Обошел все помещение вдоль и поперек. Это было каменное здание, прочно сидящее на земле. Руками пограничников — и в первую очередь волей и энергией покойного старшего лейтенанта Павликова — все здесь было сделано для того, чтобы его подчиненные, которым волей трудного рока приходилось вот уже шестой год коротать здесь свою срочную, жили в приличных по этим временам условиях. Жилые помещения, оставленные личным составом заставы, можно сказать не по его вине, выглядели ухоженными, добротно оборудованными. Здесь были умело сработанные кем-то — здешними бывшими столярами, может, деревянные койки, расставленные просторно; у каждой койке по тумбочке. Они имели теперь вид недостойный для установленного воинского порядка, ибо у иных были распахнуты дверцы, выдвинуты ящики. Кое-что от здешних недавних жителей осталось: бумаги, тряпочки, два разбитых зеркальца, огрызок мыла… Чувствовалось, что сборы к отъезду проведены были наспех, ребят подгоняли…
Меня уже помотало в жизни и по подсобным хозяйствам, где доводилось работать пахарем и извозчиком, и по стройкам, и по солдатским казармам. Я вдоволь напитал клопов, вшей, блох и разную другую нечисть. И я понимал: тут был настоящий хозяин, и очень жаль, что молодой, нерасторопный лейтенант вмиг запустит хозяйство, и станут эти новые люди — сиротами. Вокруг по ночам будут завывать шакалы, афганец станет сыпать песок в солдатскую чашку, кони будут стоять непочищенными и ненакормленными вовремя и день начнется с команд, а не с человеческих слов, означающих истинную заботу о воине.
Лейтенант нашел меня в ленинской комнате, я принес сюда матрац, подушку, положил под голову, чтобы было повыше, старую подшивку газет и в таком положении, скрестив руки от холода на груди, свернувшись калачиком, слушал новоиспеченного хозяина заставы. Ему хотелось домой, как ни странно. Написать матери письмо, успокоить, сказать ей доброе слово, хотя бы, если нельзя домой.
Я подумал о нем так: смешно, и этот салага хочет тут хорошо служить! Впрочем, что же тут плохого, — подумал я по-другому, — если человек вспомнил о доме и матери? О ком же он еще должен думать? О службе-матушке, что ли? Но он еще не умеет служить. Служить умел Павликов. Он научил служить и своего замполита. И тот его не предал. А меня Железновский все-таки может предать. За всю мою эту норовистость. За всю мою… Да хотя бы за все другое! Я удивляюсь, что он, этот лейтенантик, думает о маме. А я? Думаю ли о маме? Нет, я даже подумал: почему он думает о маме? Я зачерствел на этой шестигодовой срочной. Я все позабыл. Я не помню запаха дома. Я не помню улыбки мамы. Я — чужой. Я — ничей! Как это я могу еще сидеть около вдовы? И не тронула меня ее слеза. И я окаменел, потому что каменным меня сделала эта длинная служба, этот вечный Романовский крест, этот злой песок, эта невыносимая жара. Потому… Потому — мы уже не люди. Нам и нельзя делать, Железновский, карьеру. У нас в душе, когда работают шестеренки, песок. Шестеренки крутятся туго. А скорее всего сразу останавливаются. Каменные души! Они не плачут, не дрогнут, когда вдовы сидят на чемоданах…
Но я был все-таки плохой газетчик, потому что небрежно спросил:
— Лошадей покормил?
— А то как же! — обрадованно сообщил Дайнека. — Ты как заглянул туда, я сразу и приказал…
— Извозчиком я был, пацаном начинал.
— Ага, это тоже такое случалось и со мной… Я сразу приказал! А то каждый болтается, а делом не занимается… Ты правда был этим? Конюхом?
— Ну да.
— А как же в газету? Грамота-то… Впрочем — все бывает.
— Бывает, — сказал я.
Он подошел ближе и сел у моего ложа.
— Старшина, старшина! — зашептал. — Не нравится все это мне! Бросили, ушли. Ну нас привели. Ну и что? Это же граница. А, выходит, у нас никакого опыта… Все так бросить, все открыть! Нате и идите!
— Тебя по какому принципу сюда назначили?
— Я всегда покладистый. Не рассуждаю, а — есть!.. Но скажи, старшина, этого-то по тутошним временам мало. Я завтра встану — что делать? Как прочно закрыть эту теперь дыру? Уже мои троих задержали с верблюдами. Что я обязан предпринять — вопрос!
— Тебе сколько лет?
— И лет мало. Всего двадцать для таких дел. Я не верю, старшина, пусть и пишут об этом мало, что не боги горшки лепят. Каждый Бог должен быть в своем деле. Я тебе не Бог, старшина. И ты давеча правильно говорил о негативе. Я — негатив тот самый и сегодня есть тут. Приедешь — я тебя прошу: доложи! Не страшно, мол, что все и непривлекательно. Страшно от назначения… Пошел я, извини!
Дайнека вышел, но вскоре вернулся с шинелью.
— На, надевай. И попрошу тебя… Второй вопрос — жена начальника бывшего. Это вопрос. Отсюда я ничего не сделаю. Ты должен знать, что бывший начальник заставы — сирота. И жена его родилась с таким же счастьицем. По детдомам обитались. Куда им теперь? Вот в чем вопрос!
Мне стало стыдно от своего высокомерия. От своих этих пышных раздумий. Моя вставочка о конюхе и ездовом Дайнеку сделала доступнее. Он думал: старшину сажают в кабинку полковника. Это неспроста. Перед такими держи ухо востро. Но только искренне сказанное для него — раскрыло лейтенанта. Он, оказывается, выше, добрее, умнее.
— Я не знал о сиротстве, — сказал я. — Ты прости меня.
— Детишек! Птенчиков! Я и сам поначалу обрадовался. Если детишки здесь, так не пропадем. А одумался… Никто ее тут жить не оставит, хоть бы кем ее поставил: уборщицей, телефонисткой или там еще что придумал бы. Не дадут ей тут быть. А аул ближний — в сорока верстах отсюда. Там бы пристроить да шефство взять…
Я вспомнил Железновского: всех, всех! Всех!
Всех — под вышку? Всех — под подозрение?
Ее-то в первую очередь.
— А ехать в Россию ей — голодно там.
— Ты в России заканчивал училище?
Он кивнул головой.
— Шефство взять над ней не дадут, — сказал я.
— Скажут, что покрыватель чего-то, твоего наподобие негатива.
— Это точно.
Утром ни свет ни заря прибежал продрогший насквозь шофер, с которым мы все сюда приехали.
— Товарищ старшина! Побыстрее, побыстрее! А то опять к вечеру выедем, гупнемся в темноте в сусличью яму, — не вылезем! А с нами детишки будут. Ночи-то — у-у-у!
— Ты берешь с собой жену начальника заставы? — спросил я его, увидев два чемодана, стоящие рядом с машиной.
— А что ей тут быть? Она ломоть отрезанный, — спрятал он глаза.
— Единолично решил?
— Единолично. — Шофер подошел ко мне вплотную, он изучал меня. — А ты что, не видишь? Небось, один Егоров достанет за всю шушваль… Я ведь все слышал!.. Забросает бумагами… И потому… Все решено единолично. Согласно уставу, конечно. И просьбе ее самой… Я, старшина, сюда езжу давно. Я знаю эту женщину. Вы ей теперь ничего не припишите! Она святая, если детей тут нарожала и в люди их сейчас тянет. Чтобы уехать! Чтобы по сиротским домам их не устраивали потом, после всего, что может быть тут!
— Поехали! — насупился я.
— И смотри, старшина! Не играйся! С огнем не играйся! Чего не надо не пиши!
— Все у нас с тобой насчет ее отъезда совпадает.
Я старался говорить тихо.
4
Первая любовь полковника Шугова.
Елена Мещерская и загадочный полковник Н.
Знакомство с генералом С.
Две небольшие заметки в районной газете.
Поединок Шугова с генералом С.
Встреча с Игорем Железновским в Ленинграде и судьба Соломии Зудько.
Все, что здесь оставалось, это какая-то неправда. Дул неистово афганец в ксерофитном редколесье, древовидный можжевельник плясал на ветру. Маленький арык, протянутый до глубочайшего колодца, из которого уже научились брать с помощью ослика, ходящего по кругу, воду новые жители заставы, засыпало песком и пылью. Небо было мутным, и никакие астрономические приборы и инструменты не могли пробиться туда, наверх, к светлым и желанным в такую погоду облакам.
Я шел к машине. Зачем я приезжал? Зачем так просился сюда? Никто мне не даст написать обо всем этом ни слова. Никто мне не даст написать ни слова в защиту жены Павликова и ее детей… Ах, товарищ шофер! Ах, Федя, дорогой! Знал бы ты, как я стал тебя уважать после того, что ты мне сказал… Но никто не даст написать, что я увидел! Успокойся. Мой цензор Мамчур, да только я заикнусь, где был и о чем думаю поведать, схватится за валидол и взмолится:
— Пожалуйста, и не думай, и не мечтай! У нас нет нарушений границы! И мы служим не на границе. Мы служим в другом районе страны.
Мамчур напомнит мне все грехи, которые я совершил за последнее время, пользуясь его добротой. Я написал недавно материал, благодаря которому стало ясно, где расположена наша дивизия. Думается, всякая разведка уже давно нанесла на карту место дислокации такой громадной части, с шумом и гамом сразу после войны ехавшей из Прибалтики, — там участвовала в ликвидации Курляндской группировки врага, — сюда, в Богом забытый и давно покинутый им край.
Я написал еще и кучу материалов, где привязывалась славная, на войне удачливая, а в мирное время недисциплинированная, на взгляд высшего начальства, часть, теперь обосновавшая свое разветвленное оборонное и наступательное хозяйство на самой границе, в трех километрах от нее.
Зачем тревожиться? Все равно не напишу. Тем более, никогда не упомяну, как мне повезло около Железновского. Как повезло и что я с ним увидел, что пережил в новом аэропорту, и потом, что увидел в дороге, с человеком в пенсне, перед которым — я со страхом потом думал, узнав позже о его необузданной всесильной власти, — дрожали не сотни, не десятки миллионы людей.
В кузове машины я увидел сиротливую стайку Павликовых. Вдова (я ее иначе и не называл — не мог же Игорь Железновский, ради просто словца, сказать о уже свершившемся расстреле старшего лейтенанта Павликова) усадила их полукружием, и для всех у нее нашлось то, что им понадобилось бы в такой трудной дороге, при дующем неистово ветре. Она им закутала глазки и ротики, и когда я попытался с самыми маленькими усадить ее рядом с шофером, в кабинке, она наотрез отказалась покинуть и старших.
— Нет, нет, нет! — испугалась она, не доверяя мне детей.
Мы стали препираться, водитель тронул машину, и я сразу отгадал, почему приехал сюда: увидеть, где все произошло. Увидеть, откуда начинался горький путь Саши Павликова к мертвым пескам, к захоронению, невинному и злому… Что же есть тогда жизнь? — подумал я, кутаясь в плаще, который передал мне лейтенант Дайнека. — Почему так скоропалительно люди распоряжаются и приговаривают друг друга к смерти? Почему они не щадят друг друга? Разве от быстро принятого решения выиграла и без того тяжелая жизнь? И разве не прав лейтенант Дайнека, наговаривая на себя компромат, негатив? Человек покаявшийся не должен быть убитым так, как убит Павликов.
Я оглянулся и понял: мне жгуче интересно, просто по-подлому интересно все. И не по себе было бы мне всю жизнь, если бы я не приехал сюда и не узнал все, что связано с последними шагами человека, который, наверное, очень крепко любил женщину, в которую и мы с Игорем Железновским были влюблены. «Я должен узнать, почему он ушел туда, к чужим! Неужели были иные причины, а не только несложившаяся любовь полковника Шугова, выведенная так искусно кем-то в папочке, теперь покоившейся на дне чемодана майора госбезопасности Железновского?»
Я говорил, я произносил какие-то высокие слова, обязывающие меня быть объективным, честным, чистым. Я не верил, что Лена Мещерская так уж запятнана, что довела своего мужа, полковника Шугова, до измены Родины. Нет, изменить Родине не заставит никакая женщина на свете. Это лишь в книгах, — уверял себя я. — Я давал слово тут, на этой страшной пустынности разобраться когда-то во всем. Во всем, что видел собственными глазами и что в страхе пережил.
Судьба подарила мне это время. Два года спустя, после моего нового назначения, я однажды вечером, предварительно созвонившись по телефону, подходил к красивому двухэтажному домику на окраине одного города. Зиновий Борисович Мещерский сказал, что примет меня на даче, там будет время поговорить, попить чего-нибудь… Сказав, попить чего-нибудь, он почему-то хихикнул услужливо. Выходило так: он ближе ко мне хотел быть, чем следовало. Мещерский не понимал, зачем я иду к нему. Я рассказал вкратце, зачем. Но он хихикал, обволакивал меня шуточками, свойство которых опять же быть со мной на дружеских началах, все, что от него зависит, сделать нашим общим.
Я знал по «Делу» полковника Шугова Зиновия Борисовича. Это он, собственно, свел Леночку, свою дочь, и Шугова. Так, во всяком случае, представлялось мне по тем бумагам, которые я когда-то изучал с помощью и при непосредственной опеке майора Железновского.
Но когда я лицом к лицу встретился с Зиновием Борисовичем, мне показалось, что он — другой, не такой и солидный, — верткий, хваткий, вездесущий. Это был невысокого роста человек, круглый, с животиком. Одет в бархатный длинный халат, у него чуть отвисал дородный подбородок, щеки тоже чуть свисали, они были отполированы хорошей бритвой, блестели, как напомаженные.
— Садитесь, милый, садитесь! Какой гость, какой гость! Марина! Марина! Ты погляди, кто к нам пришел! Марина, он знает Шугова!
Нет, я думал, что в этом доме боятся произносить имя зятя — предателя и шпиона. Они же громко называли это имя. К нам вышла прекрасно одетая женщина, и если бы не потускневшее лицо, чуть усталые глаза не потому что она перетрудилась на работе, а потому, что проходят годы и любая из женщин не подвластна стереть со своего лица эти годы, я мог бы сказать, что это Лена. Однако это была Марина Евгеньевна, мать Лены Мещерской.
Я поцеловал ей ручку, она изящно, чуть играя, подала ее мне выхоленную, уже взятую тем же временем ручку.
…Мне не трудно представить, по их рассказам, как зарождалась любовь Павла Афанасьевича Шугова. Он приехал тогда в первый свой курсантский отпуск.
— Тогда еще не дрались ремнями. — Марина Евгеньевна, сказав так, мило и мягко улыбнулась. — Леночку он защищал кулаками. За Леночкой всегда вилась стайка, этакая приятная струя обожания. — Марина Евгеньевна слово это произнесла с прононсом. — Он, видите ли, тогда впервые в жизни выпил вина. Естественно, когда дрался с мальчишками, ему разбили бровь. Если вы Павла Афанасьевича видели, то заметили — у левой брови, чуть выше идет небольшой, аккуратный в общем-то шрам. Павел остался ночевать у нас в связи с травмой. Вы знаете, что Шуговы живут и по сей день в деревне. Может, это и к лучшему. Их ведь так и не тронули после того, как Павел… — После паузы, проговорив это, Марина Евгеньевна взглянула извинительно на своего мужа, он зачем-то покрутил пальцем в воздухе, снисходительно улыбнулся.
— Это естественно, — опять после паузы поправилась Марина Евгеньевна, — здесь не обошлось без благородного вмешательства моего мужа. Он нашел ход, чтобы их не тронули. Так вот… Павел остался у нас. А вскоре состоялась и свадьба. Я не скажу, что мы свадьбу отмечали напоказ, но около ста персон в ресторане было. На то время это показатель. Шумно, весело, без особых эксцессов мы праздновали замужество своей дочери. Зиновий Борисович говорит, что это был самый счастливый день его жизни. Мы радовались тому, что Павлик стал членом нашей семьи.
Я опущу все детали того, надо сказать, приятного вечера на богатой даче Мещерских. Была великолепная вечеринка с обильной пищей, коньяком, пахнущим для меня лично клопами, была непонятная игра этой красивой сорокапятилетней женщины, с обнаженными нечаянно атласными коленями, округлыми и вызывающе красивыми, причем обнажение было тогда, когда мы музицировали, а Зиновий Борисович, старчески согнувшись — это он так играл, приложив руку к уху, тем самым намекая на свой час сна, поплелся в свою комнату… Пахло теми же духами, как от Лены, и моя кружащаяся голова не могла понять, Лена ли это или всего-навсего ее тень.
Мы сидели почти рядом на пышном диване, Мещерская рассказывала, как Павел приходил домой и выбегал в одних трусах из ванной. У него была великолепная фигура. Почему же он ревновал Леночку? Таким мужчинам не надо ревновать! Они должны быть уверены. Неуверенный мужчина всегда терпит поражение! Это так. Это закон.
— Вы посмотрите на Зиновия Борисовича. Он ушел. Вы молоды, красивы. Но он не ревнует.
— Скажите, — я боролся с желанием взять ее руку и снова поцеловать, но что-то сдерживало меня: то ли то, что в комнату внезапно может войти Зиновий Борисович, то ли то, что я знал Лену и был именно в нее влюблен, где теперь ваша дочь?
— Живет в нашем городе. У нее отдельная квартира.
— Она… замужем?
— Нет, она любит Павла Афанасьевича. Любит по-прежнему.
— Вы можете дать мне ее адрес?
— А вам лучше дам адрес Железновского.
— Железновского?! Он тоже тут? В вашем городе?
— Нет, он в Москве. Вы спросите, почему я предложила вам его адрес, я отвечу. Железновский несколько раз рассказывал нам о всем том, что тогда было. Всякий раз упоминал он при этом и о вас. — Мещерская улыбнулась и погладила мою руку. — Железновский о вас хорошего мнения. Говорит, что из щелкопера вы выросли в порядочного умного писаку.
— Спасибо, — смутился я. — Что же, если не хотите давать адрес дочери, давайте адрес Игоря.
Она неловко встала. Хмель от коньяка ударил мне снова в голову. Теперь только я поверил, что это — Лена. Это она. Она! Я припал на колени и придержал ее за талию. Я поцеловал ее это гладкое бархатное колено, она опустила руку на мою нетрезвую голову и пошевелила в волосах пальцами:
— Ну, ну, ну!
Я отпрянул от нее и знал уже, что больше так не поступлю. Это же не Лена, это же ее мать!
Мещерская, шурша своим богатым убранством, проплыла мимо меня, вошла в другую комнату и вскоре вернулась с блокнотиком.
— У вас есть ручка?
— Да. — Я теперь отводил от нее глаза.
— Ну пишите. Москва, улица Кропоткинская, восемь… Записали? Квартира двадцать четыре. Телефон семнадцать, двадцать один, шестнадцать… Звонят ему обычно около десяти часов утра. Вечером звонить бесполезно. Не дозвонитесь.
Она плавно уплыла вновь, и я вновь был потрясен женской красотой и этими великолепными ее формами, формами этой женщины Лены — Марины Евгеньевны…
— Ведите себя скромненько, — вернувшись, тихо шепнула она мне на ушко, — Зиновий Борисович, по-моему, еще не спит.
— Простите, — забормотал я.
Мещерская махнула рукой и села вновь показательно. Боже, как это… прекрасно! Я мог бы тогда увидеть Лену. Что меня удержало? Я ее тогда любил. Я мог поклясться, что я ее люблю. Я бы… стал перед ней на колени и долго умолял бы полюбить меня. И она не виновата, что Бог ей дал красоту, и она не могла справиться с этой красотой.
— Оч-ни-тесь! — проворковала Марина Евгеньевна. — Видите, как я права! И почему не даю адрес Леночки… Вы же тоже так пойдете к ней. Игорь рассказывал, как вы увели ее от него. Вы соблазнитель. Нужно ли теперь это моей дочери?
— Вы шутите…
— А вот и нет, не шучу. Есть мужчины, которые все могут. Павел был из таких. Он сейчас там, вероятно, соблазняет. К нему идут потоком. Говорят, у таких, как он, там деньги, положение. У них там все проще. Не заглядывают в скважину: а что ты там поделываешь? Это у нас всеобщий аврал, когда к мужчине заходит женщина. Я не нашла слова и сказала аврал. Это всеобщее помешательство. Павел от этого избавлен.
Я вспомнил письма-доносы, слова Лены, которые зафиксировал доносчик. Эти слова — копия теперешних. Научилась ли Лена от матери глядеть на все проще? Однако я произнес:
— Вы говорите злые вещи!..
— Полноте! — Мещерская вдруг похолодела лицом и четко, как бы диктуя мне, добавила: — Запомните, я ничего не боюсь. Я не боюсь при вас сказать, что если бы моя дочь уехала туда, к нему, я бы была счастлива… Вы посмотрите на него! — Кивнула на дверь, куда ушел недавно ее муж. — У него трясутся руки! Улаживание, улаживание… Сколько нужно ума, изворотливости, чтобы жить у нас неприкосновенным!
Елена Мещерская… Полковник Шмаринов еще тогда, в нашем городке, предложив мне место Железновского (тоже ведь офицерская должность! уговаривал он), раскладывал мне, как на картах, с чем могу столкнуться я на новой работе. Тут и логика, тут и психология, тут и судьбы, и неожиданные повороты. А самое главное — нужны порядочные люди, которые, разбирая то или иное дело, не будут слепо прикладывать руку к головному убору и выполнять всякие распоряжения и приказы.
— Ты сам подумай, — говорил он, — Леночка Мещерская и ее сбежавший муж, к примеру. Да, разбирая архивные наброски разных людей — честных, получестных, непорядочных вообще, злых и завистливых, а они пакуются в деле любом на равных — невольно придешь к определенному выводу на основе всего этого. Но когда разберешься глубоко, сердцем, многое покажется в человеке не так грешно, как ему приписывается. Многое не так!
— Само собой разумеется, — соглашался я, но не давал повода, чтобы полковник подумал, что я уже готов идти в его контору и разбирать сердцем все дела, которые скопились у него в большом количестве. Тем более, что я занимаю уже офицерскую должность, она у меня на уровне майора. И я люблю свою работу. Люблю открыто говорить о том, что вынес при ограниченном, пусть, сборе материалов о людях. Зачем же мне менять самого себя?
Когда я с досадой проговорил «само собой разумеется», Шмаринов обиделся:
— Да не само собой разумеется! Я разрешил Железновскому тебя, скажем, взять с собой. Я хотел, чтобы майор Железновский думал не только о карьере, а хотя бы немножко почувствовал себя человеком, заинтересованным в улучшении жизни. А улучшить жизнь — это объективно разобраться в той ситуации, в которую попали люди.
— Вы сказали о Мещерской. И ведете разговор на ее примере и на примере ее сбежавшего мужа…
— Конечно. Если Железновский что-то понял и даст тебе дело Шугова…
— Почему вы так думаете?
— Не даст сам — ты у него попросишь. В это я верю… Ты, получив материалы, разберешься, а не просто осудишь человека. Я это наблюдал по твоим публикациям. Ты досконально копаешься. — Шмаринов то ли посмеивался надо мной, подковыривал, то ли говорил серьезно, однако льстил мне, что на него не часто находило. — Так вот… Шугову инкриминируют предательство и играют вокруг его ревности: мол, все начиналось у него с этого. Но скажу тебе… Ведь его как бы специально подталкивали к этому! Как говорится, все это было! Ведь не успел Шугов жениться, как рядом с его женушкой пошагали два человека… Уже на то время — два человека!
— Да, но причем здесь — подталкивали? — возразил я.
— Обыкновенное дело. Борьба за карьеру и борьба за красивую женщину идут часто рядом. — Сегодня Шмаринов говорил слишком пространно. — Разве это не усек ты из моего разговора? Они, эти двое… Я тебе назову лишь буквы. Это полковник Н. и генерал С. У меня нет основания предъявлять им обвинения или выносить частное определение по делу Шугова. Но в том, что Шугов там, у врага, и их вина. Ах как они отнимали у него эту женщину! Как пытались уничтожить Шугова!
— И что из всего этого я вынесу? Даже, если буду иметь материалы, копаться в них?
Шмаринов вздохнул тяжело:
— Чудак! Если бы я имел не Железновского, а другого сотрудника, он бы все это не обошел стороной. Трудно сказать, а, точнее, возражать против негатива, если в деле теперь фигурирует враг народа, перебежчик! Я имею в виду Шугова. Что бы ты сейчас не сказал в его защиту — мимо! На тебя поглядят искоса… Но можно сказать об этих двоих! Их подлость, сводничество, сволочизм… Это же было! Как же все это оставить в стороне!
Разговор состоялся, естественно, уже после того, как у меня побывала папочка с «Делом Шугова». Знал ли Шмаринов о том, что Железновский дал мне эту папочку? Не думаю. Железновский, свернув папочку, положив ее на дно чемодана, тут же уехал. Шмаринову не дали даже проводить начальство. Но что странно, в «Деле» не было ни полковника Н., ни генерала С. И Железновский не сказал мне о них. Может, он скрыл от меня другую папку о Шугове, более увесистую? Более… То есть, где были и Н., и С.?
Но я помнил этот разговор со Шмариновым. И я пришел на второй день уже на квартиру Зиновия Борисовича Мещерского, дабы выяснить кое-что хотя бы об этом полковнике, и об этом генерале, видно задевших судьбу Шугова.
Марины Евгеньевны не было дома. Мещерский пил чай на кухне.
— Я знал, что вы приедете. Вы хотите тоже обелить Павла Афанасьевича? Я это понял. И мы помогли вам вчера. Мы говорили о нем хорошо, хотя, вы должны это знать, в нашем доме не стоит упоминать о веревке повешенного. Знаете, мне не положено якшаться со шпионом. И я всячески отмежевался от бывшего зятя. В конце концов моя идеологическая работа не терпит компромиссов. Для меня изменник Родины есть изменник Родины. И никто больше. Сват, брат, зять, жена. Только так!
— Вы хотели сказать о дочери еще. О ее связях в первые дни замужества с загадочным для меня полковником Н.
— Да, уже с полковником. Тогда он был подполковником.
— Генералом не стал?
— Думаю, и не станет. Мы тоже кое чего-то стоим.
— И еще с генералом С.
— Генерал-полковником С.
— А был?
— Генерал-майор в то время.
Мещерский назвал генерал-полковника подлецом, а нынешнего полковника Н. недоноском. Это они, по мнению Зиновия Борисовича, вбили первый клин и в семейную жизнь Шуговых, и в карьеру главы семьи.
Меня в этом не надо было убеждать. Я это уже понимал. Нужны были детали, и Мещерский на этот раз разговорился.
— У Павла Афанасьевича все было поначалу безоблачно, — печально склонился к столу Зиновий Борисович. — А какой родитель не мечтает о счастье своих детей! Н. - это всего-то был прихлебатель. Он интриговал и писал куда-то на Павла Афанасьевича. Добился или нет расположения моей дочери, это же, вы сами понимаете, тайна. Я никогда бы не спросил у дочери, как она распоряжается своим временем и своими симпатиями и антипатиями. А что касается С., сударь, я его застал в собственном доме в тот момент, когда он атаковал мою дочь, не закрыв даже дверь на ключ. Павел Афанасьевич был тогда в длительной командировке. И С. воспользовался случаем. С. был начальником Павла Афанасьевича. Но беда-то не в этом во всем. После того, как я показал ему на дверь, и появились в районной газете, — понимаете, в органе райкома партии, где я состоял первым лицом! — две заметки о моем якобы, извините, жидовском происхождении. Тогда это было модным. Неслыханно! Чтобы газета в то время отважилась выступить против первого лица! Но боролись то ли с космополитами, то ли еще с кем. И кто-то публикации разрешил! А у Павла Афанасьевича в кабинете стали появляться подложные письма о якобы связях моей дочери с С. Нетрудно догадаться, кто их автор. Проиграв в атаке, он выиграл в другом. Он нарушил покой Павла Афанасьевича.
— И что же было потом?
— Павел Афанасьевич был горяч, молод. Он принес эти письма в партийную организацию. Но он не знал нашей системы, у него всегда глаза были в розовых очках. А нам, партаппаратчикам, только и надо того, чтобы покопаться в белье грязном, потрусить, поставить по стойке смирно и сказать: «Служи, если простим! А нет — выкинем и останешься без куска хлеба, да еще оплеванным на всю Вселенную».
— Сражение состоялось?
— Поединок Шугов проиграл. Я отговаривал его от этого поединка. Он мне тогда не поверил. Шугов запятнал подозрением свою жену, мою дочь, и с тех пор потерял уважение в ее глазах.
— Почему они не разошлись?
— Легко сказать! Павел Афанасьевич любил ее так, простите, не как вы или Железновский. Он был всегда человеком цельным, устремленным. Про таких говорят: любят одну женщину, одну землю, одну Родину.
— Как раз этого о полковнике Шугове и не скажешь.
— Да, этого теперь не скажешь. Но я всегда говорю это про себя. Я всегда думаю, что наше отношение к таким, как он, надрывает душу и делает сердце холодным. — Он вдруг спохватился: — Надеюсь, все, что тут я говорю вам, не появится в какой-нибудь газете?
Я пообещал, что в газету писать не стану.
— Тогда в журнал? А вдруг будет узнаваемость?
— Вы боитесь?
— Я уже ничего не боюсь. Даже тогда не боялся, когда мою фамилию приписали к еврейской. Правда, Зиновий Борисович… Вы чувствуете? И приписывать не стоит! Само собой вроде разумеется. Но так уж случилось. Я Зиновий Борисович, потому что отец мой дал мне имя своего друга Зиновия, действительно, еврея. Сам отец был Борис. Но Борисом был и Годунов. Что же, и ему надо было приписывать, что он еврей?
Резко и требовательно зазвонил телефон. Мещерский важно встал и не спеша подошел к столику, где аккуратно, в нишу был упакован белый аппарат.
Он слушал внимательно, говоря при этом «да, да, да». Вдруг повернулся ко мне и пальцем подозвал меня к телефону.
— Ты можешь сама поговорить с ним. Он сейчас рядом со мной.
Я взял трубку и, грешным делом, надеялся услышать голос Марины Евгеньевны. Но мне страшно везло в этот день. Во-первых, откровения Мещерского, а, во-вторых, там на той стороне, на том конце Планеты, была Лена с простуженным хрипловатым голосом и теми вольными манерами, которые были приобретены в его доме, где ей всегда дозволялось говорить все, что она думает.
— Мама не дала тебе мой адрес, — когда мы обменялись приветствиями, прохрипела она. — Ты знаешь, зеленый огурчик, она тебя испугалась, ха-ха-ха! Ты только не обижайся. Но твой удел покорять официанток и комендантш общежитий. На нашего брата ты не тянешь.
— Это почему же? — стал я ерничать.
— Так захотел бы — нашел.
— Но мама твоя не велит?
— Мама оставляет тебя для себя, ха-ха-ха!
Смех ее был груб, раскатист. Мне теперь показалось, что ничуть она не больна, а просто у нее такой теперь голос. Это от курения, как я вычитал недавно в газете, и от того, что женщина пьет. Мне не хотелось в это верить. Лена все равно волновала меня даже на расстоянии. И я, не стесняясь ее отца, стал напрашиваться к ней в гости.
— Я, зеленый огурчик, не в форме.
— Что это для меня значит?
— Много. Я, мой милый, выгляжу так же, как моя дорогая молодящаяся мамаша.
— А разве это плохо?
— Для моих лет?
— Мы еще с тобой действительно зеленые огурчики.
— Нет, нет! И не напрашивайся… Вот если после твоего приезда из Ленинграда…
— Но я не собираюсь в Ленинград.
— Ты должен поехать в Ленинград.
— Зачем?
— Там Игорь Железновский. Он давно сказал, что хотел бы видеть тебя.
— Твоя мать дала мне его московский адрес.
— Он долго будет в Ленинграде. Я тебе советую поехать. Ты кое-что узнаешь… У тебя есть время?
— Двадцать дней с гаком. А где я его найду?
— Он звонил мне вчера из гостиницы.
— Она назвала гостиницу и номер, в котором остановился полковник госбезопасности Железновский.
— Поедешь?
— Поеду.
— Только, пожалуйста, не рассказывай ему, как относятся мои предки к этому… к этому беглецу, ха-ха-ха!
— Постараюсь.
— Постарайся, зеленый огурчик. И потом постарайся приплыть ко мне, лады?.. — Неожиданно голос ее стал мягким, женским, очень дорогим мне: Она уже шептала: — Все-все! Как помню, зеленый огурчик!..
«Зеленый огурчик!» Это тогда, когда за нами захлопнулась дверь, когда она спросила, не боится ли мальчик, который пришел к ней, ревнивого ее мужа, не боится ли, если вдруг он — с пистолетом, тогда она, прижавшись губами к моему лицу, сказала: «Ах, ты еще совсем зеленый огурчик!»
Пип-пип-пип! Лена положила трубку, а я в недоумении глядел на нишу и спрятанный в ней аппарат. Зиновий Борисович же глядел на меня, неодобрительно щурясь.
— О чем вы договорились? — спросил, наконец, он.
— Лена хочет, чтобы я поехал в Ленинград, к Железновскому.
— Он разве там? — подозрительно поглядел на меня Мещерский.
— Лена уверяет, что там.
— Да не может этого быть! Я звонил ему позавчера в Москву… А что вы решили?
— Если честно признаться, меня это волнует вот уже год. Я прожил тогда год спокойно. А потом, когда пришло письмо от вдовы Павликовой в адрес полковника Шмаринова, то я подумал… В общем, после этого как-то я завертелся. И верчусь, верчусь вокруг да около. А не знаю — зачем?
— А кто такая Павликова?
— Вы не знаете? Это вдова начальника заставы, где перешел границу ваш зять.
— Меня волнует только зять, — жестко сказал Мещерский. — И то он здесь! — Приложил руку к сердцу. — Только здесь.
— А меня волнует и Павликова, и мама замполита заставы, и все солдаты, и все сержанты, которые теперь тянут лямку в тюряге! — крикнул я.
— Хорошо, что же вы кричите? Вы хотите, чтобы я уточнил, где Железновский? И даст ли он вам материалы еще и про Павликову? Я не знаю, не знаю… И не хочу знать… А уточнить… Я завтра вам сообщу. Где вы остановились?
Я назвал, где остановился.
— Я узнаю ваш телефон.
— Зачем? Я вам его назову. — И дал ему номер телефона. После того, как я выступил несколько раз в центральной прессе, меня стали селить в хороших номерах, как правило, с городскими телефонами.
На следующий день, ранним поездом, я выехал в Ленинград. Я давно мечтал побывать там. А тут случай. Когда я позвонил Мещерскому сам, не дождавшись его звонка, он извинился и заверил, что только-только собирался со мной связаться, однако дела не позволили ему сделать этого.
— Вы поезжайте к Игорю. У него действительно для вас кое-что имеется.
— В каком смысле? Я ведь тоже мотался без отпуска два года. Не хочется ехать вхолостую. Может, и ждать придется. А надо заехать домой.
— Но он в самом деле звонил моей дочери. И просил, узнав, что вы в городе, к нему приехать. Железновский не может принять вас в Москве, потому что действительно останется надолго в Ленинграде. Тут Лена была точна.
Итак, я поехал в Ленинград. Железновский встретил меня на вокзале ему позвонил Зиновий Борисович.
— Знаешь, я тебе снял номер. Не в моей гостинице. Так будет лучше.
Я согласился. А что, собственно, изменилось бы? Полковнику не хотелось показывать меня своим. Когда-то на танцах я оделся в гражданский костюм и выглядел, надо сказать, комично. Особенно дурацки выпирал мой галстук. Мы завязывали его с начальником типографии Толей Алябьевым вроде умело, но узел не получился, все было смешно, однако мне казалось, что выгляжу я шикарно: до армии у меня не было ни одного костюма, ходил я в рванье.
Тут же, на вокзале, я предстал перед новоиспеченным полковником этаким щеголем. На мне была тройка, через плечо перекинут самый дорогой на то время фотоаппарат. И полковник одет с иголочки. Железновский был, правда, утомлен, лицо как-то сжалось, появилась залысина и поседели виски.
Мы наняли такси, он сказал водителю куда ехать. И через полчаса я уже разместился.
— Я тебя оставлю до вечера. — Железновский подошел вплотную ко мне, долго оглядывал. — Пижон! Хвалю.
— Ты чего-то хотел. Почему позвал меня?
— Соскучился. Веришь?
— Нет. Говори. А то закрутишься и вечером не приедешь. Как сказала мать Лены, ты работаешь в основном по вечерам.
— А ты? Газетчики тоже ведь работают по вечерам.
— По ночам и по вечерам. У нас ненормированный рабочий день.
— И у нас тоже. Но вечером я приду.
— Когда? Скажи, чтобы я не был привязан. Я хочу побродить по городу. Представляешь, мою дыру и это царство красоты!
— Не представляю. Как тебя угораздило там остаться?
— Игорь, меня не спрашивали. Прилепили одну маленькую звездочку, оставили на той же должности, с тем же трусливым редактором. И что бы я мог сделать?
— А я, видишь, отхватил… Перепрыгнул через большую. Сразу полковника. — Железновский кисло усмехнулся. — Ладно, все-таки до вечера!
В этот вечер он не пришел. Мы договорились, что я буду ждать его после восьми. Я сидел в номере и просматривал все свежие газеты, которые купил в местных киосках. По этим газетам я понял, чем занимается полковник Железновский. В них сообщалось об очередном каком-то заговоре ленинградской интеллигенции. Где-то разоблачены инженеры Петухов, Васильев и Бернштейн. Они хотели продать какие-то изобретения, и в последнюю минуту их поймали за руку рабочие завода. В газетах этих рабочих широко представляли. Многие из них прошли войну, громили немецко-фашистских захватчиков: они, эти люди, не могут жить в одной дружной семье с предателями и врагами народа, спекулирующими общим богатым достоянием изобретениями, так нужными заводу.
Я ждал звонка на второй день. Звонка не было. Не было Железновского и на третий, и на четвертый день.
Мне ничего не оставалось делать, как взять обратный билет. Вечером я должен был уезжать, поначалу в Москву, потом оттуда я помчусь в свою милую Среднюю Азию, где меня всегда ждут мама и братишки. Хватит всего этого для меня. От здешних тайн уже тошнит!
Мне оставалось всего два часа. На вокзал я мог доехать на трамвае всего несколько остановок.
Я уже собрался и хотел уходить. Лучше приду пораньше, похожу по вокзалу. Люблю отъезжающий, суетящийся, шумливый народ: сколько потешного и человечески теплого в провожаниях, встречах!
Только взялся за чемодан — звонок. Я мог и не отгадывать. Товарищ полковник!
— Слушай, — не поздоровался Железновский, как она с тобой говорила?
— Что значит как? — взбесился я. — Ты извинись вначале, что вызвал меня сюда и морочил голову.
— Слушай ты, младшой! Я тебя могу вызвать повесткой! И спросить: что ты копаешься в дерьме? Разве я не предупреждал тебя, чтобы ты не копался?
— Это точно, предупреждал! Я это всегда помню.
— Тогда, почему ты копаешься? Почему спрашиваешь, нюхаешь?
— Кого я спрашивал? И кого я нюхал?
— Ты ходишь вокруг пограничников! Ты им слагаешь и поешь песни! А нам… Нам ты отказываешь в честности, порядочности! Они все у тебя не виноваты. А мы, те, что выполняли свой воинский долг, негодяи!
— Я это не говорил ни Мещерскому, ни его жене, ни его дочери.
— Ох, какой точный! Ты кое-чему научился! Называешь фамилии!
— Не кривляйся. Я все равно не пойму тебя и твоей этой хохмочки. Вызвать, а потом облаять! Ну спасибо…
— Да пошел ты!.. Впрочем, загляни в свой портфель… Загляни!
— Пьяная рожа! — крикнул я. — Сам пошел! Чтобы ты больше никогда не звал меня к себе! Понял?
— Дурак, младшой! Зря тебе звание дали. Старшиной ты был умнее.
Я нажал на телефонный рычажок, медленно оглянулся. Что-то не так, что-то не так! Это — не Железновский. Это — клоун. Это ему так надо сделать, так надо сделать! Телефон прослушивается. И я, следовательно, прослушиваюсь. Это ясно. Это результат письма, которое я отправил за своей подписью в ЦК. Это потому, что в письме идет речь о вдове начальника заставы Павликовой. Это еще, может, связано с…
Я на цыпочках, вроде это мне поможет, вышел в коридор гостиницы. Сдавать номер я не буду, — твердил себе. — Это, это…
…Уже в вагоне, необыкновенно безлюдном, тихом и спокойном, я полез на дно своего портфеля: там лежал конверт, хорошо заклееный и бечевкой связанный. На конверте стояла моя фамилия. Кто-то стукнул в дверь. Я быстро спрятал конверт, сел прямо и сказал:
— Войдите!
Вошла девушка. Оказывается, ее место рядом с моим. Ну что ж! Я глядел на ее милые ножки, на смазливое личико: неужели она будет следить за мной? Меня уже ведь не раз предупреждали: брось этих своих пограничников! Не лезь в такие дела!
Плевать на эту девочку! Плевать на всех вас!
Я достал конверт и распечатал его. Девчонки не было, она пошла переодеваться. Размашистым почерком Игоря Железновского мне сообщалось о судьбе Соломии Зудько. Приговорена к расстрелу! Приговорены к расстрелу и семь железнодорожников моей маленькой станции.
«Как ты скушаешь все это? Напишешь ли? Или промолчишь в тряпочку?»
Железновский издевался еще надо мной! Он знал, что я написал в ЦК и о Соломии Яковлевне Зудько, и о ее муже, разжалованном майоре Соловьеве, и о семи железнодорожниках, которые никогда ни в чем не подозревались и прошли по делу Зудько.
«Нет, нет, нет! — закричал я. — Не может этого быть! Они же ничего не сделали! Это подтвердил и полковник Шмаринов. Зачем же так?»
Поезд мчался с такой скоростью, будто хотел обогнать все мои печальные догадки. Ты, Железновский, получил полковника. Не за это ли? За Зудько? Ну сознавайся? Ты поэтому и не пришел? Ты не знал, вызывая меня, что мое письмо находится уже в ЦК. Вдруг кто-то сказал. Или сам узнал. И тогда не захотел со мной встречаться. Ты думал, что мы просто поболтаем о женщине, которую любили, которая и теперь для нас небезразлична? Но оказалось: я этот год копался в дерьме, как ты говоришь. И кое-что раскопал. Тебе это не слишком понравилось, правда, товарищ полковник? И что осталось тебе — напиться и выдать мне по телефону? Чтобы и свои слышали. И сказали: у тебя нет любимчиков, друзей. У тебя главное работа, работа, работа. Работа там, работа — тут. Тут у тебя много вечерней работы. Очень много, некогда расслабиться, некогда отдохнуть…
5
«Дело» сержантов бывшей заставы Павликова.
Елена Мещерская передает мне письмо, в котором рассказывается о последнем разговоре с полковником Шуговым.
1953-й, март — траурный и страшный месяц.
Железновский ищет связи со мной.
Как ни странно, первый материал в мою теперь папочку дал мне наш цензор, Мамчур. Почему он сделал это? Могу объяснить. Майор всегда казался мне человеком либерального толка. Да, да! Это ведь не только при царе люди слыли либералами, ретроградами, дурными служаками. И в наш нелегкий век, насыщавшийся беспрекословным повиновением и бездумием, люди оставались разными. В теперешнюю пору говорят: было всеобщее ослепление. Ничего подобного! «Всеобщее ослепление», как правило, наблюдалось там, где не было места широким акциям тоталитарного насилия. Когда же оно проявлялось, сразу обозначалась индивидуальная человеческая сущность. Подлый становился еще более подлым, чистый пытался или обойти стороной, чтобы не запачкать себя, или выражал готовность придти на помощь униженному и оскорбленному несокрушимой на ту пору системой.
Трусливый в общем-то по натуре майор Мамчур однажды, когда мы остались вдвоем (я читал газету как ответственный секретарь, а он — как цензор), вдруг, прервав чтение, сказал мне:
— Знаете, младший лейтенант, в моей душе всегда неприятный осадок, когда я встречаюсь с вами и вспоминаю, как вы тогда вошли в незапертый мой кабинет и увидели Железновского, который допрашивал солдата Смирнова, водителя полковника Шугова. Я всегда думаю: что вы, тоже в душе, думаете обо мне? Этот человек, — говорите вы себе, — пишет стихи, и он кругленький, с чуть повышенным аппетитом. Служака — не служака, но исполнителен, честен, как же мог, — полагаете вы, — этот кругленький человечек допустить, чтобы в его кабинете, в его присутствии били солдата за то, что он якобы не уследил за побегом своего начальника? Как мог допустить офицер, чтобы при нем истязали солдата ни за что?
— Но, может быть, у пограничников свои правила? Солдат должен был во что бы то ни стало взять полковника-беглеца?
— Нет таких правил. И нет правил бить солдата. Причем бить принародно… Хотите, я вам кое-что подарю?
— Что именно?
Круглое личико майора насупилось, стало каким-то расплывчатым.
— Я вам дам дело Смирнова. У меня есть копия… А затем, если вы правильно, — Мамчур усмехнулся, — отреагируете, я дам вам кое-что еще, но более стоящее для пользы дела. Я знаю, что вы ходили по семьям железнодорожников и узнавали, почему никогда и ни к чему плохому непричастные лица, вдруг оказались вмешаны в дело Соломии Яковлевны Зудько.
Я испуганно замахал рукой (и потом много переживал из-за этого):
— Почему вы считаете, что я занимаюсь и занимался этим ради того, чтобы обязательно увязать все это с делом жены майора Соловьева?
— Видите, и вы трусите!.. Но написали письмо в ЦК… Вот возьмите эти листики. Спрячьте их надежно. Здесь вам нечего бояться. Если вы повезете эти бумажки… Им бы цены не было для настоящего правосудия!..
Мамчур не стал дочитывать газету, поставил свой цензорский штамп, аккуратно, как всегда, расписался.
— Я верю вашему редактору. Он дует теперь не только на фразу, но и на каждую буковку.
Легко встал и, дружески похлопав меня по плечу, пошагал к порогу.
— Не вздумайте сказать, что эти бумажки дал вам я, — обернулся и погрозил пальцем.
— Я вам обещаю, — не отрываясь от газеты, заверил я майора.
— Вот и ладушки… Кстати, как поживает железный Железновский? Как это он все отпускает вас с миром?
— Слава Богу, пока все проносило. Но я… Если уж напрямик… Я, товарищ майор, боюсь. Да, боюсь!
— Железновского? Вы ездили к нему на исповедь? «Я ничего не знаю, я ничего не предпринимаю!» А сами написали письмо в ЦК. И взбесили… собаку! Не дай Бог, к этим листикам доберется Железновский. Спрячьте их надежно. Здесь вам пока бояться действительно нечего. Здесь нет любимчиков Железновского. Если вы повезете эти бумажки… Бумажки! Да, им цены не было для настоящего правосудия! Повторяюсь, и все же так! Но если вы повезете их к Железновскому, там и они, и вы будете долго храниться. Может, всегда.
Хлопнула выходная дверь, через полминуты его кругленькая фигурка мелькнула за окном, выходившем на улицу. Я тоже бросил газету и стал читать бумаги, которые Мамчур мне отдал. Это была объяснительная записка Смирнова, которая каким-то образом попала к Мамчуру.
«Дорогой товарищ трибунал! — читал я, оглядываясь и на окно, и на дверь. — Дорогие товарищи подполковник и полковник!
Я не знаю Ваших фамилий, но я по лицам Вашим понял, что Вы приведете приговор в исполнение!
Когда Вы будете — не Вы лично, а другие — стрелять в меня, Вы должны подумать о таком. У меня есть мама и четыре сестренки, младше меня. Все они пуговки, опеночки, не окрепшие и никому без меня ненужные. Мой отец и два старших брата погибли на войне. Я же очень хотел стать пограничником и хотел, чтобы больше никогда на нашу землю не полезли враги. Чтобы я уже на границе дал им отпор.
Вы из моей биографии увидите, что призван я был в декабре 1944 года. Я, мальчишка, еще даже в шестнадцать лет, потому что родился в ноябре, вместе с нашей властью. Я очень просился в школу пограничников, где мог получить звание. В моем роду не было людей, которые командовали людьми, они всегда отвечали лишь за себя. Но я хотел, чтобы у меня на моей службе была большая нагрузка, так как, сами поймите, отвечать за себя — одно, а отвечать и за товарищей — совсем другое, это тяжелее и ответственнее. Я успешно закончил сержантскую школу. На границе я стал служить с марта 1945 года в звании ефрейтора, так уж получилось. Я участвовал в дороге в драке, меня разжаловали, а потом присвоили это почетное солдатское звание… И так я служил денно и нощно, я выполнял все, что предписывали уставы и наставления, и всегда с больной душой думал: как это меня угораздило подраться, зачем я это сделал? Но уже ничего нельзя было исправить. И я в течение всех этих лет старательно выходил на службу. Я имел двадцать два задержания. И мне много раз доставались благодарности. И маме даже писали на родину, что я хороший солдат.
Так и было у меня много хорошего и трудного до того момента, как я научился шоферить, самотужки, с помощью кореша, моего земляка Анфиркина. Я полюбил машину. Когда Анфиркин приезжал на заставу и я находился в своем свободном положении, то есть у меня не было дела, мне, при снисхождении старшего нашего лейтенанта Павликова, замечательного начальника заставы, удавалось на машине покататься. Самостоятельно я выбирался в пески на машине, и я колесил уже умело. А вскоре пришла на заставу комиссия и что выяснилось: что на заставах теперь нужны не только люди и лошади, но и машины. Ребята показали на меня, что я уже способен водить машину и старший из комиссии спросил:
— Зачем ты учился?
Я сказал, что учился, чтобы зарабатывать после службы в армии у себя дома на должности шофера. То есть не только зарабатывать, а всегда потом зарабатывать. Моя мама замечательно пишет об этом. Шофера у нас зарабатывают хорошо на лесоповале, и почему бы я не смог так работать?
Одним словом, сдал все честь по чести. И вождение, и технику знаю. И мне дали права, чтобы я еще тут послужил, а как понадоблюсь, то возьмут на шофера.
Я еще семь месяцев служил, а потом меня взяли водителем, потому как подошел год к демобилизации Анфиркина. И я возил все, что мне было приказано. А потом, на мое горе, приехал новый комендант. И я был жадный к новой технике. И подумал, что могу работать потом и не на лесоповале. И согласился.
Не могу Вам сказать, что мое начальство что-то затевало и что я не видел этого затеваемого. Я всегда понимал службу туго. И эти фокусы, которые видишь и молчишь… Нет, я их не видел. Тем более, со стороны товарища полковника Шугова. И со стороны его семьи я ничего плохого не видел.
Как получилось? Не знаю, но все по правде получилось.
Перед этим днем мне полковник Шугов приказал: чтобы бобика подготовил, потому как поедем на заставу. Я все знал. Документы все чин чинарем прошли и по мне. И я не знаю, как вести себя, чтобы все учесть. Ведь у меня мама и сестренки. И разве я виноват, что он под вечер, в темноте, сказал, что я немного поразомнусь. И пошел в темноте. И пошел через полосу. Я подумал, что сейчас вернется — что-то у начальника свое, на уме. Может, кто новый тут должен пройти, наш. И что там готовится это. А он, полковник Шугов, за это несет полную и соответствующую ответственность.
Он шагнул небыстро, а так же, как шагал до этого. И я вначале нисколько не насторожился. Я ему крикнул уже сразу:
— Павел Афанасьевич!
Он учил меня так называть себя. И я назвал его так, очень гордясь таким доверием.
Но доверие оказалось подмоченным. И я это еще не понимал.
Я ему крикнул:
— Стойте!
А он все шел и шел, не оглядываясь. Тогда я стал поначалу вверх стрелять. Вы спрашиваете, как же я сразу не стрелял ему в спину. А если бы он не был шпионом, а выражал себя так, как при службе? Что бы со мной было? Ведь у меня мамка и сеструшечки родные. Вы вникните в это и поймете, какое мое теперь состояние. Вроде всему я научился, а убить человека, убить своего полковника в спину, не смог…»
Что я испытывал, пока читал это письмо? Я испытывал чувство нового страха. Жил человек, старался быть честным и искренним, нес отлично службу, выучился на шофера, чтобы помогать и матери, и сестрам, и вот так все закончилось. Правый и скорый суд. И — нет человека. Нет больше кормильца матери, сестрам.
Конечно, сестры подросли уже, они и сами себе зарабатывают, поди. Но мама… Мама, которая всегда, как и моя мама, ждет кормильца, она никогда не забудет, что случилось с ее сыном Петей Смирновым. Что ей написали? Расстрелян? Или… Что-то такое, что, мол, попал в ситуацию, где единственно возможный выход — смерть?
Я тщательно спрятал письмо в моем комсомольском сейфе и пошел в дом к Мамчуру. Он жил в центре города (если считать пять-семь домов тут, да штаб дивизии). Я постучал к нему в окошко. Он узнал меня и открыл дверь.
Майор пил чай. Супруги его не было, я знал, что она уехала к маме рожать очередного мамчуренка.
— Садись, — пригласил майор и подвинул в мою сторону стул.
Я сел. Помолчав, сказал:
— Зачем вы дали мне только этот документ? Я его прочел. Есть ли у вас документы о сержантах заставы?
— Есть, — кивнул головой Мамчур. — Ты будешь писать что-то опять в верхи? Или это нужно для твоей работы?
— И для этого. И для того.
— Нет, я дам тебе лишь для твоего творчества. Ты довообразишь и напишешь документальную ли, художественную ли вещь, в коей будет все это, нежно, как говорится, — оскалился, — увязано. Лады?
Я кивнул головой.
Мамчур достал из своего портфеля новую папку и, подойдя ко мне, глядя пронзительно в глаза, произнес:
— От себя отрываю. — Кивнул на портфель, добавил: — Все — тут ношу. Ты знаешь — безопаснее. Здесь не будут шмонать. Станут искать в квартире.
Я разочаровался в этой папке. Тут шли лишь перечисления: кто привлекался еще по делу полковника Шугова. Это на первом листке. На втором говорилось о Павликове, начальнике заставы. Ничего нового. Куркуль. Заботится лишь о собственной шкуре (если считать «куркульством» настоящую заботу командира о своих подчиненных). Потом перечислялись фамилии сержантов. Семи сержантов. Шаруйко, Матанцев, Веселов, Брыль, Кожушко, Семенов и Давитошвили. Они были названы лишь по фамилии. Ни данных, ни каких-либо сведений.
— И это все? — Я просмотрел папку тут же, при Мамчуре.
— Мало?
— Не скажу, что много.
— Тут очень много, если хорошо подумать. Ведь, прикинь, впервые названы настоящие фамилии.
— Но есть же список личного состава в…
— В архиве? И вас туда допустят? — Мамчур тут же перешел на «вы».
— Есть в отряде.
— Отряд полностью расформирован. Все офицеры отряда выведены из практической службы.
— Как это понять?
— Они уже не пограничники.
Я задумался: как же тогда должен искать имена, отчества сержантов?
— Ты правильно подумал. Уверен, ты не упомянул в своих письмах их имена. Теперь ты можешь сослаться на этот документ, который у тебя на руках, и сообщить их фамилии. Иначе любой комиссии долго искать каких-то там сержантов, бывших пограничников расформированной и разогнанной заставы.
Я тут же укусил майора:
— Вы же дали мне для творчества…
— Для творчества я держал бы это все у себя… Ты вот лучше что запиши! Откуда были призваны сержанты. Шаруйко — Киевская область, Мироновский район. Шаруйко с 1928 года, призывался уже после войны. Под оккупацией не был. Оттуда же, вы сами знаете, в пограничные войска не брали. Он один из того района, все остальные, с кем призывался, в воинских частях. Далее, Матанцев из Сибири, Красноярский край. Больше о нем ничего не знаю. Матанцев после ареста сопротивлялся. Поэтому загнан далеко, трудно отыскать. Тем более, фамилия Матанцев в Сибири нередка. Веселов из-под Москвы, город Электросталь. Записал? Брыль и Кожушко с Украины, Днепропетровская область. Я тебе сказал по поводу Шаруйко. Что, мол, под оккупацией, кто был, не брали. И что Шаруйко — единственный. С этими двумя с Украины — Брылем и Кожушко — мне непонятно что-то. Шли они вроде потом по переводу. Но больше тоже не знаю. Семенов — ленинградец, там живут его родители. Они уже спохватились и настойчиво разыскивают сына: писем-то нет! Давитошвили — тбилисец.
Я записал все.
— Приговора вы не видели? — спросил Мамчура.
— От восьми до двенадцати лет. Четырнадцать лишь Матанцеву. Я уже тебе сказал, почему. За строптивость. Матанцев отказался признать вину…
Дома меня (я уже жил в маленькой комнатушке, но отдельной) поджидала странная женщина, назвавшаяся артисткой. Я обычно активно следил за культурной жизнью своего городка на краю пропасти. В последнее время у нас появился поэт, которого Прудкогляд взял в литсотрудники, Петя Петров — с коломенскую версту ростом, шумный, напористый. Ему отдали «культурную часть» для освещения, они вместе с редактором вытаскивали из календаря очередную биографию, тискали ее, чуть подправив, в газету, обижаясь на меня за каждую крупную публикацию в республиканских и центральных газетах. Я потому и не обратил внимания, что к нам приехал какой-то филиал какого-то театра или какой-то филармонии. Вероника Кругловская представляла этот филиал ролью чтицы-декламатора. Оказывается, она жила непосредственно рядом с Еленой Мещерской совершенно случайно, где-то в «сферах» не слишком и низких.
Мне было приятно получить из рук чтицы пахнущий теми сказочными духами конверт. Он пришел быстро. Потому что чтица-декламатор, вся ее труппа летела до Ташкента самолетом, а из Ташкента их перебросили на военном транспорте, посадив на новом «вашем аэродроме», здесь, поблизости.
Кругловская Вероника стала щебетать, что она видит известного журналиста (это, выходит, меня). «Я попыталась как-то взять ваш репертуар и включить в свою программу. Мне очень приятно, что Елена Мещерская была точна в характеристике, — все это без остановки, — и мне очень приятно будет, если вы посетите сегодня наш концерт».
На этом приглашении бесцеремонно ворвался в мой кабинетик Петя Петров. Он изумленно воскликнул:
— Какая у вас в гостях дама! Я такой сроду и не видел!
Петров стал тут же читать свои стихи и, по-моему, они сразу же забыли, что я существую. Они пошли на улицу, а я крикнул:
— Петя, ты же зачем-то пришел?
— А-а! Да! В газете ошибка.
— Какая еще ошибка?
— А зайдите в типографию и посмотрите.
Я кинулся в типографию и сразу понял, что случилась беда. Там уже находились начальник политотдела Матвеев, начальник СМЕРШа Шмаринов, его новый работник Васильев. Матвеев мне спокойно сказал:
— Погляди, что ты наделал.
И подал мне газету, которую мы подписали с Мамчуром.
Я стал читать шпигель. И сразу нашел ошибку. Вместо И.В.Сталина стояло В.И.Сталин. Я растерянно глядел на них. Васильев подошел ко мне ближе и рысьими своими глазами изучал меня.
— Но, — сказал я, — мне кажется, что я не подписывал эту газету.
— Вам кажется? Или вы ее все-таки подписывали? — Васильев наступал на меня своим худым измученным телом. Он был молод, ему всего-то исполнилось месяц назад двадцать четыре года, однако он был очень настырный и уже несколько раз донимал меня.
— Погодите, капитан, — заступился за меня тактичный и всегда обходительный Матвеев. — Надо разобраться. Вы подписали с Мамчуром другую газету?
— А чего тут разбираться? — Васильев снова наступал.
В это время появился из-за спины всех этих крупных начальников мой редактор Прудкогляд. На глазах у него были слезы.
— Это не он. Это — я! — плаксиво произнес Прудкогляд. — Я поменял шпигель. Сказал, чтобы его набрали покрупнее…
Матвеев глядел на кающегося Прудкогляда — редактор что-то еще говорил — сочувственно. Потом тихо ему сказал:
— Веди в свой кабинет! — Поглядел на меня и добавил: — И вы шагайте с нами.
Мы — они, начальство, широко, вперевалочку, а Прудкогляд и я — мелкой трусцой — пошагали в кабинет редактора.
— Старый ты хрен! — бросил в лицо Прудкогляду начальник политотдела. — Всегда-то ты найдешь всем работу! — И к Шмаринову: — Собрать все газетки надо. Собрать. И уничтожить, пусть сам их сожжет!
Я пошел в свой кабинет. Руки у меня дрожали. Зашел Шмаринов. Мы давно с ним не встречались. Как-то утратилась наша спортивная дружба после того, как команда по сути распалась: несколько хороших игроков демобилизовалось.
Полковник сел на услужливо поданный мной стул. Я не мог еще сдерживать себя, волновался.
— Я все хотел тебя спросить, — сказал полковник, — ты в Москве видел Железновского?
— Я видел полковника Железновского в Ленинграде.
— Знаю, что полковник. А что же он там делал?
— Шерстил честной народ, — нервно выпалил я. — Вы не знаете?
— А ну потише, потише!
Я вытащил из стола ленинградскую газету.
— Поглядите. В тот самый период, когда там был Железновский со своей командой.
Шмаринов взял из моих рук газету, не стал особенно вчитываться, лишь пробежал глазами по заголовкам.
— Ну что же, нормально. Каждому свое… Он тебя видел?
— Встречался со мной. Но проститься не захотел. Наверное, узнал, что я написал о незаконном аресте Соломии Яковлевны Зудько.
Шмаринов положил передо мной газету, встал:
— Может быть. Но ты тоже хорош. Такие вещи не пишут так.
— А как пишут? Со всеми советуются? В том числе и с вашей организацией?
— Слушай, газетчик! А не много ты себе порой позволяешь? Ты знаешь, к примеру, сколько твоего брата в тридцать седьмом полетело в места не столь отдаленные?
— Но сейчас не тридцать седьмой год. Сейчас время послевоенное. Газетчики не воспевали ли это время побед? За что их теперь куда-то ссылать?
— Кольцовых много? Вот такого одного можно было бы за сегодняшнее и по голове погладить… хорошей дубинкой. Ты что же такого редактора имеешь? И никогда не доложишь, что он после подписания газеты цензором берет и свое протаскивает?
— Кому я должен докладывать?
— Начальнику политотдела. А если он не реагирует, мне. Я вас всех распустил. Полетит моя голова — вам не сдобровать.
— Полковник Железновский грозит?
— Верно догадался. И виноват в этом ты. Я-то не проследил, кто у меня под носом пишет кляузы в Центральный Комитет. Да на кого? На Железновского.
— Скажите точнее, кто за Железновским.
Шмаринов ничего не ответил. Он тяжело, как-то вразвалку, пошел к двери. Около нее остановился и приказал:
— Напишешь рапорт. Все как было. Как вы с Мамчуром подписали, а тут… Я вам спускать ничего не намерен больше…
Я остался один. С письмом Елены Мещерской. Я слышал: за окном загудели машины. Одна — начальника политотдела, другая — начальника СМЕРШа. Идти-то к нам пять шагов — надо же, на машинах! Чтобы все знали. Что-то случилось! Они наводят порядок!
Быстрее разорвать конверт. Запах духов пополз по кабинетику, вошел в меня занозой. Зачем мне это письмо женщины, муж которой изменник Родины? Может, они в сговоре с ним были? Может, она давно знала, что он работает на иностранную разведку? Только молчала? И я впутаюсь, сделаю любую ошибку, и тогда уже Шмаринов в меня вцепится. Он тогда ничему не поверит.
Беглый, нервный почерк. Перед глазами бегают буквы, и я, после всего, после этого разбора ошибки, никак еще не могу прийти в себя. Что же она пишет мне? И почему отдала с этой артисткой? Все же будут знать, что мне пришло письмо от жены изменника Родины!
Елена была сдержана. Я, наконец, понял, что она хочет. Елена извиняется вначале, что не могла встретиться со мной, после того, как я приехал от Игоря Железновского. «Я болела, — сообщала она мне. — Странно, я теперь очень часто болею, и, говорят, что это от меня самой зависит. Нервы… У старушки прорушка…»
Елена Мещерская спрашивала, что все-таки меня интересовало.
Почему ее отец так был обеспокоен после моего посещения их дома?
Почему мама не разрешала ей повидаться с тобой?
Что-то ты, зеленый огурчик, затеваешь против нас всех. Это не делает тебе чести. Тебе мало славы? Ты хочешь ввергнуть нас в пучину новых разборов и гонений? Едва-едва все забылось с Шуговым…
Кстати, она может сообщить мне, как у нее состоялся последний разговор с ним.
Это меня интересует? Ах, если интересует, она с удовольствием об этом поведает. Родители говорят: ты этим и занят. Кто и что сказал. Как и зачем сказал.
Так вот, чтобы я знал… Последний разговор у нас состоялся при свидетелях. Свидетелем был солдат Смирнов. Наш шофер. Это Шугов всегда подчеркивал. Что мне еще в жизни надо, если у нас есть наш личный шофер? Как много!
Зашла речь, повторяю, при свидетелях, о некоем фрукте, который, говорят, донес на Шугова Павла Афанасьевича, сумевшего выкрасть по листику из только что вышедшего и потому очень секретного Боевого Устава, по которому, кстати, живет и пограничная часть армии.
«Шугов кинул камешек в мой огород: если бы у меня было меньше поклонников, то ему бы служилось лучше.
Я засмеялась и ответила: ничего страшного, поклонники и продвигают мужей по службе. На что Шугов возразил, что такими методами не продвигают, а прямым путем ведут к трибуналу.
Давно мы не говорили с Шуговым о Н. и С. Видно, что-то Шугову полчаса назад по телефону неприятно нарассказали, и он был сердит и на меня, и на себя.
Когда водитель Смирнов отошел от нас и в сторонке чинил запасное колесо, Шугов посоветовал:
— Неужели эти вырванные страницы из Устава так за каждым из нас и пойдут всю жизнь?
— Этого, Шугов, не знает никто. Лишь разведка.
— Хорошо тебе шутить. А тут не до шуток.
Что сообщили ему из штаба? Какой разговор состоялся у него и с кем? Я подошла к Смирнову и сказала: он понял, о чем шла речь?
— Нет, — покачал головой Смирнов. — Я ничего такого не слыхал.
У меня были очные ставки со Смирновым, и он не напомнил о нашем с Шуговым разговоре по поводу тех злосчастных, вырванных кем-то из Устава страниц. Смирнова избивали, я пишу об этом открыто, потому что и вы знаете, что его избивали. Смирнов не признался ни в чем. А в чем, собственно, он должен был признаваться? Не знаю. Вы представили себя на месте Смирнова? Он должен был отвечать?»
Лена спрашивала меня почти в каждой строчке: что я думаю по поводу того, что они, Мещерская и Шугов, погубили ни в чем не повинного солдата? Недавно к ней приезжала мать Смирнова со своей старшей дочерью. «Они все выспрашивали, чем мог провиниться их дорогой сын и брат Смирнов? А я не могла ответить!»
Странно было в письме одно: почему она вдруг переходила на «вы»? Выходит, писала как бы официально. Для принятия решений. Давала мне право вмешиваться во все дела, связанные с Шуговым?
…В марте 1953 года, траурного и страшного месяца, я был проездом в Москве. Безысходное и, главное, искреннее горе людей по поводу смерти И.В. Сталина меня потрясло. Сам я уже давно разучился плакать. Но люди рыдали на площадях, в своих домах, на рабочих собраниях. Кто бы мог потом предположить, что эти самые люди проклинали того самого своего вождя?
Тогда же я шел под впечатлением уличных манифестаций, где только и плакала о сиротстве (на кого оставил нас родной Сталин!) наша общая, казалась на ту пору, скорбь, я подумал: как все правильно, как все естественно. Люди любят и обожают сильных мира сего, которые ради идеи сплачивают людей, и у них все становится единым: и труд, и подвиг, и страдания, даже самые неимоверные.
В эти трагические дни, видя бушующую Москву, я невольно вздрагивал при мысли о происшедшем в нашем городке. Я мысленно переносился в то время, когда полковник Шугов перешел границу и, уйдя бесследно в другой мир, оставил в этом мире столько жестокости после себя, столько несправедливости, что этой жестокости и несправедливости хватило бы на всех этих, плачущих и причитающих женщин, мужчин, детей, стариков, старух. Я невольно представил откинутое к спинке стула лицо ефрейтора Смирнова, большую струйку крови, влажно поблескивающую при горящей днем лампочке в кабинете Мамчура; Павликова, оправдывающегося только потому, что ему не дано было право залезть в душу коменданта Шугова и потрясти ее: что ты думал, полковник, на мою беду?! Я увидел сухое угреватое лицо замполита заставы лейтенанта Семяко, твердившего одно: никто из солдат и сержантов не виноват, это я, замполит, во всем виновен; бегающие глаза майора интендантской службы Соловьева, отказывающегося верить, что его жена шпионка и потому не желающего подписывать документ против нее… Я как бы привел в эту толпу кругленького майора Мамчура, трусовато оглядывающегося во все стороны, и вдруг напружинившегося и застывшего в удивлении: а эти сержанты-пограничники ведь ни при чем!
Я представил всех солдат заставы, разбросанных по одной шестой части земли. Они зачислены в черные списки, и отныне, при таком единении всех, им нигде нет права открыть рот и сказать хотя бы приблизительно слово правды в свое оправдание.
Я медленно брел в толпе. Московский март был холоден, у нас там, в моем городке в песчаной бездне, кричала весна, солнце ходило высоко, здесь же было мрачно, как в подземельи. «Успокойтесь! — хотелось крикнуть мне им всем. — Все ваши слезы не стоят горя вдовы старшего лейтенанта Павликова».
Толпа завела меня в какое-то злачное место: то ли столовую, то ли ресторан. Тут люди вели себя спокойнее: ели, пили, произносили тосты. Кое-кто из них был уже в подпитьи. Шумно выражали беспокойство по поводу того, что вскоре пойдет без Сталина неразбериха, все подорожает, особенно водка, тогда не выпьешь. Этих кто-то было трое или четверо, не такие были они и пьяные, но шумели, явно вызывая посетителей этого заведения на разговор.
Среди них был, к моему полному изумлению, Железновский. Он одел гражданское платье и, как бы там я ни хотел принизить его, он и в гражданском выглядел импозантно и броско. У него, оказывается, выделялись на лице мясистые породистые губы, точно подкрашенные; взгляд, о котором я никогда не хотел вспоминать, пронизывающе ощупал меня и отпустил от себя, видно не вцепившись достаточно, чтобы понять, что это — я, собственной персоной, что я — тот самый, с которым он ночевал однажды в палатке, когда рядом строился срочно аэродром для посадки его нынешнего начальника Л.П.Берия.
Железновский вспомнил это, взгляд его, теперь удивленный, пополз по мне, по стойке, где я ел московскую отбивную, с зажаренной насмерть картошкой и сморщенным соленым огурчиком, который добрые люди стыдятся даже показывать гостям. Он толкнул локтем стоявшего с ним рядом такого же высокого, как сам, «мальчика» и что-то шепнул ему. Тот кивнул головой, и Железновский неспешно, обходя посетителей этого обжорного ряда, двинулся ко мне. Я внимательно наблюдал за ним, доедая отбивную.
— Привет, — протянул мне руку Железновский. — Как ты сюда попал?
— Не боись, — ответил я спокойно, вытирая салфеткой рот, — не по твою душу. Дела, Игорь. Личные.
— Врешь, поди. Как всегда.
— Нет, в этот раз не вру. Ты имеешь в виду «врешь» — в газетах?
— Вроде ты только в газетах врешь. Ты врешь и в писульках, которые все идут. Ты уже не можешь угомониться?
— А что мне угомоняться? Ты же знаешь, Игорь, сколько бывших пограничников хлебают ни за что тюремную баланду. Справедливо ли это?
— Я считаю, что справедливо. Ты считаешь, что нет. И что из этого?
— Ты считаешь, что и железнодорожники по делу Зудько тоже справедливо осуждены?
— Опять двадцать пять! Что, — сказал и он, — я виноват?
— Не знаю кто, но мне-то от этого не легче.
— Ты получаешь зарплату, вырос до старшего лейтенанта. Что тебе еще надо? Хочешь туда, за теми своими сержантами?
— Ты такой всесильный, что так пугаешь? У тебя новое звание?
— Учти, у разведчика самое высокое и стабильное звание — капитан. А я — полковник.
— Но ты же в разведке не работаешь…
— Хочешь сказать: я работаю в охранке?
— Это ты сам говоришь. А я этого не говорил и не скажу. У каждого своя работа, и я всякую работу уважаю. Я помню, как при своей работе ты был человеком, когда нас Шмаринов в последнюю минуту от горя нашего остановил…
— Ох какой! На все у него правильный ответ… Между прочим не все о работе всякой так думают. Я был у Мещерских недавно. Они не считают, что ты всегда правильно поступаешь как работник печати.
Я пожал плечами:
— Чем я провинился перед ними? Лишь тем, что после того, как поехал от тебя, — чего ты тогда вызверился, что я тебе на хвост наступил, что ли? — позвонил и опять мне даже не показали Елену? Они сами за нее все мне растолковали. И я, конечно, не со всем соглашался.
— Они тебе рассказали одно, а ты написал, упомянув их фамилии, о другом.
— Ты считаешь, что когда люди хлебают чужую похлебку, хлебают незаконно, есть какие-то правила тона? Шугов преследовался любовниками Елены, сбежал. Мещерские живут, живут прекрасно. А в то время… Я говорю об этом в сотый раз… В то время пограничники идут по этапам. А кое-кто из них, кто не подписал, не согласился… У того на могиле не горит даже звездочка. Ты считаешь это справедливым?
Железновский стал барабанить по столу пальцами, они были у него ухоженные и симпатичные.
— Черт с тобой, живи!
Повернулся и попер к своим.
Я вышел из харчевни, набрал номер телефона, который помнил и днем, и ночью. Трубку опять взяла мать Елены Мещерской. Я поздоровался и представился. Она заплаканным голосом переспросила:
— Кто-кто говорит?
Я повторил, кто с ней изволит говорить.
— Ах, это вы! — в голосе прозвучало разочарование. — И что вам еще от нас нужно? Вы разве позабыли, как поставили в неловкость моего мужа после того, как мы приняли вас по-человечески?
Я возразил:
— Никого в неловкость не ставил.
— Ну вот еще! Лишь только вы уехали, то сразу же мужа стали вызывать по вашим новым письмам в ЦК. Разве это порядочно? Мы же от чистого сердца рассказали вам о Шугове…
Кто-то там на нее, видимо, закричал, но она в трубку сказала:
— Зиновий, ну чего ты всегда боишься? И чего я должна вилять хвостом перед человеком, который, пользуясь нашей добротой, предал нас? Вы слышите меня? — без паузы добавила она.
— Да, слышу. Вы имели в виду меня, когда говорили о предательстве?
— Кого же еще? Вы больший предатель, чем Шугов. Он явный предатель. А вы — замаскированный шпион. Вынюхиваете, а затем пишете о вынюханном. Знайте, мы ни о чем с вами не говорили! Тем более о Шугове! Мы знать не хотим о нем. И знать не хотим ни о каких пограничниках, пострадавших из-за него. Это не наши заботы!..
Что-то, видимо, я сделал не так. Защищая сержантов, отбывающих в тюрьме срок незаслуженного ими наказания, защищая вдову Павликова, ее сирот-детей, защищая железнодорожников, загремевших по делу Зудько, я, кажется, не нашел правильных ходов. Я не смог понять многих. Не смог понять и Мещерских. Может, они в самом деле просто доверились мне, с болью рассказали то, что другим никогда бы не рассказали? Может, я словчил, когда составлял письма-жалобы в вышестоящие инстанции, пользуясь доверчивыми откровениями Мещерских? И с Железновским я был, наверное, неточен. Не зря же он обиделся! И не зря так говорят со мной Мещерские! Я уже им враг?
Мне страшно хотелось услышать голос Елены Мещерской. Не знаю, почему. Может, потому что у меня лежало ее то письмо, отправленное с артисткой.
Об этом письме спрашивал меня по междугороднему телефону некоторое время спустя Железновский. Нет ли о нем лично чего-нибудь в этом письме?
— Все о тебе, — со злостью сказал я. — Каждая строчка.
— Да? И я упоминаюсь полностью? С фамилией, именем?
— Ты боишься этого?
— Я ни в чем не виноват. Мне и бояться нечего. Но просто не хочется лишний раз оправдываться.
— Оправдываться придется. Особенно, когда пойдет речь о Соломии Яковлевне Зудько и ее муже, майоре интендантской службы Соловьеве.
— Чудак! — нервно засмеялся Железновский, и я представил, как он смеется: снисходительно, через губы — кривит их в усмешечке, издеваясь над собеседником. — Мы — исполнители. Только — исполнители.
— Слепые исполнители! Ах, прекрасно… Как молодцы — фашисты в прошлой войне!
— Ну ты, знаешь! Ты поосторожнее на поворотах! За это и ответить можно!
— Мне, как и другим, читали письмо о твоем шефе. Лично ты ему сапоги чистил? Лично ты свою любимую женщину водил к нему? Тогда, там? Водил?
— Дурачок! Да это был вовсе не он. Понимаешь, не он. Был двойник…
6
Личная встреча с генералом С.
Как «крутилось» дело сержантов заставы.
О причастности Шугова к похищению Боевого Устава.
Как любовь превращалась в трагедию.
Я был ранее неточен: Шаруйко рассказывает…
И вновь Железновский, но в новом качестве.
Кто довольно часто был в седле и поездил по байрам, адырам, видел барханы не в кино, а каждодневно, каждочасно, для кого после песчаных пустынь, идущих один за другим холмов, радостный глаз вырывает на краю оазиса вдруг веселый кусочек богары; кто наблюдал в течение многих лет, как вдали — или рядом — друг за другом, как говорят, хвост в хвост, идут кони, а на них люди в панамах и с винтовками, тот поймет их, как я. Это они так жили шесть лет. И это они потом шли рядом по этапам. Шугов, полковник Шугов — они ненавидели его. И я за них поначалу ненавидел тоже его. Но он, Шугов, вечно стоял перед глазами, и мне всегда казалось, когда я узнавал о новых и новых деталях, так стремительно приведших его к измене Родины, — у него есть что-то, что должно свидетельствовать о снисхождении к нему. Человек, конечно, и в системе, неимоверно коверкающей судьбу, должен оставаться человеком. И все же… Трагедия Шугова, сотканная из множества нитей, как покрывало, обволакивало его, и он все последние годы жил, чтобы она, эта трагедия, свершилась.
Вконец измотавшись с документами по поводу сержантского состава той заставы, где перешел границу Шугов, то и дело возвращающихся ко мне короткими или в пол-листика отписками, уже не веря в освобождение ребят, я было опустил руки. Тем более, я уже демобилизовался, работал теперь в большой газете Центрального Комитета, мне не хотелось отставать от других: одно дело — тематика военная, другое — гражданская; работы было много и работа, как казалось тогда, да и кажется теперь, была не бесполезной.
Я решил: не пробьешь стену.
Именно в тот период и получил я письмо от Дмитрия Васильевича Шмаринова. Как ни странно, жил он теперь в городе, в котором я родился и из которого был призван в армию. Оказывается, в нашем городе он работает теперь директором фабрики по изготовлению женской одежды. Все у него в порядке, — сообщал Шмаринов. — Демобилизация произошла сразу после смерти И.В.Сталина. Вышла с фронтовыми неплохая пенсия, но в райкоме партии сказали, что надо поднимать производство, и хотя он, Шмаринов, мало что смыслит в таком производстве, пошел и, смеет заверить теперь, через год, показатели выросли, на радость его, Шмаринова, и на радость тех, кто его рекомендовал.
«О чем я пишу тебе? — говорилось в конце письма. — Недавно, проездом, был в Москве. И хочу сказать несколько слов, утешительных слов, в наш общий адрес. Помнишь генерала С.? Я, по-моему, тебе как-то о нем обмолвился. Это тот самый С., который много виноват в деле известного нам обоим Шугова. Я понял по тем публикациям твоим, что в Москве ты бываешь часто. Вот и зашел бы к доступному нам теперь С. Он живет после демобилизации уединенно, стал прост, как все. Это он, если уж говорить о первопричине, сделал первый пробный выстрел в Шугова и в твою несравненную Даму — Елену Мещерскую. В общем, у С. кое-что узнаешь»…
Шмаринов расписал, как найти С.
Я через день вылетел в Москву. Нашел я С. легко. Что значит — толково объяснить. Разведчик Шмаринов это мог.
Появился на даче примерно в шестом часу. На дворе стояло «бабье лето». Такой теплый и сухой погоды в конце сентября я даже в своей украинской столице давно не видел. Теплый воздух несло откуда-то из-за леса. Дача была даже лучше, чем у Мещерских. Два волкодава охраняли ее. И когда С. вышел на крыльцо, они кинулись к калитке, точно понукаемые хозяином, с громким лаем.
С. их остановил. Он подошел к калитке, проверил мое удостоверение, как на проходной, наверное, его бывшего заведения.
— Я с вами разговаривал, — каким-то извиняющимся голосом проговорил я и не знал, как вести себя в дальнейшем.
— Да, да, — пробурчал С.
Он был, нельзя сказать, красив. Это был высокий, худощавый и крепко сбитый мужчина за шестьдесят лет, у него оставалась гордой осанка, голова седая — этакая шапка седых, ухоженных волос. Одет С. в бухарский халат красного цвета, на ногах легкие мягкие туфли с дырочками вверху.
— Идите со мной, — словно приказал этот все-таки броский мужчина, генерал в отставке С.
Я поплелся следом. Шаг у него был широкий, мощный, стремительный. Так ходят не разочаровавшиеся в обстоятельствах люди.
Мы вошли в приемную дачи.
— Повесьте свою сумку тут. — С. показал на оленьи рога, прибитые на желтых, отполированных досках.
Вообще, тут было все желто, отполировано, к месту: встроенный в стену шкаф для одежды, стулья и стол под общий тон, два кресла, светильники, дорогие картины — темные, старинные. Слева от оленьих рогов, куда я повесил свою сумку под внимательным руководящим взглядом С., увешанная звериными шкурами стена была похожа на стену старого процветающего замка где-нибудь в Англии.
Я не знал, куда идти.
— Здесь садитесь, — опять почти приказал С.
И показал на кресло — чуть ниже своего. Он сел первым в свое кресло. На столике, перед нами, появилась всякая снедь: буженина, нарезанная аккуратными ломтиками, лососевая икра в красивых чашечках, молоко, кофе. Снедь принесла женщина лет пятидесяти, невидная лицом, но еще стройная. С. ей кивнул головой, что означало, как я понял, спасибо и она может удалиться.
— Как вы там живете? Как Никита Сергеевич Хрущев?
Я пожал плечами. Хрущев только что приезжал к нам в город проводить какое-то широкое совещание по сельскому хозяйству.
— Вы-то его лицезрели?
Я кивнул головой.
— Берите, берите! Вы же с дороги… Вы сразу по приезде мне позвонили?
— Да. — Я стал намазывать икру на ломтики сдобного красивого батона. Что-то все было похожим. Я подумал о даче Мещерских. Сейчас там Лена. Где же она еще может быть? Когда я после письма позвонил Шмаринову из своей редакции, он мне об этом сказал. Лена Мещерская теперь хозяйкой живет на даче родителей. Они все на нее молятся. У нее действительно хрупкое здоровье. И это здоровье не от нее зависит.
Шмаринов, руководя своей фабрикой в небольшом городе, на краю Киргизии, знал все и теперь. Ему надо все это знать. Я решил, что со службы его выперли не без помощи Железновского. Еще тогда грозился новоиспеченный полковник, что если Шмаринов не «приведет меня в порядок», сам будет виноват. Доколе буду я строчить во все концы фитюли по поводу железнодорожников и пограничников?
— Как же все-таки Никита Сергеевич? Стукал лаптем у вас по столу на трудовое крестьянство, ставшее после раскрепощения работать менее усердно?
Для чего я рассказал С. о следующем: мне, как собственному корреспонденту газеты, уважаемой в верхах, было поручено написать «Вечернее интервью» с одним из руководителей, сопровождающих Хрущева в поездке по нашей республике. Я отправился вечером в ЦК и встретил там Никиту Сергеевича… в болотных сапогах. Окружению подхалимов Никита Сергеевич в коридоре рассказывал о том, как первый секретарь ЦК нашей республики из винтовки завалил пришедшего на ужин кабана.
— Полез на гору, схватился за телефон и кричит: «Рятуйте!»
Тут захихикали, не зная наперед, чем все кончится, — ведь речь шла о первом лице. Те же, кто хихикал, донесут, почему улыбались от рассказа Хрущева другие. «И полез, и орет: „Рятуйте!“» — Хрущев прошагал в болотных сапогах в кабинет первого, и оттуда послышался вскоре взрыв хохота.
— В болотных сапогах? — переспросил серьезно С. — Что, просто не успел снять после охоты? Или — бравировал?
Я по привычке своей пожал плечами: дескать, на это не могу ответить.
— Вот была бы у нас свобода печати… Ты бы и написал, как в болотных сапогах решается проблема насущная — проблема сельского хозяйства. Но не напишешь же?
— Напишу, — улыбнулся я. — После смерти Хрущева. Если сам раньше не помру на кукурузной еде.
С. поглядел на меня внимательно. Пил теперь кофе молча. Отставил чашку, когда она опустела.
— Так я и не понял, зачем ты пришел?
— Да по глупости, товарищ генерал. Вздумалось мне все прознать о Шугове.
— А чего о нем знать захотел? Отрезанный пирог. Кто тебе сказал, что я любовником был у Елены Мещерской? Скажешь откровенно, скажу кое-что и я.
— Ну вы же догадались, кто сказал.
— Этот вонючий жидок Мещерский? Да?
— Ну он не так сказал, чтобы я понял…
— А какой тебе еврей так прямо скажет? Начнет крутить… Тебя что, действительно пограничники волнуют? Только искренне? Зачем ты с ними столько возишься?
— Я же там был, товарищ генерал. В первый же день приехал и был. Ну что, они виноваты? Или Шугов виноват?
— Конечно. И сам не мог любить, и другим не давал любить. И везде так! — Он стукнул по столу кулаком. — Дошло, наверное, что меня, генерала, его недруга, попешили, наконец… Туда же к нему, этому Шугову, доходит! Говорят, там — шишка в разведке. Конечно, знает весь южный регион! А это же мусульмане. Чего его знать! Они же продадут все, эти мусульмане. Только пообещай… Но ничего, Павел Афанасьевич! Ты зря похоронил меня!
Я квакнул: как же он мог оттуда похоронить генерала?
— Ты что? За это дело взялся, а сам элементарных вещей не знаешь? Вот тебе раз!
— А-а, — догадался я, — оттуда компромат? По чужим каналам?
С. кивнул головой.
— В точку попал. Слушай, я поначалу тебе не доверял. Железновский мне о тебе рассказывал: мол, неуправляем бываешь, лезешь на рожон. А сейчас, когда ты о болотных сапогах рассказал, я тебе доверяю. Выпить бы за это! потер он руки. — Хлебануть с радости!
Я недоуменно поднял на него свой взгляд.
— Чего смотришь? Погорелец! Погорелец он! Твой-то Никитка! И не боюсь громко сказать!.. Лично я ему не прощу! Он еще попомнит, на кого руку поднял. На померших — подумай! А живым… Живым не мешай жить, ежели сам живешь и в болотных сапогах по коврам шастаешь! Не смей учить тогда! Не смей говорить: «Пиши по собственной болезни!» Сам ты больной! И мы тебе припишем эту болезнь!
Он стучал в такт своим словам ножом по столу, и звенело у меня в ушах. И было страшно глядеть на перекошенное от злости лицо генерала.
Женщина, обеспокоенная шумом, выглянула в дверь, он успокоительно махнул ей рукой, и она снова скрылась.
— Ладно, — сразу как-то остыл генерал, — давай о деле поговорим. Значит, сержанты…
Я шел к нему узнать о том, как создавалось дело с Шуговым по поводу исчезновения листиков из Устава, и для меня приятной неожиданностью прозвучало это заявление генерала — о сержантах. Я сразу подхватил тему о них и стал жаловаться, сколько отписок получил: ничего не сдвинулось с места после того, как я получил список от Мамчура.
— Давай план нарисуем, как действовать тебе. Люди настоящие нужны. И их надо уважать. И помогать им надо. Вызволить мы их вызволим. Я уже кое-что сделал.
Он стал инструктировать меня, как теперь далее писать о сержантах-пограничниках, как говорить с каждым — он мне дал загодя приготовленный список, и к каким людям я должен обратиться.
Когда мы закончили разговор о сержантах, безвинно еще на ту пору томившихся в тюрьмах, я спросил:
— Товарищ генерал! А как вы его, Шугова, взяли тогда с Боевым Уставом? Как вычислили? И как это делается профессионалами? Конечно, в пределах возможного.
— Опять тебе жидок наплел по поводу ямы, которую я якобы вырыл Павлу Афанасьевичу Шугову? Да брешет еврейчик!
— И все-таки… Я читал дело.
— Кто тебе его давал? Шмаринов?
— Нет, другой человек.
— Другой дать не мог. Только Шмаринов. И то потому, что в волейбол вместе играли.
— Видите, знаете обо мне — как профессионал. Значит, и то, с Уставом, изготовляли умно и хорошо.
— Беда наша, что много тогда их числилось по делу. Но то, что Шугов ушел потом, лишний раз подтвердило, что искали мы тогда у них на курсе не случайно… Но ты когда-либо представлял, как все там произошло? Вот гляди. Я хочу тебе понравиться, ха-ха-ха! Честно! За то, что ты о болотных сапогах мне информацию подарил… Так гляди! Скажем, во всяком военном учебном заведении, на ту пору, когда учился Шугов, книжки секретные выдавались так. Отвечал за них кто-то один, он шел в секретную часть, брал под расписку книги на группу, приносил их в класс. Эти книги он потом и раздавал каждому слушателю-курсанту под расписку. После того, как занятия кончались, каждый должен был сдать свою книгу. Ее — по существующему закону — надо было досконально проверить. Но кто проверяет! Книга и книга. Тут-то враг и воспользовался. По одному листику хвать из каждой книжки целый Устав. А его только выпустили. А американская разведка охотится за ним. Почему русские в последней войне победили? Какой опыт заложен в Устав? По страничке, выходит, — нате вам!
— Но неужели Шугов это мог сделать один?
— Думаю, что наладил он с кем-то уже тогда связь. Вдвоем легче. Выходит, скажем, из класса кто-то. В туалет, допустим. Шмыг незаметно из его Устава листик!
— Но на глазах же всех!
— Да ты знаешь, для чего берут эти учебники? Чтобы положить на стол, а самим в курилке анекдоты трепать. В это время и работал Шугов. Может, с напарником. Напарник смотрел, а Шугов — вырывал или вырезал аккуратно. К тому времени он научился аккуратно работать.
…Теперь я хорошо знаю, как все было. По маленькой крошке, одна к одной, собрал я данные в «Деле Шугова» о пропаже Боевого Устава. Как ни странно, рассказал мне об этом всесильный Железновский. И рассказал в то самое взлетное, как он выразился, для С. время. О периоде падения Н.С.Хрущева написано предостаточно. Но почти нигде не упоминается о том, кто «валил» его — кроме Брежнева, Суслова и других, что были на виду. Черновую-то работу делали такие, как генерал С. Они собирали компромат. К примеру, такой, как эти злосчастные сапоги болотные во всесильном на то время здании ЦК компартии республики. На даче С. собрался в тот день прилета уже опального Хрущева отряд штурмовиков, готовых по приказу С. идти и громить все, что прикажут громить. Они ждали лишь сигнала.
К сожалению, был среди штурмовиков и сержант Шаруйко. Тот самый, что служил на заставе Павликова, а потом, разом со своими боевыми товарищами по оружию, отмерял сотни километров тюремных дорог.
Но об этом позже. Сейчас я следую рассказу Железновского.
Я был в ту осень на известинском совещании, и Железновский нашел меня в гостинице поздно вечером. Как он открыл мою дверь, объяснить не могу. Может, я не закрывал ее. Все может быть.
Но помню: Железновский подошел ко мне, когда я сидел у телевизора, сзади и тихо сказал:
— Ну здравствуй!
Я вздрогнул и обернулся.
— Не боись, — засмеялся Железновский одними губами. — Помнишь, ты как говорил?
— Не боюсь уже, — нервно засмеялся и я. — Чего прокрался?
— Привет тебе принес. Догадался?
— От Лены? — встрепенулся я. — Как она себя чувствует?
— Чего ты забеспокоился так о чужой женщине?
— Твоей, что ли?
— Нет, не моей и не твоей. А генерала, как мы называем его с тобой, С.
— Вали на бедного старикана.
— О-о! Он нам даст фору! Боевик! Бабы от него в восторге. Он их умеет, говорит, ласкать. А мы с тобой ласкать их не умеем.
— Не плачь, ты-то в этом поднаторен.
— Это генерал рассказывал при встрече с тобой?
— Нет, о тебе лично он не говорил. Но и без него наслышан.
— Сплетни собираешь?
— Только тебе, что ли, собирать на меня компромат?
— Да хотел бы я тогда!.. Ты бы в один миг сгорел со своей этой компашкой. Ты бы тоже стал врагом народа. Сознался бы, что был в свои четырнадцать лет басмачом, убивал комиссаров и комиссарш, вырезал им на спине звездочки.
Я встал резко, выключил телевизор.
— Не надо, — запротестовал Железновский. — Пусть орет. Ничего не разберут, если записывают… Эй, вы! Все равно ни шиша не разберете! Железновский топнул ногой. — Так слушай ты, коротконожка с розовыми крылышками! Слушай! Ты верно говоришь о ней и очень правильно реагируешь, когда говорят о ней. Ты загораешься, глаза сверкают… Впервые твоей женщине, ты это знай, нанес сильнейший удар этот твой С. Он все расписал. Как по нотам. Знай, дело с Уставом — блеф. Самый настоящий фокус. Таких фокусов много устраивал мой брат. С. устроил с помощью наших ребят этот фокус с Уставом. Он увидел твою женщину…
— Брось выпендриваться! — крикнул я. — Рассказывай по-человечески. Факты! Факты!
— Не ори, ты не генерал, а я не твой подчиненный. Лучше слушай. Детали? Ты что, хочешь иметь их? Нарисовать? Их тебе преподнести на блюдечке? Да нет фактов! Есть факт вырванных листиков. И больше ничего нет. Пальцы? Отпечатки? Их тоже нет. Там хорошо поработали, чтобы наложить пятно на тогда подполковника Шугова. Он ждал присвоения звания в том месяце. Он… Слушай, он любил Лену. Любил по-настоящему. Не как мы. Мы любим… на расстоянии. А он любил лицом к лицу. А ты не знаешь еще Лену! Она — не из легких по характеру. Это — дерзость. Это — непредсказуемость!
— Ты говори о С.
— А чего говорить? Все с Уставом — фальсификация. Никаких листиков Шугов из Устава не вырывал. И когда ему предъявили обвинение, он стал спокойно защищаться. Он защищал себя и защищал жену.
— А при чем здесь она?
— С. далеко глядел. Он заставил вертеться на вертеле Зиновия Борисовича Мещерского, отца Лены. С. записал ее в сионистки. Будто Лена работает на разведку государства Израиль! Это за то, что Лена отказала ему и не пошла к нему в постель. Шугов не знал этого. Он всеми средствами защищался. Тогда — и правильно сделал — написал в Политуправление пограничных войск КГБ прошение: разобраться с его судьбой и с судьбой его жены. Он прямо указал на С.
Я глядел на Железновского, потускневшего, какого-то уже подержанного. Почему он все это мне рассказывает? Верно ли, что Лена сейчас — любовница С.? Что нужно Железновскому? У него всегда каждый шаг продуман. Он не делает бесцельно ни одного шага.
— Ты не веришь мне, — уставился на меня Железновский. — Скажешь, что я отказался от нее? И перекладываю на тебя всю борьбу с ним. Ты думаешь так? Именно так?
— Я ничего не думаю. Я лишь прикидываю: а что теперь все это значит для жизни нашей дело с листиками Устава? И что выйдет, если я даже кинусь в борьбу с С.?
— Это уже серьезный разговор. С. поплыл на дрожжах… Снова поплыл. Я знаю, что ты был у него. Не доверяй ему ни слова. Не доверяй вообще плывущим на дрожжах!
— Но ты же плыл на дрожжах при, ну, скажем, твоим языком, знакомстве с двойником Лаврентия Павловича, ныне приговоренного и расстрелянного по всем строгим нашим законам!
— Э, друг! Есть разница. Я был молод, энергичен. И не я выступал инициатором. Я был исполнителем. А С. - разработчик идей. Он же и их прямой исполнитель. Сейчас мне жить нравится. Все пошло по накатанным колеям. Я, к примеру, забыт и прощен. А С. сделает так, чтобы все снова повернуть. Будет новая кровь, будут новые лагеря. А чтобы он не сделал этого…
— Надо у него отнять женщину, которую ты из-за самолюбия не хочешь оставлять старику? Это ты хочешь сказать?
— И это.
— Не ты вызволял сержантов. Вызволял их С., ты их в тюрьму загнал. И я не буду воевать против него по твоей воле. Ты — это ты, а я — это я. Ты еще у меня ответишь за железнодорожников, за Соломию Яковлевну Зудько, за ее мужа Соловьева. Ты ответишь за то, что бил тогда пограничника Смирнова.
— Ну что ж! А я тебя за все, что ты сказал… Я тебя… Я тебя убью!
Железновский повернулся будто на строевом плацу. Четко пошагал. Потом развернулся, поглядел на меня в упор:
— Ты — чокнулся. Я к тебе всегда шел… Шел очиститься. Ты же…
— Ты шел очиститься после того, как бил людей? А очищаться шел ко мне? Придумывая при этом… Не дать ли и этому путевочку на тот свет? Сколько же он обо мне знает! Он знает, как я пытал Соломию Зудько, никогда не бывшую в лагерях и не приговаривавшую своих соотечественниц к расстрелу! Она никогда не была похожа на ту, что стояла на фотографиях у ямы, где совершался расстрел. Ты это знаешь. И знаю это я. Ты знаешь, что ни один из железнодорожников не был врагом Родины, они не были и диверсантами, в которые вы их со своим двойником записали!
Я что-то кричал еще, а он спокойно стоял у двери и сочувственно смотрел на меня. Потом вздохнул и сказал на прощанье:
— Как трудно тебе, брат, жить на свете! Кричал бы уж только в газетах… Ну чего надрываешься? Лучше бы вызволил Лену из объятий этого любвеобильного старикашки. Женился бы на ней.
— А что же ты не женишься?
— Она не пойдет. Она знает мои проделки. Знает с тех пор еще… Тогда на танцах она потому и выбрала тебя, а не меня. Она чувствовала: я тот, ночной работник, который не любит отвечать, а любит спрашивать и выведывать. Она это насквозь во мне уловила.
На второй день я позвонил С. Позвонил из сотки, из кабинета моего друга, сделавшего бешеную карьеру и дослужившегося до заместителя редактора «Известий». С. ответил тут же, четко, уважительно, с чувством собственного достоинства.
— Здравствуй, здравствуй! — Он гудел весело и открыто, с какой-то даже любовью ко мне. — Слышал! На прочуханке? Совещаешься?
Я засмеялся.
— Ну впитывай, впитывай все новое! А я, знаешь, по-стариковски уж по-старому жить буду. Мы так жили и так будем жить. А твои знакомые в болотных сапогах — туда им и дорога. Ты знаешь, что я снова на службе? Полностью и безоговорочно.
— А чего же вам и звоню! Похвалить вас, попресмыкаться, поподхалимничать!
— Это правильно. Ласковое телятко две матки сосет.
— Вы мне хотели рассказать об одном сержанте, который у вас служит теперь?
— Это Шаруйко, что ли?
— Он и есть.
— А какой у тебя интерес к нему?
— Да думаю все… Как-то раскрутить хотя бы в душе все, что тогда видел.
— Смешной ты. И наивный. Или не заметил, как все повернуло? Ну чмокнули того… Кто к вам приезжал… Ну наломал он у вас дров! И что теперь? Об этом печалиться, когда такой ворох работы? Забудь и выплюнь! Не ты разотрешь, за тебя разотрут! Ты продвигайся лучше по газетной линии.
— И все же, Вячеслав Максимович. Как бы увидеть его?
— Можешь ты все-таки просить! Да приезжай хоть сейчас. Я его сегодня заступившим видел. Подменим, поговоришь. Машину прислать?
— Много чести, наверное?
— Значит, так. Жди машину. Через десять минут подъедет. И ко мне зайди потом.
Машина действительно подкатила ровно через десять минут. Когда мы приехали, Шаруйко уже подменили, он с любопытством оглядывал меня. Это был невысокого роста молодой еще человек. Лишь лицо, особенно глаза, опоясали морщинки, он был не по годам сед, правда, выглядел свежо, уверенно теперь глядел на меня.
— А я вас не знаю, — покачал головой. — Откуда вы меня знаете?
— По общему списку сержантов.
— А что, выходит, вы первый за нас хлопотали? Вячеслав Максимович в первый же день про вас сказал. Спасибо вам большое.
Я пожал плечами:
— За что спасибо мне? Вам спасибо, что выдержали.
Я увидел, как лицо этого человека в форме сморщилось в обиде, глаза увлажнились.
— Простите меня… Вы знали сержанта Матанцева?
— Тоже из списка.
— Я не прощу никогда этим бандюгам. Сколько жить буду — стрелять и вешать стану. Рука не дрогнет… Мы не успели на помощь… Они его… за то, мол, что права качал… ногами убили!
Я помолчал вместе с ним, потом осторожно сказал:
— Мне хотелось бы…
— Не надо! — Глаза его позеленели.
— Вы же еще не знаете, что я хотел вам сказать…
— Знаю. Вы хотели спросить, как нас… одним словом… Ну как все было тогда… Этого я вам не скажу!
— А почему?
— Не положено, — хмуро заявил Шаруйко. — Я расписался за это.
— Понятно, — протянул я.
— И Вячеслав Максимович об этом вас просил.
— О чем об этом?
— Чтобы вы не спрашивали. Про все про то.
— Ну, а о чем же мы будем говорить?
— Давайте лучше об Александре Дмитриевиче.
— А кто это? Погодите…
Шаруйко нахмурился, презрительно поглядел на меня:
— Вы не знаете, кто это? Это наш начальник заставы. О нем мне никто рта не заткнет, если я пожелаю рассказать. Вы знаете ли о том, что теперь делает жена Павликова?
— Нет, не знаю.
— Ну о чем же тогда с вами говорить? О том козле Шугове? Дезертире, враге, предателе? Давайте… Мне рассказывали, что вы о нем все расспрашиваете. Если бы этот козел появился, я бы и его кокнул, не моргнув глазом. Вы скажете: злой я человек! И тех бы кокнул, и этого бы… Да злой! Не прощу. И никому не прощу. Все еще ответят. И за все ответят.
Я помолчал.
— Чего молчите, если на разговор пришли?
— Откуда вы знаете, что я о Шугове пекусь? Я хочу узнать…
— Вот именно — узнать! Чтобы все по кругу потом пошло… Не он виноват! А погранзастава! Что его выпустила! А он — ягненочек. Только стоило бы нам крикнуть: «Стой, кто идет! Куда!» — и он бы передумал Родиной меняться… Да что вы за люди, эти интеллигенты? Все вам неймется! Все вы недовольство проявляете!
— Я лично доволен. Я работаю в газете. О людях пишу.
— А сами собираетесь поплакаться о Шугове. Какой он бедненький!
Я встал. Зло уже давно переполняло меня:
— Слушай, Шаруйко! Я интеллигент в первом поколении. Мать моя уборщица, а отец был плотник. На войне он погиб. И все дяди, плотники бывшие, на войне погибли. Но я, как они меня учили, тонну бумаги измарал, чтобы про вас, сержантов, знали… А ты… Слушай, совесть имеешь?
Шаруйко смутился. И вдруг показал мне губами: могут подслушать!
Я растерялся. И тоже губами — а что подслушивать-то?
Он скривился в усмешке — шут его знает!
— Ладно, — махнул я рукой, — ты вовсе оборзел. Понимаю! Спасибо, что напомнил о… Впрочем! Шугов, конечно, сволочь! Знай ты об этом. И пусть знают все твои сержанты. Я о нем не только слова хорошего не напишу дурного не скажу! Чтобы он околел! Сколько горя принес!
Шаруйко показал мне тихонько палец: мол, здорово!
Машина вновь меня ждала. Но шофер, когда я попытался сесть, сказал вежливо:
— К Вячеславу Максимовичу заходили?
Я ответил, что не заходил.
— Он специально звонил. Зайдите, пожалуйста.
Я повернул обратно. Показал документы в трех местах. И стою уже перед генерал-полковником Ковалевым Вячеславом Максимовичем.
— Уж больно строго ваше полугражданское высокочтимое учреждение!
— Бдительность везде должна существовать! — Он, товарищ генерал-полковник, звонко, рассыпчато рассмеялся. — Чего, напугался такой системы? Еще тебя в шоры она не брала? Неужели не брала за твои проделки в газете? Вон, как докладывают умные люди типа Железновского, в «Комсомолке» главного смутьяна недавно на партсобрании из рядов КПСС выгоняли. Мужик притворился сердечником, инфаркт, говорит! А тогда, когда писал, что комсомол в баньке… то есть по начальству огнем прямым… То сердце у него не болело! И когда ферганскую какую-то ерунду прописывал — тоже про девок, которых баи нынешние трахают… то опять же сердце не болело…
— Читал я все это, — махнул беспечно рукой. — Я такого сроду не писал и писать не стану.
Я врал. Мне хотелось так писать. Но я ведь не умею так писать. И масштабы мои не такие, как у журналиста, которого сейчас поедом съедает первый секретарь ЦК комсомола. Об этом кто-то смело вякнул вчера на совещании, но закрыли рот и не дали больше говорить.
— Слушай, ты верно сказал. Писнул бы о нашем возрождающемся учреждении. Ты знаешь, большое будущее. Я тебя на ставку поставлю. Создай нам патриотическую книгу.
— Сколько дадите?
— За всю книгу? Да ничего не пожалею. Только, чтобы с фотографиями. С историей. У нас, знаешь, сколько замечательных людей? Да в любом кабинете можно найти замечательного человека. Я сам кадрами занимаюсь. Так что давай, я позову человека? Мы сейчас оформимся. Учтем все честь по чести. Найдем фотографа. Лады? А?
— Давайте перенесем этот разговор. Месяца через два-три я, может, возьмусь. А сейчас, ей Богу, пишу вещь. Тоже патриотическую. О комсомольском подполье на Украине.
— Чего они там на этой Украине только не делали в подполье! Почитаешь — так всех немцев они, украинские партизаны, укокошили! А когда к ним в Западную Украину пришли мы… Так они нам в спины… Все продырявили!
Мы остались довольны друг другом. Я пообещал приехать через два месяца, и тогда мы заключим договор на создание патриотической книги об этом замечательном учреждении. Я о нем, этом учреждении, наслышался уже много анекдотов.
Вернувшись обратно к машине, я, только мы отъехали, спросил шофера, глядя на телефон в машине:
— Вячеслав Максимович так вам приказывал насчет того, чтобы я к нему зашел?
— Ну, а почему по-другому? Телефон для того и существует.
Шофер повернулся ко мне, милый человек с волевым интеллигентным, явно не водительским лицом.
— А звонит по этому телефону некая Елена Зиновьевна Мещерская?
— Звонит, — ответил он. — Пять минут назад звонила. Кстати, спрашивала о вас. Не хотите ли поговорить? Или боитесь, что разговор состоится в присутствии работника органов?
— Позвоните.
Он поднял трубку, набрал нужный для разговора номер.
В трубке был хорошо слышен мне Ленин голос.
— Да? — пропела она. — Сеня? Это вы?
— Я, Елена Зиновьевна. Тот молодой человек спортивного вида, о котором вы спрашивали, уже поговорил с Вячеславом Максимовичем. Он здесь, в машине.
Водитель протянул мне трубку, правя ловко одной рукой.
— Лена, — тихо сказал я, — ты догадалась, что я здесь. Я хочу, наконец, поговорить…
— Я видела тебя вчера. Не скажу — где.
— В гостинице. Ты была с…
— Вообще рядом сидящего не бойся. Но больше не говори. Что ты хочешь теперь?
— Я хочу, чтобы ты познакомила меня с письмами Шугова.
— А ты спросил? Они есть?
— Я, думаю, есть. — Я почему-то верил своему соседу и говорил открыто, не боясь. — Ты же любила и любишь его.
Долго, целую вечность, длилось молчание. Потом я услышал ее слезы.
— Не плачь! — попросил я, и очень радовался тому, что она плачет: пусть этот молодой милый интеллигент, сидящий рядом со мной и ловко управляющий «Волгой», поймет, если не понял до этого, что есть любовь на свете, что звонки через него от Вячеслава Максимовича к ней, Елене Мещерской, не так и окончательны: следует за ними неизвестность.
Лена все плакала.
— Не плачь, — опять попросил я ее. — Не стоит плакать… И прости меня, что я так долго много не понимал.
— А кто из вас, мужиков, что-то в женщинах понимает!
Она заплакала пуще. Водитель взял одной рукой меня за плечо. Я увидел доброе лицо молодого человека, упрашивающее меня больше не тревожить женщину. Мы встретились взглядами: нет, он никому не расскажет о нашем с Леной разговоре.
7
Письма Павла Шугова. Что скрывает буква Н.?
Бывший сержант Шаруйко вносит ясность.
Дружба Павликовой с Леной.
Почему полковник решил перейти границу именно на этом участке?
Что означают предупреждения генерала Ковалева?
Я знал, что есть эти письма. Я почувствовал это тогда, когда к нам в гарнизон приезжала на гастроли труппа из Москвы и артистка Вероника Кругловская передала мне письмо от Елены Мещерской. Я был тогда на одном из их концертов и мне довелось, несмотря на дикую ревность (наверное, деланную) моего сотрудника, поэта Пети Петрова, поговорить с Вероникой еще раз.
— Боже, как она страдает! — сказала Вероника. — Это письмо не для вас, как мне кажется. — Вероника была серьезней, чем мне показалось, когда она пришла в редакцию первый раз. — Это письмо — дань ее бывшему мужу. По-моему, она его по-прежнему любит.
Тогда я усомнился. Никакой любви не было! Я знал это из папочки.
— Тогда зачем она хранит его письма?
— У нее есть письма Шугова? Но они же… Не такая Лена беспечная, чтобы за ней из-за писем тянулся хвост из прошлого.
— У нее есть эти письма! — заявила Кругловская. Некрасивое лицо артистки одухотворилось враз. — Это вы, мужчины, заметаете всегда следы. Вы трусливы, как мыши. А женщины… Если они любят, они не боятся.
Я помнил об этом разговоре, но особых надежд на письма все-таки не питал. Да я всегда разочаровывался в том, что мне сообщила Вероника. Факты, которые крутились вокруг Шугова и его отношений с женой, продолжали быть железно-логичными: никакой любви между ними быть не могло, потому что любовь между такими исключена. Избалованная родителями и обожающим ее сомнительным окружением, Лена не могла, как я уверял себя, любить. В этом уверял меня всякий раз и Железновский. Как она могла любить, если принимала Н., потом С., если она «крутила» с Железновским, да и со мной не прочь была пофлиртовать. Но разве это — все? Где появлялась она, там и были поклонники, которым она отдавала, по выбору, предпочтение… А Павел Шугов? Служака. Холодный исполнитель воинского долга, оказавшийся еще и с двойным лицом. Разве могут такие любить? Шугов тоже не мог любить!
И вот я держу, наконец, в руках их письма.
— Я догадываюсь, почему отдаю эти письма. Конечно, с возвратом. — Мы стояли с Леной в каком-то темном, грязном подъезде — свидание тут назначила она, и я не знаю, почему избрала этот подъезд (только позже я об этом узнал: тут после развода со своей новой женой, обитал в холостяцкой квартире Железновский. Стоило ей крикнуть о помощи, он мог тут же сбежать по лестнице со своего первого этажа). — Мне неприятно, что ты знаешь о моих отношениях с Вячеславом Максимовичем Ковалевым. Кстати, он не знает о моих этих письмах. И ты меня никогда не выдашь… Так вот, я догадываюсь, почему отдаю. Я хочу этим как бы оправдаться. Я не продаюсь Вячеславу Максимовичу. Я люблю и буду любить другого, а не его. Это все, что могу сказать тебе…
«7.11.19.. года.
Лена!
Я боюсь тебя назвать как-то иначе, прибавлять к твоему имени слова, которые всегда сопровождают женщин и мужчин. Я не вправе себя назвать мужчиной, а тебя — женщиной. Мы еще парень и девушка. Ничего мы еще не сделали в этой жизни. Мне, однако, почему-то хочется именно тебе рассказать, о чем я думаю уже не как парень, только что окончивший десятилетку, а как взрослый мужчина.
Лена!
Я хочу поступить в военное училище, я хочу поступить в пограничное училище. Из всего того, что я знаю о долге, чести, верности нашим идеалам, это мое личное предназначение самое весомое. Именно тут, как на оселке, отточится характер человека. Я понимаю, что здесь люди проверяются на деле. Здесь должны быть самые чистые, самые мужественные, самые преданные. То есть — самые достойные. Народ должен быть всегда уверен в этих людях.
Я пишу тебе это письмо, Лена, после того парада, который видел собственными глазами и в котором не отказался бы участвовать. Я пишу в казарме, куда нас поместили, чтобы мы успешно подготовились и сдали все экзамены. Удастся ли мне это сделать? Мне будет больно, если мне откажут.
Павел».
«Дорогой мой мальчишка Павел Афанасьевич!
Ты не обижайся, что я сразу не смогла тебе ответить. Да и какая разница! Получишь ли ты письмо на день раньше или на день позже, — не все ли равно? Знай, я никогда не ставлю даты высылки письма… Высылки? Или посылки? Видишь, я слабее тебя владею словом. У тебя какой-то строгий и официальный слог. Ты — как маршал всей Страны Советов. Четок, краток, лаконичен.
Скажу откровенно, меня чуточку взволновало, кем ты будешь. И я рассказала своим родителям об этом. Папа меня похвалил, что я делюсь с ним личным. По-моему, мой отец серьезно это воспринял и решил устелить тебе дороженьку. Такой уж папаня! И ты на него не злись! Ты в школе был всегда — дурачок! Знаешь почему? Да потому что этого „почему“ у тебя хватало на всех нас. Праведник! Не отвергай помощь.
Не безразличная к тебе Ленка.
P.S. Учти, я люблю стройных мужчин в военной форме. Но особенно моряков. Это, может, к твоему огорчению. Но ты поступай в пограничники».
«1.05.19.. года.
Милая Леночка! Я недавно получил парадную форму, и сегодня маршировал в ней в славном сводном отряде пограничников. Немножко похвастаюсь! Лена! Я подошел по росту — не ниже 185! Я подошел по весу — 84–86, я подошел… одним словом, по лицу. Оно у меня оказалось даже через край серьезным, и мы с товарищем Н. шли в первой шеренге. Лена, я чуть-чуть в подпитии. Н. тоже. Он ушел, не знаю куда. Но если к девчонкам, ты не ревнуй его. Я понял в прошлый раз, что ты глядела на него больше, чем на меня. Конечно, новенький всегда лучше старенького. Но я тебя к Н., представляешь, не ревную. Он душка. Мы с ним тут намуштровалис-я-я! И сколько спас он моего времени на занятиях полевых! Сколько мы с ним пропрятались в стогах сена, когда шла муштра. Он выдумщик, и мы с ним мелко шалили… Приедешь ли ты к нам с Н.? Только, пожалуйста, не обещай ему приехать, обещай приехать мне!
Я тебя тоже люблю.
Павел.»
«Если будешь так ревновать каждого встречного и поперечного, я писать тебе не стану.
Кобра.»
«Дружочек!
Я извиняюсь, стою коленопреклоненно. Пиши, пиши, пиши! По любому адресу — пиши. Я тебя обожаю, я тебя люблю. Я вижу тебя своей женой. Телеграфируй! Телеграфируй согласие. Иначе помру. Я не отдам тебя Н.
Павел.»
«Павел!
Да, Н. был в нашем городе. Да, все равно тебе об этом расскажут. Я не виновата, что ты едешь на какую-то там проверку частей в один город, а Н. - в другой. Н. может в таких обстоятельствах завернуть в мой город и передать от тебя привет, а ты праведник, ты никогда не нарушаешь уставы и наставления, в том числе приказы. Ну и помучайся! Поразмышляй. Мы с Н. сходили в кино. Но только однажды. Я сама взяла над ним шефство, и сама, признаюсь чистосердечно, повела его на культурное мероприятие. Потом мы съели мороженое, порассуждали о трусливом Павле Афанасьевиче Шугове. Н. глядел на свои часы и примерно представлял, как ты в настоящие минуты контролируешь погранвойска по всей строгости уставов и наставлений.
Н. уехал, побыв в нашем городе сутки. Он уверял меня, что за это, кроме, может, пяти суток ареста, ничего больше не дадут.
Сколько же я жду тебя, Павел!
Ну пусть дадут тебе хоть десять суток, но приезжай.
О свадьбе — ты все говоришь, говоришь о ней! — надо решить серьезней, чем тебе это представляется. Мои родители — а я их в этом слушаю серьезно предупреждают тебя, чтобы ты не особенно меня брал. Они считают меня взбалмошной, несерьезной, ветреной.
Лена.
Прости, Павел. Отец делает в письмо вкладку. Он запечатает письмо сам. Я не касалась и пальчиком вкладки. Что скажет отец — так и есть.»
«Дорогой Павел!
Не верьте этой мадемуазель! Она игрива, но верна Вам. Нам бы хотелось, Павел, чтобы Вы действительно серьезней сговорились, выбрали бы время, отпросились у своего начальства и приехали для оформления брака. Мы Вас любим. И, надеюсь, что у Вас к нам нет плохих чувств.
Мещерский.»
«Павел!
Ты не пишешь! Ты обиделся? Ты не прав, Павлуша! Ты не смеешь обижаться. Ну, пожалуйста! Не обижайся! Как тревожно… Ужасно тревожно. Приезжай, и я — твоя.
Твоя Лена».
«Дорогая моя Леночка!
Дорогая, любимая моя женушка!
Ненаглядная моя! Моя самая единственная и самая стойкая любовь!
Я тут все время думаю о тебе. Думаю, и служба не идет без тебя. Брать же тебя боюсь! Ах, время! И я переборю себя. Я и не знал, что так бывает. Ежеминутно думаю и думаю о тебе. И почему-то мрачные мысли порой бьются крыльями черными вокруг меня. Почему ты так красива? Почему они все пялятся на тебя? И на тех вечерах, на которых мы с тобой были, и на вечеринках… Не вызывать же мне каждого, кто льнет к тебе, на дуэль!
Однако я готов стреляться на дуэлях!
Я готов, готов… Готов, если к тебе они будут заявляться без моего разрешения. Я тут пробуду еще две недели — служба, мой начальник строг зело, ругается и бранится! И не могу я уехать ранее.
Я так не могу.
Твой несчастный Павел.»
Я перечитывал письма разных лет, и любовь, трепетная, нежная, строгая, придирчивая, шумящая, требующая, замечательная и пакостная, серьезная и по-детски лепечущая, была в этих письмах. Она жила, любовь. Она торжествовала. Беспокоилась. Плакала в одиночестве и радовалась вдвоем. Она ни минуты не имела покоя. Вплоть до того страшного шага Павла Афанасьевича Шугова она, их любовь, жила.
Что же тогда произошло?
Почему Шугов, этот искренний, любящий человек, сделал такой страшный шаг? Где этому отгадка?
Мы договорились, что я верну письма на следующее же утро.
Идя на совещание в «Известия», я захватил письма — ко времени, назначенному мне Леной, быть на месте и вернуть ей их.
Лена была точна. Она стояла и ожидала меня. Я отдал ей письма, она спрятала их в сумочку.
— Ты торопишься? — спросила меня.
Я назвал время очередного нашего заседания — должно оно состояться не ранее одиннадцати. Выходило, что у меня в запасе полтора часа.
— Тут ты дойдешь за десять минут пешком. Если надо, я тебя провожу. Не возражаешь?
Я кивнул головой.
— Ты заметил это Н.?
— Естественно.
— Все-таки, зачем тебе все это надо?
— Не знаю, — сознался я. — Но не могу от всего этого избавиться.
— Ты помнишь момент, когда выходил из ворот штаба отряда?
— Когда пробежала мимо ты? И поглядела на меня как-то странно? Я, впрочем, всегда хотел спросить, что ты тогда хотела сказать?
— За мной шла просто охрана. Я была под охраной. И меня, по сути, вели на допрос.
— Это было необходимо, очевидно.
— Я согласна. Тем более, в таких обстоятельствах бывают виноваты все. Слава Богу, меня после допросов отпустили.
— Просто так? Или было что-то иное?
— Именно иное. Но не то, что ты думаешь. Там был Н.
— Н.? Но он же пограничник. Он же учился вместе с твоим мужем? А пограничников к расследованию не допустили, как мне тогда показалось. Даже я присутствовал в качестве постороннего, ничего не понимая в пограничной службе. Лишь бы не пограничник!
— Тебя прикрывал Железновский. Он был уверен, что ты переменишь профессию. Не знаю уж почему, но ты ему нравился как товарищ.
— Я увел тогда тебя на танец. От Железновского, самого Железновского! Он подумал: какой хваткий! Пригодится в нашей работе. Я же знал их кадры на тот час, у них их попросту не хватало. Или были некудышние. Я же играл с ними в волейбол. У иных — пара извилин.
— Ладно, это потом, — как-то занервничала Лена. — Н. вчера позвонил мне на дачу. И, по-моему, то, что он говорил, прослушалось. — Она посмотрела на меня изучающе. — Ты понимаешь, кто прослушивает? Ковалев Вячеслав Максимович. Шугов был и остается главным его врагом. Ковалев полетел вниз при Хрущеве потому, что Шугов оттуда передал какую-то негативку на Ковалева.
— Об этом мне известно.
— Я знаю, тебе сказал или Железновский, или…
— Или сам Ковалев.
— Ковалев?
— Не знаю.
— Теперь все то, что было передано, зачеркнуто.
— И что говорил Н.? — не выдержал я ее отступлений от главного.
— Ты сам можешь догадаться. Ковалев буквально заставил уйти Шугова туда. Или тюрьма за эти листики из Боевого устава, или туда. Главное, тюрьма и мне. Разве я была бы первой и последней?.. Ну скажи, лжет Н.? Или, узнав, что я… живу с Ковалевым, хочет расстроить нашу связь? Я ведь тогда и с пистолетом не лягу с ним в одну постель!
— Ты и Н.? — спросил я напрямик. — Что это?
Лена помолчала, взялась за мою руку, показала на часы, что мне надо идти. Мы пошли. Она стала рассказывать, что было с Н. Ничегошеньки не было!
— Я могла бы выйти за Н. И, может, была бы спокойной жизнь. Там, при допросе, Н. выкрутил меня от наказания. Он оказался порядочным человеком. Я не думаю, что ради Шугова и меня он выкручивал Лену Мещерскую от наказания, от тюрьмы. Просто он знал тогда то, что я не знала и никто не знал, кроме Ковалева. Ковалев плел сеть Шугову и заодно мне…
— Ты всегда не была точна во флиртах.
— Моралист! Да знаешь ли ты женщин, чтобы судить о них таким образом?
— Кое-что знаю и о них.
— Напечатал роман и хвастаешься… Подмечено, ничего не скажешь! Она, передразнивая меня, прочитала выдержку из этого романа: «Страсть и чувствительность есть дар божий. Без этого нет женщины». — Мальчик, зеленый огурчик! Подмечено, но далеко от женской сути. Чтобы, зеленый огурчик, суметь посочувствовать похоронившему, надо самому похоронить. Чтобы писать о чувствах женщины, надо побыть в ее шкуре.
Мы подошли к известинскому дому, она сунула мне на прощание руку.
— Советую тебе, — Лена не глядела на меня, — не выступать против Ковалева. Боже тебя упаси!
— Ты дашь мне координаты Н.?
— Нет. Он уже улетел. И, думаю, ему будет жарковато жить. У Ковалева хватка.
— Кто теперь Н.?
— Всего-то полковничек. Дальше — никак. Теперь и подавно.
После совещания я позвонил от своего товарища по вертушке снова Ковалеву.
— Вячеслав Максимович, я подумал над вашим предложением… А что, ежели и вправду создать вам книжку? Я отложу, пожалуй, свою рукопись о подполье украинского комсомола в войну… Только, Вячеслав Максимович, вы знаете… Я дорого ныне стою. При заключении договора я назначу цену. Конечно, по авторскому праву. Отсебятиной заниматься тут не стоит.
— И юрист не позволит, — проворчал Ковалев. — Когда ты хочешь приехать к нам?
— Давайте договоримся на завтра. Совещание уже сегодня завершится. У меня три дня свободных… Правда, покупки надо совершить.
— Ну об этом ты не беспокойся. Я скажу Шаруйке, он это оформит у нас. Ты только список предоставь, что тебе нужно.
— Спасибо, Вячеслав Максимович. Время назначайте. Я-то подстраиваться буду. У вас масштабы.
— И иронией, что ли?
— Ну уж не знал, что искренность мою так толкуете!
— Не взвивайся, не взвивайся! В десять устроит?
— Вполне.
— Я знаю, куда машину посылать. Приедет за тобой, без двадцати — будь готов.
— Всегда готов! — улыбнулся я. — Видите, хотя по телефону и не видно, вскидываю, как пионер, руку!
— Это дело! Когда так все отвечали, и жизнь была нормальной.
Где-то, уже за двенадцать ночи, в номер ко мне настойчиво постучали. Я накинул на себя спортивку, всунул ноги в тапочки и, подойдя к двери, чуть отсунувшись в сторонку от нее, как учил Железновский, спросил:
— Кто?
— Я. Шаруйко.
Голос был знакомый. Я открыл. Шаруйко стоял перед дверью один, за пазухой у него что-то выпирало. Я кивнул туда, спросил, что это у него?
— Бутылка, — ответил он.
Я засмеялся.
— Зачем? Да в такое позднее время?
Шаруйко извинился, сказал, что только закончил свое дежурство.
— Не обижай, одевайся, да посидим там, в холле.
Я оделся на быструю руку, взял ключ и захлопнул дверь. Я понимал, зачем меня зовет туда Шаруйко. У него мания преследования. А, может, и не мания, просто он знает, как все это теперь делается.
Мы сели в мягкие кресла, потихонечку подвинув и низкий письменный столик, и эти кресла, чтобы никому не мешать. В этой престижной гостинице не было случайных людей, и стояла уже в это время тишина. Шаруйко распечатал бутылку — вино было высшего качества. Здесь же, на столике, мы позаимствовали стаканы: они стояли возле графина.
Наполнили стаканы и молча выпили.
— Я не видел вас ни сегодня, ни вчера. — Шаруйко повертел бутылку и решительно снова наполнил стаканы. — Думаю, вас пасут не из ревности. И я говорю вам это серьезно… Знаете, я тогда сказал правду единственную. Ну в тот раз, когда мы встретились с вами. Я сказал о Павликове и его жене. Скорее, я сказал о ней. Это забыли все, что она есть на свете. Единственный человек не забыл — Елена Зиновьевна. О чем это говорит? О человечности. Вы, может, не знаете, но Елена Зиновьевна дружила с Павликовой и тогда. Она к нам приезжала на заставу несколько раз. И когда Павликова ехала за покупками какими в городок, то всегда заходила к Елене Зиновьевне, или просто поговорить, или еще по каким делам. Мне об этом рассказывал Смирнов, которого…
— Уже нет в живых, — сказал я с какой-то ненавистью.
— Что верно, то верно. Что он не насексотил, не связал Павликову и Елену Зиновьевну, ему честь и хвала. И одна бы, и другая покатили бы, поехали по этапу. Де-сговор уж заранее! А они — по-бабски. Знаете или нет об этом, но у Елены Зиновьевны детей не было никогда. И она спрашивала у Павликовой: может, что и как по-другому у них? То есть у Павликовых? Вот о чем и толковали женщины!
— И где теперь Павликова? — спросил я, быстро хмелея. — Вы же спросили тогда… Я понял, что вы знаете.
— Не догадались? На даче у Елены Зиновьевны живут. Ребятишки уже подросли, в школе учатся. Там село рядом. Они в сельской школе и учатся. А Елена Зиновьевна их музыке наставляет. Там клоп такой, Олег, уже пиликает, как взрослый, на скрипке. Одна умора!
Я спросил, как попал Шаруйко к Ковалеву и почему он, Шаруйко, думает, что нас пасут с Еленой Зиновьевной по-другому, не по ревности?
— Как я попал, сперва отвечу. Сразу после тюрьмы мне предложили поехать сюда. Да, досрочно освободили. У меня мать померла, сестры тоже. Один я на свете остался. А товарищ генерал предложил работу и стол. Я не мог отказаться. А в благодарность за ваше старание по нашему освобождению я вам сообщаю, что вас пасут. Меня не обманешь! Я прошел и холерные бараки, и синел от холода. Теперь вот живу, но холопствую. После пограничной жизни, после того, как Павликов нас сделал людьми, которые себя увидели со стороны и возгордились, тоже поучительно жить. «Умеешь жить — вертухайся!» И я вертухаюсь. Жизни честной на этой земле не жду. За себя же всегда постою. И за вас постою. Если уж так, то вот…
Шаруйко неожиданно повалился на колени. Я запротестовал, но он меня не слушал.
— Бог тебе немало грехов снимет за наше освобождение! — забормотал Шаруйко. — Верно, верно, мужик! Когда-нибудь соберемся и купим тебе что-либо ценное… А то дом поставим!
— Встань, сержант! Ну встань! — взмолился я.
— Нет, хоть убей. Ты меня живым из петли вытащил. Я же не знал… Хотя так мельком объяснили. А теперь все узнал…
— Встань, ты же пограничник! — взбеленился я.
Шаруйко осоловело поглядел на меня и уже осмысленно проговорил:
— А верно, мужик!
Он встал, повертел в руках бутылку.
— Отсюда-то я выйду… Ну из гостиницы. Если добавить?
Я кивнул головой. Мы зашли ко мне, я достал вино, выпили.
— Страшно! — прошептал Шаруйко. Мне кажется, он уже говорил так.
Я показал на койку, которая была в моем номере лишней для меня.
— Ложись?
— Дойду. Трошки посижу и дойду… Это там, поле дикое… После верной службы и — в пасть!.. Я хлебником вдруг устроился, верите! И спас Бог! А Матанцев… Он был всегда заводной… Он… Детишек как любил нашего заставного! Как любил! За что?! Ну за что, ты мне скажи? И хотят еще, чтобы по-ихнему было! Чтобы эти, там, наверху, плясали под дудку ихнюю! Слышите, вы? За что меня тогда на заставе? Ну видел и я, как уходил… Но издалека… В бинокль! Темно уже к тому же было!
— Успокойся, — просил я. — Пожалуйста, успокойся!
— Они холостильщики, коновалы! Они сделали из мужиков… Не хочу! Не хочу и все…
Я уложил Шаруйко на свободную койку — ведь заплатил за двойной номер, был его хозяином. Что-то беспокоило меня в выкриках Шаруйко. Он не может мне помешать. Нет! Если они мой номер прослушивают, если Н. раскрылся, то тогда книжка моя, которую я согласился написать Ковалеву, лопнет. И я не соберу материал о самом Ковалеве. Я знаю, как мне легче «расколоть» его. Я попробую льстить. Я узнаю его душу. Я проверю, как он мог запугать полковника Шугова, как он мог отправить его, по собственному желанию, в иной мир…
Утром я проснулся от плеска воды в ванной. Я обо всем забыл. И когда вышел Шаруйко, только тогда вспомнил, что мне к десяти надо ехать к Ковалеву.
— Я побрился вашей бритвой. Ничего?
Бодрый, свежий, готовый к выполнению задания генерала Ковалева, бывший сержант Шаруйко приятно улыбался.
— А чего бы выходить не побрившемуся? Правильно сделал! Еще бы наладил пошамать… Там, в тумбочке, все. И кипятильник там. Чай тоже найдешь. А хочешь — возьмешь кофе.
Я пошел в ванную, и вскоре сидел под холодным душем и охал, и ахал. Все из меня выходило плохое, злое и дерьмовое. Я верил, что Шаруйко не играет. Он был вчера, может, впервые за последние годы честен и искренен. И впервые он предает своего генерала.
Когда я вышел из ванной, на столе было по-царски все приготовлено.
— Я же был хлебником! — Шаруйко засмущался, помогая мне отыскивать запропастившуюся куда-то майку. — Похолопствовал и тамочки! Ну с умом холопствовал! И тут… Я помню, что вчера сказал…
Я показал на стены и на уши.
— Здесь нет. Я знаю, где есть.
— Ты вчера сказал, что Павликова живет на даче, верно?
— Ну?
— А еще кто там?
— Мой кореш присматривает. Поэтому положиться можно.
— А Елена Зиновьевна, как там устроена?
— Она по вызову к Ковалеву ездит.
— У Ковалева есть жена?
— Жена у него померла при загадочных обстоятельствах. Лишь дети. Но у них нет общего языка.
Мы долго копались с Вячеславом Максимовичем в его библиотечке выбирали книгу по объему и формату, которая бы ему понравилась. Он завелся, волновался, вышагивал по кабинету, рассуждал, что дать на обложку, как отобразить на ней и человеческий фактор (то есть, я понял так, что он хочет, чтобы на обложке фигурировал и его портрет, пусть на втором плане, пусть на фоне каких-то масштабных дел общества, которым он руководит).
— Важно! Очень важно все предусмотреть! — рассуждал Ковалев, вымеривая еще не такими и старческими шагами свой кабинет. — Вот погляди! Леонид Ильич, он этому посвящает немало времени. Я говорю о мемуарах. Пусть брешут, что пишет не сам. Ты думаешь, я сам буду писать?
— Писать буду я за вас. Если вы, конечно, не против.
— Ха! Не против! Да с великим удовольствием! Что бы мы тогда сидели с тобой? Ты вон как размахиваешься в газетах, на целые полосы!
— Но вам придется со мной посидеть немало вечеров. Главное, подобрать материал.
— Да материалу — завались. Вся жизнь моя была на виду у народа. Я это не скрываю.
— А чего вам скрывать! Вас хотел кое-кто лягнуть, сам получил!
— Ты имеешь в виду этого кукурузника, что ли? Никитку? Да дурачок! И не только дурачок. Преступник! Он Сталина закопал. А можно ли было так? Постепенно! Постепенно. Постепенно. А то — трах, бах! Нате вам! На весь мир. В позор втолкнул главное — чекистов. Слава Богу, мы есть, низовые. Мы никогда в это не верили. И никогда этому кукурузнику не простим.
Ковалев насторожился, прямо зыркнул на меня, когда я сказал о документах, которые мне бы понадобились. Но я сразу его успокоил: не беру же сразу их, с собой! Это мы будем делать за беседой, смотреть, что выгодно в книге показать, что не стоит показывать.
— Конечно, так и будем, — сказал Ковалев, уже генеральским голосом. Иначе-то выйдет, как у этого кукурузника.
— Мы этого не допустим. Статья о вас должна быть самой сильной, главной.
Он помолчал, потом, смерив меня таким ироническим взглядом, сказал:
— Не пойму я тебя! То ли ты насмехаешься, то ли у тебя такой стиль уговорить человека.
— Да со всеми разумными людьми я так и говорю. Ну а как же иначе?
— Ладно, ты не обижайся. Книжку делать, понимаю, сложно… А ты чего хотел опять встречаться с Мещерскими?
Вопрос не застал меня врасплох. Я подготовлен был к нему Шаруйко.
— Я и не собирался с ними встречаться, — сказал я, как можно равнодушнее. — Однажды я с ними, правда, встречался. Это когда писал о том, чтобы сержантов заставы реабилитировали. Вышло неловко, недовольны были они. Хотя говорили же о том, о чем я написал.
— Ну ты связался с евреями!
В прошлый раз Ковалев мне так же примерно сказал. Постоянен, не отступает от своих убеждений.
Мы, уже спокойнее, опять вернулись к будущей книге. И он уже мне, кажется, верил. Я теперь был умней, не настораживал его своей лестью. «Нет, — думал я, — лесть тут не подходит. Тут нужен другой метод».
Я думал, как его расколоть. Я должен его расколоть!
Во что бы то ни стало должен добраться до сути.
…Я пришел вскоре на дачу Мещерских. Там нашел Павликову. Нельзя сказать, постаревшую и подурневшую от всего того, что пришлось ей пережить. Это была просто сорокалетняя женщина, как многие работающие предостаточно и тяжело. Она управлялась на даче Мещерских во многих должностях: уборщицы, поварихи, садовника, огородника… Но, как я понял, и платили ей немало. Во всяком случае, живя в отдельном домике-времянке в глубине дачи, она имела приличную обстановку, неплохую кухню и сравнительно хорошую одежду. Я попал на обед. Детей за широким столом из дуба было четверо. От одиннадцати до пятнадцати лет. Все они, когда я вошел, встали. Или приучили их так в школе, или тут Мещерские заставляют вставать, когда приходят.
Меня посадили за стол, и я не сопротивлялся, время было обеденное. После кофе Ковалева и поесть не мешало.
Павликова налила мне тарелку красного наваристого борща и положила, как всем, кусок мяса. Она пододвинула ко мне горчицу, соль, перечницу.
— Добавляйте на свой вкус, если что у меня не так.
Но все было и так вкусно.
Я не спеша ел. И семья ела не спеша.
— Одного не хватает, — сказала Павликова. — Уже взрослый. В ПТУ учится. Саша наш.
Дети посмотрели на мать, удивляясь, чего это она рассказывает мне о Саше? Они, видно, привыкли не отчитываться перед другими.
— Я его помню, — стал вспоминать. — Мы его тогда посадили с шофером.
— Да. Клеенки не хватило, чтобы хорошо закутать. Эти были маленькие, а на него требовалось клеенки порядочно.
Мы потом, пока не ушли дети, молчали. Как только хлопнула калитка, и веселый детский гам послышался в той стороне, куда они направились, Павликова, изучающе глядя на меня, спросила:
— Вы так приехали ко мне? Или по какому делу?
Я поблагодарил за обед и уклонился вначале от ответа.
— Нет, вы все же скажите? А то я беспокоюсь.
— А чего вам беспокоиться?
— Понравится ли все это моим хозяевам.
— Старым? Или Елене Зиновьевне?
— Скорее, старшим. Она-то… Она ничего не скажет. Но она не хозяйка здесь.
— Но живет-то здесь она?
— Нет, родители это понимают, не мешают ей. Но со мной они говорят как хозяева.
Я присел на стул бочком и, сам не знаю как, спросил:
— Скажите, как по-вашему, почему полковник Шугов перешел именно на участке границы заставы, которой командовал ваш муж?
Она не растерялась, медленно вытерла стул, села напротив меня.
— Вы садитесь удобней, — сказала поначалу. — Чего вы так бочком? Вроде — порх и улетели?.. Почему перешел именно у нас? А вы не догадались?
— Я только теперь догадываюсь.
— Ну и что вы надумали в своей догадке?
— Я думаю, в другом месте он бы и не перешел.
— Может, и так. Потому и снесла я все легче, что ли, если уж говорить откровенно. Я слышала от Лены, чем вы занимаетесь. Слышала, как за сержантов писали… Только сразу охлажу вас от головокружения. Если вы думаете, что одни вы воевали за справедливость, то о том забудьте. Я сотни людей вам в пример приведу… Уж говорить, так говорить! Вся рать пограничная поднялась на их защиту… Шугов — Шуговым. А честь других… Нет, честь не замай! Такой есть русское слово. Хорошее слово.
Я сказал, что никогда себе не приписывал лавры освободителя. Да это мне и ни к чему. Мне своего хватает.
— Сотни людей тогда не смирились. Жив был этот изверг Берия. Не юлили, на эшафот шли ради справедливости. Наделал, конечно, Шугов дел!
Я вспомнил, как она сидела на чемоданах, когда я приезжал на границу после побега Шугова. Я пытался увидеть ее лицо из того времени. Нет, на нем не было слез. Она тогда еще не знала, что муж в чем-то виноват? Хотя бы в том, что Шугов пришел именно на его участок. Павликов доверился полковнику.
— Мы дружили, — будто улавливая, о чем я думаю, заговорила она снова. — И я догадывалась, что на Павла Афанасьевича поставлены капканы. Теперь говорят: он в училище что-то такое сделал! А я думаю о другом. Сделал он не то, когда женился на Леночке. Такие красивые должны быть в гражданке, а не в форме.
— А почему вы догадывались, что на него были расставлены капканы? Неужели в то время вам было что-то известно?
— А Лена? Или она не рассказывала? Она рассказывала мне обо всех, кто за ней бегал. Мне поначалу-то завидно было. Думаю, зовут тут тетенькой, комендантшей… Я-то на заставе правила порой, как у Пушкина в «Капитанской дочке». Мне что? Сапоги кирзовые на ноги и бегаю, порядок навожу. А Леночка… Когда она рассказала мне о генерале, я подумала, как он ведет себя, так это будет ее ошибкой, если она вовремя не оттолкнется! Так и вышло.
— Вы говорите о генерале, к которому она теперь ездит?
— Да. Вы скажете: я ошиблась, видите, он не забыл Леночку! Но это же чудовищно. По судьбам прошагал и захватил женщину.
Я стал оправдывать генерала. Если бы Леночка не захотела, она бы не пошла.
— Я с пятерыми была и, как сучка, готова была распластаться тогда… Чтобы вместе, за другими не поплентаться!
Она вставила украинское слово.
Я увидел ее в том времени опять.
А что? Не нашлось бы и на нее?
— Ужасно, я вижу когда его… Я все вспоминаю. Как Шугов к нам прибежал. Как была или не была! Может, он тогда Лену-то спас! Он знал, Шугов, она выкрутится без него тут. Так ведь и вышло. А с ним… Загремели бы.
— Я об этом уже слышал… Но вы теперь сказали: когда видите его… Он сюда приезжает?
— Очень редко. И то, когда меня не бывает. Он кое-что помнит… Не в свою пользу… А приезжает… Видимо, ему кто-то звонит.
— Ну а как вы не бываете? Что у вас есть еще какая-то работа?
— Я учительницей работаю в начальных классах. Сашенька мой брал меня учительницей. Я тогда только окончила педтехникум. Уже тогда пограничники или медсестер брали, или учительниц.
— Вы здесь, в деревне, и учительствуете? И успеваете все по хозяйству?
— Можно было бы в деревню уехать, там и дом дают. Но я боюсь. Не вытяну их, детишек. С помощью Мещерских это выйдет. У них внуков-то нет. Они вроде моих и любят. Питанием помогают… Чего рваться куда-то? Единственно, генерал догадывается, что я знаю то, чего не знает никто… Да и передо мной, как сказала, должник!
— Генерал только догадывается, что вы знаете что-то, что другие не знают? Или твердо убежден в этом?
— Придет, может, время — раскроется! Но я думаю… Что и на таких когда-нибудь найдутся мечи. — Губы ее сжались. — А то все под охраной, все под охраной! Надоело до чертиков! — Она встала. — Езжайте отсюда, не гневите Бога. Уж давно поди доложили, что вы тут и меня обрабатываете.
Я догадался, кто позвонил. Неразборчивый Шаруйко. Он сказал, что там, на даче, дежурит его кореш. Именно кореш и позвонил, что я был у Павликовой. И когда на второй день я связался с генералом Ковалевым по телефону, он мне выговорил:
— Чего-то мне не нравится твое поведение.
— Товарищ генерал, неужели мне нельзя посетить человека, которого я когда-то провожал с границы? Неужели вы не сочувствуете мне? Я же пишу… Мне об этом памятно.
Ковалев буркнул, что и беда таких, как я, которые пишут… Суют везде свой нос. А как напишут, — потом отмывайся!
Я стал его уверять, что напрасно он так говорит, если мы уж договорились, то нельзя подозревать. Иначе я за книгу и не возьмусь.
— Вот как сразу! — захрипел он. — Я дельце твое на досуге пробежал. Знаешь, как в армии тебе говорили? Не умеешь — научим. Ты умеешь. А не хочешь — заставим. Заставить можем. Ты в этом не сомневайся.
Я взорвался:
— Меня один такой уже пугал. Майор из СМЕРШа…
— Железновский, что ли? — хохотнул генерал Ковалев. — Тогда майором был, а уже пугал? А полковником — пугал? Так и майор, и полковник стыдобушка! Ему надо было скрутить твои рога… Одним словом, вот что! Не смей ходить за Еленой Зиновьевной!
— У меня есть за кем ходить.
— И ходи! А сюда — не топай. Не мути воду. Книжку… Книжку напишешь! Ты понял меня? Как миленький напишешь!
— Дулю вам! — крикнул я.
— За автомат схватишься? Как в противотанковом дивизионе? Но с автоматом-то ходить все время не станешь. Да и нет у тебя его. И с дежурства не принесут солдаты, чтобы ты кинулся к пирамиде и схватил автомат… Тебя еще тогда надо было по стенке размазать!
— А вас еще тогда… Вас еще раньше. Когда вы…
— А ну — мо-олчать! — заорала трубка.
— Что будет, если не замолчу? Учтите, генерал… Я сейчас — прямо в редакцию. И напишу, что вы тут мне наугрожали. И ваше поганое учреждение не спасет на этот раз вас от хамства.
— А ну молчать, сукин сын!
— От того и слышу, генерал! Вы учтите, я в газетном деле — не менее вашего вешу. Поняли? Вот и теперь напишу! Все напишу, что знаю!
Видно, Ковалев опешил, что-то бухтел, сопел. Потом:
— Ну чего ты напишешь? Что старик на полном серьезе ревнует к тебе свою женщину?
— Да нужна мне ваша женщина! Я ходил с прошлым встретиться! Вы же не понимаете этого! И никогда не поймете.
8
Болиды — очень яркие метеоры.
Вечные снега в високосный год.
Весна на заставе Павликова.
Помнят ли его?
Железновский в роли моего провожатого.
Эшелон с ранеными.
Генерал Ковалев — инспектирующий.
Лена, зачем ты сюда приехала?
Я закопался в бумаги, бумажки, справки, справочки. Книга об учреждении генерала Ковалева продвигалась вперед и вперед. У нее уже были крылышки, было брюшко, головка. Все было розового цвета, патока лилась из каждой поры этой книги. Я ни на что не обращал внимание. Я медленно шел к намеченной цели. Я хотел одного — чтобы книга понравилась Ковалеву. В первую очередь ему. Еще я хотел: чтобы он открылся мне. Где-то же должен проговориться, кто есть он?
Интересно то, что после этой злой размолвки Ковалев сам позвонил мне. И говорил как ни в чем не бывало. «Ну что с книжкой? Ты не вороти носом. Мне она нужна, а ты заработаешь прилично. Плюнь на то, что грозил, разотри». Я ему стал нравиться больше такой, огрызающийся…
И я перебирал бумажки, фотографии, справки. Вячеслав Максимович Ковалев. Бедное детство в сельской семье. Восемь детей. Он самый младший, любимчик отца. Отец контуженный. Умерла мать. Славик был активистом: ночью Славик приносил в дом пшеницу, просо, нередко мясо и масло. Потом о них на селе недобро говорили, но в то уже время, к зиме последней, Славика тут не было: он учился на летчика, и это тогда было почетно. Приезжал весь в значках, в кожанке, лихо отплясывал дома чечетку, говорили, что — как в кино американцы.
Уезжал из отпуска с приключениями. До этого «врезался» в двадцатидвухлетнюю вдову Клаву, мужа которой забили ребята соседнего села за ухарство. Говорили, молодого лейтенанта любовь так взяла в свои шершавые руки, что он дважды падал в обморок, когда в доме говорили:
— Клавка сегодня принимала председателя артели.
Даже, на что контуженный, его отец, тряся головой, выговаривал:
— С-сучка в женском виде!
Клавка сама пришла в дом, когда ей рассказали о лейтенанте и его такой нездешней страсти: тутошние мужики любить — любили, но тихо, без надрыва и истерики. В доме уже, рядом с контуженным, однако неглупым и работящим отцом Вячеслава, находилась миловидная, ладненькая, манюсенького роста женщина, мачеха. Клавка ей и зашептала на ушко:
— Оставила бы нас поговорить с товарищем лейтенантом…
Никого в доме на тот час не было. Мачеха уважила Клавкину просьбу, но как женщина подглядывала в окно, что они там делают. Клавка бесстыдно сняла кофточку и прижимала свои полные груди к лицу красивого летчика…
Через много лет Вячеслав Максимович повторил подобную влюбленность. И объектом его была уже другая женщина. Блистательно она к тому времени расцвела. Муж привез ее, наверное, на учебу с собой не зря. Соблазн был для таких, как генерал Ковалев, великий.
Лена потом рассказывала Павликовой: один генерал упал в обморок, когда танцевал с ней. Генерал был этот — председателем какой-то комиссии, которая проверяла академию, где учился ее муж. Генерал потом писал ей письма такого свойства: к нему вернулась-де молодость, ибо в молодости случилась с ним подобная история.
Леночка была тогда в светлом платье, ее великолепные ноги, на которые всегда заглядывались мужчины, просвечивались через редкой красоты ткань, и этот генерал это все видел, как во сне, и он просил Леночку, пожалуйста, простить за такую, не мужскую слабость: Боже, упасть в обморок!
Эта комиссия генерала потом вдруг занималась немаловажным, скорее, даже сверхважным: раскрытием диверсии в академии. И генерал Леночке признался, когда пошел провожать ее, что дело архискверное! В то время вся группа Павла Афанасьевича Шугова вынуждена была коротать время в наспех оборудованных помещениях летнего лагеря. Группа была специально вывезена туда на время проверки.
Генерал все рассказал Леночке про себя. Недавно поместил в больницу жену, теперь временно холостякует… И не соизволит ли Леночка принять приглашение посетить его обитель? Ведь он, между прочим, держит на контроле это архискверное дело!
Леночка сказала: а почему бы и нет? Хочется посмотреть, как временно живут одинокие мужчины.
— Нет, нет! Я не одинок! — возразил генерал слишком горячо. — С тех пор, Леночка… Я скажу о банальных вещах. И скажу банально… Но с тех самых пор, как я… упал в обморок, я стал не одинок!
Она засмеялась:
— Неужели я виновата в этом?
— Леночка, конечно, вы. Смешно, правда? Но я рядом с вами молодею. Собственно, я начинаю понимать, почему тогда, в седую старину, пожилые люди так украшали себя молодыми женами. Я когда теперь думаю об этом, мне невмоготу.
Генерал открыл дверь замысловатым, неестественно длинным ключом. Она посмотрела на него с иронией, однако он заметил, что теперь это самый модный, самый надежный замок. Он говорил это полушутливо-полусерьезно. И она поверила ему уже в пятикомнатной квартире-музее, где все было настолько тщательно и с любовью подобрано, что, если бы и нашлись глубоко разбирающиеся, со вкусом люди, они бы не смогли ни к чему придраться. Здесь была старинная, но не пахнущая тленом мебель, а вызывающая приглашать осмотреть ее, пальчиком одним дотронуться вначале, затем бережно и с любовью погладить, восхититься, вобрать в себя здешнюю, божественно сотворенную кровать, низкую, итальянского образца, сделанную лучшей фирмой, которая пользуется всемирной славой; этажерку, куда можно, отстегнув от ушей, удобно уместить в нише серьги; необыкновенную люстру, ровно освещающую сказочно подобранный, квадрат к квадрату, пол… Чего тут только еще не было!
Ее терзала одна мысль: когда он, этот пожилой красавец-генерал, начнет приступ? И это волновало, воображение ее было вспыхивающим. Кроме этого, она давно не жила с Павлом Афанасьевичем. Не жила с тех самых пор, когда, после того самого вечера, он осудил ее за то, что она искусственно взбодрила и себя, и окружающих, надев такое тонкое, пусть и красивое, платье, через которое все можно рассмотреть. Его ревность не имела границ, и в этот раз она решила его проучить. Но все это давалось им с трудом, и две недели они спали порознь, а потом вдруг эта отправка группы в летние казармы…
— Коньяк? Водочка? Вино?
Он упрашивал учтиво. Он уже переоделся. И как ни странно, без формы он выглядел намного моложе, интереснее и значительнее. У него была гордая седеющая голова, широкий лоб, прямой и красивый нос, полные и жадные к любви губы. Он чуточку уже пах духами, и нежный этот запах постепенно молодую женщину тревожил, тревожил все больше и больше.
— Кто будет хозяйничать? — спросила она.
— Как пожелаете. Я бы на вашем месте сходил в ванну, можно освежиться. А я пока приглашу нашу домохозяйку Марью Ивановну. Она здесь, рядом. Минута хода.
— Идет, — кивнула она головой.
«Я не хочу, — сказала она себе, уходя в ванную. — Я здесь не первая и не последняя». Но тут же, второй, какой-то чужой и очень взвешенный голос перебил: это архискверное дело, Боже! Ведь в самом деле — скверно, если впутать в историю мужа… А потом… Генерал не падал в обморок от других! Он упал рядом с тобой!
Она или шутила, или просто издевалась над ситуацией, в которой оказалась.
Когда она вернулась из ванной, все сияло на столе, и было это уважительное серьезное угощение. Даже в доме ее отца, жившего всегда нескудно, такого сдержанного обилия и величия стола не было. От икры, балыка, арбуза свежего и крупного инжира, ананасов… Скорее, можно было бы что-то пропустить, не назвать, чем вспоминать, чего тут не хватает.
Сдержанность ему изменила потом, когда выпил много коньяка, ничуть не опьянев. Он ей сказал потом на ее комплимент, что он так в таком виде хорошо держится: в том и счастье — уметь пить в этом не избавленном от подозрений мире. Уметь и владеть собой потом!
Она взяла инициативу в свои руки, и ему это понравилось, и он был неистощим, это был великий любовник.
— Так в чем же еще счастье? — шептала она, и он то ученически ей подчинялся, радуясь этому, то повторял, наверное, уже испробованное, но всякий раз по-новому восхитительное.
— Ты всегда такова? — спросил он ее вечером.
— Я хочу ребенка.
Леночка все это передала потом Павликовой. И та ей сказала:
— Думаешь, если бесится в постели, значит, сразу и ребеночек будет? Надо при всем том любить. Это же главное.
— Я любила Шугова.
— А сейчас не любишь?
— Но по сравнению с ним Шугов в этом мальчик!
— А ты когда-нибудь с Шуговым так делала, как с этим пьяным старикашкой?
— А ты со своим делаешь? Шугов же — муж!
— Дурочка! Когда мой приезжает с заставы, приезжает усталый, пыльный, потный, я веду его к большому корыту… Я обмою каждый его пальчик. Ты думаешь, только дети любят ласку? Я… Ах, что я делаю в любви к нему, мне стыдно и говорить! И он млеет… Я веду его в своем халатике… И красота моя, и красота моей любви к нему кричит, как жаворонок в небе. Я задыхаюсь в чувстве уважения к его такой замечательной профессии. Я знаю, что он нужен и мне, и другим, такой мной любимый. Я люблю его за всех. За тех, кто ему верит. Я люблю его за детей. Я люблю его — как женщина…
— А я сама соскучилась по ласкам. И этот старик ласкал меня столько, сколько Шугов не ласкал за все годы совместной со мной жизни…
Лена была не точна. Шугов был для нее всем. И мужем. И мужчиной. И отцом. И ребенком. Шугов любил ее, но он был нетерпим к ее необдуманным шагам. Ей казалось, ничего нет проще вести себя с мужчиной открыто, как с равным, не стыдясь. И выходило так: иные женщины в гарнизонах говорили о ней нелестно: мол, сама лезет на приключения. Тогда Шугов, когда происходило это, делал ей замечания. Они ссорились, даже несколько раз доходило у них из-за этого до развода.
Но то, что произошло один раз с генералом, почему-то не повторилось в другой раз, когда генерал прислал за ней машину и ввел снова в свой дом. Она решила, что он — метеор. Почему она так придумала? От случившегося.
В третий раз она ему шутя высказала:
— Ты как всякое атмосферное явление. Как метеор. Как дождь, как снег, радуга, зарница, мираж. Произвел первый эффект и исчез, иссяк.
— Ты, Лена, цинична. Еще тогда, в первый раз, я это понял.
— Я просто нерастраченная женщина.
— А я теряю голову только при новизне.
— Я видела в твоей ванной новое женское белье.
— Это не установленная очередь. Хотя… У нас, Лена, есть феномены. Они часто меняют женщин. У нас это может быть легко.
— У вас? В учреждении?
— Да, у нас.
— Ты из госбезопасности?
— Давно бы могла догадаться, раз я возглавил такую комиссию. Откуда же я могу быть?
— Неужели ты думаешь, что женщины в страхе так охотно идут с вами на связь?
— А что бы ты сделала, Лена, если бы тебя — да в каталажку?
— Надо найти за что? У меня чисты предки. И чиста я.
— У тебя с некоторых пор нечист муж, Лена. И я думаю, что ты, приходя сюда, ни на минуту об этом не забываешь. Ты и старалась так потому… Сознайся, боишься за своего Шугова?
Генерал детально ей впервые рассказал, что случилось в учебном заведении, где учится ее муж. Это чрезвычайное происшествие! И генерал уверен: не все еще поняли на курсе всю трагичность своей дальнейшей судьбы.
— Что? И Павел в их числе? — Она притворилась.
— Я думаю, карьера его на этом кончилась.
— Почему ты так говоришь? — вдруг вспыхнула. — А я? Разве ты не потянул меня в постель для того, чтобы сделать моему мужу исключение?
— Нет, — жестко сказал генерал. — Я уже объяснял тебе… Объясню еще раз. — Глаза у него позеленели, стали непроницаемы, бесчеловечны. — Я потянул тебя… Прихоть! Я перед тобой упал к тому же в обморок!
— Теперь ты спокоен, когда я рядом?
— Теперь я метеор. Может, это и верно. Я сгораю. И буду сгорать, лишь приближаясь к тебе! — Взгляд его бы ненежен, сух, бесцветен.
— Кому же нужны такие старики! — свистнула она по-мужски. — Чудеса! Мальчик!
Шел високосный год. И все свои невезения Шугов сваливал на него. Ему действительно не везло по службе. Каждодневно что-то случалось. То занизили явно оценку, то придрались на дежурстве, то заставили написать рапорт, когда он патрулировал в городе, и гражданские стали отнимать у него задержанного солдата, твердя, что тот ничего плохого не сделал. Взбунтовалась толпа. И, выходит, он, Шугов, ее спровоцировал, хотя вину на себя он взять не мог: задержал солдата законно, не грубил, вел себя тактично, согласно уставу.
Его стали обходить по службе. Иногда ему казалось: он не нужен в группе. Все в ней чувствовали себя неуютно после того, как каждого вызывали и просили написать рапорт по делу исчезновения листиков из Устава. «Может, я мнительный?» — спрашивал он Лену после того, как они, вся группа, вернулись на зимние квартиры.
Шугов сам вызвался ехать куда-то на край света, на дальние северные острова. Им разрешили ехать с женами. Это была практика. И ехали не все. Многие не хотели ехать, но Шугов сам напросился, потому что ему надоело, что обходят, не нагружают и не разгружают. Будто его нет. Будто он не офицер. Не боевая единица.
Генерал, сопровождавший их к тем дальним островам, где — вечные снега и где такие морозы, что человек может превратиться в сосульку, сказал Шугову:
— Товарищ подполковник, если уж едете сами, добровольно, то не берите с собой жену. Зачем же ей мучиться?
Этот генерал делал вид, что ничего не знал об отношениях жены Шугова с председателем грозной комиссии по пропаже Боевого устава. Что жена подполковника бежит, спасаясь, от этих отношений он мог лишь догадываться.
Собственно, отношений уже не было. Елена Мещерская прервала их. Она думала, что уже сделала все для Шугова: ее старик-любовник (в душе она называла Ковалева стариком) не тронет ее мужа, как это делают нередко так называемые порядочные любовники. Она глубоко заблуждалась. Ковалев не отпустил ее, он считал ее своей собственностью.
Шугов собирался уезжать, Ковалев ждал этого. Он по-прежнему звонил ей домой, в отсутствии Шугова. Он говорил елейно, обещающе. Все будет хорошо, — уверял он ее. Но лишь только она отвиливала посетить его обитель, он пугающе подбирал слова. Шугов висит на волоске, — говорил он, и она чувствовала, как он оглядывается по сторонам. Это Шуговское висение тайна. А тайна в его руках…
— Зачем ты обманываешь? — сказал он ей, когда узнал, что она стоит уже в списках на поездку с мужем. — Ты меня всякий раз обманываешь. Не хочешь приходить ко мне, и потому лжешь.
Она в самом деле врала ему: то болит горло, то болеет мать… А сама шла по магазинам, покупала все в дорогу.
Ковалев перечислял до мелочей, что она брала в универмаге, куда потом шла, с кем говорила, даже — что говорила.
Это было поначалу смешно, потом — постепенно мерзко, потом безысходно. Она почувствовала, как заволакивает ее паутина, — мелочи, глупости, придирки, просьбы, унижения окутывали без всего этого душную жизнь. И когда однажды она, теряя терпение, стала уничтожать его, называя все своими именами, он после этого ее напорного негодования, вдруг холодно и по-деловому остудил ее:
— Тогда я твоего Шугова поставлю к стенке. А тебя размажу на этой стенке, — он говорил так голо и откровенно впервые. — Ты будешь лизать мне сапоги перед тем, как бодро шагать в мою постель!
Он говорил ей про Устав, про эти листики, он только намеками говорил раньше про ее отца теперь говорил открыто. Как Шугов «замазан» листиками это известно. Как отец «замазан» сомнительными связями, тоже оттенялось. Объяснялось, что он замазан не своими связями — ее связями. Мещерский не предполагает, что все связи Лены — нельзя покрыть, как покрыл он. Если их вытряхнуть и показать всем, на обозрение… Беда в том, что система, охраняющая будущность великой идеи, непримирима к таковому мышлению, во-первых, и к такому прикрытию, во-вторых. Система не может никого прощать. Она никогда и не прощает. Все случаи, зафиксированные и поданные ко времени, случаи засвеченные обязательно наказываются.
Ковалев и до этого говорил вот то же самое. Но — намеками, в шуточках, как бы приплясывая языком. А тут он был страшен, уничтожителен. И после общих угроз посыпал факты, фактики этих ее связей, слов, оброненных и нечаянно, и в здравом уме — возмущающе и непокорно. Она, Лена, с детства видела, как в окружении отца выборочно уничтожались инакомыслящие, как увозились, уводились; как страх вечно был рядом с ее отцом, с его окружением. И что бы он не предпринимал, чтобы оградить дочь от этого безумного страха, в нее он вползал, но вползал не так, как в отца. Страх был поводом к протесту, и ее протест, высказывания, которые теперь Ковалев ей напоминал, были логичны, однако они выступали против системы. Они были вражескими.
В ней родился уже осознанный страх. Такой, какой сидел в ее отце, в его окружении. И, проклиная себя за то, что не разглядела Ковалева, она заметалась вот перед тем отъездом мужа в северные холода. Она стала просить его взять с собой. Она думала, что этим самым спасет, хотя бы на время, себя, мужа, отца, всех, кто — теперь она это понимала — выгородил ее в прошлом.
Шугов приятно удивился ее тогдашней просьбе. Он стал говорить, как-то сразу много говорить: он бы с удовольствием, но даже руководитель, генерал, отговаривает! Ужасная яма, северное леденение… Однако, если она серьезно, то ведь едут… Мы будем не одни. Едут Силаевы, Красильниковы… Знает ли она их? Помнишь, на танцах милую женщину? В голубом? Это Красильникова…
Пересилив страх, плюнув на последние угрозы Ковалева, Лена поехала с мужем.
Удивительное это было время. Удивительные это были берега. Отвесные скалы, океан, пурга, в вышине — белым-белы снега. И не так страшно, когда Павел рядом, не ревнует, когда он счастлив, ты сама счастлива, когда восторг идет в душу и лишь нет-нет да засосет под ложечкой: этот генерал Ковалев так все не оставит, он не отпустит ее даже в увольнение! Он так ловко уже все сплел и так ловко еще наплетет столько, полстолько, чтобы пожестче отплатить в первую очередь теперь ей, а потом уже и Шугову.
Так оно и случилось, лишь только они приехали, немного отстоялись, и Павел снова приступил к занятиям.
Прошли ночь — день, ночь — день, ночь — день… Звонки следовали днем размеренно, не спеша. Она не подходила к телефону. В третий день, к обеду, звучал длинный-предлинный звонок. И Лена не отвечала. А Шугов в это время шагал по вызову к подполковнику Северову. Никто не знал, чем занимается на службе новый сотрудник курса Северов. Редко с ним слушатели академии сталкивались. И Шугову подполковник не представился. Он издалека стал говорить о всей службе, которую нес Шугов за время, предшествовавшее зачислению в академию. Было всякое, но то — давно минувшее, а ныне существующее. И все это — существенное!.. Северов изучал Шугова молниеносным взглядом, молчанием, короткими вопросами — вроде так, без смысла.
Шугов, наконец, заерзал на стуле.
— Я давно чувствую, — сказал он, — что вокруг меня что-то происходит.
— А вы не догадываетесь? — У Северова были сверлящие серые глаза, и этими глазами теперь он буравил всего Шугова.
— Все мы, на курсе, догадываемся… Но это — все… А я… Как это вам пояснить? Я…
— Все догадываются, подполковник, это так. Но все не мечутся, как вы.
— Что — я? Почему именно так вы сказали? Я сам хотел сказать…
— Вы ведете себя так, Шугов, будто в чем-то виноваты.
Шугов уставился на Северова:
— Я не так хотел все объяснить. Как вас понять?
— Это как вас понять? Вы ведете себя, как-будто на вулкане находитесь. Все это стали замечать. Может, вы действительно, я не говорю умышленно, косвенно… Косвенно имеете отношение к тому, что произошло у вас на курсе?
— Но меня уже… Со мной беседовали… И я не понимаю, почему вы об этом снова… Я же хотел объяснить себя! Я все это время после беседы…
— И что? Побеседовали — раз и навсегда? Вы не допускаете, что даже по сему, именно по сему… То есть, что случилось… Вы не допускаете, что могло появиться и в этом во всем что-то новое?
— Естественно, понимаю…
— Почему бы не спросить и вас, и других о том, о чем положено спросить? Вы мне не хотите что-нибудь сообщить?
— В каком смысле? Я хотел сказать, что вдруг стал одиноким на курсе… Как-то еще хотел объяснить… И впрочем… В каком смысле я должен что-нибудь сообщить? В каком смысле?
— Вы не догадываетесь, в каком?
— Не понимаю. Право, не понимаю…
— Ах, Павел Афанасьевич, Павел Афанасьевич! — Северов встал, он был коренаст, силен, видимо; так и ходили желваки на бледном аскетичном лице. — Толчем в ступе воду… Ну вы же знаете — я оперативный работник… Так бы я вас не позвал… Здесь, при вас мне… Одним словом, нелегко! При вас, вот таких, прежний оперативник мало работал, видимо. Вынужден был уйти без пенсии. Всегда у вас было тихо, спокойненько, как хе-хе-хе, на кладбище. Но вдруг все переменилось! ЧП, ЧП! И неужели неясно, что так продолжаться не может далее?
— И в чем же я виноват? Я и хотел вам пояснить!
— Павел Афанасьевич, что бы вы мне не поясняли, я знаю одно. Вы у меня — тут сидите! — И постучал себя по затылку. — Не пойму, что вы за человек? Что вы хотите от себя, Павел Афанасьевич? Что вы хотели мне о себе сказать? Почему…
Он притормозил, к своему, может, счастью, сел и стал торопливо закуривать. Он Шугову мог бы сказать, почему вызвал его, а не другого. На это последовало указание. Не совсем четкое, не совсем понятное. Но указание. Почему о нем указание? Северов перерыл все «дело» Шугова. Как у многих. Есть заковыки, есть — взлеты… Но — почему указание о нем? И что Шугов хотел сказать? Крутил, крутил. Туманил, туманил… Ничего не прорвалось. А ведь ему, Северову, указание надо выполнять! Пусть указание не четкое, пусть не конкретное — выполняй!..
Леночке Шугов пояснил: ничего существенного, у всех у нас просто появились новые заботы. Но откуда ты узнала обо всем? Погоди, я же Красильникова сегодня не видел… И как он мог сказать жене, что меня вызывали? Ах, да! У всех у нас появились новые заботы. Я сказал это сам. Точно. Впрочем…
Шугов не знал, что Лена вынуждена была идти к Ковалеву: генерал был настолько настойчив, голос его так глухо угрожал, что она не выдержала, забеспокоилась. Он-то ей и намекнул, что сейчас, в эти минуты, ее муж подвергается санобработке. Ковалев хихикал, дурачился. Он радовался, что она, наконец, взяла телефонную трубку и ответила.
После приезда она впервые трубку подняла. Точно знала ты, Лена, что последует важное для тебя сообщение, — холодно уже произносил он. — Ты думаешь, остудилась снегами! И — все? На спад, на спад? Я зол, и это уже серьезно!
Зачем она подняла трубку? Да, она почувствовала — что-то важное происходит. И трубка рыдает. И Ковалев, только она трубку подняла, сказал:
— Мадам, вашего Шугова теперь… У него санобработка.
— Его допрашивают? Это ты хочешь сказать?
— Примерно.
— Я много думала. И я не боюсь тебя. Я найду ход, чтобы ты слетел с председателя комиссии.
— И ты, и твой отец жидковаты для этого.
— Но и ты не всемогущественен.
— На сегодня это могущество имеется. И что будет завтра — поглядим. Это у меня. А у тебя совсем дело швах. Документы на тебя, все подделки Мещерского, все запудривания, на старте. Только нажми кнопку. Лучше приходи. Я тебя хочу лицезреть. Отдохнувшую, красивую. Зачем ты все усложняешь?
— Нет. Забудь про все.
Она положила трубку. Но она не находила, однако, себе места. Она металась по квартире. Она представляла, что Шугов теперь на допросе, его, может, пытают. И она к Ковалеву пошла.
После того, как она поехала с ним, со своим Шуговым, к вечным снегам, после того, как увидела его — не озабоченного, а только усталого и верного ей, она поняла, что любит только его одного. К тому же, после разговора с Павликовой, скорее, после совета с ней, она сходила в конце концов в поликлинику, и ей там сказали, что уже давно должны были сказать: детей у нее не будет ни с Шуговым, ни с кем другим.
И врач, и Лена знали, почему у нее не будет детей. Знала об этом и мать Лены — Марина Евгеньевна Мещерская. Скорее, мать догадывалась. Ей не верилось, что именно она принесла своей дочери горе, когда привела в дом второго секретаря горкома партии, правую руку Зиновия Борисовича Мещерского, и почти спровоцировала их связь. Тогда Мещерской вдруг перестал нравиться курсант Шугов, приезжавший к ним в обжеванном, точно с чужого тела, обмундировании. Где-то теперь тот молодой человек, так стремительно взявший старт у Мещерского! Он, оказывается, более удачно женился — на дочери второго секретаря ЦК Компартии одной из крупных республик.
Лена каялась перед Шуговым. Неустанно упрекая его в том, что у них нет детей, она не знала даже о том, что он ни разу не пошел к врачам, чтобы хотя бы уйти от упреков жены, ибо знал: детей не будет у нее.
…Шел третий год учебы Шугова в академии, и в ту весну на практику его послали на заставу, командовал которой капитан Мазнев, курский соловей. Мазнев так и ушел потом из заставы в артисты. У него был голос, который дается человеку даром Божьим. Как уж он не попал в оперный сразу Бог ведает. А, может, не Бог, а товарищ Сталин, который взял в армию — в том числе и в пограничные войска, взял в сорок четвертом шестнадцати и семнадцатилетних и держал их на срочной по семь лет.
Мазневу, правда, повезло. Шугов вытащил его на люди, точнее, вытащил его в дальний гарнизон на смотр самодеятельности. Там случайно оказался инструктор политуправления из Ташкента, случайно этот инструктор не демобилизовался, а лишь, изводя службу, так как демобилизации категорически не подлежал, пописывал в газеты о талантах, в которых разбирался, будучи преподавателем в одной из консерваторий, — все и решилось. Мазнев по ступенькам прошагал на Всесоюзный смотр и, по ходатайству, с него, смотра, ушел в консерваторию.
К сожалению, бывший пограничник Мазнев, призванный в шестнадцать лет в войска, отучившийся год на курсах лейтенантов, дослужившийся до капитана, ушедший в таком звании на гражданку, не выдержал, как говорили тогда, идейного испытания. Он при очередных гастролях остался в Италии, попросив политического убежища.
Мощные справки, документы нашел генерал Ковалев против Шугова и в этом плане. Это же Шугов вытащил капитана Мазнева отсюда, из этой дыры! Он ему во всем потворствовал!.. Ковалев, издеваясь над Мещерской, показывал ей эти страшные, обличающие справки и документы у себя дома.
В одну из таких, может, буйных южных весен, когда по горам рассыпается цветущий мак, когда становится все зеленым, голубым, красным, и нашел Шугов на заставе талантливого капитана Мазнева. Потом этот капитан подвел Шугова. И Ковалев ухватился за такую промашку Шугова. Теперь я стоял там, где служили когда-то Шугов, Мазнев, Павликов. И мне недавно показывали — дали бинокль — эту заставу, вкопавшуюся ныне в склоны гор. Ничего не видно! Так надо. Идет в Афганистане жестокая война. На заставу дважды уже нападали.
Я стоял на высокой горе теперь один. И полыхал мак, и полыхало синью небо. Со мной был бинокль, приемник. И я вспоминал, что здесь тогда было. Много-много лет тому назад. Сержанты, Павликов. Петляющая речка между горами. Выползающая из песка наша машина, когда мы с шофером увозили Павликову и ее детей. За мной сразу ринулись воспоминания. И сразу пришел Шугов — ведь он перебежал границу именно здесь. Во-он там! И теперь видно то место, где он границу перешел. И видно место, откуда ефрейтор Смирнов стрелял в Шугова из автомата. Промазал! И за это поплатился. А Мазнев сейчас в Италии, распевает песни. Мне бы поймать по приемнику его божественный голос! Ан не ловится… И почему все так? Почему убегают, уходят из этих краев? И почему мы воюем? И как я напишу обо всем, что меня волнует? Когда меня брали сюда, я пообещал обо всем написать патриотически! Но неужели я не имею в душе ничего живого? Здесь начиналось патриотическое?! Побег полковника, побег Мазнева, расстрел начальника заставы, расстрел замполита заставы! За что? Как? Почему?
…Ну что же, ну что же! Шугов, Мазнев… Что же тогда еще было на этой границе? Было-то ведь и мирное, доброе. По той вон дороге из Афганистана шли машины, наваленные тюками шерсти. Они подъезжали к шлагбауму. Афганцы выходили из машин, вместе с нашими ребятами курили, смеялись, шутили. Теперь не видно шлагбаума. Не видно таможни. Теперь война. Теперь того шлагбаума нет. Там текла речка, мы ее всей дивизией расчищали. К нам приехал новый генерал Кудрявцев. Сын его, отчисленный из училища, проходил службу в моем противотанковом дивизионе, где я тогда так мог «отличиться» с заряженным автоматом, и где, Богом хранимый, не попал в тюрьме на нож какого-либо вора, как сержант Матанцев. Мы тогда шли всей дивизией с лопатами — генерал Кудрявцев решил сделать в речке запруду, чтобы мы могли купаться. Он договорился с пограничниками — расчистить в верховьях, прямо рядом с границей, эту речушку: чтобы она отдавала свои ручьи нам, истомленным солнцем солдатам.
Они, эти бедные, в тряпье одетые, афганцы, побежали тогда от границы. Я хорошо помню старика, который, подгоняя ослика, груженного дровами, что-то кричал пятилетнему мальчику, помогавшему ему. И мальчик молча, после крика старика, побежал вслед за ним. Они боялись нас. Они не хотели, бедные и оборванные, чтобы мы пришли в их страну.
Кто же придумал, чтобы мы туда вошли?
Я вспоминал и старика, и женщин, и всех, кого видел, — они бежали все!
Сейчас там никого не было. И стояла тишина. Утро было розовое, и все вокруг розовое. И пел на чужбине, наверное, бывший пограничник Мазнев, а здесь вдали-вдали я слышал глухие раскаты то ли грома, то ли пушек — наших ли, их ли пушек. «У-у-у», — вдруг гудело и перекатывалось по земле. И стонало, и кричало в душе что-то, что сопротивлялось этому здравящему гул восторгу тут, на нашей стороне. Победному восторгу.
Я пошел вглубь заставы. Пограничников предупредили, что тут находятся писатели: их, мол, трое. Один я стоял от двоих в стороне. Мы были, наверное, разные. Их, этих двоих, помоложе меня, здесь никогда не было. Здесь они впервые. Но мы все трое видны пограничникам. Я знал, откуда пограничники могут появиться. Мы в противотанковом дивизионе, в одну из годовщин победы над фашистской Германией, праздновали тут так: настреляли джейранов, один наш офицер оказался смышленым, отправил в ближайший город двадцать туш, продал их и купил на все деньги водки: развеяться, забыть обо всем, вспомнить, как били, шли, шли и вперед, и назад.
Мы гуляли тогда мощно, и я, салажонок противотанкового дивизиона, еще не вскакивавший с постели после того, как ударили меня, не тянувшийся за автоматом, а уважавший таких милых наших фронтовиков, которые, гляди, и теперь пашут, тоже пил вместе со всеми, а потом изворачивался рядом с солдатским туалетом — из меня выносило и джейранину, и водку, и вину, и радость, и смуту…
У-у-у! — гудело и гудело.
И я теперь понимал, как это странно говорить нам об этом «у-у-у» на встречах радостно, крикливо, с тройным ура. В меня к тому же лезла страшная жаба — из прошлого. Жаба эта была — тутошняя казарма, оставшаяся тогда от Павликова, раскрытые дверцы тумбочек, огрызки мыла и весь черный день — с утра, когда завыл афганец, и малым Павликовым мы завязывали ротики платками, чтобы не забило их горлышки.
Жаба остановилась в груди, вползать дальше не захотела. Я стал забывать прошлое. Я стал восхищаться, как ловко прячутся от нас — и от врагов, конечно — пограничники: их нигде не видно, но они везде тут снуют. Вот ребята! Вот — да! Мы тоже ничего были. Мы были их предшественниками. У нас были боевые традиции. У нас был духовой оркестр. И он, когда мы в пыли, в пропотевших гимнастерках, шли из пустыни — она во-он там вздрагивали, лишь оркестр грохал марш. Мы поднимали головы. Мы шагали, шагали, шагали. И мы, когда становилось невмоготу, били джайранов, продавали их освежеванные туши, покупали водку и справляли одну из годовщин нашей славной победы.
…К чему это я все? — вдруг я взглянул на своих товарищей-писателей. — А-а, вспомнилось! Да, вспомнилось. А что? Что-то не нравится? Все равно же заставим стать на колени! Бежали тогда от нас, когда мы шли с лопатами? Но не знали же, в каком счастье мы живем! Несознательные, тупые и темные. И мы теперь опять об этом нашим солдатам растолковываем. В своих беседах.
В самом деле, чего же копаться в душе? Прочь — жаба проклятая!
Прочь! Мы тут нужны. Мы тут очень нужны. И они все! И мы! Нужны на каждом метре земли…
Этой ночью мы, писатели, помогали загружать раненых. Эшелон был подан почему-то в темноте. В темноте и производилась погрузка. Уговаривали раненых ребят сестрички:
— Потерпи, миленький! Скоро будем в областном центре. Там вас всех положат в хорошие палаты.
— Сестра, укольчик мне сделай!
— Потерпи, родненький!
— Сестричка, воды! Воды!!
— Нельзя тебе, хорошенький! У тебя животик… Потерпи, сладкий!
Мне рассказывали, что Железновский в Афганистане. Об этом я в последний день отъезда узнал и от Елены Мещерской. Правда, сказала она о Железновском и его любви к Афганистану с явной иронией.
Но Игорь Железновский — непромокаемый и непотопляемый Игорь Железновский — был не в Афганистане. Он был тут, на нашей земле, считавшейся уже Афганистаном. С громом, шумом, помпой вдруг к эшелону подкатили машины — пять или шесть. Из них, этих машин, выделялась черная «Волга». Из нее и вышел погрузневший, чуть ставший вроде ниже Железновский. За ним по очереди повылазили из машин разного возраста люди — все в гражданском платье.
Игорь шел хозяином к эшелону, и его, видно, ждали, потому что с дальнего конца вагонов сразу, завидев группу людей, побежал в их сторону начальник поезда, который все тут еще минут десять тому назад утрясал.
Он подбежал к остановившемуся Железновскому — остановилась сразу и вся группа, следовавшая за ним на почтительном расстоянии.
— Товарищ…
Начальник поезда замямлил, явно не подготовив доклада. Да и гражданская одежда Железновского смутила его. Он явно рассчитывал на военную группу.
— Товарищ…
Это опять начал говорить молодой начальник поезда.
— Перестань, — как-то мягко укорил его Железновский. — А где же провожающие?
— В прошлый раз были, — стал оправдываться начальник поезда, — а сегодня темно и публика разошлась.
— А как же с митингом быть? — спросил Железновский. — Ведь он обязан состояться!
— А митинг мы сделаем по прибытии… — И начальник поезда назвал город, в который они приедут и созовут там митинг.
— Надо бы сделать так… Здесь пару слов сказать.
Меня шут дернул за язык. Я вышел вперед и предложил Железновскому:
— А ты скажи перед нами сам, Игорь. И знай: тут три писателя. Мы зафиксируем твою историческую речь и обнародуем ее там, где нам предложат.
Железновский не ожидал найти меня здесь. Мы не виделись целую вечность, и ему хватило и чувства юмора, и чувства дружбы. Он кинулся ко мне в объятия, стал душить и целовать.
Потом извинился:
— Понимаешь, учимся все у главного!
Я поначалу не понял, кого он имеет в виду. Но один из моих товарищей, с которым мы были более или менее откровенны, когда Железновский забрал нас в свою машину и повез в здешний ресторан, — оказывается, им специально накрывался вот уже вторую неделю отдельный бесплатный стол, — сказал: «Да он имел в виду Леонида Ильича! В смысле — целоваться и обниматься».
Как хозяин, Железновский определил нам места за столом. Он сказал, что четверо из их группы уехали туда, — кивнул на юг, — а места остались сиротами. Слава Богу, теперь все исправлено. Будете столоваться с нами.
— А чем ты тут занимаешься? — спросил я.
Железновский укоризненно покачал головой:
— Как был партизан, так и остался им. Или ты не в зоне, где все дышит и живет?
— Ух, как ты научился! — засмеялся я, пропустив чарку. — Ты иди к нам, в писатели. У нас такое живое слово не умирает — отпечатывается навечно.
— Ничего, — засмеялся Железновский, — увидите, вдохновитесь — и слово новое найдете. Вот еще бы с ранеными успели поговорить.
— Успели послушать, как они стонут, — мрачно несло меня на рифы.
Железновский не обратил на меня внимания. Он, как мне показалось, стал пить много. И я попросил его:
— Игорь, не пей сегодня.
— А что? Поговорить потянуло? Не боишься, держать фасон не разучился?
— Ты где живешь?
— Это тайна. Впрочем, с тобой рядом.
— В гостинице, что ли?
— Ну где еще тут живут?
Мы говорили тихо, и никто нас не слышал.
— А к себе, где работал, ходишь? Там ведь все осталось вроде.
— Я знаю, вас туда водили. Для проверочки и показухи: все меняется, идет хорошо! — И хихикнул: — Ну и что? Все нормально? — И сразу посерьезнел. — К себе я не ходил. Там — другие берега. Молодые, способные, разные, но цепкие.
— Что это значит?
— Ну что это значит? Там не мы.
— А вы — это кто вы? Все продолжается?
— Ну, естественно… Только теперь, видишь, и митингами заворачиваем. И в другой роли. Впрочем… Давай действительно потом поговорим?
Я поднял руки вверх.
Когда мы поехали, хорошенько подвыпив, я договорился со своими собратьями, что на время отлучусь. Мы пошли с Железновским, не сговариваясь, в сторону штаба пограничного отряда. Штаб стоял на том же месте. Железновский был слишком нетрезв и, по-моему, говорил много лишнего. Он говорил, что знает все: как я собираю материалы на книгу о Ковалеве и его вонючем (так, брезгливо сморщившись, и сказал) учреждении, этих материалов у меня — куча, в этих материалах, — погрозил мне пальцем, — я не найду прокольчики Железновского: «Я — тут, я — не рядом с ним. И никогда рядом не был»…
Железновский, почувствовав, что я насторожился, немедленно стал говорить о другом. Он заговорил о том, чем тут занимается. Они забрасывали туда, — он кивнул на границу, — людей, своих.
— Они, — Железновский остановился и вдруг оскалился, — резали тех, кто нам изменил. Ты понял?
Я тоже остановился, хмель бросился в голову.
— Ты чего запугиваешь? Знаешь, от кого мы приехали?
— Если бы не знал… Так… Чего же ты тогда насмехаешься надо мной при всех?
— А чего ты выпал из реалки? Какой митинг? Люди стонут, пить просят, укола…
— Половина наркоманов!
— Не мели, не наговаривай на своих.
— Я знаю, что говорю. Идут иногда за анашой в пасть гада. Продаются за это.
— А ты их за это — чик? К стенке? И готово?
— Надо — всех перережу. Зачем нам тут такие сдались? Ну мусульмане курят — ладно. А это же свои, славяне! И повалом.
— На войне же! Раньше — пили. Теперь курят.
— Идем. Философ!
Вскоре мы пришли к штабу отряда. И зачем мы сюда пришли? Я понимал, зачем. Мы думали об одной женщине. Неужели это было тут? Здесь она стала круто падать вниз? Мы, конечно же, продолжали любить эту женщину и ради нее пришли сюда. Лена сказала о пребывании тут Железновского с иронией. Обо мне, наверное, говорит еще насмешливей. «Зеленый огурчик в розовых очках». Ну что же, мы ей все прощаем. Потому оба и молчим.
— Скажи, Игорь, — решился, наконец, я, — вот теперь тут, как при ней скажи. Тогда мы с кем ехали? Ведь все наше и ее начиналось с него.
Железновский заскрежетал зубами:
— Да пошли ты все это к…
Он грязно выругался.
— Знаешь, — после некоторого молчания, почти шепотом проговорил Железновский. — Похлеще него были у нас. И — остались… Не тебе же толковать о Ковалеве? — Он саркастически засмеялся: — Папочки собираешь? Фотографии? И думаешь, что — отыщется истина! Ха-ха-ха! «Начиналось с него!» Да истинное… Истинное и никогда не вывернешь! Особенно о Ковалеве. Он при живой своей жене баб новых каждый день в дом таскал. И тискал их… При бабе своей! Ей глотку пистолетом затыкал. У него на старую, один раз… извини, пропетую… У него не маячил! А ты собираешь фото!
— Он ее, Лену, сам пригласил? Или ты ему ее привел?
Железновский вскрикнул:
— Подонок! Дегенерат! Чего душу разматываешь?! Чего ты хочешь?
— Ты сам подонок! Ты же вел ее к тому. Как ты его называешь? Двойник! Ты карьеру на ней сделал. А ее — этим убил!
— Ах ты, старшинская гнида! Да куда ты лез бы?! Ну тому приглянулась! А там же они — и Ковалев, и Лена — рядочком были! Там бы… Лишь бы я пикнул против… И меня, а сразу бы и тебя!..
— Заслуги твои велики, что я жив и здоров на сегодня. Но ты повторяешься. Ты об этом, по-моему, говорил мне уже.
— Говорил, не говорил… Какая разница! Только знаю, что ты бы ничего этого не видел. И, может, теперь бы не задавал дурацких вопросов… Какая разница, водил или не водил? Тот был или не тот? Я же тебе говорю, таких было… Уйма! А вам зачитали в письме ЦК, как товарищ Берия баб шерстил и как пер против всех к власти, вы уши и развесили. Ах, взяли его и теперь же все кончится! Ну что, кончилось? Тюрьмы как были — так и остались. В тюрьмах правят воры, бандиты, сволочи. Ничего не изменилось и не изменится… — Он задыхался от гнева. Тихо, как всегда умел, вдруг предложил: — Пойдем! Я покажу тебе кое-что!
Я пошел за ним, часовой пропустил нас, как только мы показали документы. Я Железновскому по дороге сказал:
— Про Ковалева я знаю не только от тебя. Ты многое уже забыл.
— Ничего я не забыл. Оглоушенный я. Всем, всем оглоушенный!
Железновский схватил меня за руку и потащил за собой. Мы оказались вскоре у небольшого заборчика. Я заметил там холмики.
— Вот они лежат, — залаял Железновский. — Павликов, Смирнов, замполит… Ты не веришь? Не веришь и тому, что я участвовал? Участвовал. И Шмаринов участвовал. Но ни Шмаринов, ни я не стреляли. Стрелял Ковалев.
Я сжал кулаки:
— Заткнись! «Я участвовал, но не стрелял!» Так вам и верят!
— А ты возьми и поверь. Хотя бы ты поверь. Потому что я правду говорю.
— У нас не подают, Игорь. У меня — тем более. Я по листикам это изучаю. И на каждом листике — кровь, кровь!
— Если бы еще детали тебе подбросить… Детали… Ты бы… Ты бы на моем месте чокнулся!
— Ну подбрось эти детали! Ты же их прячешь… Расскажи что-нибудь вот из всего этого, здешнего! — Я показал на холмики.
— Ты знаешь, как женщины унижаются, когда их хотят к стенке ставить, а в пятидесяти метрах дети кричат?
— Павликовой дети?
— Догадался!
— Ну и…
— Что ну и? Они унижаются пуще, чем их мужья…
— Когда это было? Когда я привез Павликову? И старшего лейтенанта Павликова уже не было?
— Правильно рассуждаешь. Уже холмики стояли, когда Ковалев… Да он с ней… И при нас…
— Врешь ты! Почему же ты не застрелил его?
— А ты мог бы тогда в дивизионе по своим стрелять?
— Мог бы! Надо мной издевались!
— Ты что сумасшедший?.. Хотя… Ты действительно сумасшедший, если книжку о нем стругаешь!.. Ты помни, вонючий газетчик, когда ему в душу лезешь, чтобы вывернуть ее… Ты помни, что он тут делал с ней. И как она унижалась.
— Все, что ты говоришь, чудовищно! Чудовищно! Чудовищно!
Я помнил. Помнил. Еще я помнил и не забывал о главном: как Шугова довели до того, что он ушел добровольно туда, в тот еще Афганистан, который считался дружеским.
9
Первые показания полковника Шугова.
«Я прибыл сюда с иной целью».
Генерал Ковалев посылает убийцу, который идет к американцам с повинной.
Особое задание Железновского.
Самолет берет курс на Мюнхен.
Как его довели… Очень просто. Очень просто. В то утро, когда в городок приехал генерал Ковалев, подполковнику Шугову стало ясно: над ним нависла беда. На последнем курсе Шугов дал генералу Ковалеву бой. Пан или пропал! Шугов так решил на тот час после многочисленных бесед с подполковником Северовым. Однажды подполковник сказал — проговорился — о том, что Шугов во всей истории с листиками из Боевого устава как-то видится больше всех. Наверное, он был все-таки не таким заядлым служакой, этот Северов. Постоянно подталкиваемый всегда начинает протестовать. Ковалев был подталкивателем. И Северов вскоре вышел на него. Северов узнал по своим каналам, что жена Шугова ходит к Ковалеву. Ходит порой открыто. И что это, — решил он, — как не устранение мужа? Догадка его не подвела. И потому он сказал Шугову: надо защищаться — раз такое дело, раз он, Шугов, видится из курса по делу исчезновения злосчастных листиков больше других.
Шугов кинулся в омут. И если бы он даже уже не хотел плыть, его плыть бы заставили. Все уже покатилось по колее, разработанной системой. С одной стороны — враги того, кто пишет и ходатайствует о том, чтобы его защитили, с другой стороны — враги того, на кого пишут. Стороны раздувают дело, греют руки, оставаясь тайно незаметными. И бьют того, кто пишет. И бьют того, на кого пишут. Но в конце концов принимает решение всегда один человек. Всегда — один. Главный в цепи системы.
У генерала Ковалева оказалось немало врагов. Вторая комиссия, которая разбирала дело полковника Шугова, написавшего рапорт-заявление на генерала Ковалева (что-де он был пристрастен как председатель комиссии при проверке фактов похищения Боевого устава, что-де Ковалев лично заинтересован в наказании Шугова), придирчиво повернула вначале против написавшего. Тут вступили в бой враги Ковалева. Третья комиссия отмела все поклепы в адрес написавшего и обличила генерала Ковалева во всех смертных грехах. Тут вступили в бой враги Шугова. И четвертая комиссия посчитала, что в равной степени виноваты оба и, наконец, пятая комиссия впервые поставила вопрос о женщине, которая стояла перед этими двумя — написавшим и на кого написано. И уже завихрилось-закружилось. Генерал попал в такой штопор, в который не попадал никогда, будучи летчиком неплохого класса. Здесь посыпались его грехи. Грех за грехом. Страшные грехи. И если бы он не был генералом, а подполковник всего подполковником, если бы решение не принимал один главный начальник в системе — Ковалеву бы не сдобровать. Но таков уж финал разборов того времени — генерал побеждал младшего по званию в девяноста случаях из ста. Если это не убийство, конечно, совершенное генералом.
Шугов все же получил перед выпуском полковника, генерал даже не извинился. И ждал только случая, чтобы поставить новоиспеченного полковника на место. Многое сменилось в руководстве за последний тогдашний год, Берия шерстил кадры, ставил везде и всюду своих. И когда возник вопрос ехать с проверкой в дальний гарнизон, где полковник Шугов теперь исполнял обязанности коменданта, генерал Ковалев, окольными путями прознав о командировке, планируемой на южную границу, окольными путями выбил эту командировку и возглавил комиссию по проверке боевых пограничных объектов, а заодно службу засыла туда, за рубеж. Никто не знал, что еще Ковалев везет в своем секретом портфеле. Не знал никто, что он думает о встрече с женщиной, которая была какое-то время его.
Беда была в том, что Шугов работал и на службу засыла. И там, по информации, которую накануне получил Ковалев из верных рук, случилось два провала. За этот срок, что комендант отбыл здесь и случились эти провалы.
Утром полковник Шугов встречал комиссию. Лишь в последнюю минуту лично Берия назначил председателем комиссии генерала Ковалева. Шугову один из кадровиков, осевший в управлении, считавшийся другом, успел передать, кто едет в дальний пограничный отряд. Шугов не спал всю ночь. Он ничего не сказал жене. И теперь, когда Шугов встретился с Ковалевым, выглядел несимпатично, сонным и каким-то замедленным в действиях.
Ковалев всем подал руку, за исключением коменданта.
Он не сел в машину Шугова, а оглядев его молодцевато, повернул к машине второстепенного в отряде начальника. Никто не знал, что происходит. Потому что Шугов не докладывал, что произошло с ним в академии, когда прибыл в отряд и становился на партийный учет. Об этом знали кадры, об этом знало крупное начальство.
Шугов не придал поведению Ковалева особого значения. Так и должно было быть. Вежливо предложил генералу, когда они приехали, свои услуги. Генерал бросил сквозь зубы:
— Увы, полковник! Теперь я не нуждаюсь в любых ваших услугах.
Генералу отвели кабинет для работы, всех, с кем он пожаловал, тоже разместили. Коменданту срочно надо было ехать по делам в один из районов, находившихся не в зоне границы. Он попросил разрешения уехать. Вернувшись часа через два, Шугов прошагал в кабинет, отведенный для Ковалева, но там того не оказалось. Шугов нахмурился. Он понял, что генерал у него дома.
И не ошибся. Елена Мещерская позволила сегодня себе много. И когда Шугов подошел к дверям собственной квартиры, он услышал голос жены. И это был голос…
Нет, ревность не разбудила в нем зверя. Он понимал, что хладнокровие спасет его на этот раз. Он всегда проигрывал горячностью. Теперь, — сказал он сам себе, — надо действовать тихо, но… жестко.
Пистолет его был заряжен, и он открыл легким толчком плеча дверь.
Шугов хотел бы увидеть другую картину. Но он не увидел того, что ему могло показаться, когда он стоял за дверью и слышал подозрительные шорохи. Лена одевалась, она стояла у зеркала, а генерал лежал на мягком диване. То есть не лежал буквально. Он сидел, утонув в мягких удобных подушках. Этот диван им подарил отец Лены. Это был великий диван. Ему всегда все завидовали. В нем можно было утонуть, сидеть и одновременно лежать. Так и сидел и одновременно лежал генерал.
Ковалев глядел на вошедшего отсутствующим взглядом. Ничто не разбудило его любопытства, в нем не было любопытства. Он был равнодушен. Будто вошел не муж этой красивой, в белом, женщины, а посторонний человек, ничего общего не имеющий с этим домом. Хозяин здесь генерал.
Шугов растерянно глядел на них. В свою очередь он, не увидев того, что должен был увидеть, разочарованно переводил взгляд то на жену, то на генерала.
— Вы думали, что поймаете нас на месте преступления?
Ковалев не пошевельнулся даже, сказал это вроде одними губами. Но Шугов все услышал. До единой буквы разобрал. Он подошел к жене.
— Позволь спросить, куда ты собираешься?
Елена повернулась к нему и, подкрашивая губы, ответила вопросом на вопрос:
— А тебе не все равно?
— Нет. Ты знаешь о наших с генералом отношениях. Он после всего, что между нами было, не должен входить в дом, который ему навсегда закрыт.
Ковалев поднялся, покачиваясь на носках, произнес:
— Я пришел сюда, полковник, как человек инспектирующий. И сомневающийся. Вы видите… Ваша жена, из-за которой мы тогда с вами на разборах по вашему делу много спорили, меня не волнует так, как волновала когда-то. Вы понимаете, я ее любил. Но все прошло, все там, за годами. Хотя немного их и прошло.
— А почему вы тогда тут? — спросил Шугов устало. У него все время кружилась голова и он не мог справиться с постоянной дрожью в теле.
— Тут я потому, что подозреваю вас… — Генерал закурил и небрежно бросил спичку на пол. — Вы тогда, в академии, ловко выскользнули. Вы попытались доказать, что я позволил себе много лишнего по отношению к вашей жене. И главное, в чем я вас обвинил, ушло само собой в сторону. И осталось лишь это женское разбирательство. Осталось мелкое-мелкое. Сегодня вы не ускользнете и не обвините меня ни в чем таком, за которым последует разбирательство.
— Вы в чем-то хотите меня обвинить?
— Я хочу вам сказать, что уже в данную минуту вы — мертвец, полковник.
Елена резко повернулась, и странный ее взгляд побежал по ним.
— Это громко и слишком ответственно сказано! — крикнула она. Генерал, не забывайте, что здесь присутствует не только женщина, но и в первую очередь — жена.
Генерал язвительно возразил:
— Здесь действительно вы присутствуете. Но уже не в качестве жены. Вы присутствуете в качестве вдовы.
Шугов встал между ними и слегка оттолкнул Ковалева.
— Уходите из моего дома. Я вас прошу!
— Лена, — сказал генерал Ковалев, — если хочешь, ты можешь пойти за мной.
Она стремительно повернулась к нему и прошипела:
— Старик-генерал, вы действительно много себе позволяете в чужом доме.
Ковалев хмыкнул:
— Ну что ж, когда-нибудь ты извинишься за эти слова. Только не было бы поздно.
Генерал взял с козырька вешалки свою фуражку и пошел не спеша к выходу.
— Я вызываю вас на объяснение, — кивнул он с порога, глядя в упор на Шугова. — Не забудьте подготовить объяснение по поводу двух провалов, совершившихся при вас. Кроме того…
— Ах, вот вы куда гнете! — нервно засмеялся Шугов. — Но так легко все это у вас не пройдет! В этом я вас уверяю!
Я тогда не знал, что генерал Ковалев — это генерал Ковалев. Да он и не афишировал себя. У него, — и до прилета Берии, и после его прилета к нам в наш городок, — было много работы. Сперва он допрашивал Павликова, Смирнова (после Железновского), всех сержантов. Потом опять передал к нам, в штаб дивизии, Смирнова. Ковалев сказал:
— Выжми теперь из него все поросячье сало. Покатай его по яме так, как его никто не катал.
А Железновский больше не стал бить солдата сам, он сказал это же, что сказал ему Ковалев, Вадиму Виноградову.
Вадим Виноградов играл иногда с нами в волейбол. Как-то Шмаринов его похвалил:
— Тебе, Вадим, на дню надо бриться три раза. Щетина, брат, у тебя что надо. С такой щетиной женщины крепко мужиков любят.
Вадим легко гнул подковы, он сто восемь раз поднимал двухпудовку, прямой, на вынос. И бил он Смирнова в яме. И это потом рассказывал мне, когда я собирал материалы на «розовую» книгу, генерал Ковалев. Я понимал, почему он мне это рассказывает. Ковалев меня просто запугивал. И я действительно, слушая его, боялся. Стоит ему приказать, и меня загонят в яму, и я уже никогда оттуда не выберусь, если за меня возьмется какой-либо Вадим.
С этим Вадимом я потом ездил на телеге СМЕРШа на рыбалку. И я его спросил, когда мы после схлынувшей воды из реки выловили в яме сома:
— Ты смог бы и человека так прихлопнуть, как прихлопнул сома?
— Запросто! — ответил он, ухмыльнувшись. — Может, попробуем?
Я не напугался, только напоказ взялся за пистолет. Он пожал плечами:
— Шуткую.
У него была присказка: «Как приказали, так и умерли». Думаю, не одна мама не дождалась сыночка только потому, что у нас в дивизии, при СМЕРШе, жил и работал Вадим Виноградов. Он и в волейбол любил играть с кровью. Иногда бил не по мячу, если долго ему не подавали, а по своему коллеге. Вроде нечаянно, в пылу борьбы.
Первые показания полковника Шугова.
«Я, полковник Шугов Павел Афанасьевич, пограничник СССР, перешел на сопредельную сторону сознательно. Я не хотел переходить границу, и это правда. Меня заставили это сделать обстоятельства. Я вынужден был под страхом „разоблачения“ уйти сюда и, если будет возможность, не участвовать в дискриминации советского пограничника своим таким негативным поступком.
У меня есть отец, сестры.
Я знаю, сколько придется им страдать из-за меня. Но иначе, как уйти за границу и тем спасти себя, я не мог.
Не хотел бы, чтобы из меня сделали тут политическую фигуру.
Не хотел бы, чтобы эта политическая игра свалилась — последствия игры — в первую очередь, на голову моей старшей сестры, которая занимает определенное положение в нашей иерархии. Она главный врач одной из престижных больниц. Что было следствием того, что я — пограничник. И пограничник без подозрений, как оказалось, до определенного часа.
Падение моей карьеры — результат аморальности, которая процветает в нашем обществе.
Мы с ног до головы погрязли в бытовом разврате, наши жены порой неуправляемы. И все это результат так называемой эмансипации. Во многом мой переход сюда (как мы называем оттуда), в зарубеж, обусловлен и этим…»
Я нашел потом этот документ среди многих других документов. Нашел я и документ, который полностью разоблачал генерала Ковалева, инсценировавшего исчезновение на курсе, где учился Шугов, Боевого устава.
«Доношу до Вашего сведения, что дело с кражей Устава я вынужден прекратить за отсутствием состава преступления. Мною установлено, что Устав на курсе, где я впервые столкнулся с массовым подозрением, на самом деле остался в неприкосновенности. Уставы, в которых были вырваны страницы, имеют другие номерные знаки, установленные в ином воинском учреждении.
Подполковник Сысоев».
Еще один любопытный документ.
«Я, подполковник Андреев Андрей Андреевич, докладываю о следующем. На нашем курсе усовершенствования офицеров-медиков произошло ЧП. Являясь разносчиком литературы секретного толка, я при сдаче принятой мною от слушателей секретной литературы обнаружил в одном из сборников, касающихся толкования только недавно полученного нами Устава, вырванность. Немедленно доложил об этом в секретную часть, где получал литературу. Я был предупрежден о молчании. Что я и сделал.
В тот вечер производилась массовая проверка и нового Устава, и сборников, которые поясняли его. Мне поручили проверить часть сданной секретной литературы. Я обнаружил еще одну вырванность в новом Уставе, по команде доложил об этом.
Ставлю в известность…»
Подполковник Андреев, как мне показалось, не доверял даже секретной части. Она не докладывает обо всем, надеясь на то, что со временем книги придут в полную негодность и их можно будет списать.
…Железновский в тот вечер рассказывал: генерал Ковалев, как только ему доложили — Шугов ушел, — немедленно связался с Москвой. Это он договорился с тамошним начальством, что пограничники — любого ранга будут немедленно заменены. Вроде сам Лаврентий Павлович приказал Ковалеву: слушай, шерсти пограничников, сразу в брешь пускай СМЕРШевцев из части, которая там расквартирована. Мне уже доложили о личном составе дивизионного СМЕРШа. Кое-кого я знаю. Шмаринов там есть. Знаю его давно. Все можно ему простить — мягкотелость, нерасторопность за одно ценное качество: он никогда и никого не предаст, не будет никогда и никого выгораживать. Берите его в помощники, а сами работайте на свой страх и риск, пока кто-то отсюда не прилетит.
Ковалев немедленно сместил всех офицеров-пограничников, отвел заставу от границы, где Шугов ушел на сопредельную сторону. В ту же ночь пришла смена. Вдоль границы рубежи занял шестьсот одиннадцатый гаубичный полк все коммунисты полка, имеющие партийный стаж не менее пяти лет. Полк на войне прославился боевыми успехами, сейчас, заняв рубежи с карабинами — не с пушками, артиллеристы врылись в песок за одну ночь, цепочка бежала-бежала к другому полку — пехотному. Это был двести второй полк, отличавшийся шагистикой — лучшими батальонами на смотрах, полк, горластый в песнях. В полку к новой службы привлекли, кроме коммунистов и комсомольцев — секретарей бюро рот, батальонов…
Еще об одной истории я узнал поначалу от Железновского, затем от самого Ковалева. История эта связана с поиском кандидатур на «ликвидацию» Шугова. Ковалев серьезно об этом толковал.
— Убить человека, — рассказывал он мне, когда я сослался на Железновского (он разрешил мне это сделать), — очень легко, если он здесь, а не там. Убивают в основном за предательство. А раз Шугов оказался предателем, то убить его надо было обязательно. Другое дело — как? Он же был там на их стороне. Если бы он был здесь, у нас, я бы его, конечно, достал. Не надо и согласовывать. А там — это другой вопрос. Да и к тому же — под прикрытием чужой разведки. Полковник — подарок врагу. Берегут они таких лучше, чем себя…
Железновский называл мне имя человека, которого посылал на убийство Шугова Ковалев. Странно, но мне показалась эта кандидатура удручающе хлипкая. В штабе дивизии у нас работала машинисткой Софья Каганова женщина невзрачная, худая, с нервным от усталости лицом. У нее был сыночек — тоже худой и нервный, как мама, вечно больной, вечно битый мальчишками. Иногда вдруг этот ее сын гонялся с визгом за своими обидчиками, потому что рядом, с чуть кривоватой длинной палкой в руках расхаживал в то время рядом длинный, флегматичный тип неопределенного возраста. Я знал, что он работает на таможне — следит за провозкой шерсти к нам сюда, на перевалку. Говорят, он безуспешно клеился к Софье, но она его не подпускала к дому, всякий раз налаживая к себе домой, на его квартирку. Снимал он ее у какой-то бедной вдовы, выращивавшей разные пряности на своем небольшом огородишке. Вдова несколько раз предлагала ему руку и сердце, но он отказывался, предпочитая любить Софью и ее заморыша.
Говорят, Софья всегда твердила, что этот несуразный таможенник — не личность. И, видимо, наступил час, с предложением Ковалева, все это опровергнуть. В послужном списке таможенника с чекистской фамилией Петров и с именем Петр, а с отчеством Петрович значилось, что он выполнял некогда боевые задания, рассказывалось, где эти задания выполнялись. Да он и сам Ковалеву об этом ведал, когда его не силой, но привели к нему.
Сговорились на ордене, Петров П.П. пообещал принести голову Шугова целехонькой, свеженькой, как когда-то носил головы более значительных особ…
— Да, я его посылал, — откровенничал Ковалев. — А что было делать надо убить человека, а некому. Шугов проглядел профессионалов-убийц: почему-то они с ним работать не захотели. Ведь два этих прокола остались без последствий. Они вытекали из него самого и его этой уступчивости. Не наказали, не убили — это сразу все вопросы заостряет до предела. С тобой считаться уже не будут. И что мне оставалось делать, как не опереться на Петрова? Правда, плохо было то, что его многие на сопредельной стороне знали в лицо: на таможне-то не проедешь, не поглядев, кто тут командует. Мы снабдили Петрова и картами, и компасом. Но он был — тут правду говорила Каганова — не личностью. Он, во-первых, заблудился, когда на дворе этот тарарам песочный разверзся. Уткнулся в саксаулину, да так и был пойман американцами. Там у них был немец. Он в основном поймал. А американцы, как ни странно, отпустили эту не личность… Вот, погляди, что написал Петров тогда…
Я взял из его рук бумажку. Значилось: «Рапорт».
«Я, Петров Петр Петрович, в трезвом уме и в сложных находясь обстоятельствах по отношению к любви и верности своей стране, взял и поклялся убить того самого гада ползучего — Шугова П.А. Я, конечно, все сделал для того, что перейти границу и проследить, где они его содержат. Я дошел почти к их резиденции, которая состояла из дувала, мазанки и маленького двора. Здесь они его и содержали. Под очень большой охраной. И я пытался пробраться к нему, этому бывшему нашему полковнику, а теперь ставшему полноценным врагом. Жаль, у меня не хватило сил, когда они набросились на меня. Их было около десяти человек из охраны. И я бы дрался с ними до последней пули, но они не дали мне развернуться»…
— Вот такое попалось ничтожество тогда, — стуча по столу кулаком, говорил Ковалев. — А как я надеялся, когда читал принесенные им справки. Ведь по справкам он убил тогда двадцать восемь человек!
— И что же с ним было потом?
— Ну ты же знаешь! Поди, рассказал тебе твой Железновский.
— Нет, он мне ничего о Петрове не говорил, вернее о последующем не говорил.
— Ну а ты, как думаешь? Что мы с ним сделали?
— Отпустили домой, пригрозили, чтобы молчал.
— А ты веришь, что пригрозишь человеку, и он будет молчать?
— Думаю так.
— Плохо думаешь, стратег. Мы его осудили. На Колыму отправили. Дали четвертак.
Он глядел на меня пронизывающе, будто мне это все полагалось.
Я пожал плечами.
— С нами вообще не шути. За что берешься, — выполняй. Не то загремишь…
10
Архивы КГБ уплывают на Запад.
Пользуется ли новыми секретными документами, открытыми в последнее время, бывший полковник Шугов?
Мещерский приносит все новые и новые документы.
Борьба не на жизнь — на смерть.
Погиб ли Мещерский от руки грабителя?
Или покончил жизнь самоубийством?
Кажется, сто лет прошло с тех пор, когда мы с Игорем Железновским были вместе последний раз там, где разыгралась трагедия, у той глиняной стены с небольшими холмиками, что блюдут бывшую жизнь Павликова, Смирнова, замполита. Я писал Ковалеву книгу — «розовую-розовую», с лапшой на ушах. Сам я жил в страхе перед ним. Я его стал бояться. Железновского, который мне грозил им когда-то, я вспоминал. Теперь я понимал — все же он был не худшим в их системе. Да, надо иметь немало сил, чтобы быть не только свидетелем, участником, но — уж точно — исполнителем…
И вот, когда я приехал за новыми «розовыми» документами — сам он.
Железновский похудел, стал сбитее, увереннее, атлетичнее. Это был красивый мужчина неопределенного возраста — дашь и пятьдесят, и при неверном свете сорок, дашь и под шестьдесят. Рост у него был всегда приличный — метр восемьдесят восемь, но одно время Игорь сутулился, ходил прибито, не распрямляясь… Все это — в прошлом. И улыбается так, как когда-то улыбался, когда мы говорили о Лене и моей победе над ним на танцевальной площадке. То есть аккуратно улыбается, лишь губами, искренне желая мне в моем процветании добра. Я выглядел, наверное, для него тоже убедительным, действительно — одет во все модное, простое и не стесняющее тело и не вызывающее у других протеста. На Железновском была тоже отличная тройка, он завел усы под цвет этой тройки. Усы он, видно, красил. Эдакий молодец!
— Откуда ты, дитя? — спросил он, отстояв молча и вынося терпимо мой телячий восторг.
— Откуда? Лучше скажи — куда? — Я лихорадочно прикидывал, как смогу использовать его в своем деле — прискорбно, однако я стал давно таким: меркантильным, расчетливым и сообразительным. Лишь бы открытой глупостью не мог насторожить бывшего смершевца.
— Опять — поиски? — скептически усмехнулся Железновский.
— Опять, опять, — улыбался я. — Слушай, все равно ты мне ни капельки не веришь. Откуда, спрашиваешь ты, у этого молодца такая прыть? Чего он от меня хочет?
— Именно.
— Сразу быка за рога?
— А чего нам хитрить друг перед другом? Ты уже давно убедился, что я твоим врагом никогда не был.
— Не будем вдаваться в подробности.
— Нет, тогда не будем говорить!
— Хорошо. Сержанты! Ты участвовал в организации их суда…
— Ну я же тебе тогда, в пьянке, сказал точно: Ковалев! Месть за то, что не пошли и не прирезали Шугова. Идиот, он тогда боялся, что все-таки Мещерская начнет валить на него — это он спровоцировал побег Шугова! И прежде, чем послать того самого кретина, таможенника туда, он же приглашал на это дело сержантов. Чтобы искупить! Бедный умом, он же теоретически знал границу, лишь в академии, в этой комиссии, нюхнул ро-омантику границы.
— Ясно! Но ты не сказал мне главного. Он посадил, но почему он и хлопотал об их освобождении. Освободил не я их, хотя писал во все концы. План новых моих усилий, как мы плохо пишем в газетах, разработал он. Он конкретно расписал, куда и к кому я должен был обратиться.
— Ну многое я не могу тебе сказать — я связан подпиской. И для меня она что-то значит. Но, думаю, так: все-таки все из нас — люди. Или бывают ими когда-то, если напрочь забывают все человеческое. Согласен? Но подумай о другом. Ведь отгадка лежит на поверхности. Почему? Ты сам ему подсказал идею пользы — для него — их освобождения. Они же теперь служат только ему!
— Ладно, ничего не скажешь. И на том спасибо. Сам не досуге докумекаю, откуда неожиданно родилась такая отеческая забота о сержантах. Не додумался же он до того, что я предложил вариант его будущих боевиков? Один ведь только Шаруйко у него из всех сержантов остался на службе.
— Один Шаруйко! Наивный ты. Не доведи тебе господь отведать его боевиков. Особенно, когда они возьмут и станут терзать тебя по знакомству… — Он вдруг нахмурился — вроде сказал лишнего. — Что тебе еще нужно конкретно?
— Архивы КГБ. Этот последний момент с сержантами. Их отпуск на волю. И, главное, как просьба Ковалева в этом выглядит.
— Я уверен, ее там нет. Ковалев не станет светиться… Тонкости тут, откровенно, не вижу!
«Чекист называешься, — хотел сказать я. — Кто же тогда убивает теперь у него, у этого Ковалева? Правда, что же я хочу узнать? Как Ковалев писал, чтобы заполучить боевиков? Или действительно ничего не писал? Хочу другое узнать. Как меня убьют, кто? Но какое это имеет значение — кто? Шаруйко? За предательство? За неповиновение?.. Приказано — убить! И беспрекословно выполнено… Один даже убийца Шаруйко — этого достаточно было, чтобы хлопотать об освобождении всех.»
— Ладно, — сказал Железновский, — идем посидим на улице.
Мы сели с ним, он закурил, поглядел на меня, на папиросу — он всегда курил папиросы — и стал говорить. Он знает, что нынешний председатель парламентской комиссии по передаче и приему архивов КПСС и КГБ СССР, а также его заместитель обратились с письмом к Президенту России. Что сейчас происходит с архивами?
— Если ты живешь не в вакууме, — оглядел меня Железновский и пыхнул в мою сторону струйку дыма, — ты знаешь из печати, телевидения о фактах пропажи — а точнее продажи — документов из этих архивов сволочным зарубежным организациям.
— Следовательно, бывший полковник пограничных войск, ныне крупный разведчик Шугов Павел Афанасьевич… — Я перестал думать о Шаруйко, который будет моим другом, но выполнит приказ. Я уже внимательно слушал Железновского.
— Ты на правильном пути. — Услышал его жугкащий голос. — Контора Шугова закупила уже порядочно документов. Сам он оказался оборотистым малым. К примеру, он с помощью своих агентов, которые разъезжают ныне по бывшему СССР как по собственной стране, нашел в Пятигорске двух старичков, братьев Кабановых. В свое время эти братья обогатили музей местного значения воспоминаниями о том, как убивали царскую семью…
— Погоди, — перебил я Железновского, — что-то я читал в газетах о парламентской комиссии.
— Ты не мог там прочесть о главном. Там сказано, что ни парламентская комиссия, ни Комитет по делам архивов никогда не рассматривали и не давали санкции на сделки подобного рода. — Железновский скривил губы в той своей улыбке, когда презирают все и вся, и добавил: — Они считают, что архивы память народа, бесценное национальное достояние. Они-де не могут быть предметом торга.
— Ты не согласен?
— Согласен. Но как же это случилось? Ты мне можешь, писака, ответить? Санкций на сделки не было, а архивов некоторых тоже не оказалось. И еще… Я хорошо знаю, что в тот день, когда письмо было передано — я имею в виду письмо председателя парламентской комиссии и его заместителя — в руки Президента, эта парламентская комиссия обсуждала проект решения «Об архивах КГБ». Там точно и конкретно определено, что изымается из секретных архивов. Это я для тебя говорю.
— Поздновато же оно разработано.
— Гордишься, что копался в архивах? И кое-что нашел?
— Ты не оговорился… Нашел даже твои записочки. Нашел немало и другого взрывоопасного материала.
— Все станет известно, — пошамкал он губами. — Все. И о нас, например, все будет сказано. Потому что архивные материалы центрального и местных органов безопасности всего-то хранятся со сроком давности пятнадцать лет.
— А почему вам — привилегия? Это максимальный срок для любого министерства и ведомства страны, после чего архивы сдаются на государственное хранение.
— Ты и это знаешь? Тогда чего же придуриваешься?
— Я знаю также и о том, что… В общем знаю об исключениях.
Железновский отвернулся:
— Самое страшное, все, что связано с действующей оперативно-агентурной системой, остается у ведомства лишь тридцать лет.
Я вокруг него забегал:
— Тогда — помоги. Тридцать лет уже прошло с тех пор!
Железновский саркастически ухмыльнулся:
— Иди к Ковалеву. И к Мещерскому.
Я недоуменно уставился на него.
— Чего смотришь, как баран на красные ворота? Ты чего — не знаешь, что и Ковалев, и Мещерский работают ныне и в архивах? Причем не последние у них должности, главные.
Я плюхнулся на скамейку рядом с ним.
— Как же я не знал этого? Ведь работаю с Ковалевым!
— Учись держать язык за зубами. Учись у него этому!
Почти на цыпочках идя сам, Мещерский, на ходу набрасывая на себя летнее пальто («Зябко, зябко!» — зашептал только губами), уводил меня из домашнего кабинета на гремящую машинами, троллейбусами и всякой городской всячиной улицу.
Мы остановились в одном из гадких кафе на Савеловской, заказали костный бульон, и он, не дотронувшись до тарелки, шептал:
— Зачем вы пришли? Что вы хотите мне опять сказать?
— Мне сказал Железновский, что вы работаете теперь в архиве. Помогите мне.
— В чем? Игорь вам не говорил, какие строгие и теперь у нас правила? Что забирается целиком и полностью и, следовательно, хранится прочно?
— Я не знаю — что? Это вы знаете.
— Ну, к примеру, фильтрационно-проверочные дела на граждан, бывших в плену. Забираются все трофейные материалы. Забираются архивно-следственные дела. Как же вы надеетесь со мной работать? Это же вам нужны архивно-следственные дела.
— Но, может, они подпадают под статью жертв политических репрессий? Это же сейчас, по-моему, легко можно объяснить.
— Мне можно объяснить. Эти ваши жертвы политических репрессий бывшие сотрудники органов безопасности. Их личные дела хранятся со сроком тридцать и более лет. Как же я возьму их для вас? Да еще на вынос!
— Зачем мне все это знать? Ведь у меня конкретная просьба.
— Видите, вы какой! Я вам обстановку общую рисую, а вы о частностях.
— Шугову, выходит, давать архивные документы вы не боитесь? А мне, желающему познать истину, отказываете?
Мещерский побледнел:
— Кто вам сказал, что я даю из архива документы Шугову? Кто придумал эту наглую ложь?
— Конечно, не я сам, — спокойно отреагировал я.
— А кто? Скажите мне. Иначе я немедленно уйду.
— Какая разница, кто сказал? Если некоторые документы в распоряжении Шугова, то…
— Сейчас не то время — угрожать мне за то, что я поддерживаю связи со своим бывшим зятем.
— Я вам не угрожаю. Я просто хочу реабилитировать многих людей, которые невинно пострадали после ухода Шугова за границу.
— Если бы вы были объективны!.. Впрочем, если вы настаиваете, я дам первый документ. Если вы что-то поймете, тогда поговорим… Только, только… Скажите откровенно, вы верите в слухи о «зомби»?
Я промолчал. Мещерский долго изучал мое лицо, я был непроницаем. Он отставил свою тарелку и маленькими шажками двинулся из кафе. Так вот почему он не захотел говорить дома, а привел сюда! Он боится Ковалева. Он считает его — «зомби»? На ходу Мещерский бросил мне:
— В четверг, рядом с этим кафе. В восемнадцать ноль-ноль. Значит, вечером.
После него я бросился вновь к Железновскому. Я нашел его слегка выпившим в его холостяцкой квартире. Она у него была двухкомнатная, кто-то здесь, видимо, убирал — в принципе чисто и, как всегда, когда человек холостякует, пьет, пусть и в меру, непременно курит, — с особым духом, затхло-стоящем везде: и на кухне, и тут, где кровать, и там, где письменный стол.
— Чего? Всего боится человечек?
Я кивнул головой.
— И ты в «зомби» не поверил? Прилетел ко мне за консультацией…
— А что же делать?
Железновский встал, пошел к буфету, достал бутылку вина, два бокала, принес это все в одной руке. Потом полазил в шкафу и вытащил какую-то папку с бумагами. Молча подошел опять к столу, бросил на него папку — на мой край стола, налил по полному бокалу, чокнулся со мной — я еще не взял свой бокал, и сказал сморщившись:
— Читай. И мотай на ус.
Потом я, много позже, обо всем том, что дал мне просмотреть Железновский, читал в одной из газет. Там, в газете, шла речь только о единичных случаях, а тут, у Железновского, фигурировали многие фамилии. Шла речь вот о чем:
а) неугодных работников ныне все чаще (имелись в виду работники КГБ) увольняют с диагнозом шизофрении;
б) в органах сегодня существует сверхвысокочастотный излучатель;
в) еще в 1963 году Военно-медицинская академия в Ленинграде набрала в число подопытных, заплатив при этом, студентов Ленинградского университета. Их в течение месяца облучали электромагнитными волнами СВЧ. Сеансы проводились в специальной комнате, обшитой свинцовыми плитами. Генератор, смонтированный в рефлекторе, диаметром 50 сантиметров, стоял в 4–5 метрах от испытуемого, который садился к нему спиной;
г) испытуемые ощущали легкую тошноту, у одного выпадали волосы от легкого прикосновения, другой оказался более стойким и ему все было, как он выражался, до Фени Дуниной…
— Что посеешь, то и пожнешь! — Железновский налил еще в бокалы. Пусть пьет с нами не такой и трус Зиновий Борисович Мещерский. Он под копытами «зомби» Ковалева. — Железновский чокнулся с третьим стаканом, стоявшим теперь наполненным, но нетронутым.
— Тогда, выходит, что и Лена тоже под копытами генерала?
— Мыслишь! Пей!
— И это в самом деле серьезно?
— Я ничего такого не делал и не видел, как делают. Но когда заходит об этом разговор, относятся к этому серьезно… Естественно, начальство отрицает, что в городах нашей необъятной, — опять улыбка одними губами, страны наличие СВЧ-излучателей, которые превышали бы допустимые уровни, затрагивали проблемы экологии, людей, их здоровья, их управляемости со стороны.
— А люди, выходит, обращаются и в КГБ, и в МВД?
— Опять прозорлив.
— Потому и боится Мещерский Ковалева?.. Мещерский в любую минуту может поплатиться за то, что передал своему зятю? И Ковалев держит его на этом?
— Верно, пять!
— Что-то Мещерский мне тогда принесет из архивов? Он же будет бояться, что Ковалев все видит и все знает.
— Что-то принесет, но только не из той нашей поры. Там, как ты понимаешь теперь, почти все было связано с поездкой Берии. И, естественно, со всеми делами, которые варганил Ковалев, услуживая Берии. Особенно неприятным оказалось дело Соломии Зудько. Лаврентий Павлович приказал перед своим арестом — словно чувствовал — окончательно убрать себя из поездки… Ездил двойник.
— А почему дело Зудько оказалось самым острым и неприятным?
— Не знаю.
— А ты размышлял над этим?
— Меня к делу Зудько не подпускали. Я лишь допрашивал несколько раз ее мужа.
— А кто может знать это хорошо?
— Наверное, Шмаринов.
— Или Ковалев?
— Нет, в мои размышления он вписывается не авторитетно.
— Как это понять?
— Когда-нибудь поймешь.
— Убирал следы по Зудько ты?
— Не только я. Потому все — расплывчато. Размышления, догадки — одно, а конкретные вещи… Это другое.
— А о «зомби»? У вас о Ковалеве в этом плане что-то есть?
— Мы в отделе посмеялись, получив информацию: Ковалев — «зомби», стал пояснять Железновский — мне было приятно, что в последнее время он разговаривает со мной серьезно. — Но некто прислал Горбачеву секретную программу ЦРУ «МК-культура». И кто, ты думаешь, этот некто? Шугов. Шугов через своих людей переслал копии писем наших людей с просьбой расследовать факты облучения.
— Зачем это надо Шугову? — спросил я.
— Думаю, выявление истины. Человека в свое время выгоняют из страны. Точнее — заставляют уйти. Разве он простит это своим врагам? Борьба между Шуговым и Ковалевым вступает в полную силу. Все средства борьбы хороши… Кто победит?
Зиновий Борисович Мещерский. Не «управляют» ли им? Да, он уверен управляют. Управляет Ковалев. Но управляют и Ковалевым. Он уверен в этом еще больше. Ковалев в последние годы «угадывает» все приказы сверху. Он признает Центр. Он радуется — раз им управляют, выходит, он нужен. И всякий должен понимать это. Управление для каждого — есть радость. Ибо общность интересов в мире, во всем мире, приводит к колоссальным результатам. Кадры по-прежнему решают все. Центр ему доверяет. Он рад. И самое страшное для Ковалева — не промахнуться с кадрами. Ему, Ковалеву, в этом мешают евреи, в частности и Мещерский.
— Вы, евреи, всегда хотите управлять нами. И это страшно для русских. Не вы управляете нами, а центры. В центрах у вас — Главный. Что он скажет — так будет. И сейчас ваше торжество. Вы оказались умней нас. Но все это временно.
— Но я не еврей! — каждый раз протестует Мещерский.
— Но кто же ты? Кто? Посмотри на себя внимательно в зеркало. Ты тотчас убедишься, что ты еврей.
Ковалев однообразен. Он твердит это уже давно.
Я так увлекся борьбой с Ковалевым, что прозевал момент его падения. Однажды приехав, я заглянул в его контору. Оказывается, Ковалева там уже не существовало. Кто-то все-таки достал его. Но — в архиве! Архив — это очень много. Это взлет и крах человека. Это ежедневный страх — а если найдут то, что ты когда-то делал тайно? Ты думал, что об этом никогда и никто не узнает. Но вот оно, лежит — как бомба для тебя. Лишь взглянут — и ты разоблачен. Ты был доносчиком. Ты предавал…
Мещерский за свои руководящие годы немало наследил, и когда Ковалев, лицо в архиве первое (после падания в своей конторе) предложил Мещерскому стать заведующим какого-то отдела архива, он сразу же согласился. Ковалев подумал и сказал:
— А зять бывший? Он тебе не помешает?
— Причем тут бывший зять? — воскликнул Мещерский. — Служить буду вам!
Через три месяца Мещерский был куплен человеком зятя. Все было обставлено надежно, крепко. К тому времени Мещерский в своем отделе был полным хозяином. Ковалев? Первое время он Мещерского контролировал, потом на него навалилось немало дел, он как-то упустил Мещерского из вида. «Зомби»? Это пришло чуть позже.
Шугов давно был рядом с Мещерским. Вторая его жена погибла в автомобильной катастрофе. Три года спустя, после перебежки сюда, за кордон, он женился. И быстро понял, как ему не повезло. Жена была тихой и незаметной. Обрусевшая немка, которая появилась в этой стране, куда прибило Шугова волей судьбы, на третий день пояснила ему, что детей у них не будет: что-то с ней в молодости произошло. Это он уже пережил с Мещерской. Дети? Ему бы они не мешали. Скорее бы, мешали ей — уж слишком безумно она увлекалась автомобилизмом. Автомобили, впрочем, и унесли ее на тот свет. Были бы дети, она утащила бы их за собой.
Шугов понял не сразу — как ему хорошо теперь. Теперь он мог открыто думать о Лене Мещерской. Постепенно отходил он от зла. Женившись во второй раз, а потом освободившись и от второй жены, Шугов с горечью понял, как в сущности он не практичен при выборе спутника жизни. Если бы он умел жениться, он никогда бы не женился на Мещерской. С ней было трудно делать карьеру. А это обрусевшая немка с ее незаметностью и неприсутственностью всюду, где бы Шугов занимал какую-то часть земли, — разве это лучше? Но тихость и незаметность второй жены помогали напористо работать. И помогали не беспокоиться о нем его высшему командованию. Оно давно считало, что он тут, как и у себя дома, свой.
Карьеру Шугов здесь сделал даже быстрее, чем там, на своей земле. А сделав ее, работал против своей страны с напором, хитростью. Он им мстил. Все, что он хотел бы там смести с лица земли, это… Это — все. Все до основания.
Его звездный час наступил с приходом Горбачева. Как ни странно. Он-то, Шугов, понимал: почему? Понимало, видно, и его начальство. Легкость, с которой рушился режим, был страшен. Шугов знал, что все это временно, ибо его бывшие соотечественники даже не в шоке, а в глупой, непростительной эйфории. Все пройдет у них. Открытость перемелется. Режим снова наберет силы. Но в эту самую эйфорию — бери и тащи! Такого уже никогда не будет.
Шугов выбирал самое существенное. Он сразу понял, на каком богатстве сидит бывший тесть. Бесценные документы. Они — для будущего. Не дать потом им подняться! Поставить везде свое, надежное. Когда по его бывшей стране покатались выборы, он через своих людей (подкупы, взятки) не только уничтожил кандидата в депутаты Ковалева (тот шел по спискам!), но и протащил нескольких депутатов, очень нужных ему, в парламент. Теперь он со своими хозяевами вмешивался в законотворчество. Считаясь специалистом по востоку, Шугов был всегда нужен. Его трезвый, практичный ум уберегал этих хозяев от ответной эйфории: все там можно, все изменники, дай только доллар! Нет, — утверждал он, — борьба вся впереди. И он был прав. Нередко они встречали такое сопротивление, противоядие шло на противоядие, что становилось жарко всем: и политикам, и разведчикам, и высшим властям.
Но империя все-таки развалилась на глазах. Все рушилось, все становилось непрочным. Стены, космодромы, ракеты были уже вроде нестрашны. Не верилось, что в этом хаосе могут найтись патриоты, которые пустят этот зажравшийся, торжествующий мир под откос! Страна, которую так превозносил ее лидер Горбачев, — это была уже заштатная колония, где даже депутатские мандаты можно было купить из-за рубежа. Не говоря уже о сырье, стратегических материалах, умах.
Когда Мещерский получил должность, Шугов моментально приладил ее под свое ведомство.
Став одиноким, он несколько раз через подставных лиц передавал (благо, это было теперь намного проще) Елене Мещерской то, что здесь не имело такого значения, — бриллианты, золотые побрякушки. Лена, конечно же, смекнула, кто ей это передает. Она была благодарна за такие щедрые подарки. Но хранила все в тайне. Когда отцу ее предложили сделку люди Шугова, и он пришел к ней с возмущением, она ему холодно сказала:
— Папа, неужели ты не читаешь газет? Сильный тот, кто теперь имеет деньги. Сделай Павлу то, что он просит. Это же, как я поняла, просит он. И это тебе нетрудно вовсе сделать.
— Ты собираешься жить там?
— А почему бы и нет? Я знаю, что у него умерла жена. Сейчас… Пусть-ка попробуют не пустить меня к нему!
— Но Ковалев тебя станет держать на железных цепях.
— Он — козел. И месть моя еще впереди.
Зиновий Борисович встретил меня в следующий раз совсем по-иному важно, уверенно, с долей покровительства. Почему, спросил он сразу же, придерживая то, что принес мне, — я не стал в свое время резидентом советской внешней разведки? Почему не согласился идти в комитет безопасности?
Я удивленно пожал по привычке плечами.
— Зачем? Мне и здесь интересно.
— Глупо! — обиделся Зиновий Борисович. — Да их тьма-тьмущая, кадровых разведчиков, которые работают под прикрытием профессиональных журналистов. Вспомните генерал-майора Калугина. В свою первую длительную командировку он был направлен в Нью-Йорк как корреспондент Комитета по радиовещанию… Без прикрытия разведчик не разведчик. И какие у них возможности!
— Вы хотите подороже продать то, что принесли? Потому так многословны? — Я оборвал Мещерского.
Он пронзил меня уничтожающе своими маленькими бесцветными глазками.
— Возьмите. — И передал пухлый пакет. — Познакомьтесь на досуге.
Странно, однако это был роман «Самоубийство» Марка Алданова, писателя у нас пока не публиковавшегося. Роман я читал. Он печатался в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Мне его привозили друзья, часто бывавшие или на спортивных олимпиадах, или ездившие по дипломатическим каналам.
Мещерский приложил к роману неглупые комментарии-обобщения. И, собственно, их я довольно быстро пробежал. О чем и сообщил Мещерскому на второй день.
— Вы так быстро освоили? — удивился он.
— За одну ночь. Интересно.
— Сколько сейчас на ваших?
Я ему сказал, сколько. Мещерский предложил встретиться через час в нашем с ним кафе.
— Так вот в чем идиотизм нашей жизни, нашей действительности, — когда мы встретились, завертел он перед моим носом своими короткими ручками зал был пуст и он говорил громко. — Мы ничего этого не знали, — похлопал по книге и комментариям, которые я возвратил. — Почему вы не пошли на службу в КГБ? Вам не надо было бы унижаться, просить посторонних, которые бы что-то привезли вам.
— Откуда вы знаете, что я кого-то просил?
— Потому что я сам всегда просил, чтобы не отстать.
— В чем не отстать?
— Во всем. Алданов пишет о Ленине первым. Замечательная проницательность, сила воли, но какая нетерпимость! Но ведь эта нетерпимость характерна для революционеров всех эпох. В том числе и эпохи Ковалева! В ней источник их силы, в ней — весь ужас и страх. Вы понимаете это, когда собираете бумажки о Ковалеве? Вы хотите, чтобы он со своим умом разобрался сам в этом?
— Он делал зло, подчиняясь революционной идее?! И это говорите вы?! Говорит человек, который руководил райкомом партии! Зло, подчиненное идее?!
— Ковалев, — важно произнес Мещерский, — понимал, понимает, будет понимать, что в нетерпимости ко всему иному — источник силы ленинизма.
— И эта нетерпимость позволила ему творить самое гадкое даже с вашей дочерью?
— Да! И еще раз — да! Герметизм революционного сознания — это уметь не помнить о жертвах, о крови. Это не жалеть ни близких, ни дальних! Ибо насильственный ввод людей в счастливое будущее надо осуществлять любой ценой. И прощать при этом себе в мелочах. Моя дочь запуталась. И он ее поймал на этом. Для него это мелочи, что он ее шантажировал. Ведь Бухарин тоже имел молодую жену. Он увел ее от отца-революционера. Я думаю, там что-то Бухарин тоже использовал. И это по-революционному правильно! Пусть они будут жертвами!
Я глядел на него с недоумением. Это он говорит серьезно? Но — бред! Страшно!
— Не улыбайтесь, — расстроился Мещерский. — Ковалеву непонятно многое. Но революционная нетерпимость ему помогает в главном.
— А что главное? Главное в конце концов жизнь человека. Но жизнь вашей дочери под хамским контролем Ковалева!
— А зачем вы передергиваете?
— Вы на самом деле не жалеете дочь, которая попала в его цепкие лапы?
— Ну кто бы это говорил, а не вы! Вы же ревнуете мою дочь к нему!
— Я не ревную. Я боюсь за нее.
— Это уж позвольте бояться и заботиться о дочери нам, родителям. Кстати, мы относимся к его нетерпимости спокойно. Мы даже надеемся, что она принесет пользу не только нашей дочери — всему народу.
— Назад к сталинщине? Снова к твердой руке?
— Или снова в хаос?
— Но вы сами боитесь его! И вы хотите, чтобы снова его боялись все? И чтобы он со всеми делал то, что делал?
— Вы вначале докажите, что он делал. Но лучше бы, если вы доказали то, что теперешние делают. Это ближе. И это может хаос остановить.
— Молчать! Не разговаривать в строю! Верной дорогой идем, товарищи!
— Да, абсолютно верно. Без этого мы разрушили страну, уничтожили самое уникальное объединение людей. Шли эти люди и делали!
Мы спорили с ним до хрипоты. И он стоял на своем — этом насильственном вводе людей в счастливое будущее. Но с того дня Мещерский потоком доставлял ко мне материалы. Они были разные. Он оказался умен, изворотлив. Он стал снабжать меня документами, касающимися Ковалева.
Я так и не понял, почему он стал делать это?
Или я задел его дочерью? Он стал осознавать, что уж не так блестяще выглядит Ковалев, когда принуждает ее идти в его дом. Думаю, он знал все.
Я пояснял Мещерскому: меня, прежде всего, интересует внутренний мир таких людей, как Ковалев. Они пытаются изменить этот мир по-своему! Но изменился ли Ковалев сам в чем-то? В лучшую сторону? Мещерский моментально понял, какие документы я хочу иметь, чтобы понять Ковалева. Он стал подсовывать мне выдержки из бумаг, где характеризовался Ковалев-служака, исполнитель. Исполнитель и своей воли (заставить человека делать то, что хочет Ковалев!), и воли свыше. Материалы были, конечно, жидковаты. Мало было на Ковалева очень коротких запоминающихся характеристик. Страдали бывшие и сегодняшние бумаги расплывчатостью. Но везде в документах Ковалев ратовал за революционное преобразование человека, страны, мира. Он, по всем этим бумагам, сопровождавшим его и теперь хранящимся в архивах, умел при этом преобразовании не помнить о жертвах и крови. Ради теории освобождения большинства от гнета! Массы он не делил на полы. Женщины выглядели у него пролетариями. С ними можно делать все во имя чего-то грядущего. Как и со всеми остальными.
Однажды Мещерский не пришел. Я ждал его долго. Я понял — не придет. Стал звонить ему домой. Поскольку звонил беспрерывно, наконец подошли к телефону. Я услышал в трубке плач и причитания. Ровно, однако мертво гудело все в трубке. Мужской голос спросил меня: «Кто звонит?» Я ответил, что звонит знакомый. «Откуда вы звоните?» — спросили меня без особого любопытства. Я? Откуда звоню? Мне ничего не оставалось делать, как быстро положить трубку и попытаться поскорее отойти от этой телефонной будки.
Я стал ловить такси. Это было не такое и приятное для остановок такси место. Никто не обращал на мою поднятую руку внимания. Вдруг на полной скорости подошла машина. Я увидел Лену и ее расширенно-озабоченные и злые глаза.
— Садись, кретин! — крикнула она.
Я плюхнулся на заднее сидение, она развернула машину и бросилась наутек.
— Куда?! — заорал я. — Гони к «Известиям»!
Мещерская тут же послушала меня, на полном ходу, пугая прохожих, влетела в переулок, развернулась и бросилась к «Известиям».
— Что с отцом? — спросил я, когда, как мне показалось, мы уже были в безопасности.
Лена тихо заплакала.
— Скажи, что с ним?! — настойчиво потребовал я.
— Нас ограбили.
Повернула свое красивое лицо с большими голубыми в эту минуту и очень беспомощными глазами. Губы ее были наспех подкрашены. Я увидел на этих губах два изъяна — то ли от укуса, то ли от лихорадки.
— Кто ограбил?
— Ты действительно кретин! — искренне выругалась Лена. — Если бы я знала!
— Командует парадом Ковалев?
— Ты тише ори! Я не доверяю даже отключенной технике… — И когда мы миновали поворот и уже приближались к газете, где так и работал мой друг никакие перемены не сдвинули его с заместителя редактора — добавила: — Они все умеют, эти «зомби». Подключать, отключать…
— Послушай, — спросил я ее, — неужели бы они днем, при людях, меня кокнули?
Лена вновь подняла свои очаровательные, слегка теперь красные от слез, глаза.
— Если ты не додавишь его, — сказала зловеще, — он съест тебя! И не поперхнется! Ты же знаешь, самое дешевое убийство — тутошнее, рабоче-крестьянское!
11
Я нахожу все-таки документы о Павликове и Смирнове.
Мне помогает бывший майор интендантской службы Соловьев.
Встреча с Кравцовым — верным членом комсомольского бюро.
Дочь Вероники Кругловской, чтицы-декламаторши, готова дать показания.
Железновский отказывается подписать мое письмо.
В который раз Железновский меня отговаривал: зачем мне все это? И уже по-иному говорил о Ковалеве. Не в нем-де вся соль. «Зомби»! — Железновский иронично ухмылялся. Ну считай тогда и меня, и себя, и весь многомиллионный народ «зомбяшками». Мы, согласись, твердо выполняли и выполняем установки сверху. Разве мы не служили? Мы широкой поступью шагали то к социализму, то коммунизму, то, остановившись, пошли к развернутому капитализму. Ковалев шел вместе со всеми. Учти, он шагал к тому же как сотрудник Комитета госбезопасности. Попробуй вильнуть! И вот теперь ты пристаешь к нему… Но зол я на него или не зол, говорил я о нем плохо или не говорил, есть же на земле более значимое на сегодня, чем Ковалев, чем мы с тобой. Есть развал в стране, есть пропасть. Работы — уйма. А тут выворачивай прошлое и занимайся Ковалевым!
— Не надо, выходит? Не тронь?
— Именно — не тронь. Так я решил. Довольно. Мы зашли в критике собственных дел слишком далеко.
— И нам аплодируют враги? — засмеялся я.
Он не обратил на это внимания.
— Погляди, писака, — с болью продолжал, — противозащитная система наша расшатана! Пришел, извини, ссыкун, продал наработки лучших в мире разведчиков! Второй кричит — выгоню из посольств и из своих центральных контор всех разведчиков! Ну выгонит. А дальше?
Я не знал, выходит, Железновского. Как бы я не думал, но со многим, о чем он говорил, нельзя было не согласиться. Да, обрадовались! Нет борьбы сторон! Но наряду с дипломатией и внешней торговлей внешняя разведка выступает непременным звеном, и без этого звена не может полнокровно функционировать государственный механизм и обеспечиваться государственный суверенитет, — говорил Железновский. — Ты смотри, США и Израиль — друзья, стратегические союзники. А шпионят друг за другом! Ты же помнишь, как несколько лет назад был пойман ФБР с поличным завербованный израильтянами сотрудник военно-морской разведки США Джонатан Поллард. Он передавал Тель-Авиву секретный код военно-морских сил США. В прессе — скандал. А в отношениях между Израилем и США — и сдвига нет в отношениях. Все естественно!
— Ты забыл, мы говорим лишь о Ковалеве, — перебил я его. — Не многословь!
— Ты не понял, что хочу сказать? — взял он меня за руку. — Но вы и так вылили много грязи на свою страну, судари и сударыни! И не смейте больше этого делать! Ковалев — разведчик. Он имел дело с внешней разведкой. Ну вылей на него ушат помоев! Вылей! Тебе это ничего не составляет. У тебя документов теперь — куча. Куда пойдут эти документы? Ты подумал?
— Я знаю, на кого ты кивнешь.
— Да, я кивну на бывшего полковника пограничных войск Шугова, ныне матерого разведчика. Ковалев для тебя — «зомби». А Шугов — не «зомби»?
Сотрудник Комитета государственной безопасности Железновский стал пояснять мне: Мещерский выполнил ряд поручений разведчика Шугова. Из архива уплыло несколько сенсационных дел. Шугов их пристроил поначалу в западной печати. Сейчас нечего хранить их под семью замками! Ха-ха! Шугов понимает: свободную печать своей бывшей страны не надо теперь умолять делать перепечатки. Они сделают! То есть вы, писаки, сделаете! А эти, тамошние, еще раз нашими документами оплюют нашу же бывшую страну. «Зомби» Шугов так же беспрекословно выполняет чей-то заказ свыше.
— Это Ковалев на хвост им наступил? И Мещерскому, и Шугову?
— Естественно. Ибо Ковалева вызвали после третьей утечки секретных документов. Ему подсказали, куда уплыли документы. Ну, а как искать и где искать, Ковалев этому давно научился.
— И Ковалев даже не предупредил Лену?
— Ковалев? Но тебя же Мещерский кое-чему наставлял! Истинная революционная нетерпимость — первый шаг к разоблачению и уничтожению врага. Для Ковалева мы все враги. Это ты учти.
— Значит, ты не подпишешь.
— Нет. Я в собственной стране. И был всегда свой. Я не хочу для кого-то быть чужим.
— Ты боишься?
— Как и ты. Жить ведь хочется. Пенсия есть. Вечера свободны. Я не знал этого. Зачем же заострять?
— Трусишка. Пусть он добивает нас, а не мы его!
— Таковы мы с тобой. И таков он на сегодня. Одним проигрывать, другим выигрывать.
— Картежник! Мелкий ты картежник. Опять проигрался? До белья?
— Мы проигрались все. Вчистую. Всей вот этой одной шестой… Какие же мы болваны! Кому мы верим?.. А ведь все это — не публичный дом. Все является, все обязано!
Я почему-то сегодня не обижался на него. Да сегодня он еще и раскис, расплылся. Не хочет подписывать — не надо. Просто подумать теперь — как защититься? Купить пистолет? — хмыкнул я. — И когда нападут, — хоть бы парочку таких, как Ковалев, отправить к праотцам. А потом и самому двинуться в поход, к белым, белым просторам. Жить уже совсем скучно. Неинтересно. Да и боязно.
А что до любви… Тоже — скучно, обманно и хлопотно. Все грозятся. Все охраняют хороших женщин… Вот пошел мир!
Мы сидели и пили у него кофе. Порядочная все же Железновский скотина, если выгораживает Мещерского, Ковалева. «Свои!» Выгораживает. Сам копается в тайнике.
— На, держи, — говорит он. — Вот как все было с Павликовым и Смирновым!
Ковалев! Видите, они умели не помнить о жертвах, о крови, потому не жалели ни близких, ни родных. В них было всегда полное сознание своей правоты! Но есть ли на земле убийства, которые можно оправдать? Есть ли молитвы-идеи для оправдания? Идея оправдания убийств есть всегда ложь. Тот, кто говорит, что пусть не растет трава на могилах врагов, — злой человек, если даже все хором повторяют: пусть не растет трава! Кто были судьи, оправдавшие это «пусть»? Нет достойных судей на земле. Все они такие же смертные, как большинство из нас. Но когда лезут в судьи Ковалевы, когда они находят идею оправдания своих злодеяний, мир корчится в судорогах.
Я внимательно читал дома документы, переданные Железновским. Все было знакомо, знаемо о Смирнове. А Павликова жизнь, старшего лейтенанта Павликова?.. Что же еще можно к ней прилепить? Кусок мрамора? Кусочек золота? Нет ни мрамора, ни золота. Убит… Идут его письма, идет-кричит любовь. Молодые сердца ненасытны. У них вера, что все — справедливо, все так, как надо! У них любовь к вождю больше, чем к самим себе. Вождь сказал, вождь изрек! И на границу пошел Павликов потому, что вождь говорил о бдительности. Вождь постоянно напоминал народу о неустанной бдительности… А какая вера воспитывалась в детях! Вождь — свят. Вождь вне плохого слова…
Я сравнивал новые документы, которые передал мне Железновский, с документами о Шугове. Многое у Шугова, очень в ту пору искреннего человека, было несравнимо с Павликовым. У Павликова была совсем другая жизнь. Ни пятнышка на солнце! И потому страшно, после писем к жене, полных страдания и любви, читать барабанные слова обвинения… И приговор — в пять строчек. За отсутствием бдительности приговорен к расстрелу. Обжалованию не подлежит.
Я уже читал документ этот, последний росчерк на жизни человека. Новое по документам шло: расстрел произведен в шести километрах от моего городка бывшего. Но я-то знал, что это не так. Мы же с Железновским видели эти бугорочки прямо в стенах бывшего штаба отряда.
Обжалованию не подлежит… Железновский отдал мне тогда ножичек, маленькую пилочку, серебряный портсигар с надписью: «Меж нами говоря, люблю я гармошку». Все это осталось от Смирнова. От Семяко тоже кое-что осталось. Портупея. Книжка «В. И. Ленин. Избранные речи для молодежи». И четыре еще письма…
Была ли им свойственна эта нетерпимость? Нет. Жили они мирно. Начальник заставы, его жена, замполит Семяко. Спокойно тянули свою лямку. Не было от Семяко донесений о противоидейном брожении… Может, Железновский их припрятал, чтобы угодить мне и показать цельный образ погибших? Может…
Я позвонил дня через три Железновскому. Эти все дни я прятался, я боялся. И эти дни я думал: зачем Железновский отдал мне все это? Испытать, знаю ли я обо всем этом? Нашел ли бы без него? Была ли у него утечка? — Он решает это и теперь. И думает еще: пусть поморочит голову, как это оказалось у меня, у Железновского? Почему он, Железновский, таскает это все за собой? Что он вез тогда в чемодане все это? Или, как сказал: Берия заметал следы, уничтожал все? А ему жалко стало прошлого и он на память оставил и портупею, и серебряный портсигар? «Меж нами говоря, люблю я гармошку!» А что же мы любим с тобой, Игорь Железновский?
И все же — зачем Железновский отдал мне все это?
Напомнить, что я лишь один остался судьей Ковалева?
Подбодрить меня? Заставить, несмотря на свой отказ участвовать во всем этом, действовать? Зачем сделал судьей? И что я, ищущий теперь на Ковалева один, идущий открыто уже, представлю нашим несовершенным законникам? Эти предъявлю документы? Разжалоблю ими законников?
— Ты спрятал остальные документы? — спросил я Железновского по телефону.
— Это — уже все. Вообще не придавай значения. Это тебе не для судей, а — как настрой для ро-омантического романа. Посмотри, сколько любви у людей.
Он опять был сильно пьян. Я только теперь это понял. И бесполезно было с ним говорить о том, чтобы он все же подписал письмо против Ковалева. Он ведь в прошлый раз подписать отказался. Высокие материи им руководили! Не оболгать бы вконец страну родную. Но главное — подписать обвинение и самому себе!
Однако он сам вдруг заговорил о письме.
— Кому это ты собирался его посылать? Вроде и меня просил подписать…
Нет, Железновский не пьян. Просто притворялся. Я сказал, что письмо написал на имя Горбачева.
Железновский расхохотался.
— Брось чепухой заниматься! Помнишь, ты рассказывал, как Ковалев отреагировал насчет Хрущева? Как он тебе сказал? Мертвяк? Ну этот больше мертвец. Для таких людей твоя застава… Да не глупи ты мир этим! Мертвец мертвецами заниматься не станет. Прошлого много, а сегодняшних проблем еще больше.
И Железновский положил трубку. Мертвяк! Я сказал тогда — мертвец. Хрущев тогда в своих болотных сапогах не был похож на мертвеца. Он был напористым у власти. И его боялись. Он чувствовал, когда надо звереть. И зверел. А этот мне не поможет.
Я лежал в гостинице, в своем номере и тоскливо изучал потолок, экран телевизора, где мелькали уже надоевшие кадры: перла толпа на милицию, та даже дубинки не вынимала. А — чего? Распалился народ. На улице, в конторе — все не так. Ну даже Горбачев поставит на заметку мои опусы — так не станут же разбираться чиновники. Куда это ехать за тридевять земель? И зачем? Это так они скажут…
А Ковалев… Он все-таки меня придушит. Несмотря на то, что я себя вроде и обезопасил. Я оставил у своего друга в «Известиях» письмо. Мне самому было смешно, когда я его написал. Жду покушения генерала. Я даже позвонил Ковалеву. Он отреагировал. Хмыкнул: из газеты звонишь? При свидетелях?
Я встал и набрал номер Мещерских. У телефона опять эта дама.
— Вы его упрекнули Шуговым? — Зловещий у нее голос, ледяной.
Что же поделаешь — она похоронила мужа. Зачем я лезу!
Я уже молчал. «Что тогда еще? Что еще?» — Голос разоблачающе звенел. Я не отвечал. Она обиженно перестала кричать и положила трубку.
Вечером я пошел в кино со своим другом из «Известий». Какая радость была для его жены! Постоянные дежурства, жизнь на бдении изматывает. И, в первую очередь, женщин. Она у него была занятой человек, доцентом работала, но в кино как жена, видно, ходила очень редко. И не в кино было дело — не вдумываясь в то, что шло на экране, она постоянно разговаривала со мной. О своем муже она говорила вдохновенно. И я понимал, что видятся они редко и очень любят друг друга.
Когда мы вышли на воздух, была уже ночь, тихо уже существовал голодный перестроечный город, который когда-то — при Хрущеве, Брежневе, Андропове, даже Черненко — был всегда набит продуктами, тряпьем, техникой и тому подобными вещами, что делают обывателя значительным и исключительным. Ксения Александровна (так звали жену моего друга) была женщиной красивой, но увядающей. Этот страшный разлом, происходящий со всеми — в том числе и с ней, и с ее мужем, — повергал ее в уныние и скепсис. Она стала ворчать, что даже фильмов нормальных нет. Нет фильмов, нет хлеба, сахара, стоящей литературы. Оказывается, она преподает в институте культуры детскую и юношескую литературу. Я тут же подбросил ей идею пропаганды романтики военной профессии. Ведь должна же когда-то армия быть профессиональной! И кто-то, уважая свою военную профессию, должен, скажем, с удовольствием служить на границе!
— Я наслышана о вас, — сказала Ксения Александровна. — И все агитирую мужа помочь вам. Чего бы не дать разоблачительную статью в газете?
— О ком? — спросил ее мой товарищ и ее муж.
— О поколениях, — ответил я. — Почему я должен всю жизнь тянуть оттуда этот гроб? И никто не хочет хотя бы подставить плечо, чтобы отнести на кладбище этот гроб и по-человечески похоронить?
— Ты будешь писать только о гробе? Или в основном о том, кто уложил в гроб людей, называемых пограничниками?
— А почему бы отказаться и от того, и от другого?
— Ты же попытаешься свести счета с тем, с кем разошелся в понятиях об идеале в самом начале пути?
— Ты имеешь в виду Ковалева? — Я ему о нем, конечно, рассказывал.
— Да. — Он помолчал и вздохнул: — Мы недавно сократили часть отдела писем. Теперь членам редколлегии приходится читать эту часть писем, которые читали в отделе писем. При моем дежурстве… Ты только не обижайся, что я был так невнимателен… Так вот, при моем дежурстве шло письмо. Я пробежал его галопом, за что в общем-то только что извинился. Какой-то мужик, ныне пенсионер, говорит о тех же вещах, о которых говорил ты мне вчера, когда принес это странное заявление по поводу твоего якобы готовящегося убийства…
— Как фамилия этого пенсионера? — в волнении воскликнул я.
— То ли Соколов, то ли Воронов… Погоди…
— А не Соловьев ли?
Мой товарищ поглядел на меня странно и тихо сознался:
— Именно Соловьев.
— Майор интендантской службы?
— Да-да! Именно Соловьев. И майор интендантской службы.
Утром я держал в руках письмо майора в отставке Соловьева. Прислано оно было из Оренбургской области какого-то дальнего (это сказал сразу же мой товарищ — «сейчас не доедешь, снегопады и заносы») района. Это было, впрочем, не письмо, а скорее — жалоба. На восьми страницах майор в отставке описывал страдания своей «дорогой супруги», которая родилась в этом селе, где майор теперь живет, никуда, по сути, не выезжала, а с тех пор, как он, майор, на ней женился, никуда от него не отлучалась. На фронте майор интендантской службы не был, он служил всю свою жизнь в Туркестанском военном округе, и жена служила вместе с ним. И уж как она оказалась в стане врага, как там правила концлагерем в женских бараках, одному Богу и Берии известно.
Майор точно описывал приезд высокопоставленного чина в наш городок, давал картину обыска в своей квартире и в своем кабинетике, который занимал вместе со своим помощником капитаном Красавиным. «Даже его, совсем постороннего человека, который прослужил рядом со мной всего полмесяца только получил назначение к нам — били при мне, чтобы он признался, как моя супруга вместе со мной, его начальником, работала на врагов нашей Родины…»
Майор бывший рассказывал, как ему, после истязаний, дали десять лет, он описывал преступный мир того времени, шел он по линии политики. Пройдя чудовищное унижение, он спасся и вернулся, ибо примкнул к воинам-фронтовикам, которых посадили тоже почти ни за что. В Карлаге, на лесоповалах, в Джардасе, где за неделю из камеры выносили до пятнадцати трупов — свои же, блатные, убивали своих — надо было выжить. И он выжил, несмотря ни на какие мрачные предсказания следователей. В последнее время майор бывший в Джардасе работал по линии снабжения, и там узнал от одного честного начальника, что жену его давно уже поставили к стенке.
«Я хочу, — писал бывший майор, — чтобы состоялся показательный суд по всем неправедным прошлым делам. Были же они когда-то! И чтобы этот суд показывали по телевизору — для всех, особенно для молодых. Чтобы потом никогда такого не было, чтобы не повторилось подобное»…
Зима кончилась, и я поехал в Оренбургскую область. Нашел дальний район, где работал теперь бывший майор опять же снабженцем. У него был в районе один из лучших домов. Он меня сразу предупредил: «Это не ворованное. Мое, заработанное». Новая жена его, узнав, по какому вопросу я заявился, поджала губы, скривилась и сказала бывшему майору:
— Накличешь, Ваня, ты на свою голову беду!
— Уже, может, такого и не будет! — бодро сказал бывший майор.
Он достал угощение — и водку, и шампанское, и ликер. И мы стали с ним пить напропалую. После первой, второй рюмок он еще не узнавал меня. А потом стал признавать. Даже сказал, что помнит меня по танцам. И еще по-другому… Однажды, когда они в тылах своих получили дивизионную газету, долго гадали, что же такое «рачительный старшина»: в заголовке газеты было такое словосочетание. Думали, ругают, выходило — хвалят. Кто-то вроде приходил в редакцию и меня, тамошнего старшину, спрашивал.
Мы выпили еще две или три бутылки. И бывший майор сказал, как приревновал когда-то меня к своей жене.
— Мы играли в волейбол, а я бросил мяч прямо ей в лицо, потому что она кидала мяч тебе. Когда я ей сказал, она обиделась: мы с ним поем же! Мы собирались тогда в отпуск, а когда вернулись из отпуска, еще было два дня отдыха, и мы ходили на танцы. И она мне сказала: «Гляди, как тангирует! Я бы хотела потанцевать!» И опять с тобой, понимаешь! И опять: «Мы же с ним поем дуэтом!»
— Я в волейбол играл неплохо, — сказал я заплетающимся языком.
— Это я видел. Но она любила потанцевать. Особенно повальсировать и потангировать. Тогда можно было в танце к партнеру прижаться. И она меня злила. Я ее крепко любил.
Мы сидели вдвоем, жена его пошла кормить кур, а он все говорил о Соломии Яковлевне Зудько.
— Ну какая она была замечательная еврейка! Еврейки всегда любят детей, у нас было трое детей. И слава Богу, в тот год мы увезли их сюда, к бабушке. И они остались так, как мы тут их оставили. К ним, слава Богу, со стороны нашего государства не было никаких претензий. Теперь они выучились, меня почитают. И только с женой немного не ладят. Она очень жадная. Видел, как зыркнула на водку и ликер? Поглядела! Вроде сама заработала и поставила бесплатно! Черти, а не бабы!
— Товарищ майор, — сказал я, — вы помните, как допрашивали сержантов? Вместе с вами они шли? Или их допрашивали поодиночке? Без вас?
У меня были сведения (это рассказывала Лена Мещерская, что майора допрашивали вместе с сержантами — с майора сам Берия сорвал погоны и сказал, что отныне майор — рядовой), что они шли вместе.
— Беда вся в том, что я часто терял сознание. Больно били меня.
— Кто?
— Зверствовал особенно генерал. Фамилию мне его не называли. Даже Берия не бил так, как он.
— Берия? А говорили, что это не Берия, а двойник был?
— Не знаю, сержанты мне говорили, что сам Берия.
— Все-таки вы с сержантами рядом были? Почему на них дел нигде нет?
— А разве на меня было заведено дело? Разве на жену было заведено дело? Все — импровизация. Все — вихрь!
— Вы помните, кто еще вас допрашивал?
— Майор из СМЕРШа. Железновский.
— Я знаю об этом.
— А зачем спрашиваешь? Хочешь, чтобы я на всех наговаривал? Нет, на него не буду наговаривать. Он не заслужил… А генерал… Генерал сволочь.
— Это я тоже знаю.
— В руках у него не бывал. Он мою жену… при мне… при мне!..
Я увидел, как лицо бывшего майора исказилось до неузнаваемости.
— Он садист, извращенец! И прочее, прочее, прочее! Сволочь! Он заставлял меня…
— Успокойтесь, майор! — Из меня вроде вышел весь хмель. Успокойтесь!
— Надо было видеть все это… А майор твой… Ну что — майор? Он видел все. Видел! Я-то знал, что майор влюблен в эту Мещерскую! Я все ведь помню. Он же, когда приехал, ко мне в снабжение пришел. В игре… ну карточной… пока в наш город доехал, — вчистую проигрался. Кальсоны и те проиграл… Ты что, не знал, что он картежник? Причем — мелкого пошиба. Ума мало в картах, а амбиций много. У нас в гарнизоне его чесал всегда подполковник Силаев… Ну тот, про которого говорили, что — импотент. А он с женщинами трали-вали! И все выходило хитренько. И обчешет, и жену… удовлетворит! Я его ревновал… Железновский пришел ко мне, и я его обмундировал тогда… За это, может, он выход нашел. Не поставил к стенке. Хотя было бы, может, и лучше! И сержантов он спас…
— А Матанцева при вас убили?
— Сержанта Матанцева? При мне. Это уже в Карлаге, на лесоповале. Блатные убили. Он самозащищался в первый раз. И одного приварил. За приставания. Там же мясники были. Те, которые убивали, чтобы их потом куда-нибудь перевели на более легкие работы. Такая система. А Матанцев одного мясника, который выполнял прихоти паханов разных, подсадил. Одним словом, задушил, когда тот его хотел прикончить уж не знаю за что. Блатяги, когда в первый отдел Матанцева отослали, в Долинку, чтобы снова судить, и подкараулили там. Я был в Долинке тоже, с фронтовиками нас туда пригнали, тоже на суд новый — вроде из подчинения администрации вышли! А его там, Матанцева…
— Вы пишете в письме, что искали дело своей жены и всех, кого тогда забрали. И не нашли… — Я повторялся.
— Никогда и не найдем. Не найдем! — Он не обиделся.
Я три дня гостил у бывшего майора. Переговорили мы с ним! Обо всем! Признался он мне как-то — сидели с удочками на озере маленьком — покушение хотел совершить на генерала. Не вышло. Да и сыновей жалко. Если тогда их обошли, не тронули, стоит ему, майору бывшему, что-то такое еще «совершить», как им перекроют кислород. Это у нас могут сделать — в два счета!
Я имел столько документов против Ковалева, что мог пойти вместо бывшего майора на убийство. «Смешно, — думал я, — возвращаясь из командировки, где впервые ни о чем не хотел писать, — смешно! Все страшно и смешно! Генерал Ковалев живет. Здравствует. И разве один он такой? Сколько их, которые вели дела фронтовиков, пограничников, слесарей, врачей… И как убить их за зло, которое они причинили тысячам, миллионам людей? Как сказать им, что они испортили жизнь, которая могла бы для человечества быть в качестве примера?»
Поезд мчался обратно, к Москве, где я теперь на время устроился у своих родственников. Я ходил в гости к Шмаринову. Он переехал тоже в Москву, но навсегда. Я собирал материал и в его доме. И мчался к своим дорогим занятиям. И не знал, что подстерегает меня.
Никто бы и не придумал такое, что придумал он, Ковалев!
И я бы никогда не подумал, что придуманное будут осуществлять такие люди! Можно ли кому верить после всего этого?
Когда я возвратился из командировки, родственников моих дома не оказалось: укатили на дачу, хотя было еще холодно.
— Знаете, — сообщила мне соседка по квартире, еще не старая и уже не молодая особа, которую мои родственники звали Юлечкой Аврамовной, — к вам страшно пробивается некто Кривцов. Он обивал тут пороги и всякий день звонит и требует вас. А в сих апартаментах я одна. И он слышит лишь мой ответ.
— Кривцов? — остановился я в недоумении.
— Ну бывший ваш сослуживец. Вы с ним были, как он сказал, в комсомоле заправилами.
— Кравцов?!
— Да, верно, Кравцов. Он, однако, представился точно Кривцовым.
Я не понял ее мысли, она это увидела по моему выражению лица.
— Кравцов — это устойчиво, — стала рассуждать Юлечка Аврамовна. — А Кривцов — это значит неприятность.
Она подмигнула мне и скрылась в своей комнате. Я скривился, опять пожал плечами. Юлечка Аврамовна высунулась из-за двери:
— Не совсем приятный человек, — заметила она. — Поверьте моему впечатлению. Он куда-то торопится, хотя поезд его давно ушел.
Я зашел в комнату, которую мне выделили родственники, разделся и пошел мыться. Слышу, кто-то тарабанит по телефону. Юлечка Аврамовна что-то не особенно рассыпается в любезностях. Потом кричит, мне в ванную слышно: «Он приводит себя в порядок! Не буду же я тащить его, извините, из ванны!»
Когда я вышел из ванной, Юлечка Аврамовна упрекнула меня, будто это я звоню и ей надоедаю:
— Ваш Кривцов. Опять бомбил, словно задыхается в противогазе. Все куда-то спешит.
— Он оставил свой телефон?
— В том-то и дело, что такие телефонов не оставляют. Хотя могут сами позвонить среди ночи и поднять на ноги.
— Невзлюбили вы его. Бог велит прощать, — перевел я все в шутку.
Она пристально посмотрела на меня и снова скрылась в своей комнате.
Кравцов не заставил себя долго ждать. Затрезвонил телефон, я подошел и снял трубку. Когда меня узнали, поднялся восторженный вопль. Сколько лет, сколько зим! Ты чего таился? Ты чего молчал? Зазнался? Не хочет знаться!
Он вопил от души. Я не успевал вставить даже слова. Только заговорю, тут же перебивает. То сообщает, какая у него семья — дочь, жена и мама старая, ей уже девяносто лет, а еще командует в доме, то что делается, что делается!..
— Читаю, читаю! — орал опять. — Помнишь, как идиотика спасали? Ну того, кто записал в тетрадь характерные приметы генерала — командира дивизии, и полковника — начальника штаба? Ты тогда выступал солидно, мне очень, очень нравилось. Я потом в гражданке с тебя пример в комсомоле брал. Аргумент твой: говоришь, может, он писателем будет — прошел же! А сам уже тогда повесть строчил!
— Ладно, ты где? И зачем меня ищешь? — Какая-то тревога забилась и во мне — не только в соседке.
— Во-о! Сразу — зачем? И эта твоя зануда — соседка! Тоже: зачем? А у меня дело к тебе!
— Какое дело? — Я опять насторожился.
— Совместное дело. — Кравцов хохотнул. — Совместное предприятие. — И выложил напрямую: — Ты знаешь, у меня кое-какие материалы есть по делу пограничной заставы. Особенно по Шугову. Ты же, говорят, по капельке собираешь их. Говорят, уж гора у тебя этих документов.
Бог меня, видимо, наказал за доверчивость. Я пригласил Кравцова к себе. На его удачу, всегда штопором сидящая на своей жилплощади Юлечка Аврамовна в тот вечер «смоталась», как она говорит, «к старому любовничку, психиатру и сексопатологу», на свиданку. И я еще раз после того, как разбросали быстренько по столу закуску и выпивку, потерял бдительность, когда после двух рюмок Кравцову приспичило почему-то звонить.
— Ты знаешь, — шарахнул он по лбу своей мягкой, пухловатой ладонью (вообще он был рыхлым, как неутоптанный снег), — я вовсе забыл позвонить Зоеньке! Ой, ой, что будет!
— Кто такая — Зоенька? — Я наблюдал за ним, еще не чувствуя, что он играет.
— Да жена моя! Я же тогда ее привез оттуда! Она из ленинградских наших девчонок… Помнишь, к нам портнихи приехали в военторг? После техникума? Ты все забыл… Ой, разреши брякнуть?
— Да, пожалуйста, кто тебе не дает?
Вот тут я почувствовал фальшь. Он в коридоре говорил недолго. Так недолго не говорят с любимой женщиной. Я вышел в коридор сразу же, лишь что-то заподозрил. Он бросил трубку на рычажок и, собирая свои какие-то бумажки с общего столика квартиры в коммуналке, смотрел мимо меня.
Запихивая на ходу свои бумажки (оттуда он выудил телефон, точнее номер телефона. Неужели, — подумал я, — он забыл номер телефона собственной квартиры?) в задний карман брюк, он прошел мимо меня и занял не свое, а пустое место за столом. Я мельком глянул на него, он почему-то волновался. Я почувствовал тревогу. У меня всегда это предчувствие срабатывает.
Я остановился около телефонного аппарата. Кому позвонить?! Ага, понял! Я позвонил своему другу, заместителю главного редактора.
— Алло, — спросил я, после того, как я ему коротко сказал: «Я дома!».
— Не понял, — сказал он.
— Я дома! — мой голос просвистел. — Я дома!
— Погоди? Ну и что?
— Я дома! Дома! Позвонишь. Мы же договаривались!
Я бросил трубку и вернулся к Кравцову.
— Ты чего? Тоже звонил? — обеспокоенно спросил он.
Я беспечно кивнул головой.
— Договаривались с чудиком. Глушу его словесами: «Я дома, говорю!» А он — ну и что? Говорю: «Дома»… Опять: «Ну и что?» Понимаешь, все склеротики! Такая жизнь пошла… Обещал вечером привалить. Мы с ним книжку пишем об одном известном генерале!.. Вот жизнь!
— Да, это не та, что была у нас. Вот тогда в комсомольском бюро мы с тобой выкаблучивались! Не знаю, как перед тобой, а передо мной даже лейтенанты-комсомольцы на цырлах стояли!
— Да? А чего вдруг?
— А проштрафился? А выговорок? Ему же в партию вступать! Меня там все знали, как принципиального человека. Я жестокостью не обладал, но мог сказать нужное.
— Ты тогда меня спрятал, помнишь? Ведь тогда…
— Тогда ты с огнем играл, — уточнил Кравцов. — Тебя действительно жалко было. Ты тогда был зеленый, прямой, негнущийся. — У него была, оказывается, манера ехидничать.
Я поглядел на него, ткнул вилкой огурец. И тут услышал, как открывается наш дверной замок. Я приподнялся.
— Сидеть! — приказал Кравцов.
— Что?! — Я рванулся с места. — Кто там? — заорал.
— Это мы, татары. Сколько нас — раз!
В моих дверях стоял амбал, под два метра ростом, весь какой-то квадратный. Он был одет в джинсовку, модную, но чуть поношенную. Это я сразу увидел.
— Поговорим? — сказал амбал.
Он пропустил троих мальчиков, и они рассаживались за столом моим. Один нахально взял бутылку, налил рюмку, ткнул вилкой огурец, выпил и стал смачно жевать.
— О чем говорить? — спросил я амбала.
— О дяде Косте капитане, — сострил амбал и тоже потянулся к бутылке. — Не пропадать же добру! — Он налил полный фужер. — Буду в отключке, покосился на парня, который все дожевывал после рюмки огурец, — следи, чтобы не прибил.
— Ладно, — растянул парень и налил себе вторую рюмку.
— Оставь! — крикнул амбал. — Чего тебе, кино с коньяком? Или работа?
— Хорошо, — согласился парень. — Никак не буду более!
И засмеялся.
— Ты, чмурик, где водочку берешь? — спросил меня амбал. — В очереди стоишь?
— Привез с собой, — сказал Кравцов и обратился ко мне: — Слушай, я тебе обрисую обстановку. Я тут вроде старший. Позиция такая… Мы здесь по тому самому делу, которое начиналось еще тамочки. Ну ты помнишь, где начиналось… Если в двух словах, значит, так! Ты приносишь все бумажонки сюда, на стол. Додостаешь водочки. Мы все — и ты тоже — пьем. И айда в подполье. Ты в койку, а мы несем документики тому, кому они очченно нужные!
Я не стал долго томить их и отказал в документах.
— Потому что у меня нет их, — как можно спокойнее сказал я.
— Здесь нет? Или вообще нет? — спросил амбал.
— Вообще были. Но я их сдал.
— А копиечечки? — улыбнулся мой бывший член комсомольского бюро.
— Если скажешь, для чего, я честно отвечу, — попробовал я выжечь искру оптимизма в этой начавшейся игре.
— А то сам не знаешь! Ну чего ты, не догадался? Я в секретах, в кя-ге-бе!
— Это ты слишком развязно, Кравцов!
Я недооценил его. Участвуя в многочисленных драках, я пропустил мощный удар в челюсть. Но я был бы не из запасного полка, где приходилось защищаться и при значительном меньшинстве. Кравцову в ответ был мой мощный толчок правой в живот, моя нога машинально была подставлена (левая) под ноги противника, он повалился назад и я догнал его левой, ударил в висок.
Не переводя дыхания, я первым ударил амбала, и ударил так ловко, как бил в молодости, у солдатского нужника мужика, который хотел отобрать новый матрац у моего друга. Амбал охнул, я успел схватить, когда он, обняв живот, стал приседать, за его волосы и пару раз столкнуть его онемевшую, буйную головушку с моим коленом. С другими парнями было проще, потому что они выпутывались из-за стола, а я брызнул им в их наглые морды уксуса, всегда у меня стоявшего для лучка, уж коль пьется рюмка.
Тут забарабанил телефон. По дороге к нему я двинул Кравцова ботиночком, он лежал при этом, и, подняв трубку, заорал:
— Тут мордобитие с поножовщиной! Присылай наряд милиции! Да чтобы она не спуталась с Ковалевым да Кагебе. Гебешники уродуются на работе!
Я получил тоже в висок: уж не знаю, кто из них был шустрее! Для этого их и учат.
Ничего мне не оставалось — как отключиться. Я не помню, как они меня пинали, как потом оставили в одиночестве, как Юлечка Аврамовна не могла открыть наш замок своим ключом, как подоспел, наконец, мой славный друг заместитель редактора, как они «выперли» двери…
Когда я открыл глаза, кого бы вы думали — увидел? Железновского, шут бы его побрал! Он стоял надо мной на коленях. Видимо, только что тер мне виски нашатырным спиртом, давал нюхать этот спирт.
Меня посадили на стул. Я покачивался из стороны в сторону.
— Я тебя предупреждал. — Железновский погрозил пальцем. — Сукин ты сын! Если думаешь, что идет гласность и перестройка… То ты — идиот!
Я отхаркнулся кровью.
— Ты подпишешь сейчас акт, который я продиктую? — прохрипел я.
— Шиш тебе! — Железновский нагнулся к моему плевку. — Изнутри?
Он изучающе глядел на меня.
— Откуда я знаю, — покачал я головой. — Вот это приемчик!.. Ух, гудит — как вертолет! Кто-нибудь из них лежит, как я?
— Лежит один тут, — сказал заместитель редактора.
Я встал со стула, покачиваясь, вошел в разгромленную комнату. Поперек лежал амбал. Он стонал. Я подошел к нему, поднял ногу и хотел ударить.
— Ты что, садист? — заорал на меня мой друг — заместитель редактора.
— А они? — Я снова отхаркнул. — Они убивали меня! Ты сволота, нагнулся я над амбалом. — Если бы ты был только один… Я бы… Ты понял?
— Понял, — простонал амбал.
— Сиди, Игорь, посиди еще! Ты всегда торопишься! — Я глядел на Железновского и уселся снова на стул. — Ты боишься подписывать? Но вызови моих знакомых. Возьми и позвони по номеру телефона… Это дочь Вероники Кругловской. Помнишь артистку такую? Приезжала к нам в Тьмутаракань? Тебя, правда, тогда уже не было. Да и сама Кругловская, к сожалению, умерла. Но дочка ее поставит свою подпись под актом. Акт, может, слишком? Не так сказано? Но он вместит все!.. Эту часть всего, что там было, мать рассказала дочери. Рассказала все и о Мещерской, и о твоем генерале, которого ты и ныне боишься, как огня!
— Перестань орать! Нашел свидетельницу. Мама ей рассказала! А сама мама была там тогда?
— Недооцениваешь молодых! Они — дети… Но она все записала на пленку. Мать ее ходила к Мещерским и кое-что записала. Дочь Кругловской ей помогала. Когда мать с Мещерской говорила, она записывала. Иногда сама звонила. Кругловская обещала: ежели понадоблюсь, выступлю!
— Она что, видела? Как тебя и здесь дубасили?
— А что, не видно, что дубасили?
— А, может, ты сам головой бился о стенку?
— И этого, бил, амбала, стенкой по голове, так?
12
Дмитрий Васильевич Шмаринов дает показания.
Как все-таки убивали Павликова, Семяко и Смирнова.
«Дело» Соломии Яковлевны Зудько закончено.
Бывший цензор Мамчур пытается «протолкнуть» поэму о пограничниках.
Виновен ли писарь Кравцов?
Последний день Игоря Железновского.
«Самый отвратительный генерал за всю историю, которую знаю…»
К кому бы я еще пошел, как не к Шмаринову, бывшему начальнику СМЕРШа нашей славной непромокаемой дивизии? Это ведь ему тогда, когда ушел комендант Шугов на сопредельную сторону, было поручено принять на себя всю ответственность по ликвидации ЧП. Это потом генерал Ковалев выпятился, взял на себя командование. И немало потом голов летело. Может, даже и Шмаринов об этом не ведал. И никогда это не будет засвидетельствовано, ибо хранится в тайниках архивов.
Шмаринов и до этого сочувственно выдал «на-гора» мне дополнительную информацию о тех днях — больных и страшных. Когда ставили к стенке пограничников лишь за то, что «он когда-то встречался с этим…», «говорил откровенно, следовательно…», «он был у него в гостях, потому-то…» Шугов Павел Афанасьевич оставил горькие воспоминания, его уход за границу лишил многих людей достоинства, чести, ибо этих людей принудительно заставляли «сознаться в том-то и том-то», приводить сотни фактов, которых никогда не было, не существовало. Они были навязаны, придуманы теми, кто вел следствие.
Шмаринов теперь, после того, как я рассказал, что же произошло со мной, рассвирепел:
— Подонки, подонки! — закричал он, хватаясь за валидол. — Мерзавцы!
Я подал ему воды, не радуясь уже, что пришел. Так разволновал его. Он сидел в кресле, лицо постепенно из желтого превращалось в нормальное Шмаринское синевато-выбритое лицо уставшего от жизни семидесятилетнего интеллигента, которого волнуют еще не только нынешние события, а и прошлые. Герметизм, как говорят ученые, революционного сознания — уметь не помнить о жертвах, о крови, «не жалеть ни близких, ни дальних», насильственный ввод любой ценой в царство предполагаемого социализма давно такими интеллигентами глубоко осознан. Все то, что они видели, все то, чем некоторые из них занимались, не дает им покоя жить радостно, забыть хотя бы на последнем витке своей жизни, как пошло и дико было порой, как невыносимо, жертвенно уходили на их глазах в небытие такие, как Павликов (Сашенька Павликов для жены), замполит Семяко (мамино прозвище Тютечка), рядовой Смирнов, получивший в школе сержантов звание младшего сержанта, а потом за драку разжалованный в рядовые, а за заслуги уже в пограничной службе получивший звание ефрейтора (кормилец — для вдовы-мамы и старший — для сеструшек)…
Сейчас Шмаринов сидел передо мной и предоставлял мне «детали». Ужасные детали. Самое, может, страшное на земле. Детали. Как убивают безвинных. Лишь за то, что они попали волей Судьбы в Кольцо, замкнулся круг, как волков, обложили красными тряпками, и вели на убой.
…Павликов не шумел, не бузил. Он тихо шел к своему концу. Он их, двоих, подбадривал. Он говорил и Семяко, и Смирнову: «Братцы, разберутся, обязательно разберутся…» Советская власть, утверждал он до последнего, она не даст погибнуть безвинному. Павликов верил до последней секунды, что его долгая служба на границе не может закончиться вот так, нечестно и не по-человечески.
— Пусть я один отвечу, — когда Ковалев лично поставил их всех к стене, сказал умоляюще старший лейтенант Павликов. — А зачем же они?
И показал на солдата и офицера.
— Стой и не дергайся! — в ответ генерал Ковалев. — Ты, как и они, предали самое святое.
Семяко плакал, а потом, когда старший лейтенант Павликов стал перед генералом на колени, прося снова за этих двоих, закричал:
— Саша, встань! Два или все — какая разница? Все равно, если меня и оставят, я не буду жить! Я не верю теперь! Я ни во что не верю!
Ковалев застрелил замполита заставы первым. Смирнов сказал ему:
— Генерал, ты бил меня. Теперь я знаю, что вы такие же, как те, которых в кино показывали…
Ковалев выпустил в него всю обойму. Убитого, он ефрейтора Смирнова пинал, сталкивал в яму. Павликов хотел положить солдата в яму сам, но генерал вызверился:
— Сука, пусть собаке и собачья смерть! Вот кого ты воспитывал на своей говенной заставе! Он меня за царского генерала имеет! Или за фашиста! Да я его и в могиле!.. На, на! Соленых железных огурчиков! На, скотина!
Шмаринов догадывался, что я знаю место захоронения Павликова, Семяко и Смирнова. Он решил, что Железновский мне это место показывал, когда узнал о том, как мы встретились с ним в бывшей нашей Тьмутаракане. Он поначалу думал, что Железновский хотел показать — а, скорее, потом показал (когда мы шли с Железновским или выручать Лену, или еще что-то сотворить) их скромное кладбище. Но Железновский созрел для этого лишь потом-потом.
— А как получилось, что ребят стали расстреливать не там, где предполагалось, а во дворе штаба? Почему не повезли в горы? — Я давно хотел у кого-то это спросить и спрашивал Шмаринова лишь теперь.
— Все просто, — ответил он, — приказал Берия. Он рассвирепел, что не мог выбить из них признания в вине. Он допрашивал их несколько раз. В первый раз и ты там был. Потом шло истязание… Ковалев свирепствовал. А Берия смеялся над ним. Ты не можешь, а я-де заставлю! А когда не заставил, стал орать: «Убить мерзавцев! Убить немедленно! Убить! Не миловать!» Ковалева при допросе этом не было. Его вызвали. «Под твою личную ответственность, генерал! — Берия Ковалеву признался: — Ты был прав! Это законченные мерзавцы! Хуже всяких врагов! Убей их, генерал!» И как уже Ковалев старался — жутко… Всю ночь выли рядом со штабом шакалы. Они никогда не подходили так близко…
Бывший начальник СМЕРШа опустил голову. Он плакал? По-стариковски каялся?
— А Зудько? — не унялся я. Да вроде и пришел в себя Шмаринов. — Где она была расстреляна?
— Зудько — это моя боль. И тут я все делаю, чтобы майор интендантской службы, хотя бы на старости не имел в первом браке «врага народа».
— Дело пересмотрено?
Я ждал ответа. Но Шмаринову, видимо, нечего было сказать мне в утешение. Ни о Зудько, ни о железнодорожниках. Еще не реабилитированы. Он знал, что я был у бывшего майора, знал, что я там копался во многих тамошних бумагах (имел письмо от «Известий» — что уполномочен копаться в архивах). Ведь о Зудько я привез материалы из районного архива — она действительно здесь родилась, никуда не выезжала, во время войны находилась долгое время тут, в районе, а потом, по уточненным справкам, жила с мужем в воинских частях Туркестанского военного округа…
— Я задам, может, не наивный вопрос… Зачем ему, Берии, так мощно было удерживать на плаву «дело» Зудько?
— Ну ты тогда действительно наивный. Ковалев рвал и метал, чтобы выслужиться перед Берией. Это ты понимаешь и сразу это понял. Понимаешь и то, что Ковалев, после приезда Берии, висел на волоске. Понятно? Кто-то же подбросил Берии мысль: Ковалев приехал, и Шугов вынужден был уйти! Выходит, Ковалев спровадил его? Да, Берия лично послал его на проверку. Но Берия был не простак. Лишь только он приехал и понял, что Ковалев спровадил Шугова туда, в Афган, он немедленно запросил «дело» Ковалева. Берия меня вызывал и сказал: «Какой подлец, этот Ковалев! Ему бы не было прощения, Митя! Но ты знаешь, что я, и ты вместе со мной, влипли! Мы же с тобой, Митя, посылали телеграммы товарищу Сталину! И о Зудько, и о железнодорожниках. Мы ему, подлецу, Ковалеву, доверились! И теперь ничего нам не остается, как играть в игру. Ты это тоже запомни. Один неверный шаг кого-то в этой игре… Ты меня понял, полковник!» И Берия потом делал вид, что верит Ковалеву. Он брезгливо морщился. Но Зудько приказал тут же расстрелять. Ее, правда, увезли в пески. Все же — женщина. Солдаты всегда стреляют женщин с содроганием.
— Я догадываюсь, кто стрелял и в Зудько, — сказал тихо.
— Совершенно верно, Ковалев. Он понял, что Берия догадался, разобрался во всем. Зудько должна была быть умертвлена немедленно. Однако он вывез ее в горы. Он повез в горы и ее мужа. И там… Это все уже видел Железновский. Меня там не ищи. Я не был там.
— А где все-таки ее могила?
— Я понимаю тебя. Ты дал, конечно, слово майору найти могилу?
— Да.
— У Железновского, у Железновского… С меня и того достаточно, что я знаю.
— Понятно. Спрошу у Игоря. Надо написать майору.
— Да, у него же дети… Они должны знать о матери хорошее… Послушай, — Дмитрий Васильевич прервал себя и спросил: — Выходит, Кравцов тебя под монастырь подвел?
Он как бы хотел удовлетворить и свое любопытство. Я не удивился смене разговора. Он меня упрекнул: мол, какой ты наивный, и тут же забеспокоился — чтобы я не обиделся.
Я пространно стал отвечать на вопрос Шмаринова. Не скрыл, что теперь стал трусом, боюсь. Рассказал о Мещерской, о том, как она, после звонка, приезжала, спасала меня, а сама подбрасывала еще в меня этот страх. Я сказал, что и звонок Кравцова меня насторожил, как насторожил и мою соседку. Но никогда бы в жизни я не подумал на Кравцова, что он способен на такое. Он был трусом.
— Раньше я никак не мог переварить, почему он, Кравцов, прятал меня тогда в своей «секретке», — сказал я. — Хотя тогда я думал, что он храбрей меня. Он все знает, но идет, даже боясь больше, на какие-то заступничества!
Я пытался Шмаринову объяснить, не понимая сам, как это сделать: почему все это со мной и с Кравцовым так произошло? Ведь даже Шаруйко не предал меня! А я не знал Шаруйко. А этот…
— Свою шкуру он тогда спасал, — прервал мои размышления Шмаринов. Кравцов испугался за себя. Как ты ушел от него, он сразу сообщил нам по телефону, что ты мечешься и ищешь убежища.
— Вот подонок! — возмутился я.
— Он работает на Ковалева давно, закладывал ему всех, в том числе и меня, — сказал мой давний коллега по волейбольным сражениям. — Служит с тех пор, как демобилизовался. Надо отдать должное Ковалеву. Кадры он действительно подбирает мощно. Стоило ему тогда вычитать в твоем «Деле», как Кравцов «предупреждал» СМЕРШ, что комсомольской организацией дивизии руководит враг, случайный, во всяком разе, как говорят украинцы, человек, — Ковалев на заметочку. И вот уже много-много лет — куда Ковалев, туда и бывший писарь Кравцов.
— Кравцов хотел стать секретарем комсомольской организации?
— Естественно. В гражданке широкая дорога. Кстати, бывший ваш цензор Мамчур сразу это раскусил. У него поэма есть. И в ней есть тип, похожий на Кравцова. Мамчур его приметил. Он же был, этот Мамчур, неплохой поэт!
— Да, да, — подтвердил я.
— Ты знаешь, что в этой поэме Мамчура речь идет о подвиге пограничников?
— О подвиге пограничников? О заставе Павликова?
— Именно. И Мамчур прав — это был подвиг. Уйти и не запятнать звание пограничника! Так трактует Мамчур те события. Они же… Они ушли, не накричав на судьбу. Единственный, кто осудил их, Кравцов, который идет у Мамчура под фамилией Бдителев. Бдителев закладывал всех потом подряд. Особый зуб он имел на пограничников, которые часто пропускали через рубеж по беспечности таких, как Шугов.
Честно, я думал после случившегося на квартире моих родственников: Кравцов — бедный, попал в железные руки генерала Ковалева: где-то, видимо, сделал промашку. Потому Ковалев его и «кинул» против меня. Кинул против «компромата».
Как бывает! — думал я. — Ведь если бы не Кравцов, мне тогда — крышка была бы! Никто не терпит самозванцев. А я ездил с Берия, может, с его двойником, в качестве «нашего сотрудника» — выражение Игоря Железновского. Железновский тогда сказал:
— Это наш сотрудник.
И я знал потом, что этот «наш сотрудник» должен был быть арестован, раз он «все видел собственными глазами». Да, свидетели — самое страшное, что есть для неправедников.
Я думал: Кравцов меня вытащил тогда. И что я остался неприкосновенным, что моя карьера не нарушилась, за мной не следили, мне давали возможность широко печататься… За это спасибо, — думал я, — и Кравцову, и всем другим, в том числе и ныне сидящему передо мной, постаревшему, но непреклонно верящему в справедливость генералу в отставке Шмаринову.
«Теперь и посуди сам, — уйдя от Шмаринова, уже в доме родственников, рассуждал я, — виноват ли бывший твой сослуживец Кравцов, или не виноват. Он всегда выступал на комсомольских собраниях правильно. Он всегда призывал к миру и добру, „содружеству“, как любил подчеркивать. А потом шел в свою писарскую — в маленькую уютную секретную комнатку — и писал доносы. На тебя. На Мамчура-поэта. На всех, кто был чуть повыше его и чуть поумнее. Такие плачутся теперь. Ах, их теперь подозревают! Ах, их теперь презирают! За то, что они оберегали Родину!» «А что, может, я не прав? сказал я сам себе. — Может, такие нужны были? Бдительные! Сверхбдительные! Никого не щадящие! Может, было бы с ними лучше? Тогда бы этого беспорядка не существовало бы! Тогда бы брат не убивал брата! Тогда бы грузин не пытал в застенках грузина!»
Но я тут же с ужасом подумал: а как же моя месть Кравцову?! Он убивал умных, добрых, способных. Строчкой убивал их. И я тебя, Кравцов, презираю. И я тебя, Кравцов, убью…
…Я вошел в дом к Кравцову. Была уже глубокая ночь. Я умел уже входить в дома, которые окольцованы: стоит лишь подождать, когда выходят из этого дома и сказать: «Ах, забыл ключи!» И вы проходите туда, куда вам следует проходить.
Я шел к нему уверенно. Но я увидел его лицо — он только что вышел из своей квартиры. Но я еще не понимал, что иду рядом с квартирой Игоря Железновского. Это же и его дом! Голова моя, оказывается, была забита лишь местью. Я думал лишь о Кравцове.
Он, Кравцов, однако, мне шепчет на ухо, берет меня за плечо, как будто не он приводил ко мне этих амбалов, не он выбивал из меня все материалы, что касались Ковалева.
— Слушай, — он шепчет, — повесился Железновский. В своей квартире.
— Как?!
Я еще ничего не понимал.
— Зайдем. Я знал, что ты придешь.
— Я шел к тебе… Не за этим!..
— Я знал… Слушай, может, и мне повеситься? Или убить себя?
Он все шептал, и я чувствовал, что он пьян, едва держится на ногах.
Мы вошли в комнату, где совсем, кажется, недавно Игорь Железновский принимал меня, где отказывался подписывать любую мою бумагу. Какой я наивный! «Справедливость и возмездие!» Есть ли они на земле? Железновский повторял: «Писаешь против ветра!» Он еще грубее выражался, когда говорил о Ковалеве.
Мы сидели с Кравцовым у холодного тела Игоря.
Кравцов снял его сам.
— Ты вызвал, кого надо? — спросил я, по-моему, в третий или в пятый раз.
В этот раз он ответил:
— Прибежит ковалевщина. А это… Это очередное беззаконие.
Я подошел к телефону.
— Погоди, — сказал Кравцов, — давай сидеть до утра. Иначе я пойду и тоже повешусь.
— Скажи, какие-то документы о том… Ну о том…
— О заставе?
— Да.
— Они у меня.
— Ковалев знает?
— Догадывается. Я приезжал к Мещерскому, когда его убили. Другие не успели. Я продам эти документы!
— Ковалев в самом деле вас всех контролирует? Он контролирует, скажем, тебя?
— Он половой маньяк. Был половой гигант, теперь просто маньяк.
— Чем он удерживает рядом с собой Мещерскую?
— Да она хуже его!
— Брось! Хуже его не бывает.
— Она хуже его.
— Чем же она хуже его? Докажи!
— Тем, что весь век жила сучкой. Она Шугова любит. А это разве дело? Он убежал! А она его любит. И потому все вокруг нее, как в аду… Она других не любит. И никогда не полюбит.
— Шугов приезжал к ней?
— Ха! Он каждый год к ней прилетает теперь.
— А что же Ковалев? И как можно Шугову прилетать сюда?
— Он классный шпион. Ему сделана давно пластическая операция… Послушай, ты занимаешься всю жизнь Шуговым, и ты этого ничего не знал?
Как раз я это все знал уже. Мне сказал об этом Игорь Железновский. В последнюю нашу встречу. Когда он так нежно склонялся надо мной и тер мои виски нашатырным спиртом. В тот день он мне и рассказал об этом. О том, что шансы наши с ним у Мещерской мизерны. Но пусть думает Кравцов, что я ничего не знаю, что я наивный журналистик.
— Она уедет к нему. Это точно. Поэтому она никого не любит.
«Ничего ты не понял, Кравцов! Ты никогда не любил, видно».
Я сказал это сам себе. Но сказал как-то не убедительно. Не уверен я, что Лена любит кого-то.
А Кравцов исповедовался. Он подсиживал меня, да!
И что? Другие не подсиживают?
Весь мир, дорогой писатель, погряз в зависти!
Завидовать даже хорошо. Мне завидовали, — сказал он, — когда я был писаришкой. Они в поле с песней, а я — кум королю и сват министру. Я письма девчонкам писал по три штуки в день! У меня иногда было этих другов — о-о! Тебя я, к счастью, другом никогда не считал… Что ты был за друг, когда надо и за тебя, и за себя тревожиться? Мы бы ведь тогда, когда этого шпиона выгородили, пошагали бы за тобой. Потому я на тебя и клепал. Жаль, Шмаринов в СМЕРШе не реагировал. Потому что ты в волейбол с ним играл. Боялся я об этом писать. А вдруг он меня…
Я не убью его. Я сижу рядом с мертвым Железновским. Он синий, с подтеками глаз, язык большой, какой-то тоже синий. Или тут такой свет?
— Смываемся? — спрашивает вдруг Кравцов.
— Чего? — переспрашиваю я.
— Давай смываться, — повторяет он.
— Ага. Идем позвоним.
Мы встаем вместе. Следя друг за другом, мы идем к телефону.
Если он ударит сейчас, что же я? Я же совсем не в форме. Железновский меня доконал. Я всегда ожидал, что так он кончит.
— Я, что ли, буду звонить? — скалит желтые большие зубы Кравцов. — Я, я… Видишь, даже Железновский напугался мести Ковалева. Ушел добровольно!
Почему я сразу не догадался, что они его убрали?
Они его убрали потому, что он уже давно не хочет так жить. Не хочет!
— Звони! — приказал я.
Я медленно, оглядываясь по сторонам, шел по длинному коридору. Гулко стукнула дверь. Я насторожился. И все-таки вышел на улицу. Я увидел рассвет на ней, увидел розовеющее небо. Ранее августовское утро было живым и страшно любопытным. Потому любопытным, что со мной рядом стоял Кравцов. И рука его лежала на моем плече. И любопытно было, что я не сбросил его руку. Я не знаю почему, я не сбросил со своего плеча его руку.
— Ты правильно все командуешь, — захлебывался почему-то от восторга он. — А то ведь смотри, плачет по тебе пуля!
Я все-таки захотел ударить его, но лишь резко снял чужую руку со своего плеча.
— О суде думаешь? — хихикнул Кравцов. — Не будет суда! И Шугова мы тут забарабаем!.. Ночью-то все страшно! А теперь светло и все улыбаются. Доверчивые! На них бы опять того, кого ты встречал тогда на новом аэродроме!
Я все-таки ударил его. Падая, он закричал:
— Бесишься? Потому что замазан! Им замазан! Поглядишь, вывернем всех! Не спрячетесь!