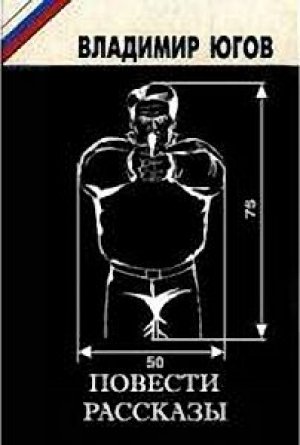
1
Мертвое тело привезли пополудни. Стол был сбит наспех, и большое тело не уместилось на выструганных местах, голые ноги лежали на шершавых сосновых колючках.
Удивительно сохранился этот бедолага Акишиев. Широкое скуластое лицо оттаивало под нежарким северным солнцем, с черных ресниц, по-девичьи длинных, слезали синие капли воды.
Стол стоял на пригорке, почти рядом с домом, где некогда жил Акишиев и откуда теперь, из окна, выглядывала его незаконная супружница бухгалтерша совхоза Клавка Сафронова.
Собственно, по ее настоянию и вырыли Сашкино тело: Клавка написала прокурору, что Акишиева, доверчивого и очень неразборчивого в житейских вопросах человека, отравила повариха Нюшка Петухова, с которой он вместе работал на заготовке дров. Акишиев-де имел с ней личную связь, и на почве ревности Нюшка и оставила ее, Клавку, сиротой вместе с малолетними детьми…
Возле трупа орудовал приезжий врач из района. Что он делал, не было видно. Лишь изредка собравшиеся — близко врач зрителей не подпускал вдруг удостоверялись: отрываясь от такой своей тяжелой работы, врач прикладывается к бутылке — она у него стоит, видно, рядом, как инструмент на верстаке. Убеждались, что он глотает из бутылки — самые высокие из зрителей. Клавке из окна дома, что был на пригорке, была видна даже бутылка на верстаке. Как только врач прикладывался к ней, она мотала недовольно головой — серьезное ведь дело править приехал, а пьет! Своих алкоголиков тут — пруд пруди…
Клавка на улицу не выходила. Целый день сегодня, с самого утра, она только и жила ожиданием, что теперь вот ей преподнесут желанный результат: в организме Акишиева будет найдена отрава. И все убедятся, что дело затевалось ею недаром.
Откопали могилу рано утром, хотя по-здешнему и не разгадаешь, где оно утро, а где день — стояли белые одинаковые дни и ночи. Когда лопаты застучали по гробу, когда Сашку открыли и он снова явил себя этому миру, даже тени от тучек не помешали разглядеть ей, как он прекрасен и теперь, уже почти год пролежав после смерти. Клавка была северянкой. Она знала, как в этой сырой земле — вечной мерзлоте — сохраняются похороненные. Она стояла на краю неглубокой могилы, и лишь одна мысль, посетив ее, не соглашалась уходить: неужели затеянное ею дело не подтвердится? Она то радовалась чистому лицу мужа, то горько сетовала на себя: вдруг все это лишь ее ревность, блажь? Отрава-то дала бы о себе знать! Не таким бы он выглядел!
Нюша Петухова находилась в эту пору, когда врач делал свою горькую работу, рядом с сельмагом, подле березовой скамеечки. Магазин был в ложбине, за ним шла еще баня, чуть повыше — двухэтажный дом. Так что ей со своего места, как ни вытягивай шею, видеть, что делается наверху, не приходилось.
День выдался солнечный, радостный. Со стороны речки, до отказа набитой полой водой, тянуло здоровой свежестью, в оврагах лежал еще снег, чернявые края его обглодались теплыми ветрами, принесшими какой-то водяной веселый запах и подтаявшей травы, и рождающихся первых грибов.
Но было не так и жарко. Потому Нюша Петухова и оделась в верхнее: на ее ладной фигуре — пальто вишневого цвета. Берет у нее был под масть пальто. На ногах черные сапожки на очень высоких каблуках. В руках Нюша держала черную дамскую сумку со множеством отделений. В одном из них кто стоял неподалеку от нее видел платочек, вымазанный губной помадой. Нюша этот платочек то вынимала из своей сумки, то опускала туда. Ни разу им она, однако, не вытерлась, хотя тихо, почти беззвучно плакала.
2
Половина поселка высыпала уже глядеть на операцию. Большинство стояло рядом с пекарней, откуда особенно хорошо просматривалось все, что делал врач. Было видно даже то, как нервно, судорожно ходил у него кадык, когда он ловко хватал бутылку и делал несколько затяжных глотков. Со стороны строящегося нового жилого дома наблюдали за всем происходящим Клавкины дети, их было четверо: две девочки и два мальчика. Старшей было одиннадцать, младшему — три года.
У пекарни разговаривали и комментировали по очереди Иннокентий Григорьев и Николай Метляев. Лишь изредка подключался к ним Василий Вахнин. Григорьев, высокий пятидесятилетний мужчина, был вместе с Акишиевым в последний раз на лесозаготовках, где, собственно, и помер Акишиев; правда, в тот раз он, Григорьев, по случаю сильного подпитья не присутствовал на ужине, после которого занемог Акишиев, но доподлинно он знает, что Нюшка за Акишиевым бегала. Теперь он и говорил об этом.
— Бегала! — ухмыльнувшись, будто и не согласился Николай Метляев. Не бегала, а, можно сказать, на шею висла.
— Я и говорю! — обрадовался Григорьев поддержке, потому что Метляев редко соглашался с людьми — всегда противоречил. — И говорю, что бегала!.. Бывало, придем все вместе, а она ить его первого пригощает! — Это он уже рассказывал опять присутствующим.
— Чего пригощает? — снова не согласился Метляев, позабыв про свой занудистый, въедливый характер. — Не пригощает, а как короля потчует!.. Гляди, как разрядилась и теперь! — Метляев ткнул в Нюшу пальцем. — Это думает поди — теперь встанет да к ней подойдет!.. Всегда так одевалась. Как на бал… Не повар в своей кашеварне, а показчик мод из-за границы…
— Ага, — кивнул головой и Григорьев. — Придешь — жалко подпускать ее к печке! Замажется. А как же тогда женишок? В чем увидит-то ее?
— Клашка тоже стерва, — сказал Василий Вахнин. — Ну кому это все теперь нужно?
— Обчеству! — отрезал Григорьев. — Кому! — Он обиделся. — Ежели так-то со всеми мужиками поступать, так не останется их!
— Таких-то останется, — кивнула на мужиков-пьянчуг, стоявших в стороне и только и ждавших своего, Полина Архипенко — женщина красивая, уважаемая.
Тем временем из-за бани выехал стоявший на приколе вездеход, на котором и привезли откопанное тело Сашки Акишиева. Вездеход проехал прямо по грязи, рядом с Нюшкой и ее скамеечкой водитель остановился и вылез на борт.
— Ты, Нюша, что пригорюнилась? — спросил водитель Василий Крикун. Говорил я тебе: выходи за меня замуж, не послушалась! Теперь видишь, какой ералаш.
Водитель был высок, строен, довольно красив, под носом красовались пшеничные усики. Нюша, это знали все, давно нравилась этому рыжуну, и он всякий раз звал ее замуж.
Нюша не ответила, села на скамеечку и стала поправлять платок, чтобы он побыстрее отстал. Крикун потоптался на месте, залез обратно в свою машину и, на прощание снова предложив Нюше руку и сердце, направил свою вездесущую технику к импровизированному, к тому времени значительно испачканному столу с почти уже пустой бутылкой и совершенно зашитым телом.
Врач сидел и отдыхал. Большие его руки покоились на тоже испачканном фартуке. Он неторопливо курил, показывая глазами, как грузить тело Акишиева.
3
Письмо в вышестоящие инстанции Клавка Сафронова отправила еще в декабре, перед новым годом. На дворе было в эту пору так морозно, как в аду, и, естественно, никто сразу на откапывание Акишиева не прилетел, хотя между поселком и районом прочно установлена связь вертолетами. Подбивший Клавку к написанию послания прокурору Колька Метляев, человек желчный и вздорный, поджуживал Клавку каждый день к более агрессивным действиям, ибо «эта подлая живой ходить и над тобой, Клавкой, ишо измывается: мол, как любила, так и погубила».
Письмо второе писал местный пенсионер Попов, тесть Иннокентия Григорьева, он ввернул по слезным Клавкиным просьбам угрозу в адрес не принимавших мер и прокурора, и помощника, сославшись на новую конституцию, которая гарантирует свободу и честь советского народа. Но и потом комиссия отложила дело Акишиева пересматривать в срочном порядке, уведомив законным образом Клавку: де, зима стоит крепкая, труп вашего знакомого лежит в вечной мерзлоте, так что беспокоиться не о чем.
Все это Клавка хорошо помнила, и теперь, когда комиссия, наконец, пожаловала, когда тело ее возлюбленного было поднято из земли сегодняшним ранним утром, женщина думала, что все теперь будут действовать против нее, чтобы доказать глупость затеянного ею. Она, не выдержав, вышла на улицу.
Дым, защищающий от гнуса, тянулся от ее порога к молочному небу, облака висели над мокрой землей как ватные, все весеннее хлынуло на село: и теплынь, и это веселое комарье, и эта вешняя вода, и эта зеленая травка на буграх; все звенело и нежилось, и Клавка, облепленная новым коричневым плащом, полная телом, не такая и несчастная, в душе пожалела, что такое сделала. Но, увидав у скамеечки Нюшку, сжалась, затвердела и, поровнявшись с ней, ядовито сказала:
— Что, змииша? Напужалась? Ты думаешь как? Я понарошку?
Нюша все так же сидела на скамейке, как ее оставил Васька Крикун. Она испуганно повернулась — видно, задумалась, но, узнав Клавку, отвернулась нехотя.
Только теперь можно было сравнить, как они не похожи. Клавка большая, широкая, а Нюша худенькая, дощатая, с тонкими ножками; лицо у Клашки тоже большое, полное, чуть красноватое, а у Нюши — личико узенькое, подбородок махонький, глаза лишь широко распахнутые, большие и нежно-испуганные. Клашка одета во все новое, нейлоновый на ней костюм с белой блузкой, а под шеей брошка, на которой наляпан какой-то лев или слон; на Нюше аккуратное пальтишко с замысловатыми продолговатыми пуговицами. Верхняя пуговица отваливается, и теперь Нюша ее нервно теребит.
— Отняла, какого парня отняла! — заплакала Клашка, поднося кружевной платок к большим накрашенным губам. — Змея! Змея проклятуша!
— Зря ты шумишь! — тихо сказала Нюша. — Не отымала я его и не подманывала! Сам ведь он!
— Тялок он, а ты — змея подколодна! Сам! Фарью-то там свою растопырила, от он и сам! Но, погоди! Слезы мои дойдуть! Растопять!
— Зря ты все это.
— Боисси? Зря? — Клавка сквозь слезы засмеялась. — Не зря! Думаешь так? Схватила в охапку, стерла, такой-сякой, сухой-немазанный, а мой? Змея ты, змеишша! В соку баба! Да ты глянь на себя! Ссохлась, как доска!
— Зачем ты, Клавка, так? Не видишь, глотаю слезы?
— Сама подвергла себя осмеянию! Не я его травила! Вишь, скисла как сама! Кишка тонка травить-то! А теперь плачет навзрыд, утопает в слезах!
— Да, Клава! В одном ты права! Не родись ни умен, ни красив, а родись счастлив… Не дали мне с ним счастья, не дали! Не в укор будь сказано и тебе!
— Засажу я тебя, засажу! Стыдом покрою, срамом, позором. Не первой молодости, не первой свежести оттуда придешь! Облуплю, как липку, змеишша!
— На комара да с рогатиной? — улыбнулась Нюша одними сухими, потрескавшимися губами. — Кулачное твое право, но не виновата я, Клаша! Не виновата!
4
Тем временем Сашку Акишиева подошедшие мужики — среди них Николай Метляев, Иннокентий Григорьев, Васька Вахнин и еще двое новых, приезжих, умещали на вездеходе.
— Гляди, тяжелый какой!
— Мужик был справный, под сто кило.
— Красавец, а не мужик! Попотрошил он этого бабья!
— Да они сами на него, как наводнение! Клашка-то, та измором взяла, чуть на коленях не стояла, чтоб в хвартиранты шел.
— И сам он был блудлив, как кот…
— А труслив, как заяц.
— Не криводушничай!
— Чё криводушничать-то? Нюшу возьми…
— Мозги у тебя набекрень! При нем о Нюше!..
— Эк тебя приспело! Рвется вдаль, тоже к побрехенькам!
— Не любо — не слушай, а врать не мешай!
— Ну взяли, мужики, взяли! Чё ишо раз тело-то покрывать срамом? Горьку чашу и так хватил мужик!
— Может, и с Нюшей-то совладал с собою. Думаю, любовь у них была красивой. Не трогал он ее!
— А глаза у мужика-то, гляди, и теперь, как живые! Бабы говорили: глаза-то, мол, с поволокой!
— Тихо, мужики! Клавка катит.
— О волке толк, а тут и волк!
— Попал пальцем в небо, — вызверился Метляев. — Перерву я тебе за Клавку глотку!
— Чё, что ли сам, на теплое Сашкино место? Так у тебя же баба своя!
Клашка, будто слепая, вовсе не играя, подошла к вездеходу, большие ее руки жадно ощупывали железо ног Сашки Акишиева. Она неистово шептала: «Миленькой, родненькой! Не ругай, как потревожила, не наставил ты уму-разуму, некому было-то! Лягу с тобою, лягу! Куда иголка, туда и нитка! У них-то… У них-то, кладезь ты мой учености! У них-то кишка тонка! Не надо мне и золотого другого! Кукушку — на ястреба?!»
— О, баба, — сказал в сторону Иннокентий Григорьев, — про хахалей исповедуется.
— Болтает на ветер, — пожалел, не вступая в спор, Метляев. — Клубок в горле, то и болтает!
— Тебя, как черного кобеля, не отмоешь добела, — сказал Григорьев. На Клашкины деньги глядишь?
— Не только света, что в окошке, — охолодил его своим спокойствием Метляев. Он не допускал, чтобы его подвергали осмеянию.
— При солнце тепло, а при такой бабе, Метляев, добро, — хохотнул Васька Вахнин.
Подошел неспешно врач, ростом он оказался громадным, руки у него были красные, в синих жилах. Он поправил испачканную простынь, поглядел на всех невидяще и, заметив Клавку, нахмурился.
— Поехали, мальчики! — Незаметно было по нему, что он час назад опрокинул в себя целую бутылку спирта.
— Как? — закричала Клашка. — Не отдам! Не тронете волоска!
— Все перемелется, — стал успокаивать ее врач. — Ты ведь хотела кус и дольше, и толще? Ты его получила…
Вездеход, ведомый Крикуном, осторожно снялся с места. Никто словам врача не придал значения, все стояли молча, провожая машину. Лишь Клавка картинно выставила руку, словно в заключительном акте какой-то человеческой комедии, поддерживая и твердь небесную, и твердь земную.
5
Нюшу взяла к себе учительница Ротовская. На улице к тому времени похолодало, а Нюша так и сидела на своей березовой скамеечке. Ротовская шла из школы, сразу поняла, в чем дело, и не насильно, однако ловко уговорила ее, достойную изумления, — так и сказала, покинуть это всеобщее место обозрения.
— Они думают, что я его отравила, — уже согревшись, но так и сидя неподвижно, говорила Нюша.
— Успокойтесь, голубушка, успокойтесь. Душа меру должна знать. Давайте я помогу вам раздеться… Давайте, давайте! Будем пить чай. Нате-ка!
— Неужели они все думают, что я его отравила?
— Теперь не суть важно это, Нюша.
— Почему они думают, что я его отравила?
— Малая искра города поджигает, а сама прежде всех помирает. Пусть их. Все станет на место. Вы же на самом деле не травили его?
— Вы что! Я же его любила! Я Сашеньку любила.
— Вы любили, а они захватывали, перехватывали, занимали, забывали!
— Но он был мой! Мой! Мой!
— К сожалению, Нюша, он был не только ваш. А с чужого воза и посреди болота сведут.
— Неужели вы не понимаете, что я его любила?
— Я вас прекрасно понимаю, но вам надо считаться не только с моим мнением.
— Я не хочу считаться ни с кем. Я его любила, и он был мой.
— И прекрасно. Пейте. Сколько вам положить сахару?
Нюша, зябко ежась, стала безразлично мешать ложечкой в своей наполненной чашке. На дворе было по-прежнему светло, и она представляла, как Сашеньку теперь заново хоронят. Она не боялась ничего, потому что ничего злого не сделала. Она была уверена, что Сашенька помер случайно, по ошибке; вместо него должен был умереть кто-то другой — Иннокентий Григорьев или Николай Метляев, только не Сашенька, такой большой, сильный, могучий и жизнерадостный. И когда ее вызывали к следователю, она примерно об этом говорила, повергая в уныние молодого, с недавней студенческой скамьи лейтенанта.
Следователь пришел тоже прямо от могилки и допрашивал ее в последний раз. Опять о том же самом — как она в тот вечер готовила, что было на первое, что на второе, что на третье. Ну какое вечером первое? Тогда она, помнится, сготовила мясо с рожками, и был еще чай. Едоков у нее числилось девять человек, восемь из них поели, не ужинал лишь Григорьев, а все остальные поужинали, сидели все вместе, ели из общего казанка — горячую пищу любили почти все. Что ж разбрасывать на тарелки? Да, если не ошибается она, дождь закапал, казанок с крышкой…
Нюша старательно все припоминала, не замечая того, что лейтенант ставит ей ловушки и, тихо радуясь, что-то мелким почерком у себя записывает в тетрадь. За последнее время нервы ее поизносились, но она не придавала значения этим его хитростям, а простодушно припоминала все, думая, что правда всегда есть правда, она к правде и вынесет.
— А скажите, — лейтенант не глядел ей в глаза, — вы с Акишиевым жили?
— Я?
— Да, вы.
— Я-то? Там не жила.
— А так, значит, жили?
— А так… так… жила…
— А почему же там не жили? Он, что же, не хотел этого?
— Нет, что вы! — усмехнулась вдруг. — Он всегда этого хотел. Но, сами посудите, их в артели было девять человек. Они были там всегда вместе. Все на виду.
— Но могли же вы… Скажем, уйти куда-то? Или Акишиев мог остаться нечаянно перед работой.
— Он не позволял расслабляться. Работа ведь общая. Как же он стал бы баловством заниматься, когда люди бы работали?
— А вы, что же? Не вызывали его на это?
— Я?
— Вы. Вы же по пятам преследовали его, всем твердили, что любите его за неописуемую его красоту.
— Когда любят, не говорят громко. Мне и того хватало, что рядом был.
— А, говорят, вы демонстрировали всюду вашу взаимную привязанность.
— Не радуйся, найдя, не тужи, потеряв, молвит пословица. Я радоваться-то боялась, а потеряв, тужу. И тужить буду.
— Вы себе представляете, что вас ожидает, если вина ваша подтвердится?
— Да уж представляю. Душа-то у меня давно в предчувствии горьком разрывалась. А пришла беда — отворяй ворота. Хоть и ворот нету теперь…
6
Березовую скамейку Саша Акишиев сотворил (он все ловко сотворял) весной позапрошлого года, сразу же это было по приезде. Откуда он приехал-то в этот богом забытый край? Дело житейское — демобилизовавшись, Сашка рванул на север. Родом сам он был из-под Чернигова, сельский парень. Дома мать-старуха и две старших сестры (когда Клавка отписала матери о Сашкиной смерти со всеми подробностями, то получилось нехорошо — мамаша не выдержала и вскорости померла, может, правда, это и придумки разные, человек помирает от старости), живут — не разгонишься. Да и колхоз беден землями — болота, болота. Захудалое хозяйство.
Приехал Саша сюда еще в военном обмундировании, так пришел и наниматься к директору совхоза. У того на счету рабочей силы — раз, два и обчелся, не стал спрашивать, как попал сюда — зачислил в лесорубы без промедления. Как потом оказалось, Сашка сел на пароход — Мошку — и врезал вниз по течению, по славной реке Сур и ехал, по совету северных летунов, до тех пор, пока не появилось это вот село на пригорке.
Поселок оказался большим, Сашке повезло и с квартирой — загадочно улыбнувшись, посоветовал директор обосноваться пока у Клавки-бухгалтерши, дом у нее большой, наш, совхозовский, муж недавно скончался — «баба она требовательная, ха-ха-ха», — и помощь будет, «дрова, понимаешь, бичи за пол-литровку колют, да и с водой — поноси ее, напасись». — «Водопровода и у нас в селе нету», — хохотнул и Сашка, — идея жить в одном дому с молодой вдовой женщиной ему, после солдатских двух лет, понравилась, во всяком случае он на корню ее не зарубил. Ешь, говорят, пока рот свеж, — ощерил зубы и бригадир Иннокентий Григорьев, позже снятый за злоупотребление спиртными напитками.
Вместе с Метляевым они и привели нового квартиранта к Клавке. Был выходной, и она прибиралась по хозяйству, простоволосая, в халатике выше колен и с приоткрытой грудью. На Сашку взглянула лишь раз, а то зачала проявлять неудовольствие: и дитям неудобно (Зоя-то, гляди, взрослая уж), и самой хлопотно с чужим человеком в дому, сами как сели, как встали — один бог судья, а им, — она кивнула на присмиревшего Сашку, присевшего на краешек стула, — может, и не завсегда в угоду.
— Ты, Клавка, давай не финти, — сказал Метляев, как оказалось, на довольно солидном подпитьи, это с виду незаметно. — Бери, что дають! Не то уведем.
— Сама посуди, Клавка, — вступился за Сашку и Иннокентий Григорьев, человек уже при деле, назначили на работу, разболтаться он ишо не успел.
— К директору пришел наниматься в трезвом состоянии, — как аргумент в Сашкину защиту выдал Метляев.
— Вы все такие на первый взгляд, — не сдавалась Клавка. — А потом и водка, и карты, и руки в ход…
В комнате, где предстояло жить Сашке, было тихо, уютно; в ней было два окна, кровать, а на стене — даже произведение искусства, как прочитал отсюда острым глазом Сашка, «На Геннисарецком озере»; валуны были выписаны так, что Сашка не выдержал, встал и потрогал их — хотелось на них присесть.
Оказалось, что рисовал их год тому назад скончавшийся супруг Клавки, он бы, наверное, дорисовал и вторую картину «Три царевны подземного царства», но, как сказал Метляев, запил горькую, скрывшись на время в неизвестном направлении, а уж когда его нашли, оказался он мертвым.
Сашка никогда в отдельной комнате не жил, душа его знала меру. Не стал он острословничать, остроумничать; да и баба была в соку, цену не заламывала, лишь чуть играла, потому как Сашка почувствовал: он ей понравился, во всяком случае больше словами она поражения ему не наносила. Он и не догадался, как проигрался.
Метляев, тридцатипятилетний человек с усиками, одет, как ему кажется, сверхмодно: желтые носки под лакированные черные туфли, костюм в клетку, белая рубаха. На ней, под костюм, еще серый дорогой свитер. Он и вызвался сходить за бутылкой, когда Клавка сама поставила на теперь уже Сашкин стол поллитровку спирта, шепнул на ухо, улучив момент, что все теперь дело в шляпе, теперь Клавке, чуть што, съесть будет погано, а бросить-то — жаль.
— Ты, Метляев, брось, — услыхал Иннокентий Григорьев, — раздоры не сей, мы в одну дудку теперь должны дудеть. — И стукнул худой мосластой рукой по мощному Сашкиному плечу.
— Оно-то, конешно, — засуетился низкорослый, хорошо выбритый Метляев, — заработок у нас карячится! Не заработок, а золотая жила. — Он уже где-то запачкал свои желтые носки и край пиджака о сажу.
— Дураки, дураки, дураки! — вскипел Иннокентий Григорьев. — Они ишо не взяли, а вокруг себя создают легенду и зависть. Молчи, говорю! Молчи! Это я буду думать за вас всех, хитро повторять стану: в палатах лежать ломтя не видать! — Григорьев здорово, как артист, изменил голос — ну старик и старик!
— Счас, конечно, — испугался Метляев, — иное время.
— То-то и факт. Иное время — иные песни…
«Мужик, видать, умный», — решил Сашка, все намеривающийся спросить, сколько же можно на их работе закалымить: грешным делом у директора он об этом спросить постеснялся, поверив на слово, что работа хотя пыльная, но денежная. Теперь выяснялось, что в прошлом году лесорубы заработали за сезон по четыре куска. «За три месяца?» — переспросил он в ужасе, прикидывая, куда такую уйму денег они дели.
— Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки, — поостудила пришедшая к ним Клавка. Она уже переоделась: бархатная блузочка зеленоватого цвета, без рукавов, черная юбка с народными узорами внизу, чулки новые нейлоновые и на большом каблуке синие босоножки; юбка теперь модная, ниже колен, и ноги у Клавки от того вдруг похорошели, излишества-то свои на коленках она прикрыла.
Клавка выпила с ними за компанию рюмку, глаза у нее посоловели. К тому времени Метляев навзрыд запел: «Ты меня не любишь, не ласкаешь, разве я собою не прыгож?» Иннокентий Григорьев сразу же подхватил песню, видно, они давно спелись; в два голоса они долго орали, и пришедший младший сынок Клашкин заглядывал в небритый, замазанный огуречными семечками, старательный в пении рот бригадира Иннокентия Григорьева. Потом Метляев выбивал в черных лаковых туфлях чечетку, но, видно, у него к тому времени наступил перепой, ноги его путались, били совсем не в такт, он не сдавался и выпендривался. Наконец, Метляев признался:
— Под губы разве спляшешь? Вот я в воинской самодеятельности под гармошку давал!
Оказалось, что в селе гармонистов нету, был один в клубе, но от скуки, не совладав с собою, пустил под откос добро, сжег пол зрительного зала. Не в укор будь сказано директору — либерал, пожалел тот гармониста, вытурив его из поселка и покрыв лишь словесном стыдом, срамом и позором.
— Не было друга ему, — сказала Клавка, любившая людей, как говорится, с приветом, правда, любила она их, когда те жили от нее на расстоянии. Что с вас возьмешь? А он под гармошку романсы пел. Ты, Метляев, скажем, душу его постиг?
— Я? Я, Клава, тоже кое в чем тумкаю. Только я, Клава, не выдвигаю свои романсы наперед себя. Я человек скромный. На Большой земле я даже мог бы заведовать любым клубом.
Сашка, чтобы они больше не спорили, сознался, что на баяне он пиликает. Метляев недоверчиво ощупал его глазами, но решился по такому случаю пойти к Семену Мокрушину — у того есть баян, он купил сынку, который учится теперь в Салехарде в музыкальном учреждении, только остается Мокрушину баян отправить.
Метляев пошел, а Клавка крикнула вслед:
— Не даст он.
— Мне-то? — Метляев приостановился на пороге. — Да я что хочешь достану. — И весело хлопнул дверью.
Когда за окном исчез его модный тонкий силуэт, Иннокентий Григорьев усмехнулся:
— На мое место метит. Думает, что так близко. Думает, ежели директор взъелся, на минутку замахнулся, уже все… Иннокентии не такие! Их голыми руками не возьмешь!
— Не понял он, Иннокентий, что артельная каша-то лучше, когда подвоху нету, — отозвалась Клавка.
— Тьма он кромешная, хошь и в желтых носках топает.
— В старину здесь бы ему это так не спустили. По уши в долгах, а лезить на раздор.
— Уймем! — пообещал Иннокентий Григорьев. Мужик он был жилистый, весь налитый силой и злостью. На щеках у него заходили желваки.
Пока Григорьев между слов обещался стереть с лица земли всякого, кто у него поперек горла станет и власть его попытается бригадирскую захватить, пока Клавка дважды взглядывала на Сашку, растомленного и дорогой длинной, и новыми впечатлениями, пока она в третий раз остановилась в каком-то радостном испуге на его красивом лице, а он в это время, вспомнив солдатские свои замашки глядеть на женщин не сверху вниз, а наоборот, начинать щупать их с самых полных ног, вперся осоловело куда-то в сторону квадратов юбки и нейлоновых новых чулок, пришел Метляев с Семеном Мокрушиным, могучим, бородатым мужиком с всклоченными черными, как у цыгана, волосами, в большой одной руке он держал новенький баян, который расстегнулся и хрипел при каждом неловком движении его хозяина.
— Кто тут играет? — густым басом спросил Мокрушин, как оказалось потом, из одной с этими дружками лесорубной бригады. — На, играй! Мокрушин передал баян, а сам стал на колени и завопил: — Осподи, осподи! Ишо одного дурака к Клавке прибиваешь! Избавь его, всевышний, от земных грехов. С такой-то стервой разве в первую ночь не согрешишь?
Все захохотали, а Клавка, искренне тоже смеясь, стала рядом с Семеном на колени.
— И чего же нам остается, Сеня, коль другие нас не голубят? — Она ласково глядела на волосатого богатыря.
— Сгинь, сгинь! — деланно замахал он руками.
— А коль не сгину? На шею повешусь?
— Сгинь, душа из тебя вон!
Сашка, наблюдавший за этой сценой молча, так и не понял, шутят ли они или между ними что-то давно идет. В нем зарождалась ревность и вместе с тем какое-то навязчивое чувство томности, желания. Он до прихода этого могучего мужика с большим лбом и медными умными глазами уже принял Клавку в свое сердце, она ему все больше и больше нравилась. Теперь, когда она так искренне глядела на Мокрушина, когда все ее существо открыто стремилось к нему, Сашка понял, что он поспешил отдавать себя ей, этому дому, всему, что вокруг тут существует. И Клавка стала ему сразу намного дороже. Он уже не хотел отдавать ее никому. Тем более, Мокрушину. «Пого-одишь! — процедил он слово, не понятое другими. — Еще не вечер… Коль уж мы пришли — позвольте!»
Он взял баян и какой ни на есть был из него игрок, мягко пригнулся к холодному перламутру, теперь дотрагивался к нему разгоряченной щекой.
7
Что ни город, то норов, — шептал Сашка три дня спустя, орудуя топором на веселом пригорке, взятом первой желтоватой травкой. По речке Сур, присоединившись к еще одному члену бригады, двадцативосьмилетнему Вадиму Гладуну, привез Сашка березовых шестов две вязанки и взялся сооружать скамейки.
Признаться, взялся он за это без всякой большой идеи — просто не мог сидеть без дела. Все это время у него была под рукой работа: переколол уйму Клавкиных дров, наносил в дом две бочки воды, отремонтировал умывальник, привел в порядок сортир, поправил крышу… И вот Гладун, медлительный, с виду флегматичный и равнодушный мужик пригласил его прошвырнуться к зачинающейся неподалеку тайге: «Ты ведь еще не видал здешних мест. Это — хорошо-о!» Сашка выпросил у Метляева веревку, поехал не только все поглядеть праздно, а и срубить пару лесин, чтобы соорудить хотя бы рядом с домом скамеечку.
Когда он возвратился и сделал эту скамеечку, ему захотелось из оставшихся нарубленных жердей сотворить скамеечку на бугорочке, бугорочек этот выпирался над селом. Чё сидеть-то на траве, когда можно, как маршалу, закинув руки, посидеть и подумать?
Он старательно прилаживал палочка к палочке, чурочка к чурочке, обходясь без гвоздей, как его предки — умелые белодеревщики. Он знал многое: затесывал шипом конец бревна, соединял с таким же концом другого бревна и связывал их в венец — это, чтобы бросали окурки в такой колодец; он мог рубить в лапу, рубить в угол, и потому скамейка вырисовывалась здесь, на подтаившем бугорочке, отменная. Местность была приметная красиво, одним словом, внизу, в ложбиночке стояли две карликовые елочки, лапы их были еще покрыты снегом, ничего, отойдут от снега, будешь глядеть на зеленое деревце и наслаждаться. Метляев все такой же праздничный и нахальный, прийдя поглядеть на Сашкину работу, сказал со значением:
— Живописный ландшафт. — И после молчания спросил: — Как думаешь, когда мы двинем к этой лагуне?
— Ты что имеешь в виду?
— Ну к месту, где заготавливать дровишки… Лагуна ведь залив, старательно стал пояснять. — А нам бы тоже в прибрежье где-нибудь. Чтобы далеко не таскать потом к воде.
— Ты моряк, что ли?
— Какой тебе еще моряк! Просто изучаю…
— А-а! — весело ответил Сашка. — Вам-то видней. — Он выдавливал ямку в мерзлой земле, чтобы пока вчерне попробовать приладить самую толстую жердь. — В прошлом году-то вы, говорят, после осеннего ледохода только и управились ехать.
— Пропьянствовали, упустили деньгу.
— Смотрю, и в этот раз не свежие ходят.
— Лежмя лежать надоело. Ты бы спросил Клавку.
— А что Клавка, знает, что ли?
— Она все тут знает. — Метляев помолчал. — Баба, конешно, лапочка. Такую бы одну лапочку с собой в эту лагуну. — Метляев захихикал.
— Что, со своей-то живешь, видать, не больно?
— Как тебе сказать? — Метляев стал впервые доверчивым и простым. Я… В общем дело тут деликатное… Ты севера еще толком не раскусил… Поживешь — посмотришь. Что же, так вот все просто? Надо здесь побыть не даром, а, как говорят, за деньги. Все понюхать самому, все испытать!
— Значит, не шибко? — опять засмеялся Сашка, он уже вдолбал ножку скамейки в мерзлую, посиневшую на солнце землю.
— А ты чё смеешься-то? — Метляев вызверился. — Пристроился и смеешься? Не больно и радуйся! Лапанная твоя баба вдоль и поперек. Не первый сорт! Хоть, скажу без зависти, денежная, все равно — непервозданна. От того и проигрывает!
Сашка спокойно отложил топор, вынул из кармана комбинезона сигаретку и, раскуривая ее, пристально глядел на Метляева.
— Чё глядишь? Чё? Испугаюсь, что ли? — Метляев юлил глазами.
Сашка ничего не ответил. Крупный, красивый, с большими ногами и тугими, налитыми здоровьем руками, он поглядел еще раз на Метляева, и взгляд его был чисто детский.
— Ты, Метляев, обо всем этом серьезно? — наконец, спросил, прямо глядя в его зеленоватые кошачьи глаза.
— А зачем же ты тогда к ней на квартиру пошел?
— Так это ж всего на квартиру…
— Нашел дураков. К Клавке просто так не ходят…
Сашка пересел на увитую в связке жердинку, она его выдержала, пустил густую струю дыма.
— Ох и бес ты, Сашка! — засмеялся деланно Метляев. — С твоей, конечно, физиономией… И фигурой такой… Оно, конечно… Богатая, ух!
Сашка, будто и не услышав последних слов, засмеялся:
— И что вы все суетитесь? Я от баб, как черт от ладана бегу. Никакой у меня нет с ними связи. Ты что, интерес к ней имеешь?
— Взгляд ее для меня ледяной. Да и она… Расшиблась бы в лепешку, коль этот… ну, волосатый бугай… только б пальцем поманил…
— Так, говорят, у него мирно, дружно, в полном согласии дома-то…
— То-то и говорят. Тишком да ладком, сядем рядком… А глаза твоя Клавка-то все проела…
Опять кольнула в Сашкином сердце какая-то неприятная тревога. Метляев, покрутившись еще, исчез, так и не выведав, когда едут в лес, а Сашка, отладив скамейку, пошел к себе домой. Как-то тревожно думалось ему, когда он встретил Клавкиного сына Игоря, он всегда лакомил мальчика покупными конфетами и теперь вынул две кизиловые конфетины, отдал пузатенькому сластене; тихая радость встала перед ним, и она была в полном с ним согласии, в ладу, мирно, дружно; мальчишку он взял на руки, тот потянулся сам к большому, пахнущему свежей стружкой Сашке. Хоть лезь на стену от нахлынувшего счастья. Такой был ловкий и ласковый пузан.
Сашка донес его до избы, и Клавка, краснея от удовольствия, что он так несет ее мальчишку, все-таки сделала холодно-равнодушный вид. Сашка оглянулся. Он понял, отчего Клавка так: по улице вышагивал большой лохматый мужик. Клавка поджала губы и скромно сказала:
— На ладан уж дышит его-то супружница.
Дышит так дышит, — зло подумалось Сашке, — чего тарахтит, раззадоривает? Чутьем подумал он, что глубже и глубже засасывает его ревность, ведет в какие-то особые отношения с Клавкой. Лишь молодая вольная натура выносит на радостный свободный берег. «И чего привязался? спрашивал себя Сашка. — Чего тебе они? Пушистые, раздушистые, маленькие, пузатенькие… Чего?»
Клавка готовила лапшаное тесто, руки и лицо, край волос были в муке. Вся она гляделась домашней, своей, близкой. Беспокойная ласковость заиграла опять в Сашке, но он пересилил свое желание потрогать рукой прядку ее волос, да и взгляд у Клавки был пока что ледяной, она была к Сашке безучастна, будто и не видела его, хотя на него глядела.
— Лакаить видь, а не пьет! — про себя вроде, тихо и печально проговорила, жадно бросив взгляд на окно. И покачала головой.
И вдруг увидела Сашку перед собой, заулыбалась ему так хорошо, но Сашку нельзя было провести: «Как ледышка!» — подумал он, все же очень обрадованный ее теплотой.
Клавка отложила тесто и сказала:
— К вам, Алексан Палыч, директор нарочного присылал.
— Зачем я ему понадобился? — Сашке опять был приятен ее такой дружелюбный голос.
— Думаю, на счастье. — Руки у нее были сильные, размашисто снова толкала она тесто, подминая и хлопотливо успевая за своими движениями. Бригадиром он хочет вас сделать.
— Иннокентия, выходит, по боку?
— Его давно пора гнать. Да кого взамену было? Метляя? Нет, не с Иннокентием ему было бороться. Иннокентий — черт, хитрый. А хитрый завсегда лазейку найдет против такого Метляя.
— А чего он меня облюбовал?
— По душе пришелся, — улыбнулась еще лучше Клавка. — Говорит, не лайдак, не бездельник. А Иннокентий, говорит, лишь хитрый и не более. Хитрый, а все знают, мол, лентяй и негодный человек.
— Но в прошлом году они ведь неплохо сработали.
— Неплохо! Время-то какое упустили? Дрова экономили весь год из-за их этого «неплохо». Каждую чурку из-за них берегли. — Она дунула на выбившуюся из-под косынки прядку волос. — Ты их слушай! — Перешла решительно на ты. — А я в самом курсе. Я, никто ведь другой, подсчитываю и знаю, где да что. Видно, вы не сумели ешо понять моего положения в совхозе?
Сашка стал заверять, что он ее положение понял давно, от нее, мол, многое зависит. И вот сегодня Метляев об этом же говорил. Пришел просто так, но об этом говорил.
— Просто так пришел! — усмехнулась Клавка. — А вы верьте всем. Пришел узнавать через вас, сколько положим в этом году за один куб, сколько, одним словом, заплатим. А я перьвая знаю о том, сколько это будет. Директор ешо не знает, а я ему подсказываю. Деньги, оне счет любят. Метляю што? Ему — только бы грести под себя! С ума человек на почве добычи сходит. — Вдруг зарделась. — И богатых невест на севере все ишет. Гляди, найдет. Здесь невесты действительно богаты-ыя, денег у иных — куры не клюють!
— Лишь бы счастье было. Не в деньгах и дело.
— Оно, конечно, — Клавка на секунду остыла и сразу же переменила тему разговора. — Поехали-то они… Это к вашему замечанию, что, дескать, в прошлом году неплохо они сработали… Поехали, помню, река окончательно как замерзла. Времени было потеряно сколько? — Она поглядела на него в упор, и долго не отпускала его взгляда.
— А на вас, Алексан Палыч, они надеются. Не подведете? — Она ему подмигнула: мол, поручалась за вас — это он понял так.
Куриную лапшу он не едал давно, в солдатской столовой не больно баловали, что до молочной — так, бывало, и давали. Сашка шел к директору, а сам думал о лапше. Из чего она будет делать-то? — глубокомысленно предполагая, он, заранее прикидывал: пригласит за стол или ему придется вновь идти в столовую к геологоразведчикам и Христа ради вымаливать, чтобы они покормили его за собственные же деньги? Кому там, тоже понять надо, охота готовить на каких-то дуриков, приехавших в совхоз, а не к ним, зашибать длинный рубль? Ты поступи к нам и работай. Мы тогда станем тебе даже на подносе носить…
У директора разговор пошел о лесе. Сашка тут — гвоздь, вобъешь и не согнется. Мелкий лес, красный лес, хвойный лес, лес в срубе, барочный лес, поделочный лес — это знает он не по книжкам. В лесу, можно сказать, вырос, на болотах поднялся… Лесник, лесничество, лесничий, лесная таксация, лесная ботаника, лесовозы, лесовщики, лесонасаждения, лесопилки…
Долго толок директор воду в ступе, прежде чем примериться к главному разговору. На дворе к тому времени погода ухудшилась, набежали тучи, стеганул по стенам осенний холод, в окно было видать, как по реке скрестились волны, брызгая на высокий правый берег, пошла крупа с неба. Директор встал, прошелся к окну и, как бы впервые увидев перед собой Сашку, положил ему руку на плечо.
— К лагерной жизни тебе не привыкать, а? Сколько служил? Два года. Немного. А мы, брат, бухали по восемь и десять лет… Два года — это самая малость. — Повернул к себе Сашку. — Сколько думаешь здесь задержаться? Только откровенно.
— Сам не знаю, — сказал Сашка.
— Ну и спасибо на этом. За откровенность.
Он пододвинул к себе стул ногой, ногой же подтащил стул и Сашке.
— Садись, Саша. Говорить будем, как принято тут, в этом кабинете, тет-а-тет, понимаешь? Конечно же, понимаешь! Как жить надо на лесозаготовках? Жить надо, Саша, в полном согласии! Со всеми, в том числе и с окружающей природой… Понимаешь, по маленькой, вмерзшей в землю избе будет бить ледяная вьюга. Ноги будут коченеть. Ледяные ноги! А на сто верст — тишина. Коптит лампа. Светлой лампочки, что тут от движка загорается, нету! На речке метровый ледяной покров — захочешь рыбки, а ее тоже нету… И один ты. А эти все твои работнички каждый день — пьянь вонючая! И ты один. После перепоя они тебе долдонят: что же мало водки взяли! Тяжело, понимаешь? Ты — один. Но одна ласточка еще весны не делает. Скамейка, поставленная тобой на виду, ни о чем им там не будет говорить. Подумаешь — землеустроитель! Хозяин! Красоту наводит! Да плевали мы на то! Ты это все понимаешь?
— Ладно, — сказал Сашка, — нечего и разговор тогда вести. — Он попытался встать. — Не доверяете? И не надо!
— Сиди, сиди, — успокоил директор, насильно усаживая Сашку. — Ты думаешь, они имеют смутное представление о лесе, как таковом? Они имели в виду нас с тобой, если лес не даст им средства. Чего мне с тобой хитрить?
— Нужна техника, директор. Одну хотя бы лесотаску. Я задачу-то понял.
— Вся беда, что ты до конца не разобрался.
— Разобрался. Я понял так, что в прошлом году вы за этот лес заплатили, а вода его не подняла.
— На голое едешь, парень.
— Нет, директор, ты не лесоторговец, не купец, а я не игрушка в твоих руках. Заплатишь ты мне, пусть половинку, а мое дело, как и его поднять.
— А зачем мне торопиться? — улыбнулся директор. — Я подожду. В будущем году, может, вода и подойдет. Не в будущем, так в следующем.
— А строить в этом году как будешь? Из меня или из Метляева?
— Строить-то? — затушевался директор. — Что строить? Построим.
— Ты это другим скажи. Лес надо поднимать, директор. Вода в этом году самая высокая, двадцать с лишним лет не было такой высокой воды. Так что цену не убавляй до минимума. Никто не пойдет на такую шабашку.
— Ладно, — бросил придуриваться директор, — вот в чем Григорьев и подрезал меня. Потому я решил его с бригадиров снять, такое дело уже согласовано. А тебя на его место.
— Говорю, инструмент и механизмы нужны.
— Это подыщем. Считай, что договорились.
— Нет, как договор подпишем, тогда будем считать, что договорились.
— Ушлый ты мужик, Акишиев, — подмигнул директор. — Но думаю в одном тебя обхитрить. Свояченицу тебе подсовываю в повара, а? Как глядишь на это?
— Сколько нас будет-то?
— Девять с тобой, она десятая. Артель.
— А как платить ей?
— Как? По совести. Хорошо станет работать, что же, она ведь тоже человек. Не задаром в эти края поперла, а?
— Ладно, — махнул рукой Акишиев, — свояченица, так свояченица.
— А ты погоди, ты спроси, как она собой-то? Молода ли?
— На месте все поглядим, — опять махнул рукой Акишиев.
8
Черт-те что, а не свояченица. Девка лет двадцати, высокая, доска-доской, руки в кулаках мужские, в цветастом платочке и в туфлях на низком каблуке. Краснея, выждала, пока Сашка выел утиную лапшу и вошла, приглашенная, в Сашкину комнату. Вошла, села на краешек постели, потому как у Сашки на тот случай оказался всего один стул.
— Меня послал Савий Карпыч, — пикнула, но голос показался Акишиеву приятный, звучный.
— Так что ж тебя заставило с мужиками в лес ехать? — прямо быка за рога, сытно отрыгивая, спросил Сашка и, не дожидаясь ответа, нахально взял из ее рук альбом, стал бегло разглядывать его. Чей-то у тебя?
— Это? — она показала глазами на альбом. — Это я на выставке купила. — И оживилась, как-то сразу похорошев. — Вот глядите, это восход солнца, черноморский берег. Картина нарисована в прошлом веке, в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году…
Она хотела еще что-то рассказывать, но Акишиев, перебив ее, потянулся глазами к картине. Он увидел кучевые облака, собственно красность облаков, упавших в море, увидел красные флаги на небольшом корабле, а на берегу была украинская семья, люди под повозкой с волами, далее была лодка с казаками и корабль-парусник, на котором развевались красные флаги.
Акишиев любил все красивое, картина была не только хороша, она застревала в душе, потому как сразу вспыхнули непонятно-светлые воспоминания: мама вот в таком праздничном убранстве, босоногие сестры с крашеными яйцами в руках.
— Они что, с красными флагами? Наши, что ли? Революционеры?
— Это такой цвет.
— Нет, ты, наверное, сама не знаешь, — он разглядывал уже другую картину, на которой была лунная ночь, пальмы. Луна светилась, как солнце, море радовалось под ее лучами. Потом еще одна картина шла о лунной ночи, луна там выглянула из печальных облаков, рядом с сонным кораблем.
— А луна живая здесь бывает? — спросил он и впервые пристально взглянул на нее. Ему теперь не казалось, что она дурнушка, как раз наоборот — что-то в ней было ласковое и по-девичьи заманчивое, особенно глаза — большие, широко и удивленно распахнутые и до жути хороши. Он в душе усмехнулся: и так в лоб били Клавкины достоинства, и тут кнутом стегает эта, в принципе, жердь-девка. Нахмурился, выдавая обратно ее альбом, хотя хотелось разглядеть получше солдат в красных мундирах, белые разрывы и реку, ее синь…
— Вон, у хозяйки моей погляди, — сказал небрежно Акишиев. — Картина знатная.
— Я ее видела, — пискнула опять деваха.
— В лесу-то не до картин тебе будет. — Акишиев при ней закурил, сидел он в спортивном костюме, развалясь.
— Да, — сказала она, — будет не до картин. — Привстала. — Я прошу вас взять меня с собой, готовить я могу неплохо, честное слово. — На пороге она, опустив голову, спросила: — Вы не обидитесь на меня? В следующий раз, пожалуйста, одевайтесь, когда к вам приходят посторонние. И у девушек, прежде чем закурить, надо спросить разрешение.
Она нагнулась, чтобы выйти. Акишиев чмокнул губами: плям-плям, растерянно оглядел себя, удивленно пожал плечами.
— Послушайте, — постучала она в окно, — а скамейки… Скамейки — хорошо! Слышите, хорошо!
«Ты еще! — делал он плям-плям, никак не умея подобрать слова. — Леди мне нашлась, мадам, госпожа! Да… Повариха в лунной ночи! В спортивном костюме не нравлюсь!» Но где-то в глубине души у него вдруг явилось чувство стыдливой застенчивости за свою оплошность, он знал ведь о том, что перед женщиной надо стоять так, чтобы не унизить ее. И быть прилично одетым. Кто бы она ни была. Ведь ты-то не свинья какая!
Что-то еще доброе подкатило к нему: не побоялась, врезала между глаз, хотя вроде и нанимается, а врезала… Чего нанимается-то? Директорская свояченица, сказал — возьми, возьмешь, никуда не денешься… Однако он вновь увидел ее лицо, лицо простоватое, в конопушках, увидел выражение на нем и решил, что она говорила все это ему не потому, что брала и умничала — для тебя, дурак Акишиев, говорила-то она, для твоей пользы и твоей культуры. «Эй, погоди!» — крикнул он, быстро одеваясь; приятно было сознавать еще, что она его за скамеечки похвалила.
9
Иннокентий Григорьев ворвался около десяти вечера. Клавкины дети уже спали, да и сама Клавка укладывалась; теперь она сидела перед зеркалом и причесывалась, кроме всего еще вымазав на широкое свое лицо полтюбика крема. Бить Сашку Григорьев не собирался. Судьба-индейка. Жить всем надо. На берег радостный выносит мою ладью девятый вал. Оказывается, стихи из него прут! Тоже — образование. Иннокентий Григорьев похлопал Клавку по плечу.
— Что, Иннокентий? Слетел с высоты? — одними глазами, не двинувшись, в маске, засмеялась сквозь зубы Клавка.
— О вы, отеческие лары, спасите юношу в боях! — ухмыльнулся Григорьев.
— Не будь лапотника, не было бы бархатника, — зубами одними сказала Клавка. — Научится.
— Нехорошо, Клава! — Иннокентий Григорьев стал перед ней на одно колено. — И в рядовых бы годик мог твой квартирант походить.
— А чего ему в рядовых ходить, хоть бы ты и грозил? Срубленные и приготовленные деревья где лежат?
— Можно подумать, Клава, только это лежит.
— На что ты намекаешь? — Клавка резко встала, сняла маску с большого лица, глаза ее посерели, они глядели с презрением и не испытывали никакого угрызения совести. — На что, спрашиваю, намекаешь?
— На многое… Да ладно! Я заниматься ничем не стану, писать тоже никуда не буду, кто и что в бумагах создает одно, а в других бумагах идет другое…
— Говори да не заговаривайся. А то попросту и не попадешь с ними в поездку. Бузотер ты великий, это все знают. Он, — кивнула на Акишиева, тоже вскорости разберется. Останешься тут без заработка.
— Не пугай, Клава. Не лишь ваш совхоз стоит тут. Много таких совхозов на этой земле. И не во всякий отличник боевой и политической подготовки на Мошке приплывает в одиночку.
— А к нам, видишь, приплыл. И народ рад, что не будет зависеть от тебя, такого. Ты бы опять поехал и что-нибудь бы отчудил. Обвел бы совхоз вокруг пальца… А греться от твоего добра заготовленного — не погреешься. Запугал ты всех своей хитростью и ешо пугаешь.
— Да ладно! — снова произнес, уже примирительно, Иннокентий Григорьев, — какая-то ты стала невыносимая. Может, я тебе чем в прошлом году не угодил, а?
Клавка промолчала.
Иннокентий Григорьев подошел к Сашке.
— Давай, мужик, пять. Все остальное пустое. Давай пять, дружок!
Он хлопнул в подставленную ладонь Акишиева.
— Подвинься, мужик. А ты… — взглянул на Клавку, — все-таки он тебе за квартирку сполна платит. Пошла бы к себе. Кремы твои распространяют жуткие запахи. Баба ты богатая, а кремов себе никак не наберешь на Большой земле. Ты погляди вон на директоршу. У нее какие кремы!
— Директорше из Москвы присылают.
— А ты, что же, за свои деньги не найдешь, кто бы тебе присылал? Жадная просто ты. Иди, иди, не сверкай глазками. Поговорить нам с мужиком надо. С новым, так сказать, начальничком. — И ухмыльнулся.
Интерес Иннокентий Григорьев имеет. Он лесосеку подглядел сам, еще в прошлом году. Рубить там одно будет удовольствие. Вода близко. Плоты вязать — и разом все тащить можно на буксире. В лес далеко забираться зачем?
— А размер ежегодной вырубки? — Акишиев заморгал глазами.
— Размер ежегодной вырубки лесного материала с определенного участка леса только лесоруб может определить. Иным не дано. Это мы сами можем только свидетельствовать.
— Сами, что ли, определять?
— А тебе нужны в гости лесовщики? Лесовщики они и есть лесовщики. Они тебе так насоветуют рубить, что ты нарубишь, а потом долго вывозить станешь. Долго. И то останется.
Клавка уже давно ушла. Иннокентий Григорьев вытащил бутылку.
— В прошлом году, ты что же думаешь, я промашку совершил? Нет, я промашку не совершил. Я лес заготовил. Его приняли. Заплатили, между прочим. Если бы не ты, я с этого леса еще бы снял. Так ведь просто. Он лежит. Я берусь его доставить за дополнительную плату. Мало, что договор в прошлом году был. Не подрасчитали мы в прошлом году. Нам-то указали где рубить? Указали. Мы там и рубили…
Клавка вернулась к туалетному столику.
— Не забивай ты мозги человеку. Все равно ведь по-вашему не получится. Один раз обманул совхоз, то в другой раз еще не обманешь. Взяла крем «Пчелка», поджала губы. Халат у нее расстегнулся, полные ноги виднелись, белая ночная рубашка плотно облепила их. — Вы его не слушайте. В чем другом — да… А в этом… Дохлая это мышь!
И ушла, и хлопнула дверью. «Взяла бы, что ли, перенесла зеркало из моей комнаты, — смущенно подумал Акишиев. — А то мода — ходить по ночам и демонстрироваться…»
Иннокентий Григорьев не спеша выпил.
— Чего ты перед ней? Ну чего? У нас должен быть полный заработок! Узкий рот его еще более сузился, тяжелый лоб выпукло выступал вперед, неприбранные волосы неопределенного цвета вздыбились. Глаза Григорьева насупились, на скулах выступили и заиграли бугры. — Сколько всякого леса стоит! А этот вонючий совхоз наш — как опорный пункт. Мы лес, скажем, не будем рубить там, где не положено. На своем горбу тянуть станем его к речке, чтобы в плоты сбить. А геологи? Геодезисты? Дорожники? Все бросились осваивать. Лес под корень срезают. На топку, на одни заборы, чтобы свои конторы обгородить. Ей что? Сидит мягким местом на своем стуле и ждет, пока ты ей в лапы за ее старания перед директором в твою пользу не отвалил…
— Выходит, руби, где заблагорассудится? Страна большая, придут города, все равно ничего не останется — куда его беречь?
— Ты правильно понял. Руби — пока рубится. Чистые и смешанные лесонасаждения… Это в сказках. В наших краях до скончания века будет трудно ступать человеку. И лесонасаждения потому — тьфу, отпадут они. Маленькие глаза Иннокентия Григорьева сверлили с любопытством задумчивое полусонное лицо Акишиева. — Это потом люди понастроят тут всякого рода лесопильни, все под корень вырубят, вывезут… Чего, выходит, беречь? Руби, руби! Это наш заработок… Пока они станут вывозить, мы вырубим!
— Я понял, — голос Акишиева затвердел. — Понял, Иннокентий. Но пиленый лес в штабелях нужен на законных основаниях. И тот ваш лес тоже на законных основаниях поднять обязаны, погрузить в плоты и дать совхозу материал под постройку жилья. Вся и проблема. — Потянулся к своему стакану, взял его бережно в руки, долго глядел в коричневую мутную жидкость. — И геологи, и строители, и геодезисты, и дорожники, всякое они ищут и всякое, бывает, незаконно курочат. Я, Иннокентий, родился в лесах. Знаю, как у нас после войны его курочили. Я пацаном без штанов бегал… а плакал, когда лесины валились. Понимал! Жалко.
Иннокентий Григорьев набросил на свое лицо веселость:
— Да ладно тебе, тоже воспоминания! То время было одно, а сейчас прогресс.
— Прогресс теперешний начинался с той сознательности послевоенной. Лес не трогали, было. Стоят землянки, люди в конурах живут, а не трогали… А ты не туда гнешь, Иннокентий.
Иннокентий встал, взял двумя пальцами бутылку за горлышко и постучал в стенку:
— Ты все слышишь? Вот, оказывается, какого гаврика нам подсунула. Сознательный! Точно святые облизали! Ничего не скажешь! — Он нервно засмеялся. — Только в гроб лечь с его сознательностью я не собираюсь. Пуп за копейки пусть сам рвет! Хочу заработать! И чтоб никто мне не мешал!
Он ушел, хлопнув дверью.
А Клавка тут же появилась на пороге, она была уже в одной рубахе, без халата. Одной своей маской прошелестела:
— Шлеб соль эшь, а правду-матку ежь? — И маска заулыбалась саркастически, одними большими сочными губами. — Хто прямо ездит, квартирантик дорогой, дома не ночует…
И стала перед зеркалом снимать новую свою, то ли огуречную, то ли еще какую маску. Лицо ее было теперь бледнее, шея по-лебяжьи расправлялась от первых морщин, которые стали атаковать ее с недавних пор.
Он уже не думал о ней как о женщине, когда она опять ушла к себе, хотя слышны были постельные шорохи в ее комнате, вздохи и скрипения пружин. Тугое, сдобное тело, видать, воткнула она в широкую белоснежную свою кровать с красным шелковым одеялом и белым кружевным пододеяльником. «Красиво живет, чертовка», — восхитился Акишиев, раздумывая: ложиться теперь же? или погодить? Что-то подспудно тоскливое и нежное заставляло его прислушиваться к топоту звуков в соседней комнате, из этих звуков он выбирал кое-что для себя; было до духоты сладко думать о чем попало, не хватало сил отвязаться от воображения, какая-то сила, не зависящая от него, заставляла его не ложиться в холодную одинокую постель, а по-воровски жадно прислушиваться.
Он увидал альбом, оставленный, видно, той дылдой, и невольно потянулся к нему. На открытой странице, на том месте, где запоздалые кони перебегали заснеженную, заледенелую Неву, у самого берега стояли широкие размашистые слова: «С надеждой! Ваше имя я запомню среди других. У вас изумительно чистые, искренние, непорочные глаза. Да сохранит их аллах такими до дней долгих, длинных и порой не таких и счастливых. Ваш…» И шла роспись: или Козлов, или Мослов. Рука у этого или Козлова, или Мослова твердая, уверенная, размашисто-небрежная. Заметил тоже, — усмехнулся к чему-то Акишиев, и вновь увидел ее глаза. А что? Ничего, а? Теплое доброе чувство опять прилило к нему, и он, погашая в себе этим чувством желание прислушиваться к тому, что делалось в соседней комнате, разглядывал в альбоме портрет женщины с такими же, как у этой девчонки, большими черными красивыми глазами.
«Бывает же, — сказал сам себе, — бывает, а? Такая-то красота неописуемая! Как же она поедет с нами? Мы же — мужики, мужланы, а она нежная, и с такими претензиями. «Вы, пожалуйста, оденьтесь», — передразнил он, но мягко сделал это, с добром и пониманием.
За стеной уже вроде примолкло, в окно бил свет, хотя Акишиев точно знал, что в Клавкиной комнате тишина, сумрак и пахнет хорошо — духами и сладкой помадой. Он встал, потянулся до хруста, тело его, молодое и жадное, стремилось к вольнице, к каким-то своим, ведомым только ему, наслаждениям. Грудь его заходила чаще от резких движений, по мнению Сашки, успокаивающих в дури, отгоняющих разный мираж.
С женщинами Акишиев был знаком уже давно, с тех пор, как однажды пришла к ним в дом подружка старшей сестры Верка Зимина… Вот так и получилось, как-то быстро, с остервенением, гадкость потом долго преследовала Сашку, но время прошло, все это нехорошее, поспешное и трясучее улетучилось, осталась живая Верка с манящими движениями, и потом повторилось уже в лесу, когда они пошли все вместе за грибами, а Сашка с Веркой будто отстали невзначай. Сашке тогда было шестнадцать, а когда его призвали в армию, там тоже нашлась своя Клеопатра, с которой он хороводился на последнем году службы. Прибегала сама и не очень тужила, что Сашка ее не берет с собой, в свою сельскую местность. Болота, пески и рабсила в колхозном строительстве. Теперь девок не особенно, даже с восьмиклассным образованием, прельщает такая перспектива замужества.
Однако все это было словно понарошку, будто в игре. В армии он встретил третью женщину за свою не столь и доблестную мужскую жизнь; и эта женщина, молодая, разведенная — были они тогда в летних лагерях — открыла глаза Сашке, что кроме всяких дурацких этих всех и тому подобное, есть какая-то еще никем не описанная тайна. Двое счастливы. Другим это порой не понять. Счастливы не только от слов, но и от того, как нечаянно когда прикоснулся к теплой руке. И или, когда, скажем, слышишь на ветру шорох платья любимой женщины. Это все — любовь. Не только ведь постель. Счастье — это все в любви. Это частичка жизни.
Только одно в этом не совсем правильно — ты не чувствуешь такой же ответной радости прикосновения все тебе толкуют про какого-то Володьку, который и такой, и сякой, и немазаный-сухой, но он, можно сказать, гигант земли, пуп, а все остальные против него маленькие блошечки. Та, третья женщина, продолжала любить другого.
Так обожать обидно. Не растратив себя, Сашка на полпути своей влюбленности приостановился, сказал: «Володька, так Володька», катись-ка, Маша, к нему в буфет и спасай его от запоя. Слова эти он вынул из себя, потому как грубить ей ужасно не хотел — разорвал грудь, вынул эти слова и в лицо ей бросил, раскаиваясь и теперь, когда об этой женщине серьезно думал.
Клавка же его теперь травила своим шуршанием и мягкими утиными охами. Акишиев застегнул окна темными шторками, чтобы больше не думать, как сбежать от этого всего подальше, сел на кровать, она тяжело хрустнула, как бы разламываясь напополам. «Тишком да ладком, сядем рядком, — засмеялся, сухо глотая воздух. — Надо закрывать эту лавочку… Так я сам напрошусь к ней. А что дальше? Ведь она, кроме меня, будет иметь много мужчин. Они все липнут к ней… Гляди, опять бельем шуршит, ленивица! Сними-ка, понял, с себя ледяной покров… Или мне пойти все с нее сбросить, а? Что ты там хочешь? Завлекаешь?»
В окно в это время постучали. Акишиев вздрогнул от неожиданности, откинул штору и увидел ту самую дылду. Он выругался.
— Чего тебе еще?
— Альбом я оставила у вас, — закричали у окна.
— Сейчас, — сказал зло Акишиев и пробормотал: — Альбом… Чего, съем, что ли, я его, твой альбом? Полежал бы! Однако он вспомнил про надпись в этом альбоме и хорошо о ней подумал: видишь, не хочет, чтобы тайны чужие кто-то топтал, это она из-за того только и пришла!
Акишиев и потом не ошибся.
10
Гроб, между тем, транспортируемый вездеходом Крикуна, прополз средь двух бугров, в снежистой лощине. Натыкаясь на железные цепи, мокрые веточки маленьких деревцев умирали, сырые чернеющие ящики замелькали неподалеку, как только вездеход взобрался, выкарабкавшись из снежного месива, на очередной пригорок; в ящиках на подставках были погребены умершие и недавно, и давно, сорок-пятьдесят лет назад. На кладбище давно уже хоронили и русских, и ненцев рядом. Русские могилы долбились в земле, а ненцы ставили ящики, рядом с которыми клали вещи покойного, от чайника до мотора для лодки.
Вырытая с утра яма-гробница Сашки Акишиева подтаяла от проглянувшего на часок солнца, внизу набралось немного воды, она утопила черные комья земли, солнце зашло теперь за грозную тучу, мелькавшее в воздухе ненастье приближалось, и все вокруг было как-то серенько, угрюмо, мрачно. За гробом, провожать покойника шли лишь Нюша да те, что по службе; лишь постепенно появлялись люди; и так как новое Сашино захоронение не было делом привычным, царило молчание; наступило оно, по всей видимости, вследствие недоумения, ужаса, какого-то еще неосмысленного переживания от того, что разнесся слух: Клавкины подозрения не подтвердились.
Несколько гвоздей вновь вогнали в гроб. Долго возились. Люди начали шептаться:
— Ужас, ужас!
— И чего жизнь творит!
— Гробокопательница идет, — вдруг сказал кто-то.
— Ага! Ученая… Занималась изучением состояния… — Кажется, так путано брехал и Метляев.
— Обе они любили до гробовой доски, — засмеялся Иннокентий Григорьев. Он кивнул на Нюшу, что стояла в молчании.
— Одной ногой тоже стоит в гробу, — хмыкнул с удовольствием Метляев.
— Есть место им в полях России среди не чуждых им гробов, — глумился бывший бригадир, знаток коротких поэтических строчек.
Клавка подошла к гробу, который был уже приготовлен к спуску в яму.
— И гробовой-то ласки нету, — запричитала она, белым кружевным платком обтирая посиневший от слез нос. — Чего же ты не поглядишь на меня? Гробовое-то твое молчание, гробовая-то твоя тишина мне-то, родной мой, лишь осталося… от тебя… Не в мавзолее и не в гробнице хоронила тебя, а теперь-то и вовсе вон водичка внизу, поставлят в эту водичку, и не буду я даже во сне спокойно спать от страха за то, почему лежишь ты так неуютно!
— Уведите ее, — сказал молодой следователь.
Метляев подбежал к Клавке.
— Сама ведь хотела, — сказал он. — Чё кричишь-то теперь? Лежал бы и лежал!
— Ишо не вечир! — хрипло крикнула на него Клавка. — Чего заегозил? Глаза ее были сухие и колючие.
Бурное ненастье, которое накапливалось еще с утра и с каждым часом все больше и больше, опрокинулось на людей, ненастье полыхало с громом и молнией. Вроде все смеркнулось после первых белых веток на небе. Полил такой густой дождь, что в минуту искупал всех до нитки. Он лил и на гроб с упавшей вдруг на него Нюшей; молодой следователь оттаскивал ее за руку, но она не давалась и повторяла у гроба:
— Пускай, как хотите! Пускай!.. Все будет потом!.. Теперь же сейчас… Мое…
Мертвец лежал не шелохнувшись, хотя гроб ворочали, удобно устанавливая на илистом водяном днище гробницы. Такая была мука и в «загробной» жизни: размывались дождем пшеничные Сашкины волосы, сжатые от времени в отдельные пучки; пучки эти были похожи на вылинявший мертвый парик, постепенно все завлажнялось: и лоб, и эти пучки смертных волос, вода текла уже из волос по желтому Сашкиному лицу.
— Все вело к гибели, к уничтожению! — Нюша будто потеряла рассудок. Сашенька был у них всех смертником! Он за всех их работал! Из последних сил старался!
Так больна была она, так слаба. Было похоже, что она такая, что и сама закончит свое земное существование. Легкая, тяжелая смерть… Для нее, стоящей между жизнью и смертью, право выбора жизни и смерти тоже не было — все это было вне ее, тихо рыдающей над вновь вырастающим холмиком, под непрощающим злым Клавкиным взглядом.
Грозная туча лила и лила, высеивая освежение. Лето в тот год было очень уж грозным.
11
…Сашка отворил окно и крикнул:
— Эй, как тебя там… Погоди!
Нюша остановилась, вроде и ждала этого. В руках она подбрасывала альбом, который только что через окно подал ей Акишиев.
Большой поселок спал при дневном свете, в домах кое-где, у порогов, дымили самодельные коптилки, еще перед сном налаженные против гнуса. Нюша, обвязанная платком, словно сельская модница, хлестала уже по голым своим ногам березовой веточкой — не помогал и репудин.
Акишиев, большой, шумный, появился минут через семь-восемь, потому как Нюша следила по часам, сколько будет его ждать.
— Послушай, — сказал Сашка. — А кто такой этот у тебя Мослов или Чижов, или Кузнецов?
— Подпись-то?
— Ну.
— Человек интересный, — Нюша прижала альбом к груди. — А вы зачем подсмотрели? Я же оставила нечаянно.
— А что, на нем такого написано было, что оставила альбом-то этот нечайно?
— Все равно, чужие вещи с секретом разве так в упор разглядывают?
— Подумаешь, секрет нашла. Сырцов, Чижов, Мослов… Чего ты с ним, дружила, что ли, что он тебе так про глаза написал?
— Может, и дружила. Вам-то не все ли равно?
— Не все ли равно, — усмехнулся Сашка, — а вдруг ты сорвешься к нему? Вы же, девки, теперь какие? Чокнутые! Вам все вынь да положь…
— Надо, Саша, говорить вынь да положи, — назидательно сказала Нюша. А знаете, — без перехода, — правда, Метляев весь какой-то серовато-мутный, какой-то изъеложенный, какой-то деревянный…
— С чего ты взяла меня заводить против него? — опешил он.
— А вы что, сами не замечали? На нем, посчитайте, сколько красок?
— Причем здесь краски? — опять пожал плечами.
— А вы что, на самом деле не знакомы с этим? Вот вы, какой теперь на себя слой кладете? Я, к примеру, только первый.
— Ничего не понимаю.
— Как же? Первый слой только кладем, первую краску. Какая она? Потом хоть и идет подмазка, загрунтовка, которой покрывают холст или дерево, чтобы писать новыми красками, но на первом ведь слое все держится!
— Ну, загнула! — отлегло у Акишиева от сердца. — У нас-то с тобой, надеюсь, красные краски.
— У меня — да. А вот с вами я еще не совсем решила, зато Метляев серовато-мутный.
— Так вот ты и будешь в группе жить с белилами? Э-э, брат! Наповаришь ты, гляжу! — Но в голосе Акишиева звучала неподдельная доброта, он улыбался хорошо и просветленно.
— Группа, товарищ Александр, это совокупность лиц, объединенных общностью идеологии, скажем, научной, художественной, политической, или профессией, хотя бы… А жить, лишь бы не грохнуться, нет, я тут вам не помощница. Серовато-мутных надо выявить! Из группы — долой!
— Ну, даешь! — Сашка уже заинтересованно глядел на неуступчиво сбившуюся Нюшу. Она перестала хлестаться березовым прутиком, стояла, напружинясь, не сдающаяся.
— Вы мне скажите, можно и здесь грунтовый сарай сделать, чтобы персики выращивать? Да, можно, я вам отвечу! Только сарай надо загодя ставить, чистыми руками.
— А как сарай-то будем ставить? Вдоль или поперек?
Она расхохоталась. От болтушка, от дуреха! Дело принимает хороший оборот, а я праздную лентяя, демагогией занимаюсь. Человек думает создавать по своему образу и подобию, в незапамятные-то времена таких героев-одиночек не бывало…
— Чего, коза, бурчишь-то? — Какое-то особое чувство, что-то вроде братней любви к этой длинноногой, высокой девчонке восплыло в Акишиеве. Он возрадовался ее хотению «лечь в бою», желанию в свои годы не хныкать, не киснуть, а делать предстоящую работу с ним разом.
Акишиев нутром безоговорочно принимал людей долга, каких бы характеров не носили они с собой; другим-то, вечно скулящим, таким, действительно, как Метляев, небо с овчинку кажется, а эта — не уродил мак, перебудем так! Нет, не заплечный мастер, как Метляев. Но не суть важно это — само желание уже кого-то служить делу на этой поре подняло и удовлетворило Акишиева. Научится! Научится не болтать на ветер, научится глотать клубок в горле, глотать слезы, научится дело справлять. Только, конечно, не стоит так и Метляева чернить. Пока на нем каиновой-то печати нет, в изменниках не ходит, братоубийством не занимается, мыкает век в своем костюме в клеточку. Склонить к себе! В каждом-то из нас непочатый родник добра. Надо расколыхать. Всех чистых нет, не найду. Не ела душа чесноку, так и не воняет. А к Метляеву надо подходить не с нажимом, иначе дело труба, табак, швах!
— Куда идем-то мы с тобой? — Через какое-то время Акишиев игриво спросил ее.
— А в тундру! Тунтури зовется… Ах, товарищ Александр, люблю такие пути-то! Идешь, идешь, идешь! — Засмеялась, вскинула руки над головой, в правой руке она держала альбом, он увидел этот ее альбом и вспомнил о надписи с какой-то симпатией. — Чехов как говорил? Не помните? Если в Европе люди погибали от того, что тесно и душно, то в России от того, что просторно и нет сил ориентироваться.
Он захохотал:
— Где вычитала, что ли? Или этот Мосолов или Проселедкин сказал?
Тоже засмеялась:
— Вы чего же, ревнуете?
— Давай сядем.
Она послушно остановилась. Акишиев бросил на землю свой плащ. Пересиливая что-то вдруг нахлынувшее на него, как тогда там, в Клавкиной избе, все-таки сдержал себя, вроде лениво на земле развалился, оставив ей местечко. Она осторожно присела, испуганно глядя на него.
— Чего боишься-то? — хрипло спросил он, приобнимая ее большое, но, оказывается, такое маленькое тело. Она вся сжалась, напружинилась каждой часткой.
— Ой, — вдруг вскрикнула, — капля росы! Глядите! — И, бережно отстраняя его цепкие жадные руки, высвободилась. Он тоже нехотя нагнулся, увидал эти чистые капли росы, ему стало хорошо: и глядеть на них, и сидеть рядом с ней, такой теплой и трепетной.
На другом берегу речки рассеивался туман. Там была видна водопойная тропа. Отвлекая себя от желания, медленно он оглядывал ее, потом стал, опять же пересиливая этим желание, исследовать противоположный берег: скаты к воде, первую траву в сочной свежести. Видно, по земле шел ранний рассвет, капли росы не таяли, а наполнялись светом. «Вот так и мы, чем-то хорошим наполняемся, — подумал он, вновь притягивая ее к себе.
— Чего же ты? Ну почему?.. Так хорошо-то и легко, почему?
Призывный дрожащий крик оленя огласил неожиданно всю эту притихшую землю, он поплыл по воде мягко и сладко, утонул в дали, в светлеющей восточной части неба и речки, куда доставал глаз; они увидели этого оленя, он гордо вышел на тропу, а потом появился другой олень, такой же красавец, такой же чистый и напряженный. Они сошлись рога в рога, лоб в лоб… Бились, дурашки, долго. Один, первый, не выдержал и побежал. Второй победно вскинул голову и, когда тот скрылся из виду, упал на колени, теплая морда его, видно, достала воду, он весь трепетал, это было видно и отсюда… Нюша, приподнявшись, во все глаза глядела на гордо вынесшегося на бугор оленя.
— Пу! — услышали они вдруг рядом.
Нюша испуганно отшатнулась.
— Чё ты боисся-то? — Откуда он взялся, этот Метляев! — Вон, гляди, что в газетках пишут: не девки пошли, а черти с рогами, — дерутся, курят… А ты боисся? — Он расхохотался.
Потом, когда Клавка приезжала к ним туда, на лесосеку, было это уже на следующий год, она Сашку хлестнула по щеке: «Вот тебе, вот тебе!» Метляев осклабился и припомнил: «Во, бабы! Я же говорю, разбойницы! Хуже мужиков дерутся!»
12
Солнце выглянуло всего не надолго и тут же заволоклось сиреневым пожаром и облаков, и речной глади; немного позже там, в западной стороне неба, облака заиграли другими красками: от дымчатого до зеленого, от розового до полупрозрачного; то шел цвет темного угля, с вкраплениями васильковой сини, то нежно-голубая незабудка причудливо образовывалась узором и, умирая, уже не могла никогда повториться.
Холмик, украшенный крупными каплями чистого дождя, лежал под этими небесными красками, как в огромном мавзолее, на тысячу верст стянутом северным небом, все менявшим цвет, как растения перед грозой; как мать-и-мачеха, гусиный лук, ветреница; менялась окраска цветков-горизонтов, листьев-куполов…
Нюшу вела учительница, и Нюша порой уже заговаривалась, она твердила по пять раз одно и то же: «Отпустить — это счастье сильных, взаперти держать — мука слабых!» Или: «не любила свою находку, полюбишь — потерю!» Они шли вдвоем, давно все разошлись по домам, поселок укладывался на боковую.
13
…Так уж случилось, но из десяти человек Акишиевской бригады, шесть собралось у Иннокентия Григорьева. Чуть ли не вся артель. Не хватало лишь самого Сашки, Нюши и куда-то запропастился Метляев. Сашку, как известно, час назад похоронили в другой раз, Нюшу увела к себе сердобольная учительша, которая мимо кутенка хворого не проходила равнодушной.
К Иннокентию сбились потому, что, во-первых, он мужик не дурак, с головой; ведь был же он у них до Сашки вожаком, не больно-то и больше с Сашкой зашибли. Во-вторых, кому-кому, а вновь, на лето глядя, возглавлять коллектив надо Григорьеву. В-третьих, собрались сомкнутыми рядами, потому что у него всегда можно было организовать знатный выпивон — не наспех, а солидно, по чести и достоинству.
Тем более, Иннокентий вчера слетал на своей лодке с подвесным мотором — зверь! — в район и привез ящик охотничьей водки. Где он достал, одному богу известно. Приволок из погребушки марасол — рыбу, правда, прошлогоднюю, но сохранилась, стервя (так Иннокентий обычно выражал высшую похвалу всякому товару — вместо слова «стерва»), аж тает на губах.
Баба Григорьева старательная, чистенькая, зная о том, что ее мужик зря суетиться не станет (и то — возвращается на место старшого, одно это чего стоит!), металась из кухни в столовую. Было где ей развернуться! Григорьев занимал четырехкомнатную квартиру со всеми, как говорят, коммунальными выгодами. Таких комнат даже в таком видном поселке было немного. Здесь — простор, отличная высота стен. И все хорошо устроено. Стол был тоже большой, сбит из дубовых досок, выскоблен добела, а на стульях понавешены фартучки и разная другая мишура — чтобы стулья оставались чистыми. В общем, все свежо, широко, все уютно. И люди здесь расставлены — вроде тут вечно и жили. И даже волосатый громадный Мокрушин не глядится в этой квартире, как что-то гигантское и пещерное.
Хозяин сегодня был не совсем и здоров — вчера, легко одетый, видно, простудился. Зябко кутался в теплую вязаную кофту. У него было заостренное, гладко выбритое лицо. Был он, конечно, расстроен, да опять же — Сашка, Сашка… Что губит-то нас? По-прежнему, как в старину, — водка, карты и бабы. Скажем, до водки — умеренно, карты — лишь в дурака, а в третьем сплоховал. Это же не город, братцы, где жена дознается про любовницу после смерти мужа. Чего, говорит, вы цветы носите сюда? А это, отвечает, — мужу. Как мужу? Это я жена! И я жена! Но он же и ночевал дома, и деньги носил в дом… А нам, говорит, тринадцатой зарплаты хватало и перерыва. Ха-ха-ха!
Все засмеялись, особенно Васька Вахнин. Этак заржал подхалимски, даже Иннокентий поморщился.
Иннокентий продолжал развивать тему отличия городской любви и любви здешней, любви по-северному. То есть, когда двух сразу любишь. Конечно, Иннокентий оглядел братву трезвым своим взглядом, — как и в старину, так и теперь про мертвых или хорошо, или — молчи, не говори вовсе. И про Сашу я ничего плохого сказать не хочу. Однако напряжение было. И когда жил — все же на глазах у них с Нюшей происходило. И помер когда, а Клавка затеяла это клиническое обследование. Гляди-ка далее! А вдруг — отравление? А Нюша не при чем? Выходит, кто-то из нас! Потяни ниточку! Или мы не выступали против Сашки? Ой, братва, не завидовал бы нам всем, если понеслась бы разборка! Каждый — человек. Каждый по-своему отбрехивается. При этом следователь только и ловит, на его взгляд, признания в совершении чего-то, чего и не было.
Все примолкли, очень удивились прозорливости Иннокентия. Ага, вляпались бы! Иннокентий теперь выглядел прочным, умным вожаком. По-мужицки понимающим все, что кто-то еще своим умом не додумал.
Метляев зашел к ним, когда поехали по третьей. Удивительно по-пижонски выглядел он: белые брюки, молочного цвета туфли с дырочками, рубашка в клетку и цветной шелковый галстук. Перед тем как сесть, Метляев вынул платочек и положил его на белоснежную подстилку.
Все к нему привыкли и потому не стали докучать шутками. Лишь Мокрушин нехотя глянул на его аккуратно уложенные волосы с четким пробором и загудел:
— Што, в бане был?
— В бане, — буркнул Метляев.
— Вот как поддал, — крикнул Васька Вахнин, — и дождя не заметил. Первый же захохотал. — Ты, Мокрушин, небо-то в году раз видишь?
— Вижу, — прогудел Мокрушин. — А те чё, показать его?
— Покажи ему, покажи! — подтрунил кто-то.
— Он ему в следующий раз покажет, — сказал Иннокентий, глядя не по-доброму на Ваську, затевающего бузу, — Мокрушина в трезвом виде не тронь. — Я, братцы, предлагаю выпить еще раз за нашего друга и товарища, наполним рюмки и поднимем их по обычаю, не чокаясь. Поехали!
— За Саню!
— За Акишиева!
— Пусть ему в другой раз земля пухом станет!
— Чтоб все было хорошо…
— Дай бог ему здоровья, — болтнул кто-то, не зная сам, что говорит.
— За упокой души…
— Вдуматься, хороший мужик сгублен.
Застучали вилками, тарелками. Ели рыбу. Ели салат. И говорили уже громче обычного. Пьянели на глазах. И это от того, что хозяйка, по наущению Иннокентия, к охотничьей водке подкинула несколько бутылок спирта — девяносто с лишним градусов. Причем, никто не отказывался. Метляев, например, с Мокрушиным дербалызнули по чайному стакану. Причем, Метляев не закусил ни грамма. Единственным, кто не внял расплывчатым словам Иннокентия про Сашку, был Метляев. Ему сразу не понравилось, как Иннокентий, говоря о Сашке, в общем-то утаптывает его в могилу поглубже. Хотя сам и предупреждает: о мертвых плохо говорить не стоит. От всего этого, от этой какой-то хитрой паутины, оплетавшей прах Акишиева, Метляев наливался свирепой ненавистью и к себе, и к Иннокентию, и даже к молчуну Мокрушину, неустанно пьющему, как перед потопом.
Что-то в словах Иннокентия Метляева не устраивало. Не мог он этим словам радоваться. За что же на Саню-то? Да впервые Метляев — он, Метляев! — с этим парнем почувствовал себя нужным, не просто человеком, зарабатывающим куски-тысячи, а интересно думающим о том, как и куда пойдут по цепочке — слово-то какое привязалось! — все эти поднятые будущие пиломатериалы, которые они-то заготовили с Григорьевым в том месте, откуда их было не поднять. Поднял их Саня! Умом своим поднял, пупком и разными механизмами. Чего же тихо глумиться над мужиком? Чего плести паутину? Чтобы личность свою выпятить? Да гроша ломаного не стоишь ты, Григорьев, против Саньки!
Иннокентий, чутьем собачьим уловивший перемену в настроении Метляева, раскрасневшийся, подобревший, в этой уже общей полупьяной суматохе сменил свое заглавное место и подсел к Метляеву, все еще пытающемуся оберегать складки на своих отменных брюках.
— Ну, давай выпьем, — сказал Иннокентий, приобнимая своего дружка.
— Давай, — согласился Метляев.
— Давай выпьем и закусим.
— Давай…
— Закусим, потом опять выпьем, на воздух выйдем.
— Давай…
— Чего ты сегодня? Раскис, побледнел?
— Чего?
— Да, говорю, не такой какой-то…
— А-а! Думаю! Ты, говорит, Коля, что? Я подсматривал за ними, а он: ты, говорит, Коля, что? Ты, Иннокентий, никогда так с людьми по большим праздникам не говорил… А он думал обо всех. А ты в разговоре всегда на макушке, наверху… Вшивые мы с тобой одиночки, куколки в белых штанах и вязаных японских кофтах!
— Ну, это ты, допустим, загнул, — по-дружески обнял товарища Григорьев. — Я, к примеру…
— Ага, я. Видишь, я… А Санька говорил мы. Он это мы даже объяснял. Пусть и со слов Нюшкиных. Умное-то он налету подхватывал и внедрял. Понял, внедрял!
— Так он же из армии только вернулся, — попытался сгладить шуткой Григорьев.
— А мы с тобой, значит, не были там? Ты умным себя считаешь после этого?
— Да демагогия все это! — стал нервничать Григорьев.
— Демагогия? — Ты меня тогда, Иннокентий, извини.
— Ну кто говорит, что такие вещи демагогия? — Григорьев попятился назад. — Такие вещи, конечно…
— Такие вещи складываются из дела, ты понял меня! А его дело на виду! Ты, извини меня, нагадил, а он за тобой лес вытащил.
— Не ты, а мы, — сцепил зубы Григорьев: ему начинало все это надоедать.
— Извини! Тут извини-и! Не мы, а ты! Тебе Мокрушин, скажем, говорил, что это бросовое будет дело? Говори, говорил? Говорил! Мы рубили-то в такой низине, что канал потом какой рыли? А рыл-то день и ночь Саня первым. Вот он и человек. А мы с тобой эту свинью подсунули. Демагогия?
— Ты что же думаешь? Он там надорвался? — не выдержал Иннокентий и стукнул по столу кулаком. — Да ты погляди на всю его жизнь! Его люди надрывали без нас с тобой! Твой коллектив надрывал, объединенный общими делами и общей работой! В групповых объединениях он твоих надрывался!
— Из-за нас, таких! — грохнул и Метляев. — Из-за меня, тебя на пуп пер! Ты, оказывается, тоже пронюхал, какой у него диагноз? Пронюхал?
— Заткни глотку!
— О-о! Заткни глотку! Бить будешь? Пьяного бить будешь? Сам-то ты не пил, хитрый! Сам-то ты в начальство к нам лезешь, как купец, споив быдло! А Саня: ты, говорит, Коля, что? Я подглядывал, что они разлеглись-то, а он говорит: ты, Коля, что? Бей! Бей, падла, штаны мои новые рви! Зачем они мне, если я после всего голым хожу по миру! Я прикрываюсь, а люди тычут: «О, это ведь из-за него Саня-то наш помер! Не от отравы!»
— Ты ведь сам, дешевка поганая, всем долдонил: отравили, отравили! В новых-то штанах Клавке в… въехать хотел… И свою Зиночку отправил на Большую землю. Да, знаешь, что я из тебя сделаю коклетку на закусон!
Иннокентий Григорьев попер было на Метляева, но вдруг встал громадный Мокрушин поперек комнаты:
— Не смей! Больше пальцем никого не тронешь, ежели в артели оставим!
— Значит, бунт на корабле? — Иннокентий еще храбрился.
— Баста! — Мокрушин горой насунулся над столом. — Нельзя, братцы, после Сани жить по-зверски. Невмоготу это мне, к примеру… Как хочете, братцы!
— И мне тоже, — засуетился Васька Вахнин.
— Ты бы замолк, застегнулся бы на засов. — Метляев, покачиваясь, вышел из-за стола и направился к выходу.
Испепеляюще глядел на них Иннокентий Григорьев.
14
Все на земле угомонилось. Даже птицы и те притихли. Интересно было за ними глядеть: уйма их сюда наприлетала, с самых неожиданных направлений шли они гнездиться; летели и с юга, и с севера — птица-то войдет в полосу хорошей погоды и по ней, этой полосе, поворачивает к дому, к своим гнездам… Люди в количестве девяти человек — не птицы, приползли они в эти болота на железных колесах. Хатка оказалась, естественно, не занятой, в первые же часы загула печь, так натопилось, так жарко стало, что ночью сбросили с себя одеяла, хотя на дворе было холодно, ненастно.
За окном шумел лес: кедровые сосны, березовые рощи, расправлялись травы: купальница, кровохлебка, крапива… Акишиев встал, ему не спалось. Одел болотные сапоги, накинул брезентовый с капюшоном плащ и, чтобы никого не будить, пошел к месту, где лежал неподнятый лес.
Он прошел мимо сидящих под навесиком Метляева и Васьки Вахнина. Васька весело пытался врать, как он в позапрошлом году собирался строить межмикрорайонный общественно-торговый центр, рассчитанный на 30–35 тысяч жителей, возводится он, между прочим, в Харькове на Московском проспекте, близ станции метро, где Васька когда-то жил со своей первой женой. Ребенок у него там, мальчонка Славка. Понимаешь, в душу, язви те возьми, запало такое желание — хоть одним глазом поглядеть иногда на мальчонку. Он же мой!
Почти двадцать дней он там проишачил, жена его первая уже, конечно, живет с хахалем, а Славку — такая мстительная — отправила на лето в деревню. Скучно стало Ваське, жена в батистовом платье с вышивкой, в джинсовых босоножках, а хахаль ее в бархатном пиджаке, Ваське же ребенка собственного не показывают; хотя не знал он, долго ли будет жить в этом городе, дружок на работе успокоил: хороший левак укрепляет любой брак, и когда осыпались последние листы, запил он по-черному, один на один. Почему, как? Они живут, а Славка же тоже человек. Приходит он в жизнь, ничего не может, руки у него слабые, ноги у него слабые… Ну чего ты, Метляев, смеешься? Все ведь за него решают баба, с которой я не разведен, и ее хахаль в бархатном пиджаке. Славка-то, поди, хитрил — у него чуть что — слезы, в губки лезет целоваться. Немудро жизнь построена перед ними!
— Что же ты хочешь, чтобы он с тобой по здешним болотам таскался?
— Я? Я хочу, чтобы он в суворовское пошел. Загубят они его.
Акишиев специально замедлял шаги, гасил их топот, чтобы послушать Васькин разговор. Забулдыга. Вот тебе и забулдыга! В каждом — человек сидит, — улыбнулся про себя Акишиев, углубляясь в тайгу.
Дождь все сыпал и сыпал, хотя просветлело, уже и не такая мутная неразборчивость была вокруг. Вдруг в тишине что-то хрустнуло, Акишиев оглянулся. Тьфу ты, лешая! Стояла Нюша, тоже в болотных сапогах, в плаще и косынке. Она как-то в этой сумрачности помельчала, даже ростом вроде меньше стала.
— Ты чего? — спросил он.
— А я с вами, можно?
— Сама пришла и сама спрашивает: можно! Что я место занял все — иди!
— А куда вы?
— Как куда? На рекогносцировку.
— Значит, на разведку?
— Считай и так.
Пошли молча, он вышагивал, не заботясь о ней, но Нюша не отставала ни на пядь. Чего бы ей идти? — думал Акишиев о своем деле. — Лежала бы в тепле. Завтра ведь вставать чуть свет. Но ему было хорошо, неодиноко. Пусть идет. За мужиками-то тоже так вот шли по глухомани. Ведь шли же первые здесь когда-то. Упорства у них было ой-ой-ой! И бабы шли за мужиками. Теперь, гляди, край-то полнится делами какими… Спать-то и нам некогда! У него было какое-то особо приподнятое настроение: доехали, как птицы долетели, благополучно, схода и в бой бы!
Он давно уже рвался к работе. С директором они приезжали сюда, он кое-что прикинул и наметил, и сейчас хотел еще раз убедиться, что прикидка его не высосана из пальца — болотный мужик, Акишиев знал, что в прошлый раз не ошибся. Теперь он ее, прикидку свою, подбрасывал, как циркач, и так, и этак поворачивая ее в свою сторону. Рядом шла и что-то бормотала про себя Нюша. Ему стало еще хорошее, и он спросил полушутливо:
— Ты что шепчешь-то? Молишься?
— Ага, — засмеялась она грудным смехом. — Послушайте молитву-то! Неподвижно стояли деревья и ромашки белели во мгле, и казалась мне эта деревня чем-то самым святым на земле…
— Ты еще и стишки сочиняешь, девка.
— Да вы что? Это же Рубцов! Вы что, не знаете?
— Нас в армии учили другому.
— И этому учили, неправда!
Он остановился, удивляясь ее непримиримости и серьзности.
— А ну, а ну как, скажи еще, — и когда она, краснея, вновь выпалила ему этот куплет, он согласился: — Да, ты права!
— Правда, понравилось?
— Понравилось, — искренне признался он: что-то и на самом деле защемило от простых и незамысловатых слов.
— А я еще знаю, — обрадовалась она. — Хотите прочитаю? Правда, вы уж меня не ругайте, когда собьюсь…
— Валяй, — привалился он к кедрачу, закуривая. Лопату, которую нес с собой, воткнул в землю и на нее облокотился потом, внимательно Нюшу разглядывая.
Она покрасивела, ноздри как-то разошлись, стали резко-белыми. Ты, гляди, бабочка, — ахнул он.
— Как я подолгу слушал этот шум, когда во мгле горел закатный пламень! Лицом к реке садился я на камень и все глядел, задумчив и угрюм, как мимо башен, идолов, гробниц Катунь неслась широкою лавиной и кто-то древний клинописью птиц записывал напев ее былинный…
Что-то опять сжало Сашкино сердце, к горлу подступила какая-то сладкая тревога.
— Погоди, погоди! — перебил он. — Ты что-то читаешь, мать моя, такое, о чем я теперь же, когда шел, думал! О прадедах наших думал, ты уж извини, — он засмущался, — про ваш пол думал, — уже хохотнул. — Как шли, как делали… Ужасно это хорошо, а? Как думаешь? Оставили-то нам что, а? Замечательное, дева, оставили все!
— Это так тоже и писатель сказал, — восхитилась она.
— Да-к, выходит, верно. Писатель-то думы наши и подслушивает. Сердце у него — как локатор, ловит все хорошее.
Нюша стояла и с восхищением глядела на него.
— Вот, оказывается, вы какой!
— А какой?
— Замечательный. Ну право, право — замечательный! Можно я вас расцелую?
— Так целуй.
Она подошла на цыпочках и нежно чмокнула его в щечку. Место это обожглось губами, он вздрогнул и неистово привлек ее к себе, стараясь поймать ее большие губы.
— Ой, ой! — простонала она. — Не надо-о…
— Чего не надо-то? Чего? Чего ты боишься-то?
Она вырвалась и пошла от него.
— Погоди! Ты неправильно меня поняла! Погоди! Я ведь серьезно… Я и жениться… — Он говорил горячо и бессвязно.
Но она все шла, не оглядываясь. И так в молчании они прибыли к наваленному в ложбине лесу.
Лес мок в воде, но вода эта была местная, из реки не зашло и капли.
Акишиев был уже вроде иным. Вроде ничего не случилось. Он не хотел вспоминать, что было с ним всего-то несколько минут тому назад. Только про себя шептал: «Ладно! Ладно! Занимайся, Саня, делом! Все то — потом». Отмеривая шаги, вдруг направился в обратную сторону, к ближайшему озерцу. Он мерял, сколько же до него метров, и она, все еще недоверчиво глядя на него, шла за ним.
Она его поняла потом — вот здесь надо прокопать, к озерцу, а там, до реки-то — пятнадцать шагов! Ловко! Он решил вызволить этот лес волоком, по воде, но для этого — прокопать канаву. Сколько тут работы?
— Когда думаешь начать? — Нюша перешла на ты легко и непринужденно.
— А вот теперь же и начнем! — засмеялся он радостно и смущенно, приглушая смех, спросил: — Не обиделась, коза, за глупость?
— Глупость и есть глупость. Вот это посерьезней, товарищ Александр! Она кивнула на порядочное расстояние, отделявшее наполненную водой ложбину от озера.
Когда Акишев закричал «падйомм!», лишь Васька поначалу схватился за свои штаны и рубаху, но, увидев, как все спят, тоже улегся.
— Подъем, ребята, — уже тише, сказал Акишев. — Работать пора!
Иннокентий поглядел на светящиеся часы и серьезно сделал предупреждение:
— Ты, бригадир, что, псих? Три часа мы всего и отдыхаем.
— Вода уйдет, копать надо по-быстрому! — Акишиев говорил все тише.
— Какой замок, какие двери? — вызверился Метляев. — Чего ты? С бабой не нажался, и, понял, — падем!
— Дурак, ты, Метляев, осел! — Нюша стояла на пороге.
— Аллах с вами, — сказал Акишиев. — Потом сами жалеть будете!
И ушел в дождь. Нюша пошла за ним.
— Жрать сами будете готовить! — крикнула зло она и хлопнула по-мужски дверью.
— Видал, — паскудная баба, — заметил миролюбиво Метляев, укладываясь опять в постель. — Она же тебя и пугает еще.
— А чего? Родственница директора, — хихикнул Васька Вахнин. — От, падла, жизнь покатила. Все на блате, все на знакомствах. Ты, думаешь, эти брючные костюмы моя бывшая баба как достает? По блату-у! Хахаль у нее парикмахер, понял! Модные прически делает… А я, рабочий класс, сука буду, о-о, погляди! Хожу в такой робе! Для кого жизнь пошла? Для мясника, для спекулянта, для…
— Заткнись! — Мокрушин давно уже поднялся и, кряхтя, охая от удовольствия своего здорового существования, одевался.
15
Поселок лежал на голой земле, буграми спадающей к речке Сур, с каждым днем убывающей все больше своими водами далеко, в океан. Три ряда деревянных двухэтажных домов были выстроены лицом к речке; это были новые дома, поставленные уже за два года директорствования Зяблова; он жил на втором этаже, занимая с семьей четыре комнаты, одна из которых принадлежала Нюше. Здесь, правда, она не жила, как только поползли слухи об отравлении.
Да и уходу отсюда, из директорской квартиры, предшествовала небольшая горькая сценка. Обычно она жила с директоршей в нормальных отношениях. А тогда… Тогда на дворе лежал снег он уже был мертвый, заноздрился, почернел. И вот на этот снег, Нюша однажды выплеснула испитый чай, выплеснула неподалеку от колотых директорских дров. Как озверела жена директора! Была это хорошо сохранившаяся тридцатипятилетняя женщина, по специальности врач. Тут она решила заменить санэпидстанцию. Уж как она долго и грязно кричала на Нюшу за ее промашку. Тут будет зараза, тут все отравятся! «Чтобы я не видела вас!»
Нюша пыталась сперва отшутиться, но ходила она в эти дни, как в воду опущенная, шутка прозвучала жалким оправданием, и это вроде подстегнуло жену директора. У нее возник хамский назидательный зуд, она орала хрипло, никогда раньше Нюша подобного от Зябловой не слыхала.
— Игрунья! Интеллектуалочка с мизерным мировоззреньицем! Сними розовые очки! Несчастная снобка! Проживешь ты несчастный отрезок своей книжной жизни в вакууме! И тебе, и твоим так называемым друзьям надо подумать о смысле всего существования!
Нюша что-то возразила тихо и кротко, — каждого, мол, терзает по-своему необходимость человеческого самоутверждения, и вновь нарвалась на белый гнев.
— Ты не понимаешь, что настоящие люди заботятся не только о себе? спросила в упор Нюшу директорша, когда девушка горько расплакалась. — В этом суть нравственности. Мой муж, как думаешь, должен налаживать здесь жизнь, имея рядом с собой родственное несовершенство?
Она говорила еще много и зло, и Нюша по наступлении вечерних сумерек собралась и ушла к своей подруге Наде, ненке, уже к тому времени вышедшей замуж за тракториста Ивана Подобеда. Займу на дорогу — совхоз к тому времени еще с артелью не рассчитался: запутанное дело с Сашкиной смертью отодвинуло выплату денег, — уеду!
Так она к ним и пришла. Иван Подобед недавно вернулся из своей мастерской, нестерпимо пахло от него бензином, потому как начищал он свой друндалет к весенне-летнему полевому сезону. На дворе отпевала осень, она в последний раз заглядывала уже в сырые леса, отцветала душистыми еще, собранными в метелку цветками, желтела березовым хороводом, не радовала поздними рассветами и ранними сумерками, роняла между грибов-подосиновиков с пуговку ростом перья улетающих птиц.
И Нюше нестерпимо, до боли захотелось еще раз взглянуть на Сашину могилу и, отплакав напоследок, уехать к себе домой, назад в деревню. Пусть смеются — наромантилась, пусть! Пусть что хотят делают дома: ругают, почему не ужилась у родственника, такой он знатный, такой могучий в делах… Уехать и не возвращаться, никогда сюда более не возвращаться! Оттерпеть там, в своей деревне, отплакать, пойти хотя бы в молочницы. Или куда в другое место устроиться. Посмеются-посмеются, народ-то добрый, простит ее и стремление уйти в город, и сделать жизнь свою богаче, интереснее, и эту вечную насмешку над ними, деревенскими, как они серо живут и не желают жить по-иному…
Вещей у нее было — всего-то рюкзачок. Вместе с ним, неся его за своим горбом, ссутулившись, пошла к краю поселка, мимо этих двухэтажных безразличных домов с набросанными поленницами у порогов и сараев; окна были уже синие, затемненные, — свет от совхозовского движка еще не дали. Печаль давила ее, безудержно хотелось рыдать, нестерпимо захотелось человеческого участия, добра, душевного тепла. Разве нет людей поблизости? Разве заплесневели они в этих двухэтажных новых домах? Или у них всегда было все хорошо? Или никогда не было слез, расстройства, крика по самым простым делам, которые для них самих не простые и не так сладкие? Ну проснитесь же, вы! Да сколько можно заглушать свои потребности!
Так, путаясь во мху, начинающем звенеть своей свежестью и от наступания ногой зелено пахнуть, дошла к могилкам. Было уже, кажется, темно, хотя свет мягко лился и лился с не уходящего на покой неба. Вдалеке, в поселке, вспыхнули огни, ветер хлестко прошелся между поднятых на жерди ящиков… Усопли, затихли. Были такими, как она. И затихли. Жизнь, жизнь! Бежали, падали и, наконец, усопли, затихли! Ни оскорблений, ни оправданий, что не справились с делом… Видите ли, так уж постарались они! Нашел повод послать на лесозаготовки. Добился, чтобы и поварихе сто процентов дали заработка. В руки счастье привалило… А ее приспичило! Время — делу, потехе — час. «Или в другой раз тебе не было бы желания? На что он тебе был, Акишиев-то, ежели за него такая баба, как Машка, ухватилась? Ну не Машка — Клавка! До меня, думаешь, не доходит? А теперь оправдывайся перед твоей матерью — не подсобил… Не понимаешь ты, дева, что мать твоя как стала после войны вдовой, так и не видала лишней копейки, все бедовала с вами… Не виновата ведь она, что жизнь так завернулась и родственник с войны не вернулся».
«А вам, — шептала она, гладя ящики, прикладываясь холодной щекой к жердям, — вам ни оскорблений, ни трепетного дыма и тумана… Не звенит струна в тумане… Какие же надежды? Нет, не вам, а мне? Какие? Вы лежите, спите и спите. А нам жить и мучиться…»
Потом она нашла свой русский холмик.
Из тысяч холмиков она бы нашла его, если бы даже ей крепко завязали глаза и если бы спутали веревками руки и ноги. Она прикатилась бы к нему, этому небольшому холмику русскому…
Долго она плакала на этом увядшем уже, каменеющем от ледяных струй ветра холмике. Санечка, Саня! А ничего, Санечка! Я — ничего! Только вот ты… Зачем же так-то? Все, все, Саня, еще неизведано было тобой, еще столько было жизни впереди, и вдруг погасло окно, и вдруг темь навалилась! Удаль твоя, родненький, была такой большой — не обнимешь дары твои царские! Все осталось от тебя, хотя ты здесь мало прожил. Все осталось. И черная, и светлохвойная тайга, и купальницы, и ромашки… Шумят и сосны, которые ты не дал порубить им, Григорьевым разным… А ты — лежишь! Тихо как без тебя! Сладкий мой, любимый! И ничего я тебе не дала — ни радости, ни счастья! Прощай! Прощай! Я тебе летом буду присылать и горицвет, и сон-траву… Прощай! Будет у тебя цвести на могилке все самые красивые цветочки, все самое живое… Я ведь не по своей воле уеду!
И так еще много причитала, и так еще стояла, как тополь, и женские цветки ее здесь, в этой жуткой тишине полуночи, полудня рождали новые дерева, и дерева эти, полные тревоги и добра, ползли по буграм к речке Сур, и корни их цеплялись тревожно в мерзлую, такую, оказывается, глухую землю…
…Уже на второй день Акишиев выздоровел!
Такой оказался здоровяк!
Вернулся с кордона он от Михайлыча, бородатого лесника.
Акишиев вроде и не лежал совсем недавно без памяти, будто и не было того, что Нюша его подобрала у канавы, где застряло бревно и где он это бревно ворочал, да, видать, неловко бревно соскочило и что-то произошло нехорошее. Акишиев не давался Мокрушину, — тот же, неподалеку вызволявший бревна, прибежал, схватил, как младенца, Сашку и отпер к этому Михайлычу.
Вся бригада, до того прибитая таким неожиданным исходом (они в теплой землянке отсиживались, а он, Акишиев, вкалывал за всех), когда он вернулся, радовались. Вина их перед ним угодничала, и первым в этом преуспевал Иннокентий Григорьев.
Бревно, которое вытаскивал Акишиев через канаву, — вода в ней к тому времени спала, и пришлось бревна последние тоском таскать, — было одним из последних. Теперь оно было тоже связано в плоты, и Григорьев хозяйничал, покрикивая на людей уже у связанных плотов.
До бревнышка вызволили лес прошлогодний, который Григорьев, попросту говоря, тогда загубил. Повалить повалил, а на место не доставил, Акишиев же, видишь, сумел все сделать честь по чести…
С богом решили теперь гнать плоты к поселку. Иннокентий по части вывода плотов на большую воду был мастак. Акишиев согласился с тем, чтобы ему вести их в совхоз. Сказал, чтобы ехали.
Оставался он здесь с Нюшей и Мокрушиным.
Собственно, Мокрушин сам напросился остаться, хотя в поселке тоже хотелось ему побывать, гульнуть, и то еще да се… Мокрушин был мужик, однако, совестливый. Первым он догадался, что Акишиеву понадобится, может, его плечо: боек-то боек бригадир, но не настолько, чтобы самому с собой справиться. Мокрушин решил остаться в помощниках…
Плоты Иннокентий Григорьев вывел из последней заводи и в самом деле мастерски. Сур уже успокоился, воды его посветлели, берега были сухие, плескался он внутри тихо и покойно, но еще был упругий, подхватил плоты, поднял на свою холодную спину и понес: к поселку, к океану, как несет и несет все, построенное человеком, а так же вырванное с корнем природой…
И ловок Иннокентий был в те минуты! Лицо его раскраснелось, весь он радовался. Стоял впереди, на самом первом плоту, и ему махали они трое, оставшиеся на берегу до нового их приезда…
Когда скрылись за поворотом, Акишиев пошел, чуть прихрамывая, к себе. А эта Борода, Мокрушин, увидав, что Нюша увязалась за ним, оставил их стыдливо наедине и пошел вглубь, от воды…
Нюша ничего не замечала, она так радовалась, что видит Акишиева в добром здравии, что невольно можно было подумать: и глупая ты девка! Заслепило что-то твои глаза, чего ты?
Они зашли в густую прошлогоднюю траву, и Акишиев, сорвав травинку, взял ее в рот, как папиросу. Нюша глядела на него не отрываясь, он это заметил, он видел ее голые руки, видел будто всю — молодую, радостно-растревоженную. Она остановилась у разлапистой громадной сосны, как могла обняла ее и уткнулась головой в пахучий бок, откуда живьем била желтая смола.
— Я так, Саша, напугалась, — сказала она. — И так теперь рада… Счастливо рассмеялась. — Я вас, Саша, все равно люблю…
— Не надо, Нюшенька… Сердце мое не разрывай…
— Не буду больше, Саша. Только любить тебя мне никто не запретит.
— И ладно… И ладно, Нюша! — Акишиев опустил низко голову. — Все это, Нюша, так длинно и нескладно… Думаешь так, а выходит по-иному…
— Никто, Сашенька, меня не заставит по-другому о тебе думать. Я люблю тебя… Не боюсь ничего… Для тебя ничего не жалко… Ты слышишь?
— Да, Нюша… Пойдем… Не надо…
— Ты ничего не бойся… Я тебя упрекать не стану…
— Идем, Нюша… Гляди, там этот бородатый леший заждался… Гляди, уже стучит, за дело принялся…
— Я тебя не пущу с ним работать… Ты должен отойти, хоть несколько дней.
— Как же, Нюша? А дело-то кто за меня делать будет?
…Вездеходчик Крикун, высланный ей на помощь Иваном Подобедом с самыми добрыми намерениями, встретил ее на пустыре, где ненцы убивали обычно оленей. Она шла не видя ничего, и ноги ее стучались о сотни рогов, белеющих даже в ночи. Внизу при зачинающейся непогоде кричала и стонала речка, где-то, совсем и неподалеку, завыла волчица. Нюша приостановилась у самого берега, переступив последние, недавно снятые с нежных убитых тут животных рога, и вздернула руки кверху. Она долго бессвязно говорила, бормотала, читала. Четко, ясно звенели под конец строчки: «Катунь, Катунь — свирепая река! — выговаривала Нюша. — Поет она таинственные мифы о том, как шли воинственные скифы, — они топтали эти берега! И Чингисхана сумрачная тень над целым миром солнце затмевала, и черный дым летел за перевалы к стоянкам светлых русских деревень…»
— Нюша, Нюшенька! — Крикун близко подошел к ней, бережно приобнял. Нюшенька, не надо, Нюша! Ну не надо!
Глухо стонал дальний ветер, с порывами принося сюда холодный северный воздух, он был чист, свеж, но так туг, наморозен, что дышалось с продыхом, тяжело, и глухо била в груди боль.
— Кто ты? — спросила Нюша, вовсе не театрально, в голосе ее звенела особая струна, вот-вот эта струна должна была лопнуть, и вся душа тогда разбрызжется последними, умирающими звуками.
— Я Крикун! Ты меня не узнаешь? Нюша, Нюша!
Он взял ее и, тихо подталкивая, повел, и она пошла. Первые капли ледяного дождя стукнули по этой и без того мокрой земле — луговинам, болотам, кочкам, вертолетной прибитой площадке, потом дождь пошел и пошел, и лил уже, не переставая, до самого дома Крикуна.
У самого порога Нюша, видно, опомнилась, она попыталась вырвать свою руку из зажатой горячей ладони Крикуна, но тут же смирилась и зашла в темные сенцы, ничего не чувствуя и не слыша.
— Ты будешь жить теперь у меня, слышишь? — зашептал Крикун, жадно целуя ее в соленые щеки, в мокрый лоб, в ее руки, плечи. — Зачем ты так? Зачем? — Он, смешно торопясь, вздрагивая всем телом, снимал с нее плащ, мокрую кофту, ее грязные ботинки.
— А зачем ты так? — спросила она, видимо, придя в себя. — Я-то ведь порочная!
— Нюша, Нюшенька! Так что с того? Нюша…
Он силой одевал на нее мягкие свои тапочки, силой усаживал на кровать, пытаясь ее раздеть.
— Я сама, — сказала она.
— Ну вот и добре… Вот и хорошо…
— Крикун, зачем ты все это затеял? Учти, Крикун, я никого не хочу позорить… Ни тебя, ни директора, ни директоршу. Вы сами по себе, а я, как река, сама по себе…
— Ну и ладно, Нюшенька… Я ведь тебя давно люблю, Нюшик мой! А что было, то сплыло. Тоже как в реке, плывет, плывет, дальше и дальше…
— А что было, Крикун? — Она уже разделась и, зябко ежась, свела свои девчоночьи, налившиеся красивой полнотой, плечи.
— Что было, говорю, сплыло, — жестче обычного сказал Крикун, торопясь тоже сбросить и грязные сапоги, и мокрую телогрейку.
— Нет, ты мне скажи, что было!
— А что бывает между бабой и мужиком? — Крикун хихикнул, пытаясь приобнять ее эти оголенные плечи и тиская в руке маленькую черненькую родинку на правом плече. — Смотри, какая она занятная? — Он потянулся, чтобы поцеловать это черненькое пятнышко.
Нюша оттолкнула его.
— Не смей! Я Сане даже не разрешила!
— Ох, ох, ох! Саня, Саня, Саня! Это не разрешила, зато то разрешила! — Балуясь, он хотел ее повалить.
Она его опять резко оттолкнула.
— Да ты человек или нет? — зашептал он. — Или железная какая? Я же тебя ласкаю, целую тебя! Я ведь за тобой, как кутенок бегаю…
— Уйди! «Саня, Саня!» Да вы все здесь его пятки не стоите! Все, все, все! И вертолетчики, и вездеходчики, и рыбаки, и дураки! Все, все! — Она торопливо одевалась. — «Саня!» Да ты что? Он — не тронул меня! Пальцем не тронул!
— Ври! Пальцем он ее не тронул!
— Он святой! Слышишь, Крикун, святой!
16
— Ты откуда такой взялся? — Мокрушин большой, нечесанный, с любопытством присел на корточки, изучая Акишиева, весело и добродушно.
— А оттуда от самого! — Зло вгрызался в землю, дальше уходя, пробиваясь к озеру.
— От самого тебе вроде и рановато, не по черным кудрям.
— А у меня дед побелел на ветрах, вот так-то, да отец в эту войну.
— Чего же тогда к нам своим пехом, без протекции? — Мокрушин гудел по-доброму.
— Потому, как нелегко жилось, решил изменить малость, в свою сторону счастье завернуть. — Сашка Акишиев ни разу не передохнул, все рубил и рубил лопатой, он ни разу не поглядел на Мокрушина, но симпатия к нему звучала в его шутливо-серьезных словах. Он понял, что этот лохматый, небритый человек — его сторонник, ему тоже нелегко живется, и все же он не такой и несчастливый человек, вот теперь же опустится в сырую щель, пробиваемую к озеру, и пересиливая все в себе тяжелое, грубое, что породила в нем нелегкая его жизнь, будет с удовольствием выворачивать комья мерзлого грунта.
Так и случилось. Мокрушин, перекрестив богов и матерей, отцов и дедов, ахнул потом в тугую землю лопатой и пошел, пошел, как экскаватор выворачивать глыбы почвы, увитой кореньями и вековой падалью.
Бились они вдвоем долго, и опыт, поначалу одинокий, рождался у них. Уже друзьями, единомышленниками, злыми и непрощающими других, тех, что остались там, они вышли из своих щелей и упали в траву. Было солнечно-сказочно, теплынь, разыгравшаяся вдруг, присела на всю эту болотную шумиху и стонала птичьим весельем, ласковой порывчатой духотой, входившей в их жадные приуставшие тела.
— А парень ты ничего, — хрипло сказал Мокрушин. — Ничего! С тобой, как пишут-то ныне, в разведку можно бежать.
— Да и ты, брат, ничего, понятливый.
— Я-то привычный к разумению. — Мокрушин собирался закурить, оглянувшись как-то растерянно вокруг, махнул рукой и спрятал опять сигаретку. — Детство-то мое здесь, неподалеку прошло… что к чему понимаем. А ты, значит, решил к воде пробиться?
— Как можно скорее.
— Да-а, соображаю. Убежит вода вскорости.
— Убежит.
— Да-а…
Акишиева эти слова будто подстегнули. Он встал, взял торопливо лопату и опустился в щель.
Мокрушин еще немного полежал.
— На пуп рвешь, — сказал нехотя он.
— Ничего, он давно уже порван. — Акишиев засмеялся.
— Ну и дурень, гордись! — Мокрушин уже медленнее, без той давней охоты, опустился в свое логово и, поработав немного, заговорил. Отец у него в объездчиках ходил, жили на кордоне. Занимались охраной леса-то всей семьей. Каждый идущий в лес предъявлял документ, выданный на право заготовки дров, ягод, сена.
— При случае-то, — крикнул и Акишиев, — и у нас тоже скоро находили всякого нарушителя.
— Ты что, тоже лесной леший?
— Отец мой перед войной в лесорубах ходил.
— Да-а, тогда время было замечательное. Теперь-то мы все валим да валим… Оглянуться некогда. Голубая тайга!
— Именно голубая.
— Послушай, парень! А чего все же ты к нам махнул? Чего не на БАМ или еще куда?
— Не люблю, когда много слишком скапливается, — засмеялся как-то нехотя Акишиев.
— Понятно. Значит, где-то задело? Высокие материи, как говорится, через себя пропускал, через свою правду? — Мокрушин был, оказывается вот из каких. — Досталось поди за что-нибудь?
— Ну, это ты брось. Громких слов не приемлю, а, если хочешь знать…
— Хочешь знать, хочешь знать! — пробурчал Мокрушин. — Вот так и здесь будешь строить? Заводной, говорю, ты! А мы здесь такие и не иные, понял? Раз на пуп сам возьмешь, два, три. Говорю, не останется тебя…
— Останется! Меня на всех хватит!
17
Теперь Крикун шел по тому же поселку более решительно, чем тогда, когда с грохотом вылетел из собственной избы, Нюша, уже вполне Нюша, задвинула тогда на засов дверь, так и пришлось Крикуну ночевать у своего кореша Ивана Подобеда, пока хозяйничала в его хате, приводя себя в порядок, к отъезду.
Крикун прослышал, что следователь перед отъездом заглянул к директору, Крикун шел тоже к следователю.
Весь поселок, кажется, был сегодня пьян, и Крикуну, чистенькому и доброму в намерениях, неприятно глядеть на такое позорище при высоком районном начальстве. Он брезгливо сторонился пьяных. Но от Васьки Вахнина ему отвертеться не удалось.
— Ты куда, тезка? — спросил его Васька, печальный и впервые опустошенный. — Погоди! Давай пойдем вместе! — Он схватил его за руку. Да погоди ты! Я тебе про межмикрорайонный общественно-торговый центр, Вася, не буду толковать, ты не бойся! Я тебе про бригадира нашего… Ты Саню-то, поди, неплохо знал?
— Знал.
— Дрались мы сейчас за него… Ты погляди, о-оо-о! Шрам видишь на губе?
— Кто это тебе?
— Метляев Колька. В зубы, сволочь, бьет! А ему, — Васька снова стал самим собой, беззаботным весельчаком, — а я ему штаны новые располосовал! Как бритвой писанул!
— Дураки вы!
— Конечно, дураки.
— Иннокентий у вас там один что-то и тянет.
— С виду только, да и кажется это! Послушай, а ты же, говорят, в Нюшку-то солидно втюхался, а?
Крикун вытянул свою руку из цепкой подвыпившей тезкиной ладони.
— Иди, Вася, иди!
— Куда, Вася? Ну куда? Он-то, Саня, ушел. А мы с тобой уйдем? Нет, Вася, от себя не уйдешь… Никуда не уйдешь! Ты и уйдешь, а тебе будет что-то сниться, Саня будет сниться! Скажет: «И аллах с вами!» И будет в одиночку вкалывать. У всех нас он в глазах, Вася, стоит. Метляев-то меня не понял, я ведь только с точки зрения философии, — смысл-то жизни не заключается в том, чтобы «биться» в одиночку. Не понял Метляев, и — в зубы! Я — подхалим! Да мне самому… А-а, Вася! Опять же, если с Иннокентием не поедем, загнусь я, Вася, здесь. Алкашом, Вася, сделаюсь. А Славка, сын? Что я ему скажу? А ей я как докажу? Она в джинсы, и я тоже такие брюки куплю, как у Метляева. Оденусь, пройдусь по этому межмикрорайонному общественно-торговому центру…
— Не пройдешься ты, только грозишься.
— Доеду!
— Не доедешь! Доедешь до первой остановки, врежешься в ресторан, Вася… Да какой там ресторан — в забегаловку, где чернилом торгуют, и пиши — пропало!
— Плохо, тезка, ты рисуешь… Вот Саня по-другому рисовал! Он верил!
— И с Саней вы пили.
— Не по столько. Мы с Саней постепенно завязывали.
— Завязывали, завязывали и завязали хлопца!
— Беда наша общая… Не одного меня вини… Поглядел бы, как дубасились! — Засмеялся тут же: — Так свадьба-то скоро? Чего ты жмешься? Отвалил бы для начала. Ты же башлюгу гребешь лопатой…
— Послушай, парень, — сказал Мокрушин, когда Нюша пошла за вторым, женись ты на ней. Счастлив будешь… Ты заметь, как глядит-то она на тебя.
— Так это поначалу, — усмехнулся Акишиев.
— Нет, не скажи! Так баба глядеть просто не может… А та… Ты, брат, в той ошибешься…
Акишиев молча доедал первое.
— Чего молчишь-то? Чего ты ей должен? Слыхал нечаянно я твой разговор… Пустое! Ты той ничего не должен! А этой, возьми и отдай все.
— Нельзя тоже на несчастье строить счастье.
— Бесполезное говоришь. Не для Клавки это.
— Все равно — человек она.
— Ты, что же? Так на каждой женился?
— В том и беда, что не на каждой.
— Или ты в самом деле святой, или дурак. Гляди, счастье тебе само в руки просится.
— Может, ты и прав.
— Куда и прав! Бери ее! Молодую, в теле… Ты погляди внимательней! Она же для счастья и создана. Наливается, как румяное яблочко…
Нюша занесла второе. Радостная, весело спросила:
— А чего говорили и замолчали?
— Секретничаем, — хихикнул Мокрушин. — Про тебя секретничаем.
Молодой красивый лейтенант сидел у директора за столом и пил чай с черничным вареньем. Подворотничок у него был расстегнут, кобура с пистолетом сдвинута на бок — чтобы не стучала при поворотах, когда лейтенант обращался с разговором к хозяйке дома, которая сидела у лейтенанта почти за спиной.
Крикун постучал и зашел. Директор ему почему-то обрадовался.
— Вася, — сказал. — Проходи, Вася!
Не прошел, и не сел.
— Вы, товарищ лейтенант, всему верите, что Нюша вам наговорила? спросил с вызовом.
— А в чем дело? — Лейтенант отставил чашку, встал, застегивая воротник и поправляя кобуру.
— Дело-то в том, что наговаривает она на себя! Ничего у нее с ним не было. Не было, понимаете!
Все трое они переглядывались — лейтенант, директор и директорша.
— Я что хочу этим сказать? А заступиться за нее некому! Вы и валите все на нее!
— Кто же это, Вася, на нее валит? — усмехнулся директор.
— А вы и валите. Вы! — Он, наконец, присел. — А я даю вам слово, что Нюшу я защищу. Она чистая, и вы ее не троньте и мизинцем!
— А где ты был раньше? — грубо спросила директорша.
— Там, где и все! — Крикун не отвел взгляда.
Директор вздохнул:
— Мы все всегда чуть-чуть припаздываем, Вася.
Директорша иронически усмехнулась и, подойдя к Крикуну вплотную, зло спросила:
— Ты, Вася, всюду распространяешь, что она чистая и незапятнанная, мол, и не жила с Акишиевым, так? А мы и такие и сякие… Так?
— Вера! — крикнул директор.
— Что Вера? Вера, Вера! Я первая? Все мы гнались за ней, все! Вера, Вера! А ты, — она наступала на Крикуна, — что ты-то путаешься под ногами? Жених паршивый! Что же не уберег ее?
— Как не уберег?! Что с ней?! — Крикун теперь испуганно отступал от нее. — Как не уберег?
— У Ротовской травилась она, твоя чистая! — крикнула хрипло директорша. — Артистка из погорелого театра! Ах, ах, ах, мы такие оскорбленные!
— Вера! Вера-а-а!
Мокрушин взял ружье и сказал:
— Я, Сань, пойду побалуюсь. — После сытного обеда бородатый леший раздобрел и, уходя, им подмигнул загадочно. — Часиков через пяток ждите.
— Может, и я с тобой?
— А ее куда? Испужаится еще… Охраняй уж…
…Потом он подсел к ней, и она была рядом. Снова что-то нахлынуло, как там, первый раз, и он приобнял ее, и ему показалось, что плечи ее, на которые он положил руки, вдавились вместе с его рукой. Он почувствовал, что она неподатлива, что она как-то боится его.
— Ты что? — зашептал он.
— Не надо, Саша.
— Чего не надо-то?
— Не надо, миленький.
— Так, а как же ты?.. В прошлый раз-то… Сама же хотела…
— То было, Саша, в прошлый…
— А теперь, значит, отрезала, не любишь, значит? — Он ерничал. — Про того Мослова, или Мосолова, вспомнила? Или как его по-другому?
— Сашенька, что же ты говоришь-то? Я люблю тебя, одного тебя… Но не надо, Сашенька… Ты сам будешь ругать себя… Замучаешь себя…
Он долго молчал.
— Все, завязано! — сказал приобнимая. — Не надо. Действительно, Нюша, не надо…
18
Лишь на четвертый день они догнали воду — слишком много времени потеряли на демагогии, как определил потом, признавая общую вину, Иннокентий Григорьев. Искусственный канал соединился, когда сняли перемычки. Вода из озера хлынула вниз, несколько часов она лила шустро, и три четверти леса, поваленного безалаберно в разных местах лощины, они волоком, по воде, перетащили за сутки. Потом, когда вода в речке упала и озеро «потекло» в сторону реки, работы пошли тяжелее, а последние лесины буквально тащили по грязи…
В те часы была их жизнь неимоверно тяжелой, жестокой и суровой. Они зверски орали друг на друга, и на своего бригадира, кажется, в первую очередь. Это он выдумал им такую программу! Он, ни кто иной. Забыли, как день назад хвалили его, превозносили и делали богом — решил-то он пронблему, можно сказать, полушутя-полусерьезно. Всего день назад он был в их глазах особый, замечательный парень, он упал им в качестве подарка с неба — хозяин, деятель и борец, счастливый человек трудной судьбы. Иннокентий так говорил, подмазываясь, и тот же Иннокентий, когда уловил другое настроение людей, стал потихоньку их уводить в иной бок. Зачем стоило, мол, затевать все это даже без малой механизации? Чужой, злой его голос бил хлестко, и от губительных суждений эти и без того злые люди, пахавшие без передышки почти трое суток, сатанели.
— Хватит, — закричал первым Метляев, — к черту эту остальную часть.
Можно было его понять. Весь он почернел, ибо, как простаку, ему вместе с самим бригадиром и Васькой Вахниным в этих условиях доставалась самая тяжелая часть работы: лесины им надо было выковырять из болотной жижи и тоском тащить до канала, где еще осталась какая-то часть воды.
— Доделаем, — рассудительно успокоил бригадир, подталкивая жердь под очередную лесину. — Ну, взяли, Коля! Еще один плотик, и баста!
Они взяли еще и еще, потом еще, и уже выбились из сил перед самым обедом. Нюша им принесла обед сюда, все потянулись к лужку, где она расстелила скатерку. Лишь Акишиев не уступал, пихая к каналу очередную лесину.
…Если бы кто-то потом описывал его историю, он, конечно, сказал бы: Акишиев здесь первый раз подорвался, здесь он, потеряв в них веру, решил доказать: до последней лесины можно вызволить, до последнего бревна привезти в строящийся поселок. Он не ушел даже тогда, когда остался один: ушел и Мокрушин.
Лишь помогала ему Нюша. Последнюю лесину они перекатывали долго и бесполезно, Акишиев не сдался и после того, как где-то под ребрами у него ойкнуло, в глазах поплыли черные мухи, он уткнулся коленом в грязь… Потом он встал, потом он дотащился до плотов, потом он последнее бревнище увязал, еще что-то Нюше сказал, и упал на еловую постель, сготовленную кем-то. Он уснул мертвым сном.
19
«Стоит ли это все того, чтобы отдавать свою жизнь капля за каплей? Совершать такие поступки, умирать на плоту от боли? Есть-то дела крупные, благородные! Что же метать бисер перед свиньями?» — «Тихо, Нюшенька, сладко поспи! Не стоят они того!» — «Одни живут и поражают своей исключительностью, а он… Он, знаете о чем рассказывал, когда упал на плоту и говорил мне тихо, скрывая страдание: «Метляева ты зря так не долюбливаешь! Привлекательный человек! Хочет ведь лучше стать»… Это о том самом Метляеве, который по сути первым поставил Сашу-то в такое положение. «Верить надо в людей, Нюша! Человек сложный, умный, но изломанный… Он десятым в бедной семье рос… Доброту-то и этот леший в себе скрывает. Говорит, запряжет, бывало, тятя в бричку Орлика. На душе сладко от езды быстрой!»… Они бросили его, он надорвался, а виду не показал»… — «Спи, спи!» — «Как же… как же… Идут люди, их в кино показывают… мысль о долге каждого перед человечеством… а тут… тут всего простой пример… Как же теперь буду жить! Без Сашеньки, без его смеха, без дела его…»
Акишиев упал на еловую постель. Внутри все разрывалось, боль усиливалась с каждой минутой.
— Ты-ка, дай мне водички, — попросил он.
Нюша опрометью бросилась за кружкой, которая была в куче посуды там, на лужке.
— Зачем? Ты из ладошек…
Она, волнуясь, спешно вымыла руки и зачерпнула в большие свои ладони студеной речной воды.
Он стал нежадно пить.
— Пахнет-то, — сказал он, глядя на нее ласково, — снегами… Как это ты пела-то? Идут белые снеги, и я тоже уйду?
— Где болит, Сашенька? — Она впервые так назвала его и прильнула к его тяжело поднимающейся и опускающейся груди.
— Ничего, уже проходит… Который теперь час-то?
— Рассветает, поди, — сказала она.
— Вот жизнь! — он тихо улыбнулся. — Все свет и свет, ни тебе полнолуния, ни тебе темноты…
— А полнолуние, Сашенька, теперь и есть… Ты-ка взгляни на небо-то…
— Ага, полнолуние… Ты не обидешься на меня, что я тебе скажу? Нет?
— Нет, — тихо прошептала она, догадываясь, о чем он ей скажет.
— Ты самая красивая девушка, Нюша… Но согрешил я… Согрешил с Клавкой… Совесть меня мучает…
Она замерла, напружинилась вся.
— Клавка-то растерялась… Растерялась… И вдумчивая, и мучает ее что-то, а я-то и вовсе болезненно сознаю, что теперь-то нельзя ничего переиначить… Нельзя…
Она не отвечала ему, в душе тяжело что-то билось, и она не понимала, как надо поступать ей.
— Вот и вся мудрость… Самая ты красивая девушка, а совесть меня мучает… Это все-то не придумаешь и не пропоешь, как в песнях, это все потому, что в обратную сторону не повернешь… Почитай мне что-нибудь… легче, глядишь, будет!
Мокрушин, вернувшись к ним, увидел их рядом, — она над ним плакала. Мокрушин поднял ее, вынес на берег, затем бережно выносил и Санькино обессиленное тело. «Что же ты так-то? — шептал он. — Чего же так, выходит-то? — он говорил сам с собой. — Ну, ничего! — Сам себе и отвечал. — Потерпи! Мы тебя к Михалычу, на кордон, там и доктор… Там и бабка его травкой отпоит…»
Нюша шла за ними следом и все ревела, до самого кордона.
20
Наконец, все выяснилось. Лишь Клавка не сдавалась, настаивала на суде, грозилась сама дать десять лет, не меньше. Но отпущенная и никем уже не задерживаемая, Нюша уезжала на той самой Мошке, на которой приехал в поселок Саша Акишиев.
«Саша, Саша! — повторяла про себя, когда Мошка закачалась на волне. Да умерла бы я — не отравила, Саша! Родной мой! Кто же доглядит тебя?»
— Хорошо, что уехала, — сказал следователь. — Сидит таких понапрасну много.