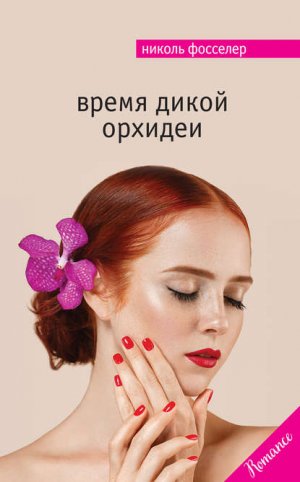
© Набатникова Т. А., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Всем мечтателям этого мира, сердца которых необъятны и глубоки, как океан.
Неистовые превращенья страсти я познал, но лишь уху влюбленного отважусь поведать о том, что случилось со мной.
Уильям Вордсворт
Сердце само по себе судьба.
Филип Джеймс Бейли
Небо полыхало.
Яркое пламя горело над горизонтом, взмывая высоко вверх. Первые слои облаков улавливали огонь, и море окрашивалось жаром расплава, капающего с облачных краев.
Отзвуки стрельбы еще потрескивали над водой. Эхо звона клинков друг о друга. Обрывки мужских голосов и криков, разорванных в битве и рассеянных в черноте ночи.
Он сам не знал, как очутился за бортом в тот час, когда бледнели звезды и разрежалась темнота, пока солнце не пробилось сквозь линию горизонта и не подожгло первые искры света.
То ли он потерял равновесие, уклоняясь от удара меча. Или его сбило пулей. Или он просто упал, а может быть, даже и прыгнул, охваченный неукротимой жаждой жизни, подгоняемый постыдной трусостью.
Он камнем ушел в глубину, под темные воды, вонзившие свои соленые клыки в его раны, и разящая боль разметала его.
Мгновение бессознательной пустоты. Бескрайнего Ничто.
Потом вновь забрезжило сознание.
Ребра сдавило, легкие разрывались, он отчаянно стал выгребать вверх. И вынырнул из бездны, жадно хватая ртом воздух.
Ветер оставлял на языке привкус дыма, красной пыли и пепла. Одна сторона его тела была обездвижена, он греб одной рукой, продвигаясь сквозь золотой, как расплавленный шафран, свет, мешавшийся с голубой дымкой раннего утра. Под силуэтами птиц, кружащих над ним, и хриплыми криками, пробуждающих новый день. В сторону острова, куда безошибочно указывал его внутренний компас. Как черепаха, десятилетиями бороздящая океан, находит берег, где когда-то вылупилась из яйца.
Море теряло терпение, подхлестывало его со всех сторон, нещадно швыряло. Он почувствовал приближение волны еще до того, как услышал ее, и покорно отдался ее воле, дал ей захватить себя и потащить, и она накрыла его, увлекла за собой в глубину почти до самого дна. И – будто последняя родовая схватка, что вынесла его на белый свет из материнской утробы – изрыгнула на сушу.
В ушах стоял гул, сердце стучало, как сумасшедшее, он бессознательно полз вперед, прочь от беснующейся воды. Песок больно набился в раны. Камни и колючки царапали кожу.
Гладкая белизна домов отражала свет восходящего солнца, и он ослепленно щурился. Стройные тени оказались деревьями, молчаливыми стражами садов за оградами. Изгородь была низкая, сады были ухоженными, ни одного на отшибе, и меж ними изрядно оставалось пустого пространства, не обещавшего ему никакого укрытия.
Он высмотрел темную гущу листвы в стороне. Уголок дикого запустения, почти нереальный в этом саду, в шлейфе дымки и пара. Там, где змеилась пыльная лента прибрежной дороги, Джалан Пантай, куда достигали волны – изгиб лукоморья.
Слишком измученный, чтобы пробиться к реке, слишком молодой, чтобы сдаться, он медлил.
Вскинув подбородок, с прямой спиной – на пороге дома стояла девочка.
Все они явились в этот знаменательный день. Все мои рыцари и аристократы. Все мудрецы и маги, волшебницы, феи. Из самых дальних краев моего королевства, со всех четырех сторон света они прибыли, чтобы засвидетельствовать мне свою благодарность.
Изящно растопырив детские пальчики, она раскрыла объятия:
– Встаньте же.
Под шорох невесомых шелков толпа поднялась, как море в прилив, мужчины завершили почтительные поклоны, женщины – глубокие книксены. И словно цветы, что поворачиваются вслед за солнцем, все лица обратились к ней.
Подобрав руками узорчатый подол саронга, она медленно спускалась по ступеням.
Корона тяжело давила на голову, но она несла ее с величайшим достоинством. Шелк роскошного наряда шуршал с величественной изысканностью, и каждый ее шаг в расшитых золотом восточных туфлях отдавался от стен, инкрустированных самоцветами. Шаги были легкие, она, казалось, едва касалась подошвами гладких плит пола.
Легкая улыбка блуждала у нее на губах, когда она шла по невысокой жесткой траве.
Толпа благоговейно расступилась. Многоголосый шепот пронесся по залу, затухая меж могучих колонн из темного мрамора и теряясь под сводом из сапфиров и изумрудов, высоким и обширным, как небо.
Сердце билось у нее от волнения прямо в горле, и ей стоило усилий сохранять королевскую стать.
Взгляды толпы обратились в сторону храброго воина, который преклонил колено в противоположном конце зала. Он почтительно опустил голову, будто не зная, ожидать ли ему награды – или наказания за те подвиги, которыми он разрушил чары злой колдуньи. Робко взирал на нее и серебристо-белый единорог, которого он держал за уздечку, не сводя с нее блестящих темных глаз. Совсем так, как будто бы…
– Мисс Георгина! Доброе утро!
Девочка вздрогнула. Роскошный зал стал мерцать и рассеиваться, и ветер подхватил его тускнеющие обрывки, как срывает пыльцу с цветов – понес через кусты и деревья, шелест листьев и птичий щебет.
– Я тебя не испугал?
Георгина молчала. Ах Тонг стоял, опираясь на черенок грабель, среди фонтанов пурпурных цветов, нежных, как китайские фонарики из шелковой бумаги, и улыбался. Лицо его задубело от солнца, кожа была желтой, морщинистой. Просторные брюки и рубашка с длинными рукавами не скрывали худобы его высокой фигуры.
– Что ты здесь делаешь в такую рань?
Щеки Георгины зарделись; пальцы теребили ткань саронга. В груди у нее разом взбурлило все, что она хотела рассказать Ах Тонгу – о феях и рыцарях и об их приключениях в ее волшебном королевстве, так что она чуть не захлебнулась, делая вдох. Но каждое слово так тяжело ворочалось на языке перед тем, как она могла его вымолвить, будто рот ее был заполнен камешками, и она растерянно продолжала молчать.
– Да и правильно, – продолжал Ах Тонг, сгребая пожелтевшие цветы. – Лучше прыгай по саду, пока сухо.
Взгляд Георгины скользнул вверх. Промытые за ночь облака, которым она радостно махала рукой, едва вскочив с постели, уже слегка подкоптились. Они все тяжелее нависали над островом, и небо, недавно сияющее синевой, наливалось мутно-серым потом.
– Я уж и сам смотрю, как бы успеть управиться. – Ах Тонг вытряхивал последние цветы из зубьев. – Иначе на меня обрушится не только дождь…
Ах Тонг нагнулся к ней, так что через плечо упала его тонкая косица.
– …но и гнев нашей госпожи и повелительницы.
Они заговорщицки переглянулись, и, пока кожистое лицо Ах Тонга расползалось в ухмылке, вдвойне лукавой оттого, что его обнажившиеся зубы росли вкривь и вкось, в горле Георгины булькнул смешок. Зажав рот ладошкой, она метнула быстрый взгляд в сторону дома, белый фасад которого блестел, как внутренность раковины. Ибо от зоркого глаза и навостренного уха жены Ах Тонга и няньки Георгины не ускользало ничего, что делалось в доме и вокруг дома Л’Эспуар, которым Семпака управляла железной метлой и доходчивой руганью.
– Смотри. – Ах Тонг сорвал с куста алый цветок, протянул его Георгине: – Только что распустился. Знаешь, как он называется?
Георгина кивнула:
– Бунга райя. – Ее рот освободился от камешков, язык развязался. – Китайская роза. Цху йин. Или гибискус.
– Очень хорошо. – Ах Тонг обрадованно рассмеялся. – Возьми, это тебе.
Он осторожно положил цветок в подставленную пригоршню Георгины, где цветок едва помещался. Она зачарованно разглядывала пестик, облепленный золотой пыльцой, и чувствовала мягкие прикосновения лепестков.
– Спасибо, – блаженно шепнула она.
Обычно Ах Тонг никогда ничего не срывал в своем ухоженном саду; последний букет он срезал когда-то для мамы.
Погруженная в созерцание цветка, она отвернулась и осторожными шагами пошла в глубину сада.
Пылающие факелы освещали огромный храм, воздвигнутый тысячи лет назад. В игре теней и света на колоннах вспыхивали узоры и таинственные надписи. Высеченные из камня демоны, фигуры богов и причудливые химеры неистовствовали на стенах в дикой смертоносной пляске.
– Смотрите, – шептала она, и голос ее от напряжения становился низким и хриплым, – я несу вам священный огонь.
Она сосредоточенно несла перед собой золотую чашу, в которой пылало живое и сильное пламя. Одно неосторожное движение, поспешный шаг или глубокий вздох – и священный огонь, означающий вечную жизнь, погаснет. Навеки. Но недаром она избрана богами жрицей огня. Так обдуманно, так осторожно она делала один торжественный шаг за другим, приближаясь к великой святыне богов, что все ожерелья, что были на ней, ни разу не звякнули. Даже ее облачение не издавало ни шороха.
Ах Тонг провожал ее глазами. Георгина царственно вышагивала мимо живой изгороди из бамбука вдоль синих гроздьев дикого гелиотропа, ее тонкие ножки были похожи на журавлиные, когда птица бродит по мелководью. Кустистые брови Ах Тонга озабоченно сомкнулись над переносицей – ветер донес до него обрывки детского шепота. Георгина медленно опустилась на колени перед мангостаном с развесистой кроной и поднесла дереву цветок гибискуса как жертвенный дар.
Эта девочка была погружена в мир мечты гораздо глубже, чем ребенок обычно бывает захвачен игрой. Как будто лишь там она могла быть свободной и беззаботной. Лишь там забывала печаль, что омрачала ее глаза с тех пор, как не стало мэм.
– Бедное дитятко, – пробормотал Ах Тонг и в который раз погоревал о чудесной дочке туана Финдли.
От искрового разряда молнии каменный храм задрожал и зашатался, а следующий голубой разряд разрушил его. Георгина подняла голову и зачарованно замерла, следя за двумя бабочками, порхающими одна подле другой, созданиями из небесного шелка, пловцами в океане из света и воздуха.
Она провожала их взглядом до тех пор, пока они не упорхнули прочь над огненными язычками гордых лилий канны, потом вскочила. Запрокинув голову, закрыла глаза и раскинула руки. Она вообразила себя крошечной и невесомой, а за спиной у себя – два переливчатых полупрозрачных крыла, и пустилась бежать. Все быстрее и быстрее, устремляясь вверх, к облакам, чувствуя в груди ликование и готовясь в любой момент оторваться от земли.
Из туч полетели первые капли, она ощутила их кожей лица, дождь усиливался, капли собрались в холодящие ручейки, сбегающие на ее вспотевшую от беготни шею. Она с ликованием жмурилась навстречу дождю, скакала и кружилась по траве и бежала дальше, к морю, которое пенилось и бушевало по ту сторону садовой стены. К тому темнеющему пятну, которое лишь вблизи превращалось в густые заросли кустов и деревьев.
Неукрощенный кусочек природы, заколдованный и всеми забытый, над которым качали перистыми лапами, будто благосклонно кивали, пальмы. Здесь было ее царство, только ее одной, Георгины, и никто никогда не забредал сюда. Даже Семпака – она верила, что между корней деревьев живут злые духи.
Дождь барабанил по листьям. Георгина протиснулась сквозь заросли. Застоявшийся воздух накрыл ее как мокрым разогретым платком. Пахло дождем и сырой листвой, промокшим песком и красной землей, и повсюду витал дурманящий аромат диких орхидей, которые светились в сумеречном свете цветными звездами.
Это были ее джунгли, где она временами выслеживала, не крадется ли где тигр-людоед, или заклинала волшебную белокожую королеву кобр, или подстерегала серебристого единорога, который унес бы ее на себе в далекую сказочную страну.
Но самым восхитительным в этом тайном уголке сада был пустой дом, павильон, его кирпичное основание окружал густой подлесок, настолько разросшийся, что дом, казалось, плыл по зеленому морю.
Дом был замком, куда Георгина поселила фею. Старый господский дом, в котором водились и привидения. Необитаемый остров Робинзона. Дворец раджи. Пиратский притон.
Построенный папой для мамы как настоящий дом, павильон тремя своими ветхими стенами жался к зелени. А в сторону моря был повернут открытой верандой, и шершавые, зазубренные скалы, внедренные в живую изгородь с красными цветами у самой стены ограды, служили Георгине то наблюдательным пунктом в пиратском гнезде, то маяком, а то и самой высокой горой Земли, на которую полагалось взбираться в минуты большой опасности.
Георгина вспрыгнула на веранду, молниеносно перебрав босыми ногами ступени. Покоробленные доски скрипели, и трава, проросшая сквозь щели, щекотала лодыжки. За порогом Георгина ощутила знакомый запах сырости, соли и прелой ткани, под которой дотлевало что-то сладковато гниющее.
Природа давно приняла в себя дом-павильон, владея им наравне с Георгиной. Лишайником затянуло кровлю и стены, словно чешуйчатой шкурой ящера. Деревья и кусты просунули в окна свои зеленые руки, затемнив обе комнаты и погрузив их в сине-зеленый мерцающий свет затонувших миров. Углы, куда забились заплесневелые шезлонг и шкафчик с остановившимися часами, были покрыты мхом, а ветер и волны, в сезон муссонов часто перехлестывающие через стену ограды, состарили камень и древесину. Как будто недолгие годы растянулись здесь на века – в этом месте они и впрямь заключали в себе каплю вечности.
Песчинки на полу скрипели при каждом ее шаге – Георгина обходила вокруг стола и стульев, и белая корочка соли, которую море оставляло здесь при своих посещениях, хрустела. Вдруг Георгина остановилась, широко раскрыв глаза и задержав дыхание.
Стали слышны лишь рев волн и шум дождя, проникающего сюда сквозь худую кровлю.
Она растерянно разглядывала фигуру, неподвижно, подобно тени, лежащую перед ней. Это сон? Или явь… Ноги ее порывались бежать. Или позвать на помощь Ах Тонга? Но она не могла сдвинуться с места. Сильное волнение и темный ужас сковали ее… Она не заметила, как присела и опустилась коленями на пол.
Человек, скрючившийся возле нее, не был ни мужчиной, ни мальчиком, а был скорее подростком. Может быть, такого же возраста, как бой Три, заботой которого было чистить до блеска папину обувь. Мальчишка-подросток был худ, хотя не так, как Ах Тонг; удлиненный сноп острых локтей и коленок, жилистых голеней и слишком крупных ступней. На медно-коричневой коже его голого тела она увидела несколько старых рубцов, были и свежие шрамы, на которых соленая вода, высохнув, оставила белые разводы. Он походил на выброшенный на берег кусок древесины, был такой же истертый и такой же омертвелый.
Георгина вспомнила мертвую птицу, которую нашла однажды в саду – растрепанный комочек перьев и лапки, окоченевшие до твердости проволоки. Вспомнила мамино восковое лицо, ее холодную как камень руку.
Разрываясь меж любопытством и страхом, она протянула палец и быстро отдернула.
Его вытолкнуло из темных глубин в облачные сумерки, которые быстро прояснялись, а болезненная пульсация в руке и ноге окончательно вырвала его из сна. Веки его поднялись, и с каждым взмахом ресниц размытая картинка перед его глазами становилась все более отчетливой. Он был не один.
Тело его дернулось. Он хотел сражаться либо бежать, но сильная боль, пронзившая насквозь, пригвоздила его к месту. Он невольно сдался, а его сократившиеся мышцы расслабились лишь тогда, когда он увидел, что светлое пятно рядом с ним превратилось в белую кебайю девочки. Еще ребенок, она уставилась на него во все глаза, прижав к груди кулачки.
– Во… ды, – прохрипел он выщелоченным горлом. Язык его был как высохший лист.
Он бессильно прикрыл глаза, слыша шорох материи и торопливый топоток босых ног – топоток удалялся, смолк, потом стал приближаться. Шелест дождя опять опрокинул бы его во тьму, но тут маленькая горячая ручка прорылась ему под плечо, острая коленка подперла спину, и край сосуда прижался к его рту.
Казалось, жажда, с какой он глотал прохладную дождевую воду, была неутолимой; он мог бы осушить все реки этого острова. Запрокинув голову, он высосал из кружки последние капли, сел и вытер рот и подбородок рукой.
– Ты ранен. – Девочка отодвинулась от него. – Я позову кого-нибудь.
– Нет!
Собственный крик резанул ему слух, и так же резко он схватил ее за запястье. Оно показалось ему тонким, как веточка, готовая тут же переломиться. И вся она была такая худышка. Темные волосы мокрыми прядями свисали ей на лицо, узкое и загорелое, лишенное округлости и мягкости и оттого совсем не миловидное. И даже детским оно быть перестало, недоверчиво исказившись. И поджатые губы выдали ему, как больно он сделал ей, хотя она не издала ни звука.
– Нет. – Он хотел сказать это мягче, но прозвучало все так же грубо, разве что тише. – Никто не должен знать, что я здесь. Ты обещаешь, что никому не скажешь?
Расширив глаза, девчушка кивнула. Странные были эти глаза: темные, но без обычного для черных глаз огня, а с каким-то мерцанием. Обрамленные густыми ресницами, будто кто-то поднес кисточку и провел размашистые линии, и они нежными заострениями поднимались к вискам. Глаза прямо-таки проглатывали его, и пальцы его расслабились.
Он мельком взглянул на длинный зияющий разрез у себя на штанине, края его потемнели и заскорузли от крови и соли. Такой же длины разрез на его ноге с запекшейся старой кровью был перемазан свежепросочившейся, красной.
– Можешь раздобыть иголку и нитки? И что-нибудь для перевязки?
Девочка снова кивнула, на сей раз чуть помедлив.
Кебайя прилипла к спине Георгины – и не только от дождя, пока она бегала к дому и назад, все время боясь, что Семпака застукает ее за тем, как она роется в шкафах и в маминой коробке для шитья, а потом удирает в сад, неся в руках целый ворох тряпья.
Пот струился у нее по вискам, капельками блестел на носу и скапливался в ложбинке над верхней губой; она то и дело вытирала лицо рукавом, а мокрые руки вытирала о юбку. Иголка с большим трудом протыкала кожу, за ней проскальзывала нитка. От напряжения Георгина стискивала зубы; она старалась делать все так, как ей объяснил мальчик, когда она – после нескольких его нервных попыток – забрала иглу из его обессилевших пальцев.
Она давно отвыкла быть в такой близости к кому-нибудь. Причем вот так – рядом с обнаженным телом и открытой кровоточащей раной под ее руками. И более того – с темнокожим мальчиком, у которого был низкий голос мужчины, пропахшего солью, водорослями и высушенными на солнце кожами. Рядом с совершенно чужим ей человеком, даже имени которого она не знала.
– Как тебя зовут?
Георгина вскинула голову; один, два удара сердца она смотрела ему в глаза, черные и блестящие, как полированный камень, и потом снова склонилась над раной на его ноге.
– Георгина, – ответила еле слышно.
Кроме Ах Тонга, мало кто обращался к ней по имени, которым ее нарекли при крещении, да и он часто сбивался на Айю, что делало Георгину чуть выше ростом и заставляло ее щеки рдеть, ибо слово это означало «красавица». Для мамы она была шу-шу или пти анж, а для папы оставалась Георги. Сик-сик Семпаки, означавшее «маленькая мисс», никогда не было дружелюбным, а тем более уважительным, всегда звучало немного презрительно. А когда Семпака очень сердилась, она ругала Георгину Ханту, потому что она громыхала, как привидение, и бесчинствовала, как злой дух.
– Но чаще всего меня называют Нилам, – быстро добавила она.
Так ее называла Картика, единственная женщина в доме, не считая Семпаки; еще Аниш, повар, который приехал тогда из Калькутты вместе с мамой и папой, и три боя, китайцы, как Ах Тонг, с такой же длинной косицей у каждого.
– Нилам?
Георгина кивнула, завязала узелок на последнем стежке и отрезала нитку мамиными заржавевшими швейными ножницами.
– Теперь руку?
Мальчик осмотрел свое плечо: из раны был вырван кусок мяса. Неглубокая, но ужасная рана, как будто выкус.
– Не надо. Так заживет.
Георгина пожала плечами, намочила тряпочку в миске с дождевой водой, отжала ее и осторожно промокнула свежую кровь с раны на ноге.
Не поднимая глаз, тихо спросила:
– А тебя как зовут?
Он смотрел, как она капает на его свежезашитую рану настойкой из флакона коричневого стекла. От этих капель тут же вспыхнул ожог, быстро разгоревшийся по всей ноге, а потом угасший до частых толчков.
Георгина. Если не считать прядей, прилипших к ее вспотевшему лицу и шее, волосы у нее высохли, превратившись в густые беспорядочные кудри, но так и остались темного, почти черного цвета. Нилам.
– Рахарио, – ответил он наконец, произнося непривычные звуки.
Не имя, которое ему дали когда-то. А имя, на которое пал его собственный выбор. Обещание, данное им себе самому, как пророчество, что его мечты сбудутся.
Она лишь коротко взглянула на него, а потом разделала – где ножницами, а где пальцами – лоскут ткани, принесенный из дома. Как будто давая ему понять, насколько самонадеянно имя, предвещающее богатство, для такого оборванца, как он. Щеки его горели, в животе гневно вспыхивало. Тем не менее он согнул колено, чтобы ей было легче перевязывать рану, и неохотно протянул ей руку, чтобы она могла также обработать и перевязать ему то место, где его задела пуля.
Напряжение, которое до этих минут пылко носилось по его жилам и как-то поддерживало его, теперь иссякло, истратив его последние резервы. Вялая невесомость растеклась по всему телу и поднялась в голову.
Плохо было уже одно то, что он зависел от этой маленькой девочки; чтобы не потерять сознание у нее на глазах, он недовольно помотал головой и глубоко вздохнул.
– Вон там стоит кровать, – шепнула она ему на ухо. – Можешь туда лечь.
С ее помощью он поднялся на ноги и шатко двинулся вперед; он пытался делать это как можно легче, но чувствовал, с какой тяжестью опирается на ее худенькое плечо. Пол качался у него под ногами, как рейки перау в шторм, и ему стоило немалых усилий держаться на ногах. Ноги подломились под ним, и он рухнул в мягкое облако, которое давило на его кожу, но было приятно прохладным.
От его храбрости, от его неукротимой воли мало что осталось. Он казался себе маленьким и слабым, совсем беспомощным. Постыдное чувство, зияющая рана в его гордости, единственное утешение состояло в том, что он чувствовал себя здесь в безопасности. В надежных руках.
– Спасибо, – пролепетал он, с трудом приподняв отяжелевшие веки.
Шорох дождя утих. Нежные полоски света, прокравшиеся снаружи, рисовали переменчивый узор на лице девочки и озаряли ее глаза. И он понял, что в этих глазах было таким странным.
– Нилам, – прошептал он. Сапфир.
Губы его успели улыбнуться перед тем, как веки сомкнулись.
У нее были синие глаза.
Георгина села в ротанговое кресло, стоящее в углу в двух шагах от кровати. Оно тихо скрипнуло, когда она подобрала под себя ноги.
Ее губы и язык снова и снова беззвучно складывались в его имя. Рахарио.
Веки его вздрагивали, брови дергались, но черты все же казались расслабленными. В первую очередь губы – теперь, во сне, они казались слишком мягкими, слишком ранимыми для этого лица, в котором спорили между собой выступающая линия подбородка, крепкий, широкий нос и острые скулы. Неготовое лицо, еще не нашедшее свою форму, однако имеющее такой вид, будто он пережил больше, чем когда-либо удастся пережить Георгине.
Лента с коричневым узором, выцветшая и грязная, повязанная вокруг головы, едва удерживала его смоляную, непокорную шевелюру. Солнце, ветер и соленая вода растрепали ее в норовистые вихры и лохмы, концы которых на затылке курчавились. От него исходило что-то строптивое, бурное. Напоминание о безбрежной свободе. Как будто домом своим он не мог бы назвать ни один клочок земли, а только бескрайнюю даль всех семи океанов. Как пират.
Это была все та же комната, знакомая Георгине почти так же, как стук ее сердца. Как ее дыхание, находившее отзвук в шуме моря, сколько она себя помнила. Причудливо проломленные стены и дверь на веранду, постоянно продуваемую ветром, и деревянные полы, отполированные песком, водой и солью. Широкая кровать под дырявой москитной сеткой, простыни и наволочки на подушках все в пятнах и, пожалуй, очень давно не менялись. Разбухшие от сырости книги, к которым Георгина подходила, только когда задвигала под полку кресло, и простой умывальный столик с лампой, помятый тазик и кружка, из которой она давала пить Рахарио.
Комната, куда, пожалуй, много лет никто не входил, пока Георгина не открыла ее для себя.
Комната никогда не казалась ей пустующей. Если где и водились в саду Л’Эспуара привидения, так только здесь, в этих четырех стенах, словно пропитанных таинственным прошлым. Помещение, полное воспоминаний, которые не были воспоминаниями Георгины, насыщенное видениями и безымянными страстями. Смутные, еще не оформленные начала истории, которая терпеливо выжидала, когда настанет время рассказать ее. Которая теперь, с этим чужим мальчиком, может быть, постепенно развернется.
Сердце Георгины беспокойно затрепетало, это было чувство, одновременно и болезненное, и сладкое.
– Сик-сик!
Голос Семпаки разорвал кокон, окружавший павильон, и вспугнул Георгину.
– Сик-сик! Где ты опять пропадаешь? Почему мне всегда приходится вытаскивать тебя из каких-нибудь кустов?!
Георгина пулей выпрыгнула из кресла, испугавшись, что гнев Семпаки может пересилить ее суеверные страхи.
– Завтра утром я снова приду, – шепнула она и натянула москитную сетку над Рахарио. Тот не шелохнулся.
– Сик-сик!
Георгина на цыпочках выскользнула из павильона, протиснулась сквозь кусты и побежала по траве к дому.
Набрякшее небо мрачно давило на сад, поглотив все краски и свет. Ветер хлестал кроны деревьев, и с моря доносились гром и грохот. В Георгине тоже все бушевало. Буря, пьянящая и пугающая, привела ее в замешательство. Во весь дух она бежала наперекор ей. Яростно терла кулаком глаза, в которые набегали первые слезы.
– Ах Тонг! Ах Тонг!
Крик Георгины, пронзительный от страха, заставил Ах Тонга распрямиться.
Девочка бежала к нему через сад, спотыкалась и падала, опять вставала и бежала дальше. Даже издали Ах Тонгу было видно, какое волнение в ней бушует.
– Мисс Георгина!
Он бросил грабли в побуревшие цветы жасмина и побежал ей навстречу, так что она налетела на него, задыхаясь, с пылающими пятнами на щеках.
– Что такое случилось? – в тревоге спросил он и присел перед ней на корточки. – Что тебя так напугало? Ты не ушиблась? Или…
При мысли о том, что обычно умалчивалось, он запнулся.
Стены ограды вдоль Бич-роуд, с равными интервалами прерываемые то проходом, то решетчатой калиткой, были не очень высоки. Их хватало на то, чтобы оградить сады от моря, а в декабре, когда муссоны с северо-востока бушуют особенно сильно, часто не хватало и на это. И для негодяев они не представляли непреодолимой преграды, тем более что сады соседних участков были отделены друг от друга лишь живой изгородью или полосой деревьев.
А Сингапур был еще молод, намного моложе Ах Тонга, ему не было еще и двадцати пяти лет.
Растущие, конечно, но несовершенные ограды европейских домов, возведенные сотнями арестантов из Индии, для которых лишь в прошлом году было построено здание тюрьмы, и непрочный, ненадежный лоск европейского образа жизни. Среди пестрых портовых складов, забитых товарами со всего света, переулков Ниу Це Шуи, беспокойного китайского квартала по ту сторону реки и малайских хижин из дерева и пальмовых листьев, Сингапур был еще сыроватым городом, неготовым. Как все места, где деньги можно было грести лопатой, он был магнитом для искателей счастья, как и для всякого сброда, этакий шумный восточный базар посреди диких тропиков.
Малайцы и буги, по слухам, то и дело бегали со своими кинжалами в приступах безумия амок. Тигры водились в джунглях в сердце острова и при случае отваживались выходить на побережье, а змеи и скорпионы кофейной расцветки прятались среди травы и листьев. Банды китайских Триад численностью порой до двухсот человек, зачернив лица, врывались ночами в дома, убивая и грабя. Темная угроза, против которой были бессильны как крохотный гарнизон индийских сипаев, так и горстка добровольных дружинников, которые в случае опасности предпочитали спасаться сами. И окрестные воды кишели местными пиратами, жаждущими золота, рабов, а иногда и просто крови.
Ах Тонг испуганно сглотнул, так что кадык дернулся. Он осторожно взял Георгину за плечи и притянул к себе.
– Или… или тебя кто-нибудь обидел?
Георгина отрицательно мотнула головой, но вцепилась в рукава рубахи Ах Тонга.
– Что там опять за крик? – донеслось от дома. – С самого утра!
Ах Тонг подавил вздох и оглянулся. На веранде в наступательной позе – уперев руки в бока – стояла Семпака. Ее – надо признать, миловидное – округлое лицо золотисто-мускатного цвета гнев исказил в уродливую гримасу, темные глаза полыхали недобрым.
– Ничего страшного, дорогая! Мисс Георгина всего лишь испугалась, я сейчас все улажу.
Мина Семпаки сложилась в презрение. Казалось, она готова была изрыгнуть яд и желчь, но удовольствовалась тем, что недовольно фыркнула и вернулась в дом. Ах Тонг опять занялся Георгиной.
– Ну-ну, Айю, ничего, ничего. – Он в растерянности гладил ее по голове. – Ты не хочешь мне рассказать, что случилось?
Мальчик, Ах Тонг! Мальчик, который со вчерашнего дня прячется в павильоне. Рахарио. Вчера он был еще вполне живой! А сегодня… сегодня…
Георгину душили слова, они теснились в горле, и рот ее открылся сам собой.
Никто не должен знать, что я здесь. Ты обещаешь мне, что никому не скажешь?
Она сцепила зубы, разрываясь между необходимостью позвать на помощь кого-нибудь взрослого и своим обещанием, данным Рахарио.
– Лечебные… травы, – выдавила она. – Ты разбираешься в лечебных травах? – Она хватала ртом воздух. – Которые от жара?
Ах Тонг наморщил лоб:
– Немного разбираюсь. – Он склонил голову набок. Девочка была бледна, и казалось, ее вот-вот вырвет ему под ноги. – Тебе нехорошо? Ты захворала?
Георгина с трудом выдерживала тревожный взгляд Ах Тонга, проникающий ей прямо под кожу, и быстро замотала головой.
Лицо Ах Тонга просветлело:
– А, это у тебя… для игры?
Георгина потупилась и кивнула.
– Я сейчас посмотрю, ладно? – Ах Тонг встал. – Средство от жара, ты говоришь?
Георгина снова кивнула.
– Но… но оно должно быть правдашним, Ах Тонг! – крикнула она вдогонку его худой фигуре, удаляющейся широкими шагами.
Ах Тонг полуобернулся, с улыбкой кивнул и обозначил поклон.
– Разумеется. Честное слово, мисс Георгина!
Георгина смотрела ему вслед с колебанием, не побежать ли за ним… Но Семпака ей строго-настрого запретила даже приближаться к жилищу прислуги. Ее колени начали дрожать и взяли тем самым решение на себя. Трясясь и обхватив себя руками, она приросла к месту и мерзла в туманных испарениях утра.
Прижав к себе коричневый флакончик с драгоценным порошком, Георгина примчалась в павильон и неверными пальцами нашарила в шкафчике стакан и потускневшую ложку.
– Сейчас полегчает, – бормотала она, метнувшись в соседнюю комнату. Больше для того, чтобы успокоить себя, потому что Рахарио лежал все так же неподвижно, каким она застала его утром. Лишь его слабое прерывистое дыхание, дрожь, что изредка пробегала по телу, и трепет век выдавали, что он еще жив.
Она тщательно отмерила порошок, размешала его в стакане с дождевой водой, приподняла голову Рахарио и вливала ему лекарство глоток за глотком. Он стал значительно тяжелее, чем был вчера, и горел в лихорадке, так что у нее сдавило грудь от напряжения. Она неловко опустила его голову и скользнула с края матраца.
– Ты выздоровеешь, – шептала она, присев на полу, обмакивая тряпку в дождевую воду и отжимая ее. Обтирала его залитое потом лицо. – Слышишь? Только не умирай.
Она вздрогнула: влажные пальца сомкнулась на ее кисти. Это была жилистая сильная рука в грубых мозолях, под края перламутрово-розовых ногтей набилась грязь. Мужская рука, в которой ее детские пальчики почти совсем исчезли.
– Может быть… может, мне позвать кого-нибудь на помощь?
Рахарио обозначил отрицание.
– Но мне одной не справиться, – жалобно воскликнула она.
Груз, свалившийся на нее с появлением этого чужого раненого мальчишки, будто выброшенного морем на берег, разом показался ей слишком тяжелым. Непосильным для ее неполных десяти лет.
Он сжал ее ладонь, и его брови шевельнулись, как будто он хотел ей возразить.
Георгина сникла, прижалась щекой к матрацу. Простыня пахла плесенью. Ее лицо было так близко к лицу Рахарио, что она видела капельки пота на его коже. Крошечный шрам у крыла носа, еще один под дугой брови и намек на первые темные волоски, пробивающиеся вокруг рта.
– Ты выздоровеешь, – прошептала она в его тяжелое дыхание.
Рахарио слабо кивнул, уголок его потрескавшихся губ едва заметно дрогнул.
Его пальцы сплелись с ее пальцами, все еще сжимавшими мокрую тряпицу, и сжались, словно скрепляя некий немой договор.
Георгина смотрела в темноту.
Сердце билось в груди, то и дело больно спотыкаясь, и потом снова настукивало молотком. Она обливалась потом, он увлажнял ей ночную рубашку и простыню. Ей было тошно, о сне нечего было и думать. Заснуть ей не давал страх. Что будет утром? Что ожидает ее в павильоне? То ли Рахарио станет лучше, то ли он ночью умрет от этой своей лихорадки.
Днем голоса мужчин и женщин придавали дому видимость оживления, их шаги, их мелкие движения и действия, их смех, возня – трудолюбивое копошение, напоминающее суету насекомых в большом муравейнике. А ночью воцарялась паралитическая тишь, которая наваливалась на дом как душитель. Словно душа Л’Эспуара угасла с тех пор, как не стало здесь мамы.
Тишина, которая была для Георгины тем мучительнее, что Семпака больше не спала в ее комнате.
В большинстве случаев Георгина шла на разные ухищрения ради того, чтобы избежать присутствия подле себя Семпаки, которая и раньше-то не отличалась сердечностью, а после смерти мамы прямо-таки казнила ее своим презрением и отвращением. Но в такие ночи, как эта, она была бы рада чувствовать поблизости даже сонное тяжелое дыхание Семпаки.
Ее непрерывно терзали мысли – а вдруг она сделала что-то неправильно, когда обрабатывала раны Рахарио, и от этого ему теперь так плохо. И правдашним ли был тот порошок, который дал ей Ах Тонг, и не ошиблась ли она в дозировке. А лечебный настой арники, которым мама смачивала раньше ее сбитые локти и колени, не выдохся ли за это время и не мог ли только навредить Рахарио. Эти исполненные опасений вопросы и сомнения неотступно терзали ее.
Ей было впору заплакать; она тосковала по кому-нибудь, кто бы обнял ее и прижал к себе. Кому бы она могла все рассказать и кто бы ее утешил и пообещал, что все будет хорошо. Кто-нибудь такой же близкий, как мама.
Какой-то шум заставил ее прислушаться, и Георгина затаила дыхание. Походило на копыта лошади и колеса повозки.
Папа! Недолго думая она отодвинула москитную сетку, вскочила с постели и выбежала в коридор. Папа дома!
Наверху у лестницы она остановилась и прислушалась. Под снова удаляющийся и наконец совсем смолкший цокот копыт и шорох повозки она расслышала твердые шаги и затем голоса. Низкий, сухой – папин – и высокий певучий – боя Один, который вечерами всегда дожидался прихода папы, чтобы забрать у него шляпу и сюртук и подать ему тапочки и что-нибудь выпить, как бы ни было поздно. Когда внизу стало тихо, Георгина выждала еще несколько ударов сердца, полутревожных, полунадеющихся, прежде чем спуститься по ступеням из полированного дерева на мягко освещенный нижний этаж.
Она прошлепала босиком по прохладному полу холла и прижалась к косяку двери в кабинет.
Лампа на письменном столе вырезала из темноты желтый круг. Сумеречный свет и глубокие тени тянулись над стопкой бумаг и писем, оставляли отблески на пустом стакане и еще резче обозначали и без того жесткие черты ее отца. Выдающийся вперед нос, доминирующий в его профиле, и неуступчивый подбородок. Рот, который в последние несколько лет сжался в тонкую полоску. Хотя первый серебряный блеск седины пронизывал его густые волосы, мощные брови были по-прежнему угольно-черными и затеняли его глаза – такие же синие, как у Георгины, только светлее и проницательнее.
– Папа, – тихо окликнула она, и этот зов больше походил на писк.
Он поднял голову от письма, которое держал в руках.
– Георги.
Может, виновато освещение, но Георгине почудилось, что в его глазах вспыхнул свет, но тут же погас. Его брови, всегда напоминавшие Георгине мохнатых гусениц, сошлись на переносице.
– Почему ты не в постели?
Она подняла плечо и теребила подол ночной рубашки:
– Я не могу заснуть. – Одна ее ступня ощупывала порог, но перешагнуть через него она не смела. – Можно к тебе?
В ней зародилась надежда, когда ей показалось, что лицо отца смягчилось, но надежда тут же рухнула: его мина снова посуровела.
– Иди к себе в постель. Уже поздно, – ответил он и снова погрузился в письмо. Голос у него был усталый, просевший. – Спокойной ночи.
– Спокойной, – прошептала Георгина со сдавленным горлом и горьким привкусом на языке.
Поникнув, она побрела в холл, пытаясь не думать о том отце, который был у нее когда-то. Отец, который много смеялся, шутил с ней и умел рассказывать интересные истории. Который поднимал ее высоко в воздух, кружил и всякий раз надежно ловил в объятия, прижимал к себе и целовал в макушку. На чьих коленях она удобно устраивалась, когда вечером все сидели на веранде в свете лампы, одной рукой папа обнимал маму за плечи, и их тихие голоса и мягкая рука мамы, гладившая ее по волосам, постепенно погружали ее в блаженную дрему. И она не понимала, почему она не могла ничего спасти и перенести через ту пропасть, которая разверзлась после маминой смерти, и папа с тех пор стал как пустая раковина.
Посреди холла она остановилась и потерла глаза. Их нестерпимо щипало. Ей так захотелось оказаться рядом с Рахарио, что она испытывала почти боль. Но она еще никогда не была в саду ночью, когда во тьме оживала его дикая сторона. Населенный неугомонными тенями и наполненный мириадами голосов, которые шелестели и хихикали, шептали и реяли. Так же, как море по ночам неукротимо пенилось, накатывая валы и издавая топот, как эхо своих глубин.
– Доброй ночи, Нилам.
Георгина подняла голову. Перекинув через руку почищенный сюртук папы, у лестницы стоял бой Один с сочувственной улыбкой, и лицо его в свете лампы казалось светлым и прозрачным, как китайская фарфоровая кукла.
Георгина смогла лишь кивнуть и медленно пошла по лестнице вверх к своей комнате.
Ей приходилось прилагать усилия, чтобы не пялиться неприкрыто на Рахарио, когда он ел, а сосредоточиться на том, чтобы рвать на полосы свежую простыню. Ей это не удавалось; она то и дело поглядывала на него в блаженном удивлении, что он после одних суток жара и двух суток сонливой вялости сегодня снова казался бодрым. Он никак не мог насытиться чечевичным супом дал-тадка и рисом, лепешками чапати и бананами, которые она частью приберегла от своего обеда, частью выпросила у Аниша или просто стянула из кладовки с продуктами.
Когда он отставил пустую тарелку – на ней не осталось ничего, кроме банановых шкурок, – Георгина придвинулась ближе. Она осторожно приподняла его штанину и сняла повязку, чтобы обработать настойкой рану с запекшейся кровью и наложить на нее свежую ткань. Ей оставалось лишь надеяться, что Семпака не так скоро обнаружит, как быстро истаивает стопка простыней в бельевом шкафу.
Когда Рахарио вздрагивал, она испуганно замирала.
– Что, очень больно?
Он отрицательно мотал головой:
– Ничего.
Георгина закусывала нижнюю губу, чтобы сдержать все любопытные вопросы, которые так и прожигали ей язык.
– Как же это… – в конце концов не выдержала она. – То есть кто… что… – Не отрывая взгляда от раны, она снова умолкла.
– Бой. На море.
Георгина медленно подняла голову, в животе у нее от волнения дрожали внутренности.
– Ты что, ты… пират?
Один уголок его рта приподнялся в улыбке, обнажившей белые зубы.
– Да что ты можешь знать про пиратов?
Мысли ее заметались по сказкам и приключенческим историям, которые раньше ей читала мама и из которых она быстро выросла. Пираты не были для нее ни лихими мореходами в бриджах, ни грязными бандитами с повязкой на глазу и саблей, плавающими под флагом с черепом и костями. А были вполне реальными морскими разбойниками родом из Китая или с бесчисленных островов за горизонтом.
Гнетущая забота для папы и других торговцев города, но также и для дяди Этьена в Пондишери; не однажды Георгина была свидетельницей, как ее отец говорил со смешанным чувством ярости и безысходности, что снова придется списывать груз, на который возлагали столько надежд. Она знала, что правительство в Калькутте после долгих настояний наконец выслало канонерки, чтобы избавиться от пиратства. Однако морские пути, ведущие в Китай и Японию, Индию, Европу и Америку, которые продевались сквозь Малаккский пролив, как нитка сквозь игольное ушко, как были, так и оставались ненадежными.
Высоко подняв голову, она выдержала взгляд Рахарио.
– В любом случае я знаю больше, чем ты мог бы ожидать от меня.
Рахарио не мог разгадать эту странную девочку.
Она была приблизительно того же возраста, что и его младшие сестры, но та беспомощность, с какой она за ним ухаживала, выдавала, что ей не приходилось действовать там, где нужно было выполнять какую-то работу. Часто она была как маленькая девочка, но все-таки ей не хватало радостной, плещущей через край легкости, знакомой ему по собственному детству. Ее окружала преждевременная серьезность. Почти так, будто тень, которую отбрасывало ее худенькое тело, когда солнце между ливнями засылало сюда свои лучи, была темнее, чем от других людей.
Ее кожа была слишком светлой для ребенка с этого острова или с материка, но по-малайски она говорила как на родном языке. Временами у нее проскакивало какое-нибудь английское слово, но она этого не замечала, а временами какое-нибудь слово и на другом языке, который звучал игриво – возможно, французский.
Ее глаза… Примечательные глаза были у Нилам.
Переменчивые, как небо над островом. И впрямь цвета сапфира, особенно когда они вспыхивали, как сейчас. В зависимости от наклона головы или от угла падения света, а может, и от того, что творилось в ней самой, цвет менялся до темно-фиолетового диких орхидей, которые росли вверху по течению реки. А временами они темнели так, что казались такими же черными, как его собственные или глаза его братьев и сестер.
Голубые глаза могли быть только у оранг-путих, у белых людей, но редко при этом такие темные волосы, как у Георгины, редко такой загар. А главное – среди них почти не было женщин, и Рахарио также никогда не видел белого ребенка, хотя много перемещался по островам.
Девочка с двумя именами, всегда слегка растрепанными волосами, в перепачканной кебайе и с пыльными босыми ступнями была для него загадкой.
После красного затмения лихорадки его захлестывали приливы и отливы бодрствования и дремоты, и всякий раз, когда он приходил в себя, его мысли кружили вокруг этой загадки. Георгина. Нилам. Сик-сик, как ее окликала пронзительным голосом малайская женщина, которой она боялась.
Ему было ясно только одно: что некий оранг-путих, поддавшись зову своих чресл, произвел с островной женщиной эту девочку, которой почему-то разрешалось жить в его большом доме и не приходилось за это работать. Дитя двух миров, которое, пожалуй, не могло пустить корни ни в одном из них. Куда бы оно ни обратилось – оно всюду будет чужим. Неудивительно, что девочка казалась такой одинокой, такой заброшенной.
– Нилам.
Он произнес это имя тихо. Осторожно, как будто хотел проверить, какое из имен ей больше подходит.
Она подняла глаза от пулевой раны в его руке, которую в этот момент перевязывала. Сейчас они были как море в солнечный день, брови в немом вопросе стянулись в изящную арабеску.
– Ты очень хорошая. Навсегда для меня.
Ее глаза вспыхнули и уклонились от его взгляда. Щеки зарделись, а губы сложились в подобие улыбки; первой, какую он видел у нее.
– Ты задолжал мне ответ.
На его лице дрогнула улыбка:
– Оранг-путих теперь могут, если угодно, называть этот остров своим. Но реки и море всегда будут принадлежать нам. Оранг-лаут.
Оранг-лаут. Морские люди.
С тех пор как Георгина впервые услышала об этих племенах, морских кочевниках, которые живут не в домах, а на лодках, плавая по всему морю, она представляла себе этих оранг-лаут в виде мифических существ – людей, у которых вместо ног рыбий хвост с чешуей. Этакие создания, которые на суше выглядят как обычные люди, а в воде превращаются в морских чудовищ. Ее взгляд метнулся к ступням Рахарио: каждый пальчик, каждая выемка и каждый бугорок словно вырезаны искусной рукой из свежей тропической древесины, зачищены наждаком и гладко отполированы.
– Что?
– Ничего. – Кровь снова бросилась ей в лицо.
– Ты почитаешь мне?
Рахарио подбородком указал на кресло, в котором лежала книга, раскрытая на покоробленных страницах, корешок растрепан и загнут кверху, как раскрытый клюв птицы.
Книга, которую Георгина читала вчера, когда охраняла сон Рахарио и ждала, когда настанет время для следующей дозы жаропонижающего порошка Ах Тонга. Она смутно припомнила, что иногда слышала собственное бормотание, чтобы хоть что-то противопоставить тишине комнаты, убаюкивающему шуму моря и дождя. Полагая, что Рахарио спит слишком крепко, чтобы расслышать ее.
– А ты понимаешь по-английски?
Он склонил голову набок:
– Не все. Но многое.
Она чувствовала на себе его взгляд, соскальзывая с края кровати и беря в руки книгу.
– Твой отец… Он англичанин?
– Шотландец. Из Данди. Но он уже давно там не был. Перед тем как перебраться сюда, он много лет жил в Калькутте. Когда-нибудь он вернется туда вместе со мной.
Как будто так и надо, она уселась рядом с Рахарио, откинувшись на спинку кровати в изголовье, согнув колени и положив на них книгу. То был минутный импульс, в котором она быстро раскаялась. Потому что его близость смущала ее так же, как его пытливые взоры, которые он переводил с ее лица на темные полосы буквенных строк и снова смотрел на ее лицо. Собственный голос казался ей чужим, искаженным и слишком высоким, и через каждые несколько строчек она запиналась и начинала заикаться.
– Может быть, ты сам почитаешь? – перебила она себя и с легким смешком протянула ему книгу.
Изучающий блеск в его глазах померк, и мускулы сильных челюстей напряглись, так что обозначились желваки.
– Я устал, – хрипло сказал он, вытянулся и отвернулся.
Веки Георгины задрожали. Потом она поняла – и ее бросило в жар.
– Извини, – прошептала она. – Я не подумала, что ты… Это было глупо с моей стороны.
Рахарио не шевелился. Желудок Георгины сжался так судорожно, что ей стало дурно.
– Если… если хочешь, я тебя научу. Это не так уж трудно!
Закрыв глаза, Рахарио безмолвствовал.
Георгина мягко всплыла из глубокого сна, ее кебайя пропотела, и на щеке было ощущение чего-то липкого. Тяжелый свет раннего вечера висел в помещении, стрекотали цикады; должно быть, дождь на какой-то момент прекратился.
Она сонно сощурилась и окончательно открыла глаза.
Ее щека была прижата к коричневой гладкой груди Рахарио, которая равномерно поднималась и опускалась с его дыханием, сердцебиение было спокойным и ровным – у самого ее уха. Она не помнила, как заснула и как так получилось, что она лежала наполовину на нем, наполовину на его руке. Взгляд ее скользнул по его плоскому животу, по выступающим буграм тазовых костей и с любопытством остановился на тонкой линии черных волосков, что тянулась вниз от пупка под пояс его штанов – до сих пор она не замечала ее. Она быстро отвела глаза и осторожно подняла голову.
Рахарио тоже спал, обняв ее за плечи. Странная, сладкая тоска пронизала ее живот дрожью, и это смутило ее, и одновременно ей стало стыдно, что она невольно оказалась так близко к нему; наверняка это ему неприятно. Она подтянула локти, чтобы опереться на них и встать, вывернулась из-под его руки.
Его тело дрогнуло, и она замерла.
Он взглянул на нее вниз из-под тяжелых век, на губах появилась улыбка. С глубоким вздохом он повернулся к Георгине и притянул ее к себе.
Мгновение недоверчивого сопротивления – и Георгина поддалась его рукам и снова опустилась ему на грудь. Вдохнула его тепло, его запах – моря и водорослей, корицы и кож – и сердце ее чуть не разорвалось от счастья.
Как камень, упавший в тихую воду, порождает на зеркальной поверхности круговые волны, так и Рахарио полностью перестроил дни Георгины.
Миновало бесцельное меандрическое блуждание пустыми часами. Бескрайний гладкий океан времени приобрел контуры из песчаных пляжей и скалистых утесов, структуру из коралловых рифов и зеленых холмистых островов. Он приобрел имя, Нусантара, описывающее континент из вод и островов, который не охватишь взором.
Галанг. Бинтан. Мезанак. Темианг. Сингкеп.
Острова, названия которых были для Георгины так же новы и непонятны, как некоторые выражения на малайском языке Рахарио. Ночами ей снились подводные миры, свет, мерцающий бирюзой и лазурью, в котором все пестрит и сверкает. В этих снах она парила среди перламутровых рыб, меж морских звезд и причудливых подводных существ, плутала в каменных джунглях кораллов. В невесомой мирной тиши.
Море было домом оранг-лаут, родиной их предков, испокон века их жизненной артерией и их судьбой.
Мир, откуда явился Рахарио, был архаическим, люди жили там так же, как тысячи лет назад. Рыболовствуя, ныряя за сокровищами моря и ведя меновую торговлю. Хозяева моря, воители вод, сегодня они предлагали охранительное сопровождение торговым караванам, а завтра претендовали на грузы, что перевозились на борту кораблей, плывущих под парусами через их воды. Жизнь, которая следовала собственным исконным традициям, ценностям и ритуалам, вплетенная в мелкоячеистую сеть из семьи, рода и племени. Подчиненные теменгонгу султаната Джохора, нептуноподобному владыке, царство которого охватывало куда больше воды, чем суши. Построенное на волнах и песке, а не на камне, оно тем не менее казалось вечным и вневременным.
Георгина жадно впитывала все, что Рахарио рассказывал ей об этом чужом мире, который, казалось, родился из сказки и все же был реальным. Рахарио принес ей приключение, которое она не смогла бы выдумать себе даже в самых смелых фантазиях. И хотя она была все эти дни настолько близко к нему, что не могла сомневаться в реальности юноши из плоти и крови, он все же казался ей иногда мифическим созданием океана.
Юный морской человек. Сын Тритона. Или одно из ластоногих существ, о которых когда-то рассказывал ей отец: они сбрасывают свою морскую шкуру, выходя на берег в человеческом облике.
А Георгина была всего лишь обычной маленькой девочкой, рожденной на суше и приговоренной к земле.
Единственное ее сокровище состояло в знании грамоты, которой с ее помощью овладевал и Рахарио, когда они вместе склоняли головы над страницами книги. Черные значки, тоненькие, как паучьи ножки, сухие, как ломкая истершаяся бумага под ними. Жалкие по сравнению с тем волшебством, которое исходило от Рахарио.
– Когда-нибудь, – тихо сказал Рахарио, устремив взгляд в сторону моря поверх веток с красными цветами, – когда-нибудь я стану богатым. Богатым и могущественным. И у меня будет большой корабль, только мой.
Георгина, сидя рядом с ним на скале, тайком взглянула на него сбоку. Его темные глаза налились тоской – и эта тоска была эхом ее мечтаний. Она еще крепче обхватила руками колени.
– А меня ты возьмешь с собой? – робко спросила она.
Он скривил рот:
– А ты что – плавать умеешь?
Георгина пристыженно качнула головой: нет. Он состроил гримасу разочарования и с сожалением прищелкнул языком:
– Без того, чтобы уметь плавать, – на корабль ни-ни. Даже не думай.
Георгина слабо кивнула, теребя нитку у себя на саронге.
– Но, – быстро шепнул он ей на ухо, – я могу тебя научить. – Он легонько толкнул ее: – Ну конечно же, я возьму тебя!
Неуверенная улыбка задрожала на губах Георгины и взорвалась ликованием, когда Рахарио ей улыбнулся.
Георгина не знала, каким он ей нравился больше: с легкой тенью пушка вокруг рта или с гладким и мягким подбородком после того, как он поколдовал над ним старой бритвой из выдвижного ящика умывального столика. Но ей точно нравились две канавки по уголкам его рта, которые появлялись, когда он улыбался, и то, как ярко вспыхивали ровные зубы на его коричневой физиономии, когда он смеялся. Ей нравилось, как живо двигались его брови, когда он говорил, и ей нравились его глаза – они напоминали ей насыщенные капли черного океана, то спокойные и бездонно глубокие, то бурно кипящие. И когда он смотрел на нее – вот как теперь, – в животе у нее начиналась щекотка, как будто там копошилась горстка жуков.
Она еще теснее прижала к себе колени, не находя применения своим рукам, которые раньше обрабатывали раны Рахарио.
– Как твоя нога?
Двумя пальцами Рахарио раздвинул на штанине прореху и заглянул туда, потом осмотрел розовую кожицу на плече.
– Заживает хорошо. – Он повернулся к ней с легкой улыбкой: – Эти шрамы всегда будут напоминать мне о тебе.
От порыва свежего ветра Георгина поежилась.
Что-то было в глазах Рахарио – когда его взгляд устремлялся через ограду и следил за парусами кораблей, пока они не скрывались за горизонтом, – что-то было такое, что выдавало, насколько гложет его тоска по водной стихии. Беспокойство поселялось в его конечностях, все более сильное по мере укрепления его сил. Как будто для него было пыткой долго находиться на суше.
И Георгина страшилась того дня, когда зов океана станет нестерпимым и она потеряет Рахарио прежде, чем успеет разыскать его тюленью шкуру и надежно спрятать ее.
Легкими ногами бежала Георгина по саду, и в такт шагам билось ее сердце – свободно и быстро. Прижав к себе миску с дымящимся карри и рисом для завтрака, она пробралась сквозь заросли и взлетела по ступеням на веранду.
– Доброе утро, – крикнула она с порога с новообретенной радостью в голосе.
Комната была пуста.
Она выбежала и бросила взгляд на скалу, жадно посмотрела во все стороны густых зарослей.
– Рахарио?
Закусив нижнюю губу, она вернулась в павильон. Краем глаза заметила, что на полке зияет прореха: двух книг не хватало.
Но вот ее взгляд упал на ветку розовых орхидей, лежащую на кровати, и ей все стало ясно.
Она понуро поставила миску на умывальный столик. Ее шаги по дощатому полу стали тяжелыми, вялыми; без сил она вскарабкалась на постель и свернулась калачиком.
В животе у нее горело, то был алчный, всепожирающий огонь, рассылающий жаркие волны по всему ее телу. Вцепившись пальцами в ткань, она прижалась лицом к простыне и подушке, втягивая следы запаха Рахарио и аромат орхидей, которые она помяла своей щекой.
Каждое утро Георгина приходила сюда, в павильон, с трепетной искрой надежды снова увидеть Рахарио. И всякий раз находила обе комнаты такими же пустыми, как оставила их накануне.
День за днем она сидела на скале перед стеной ограды и смотрела вдаль на коричневую кору острова Батам – ветер в волосах, на коже солнце, соль и дождь. Смотрела на море, на эту вечно одинаковую, вечно переменчивую даль из шелка, жемчужную, лазурную, нефритовую, непостоянное небо пересекали пеликаны, чайки и птицы-фрегаты.
Лошадиные повозки и воловьи упряжки, громыхающие по Бич-роуд и в сухие дни вздымающие пыль, она не удостаивала даже взглядом. Она высматривала рыбаков, которые вытягивали на берег тяжелые сети под взволнованный галдеж птичих стай, – не различит ли она среди них фигурку Рахарио. И провожала взглядом гордые парусники, большие и маленькие лодки, мельтешащие по волнам. Какая-нибудь из них однажды, может быть, направится к берегу с Рахарио на борту, который вернется, чтобы взять ее с собой в огромное, бескрайнее море.
День за днем проходили в приливах и отливах. В приходах и уходах надежды и разочарования и в бесконечной игре волн времени.
Пока неудержимо стремящийся вперед поток жизни не подхватил Георгину и не унес с собой.
I
Тропическая лихорадка
1849–1851
Как ловят огонь зимородки, облекаются в искры стрекозы, как камень, упавший в колодец, звенит, как поет задетая струна, как раскачивается колокол, чтобы собственным голосом выкрикнуть в мир: это я, так поступает и всяк человек: высылает вперед то, что присуще ему.
Вот он Я, возвещает он громко, Я есть то, что я делаю.
Вот для чего я пришел.
Джерард Мэнли Хопкинс
1
Сингапур. Город льва.
Некогда Тумасик, Страна в море.
Лонг Я Мен, Ворота Зуба Дракона и ворота Китая.
Город ветров, где умирает один муссон и тут же зарождается другой.
Остров плыл по воде, как лист дерева гинкго.
Отделенный лишь узкой полоской пролива Джохор от крокодильей спины Малаккского полуострова, он раскрывался на всю синеву Сингапурского пролива. И какой бы узкой и мелкой ни была река, что вилась сквозь тропические леса, сквозь мангровые болота, соленые марши и песчаные дюны навстречу восходящему солнцу, она несла в себе огромную мощь. Могучий дракон, распахнувший острозубую пасть к побережью, где воды его сливались в страстном лобзании с водами моря.
Из этого соединения зародился естественный порт, защищенный окрестными островами от бесчинства стихии и словно созданный для того, чтобы здесь забилось сердце торгового поселения.
Сэр Стэмфорд Раффлз смело посадил семенное зерно среди зелени и синевы моря и джунглей. Это зерно он нарек Сингапур. Прикрытое флагом Ост-Индской компании и защищенное договорами и проектами, семя это быстро взошло в плодородной почве столетней обширной сети торговых путей. Сингапур развивался, рос, щедро плодоносил и разветвлялся все шире, вовлекая все больше людей, каковых вольный порт притягивал торговлей без пошлин, как привлекает птичьи стаи богатое пропитанием место кормления.
При этом Сингапур не имел корней – как орхидея. Город без истории и без прошлого, словно выдавленный из земли и перехлестнувший все грани в своем неуемном цветении. Затопленный хлынувшим в него потоком людей из Китая и Индии, из султанатов Малаккского полуострова, с Явы, Суматры, Бали и всех других островов архипелага, из Аравии и Армении, и окаймленный бледной пеной шотландцев, немцев и англичан. Город мужчин, ринувшихся сюда в одиночку, дабы заниматься торговлей, найти работу, разбогатеть, прежде чем вернуться туда, откуда они явились.
Сингапур был городом, наполненным перелетными птицами. Городом, в котором человек не пускал корней, который никому не был родиной, в котором каждая чашка риса была посолена тоской по дому.
Но Георгина Индия Финдли в первом же своем вдохе наполнила легкие тропическим воздухом этого острова. Палящее солнце, теплый дождь и соленый морской бриз сопровождали ее взрастание, и так же, как она сделала свои первые нетвердые шаги в саду Л’Эспуара, потеряла свой первый молочный зуб в тени жасмина, в первые десять лет жизни она пустила корни в тонкую почву острова, нашла опору в красной земле, песке и тине.
Корни, которые в один прекрасный день были жестоко перерублены. Открытая рана, из-за которой она боялась истечь кровью, пока не привыкла – благодаря гибкости детской души – к своей новой жизни на чужбине. И к ностальгии, которая со временем утихла до приглушенного биения в ней, но полностью никогда не прошла.
Георгина блаженствовала во влажной жаре, едва смягченной ветерком, на борту сампана – он транспортировал ее вместе с багажом к острову. Блаженствовала, хотя ленты ее шляпы прилипали к коже, а спина платья из тонкого муслина пропотела. Здесь она больше никогда не будет мерзнуть.
Что можно противопоставить тоске по родине? Радость родины?
Слова, которые казались Георгине слишком тихими, слишком пустыми: скорее задавали направление, нежели выражали чувство.
Притом что все вокруг этого возвращения было громким и сопровождалось бурными выбросами эмоций. Перебранки с теткой, пылкие в силу шотландской крови обеих – их не мог сгладить даже такой невозмутимый человек, как дядя Сайлас. Слезы ее кузины Мэйси, которая видела в Георгине сестру и не хотела с ней расставаться. И безграничное счастье, когда тетя Стелла все ж таки уступила и дала согласие на отъезд. Лихорадочное нетерпение наконец-то уехать, наконец-то приехать, которое оказалось упрямым спутником в долгом пути по морю и суше.
Облачная дымка подернула небо из душистого припудренно-синего шелка. Пышные сестры ее вяло льнули к холмам, разбросанным по берегу мягкой мшистой обивкой. Губернаторский холм с флагом на мачте, береговая охрана и входящие корабли, дом губернатора, белый на фоне зелени – все это, казалось, выжидательно смотрело в глаза Георгине. Как будто желая ей выкрикнуть: Наконец-то! Ты наконец-то вернулась… Ты нас еще помнишь?
Последние воспоминания Георгины о Сингапуре были искажены бессильным страхом и пламенным гневом, в котором она царапала дядю Этьена, била его и кричала так, будто ей вырывали сердце. Она помнила взгляд отца, полный печали и постыдного облегчения, перед тем как он отвернулся и пошел назад в дом. Помнила, что силы ее кончились, как только они поднялись на борт, и как она безвольно упала в объятия дяди Этьена, ничего не видя от слез, а он утешал ее.
Сампан лавировал между покачивающимися корпусами кораблей и лодок, стоящих на якоре у берега, под лесом мачт и труб, парусов, флагов и ярких вымпелов. Здесь были большие колесные пароходы – такие же, как тот, которым Георгина приплыла сюда из Суэца, были неповоротливые парусные корабли и верткие, быстрые, как стрела, клиперы. Георгина опознала китайские джонки с их корпусом, изогнутым подковой, выкрашенным в красный, желтый или белый цвет, под парусами, похожими на веер, и треугольные паруса корабликов из Кочинчины. Паруса малайских пераху были прямоугольными, а суда народа буги отличались высокой коробчатой надстройкой на корме.
Полоска из белых фасадов и терракотово-красных крыш нежилась за Эспланадой, по ту сторону от новой, стройной башни Сент-Андруса, переплетаясь с тропическими садами вдоль Бич-роуд в один расточительный орнамент из платочных, кружевных и обойных узоров. Один из домов там, должно быть, Л’Эспуар, только Георгина не знала точно который; дымка замутняла вид, а может, слишком давно это было.
Мимо скользили рыбацкие лодки и челны, полные связок бананов; другие были нагружены коробками с манго, красно-волосатыми плодами рамбутана, раковинами и кораллами или бамбуковыми клетками с крикливыми обезьянами или яркоперыми птицами.
Там, где река впадала в море, белая кайма города круто заворачивалась и берега реки тянулись друг против друга, словно желая поздороваться. Сампан свернул в эту узкую протоку, и жизнь реки Сингапур во всей ее пестроте, в шумной деловитости прыгнула навстречу Георгине.
Дюжины и дюжины лодок и челнов теснились у береговой стены, пробирались вверх по течению и скатывались вниз, вдоль правильного полумесяца портовых складов. Отовсюду слышались голоса и шумы, переплетаясь в один гул, стук и грохот; лица, одежда людей, калейдоскоп всех граней Азии. Воздух был тяжелый от перезрелых фруктов и отбросов, от рыбы, пыли, пота и гнили близких болот, приправленный солью и водорослями, ароматом пряностей и дымком от горения древесного угля.
На краю этого бурлящего моря из красок, запахов, звуков и людей, на правом берегу реки Георгину принял прохладный идиллический островок белого павильона с колоннами. Два господина в костюмах ждали, каждый сам по себе, в своей тени, прибывающих пассажиров; отца Георгины там не было.
Избегая их любопытных взглядов, Георгина дружелюбно отказалась от услуг китайского кули и с нервной улыбкой высматривала, не покажется ли высокая, стройная фигура отца, и сердце ее колотилось до самого горла.
С радостными восклицаниями, рукопожатиями и похлопыванием по плечу оба господина встретили своих новоприбывших, которые поднялись из следующих сампанов. Один из них коротко кивнул Георгине; молодой человек, ненамного старше ее, пшеничный блондин с румянцем и тоже из Лондона, прибывший тем же кораблем, но как его зовут, она успела забыть.
Их довольные голоса и шаги стихли между колонн, и воцарилась тишина.
Георгина наблюдала за китайскими кули, которые на другом берегу выгружали из лодок и переносили в склады или наоборот ящики с пряностями и чаем, мешки с перцем, саго и тапиокой, коробки с фруктами и связки ратана. Как она это иногда делала раньше с отцом, когда была совсем маленькая. Она следила за чайками, которые с хриплыми криками кружили над водой в поисках, не перепадет ли им где съестное, и за пеликанами, которые элегантно парили в воздухе, но на земле выглядели неуклюжими и забавными.
С равными интервалами ее пугал бой часов на колокольне близкой церкви. Звук, к которому она привыкла в Лондоне, но здесь он казался неуместным. В ее детстве время в Сингапуре отмерялось не колокольным звоном, а пушечными выстрелами на Губернаторском холме, которые возвещали начало дня, полдень и вечерний час. И хотя она не считала удары, каждый из них оповещал ее о том, что время неумолимо проходит, а она все стоит здесь и ждет.
Она избегала вопросительных взглядов тех, кто прибыл после нее. Господ, входящих в павильон, чтобы кого-то встретить. Делала вид, что не замечает, как малайские кучеры, сидя на своих ко́злах, разглядывают ее.
Все и всё вокруг Георгины пребывало в движении, а она не трогалась с места; вокруг нее образовался вакуум, наполняя ее чувством одиночества. Улыбка давно сошла с лица, покинутое сердце спотыкалось в груди.
Она медленно опустилась на самый большой из своих чемоданов и уставилась в пустоту.
– Мисс Финдли? – Мужской голос, низкий и полнозвучный, наложенный на быстрые шаги.
Георгина встрепенулась:
– Да?
– Слава богу, вы еще здесь!
Размашистый шаг не утратил своей решительности и тогда, когда незнакомец остановился перед ней. Но безличная улыбка тут же спала с его лица, как маска; глядя на нее, он вдруг растерялся.
Сердце Георгины пропустило один удар, и она нетвердо поднялась на ноги.
– Что-нибудь… с моим отцом? – прошептала она с пересохшим горлом, обеими руками стискивая сумочку.
– Нет, – тихо и без выражения ответил он, все еще в полной растерянности.
Но тут на его лице возникла новая улыбка, более открытая, искренняя, придав ему что-то юношеское.
– Нет, что вы. Мистер Финдли хотел встретить вас сам, но ему пришлось срочно заниматься поступившим грузом. И он послал меня.
Его улыбка укрепилась в уверенности и стала шире, он протянул ей руку:
– Очень рад, мисс Финдли. Пол Бигелоу. Я работаю у Финдли и Буассело. Как вы добрались?
Волна облегчения, которая было поднялась в ней, снова схлынула и растеклась грязной лужицей разочарования. Она механически кивнула и ответила на крепкое рукопожатие Пола Бигелоу.
Его ладонь была крепкой, горячей и влажной чуть больше, чем требовалось. Их глаза встретились на одном уровне – Пол Бигелоу был не очень рослым, зато Георгина роста была выше среднего, гибкая и стройная, как все Финдли.
– Как видите, – он указал на свою рубашку с закатанными рукавами, пропотевшую под подтяжками, – я так спешил, что выбежал из конторы без сюртука. – Он скользнул пальцами по своим коротко остриженным русым волосам: – И без шляпы.
Опустив голову, он смотрел на нее снизу вверх с извиняющейся улыбкой, но в этой улыбке было и лукавство, и Георгине ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ:
– Я ценю ваше рвение, мистер Бигелоу.
Он просиял:
– Спасибо, мисс Финдли. Только на это я и надеялся.
Он подозвал двух китайских кули и подставил Георгине локоть:
– Идемте, я отвезу вас домой.
Несмотря на окна над низкими дверцами и шлицевые жалюзи со всех сторон, в деревянной кабинке, куда подсадил ее Пол Бигелоу, было жарко и душно; подсадил скорее из галантности, а не из необходимости, ибо подножка была у самой земли.
Потными пальцами Георгина развязала бант под подбородком, с облегчением сняла шляпу и вытерла рукавом лоб и виски.
– На Бич-роуд, пожалуйста, – повернулась она к Полу Бигелоу, который сел в кабинку с другой стороны.
– Я знаю. – Он изобразил поклон: – Позвольте – ваш квартирант. Я уже послал в Л’Эспуар человека, чтобы он предупредил о вашем прибытии.
Нахмурив брови, Георгина кивнула.
Пол Бигелоу хлопнул по дверце с наружной стороны, и повозка тронулась и запрыгала на тонких металлических колесах. В более-менее комфортабельных экипажах на улицах Лондона Георгина уже забыла, как тряско ездить в сингапурских паланкинах. Внутрь проник теплый воздух движения, а когда повозка свернула на прибрежную дорогу, то и морской бриз.
Георгина вытянула шею, высматривая белый фасад Сент-Андруса, маленькой церкви, которую финансировали Гордон Финдли и другие шотландские торговцы города. Для Георгины эта церковь с незапамятных времен была тайным знаком Сингапура, путеводной звездой, ведущей к дому.
Служащий ее отца, с которым ей придется жить под одной крышей, был плотным, крепко сбитым, при этом еще молодым человеком; с виду ему было не больше двадцати пяти. Он сидел напротив нее, широко расставив ноги, расслабленно закинув руки на спинку сиденья. Начищенные туфли плотно прижаты к полу. Руки у него были на удивление сильные и загорелые, как будто он целыми днями таскал ящики, а не сидел за письменным столом в конторе. В солнечном свете волоски на руках вспыхивали золотом, и, хотя время было чуть за полдень, вокруг рта успела пробиться щетина, придавая залихватскую нотку его вполне солидному облику.
Его глаза, подкупающе голубые, встретились с ее глазами. Георгина быстро отвернулась к морю, к кораблям и лодкам, танцующим на волнах.
– Как мне сказал мистер Финдли, последние годы вы провели в Англии?
– Первые несколько месяцев я была в Индии, в Пондишери. В семье дяди, брата моей матери. – Георгина взглянула на него сбоку: – Вы его наверняка знаете. Этьен Буассело.
Пол Бигелоу кивнул:
– Конечно. В мои обязанности входит большая часть переписки с мистером Буассело. Он в прошлом году приезжал сюда на несколько недель.
Его английский был с акцентом, растягивающим некоторые гласные; не с севера ли он?
– Вы давно в Сингапуре?
– Года четыре, – он наморщил лоб: – начинал я у Бустед, а последние два года – у Финдли и Буассело. Да, как раз четыре года назад я и приехал, – он расцвел: – из Манчестера.
Манчаста.
– Я почти семь лет провела в Лондоне, у сестры отца, в ее семье.
– Сколько лет вам было, когда вы отсюда уехали?
– Десять. – Голос ее звучал слабо; отзвук того перелома, который в том году окончательно разделил надвое ее жизнь, трещина в которой возникла слишком рано.
– Десять, – тихо повторило эхо с его стороны. Неожиданно мягко. – Должно быть, для вас это было очень тяжело.
Глаза его при этом были глубокими и темными, как море в облачный, но безветренный день.
Лишь внезапный толчок – паланкин поворачивал – оторвал их взгляды друг от друга, и Георгина молча подставила лицо переменчивой игре света и теней от высоких деревьев.
Сердце ее забилось – она узнала первые дома в их сочно-зеленых, цветущих садах. Оно заплясало от радости, когда паланкин свернул во двор и остановился в тенистом туннеле крытого въезда.
Подскочил малаец, открыл дверцу и глубоко поклонился; возможно, это был один из двух саисов, что раньше отвечали в Л’Эспуаре за лошадей и повозки и возили ее отца в город.
– Я должен вернуться в контору, – сказал Пол Бигелоу, помогая ей выйти из кабинки. – До вечера!
Георгина смогла лишь кивнуть; она была захвачена тем, что видит: персонал выстроился в шеренгу на ступенях веранды. Как во сне она шагнула вперед, и застывшая картинка разом рассыпалась в громких ликующих криках, поглотивших шум отъезжающего паланкина.
– Селамат датанг! Добро пожаловать, милости просим!
Со смехом и криками люди бросились к ней и обступили ее. Сперва трое боев, на удивление мало изменившиеся, будто время их не коснулось, приветствовали ее, вытянувшись по струнке, но зато с широкими улыбками, прежде чем кинуться к багажу.
– Да вы посмотрите на нее! Вы только посмотрите! – восторгалась Картика, обхватив лицо Георгины ладонями кофейного цвета. – Наша маленькая Нилам стала леди! Настоящей леди! Да какая красавица! Совсем как наша мэм когда-то!
– Вот, Нилам! – Из-за Картики протискивался Аниш, чей безупречно белый тюрбан возвышался над Георгиной больше чем на голову, борода с закрученными кончиками совсем поседела. Он настойчиво протягивал Георгине поднос с пестрыми тарталетками: – Специально для тебя приготовлено! Для начала!
Кожистое лицо Ах Тонга отражало его застенчивость, но также и гордость и радость; в тонких костлявых руках он держал ожерелье из нанизанных орхидей, лепестки их с крапчатыми язычками светились белизной.
– От имени нас всех, – торжественно и растроганно объявил он, – я хотел бы просить тебя милости в дом, Ай… мисс Георгина.
С легким поклоном он надел цветочное ожерелье ей на шею, и этот почти забытый, будоражащий своей интенсивностью аромат больше, чем что-либо другое, заставил Георгину бороться со слезами.
– Терима казих баниак-баниак, – прошептала она сквозь стеснение в горле, малайские фразы звучали для нее непривычно, она отвыкла от этого языка за эти годы. – Большое, большое спасибо.
Со всех сторон раздавались вопросы о дороге и самочувствии, об Англии и английской родне; постоянно повторялось, как все рады, что она благополучно вернулась, и как она выросла. Картика, из юной девушки созревшая в роскошную женщину, не могла налюбоваться на нежно-зеленое длинное платье Георгины и не уставала вновь и вновь гладить ее то по голове, то по плечу, то хватать за руку.
Поверх пробора Картики синие глаза Георгины встретились взглядом с темными глазами женщины, которая так и осталась стоять на лестнице. Первые морщины прорезали ее лицо цвета корицы, а лаково-черные волосы, как всегда стянутые в строгий узел, кое-где серебрились седыми нитями.
– Селамат сеяхтера, Семпака, – тихо сказала Георгина, при этом бессознательно прибегнув к почтительной форме приветствия.
Какое-то мгновение казалось, что Семпака хочет ответить, но тут ее лицо омрачилось. Она резко повернулась к Георгине спиной и поспешила в дом.
Приняв ванну, с еще мокрыми волосами, рассыпанными по плечам халата, Георгина стояла перед открытой дверцей шкафа. Ей не хотелось в тропическую жару возиться с крючками корсета, напяливать платье, пусть и из самой легкой ткани, поверх нескольких нижних юбок.
Она потянулась было к тонкому летнему платью, которое Картика недавно вынимала из чемодана и вешала в шкаф, восхищаясь тканью и ее отделкой, лентами, кружевами и рантиками. Но снова опустила руку и отвернулась.
Пылинки светились в полосках света, которые маслянисто сочились сквозь щели бамбуковых жалюзи, и сквозь стрекот цикад пробивались шепот волн и шорох листьев.
Ее старая детская комната.
Неизменившаяся и все-таки уже не та. Кровать под москитной сеткой, которая когда-то казалась ей такой огромной, а простыни казались прохладно поскрипывающим полярным ландшафтом задолго до того, как она впервые увидела снег и лед. Шкаф размером с комнату, иногда она пряталась в нем от Семпаки. Комод, некогда неисчерпаемый сундук с сокровищами для детских игр, за последние семь лет нещадно разграбленный, белье, чулки и перчатки Георгины не могли заполнить его зияющие пустоты.
Она сделала несколько бесцельных шагов босыми ногами, и они вывели ее из комнаты.
Двери по другую сторону балюстрады, под которой простирался входной холл, раньше отдаленные на целый океан, теперь придвинулись совсем близко; за одной из этих дверей, видимо, и проживает Пол Бигелоу.
Весь дом Л’Эспуар, казалось, съежился, стал теснее и темнее, чем был в ее воспоминаниях, великанша Георгина спустя семижды семь лет вернулась в бывший дворец, ныне растерявший свой прежний блеск и обреченный на гибель. Тропический воздух разъел камень, искорежил древесину, замутнил зеркала пятнами; морская влага выщелочила ткани и тростниковое плетение и нарисовала на стене тени. Море сырым дыханием манило Л’Эспуар к себе, и дом, казалось, был согласен упасть в его объятия.
Робко, почти пугливо Георгина отодвинула дверь рядом с ванной и зашаталась от нахлынувших воспоминаний. Отцовские сюртуки, фраки, рубашки и шляпы, ботинки и сапоги для верховой езды по одну сторону гардеробной, радужное разноцветье платьев и вечерних нарядов матери по другую. Этот ни с чем не сравнимый запах влажного шелка, шерсти и хлопка, маргозы, трубочного дыма и кожи, пыли, цветов.
Георгина обеими руками зарылась в тонкие ткани и спрятала в них лицо. Она упивалась исчезающим ароматом. Каждая капля воспоминаний была драгоценна, как сверкающий бриллиант.
Яркие, блестяще расшитые сари, много лет назад привезенные мамой из Индии, были в разводах от пятен сырости и пахли плесенью; а вот саронги и кебайи, которые носились дома чаще всего, свежо пахли речной водой и мылом, будто только что постиранные и выглаженные доби-валлахом. Как будто в Л’Эспуаре со дня на день ожидали возвращения госпожи, тогда как следы Георгины были уничтожены так основательно, будто здесь никогда не было маленькой девочки.
Георгина выскользнула из халата, влезла в синий узорчатый саронг и надела поверх рубашки легкую кебайю.
– Как тебе не стыдно?! – Скрестив на груди руки, в дверях стояла Семпака, в глазах нескрываемое недовольство. – Это же вещи мэм!
Георгина пристыженно теребила кебайю, рукава которой были ей коротковаты, так же как и саронг едва наполовину прикрывал ее икры.
– Только на время, – тихо заверила она. – На первое время. Пока я не куплю здесь что-нибудь новое…
Ее голос истаял под пылающим взглядом Семпаки.
– Только не вздумай играть здесь в новую госпожу. Тебе никогда не дотянуться до нашей мэм Жозефины.
Старый знакомый страх вонзил в Георгину когти.
– Мне… мне очень жаль, что… что раньше я так осложняла тебе жизнь, – прошептала она, подыскивая правильные слова. – Что я была невоспитанным ребенком. Но теперь я больше не ребенок, и…
Семпака без слов повернулась и вышла.
– Семпака! – бросилась за ней Георгина. – Ты не могла бы наконец усмирить свой гнев против меня? После стольких-то лет! Хотя бы попытаться!
Семпака полуобернулась к ней, на лице не столько гнев, сколько усталость:
– И зачем ты только вернулась? – Ее голос, обычно такой сильный, звучал глухо и опустошенно. – Ты принесешь этому дому только несчастье. Как ты сделала это и раньше.
Не тратя больше ни одного взгляда на Георгину, Семпака оставила ее.
Георгина молча смотрела ей вслед.
Сад томился под небом из меловой пыли. Яркий послеполуденный свет впитывался в землю, и ранние сумерки вымывали краски из листьев и цветов.
Каждый удар сердца вышибал пот; воздух, который вдыхала Георгина, вязкой пленкой налипал на горло и легкие. Свинцовая тяжесть вселилась в ее конечностях; отзвук усталости от столь долгого путешествия, даже для такого молодого и сильного организма, в то время как душа была в смятении.
Она была рада покою на веранде, хотя уголки ее губ поднимались в улыбке, когда она слышала позади себя в доме голоса боев, столь похожие один на другой в своем мелодичном звучании. Хриплый голос Ах Тонга. Бас и громоподобный смех Аниша. Хихиканье Картики. Даже резкий приказной тон Семпаки на расстоянии имел оттенок чего-то родного, уютного, хотя Георгина всякий раз, слыша его, непроизвольно вбирала голову в плечи.
Сад тоже молчал – полублагоговейно, полувыжидательно; только море казалось беспокойным и лепетало что-то провидческое.
Сильный порыв ветра растрепал кроны пальм и растревожил листву высоких деревьев. Листья затрепетали под первыми каплями, и под грохот грома разверзлись небесные шлюзы.
Лесок ближе к берегу моря казался не тронутым рукой человека. Ее излюбленное место в детстве. Так же непроходимо заросший, как в то время, когда она видела его в последний раз; возможно, после нее туда ни разу не ступала ничья нога и павильон давно разрушился.
Павильон, где она в такой же ливень, как этот, обнаружила мальчика, раненого и ослабленного. Юный морской человек из племени зельки, которому она отдавала свое детское сердце, день ото дня все больше, и который разбил ей это маленькое, бездонное сердце, исчезнув однажды утром.
Его лицо, его голос она взяла тогда с собой за море и лелеяла в памяти как бесценное сокровище. Ее талисман во все те ночи, когда мучительная тоска по родине не давала ей заснуть; судьба, которую она придумывала ему в своих фантазиях, новая встреча с ним, которую она постоянно рисовала себе, ее путеводная звезда. До тех пор, пока воспоминание не обтрепалось об острые края реальности, а его облик не размылся до неузнаваемости.
И зачем ты только вернулась?
Молния ослепительно раскроила небо, последующий затем гром разорвал воздух ударом хлыста, от которого сотряслась веранда, в ушах у Георгины зазвенело. В траве собирались лужи, быстро превращаясь в пруды, каскады воды обрушивались с края кровли, и ручьи бурлили вдоль основания дома.
Вот затем я и вернулась.
Георгина запрокинула голову и глубоко вдохнула. Воздух, который стал легче, прозрачнее, чище, нес с собой привкус моря. Она купалась в разгуле стихии, в дикости молний, грома, дождя и ветра, которой ей так давно не хватало. И часть ее существа, замершая было на холодной чужбине, не признающей никакого чрезмерного буйства, снова начала оживать.
Ей в голову пришло малайское название родины. Танах аир.
Земля и вода.
Дождь ослабел; он непрерывно лился перламутровыми струями, а там, где тучи вдали разредились, стало проглядывать сияющее синее небо. Воздух был еще свежепромытый, но уже снова сгущался в зной, вышибающий пот. Под шорох дождя гремел отдаленный гром, и, почувствовав, что на веранде она не одна, Георгина повернула голову.
Рослый, при этом с широкой костью; опущенные плечи придавали ему сходство с плакучей ивой. Время еще глубже вытравило те борозды на его узком лице, что уже были раньше, добавило седины в темные волосы, но пощадило, как прежде, мохнатые брови.
– Георги?
Папа застряло у нее в горле; тем стремительнее она вскочила.
Неприкрытое удивление в его глазах, что маленькая девочка, переданная семь лет назад под опеку его зятя, вернулась как будто на другой же день юной женщиной, вспыхнуло и погасло. Его взгляд замкнулся, он казался смущенным, поигрывая цепочкой карманных часов на жилетке, сдвинутые брови выражали сознание вины, а возможно, и старой, никогда не утихающей боли.
Георгина как козочка побежала с опущенной головой к этому валу неприступности и бросилась на него, крепко вцепилась и дала волю детским слезам.
– Папа, – плакала она в его рубашку, пахнущую зеленым мылом, табаком, солнцем, сухим чайным листом и давно канувшим в прошлое детством. – Папа.
Какое-то время Гордон Финдли казался нерешительным – то ли защищался, то ли просто был беспомощным. Наконец его ладони легли дочери на спину и неумело ее погладили.
– Ну-ну, – сухо пробормотал он. – Ничего, все хорошо.
Не поднимая головы, Георгина кивнула. Да, теперь все было хорошо, она снова дома.
С долгим откашливанием отец взял ее за плечи и отодвинул от себя. Поднял руку, будто хотел погладить ее по волосам или по заплаканному лицу, но тут же снова опустил обе руки.
– Ты… – Кашель перебил его и заставил начать снова: – Ты наверняка еще захочешь переодеться. – Он помедлил, снова покрутил цепочку и кивнул Георгине, повернувшись уходить: – Мы ужинаем в шесть.
Скованность, такая же густая, как жара тропического вечера, наполняла столовую на верхнем этаже.
Пунка-валлах, тощий малайский мальчик, сидящий с остекленелым взглядом на корточках на полу, монотонными движениями раскачивал за веревку скрипучее опахало, подвешенное к потолку. Намек на шевеление воздуха заставлял вспыхивать свечи настольного подсвечника, но едва ли мог разогнать вязкую жару. Точно так же и Георгине не удавалось расслабить настроение за столом.
За разноцветными карри, которыми Аниш разжег фейерверк из сладкого, фруктового, острого, совсем огненного, соленого и кислого, она описывала свое путешествие по Средиземному морю и костоломную поездку от Александрии в Суэц, во время которой она видела пирамиды и сфинкса. Она рассказывала об Элизе и Уильяме Хэмблдон, совсем юной супружеской паре, с которой она подружилась за время поездки и которая из Сингапура ехала дальше в Гонконг, чтобы принести в Китай западную медицину, образование и христианскую веру. И подробно докладывала о тете Стелле, дяде Сайласе и их доме на улице Королевского Полумесяца; о концертах, музеях и садах, которые она посещала, и об экскурсиях на материк, которые совершала, и о своих кузенах Стю, Дикки и Ли и кузине Мэйси. Бегло набросанные эскизы, впопыхах и без глубины, лишь бы ни на мгновение не возникало неловкого молчания.
То и дело Георгине казалось, что она чувствует на себе взгляд отца. На его немного чужой дочери, которая сидела по правую руку от него, такая взрослая, лиф с короткими рукавами, пышная юбка, волосы расчесаны на пробор и аккуратно подколоты. Но всякий раз как она смотрела в его сторону, он утыкался в тарелку или в стакан. Один только Пол Бигелоу одобрительно кивал, время от времени задавал вопросы, отпускал замечание или улыбку, когда переводил взгляд с Гордона Финдли на его дочь и обратно.
– Тетя Стелла и дядя Сайлас передавали тебе сердечный привет, – горячо бросила Георгина отцу высоким, почти резким голосом. – Особенно тетя Стелла!
Гордон Финдли задумчиво покивал, глядя перед собой, сложил на тарелку свои приборы, угловатым, нерасторопным движением стянул салфетку с колен, отложил ее, встал.
– Надеюсь, ты извинишь меня… у меня еще работа. Доброй ночи. – Он сдержанно раскланялся на обе стороны: – Мистер Бигелоу. Увидимся завтра.
Пол Бигелоу приподнялся и обозначил поклон.
– Доброй ночи, сэр. До завтра.
Георгина прислушивалась к шагам отца, поспешно удалявшимся по коридору и стихшим на лестнице внизу. Остатки карри расплылись перед ее глазами, подступили слезы.
Цикады стрекотали нестерпимо громко; злорадный хор высмеивал ее тщетную надежду, что между ею и отцом за это время что-то сдвинулось, изменилось. И полусочувственное, полупрезрительное прицокивание, звучные жалобы из влажных глоток лягушек были как нескончаемое Вот тебе! Мы так и знали!
– Дайте ему немного времени, – услышала она голос Пола Бигелоу, осторожный, почти нежный. – И себе самой тоже. Вы же не виделись целую вечность.
Закусив губу, Георгина кивнула:
– Да. – Она храбро сморгнула слезы с ресниц и с благодарностью взглянула на него: – Да, будь по-вашему.
Бой Два отделился от своего места возле буфета, взял графин вина и с вопросительным взглядом предложил сперва Георгине, потом Полу Бигелоу подлить в их бокалы. Оба согласно кивнули.
Пунка-валлах на один удар сердца замер – видимо, полагая, что уход туана Финдли был сигналом к тому, чтобы убирать со стола, – и снова принялся дергать за веревку; уютное поскрипывание опахала продолжилось.
Закинув локоть на спинку стула, Пол Бигелоу вытянул ноги и взял свой бокал.
– Была ли какая-то определенная причина, по которой вас отправили в Англию? Я не хочу быть бестактным, – быстро добавил он. – Это всего лишь… любопытство.
– А отец вам этого не рассказывал?
Глаза его сверкнули, он смотрел на нее поверх своего бокала и медленно сделал глоток.
– Мистер Финдли шотландец. Я англичанин. Мы не так много говорим о личном. Только о делах. – Его тонкие губы скривились в плутовской улыбке, которая, казалось, была для него типична.
Непроизвольно улыбнулась и Георгина:
– Простите. Я забыла.
Пол Бигелоу тихо рассмеялся.
Брови Георгины чуть сдвинулись, а взгляд блуждал по фарфору и серебру на столе:
– Считалось, что здесь, в тропиках, я лишь одичаю под присмотром местной прислуги. И что Сингапур не место для маленькой девочки.
Она рассеянно вытянула из хлебной корзинки лепешку чапати и принялась крошить ее над тарелкой.
Ребенку необходима не только крыша над головой, – звучал решительный голос ее тети. – Иметь во что одеться и чего поесть – это еще не все.
– Когда в том году разразилась холера, в городе почти каждую ночь грабили какой-нибудь дом, и участились нападения средь бела дня. И тогда отец позволил дяде Этьену забрать меня. К тому же перед этим был не очень благоприятный год в коммерческих делах, и отец вынашивал идею закрыть здесь филиал и вернуться в Индию.
– Однако не сделал этого.
– Не сделал. И я тоже пробыла там недолго.
У нее и до сих пор кровь бросалась в лицо, когда она вспоминала, с каким гневом, с какой строптивостью она отнеслась к дяде Этьену, тете Камилле и своим кузенам и маленькой кузине.
– Должно быть, я была ужасно взвинчена, – с раскаянием пролепетала она и взяла из корзинки еще одну чапати. – Еще тогда, когда дядя Сайлас приехал и забрал меня в Лондон.
На сердце у нее стало тепло и даже чуть тягостно при мысли о тете Стелле, привлекательной женщине со стальными глазами и темными волосами, как у всех Финдли. На первый взгляд холодная и строгая, когда это необходимо, она тем не менее с ангельским терпением делала все для того, чтобы Георгина чувствовала себя как дома. Дядя Сайлас, благодушный толстяк, почти на голову ниже жены, всячески старался развеселить маленькую девочку – поначалу гневную, потом упрямую, – чтобы отвлечь ее от печали, рассмешить, вызвать у нее хотя бы улыбку. И Мэйси с ее толстыми косами и голубыми глазами навыкате, с готовностью уступившая Георгине половину своей комнаты и подарившая ей свою почти самую любимую куклу вместе с ее гардеробом, всегда сохраняла неизменную радость по отношению к новой сестре. Свою избыточную симпатию, от которой упрямое сопротивление Георгины вскоре прошло само собой.
– У нас, мальчишек, все было гораздо хуже, – развеселился Пол Бигелоу. – Я был младшим из пяти братьев. Последыш. Всегда самый маленький. Можете себе представить, что у нас творилось – и как закончилось, когда я наконец подрос достаточно для того, чтобы расквитаться с остальными.
Георгина вспомнила про Стю, Дикки и Ли, которые поначалу обращались с ней со смешанным чувством любопытства и стоического спокойствия, пока в них не проснулись по отношению к ней такая же грубоватая симпатия и братское коварство, как к Мэйси, – и это воспоминание вызвало у нее улыбку.
– Да, приблизительно могу себе представить.
До них донесся звон церковного колокола, настойчивый и продолжительный, в темноте за окнами, и Георгина вопросительно взглянула на Пола Бигелоу.
– Это церковь Сент-Андруса. Колокол звонит каждый вечер в восемь часов, возвещая комендантский час.
Брови Георгины полезли вверх.
Пол Бигелоу улыбнулся:
– Я боюсь, здесь мало что изменилось за эти годы. Сингапур все еще не самый безопасный город. Особенно с наступлением темноты.
Георгина молча вслушивалась в колокольный звон, металлический, то набегающий, то спадающий.
– Моя тетя была решительно против того, чтобы я возвращалась сюда, – тихо произнесла она. – Уже из-за одной только дальности путешествия. Она боялась, вдруг я погибну от сыпного тифа. Не говоря о жизни в этом городе.
Пол Бигелоу сел и оперся свежевыбритым подбородком на ладонь; когда он двигался, до Георгины доносилось дуновение аромата терпкого мыла. Теплый свет свечей растопил все мальчишеское в его лице, выявляя в нем мужские, энергичные черты. Угловатые контуры подбородка и щек. Крепкий нос. Прямую линию низко сидящих бровей.
Только рот казался податливым, чуть ли не покорным, да спокойный блеск стоял в его глазах.
– И тем не менее вы вернулись.
– Да. – Голос ее звучал неуверенно, как будто она еще не могла освоиться с этим по-настоящему. – Тем не менее я вернулась.
2
Георгина сидела на веранде и смотрела на дождь, который изливался на сад.
Она вернулась. Из туманно-серого, пронзительного шума Лондона, который постоянно нес в себе поспешность сборов раннего утра, вернулась в вечную полуденность Сингапура, жаркую, тихую, сонливую.
Плотный, иногда лихорадочный распорядок дня на улице Королевского Полумесяца, которому она поначалу ожесточенно противилась, а со временем подчинилась, здесь расплывался между первым кофе с началом утра, карри и рисом в девять часов, тиффином к ланчу и к ужину. Медлительность, прямо-таки вялая, благотворная для Георгины, изгнавшая из ее организма остаток усталости после долгого путешествия. Своеобразная смесь из пустоты и свободы, в которой она дрейфовала сквозь дни, омываясь в своей старой новой жизни.
Все письма были написаны – тете Стелле, с приветами для дяди Сайласа и трех кузенов. Отдельное письмо для Мэйси. И в Гонконг, в котором Георгина еще раз благодарила Хэмблдонов за приятную компанию во время путешествия. После этого ей нечего было делать, чтобы наполнить дневные часы, как только отец и Пол Бигелоу после завтрака уезжали в город, откуда возвращались лишь по окончании рабочего дня.
Она вернулась, но все еще не домой.
Она казалась себе захватчицей, вторгшейся в хозяйство Л’Эспуара, нарушив заведенные ритуалы двух холостяков. Разговоры за столом вращались вокруг цен и рентабельности мускатного ореха и индиго, медной проволоки, риса и сахарного тростника. Вокруг финансовых трудностей, которые по-прежнему замедляли открытие госпиталя для бедных на Пирлс-Хилл, построенного два года назад китайским бизнесменом Тан Ток Сенгом, постоянно откладываемое на потом. Обсуждались последние слухи, что конкурент Финдли Эдвард Бустед после выхода его партнера из бизнеса в прошлом году сам вскоре может выйти из фирмы и вернуться в Англию, и возможные последствия этого как для Бустед, так и для Финдли и Буассело.
Пока оба мужчины, вспомнив о присутствии за столом Георгины, не замолкали, покашливая, и не переходили после гнетущего молчания к другим, более легким темам, преимущественно о погоде – чтобы вскоре после десерта снова удалиться в кабинет или на веранду, где за курением и за стаканчиком крепкого вновь без помех посвятить себя деловым разговорам. Георгина чувствовала себя незваным гостем, явившимся некстати, когда хозяева только и ждут, когда же он снова уедет. Она ловила это в редких и скупых, как бы между делом брошенных замечаниях отца. В намеке на улыбку время от времени, тонкую и осторожную, чуть ли не потаенную. В том, как Пол Бигелоу предлагал ей ранним утром совершить верховую прогулку с ним и одним из саисов, как осведомлялся о ее планах на день и предлагал экскурсию по складам Финдли и Буассело в коммерческом квартале – при случае. Натужная вежливость, за которой временами вспыхивало нечто другое, но так и оставалось невысказанным.
Куда ты себя денешь – там?
Вопрос, который сердито повторяла ее тетя и от которого Георгина постоянно отделывалась пожиманием плеч. Такому человеку, как тетя Стелла, который без труда вращается в конструкции британского стиля жизни, знакомого ему с младых ногтей, она не могла бы объяснить, как сильно ее душевный покой зависит от этого возвращения.
Не для того чтобы начать с чистого листа. Не для того чтобы бесшовно прикрепиться там, где семь лет назад были обрезаны все нити ее прежней жизни, а то и раньше. А для того чтобы нити, которые привязывали ее к этому острову, снова взять в свои руки. Нити, без которых она никогда не смогла бы быть цельной. Паутину, нежную и хрупкую, но все же прочную и нерушимую, хранящую старые тайны. Вопросы, которые оставались без ответа, потому что никогда не были поставлены. Истории, которые еще предстояло рассказать.
Во что же превратится твоя жизнь?
Для тети Стеллы было непостижимо, как Георгина могла уклониться от пути, который они прокладывали для нее заботливо и не без усилий, заставляя ее учиться, внушая ей правила поведения и необходимые тонкости этикета, чтобы ее племянница в один прекрасный день смогла сделать хорошую партию и показать себя полноценным членом буржуазного общества.
Она не понимала, что Георгина сперва должна была вернуться в свое прошлое, чтобы оттуда смотреть в свое будущее.
Ее взгляд лишний раз задержался на густой листве лесочка, мокро поблескивающей и капающей остатками дождя и обильно испаряющей влагу. Каждый день она намеревалась разыскать старую тропу сквозь густые заросли. Посмотреть, что там осталось от времени ее детства, окликнуть прошлое, вызвать воспоминания. Однако во всех ее скитаниях по саду она ни разу так и не приблизилась к этому островку одичания, некогда столь любимому и надежному ее укрытию.
Как будто она повзрослела настолько, что могла теперь уверовать в духов, которые там гнездились и подстерегали жертв.
Георгина, подтянув к подбородку колени, машинально разглаживала тонкую, выгоревшую ткань саронга с коричневым узором. Пока ее отца и Пола Бигелоу не было дома, она ходила босая и по-прежнему носила платья своей матери, частично из-за тоски, частично наперекор Семпаке. Пожалуй, пора было уже обзавестись и собственными саронгами и кебайями. Из тех карманных денег, которыми снабдил ее на дорогу дядя Сайлас, кое-что еще оставалось; наверняка и отец дал бы ей денег, если бы она попросила.
Она вскочила на ноги и пошла в дом, чтобы надеть одно из своих легких летних платьев.
Воспоминания нахлынули снова, когда она тряслась в паланкине по прибрежной дороге, а мимо окон кабинки, которые раньше были ей только до кончика носа, покачивались с одной стороны дома́, с другой – волны и корабли.
Ну же, мой пти анж! Поедем, навестим твоего папу на работе!
Мама часто ездила с ней в город, на товарные склады отца – и никогда без коробки или банки со сладостями домашнего приготовления. Это были кожукаттаи, пирожки из рисовой муки и тертого кокоса. Кайю катли, масса из молотых орехов кешью, приправленная кардамоном и нарезанная ромбиками, и ладду, сладкие шарики, которые Аниш мастерил всякий раз другого цвета и сорта, с миндалем или фисташками, фруктами или кунжутом, белые, желтые, зеленые или оранжевые.
Отец всегда радовался их приходу, и пока мама и папа сидели за чашкой чая, Георгина, объевшись сладостей, играла на полу монетками из чужих стран и сооружала дворцы из сигарных коробок.
По дороге туда мама рассказывала ей о том, мимо чего они как раз проезжали, или заучивала с ней считалочки. Или они распевали песни, которые бабушка привезла в Индию со своей родины.
Улыбка скользнула по лицу Георгины, и она непроизвольным движением стиснула крепче жестянку, лежащую у нее на коленях: кхайя, сладкие кусочки из пшеничной муки с мягкой начинкой из сиропа, которые она перед поездкой льстиво выпросила у Аниша.
Громыхая, скрипя, звеня, шум города хлынул навстречу их паланкину и забурлил вокруг него неукротимым потоком. Георгина услышала, как саис впереди выругался, повозка резко затормозила.
Георгина высунулась из окна. Мимо, покачиваясь, проплыл огромный тюк белья на голове доби-валлаха. Паланкин стоял, зажатый между другими повозками, которым надо было в ту же или в противоположную сторону.
– Яти, – крикнула она саису, – что там такое?
Саис повернулся на козлах. Паланкин Финдли был одним из немногих в городе, которым управляли с козел, потому что Гордон Финдли находил бесчеловечной обычную здесь практику, чтобы саис бежал рядом с лошадью; соответственно, Яти гордился своей работой, паланкином и туаном Финдли.
Его лицо, коричневое и изборожденное рытвинами, как грецкий орех, омрачилось.
– Минта мааф, я прошу прощения, мисс Георгина! Сейчас поедем!
Георгина со вздохом откинулась на спинку сиденья. Ее коленка сама по себе начала покачиваться, пальцы отбивали быстрый такт по жестяной банке, и она снова выглянула в окошко. Теперь она увидела впереди воловью упряжку, которая стояла поперек дороги и явно не могла двинуться ни вперед, ни назад. Оба серых вола стояли неподвижно, опустив головы, глухие к крикливым приказам, манящим призывам и щелчкам кнута.
Позади воловьей упряжки уже виднелся горб моста, на котором выстроились в двух направлениях два ожерелья из телег и колясок, которые то останавливались, то мягко продвигались вперед. Георгина вспомнила: раньше саис всегда довозил их именно до этого моста, только тогда он был узкий и пешеходный. Дальше они шли пешком, мама крепко держала ее за руку, решительно шагая в своей широкой юбке, высоко подняв голову, и широкие поля ее соломенной шляпы трепетали на ветру. Георгина то и дело задирала голову, любуясь своей матерью, которая была тонкой и хрупкой, но вид имела такой гордый и бесстрашный, что все уступали им дорогу. Как будто видно было по ней, что в Индии она сопровождала своих братьев в охоте на тигров.
Георгине часто казалось, что она похожа на львицу, с карими глазами в золотую и зеленую крапинку, особенно когда по утрам и вечерам ее темные волосы были распущены и стекали по плечам, тяжелые и шелковистые. Для нее в ее четыре года такое путешествие было большой нагрузкой, и на обратном пути в коляске она засыпала на коленях у мамы. Расстояние, которое теперь казалось ей чуть больше кошачьего прыжка, потому что Сингапур был маленький город, даже маловатый для такого множества людей, повозок и огромного количества товаров, и все его пространства были обозримы.
Георгина не выдержала долгой неподвижности; она распахнула дверцу и выпрыгнула из паланкина.
– Я пойду вперед, – крикнула саису. – Поезжай следом, как только освободится дорога!
Яти выпучил глаза и испуганно завопил:
– Нет, мисс Георгина! Сейчас уже поедем! Подождите! Пожалуйста, мисс Георгина!
Георгина весело помахала ему рукой и нырнула в дорожную гущу, лавируя между экипажами.
Зажав банку с печеньем под мышкой, она тихонько напевала, и в такт ее широким шагам пританцовывала у нее за спиной шляпа, завязанная спереди лентами. На душе у нее было легко и привольно; она взбежала на горб моста, навстречу разноцветным фасадам китайских складов, с черными и золотыми надписями на багряных баннерах, напоминающими журавлей и пагоды, цветущие ветки, пальмовые листья и астры. Она была здесь однажды и с Ах Тонгом, много позже; когда именно и зачем, она теперь уж не помнила. Но еще помнила маленькие лавки и киоски по другую сторону складов, наплыв чужеродных, ярких вещей и всепобеждающие, интенсивные, волнующие запахи и китайские лица, приветливо обращенные к ней.
Хотя ее только что подгоняло нетерпение, она остановилась на горке горбатого моста в странном состоянии парения между возносящейся радостью и тихим блаженством. Опершись локтями о перила, она щурилась на солнце и собирала фрагменты из красок, запахов, картин и звуков.
Плеск воды о борта лодок. Размах, с каким кули перебрасывали друг другу ящики, напрягая жилы, шнурами выпиравшие из их тонких рук. Нефритовая зелень. Лазурная синева. Маковая алость. Звучный смех где-то и бодро насвистываемая песенка. Влажный, душный запах тины, положенный – как духи – на основу ночной грязи, как здесь называли канализационные стоки города. Кислота мокрого камня, дерево и мох, прель и плесень. Шаги, которые спешили мимо у нее за спиной; цокающие копыта, громыхание колес. Быстрая, то взлетающая, то опадающая череда гундосых шипений китайской речи и более темные, более подвижные звуки малайского диалекта. Глаза, нарисованные на носу лодок, чтобы они видели все опасности на своем пути. Форма и структура облаков на небе. Аромат корицы и кардамона, угольной пыли и опилок и едкий, оглушительный запах курительниц, которые тлели на пристани для защиты от несчастья и в качестве жертвенного дара. Звон металла о металл и золотые вспышки вдали. Ветер на ее шляпу, приносивший привет от близкого моря.
Гиллингемы никак не были повинны в том, что в Лондоне она никогда не чувствовала себя дома. В ее внешности, в ее красках явно просматривались Финдли, но все равно она оставалась там чужой, в глубинах своего Я так рано сформированная тропиками, которые наложили на нее свой отпечаток. Еда ей нравилась острая и многообразно приправленная, в английских лакомствах ей постоянно недоставало сладости – так, чтобы ныли зубы, а цвета она предпочитала броские, яркие. Ее кровь, казалось, была слишком жидкой для холода Англии даже летом, а сама она слишком легко поддавалась волнению, не зная меры в чувствах, хотя внешне она часто казалась очень тихой, такой сдержанной, что это легко можно было принять за благосклонное послушание.
Под филигранно отчеканенной, сдержанной и благоустроенной поверхностью Англии ей всегда недоставало чего-то исконного, стихийного. Избытка во всем. Своего рода страсти. Чего-то магического.
Георгина привстала на цыпочки и перегнулась через перила моста. Как будто могла там внизу, в легких, сточно-коричневых волнах реки Сингапур разглядеть не только свое детство, но и предсказание будущего.
Ее спугнули короткие призывные восклицания. В одной из лодок у причала стояли два кули, они с широкими улыбками оценили ее, одобрили и теперь бросали ей слова, которых она не понимала.
Георгина покраснела; она оттолкнулась от перил и хотела резко отвернуться. Но ее остановил взгляд темных глаз, неумолимо притягивая ее к себе.
Глаза, словно насыщенные капли черного океана, спокойные и бездонные; в них прочитывались вопрос, сомнение, надежда.
Чистое любопытство заставило его посмотреть вверх, когда он поднимал парус своей лодки. Утром еще тяжелая от сокровищ моря, теперь она покачивалась на воде легко, как пробка, нетерпеливо натягивая веревку, которой была пришвартована к причалу.
Его китайский язык был не особенно хорош, его едва хватало на самое необходимое: отдельные слова и обороты, которых он со временем нахватался. На складах тауке с ним здоровались по-малайски и по-малайски же торговались. Так же и на улицах города, и здесь, на причале. Но этого как раз хватило, чтобы расслышать, что привело в такое волнение двух кули неподалеку от него. В хорошем настроении – уже в начале дня располагая всем временем мира, в том числе и для таких посторонних вещей, которые его не касались, он проследил направление взглядов этих грузчиков. Наверх, в сторону молодой женщины, почти девочки, которая перегнулась через перила моста Томсона.
Кули еще продолжали спорить между собой, была ли она белая – анг мо чар бор, – хотя ее волосы не были ни светлыми, ни рыжими, – или была смешанной крови – чап ченг киа, – а улыбка на его лице уже погасла.
Шрамы на его руке, на ноге, застарелые, давно зажившие, начали тихо пульсировать в такт участившемуся сердцебиению. Нежно и трепетно, словно крылышко бабочки, его коснулось воспоминание – еще до того, как он ее действительно узнал или смог уловить сходство.
Оба кули бросали ей наверх замечания, которые звучали как и повсюду в мире, когда мужчины хотели привлечь к себе внимание женщины, которая им понравилась: наполовину неуклюжие комплименты, наполовину непристойности. Она быстро выпрямилась, и тут воспоминание охватило его со всей силой. Как удар в солнечное сплетение, от которого у него пресеклось дыхание.
Ее волосы, причесанные на пробор и собранные на затылке, были такие же темные, какими он их запомнил – как полированная пальмовая древесина. Густые завитки обрамляли ее по-прежнему узкое лицо, в ясных контурах которого проявилась женственная мягкость, ровно такая, чтобы лицо казалось скорее интересным, чем просто миловидным.
Тонкий румянец лежал на ее высоких скулах и сгустился, когда их взгляды встретились. Ее брови, только что сердито сведенные, расслабились и поднялись в немом вопросе.
Веревка паруса выскользнула из его пальцев от удивления, что сталось с той диковинной маленькой девочкой, которая нашла его в том домике в саду, заштопала ему ногу, залечила его руку, когда он лежал в беспамятстве.
Прошло, должно быть, лет семь, он подсчитал.
Тогда было время восточного ветра, как и сейчас, время, которое в календаре оранг-путих приходится на месяцы февраль, март и апрель, а в иные годы захватывает и часть мая.
Ее глаза рассеяли его последние сомнения. Эти примечательные глаза с темным обрамлением ресниц, той же глубокой синевы, почти фиолетовые, как вечернее небо незадолго перед наступлением темноты. Глаза, которые он узнал бы из тысячи других.
Никогда больше он не встречал таких глаз, хотя все время высматривал их.
Нилам.
Его губы беззвучно произнесли это имя, и он медленно поднял руку.
Искра узнавания вспыхнула в ее взгляде, и в ушах у него зашумело. И когда ее губы дрогнули и на них обозначилась робкая улыбка, его подхватило будто волной, которая тогда вынесла его на берег.
На какой-то момент время остановилось – и затем устремилось в обратную сторону.
Георгине снова было девять, почти десять лет. Под своими пальцами она чувствовала кожу мальчика-пирата, которого к ней принесло море, а потом отняло у нее. Юный морской человек, который очаровал ее и заворожил рассказами о чужом мире, из которого он явился.
Она вспомнила о приливах и отливах его дыхания, когда он спал. О том, как их лбы почти соприкасались над страницами книги, о своей маленькой ладошке, которая утопала в его большой. Ее человек из племени зельки, оставивший ее с такой тоской в сердце.
Георгина рывком вернулась в сегодняшний день, когда мужчина, у которого были глаза Рахарио, выпрыгнул из лодки на причал и бросился бегом к мосту. Сновидение и реальность, прошлое и современность потеряли равновесие, столкнулись друг с другом, сломались, и почва ушла у нее из-под ног. Вмиг оробев, она порывалась сбежать, куда-нибудь забиться, спрятаться. Но ноги ее не слушались; она прижала жестянку к себе, скрестив руки, и смотрела ему навстречу. Все в ней кипело.
Улыбка застыла на его лице, оно сияло, оттеняя коричневую кожу, как и белая рубашка, в которую он был одет. Его легкий, раскованный бег замедлился, и он остановился перед нею.
Георгина уворачивалась от его взгляда, которым он, казалось, впитывал каждую мельчайшую деталь; возможно, она даже извивалась и выгибалась под его взглядом, она не помнила себя.
– Нилам.
Как будто так и надо, он гладил ее поверх рукава светло-голубого платья, коснулся локтя – так бережно, что она ощутила это прикосновение просто как мимолетное тепло.
– Ты смотри-ка. Выглядишь как настоящая неня. Госпожа. – Его голос стал еще ниже; он звучал мягко и хрипловато, темный ковер с густым ворсом.
Рахарио. Ей пришлось поднять голову, чтобы заглянуть ему в лицо.
Тогдашнее худое мальчишеское тело, состоящее из сплошных острых углов и торчащих костей, выросло в мужское, пластичное и сильное. Как и черты его – массивные, почти жесткие – обрели мужественную гармонию и терпкую красоту.
Георгина с трудом оторвала взгляд от его губ, которые смущали ее своим чувственным очертанием, и кивнула в сторону причала:
– Твоя лодка?
– Моя, – подтвердил он. – А в море стоит на якоре мой корабль. Небольшой, но быстрый.
Улыбка просияла на лице Георгины, но тут же погасла, и давняя печаль пронзила ее.
– Почему ты так никогда и не вернулся? – прошептала она, опустив голову.
Она почувствовала на себе его взгляд.
– Я возвращался, Нилам. И не раз. Но тебя так и не увидел.
Георгина кивнула:
– Я была… – Ее язык с усилием проворачивал забытые звуки малайского языка. – Я уезжала на несколько лет. Была у… родных. Всего несколько дней, как вернулась.
Ее взгляд беспокойно блуждал, пока не остановился на Рахарио.
Он смотрел на нее, будто ища в ее глазах ту маленькую девочку, которую он видел в последний раз семь лет назад. Будто пытался вызнать, где она была, что пережила и кем стала.
– Мисс Георгина!
Она вздрогнула. В проредевшей череде повозок на мост въезжал, погромыхивая, паланкин Л’Эспуара, и Яти взволнованно махал ей с кучерского места.
– Сюда, мисс Георгина! Сюда!
Она непроизвольно полуотвернулась от Рахарио, но нерешительно замерла на месте.
– Погоди, – он удержал ее за локоть. – Завтра? На нашем старом месте?
Георгина только и смогла кивнуть – и заспешила по мосту, как по облакам. Паланкин еще не успел остановиться, как она распахнула дверцу и запрыгнула в кабинку.
Повозка снова покатилась, и Георгина высунулась из окна.
Рахарио стоял прямо, глядя ей вслед, босой, в светлых штанах и простой рубашке, черные волосы растрепаны ветром.
– Все в порядке, мисс Георгина? – послышалось спереди, когда они съезжали с моста, а Рахарио скрылся из поля зрения.
– Все хорошо, Яти!
С глубоким вздохом Георгина откинулась на спинку сиденья, слушая свое колотящееся, хмельное от счастья сердце.
Ее зельки вернулся к ней.
3
Пригнувшись и втянув голову в плечи, Георгина пробиралась сквозь заросли, изо всех пор которых пари́ло. Раздвигая ветки, она останавливалась через каждые несколько шагов, потому что подол ее саронга то и дело за что-нибудь цеплялся. Звонко дребезжала песня цикад, перекрывая шум волн. Где-то в кронах деревьев шуршало: должно быть, серая белочка, которую она спугнула.
С трепетом в сердце она поднималась по ступеням на веранду, доски пола скрипели под ее босыми ногами. Она глубоко вздохнула и нырнула в зеленые сумерки павильона. В запах мха, прелости и сладкого тления, носящий привкус детства, блаженных, самозабвенных часов и одиночества, и слезы выступили у нее на глазах.
Поскрипывание песка и засохшей соляной корочки сопровождало ее путь, дрожащими пальцами она касалась обветренной мебели, будто исследовала остов корабля на дне океана. Воздух здесь был сырой и тяжелый; если за дом Л’Эспуар море еще только боролось, павильон давно стал его добычей.
– Рахарио? – шепотом позвала она на пороге, хотя видела, что комната пуста. Давнее чувство оставленности охватило ее, и она обхватила себя руками.
Ее взгляд упал на умывальный столик, и она удивленно подошла ближе. Лицо расплылось в улыбке, когда она скользнула кончиками пальцев по предметам, что там лежали.
Овальная раковина величиной с кулак, блестящая поверхность пятнистая, как леопард, скользкая от влаги и мшистого налета, наросшего за долгое время. Филигранный гребень из панциря черепахи тигровой расцветки. Черный пористый камень, который Георгина растерянно вертела в пальцах, пока не опознала в его контурах китайскую джонку. Деревянный веер, лежащий раскрытым, сильно покоробился, бумажные перепонки на нем пошли волнами и заплесневели, раскраска в нескольких местах расплылась. Вопреки здравому смыслу она попыталась натянуть на запястье браслет из ракушек. Сделанный для детской руки, теперь он был мал ей; еще пару лет назад он пришелся бы ей впору.
– Тебе нравится? – тихо спросил Рахарио от дверей веранды.
Не поднимая головы, она кивнула, перебирая ракушки пальцами.
– Это все для меня?
– Каждый раз, когда я сюда возвращался, я что-нибудь тебе приносил. – Он подошел ближе. – Что-нибудь, что находил по дороге или добывал. В надежде, что тебе понравится.
– Зачем? – Она смотрела на него широко раскрытыми глазами.
Он пожал плечами.
– Я могу удлинить его для тебя, – пробормотал он, подойдя к ней и поддев браслет указательным пальцем. – Или сделаю совсем новый, другой.
– Нет, – воспротивилась Георгина. – Я не хочу другой. Пусть останется этот.
То, что Рахарио не только вспоминал, но все это время думал о ней, потрясло ее.
– Расскажи мне о себе, Нилам, – прошептал он.
Под паутиной москитной сетки Георгина рассказывала ему об Индии и о далеком острове в холодном море. О местах, которые лежали за морями, вне досягаемости народа оранг-лаут и их кораблей, Рахарио знал лишь понаслышке. Георгина не замечала, как в ее рассказ вплетались воспоминания, что принесла из Индии еще ее мать; истории от ее отца, сказки, сказания и легенды, на которых она выросла. Ее мечты, надежды и разочарования и былое волшебство, исходящее от Рахарио. Как она в одном месте что-то приукрашивала, в другом что-то опускала, в третьем связывала провисшие нити. Вытянувшись на затхлых простынях, она ткала этот платок в ярких красках, с причудливым узором и сверкающей каймой, простирая его пологом над собой и Рахарио.
Лицом к лицу, они тонули в глазах друг друга и перекидывали мостики между воспоминаниями и переменами, которые принесло с собой время, до тех пор пока дымчатая серость тяжелых туч не проникла к ним, заполнив комнату темнотой.
Грохот грома, шум дождя, который барабанил по крыше, скатывался с нее и шлепался оземь, заставили умолкнуть все слова. Во внезапных вспышках молний они успевали взглянуть друг на друга лишь на долю секунды.
Тонко очерченные губы Георгины. Энергичные, своевольные очертания его подбородка. Прохлада жилистой шеи Рахарио и впадинки вдоль ключиц, видные в вырезе его рубашки. Непокорные вихры волос, остриженных короче, чем когда-то. Намек на ямочку на щеке Георгины, когда она по-особенному улыбалась. Рот Рахарио, казавшийся таким мягким на фоне тяжелой линии его челюсти.
Детали, становившиеся видимыми лишь на мгновение, пока оба вновь не превращались в тени, которые незаметно тянулись друг к другу, привлеченные близостью, теплом другого.
Синий свет ворвался так ярко, что озарил комнату до последнего уголка и больно ослепил глаза; не успел он погаснуть, как грянул гром, так что земля содрогнулась, павильон тряхнуло, и он чуть не завалился в сторону моря. Распоясавшийся демон, лениво удаляющийся в реве и грохоте.
Рука Рахарио легла на ее плечи.
– Не бойся. Ничего страшного.
– Да, – прошептала она, не столько испуганная, сколько удивленная: – Ничего страшного.
Тяжесть его руки уменьшилась, будто он хотел ее убрать; но, чуть помедлив, обнял ее еще крепче. Голова Георгины упала ему на грудь, и, окутанная его ароматом – корицы и кож, моря и водорослей, – успокоенная стуком его сердца, она сомкнула веки.
Лишь впоследствии они узнали, что молния ударила совсем близко: в новую башню Сент-Андруса, уже во второй раз.
Дурной знак в глазах здешних китайцев и малайцев, усиливший и без того не умолкавшие слухи, что церковь эта проклята и что ее преследуют злые духи. И хотя здание церкви с повреждениями в стенах и в стропилах держалось стойко, удар молнии в этот день решил судьбу Сент-Андруса.
Последние клочья туч носились над тихим чернильным морем и оставляли за собой слюдяной мерцающий след из небесных светил. С новым размахом накатил на Бич-роуд прилив и запенил его, когда над садом лежала сытая, утоленная тишина. Лишь там и тут возникал в ночи дрожащий стрекот цикад, изредка квакала лягушка, и где-то шлепались с крон деревьев последние капли. Теплым и ласковым, прямо-таки бальзамическим был воздух.
Ночь как обетование. Ночь, которая была слишком хороша для того, чтобы спать.
Уже распустив волосы и босиком, но еще в наряде для ужина, Георгина вышла в этот поздний час на веранду. В темном закутке меж колонн она пила эту ночь большими глотками и упивалась мыслями о Рахарио.
Приближались шаги, праздные, но все же целеустремленные, и Георгина повернула голову. На фоне слабого освещения нижнего этажа обозначилась фигура Пола Бигелоу. Он подошел к балюстраде, поставил на нее бокал и закурил сигару. Пока Георгина раздумывала, должна ли она выдать свое присутствие, как он сам, сощурившись, посмотрел в ее сторону:
– Мисс Финдли? Извините, я не знал! Я… – Он жестикулировал зажженной сигарой.
– Оставьте, вы мне не помешали.
Тем не менее он казался смущенным, выдувая дым в сторону сада; острый, царапающий запах, приправивший сладость ночного воздуха и пробудивший воспоминания. О гостях, которые раньше иногда бывали в Л’Эспуаре, преимущественно господа в сюртуках, громкие голоса которых понижались до уютного бормотания, когда они щекотали маленькую Георгину под подбородком перед тем, как примкнуть ко всей компании за напитками и сигарами. Тогда как немногие дамы оставались с мамой, то и дело восхищаясь контрастом между темными волосами и глазами маленькой девочки – синие как фиалки!
Сравнение, которое Георгина не могла проверить, пока в одиннадцать лет не очутилась впервые на фиалковом лугу в Англии. Когда мама заболела, гости в Л’Эспуаре стали редки, а потом и вовсе иссякли, пока единственным гостем не стал сам хозяин, который показывался в своем кабинете лишь на несколько поздних часов, а дома – только чтобы переночевать.
– Какая ночь, – задумчиво сказал Пол Бигелоу между двумя глотками. – И это после такой грозы.
Георгина подала голосом знак согласия.
– Не знаю, смогу ли я когда-нибудь привыкнуть к сингапурской погоде. Эта жара. Эти мощные ливни почти каждый день.
– Верно, – пробормотала Георгина; умение вежливо поддержать беседу не было ее сильной стороной, и от этого она всегда нервничала. – Разве что если вы пробудете здесь дольше.
– Это зависит от того, как будут развиваться события. – Пол Бигелоу покатал сигару пальцами и глубоко вдохнул: – Да, пару лет я здесь еще продержусь.
Не зная, что на это ответить, Георгина просто кивнула.
Он взглянул на нее искоса:
– Неужели мне так и не удастся уговорить вас на верховую прогулку, а, мисс Финдли?
Георгина улыбнулась:
– Я совсем не любитель лошадей. И боюсь, не очень хорошо умею держаться в седле.
– Я вас научу!
Она засмеялась:
– Это были бы напрасные усилия, мистер Бигелоу! Даже моей тете пришлось признать, что деньги на уроки верховой езды были выброшены на ветер.
Он оперся на балюстраду и неотрывно смотрел на нее.
– Вы должны знать, что я не приму ваше «нет» с такой легкостью. Я очень даже умею быть упорным.
В этом замечании, брошенном в шутку, крылась и самоуверенная серьезность.
– Туан Бигелоу, вам что-нибудь еще принести?
Скрестив руки на груди, на пороге стояла Семпака. Ее тонкое, птичье теневое очертание прорисовывалось на фоне мягкого света из дома, голова была на удивление покорно опущена.
– Нет, большое спасибо, – дружелюбно отказался Пол Бигелоу.
– Может, вам угодно что-нибудь еще? – Ее голос, обычно такой резкий, стелился бархатом, как ночной воздух.
– Нет, спасибо, Семпака, все превосходно.
– Тогда желаю вам спокойной ночи, туан Бигелоу. – Семпака с большой неохотой отступила на шаг назад.
– Но может быть, мисс Финдли чего-то пожелает… – В его тоне слышалось что-то настойчивое, требовательное.
Голова Семпаки поднялась как у журавля, готового клювом в качестве оружия защищать свои владения.
– Спасибо, я ничего не хочу. – Георгина от поспешности запиналась на каждом слове. – Я уже иду спать.
Семпака величественно кивнула и зашагала в дом с высоко поднятой головой, каждая ее клеточка излучала строптивость.
Георгина бросила на Пола Бигелоу вопросительный взгляд и пожала плечами:
– Она меня не любит.
– Я это заметил. И не в первый раз. – Он оглянулся через плечо. – Семпака ведь уже давно в этом доме, да?
– Сколько я себя помню. – Георгина отделилась от своего темного закутка и двинулась к Полу Бигелоу. – Мою мать она до сих пор почитает сверх всякой меры, а мне как раньше, так и теперь внушает такое чувство, будто я какая-то преступница. Будто я совершила что-то ужасное, чего она никак не может мне простить.
– Вам нельзя так думать. – Он поднял руку, будто хотел погладить ее по плечу; но в последнее мгновение, казалось, одумался и просто прочесал пятерней свои коротко остриженные волосы. – Я был уже большим парнем, когда за один год лишился сначала матери, а потом и отца. И все же мне трудно даже представить, как бы я это пережил без моих братьев. – Его взгляд блуждал по саду, пока не остановился на Георгине. – Должно быть, ребенком вы чувствовали себя здесь очень одиноко.
Внезапно Георгина почувствовала себя неуютно, будто стояла перед Полом Бигелоу полураздетой, и обхватила себя руками. Он нагнулся к ней так близко, что она почувствовала на щеке его дыхание.
– Я хотел бы быть вам добрым другом, мисс Финдли, – тихо сказал он.
За спиной у них раздалось покашливание, и Пол Бигелоу быстро отступил от нее на шаг.
– Спокойной ночи, мисс Финдли. – Он взял свой стакан. – Спокойной ночи, сэр.
Гордон Финдли пробормотал ответ, когда Пол Бигелоу проходил мимо него, и встал рядом с Георгиной возле перил. Ее сердце с надеждой заколотилось. Она взглянула на отца, похожего в сумерках на корявый березовый ствол в серебристо-черных тонах.
– Было очень любезно с твоей стороны заглянуть вчера ко мне в контору, – сказал он после некоторого молчания. – Неожиданно. Но я был рад.
У Георгины остались размытые впечатления от складов фирмы Финдли и Буассело, их снова и снова накрывало волной того опьянения, в которое ее ввергла встреча с Рахарио, и в этом потопе уцелели лишь несколько островков.
На удивление мало что изменилось в этих складах – начиная от, казалось бы, беспорядочного нагромождения ящиков, мешков и бочек на нижнем этаже, источавших запах древесины и металла, перца, чая, имбиря и всех других товаров, которые были здесь временно сосредоточены. И кончая конторой наверху – с ее счетоводными книгами, стопками бумаг и географическими картами на стенах, – душный воздух которой лишь слегка шевелился от опахал пунка-валлахов.
Гордон Финдли сдержанно прокашлялся:
– Ну что… ты снова ожила?
– Немного, да. – Георгина улыбнулась чему-то своему.
Насколько беспомощным и неуверенным Гордон Финдли казался здесь, дома, в присутствии дочери, настолько же решительным и деятельным показывал себя в своей конторе, прямо как раньше. С Полом Бигелоу в своем тылу они управляли фирмой как две шестеренки в безупречно смазанном и отлаженном часовом механизме.
Его пальцы нервно поглаживали перила.
– Ты останешься здесь? Надолго?
Вопрос был как пощечина; Георгине понадобилось несколько мгновений, чтобы снова собраться.
– Естественно, я останусь. – Голос ее звучал как подраненный. – Ведь здесь все-таки мой дом!
– Да. Конечно. – Его шумное астматическое дыхание приобрело подобие вздоха: – Тогда мне, пожалуй, придется попросить мистера Бигелоу подыскать себе новое пристанище.
Сожаление, прозвучавшее в этих словах, было как еще один удар по другой щеке.
– Пока не пошли разговоры. – Он задумчиво покачал головой: – Да, пожалуй, это надо сделать.
Георгина, ослепшая от слез, смотрела в пустоту.
– Не знаю, каково тебе здесь будет, – сказал отец после некоторого молчания. – У меня уже много лет нет почти никаких контактов вне деловой жизни. Изредка общий ужин или небольшая выпивка, все чисто в мужской компании. И некому позаботиться о том, чтобы ты выходила в свет. Сейчас или через год-другой. Балы, чаепития или что там бывает сейчас у молодежи. Я не имею ни малейшего понятия, что нужно такой юной даме, как ты. И не знаю, кого бы из немногих здешних дам я мог бы попросить взять тебя под свое крыло. Тебе бы здесь понадобился кто-нибудь вроде Стеллы ну или… Жозефины.
К концу своей речи он перешел почти на шепот, подавленный тяжестью печали, которая все еще угнетала его.
– Мне не нужно все это, – вырвалось у Георгины. – Я просто хочу быть здесь!
Гордон Финдли посмотрел на дочь долгим взглядом. По его лицу, словно высеченному из камня, прошла первая трещина, потом разломы, причиняющие ему боль.
– Ты невероятно похожа на свою мать, – хрипло прошептал он.
Ты дитя тропиков, моя шу-шу. Как и я.
Слезы покатились по щекам Георгины:
– Мне ее тоже до сих пор не хватает.
– Да, – глухо сказал он. Взгляд его блуждал, словно его вспугнули, удивленно и почти виновато, и он отвернулся. – Да.
4
Киль с шипением разрезал волны.
В тени палубного тента Георгина щурилась на море цвета бирюзы и индиго и то и дело убирала ото рта пряди волос, которые ветер задувал ей в лицо.
Бунгало, теснящиеся вдоль Бич-роуд, давно остались позади. И Истана, дворец султана Джохора, великолепная двухэтажная вилла посреди обширных садов, и арабо-малайский квартал Кампонг Глам с его небольшим коммерческим портом. Кроме отдельных поселений с простыми деревянными хижинами, крытыми пальмовыми листьями и построенными на сваях наполовину в воде, к морскому берегу уже ничто не пробивалось, только джунгли. Высокий вал из зелени, бьющий через край в своей насыщенности, в своем естестве. Эта поездка была как путешествие в прошлое, назад к истокам острова.
Георгина повернула голову.
– Ты мне не откроешь наконец, куда мы плывем?
Рахарио, по-прежнему неотрывно глядя вдаль, улыбнулся:
– Только когда приплывем.
Он управлял кораблем без напряжения, но чутко. Иногда он поднимал руку, когда его путь пересекала пераху или когда они проплывали мимо флотилии мелких рыбацких лодок, и отвечал на приветствие своеобразным прищелкиванием языка местных народов.
То, как легко, чуть ли не по-кошачьи он двигался по палубе, как естественно управлялся с веревками и парусом, как он дышал – все это выдавало, насколько он был в море у себя дома. Как будто его тело и тело корабля были единым целым, оба стройные, оба ловкие; полированная древесина почти того же цвета, что и его кожа.
Корабль был меньше, чем китайская джонка, но больше, чем Георгина ожидала, с просторным трюмом и койкой, в спартанской пустоте хранивший беспорядок простой жизни: пара рубашек и штанов, железные кастрюли и миски из обожженной глины, лампа. Он был больше пераху, которые Георгина видела еще с берега; пожалуй, такой же величины, как корабли малайцев-буги, и – со своим длинным бушпритом – похожий на рыбу-меч.
– Почему у твоего корабля нет имени?
Его брови поднялись:
– А надо, чтоб было?
– Конечно, надо! Утренняя звезда… Или что-нибудь связанное с морем. Нептун, Тритон… Имя города или реки. Или женское имя! Многие корабли носят женские имена. Мэри Энн, или Эмма, или…
– …или Нилам? – Один уголок его рта приподнялся в улыбке.
Георгина покраснела и опустила взгляд на книги, лежащие у нее на коленях. Рахарио отдал их ей только что. Не те две, которых она недосчиталась в то утро, когда он исчез; приходя в павильон, он всегда приносил книги, которые взял перед этим, а взамен брал другие.
Георгина нежно поглаживала трещины и заломы в переплете, расслоенный, растрепанный обрез. Она представила себе, как эти книги сопровождали Рахарио в его странствиях через островной мир Нусантары, в часы досуга здесь, на палубе, или, может быть, в свете лампы тихими ночами, когда он становился на якорь в какой-нибудь бухте.
И ей хотелось, чтобы его мысли тогда обращались к маленькой девочке, какой она была когда-то.
Он не мог на нее наглядеться в те мгновения, когда она была погружена в свои мысли и не знала, что за ней наблюдают; возможно, она не подозревала, что каждое движение ее души отражается на ее лице, как игра солнца и облаков отражается на волнах.
Он вновь и вновь скользил взглядом по ее четкому профилю и всякий раз застревал во взмахе ее густых ресниц, мечась между страхом и надеждой, что в следующий момент она поднимет взор и поймает его за тем, что он ее разглядывает. Под ее тихой повадкой, казалось, всегда тлела буря, готовая разразиться в любой момент, и, подобно тропическому острову, который на вершине зноя лакает избавительную грозу, он не мог дождаться, когда же попадет в эту бурю.
И до сих пор он так и не мог раскусить, что же это за странная девушка – Нилам.
Та, что бегала босой, в поношенном саронге и кебайе, в то время как дом неподалеку от зарослей всем своим видом говорил о богатстве и могуществе. Девочка, о которой тогда, как и сегодня, кажется, никто не вспоминал, и она убегала, чтобы дни напролет проводить в потаенном уголке сада.
Его охватывала ярость, когда он думал о ее отце, об этом господине, ни облика, ни имени которого он не знал. Этот оранг-путих, которому его дочь была настолько безразлична, что он предоставил ее самой себе – расти как дикой траве, случайно взошедшей на свободном песке, не зная ни роду, ни племени своего.
От нее исходило что-то бесконечно печальное, особенно когда она говорила о своей матери, давно умершей. Что-то болезненно сиротское, о чем он не смел ее расспрашивать, чтобы не расшевелить эту старую боль. Неудивительно, что она была окружена как будто мрачной тенью, глаза ее иногда казались глазами раненого существа, рана которого не перестала кровоточить.
Она подняла голову и поймала его взгляд, но снова опустила глаза, как будто это ее застигли, а не наоборот. Но потом взглянула снова – глаза ее вспыхнули, озарив все лицо, и от этого у него подломились колени.
Едва заметная смена ритма волн привела его в чувство.
– Мы приплыли, – сказал он тихо и с дрожью.
Он повернул корабль к берегу, бросил якорь и ослабил паруса. Георгина отложила книги и, глядя на него, встала.
– Ты всегда все делаешь один на своем корабле?
– Иногда я нанимаю двоих-троих мужчин, – сказал он, спуская на воду шлюпку. – Таких же оранг-лаут, как я. Они делают подсобную работу и охраняют корабль, когда я ухожу на сушу. – Он спустился вниз по веревочной лестнице.
– Но не сегодня, – прошептала Георгина через релинг, только сейчас сообразив, что они здесь совершенно одни. Она доверяла ему слепо.
– Нет, – он серьезно смотрел на нее, протягивая ей руку, – сегодня нет.
Корабль стоял на якоре в узком проливе; там, где побережье Сингапура вытягивалось к Малаккскому полуострову, а между ними на солнце поблескивали мелкие островки, словно осколки зеленого стекла. Дымка размывала контуры холма и могучих мангровых растений, которые забрасывали в море свою сеть из воздушных корней, создавая под свисающими ветвями тенистые гроты.
Тайное, засекреченное место. Храм водного божества. Хранилище зарытых сокровищ. Приют для пиратов.
– Пулау Серангун, – объявил Рахарио, взглянув через плечо и сильными, размеренными гребками весел проводя шлюпку по светло-бирюзовой воде. – Остров Серангун.
Название, такое же райское, как и густо поросший островок, к которому они подплывали. Оно несло в себе светящуюся синеву воды и неба и зелень джунглей.
– Серангун. – Георгина распробовала на языке эти мягкие звуки. – Лучшего имени для корабля и не придумаешь.
Рахарио молчал, но она видела по нему, что ее предложение ему понравилось. Киль заскребся по дну; Рахарио выпрыгнул из лодки, чтобы вытянуть ее на берег, и Георгина тоже выпрыгнула. Быстрым движением он стянул рубашку через голову и бросил ее в лодку.
– А теперь будешь учиться плавать!
Он схватил ее за руку и побежал так быстро, что она, смеясь, то бежала рядом с ним, то спотыкалась, едва не падая в водяные брызги.
Рахарио оказался хорошим наставником.
Поначалу Георгине казалось, что вода слишком зыбкая, чтобы удержать ее тело, оно ей представлялось твердой скалой, которая камнем пойдет на дно. Но постепенно она все-таки доверилась водной стихии. И вскоре совершенно естественно отдалась воде, двигалась в ней и плескалась, хотя и чувствовала себя неуклюжей и тяжеловесной рядом с Рахарио, который плавать умел еще до того, как научился ходить.
Элегантными толчками он скользил по воде и пластично уходил в глубину до самого дна, явно не торопясь вернуться к дыханию через легкие. Схожий с юркими выдрами, которыми они любовались, сидя рядом на песке в ожидании, когда на них обсохнет одежда: штаны Рахарио, саронг и кебайя Георгины.
В воде с него сходила задумчивость, всякая озабоченность, которая иногда овладевала им, омрачая его лоб и ожесточая взгляд. В воде он превращался в морское существо, свободное и беззаботное, достигшее своей цели.
Его стройное тело с бугорками мускулов и сужающееся к бедрам, его сильные, жилистые руки будто созданы были для жизни в океане. Временами Георгине мерещились у него зачатки жабр или плавательных перепонок, но стоило ей моргнуть, как они исчезали. Когда он выныривал, со смехом заглаживая назад мокрые волосы, а вода стекала с его кожи, коричневой, как пальмовый сахар, сливаясь в ручейки между выпуклостями мыщц, она радовалась, что может остудить свое горящее лицо в волнах.
А Рахарио видел в ней русалку, со дня рождения удаленную от ее истоков и наконец вернувшуюся к себе домой, немного беспомощную в этом новом, но все более родном для нее мире. Сирена, вид которой смущал его, когда задравшийся подол саронга обнажал ее длинные ноги. Кровь шумела у него в ушах, когда мокрая ткань, сделавшись прозрачной, облепляла пока еще робкие округлости ее тела, гибкого, как бамбук.
И когда потом она погружалась с ним на дно, в этот изумрудный свет, их пальцы сплетались, волосы ее колыхались подобно водорослям, а пузырьки воздуха жемчугом высыпались из ее улыбающегося рта – все это было так, будто она глазами раскрывала ему свою душу.
Здесь, на этих серебристых пляжах пролива Джохор, Рахарио чувствовал, как прочна нить, которой душа Нилам была привязана к острову Сингапур – насколько она была дитя Нусантары.
В точности как он.
Лодка мягко покачивалась, плывя вдоль реки Серангун.
В устье, окаймленном рыбацкими лодками, воздух был еще напоен терпкой легкостью моря и соленой свежестью ближнего рыбного рынка, но выше по течению был тяжелым от обводненной земли, гнили и сладости спелых плодов. Струйки дыма поднимались меж деревянными хижинами с ухоженными садиками, в которых малайские женщины и мужчины хлопотали по хозяйству, а квохчущие куры рылись в земле.
Время, казалось, остановилось здесь задолго до того, как сэр Стэмфорд Раффлз впервые ступил на эту землю; а может быть, время здесь никогда не играло роли.
Родом из такого же малайского поселения, как это, была, должно быть, и Семпака. Георгина не так много знала о ней; только то, что она родилась и выросла здесь на острове перед тем, как попасть в Л’Эспуар во времена появления Георгины на свет. В какой-то момент после этого Ах Тонг заменил старого малайского садовника, который стал слишком слаб для этой работы, потом долго ухаживал за Семпакой и наконец женился на ней по благословению туана и мэм. Георгине смутно помнилось небольшое празднество в саду, музыка и пение из жилья для прислуги до поздней ночи; а быть может, помнила это она лишь по рассказам, ведь сама она была тогда совсем маленькой.
Горстка нагих ребятишек высыпала откуда-то из-за садиков, они с ликованием бежали по берегу вровень с лодкой и с визгом прыгали в воду.
Георгина с улыбкой посмотрела на Рахарио, тот греб веслами вверх по реке. На его губах тоже обозначилась улыбка, а в глазах вспыхнули веселые искры.
За садами простиралась мозаика из овощных грядок и заплаток полей, но потом исчезла под зарослями, и река нырнула под тенистый свод.
Деревья возносились до самого неба и склонялись навстречу друг другу, оставляя лишь узкую полосочку синевы высоко над головой Георгины. Когда мачта касалась веток, на воде начиналась пляска солнечных пятен. Нефритовая и голубоватая зелень листьев с оттенками желтого и красного, впадая иногда совсем в черный, пятнала сдавленный воздух, в котором цапли пускались в величественный полет и птицы напропалую исходили свистом и трелями.
Рахарио греб все дальше, углубляясь в этот мир по ту сторону времени, пока не сложил весла, дожидаясь, когда лодка сама остановится. Схватился за крепкую ветку, подтянул лодку и привязал ее.
Сложив локти на коленях, посидел и посмотрел вдоль изгиба реки…
– Это моя земля, – сказал наконец. – Вон оттуда. – Он указал в ту сторону, откуда они приплыли, и потом полуобернулся: – И дотуда. – Его ладонь обвела берег до левого плеча. – До Серангун-роуд, все моя земля. Со вчерашнего дня.
Как будто ему самому нужно было удостовериться в этом, он тихо повторил:
– Моя земля. Пока еще неизвестно, сколько времени пройдет, пока я соберу деньги, чтобы построить такой дом, какой мне бы хотелось.
Взгляд Георгины блуждал по заколдованному речному ландшафту; было бы великолепно жить здесь.
Впервые она догадалась, чем занимается Рахарио, когда он время от времени исчезал на несколько дней; то, что он обозначал скупым словом дела́ и что делало ее время с ним еще драгоценнее. Она пыталась представить себе, какой дом Рахарио хочет построить здесь, но ей не удавалось. Для нее дом Рахарио был в море, его пристанищем был все еще безымянный корабль, напоминающий раковины раков-отшельников, копошащихся на песчаных отмелях острова.
– Ты – и дом? Дом на земле?
Губы его дрогнули – полунасмешливо, полусмешливо:
– Мы, оранг-лаут, всегда строили дома, Нилам. Есть племена, которые возводят целые деревни на сваях в воде. Но мы строим не на века. Чаще всего лишь пондоки, простые хижины из того, что дает нам прибрежный лес. На время муссона. Или когда одна из наших женщин хочет родить свое дитя под защитой хижины. Потом мы снова ломаем эти лачуги, а древесину, бамбук и листья используем для наших лодок – и странствуем дальше.
Он смотрел на реку. Мысли его отражались на его лице слабыми, едва заметными движениями, как зыбь на притихшем море. Но потом брови его нахмурились, и он уперся взглядом в свои ладони, потирая одну большим пальцем другой.
– Времена изменились, Нилам. Особенно для нас, оранг-лаут. Для малайцев мы всегда были диким народом, со странными обычаями и непонятным языком. Народом со своими законами и без настоящей веры. Людоеды и колдуны.
Его лицо озарилось улыбкой, обнажившей белые, ровные зубы, и в глазах загорелась гордость за свой народ. За то, кем был он сам.
– Они всегда недооценивали нас и вместе с тем боялись. Потому что мы сильные, неустрашимые морские воины, и ветер и море у нас в крови. Пока мы были нужны султанату Джохор и его теменгонгу, нас признавали. Мы были охранниками их царства, их солдатами в войне. Мы строили им корабли и лодки и заботились о хорошем наполнении их казны. – Уголки его рта презрительно загнулись вниз. – Но эти времена прошли. Теперь хозяева моря – оранг-путих. С их военными кораблями, их лучшим оружием. Теперь они обеспечивают власть и богатство султаната и теменгонга. Которые в благодарность делают все, чтобы ни один оранг-лаут больше не ходил в море вокруг Сингапура на разбойную добычу и не досаждал оранг-путих. Теменгонг даже получил почетный меч от губернатора оранг-путих – как знак отличия за его заслуги в борьбе против пиратов.
Георгина подтянула к себе колени, положила на них скрещенные руки и прильнула к ним лицом.
Она никогда не задумывалась, насколько торговцы – такие, как Гордон Финдли – изменили эту часть мира. Одним своим присутствием они вывели из равновесия уголок, который существовал столетиями, и переиначили его. При этом во всем, о чем говорили за столом ее отец и Пол Бигелоу, звучало что-то временное, преходящее, как будто торговый город Сингапур был пузырем, готовым в любой момент лопнуть.
Поэтому дороги были так плохи, улицы завалены мусором и полны бродячих собак, во время приливов их затопляла река Сингапур, с наступлением темноты они едва-едва освещались. Начальство в Калькутте передоверило судьбу города коммерсантам, а они уделяли внимание лишь купле-продаже и отгрузке товаров на пароходы. А вовсе не тому, чтобы сделать Сингапур городом, пригодным для удобной жизни. Потому что никто из них не знал, будет ли он здесь завтра или через год.
– Мое племя по приказу теменгонга должно было поселиться на реке Калланг. – Его голос, обычно такой бархатистый, что в него можно было укутаться, прозвучал жестко и хрипло. – А племя, которое жило на Калланге с незапамятных времен, сослали в Джохор, чтобы они вкалывали там в лесах султаната, как рабы. Пока их почти всех там не скосил мор.
Грудь Георгины переполняло то, что она хотела бы сказать Рахарио, но ничто из этого не казалось ей ни достаточно хорошим, ни утешительным. Он поймал ее взгляд и слегка покачал головой, глаза его сделались жесткими и блестящими, как полированный камень.
– Нет, Нилам. Не за что нас жалеть. Мы понимаем, что таков ход вещей. Что жизнь переменчива, как море и как небо над ним.
Георгина кивнула; да, это она понимала. Хотя ее собственная жизнь больше походила на медленное течение реки – такой, как Серангун, над которой раз в несколько лет проносились опустошительные бури, оставляющие после себя лишь обломки.
– Поэтому участок земли? – спросила она наугад. – Дом? Потому что настало время меняться?
Рахарио сверкнул глазами и пожал плечами:
– Может быть. – В глазах появился тоскливый, мечтательный блеск, – Малайцы рассказывают, что оранг-лаут скорее рыбы, чем люди. Жители моря, которые на земле погибнут. Может быть, это так и есть. Я бы точно погиб, если бы то и дело не проводил какое-то время на море. Я не могу без воды. Но в доме здесь, на реке, я мог бы жить хорошо.
– Хотела бы я когда-нибудь увидеть твой дом, – прошептала Георгина.
Рахарио посмотрел на нее, серьезно и без малейшего движения в черных как ночь глазах. Глазах, которые притягивали ее глубиной. В которые она хотела бы провалиться, и буря, которая в ней поднялась, заставила ее сглотнуть.
Внезапно он вскочил, и Георгина испуганно вцепилась в борт покачнувшейся лодки.
– Я сейчас вернусь, – бросил он хрипло, выскочил на берег и скрылся в зарослях, которые сомкнулись за ним.
С колотящимся сердцем Георгина вслушивалась в многочисленные шорохи, быстро расходящиеся по подлеску: должно быть, то были мелкие грызуны, которых распугал Рахарио. В воздухе замелькали словно бы язычки красного пламени: то были стрекозы, они пролетали мимо, стрекоча крыльями, гоняясь друг за другом и с шорохом соприкасаясь, готовые подпалить друг друга своим огнем.
Она вскинула голову, когда Рахарио снова вынырнул из зарослей под шорох листвы и веток и поднялся в лодку. На сей раз осторожно, так что лодка лишь слегка покачнулась, даже тогда, когда он сел рядом с ней.
Улыбка озарила его лицо, и Георгина взяла цветок, который он ей протягивал: орхидея, какой она еще никогда не видела, темно-синяя, почти фиолетовая.
– Такие растут здесь на всех реках, – вполголоса сказал он. – Пару лет назад они еще были и на реке Сингапур. – И добавил не громче шепота ветра: – Они такого же цвета, как у тебя глаза.
Ее сердце грозило проломить ребра, и что-то в ней подалось; убежденная, что в следующее мгновение рухнет в пустоту, она наклонилась к Рахарио и прижалась губами к его губам.
Целомудренный, детский поцелуй, но ее лицо горело, когда она быстро отпрянула; взглянуть в его глаза она больше не отваживалась.
– Сегодня мой день рождения, – пролепетала она как будто оправдываясь.
Его ладонь прохладно легла на ее горячую щеку перед тем, как его рот приблизился к ее губам, прошептал ее имя, и она забыла дышать.
Положив голову на плечо Рахарио, Георгина смотрела вверх, на верхушки деревьев, на пляшущие метелки листьев, которые ловили в свои сети кусок синего неба. Ветер гнал перед собой мягкие облачные гнезда, и шепот деревьев эхом отдавался в пении птиц и плеске реки, в которой лодку мягко водило на веревке туда и сюда.
– Ты веришь в Бога?
Георгина охотно задерживалась в маленькой церкви Сент-Андруса с ее покалеченной колокольней, которая простояла всего лет десять, но уже поросла мхом. Внутри между скамьями было так тепло и влажно, что она только и ждала, когда первые орхидеи начнут виться по стенам. Однако во время церковной службы Георгина не чувствовала ничего такого, что могло бы сравниться с ее чувствами на море или здесь, на реке Серангун. Что-нибудь, что наполнило бы ее душу и заставило петь.
Она разглядывала лицо Рахарио. Его сильный профиль. Резко очерченные, тяжелые линии его нижней челюсти. Изгиб его рта, и счастливый трепет пронизывал ей живот.
– Я верю, – медленно начал он, – в могущество моря и неба. И ветра. Это те могущества, с которыми я считаюсь. Я почитаю их и поклоняюсь им.
– А в судьбу веришь?
Он повернул голову, которая покоилась на его же согнутой в локте руке.
– В предопределенность вещей?
Она кивнула, и он снова устремил взгляд в небо.
– Нет. Я верю в удачу и неудачу. – Он улыбнулся. – Прежде всего в удачу, которая не отворачивается от того, кто умеет ее учуять. Кто знает, как ее взять и удержать. – Он искоса взглянул на нее: – А ты? Ты веришь в судьбу?
– Не знаю, – пролепетала она, задумчиво поглаживая руку, которая ее обнимала, и на ее лице прорисовалась улыбка. – Все же, пожалуй, верю. Иногда верю.
– Смотри, – Рахарио указал подбородком вверх: – сит-сит.
Георгина уже видела здесь на реке нескольких зимородков в голубом и оранжевом оперении; драгоценные самоцветы, с быстротой стрелы ныряющие в воду и так же стремительно улетающие. Но еще никогда не видела она ни одного вблизи, спокойно сидящего на ветке. Он вертел головкой туда-сюда и взирал на нее черными блестящими глазками.
– Он властелин морей и рек и может отводить шторм, – прошептал Рахарио. – Поэтому он приносит счастье и богатство.
Георгина еще успела увидеть, как зимородок вспорхнул с ветки, а потом Рахарио склонился над ней, и она сомкнула веки.
Естественно, у него были женщины, где-то на островах Нусантары. В усеянные звездами ночи, когда достаточно одного взгляда, одной улыбки, чтобы соединиться. Чтобы разделить опьянение чувств, прежде чем каждый снова пойдет своей дорогой, без обещаний, без сожаления.
Но такой, как Нилам, не было.
Дело было не только в огне, с которым она отвечала на его поцелуи и с которым взыскивала поцелуи с него. Искры, что пробегали по его позвоночнику, когда она зарывалась пальцами в его волосы, и ощущение ее кожи под своими ладонями, от которого он просто слабел. Это было больше, чем приливная волна, что поднималась в нем, когда она прижималась к нему, и больше, чем гром в его ушах, когда он чувствовал контуры и изгибы ее тела сквозь тонкую ткань; было трудно не потерять голову.
Как будто все эти годы он носил ее имя, вырезанное на дне его души, и когда она смотрела на него, излучая глазами счастье, жизнь приобретала новый смысл.
Очень может быть, что он тогда выжил бы и один, в том укрытии, куда его привела тогда удача; но вероятнее все-таки, что без помощи маленькой девочки его бы сегодня не было среди живых. Без мыслей, которые поднимались из тьмы и заползали к нему в кровать в те ночи, когда он лежал без сна, потому что его раны горели и больно пульсировали. Эти мысли, которые он взял с собой в море и которые изменили курс его жизни.
Курс, который теперь снова менялся. Каждый из его выездов имел в конце лишь одну-единственную цель: Нилам.
С протяжным стоном, почти вздохом, Георгина выдохнула, прижавшись пылающим лицом к жесткой груди Рахарио.
– Я должен на некоторое время отлучиться, – пробормотал он, зарываясь в ее волосы.
Она раскрыла глаза:
– Дольше, чем на несколько дней?
Он прижался губами к ее лбу:
– На несколько месяцев.
Она села, подтянула колени к груди.
– Мне давно надо быть в море. Ветер уже задул с юга.
– Когда ты уплываешь? – У Георгины перехватило горло.
– Завтра.
Ее губы молча сложились в слово завтра.
Он выпрямился и скользнул пальцами по желобку ее позвоночника. Мурашки пробежали по ее коже.
– Я больше не могу откладывать. Люди на островах ждут, что я выкуплю у них товары. А я живу тем, что потом перепродаю их с выгодой для себя.
Георгина кивнула. Да, она знала это; даянг, малайское слово, обозначавшее торговлю, было синонимом поездки, но все равно на душе у нее было пасмурно.
– Я вернусь – самое позднее, когда ветер сменится на восточный.
Она снова кивнула и повесила голову.
Рахарио придвинулся к ней ближе и обнял за плечи, приподнял ей подбородок и повернул ее лицо к себе. Глаза его смотрели серьезно, с блеском, полным надежды.
– Ты будешь ждать меня, Нилам?
– Я буду ждать тебя вечно, – прошептала она.
5
Чистейшей лазурью светилось утреннее небо, лучась так, что краски моря по сравнению с ним поблекли до цвета нефрита и лаванды. Веселые облачные гряды скучивались на горизонте, и прозрачный воздух еще не затуманился тяжелой полуденной дымкой.
– Сегодня было уже совсем хорошо, – похвалил Пол Бигелоу, еще небритый к этому раннему часу. Он упруго спрыгнул со своего гнедого мерина, чтобы помочь Георгине спуститься из седла ее буланой кобылы. Он крепко подхватил ее, крепким был и его запах, как пахнет тяжелая пашня и теплый мех животного. – Вы делаете большие успехи!
Яти проехал на своем пони чуть дальше по берегу, соскользнул с его спины и присел на корточки, от души зевая и праздно глядя в морскую даль.
Пол Бигелоу сдержал слово и не отставал от нее до тех пор, пока Георгина не сдалась и не стала раз за разом принимать его приглашения. Он был хороший наездник, держался в седле уверенно и двигался с конем слаженно, в сапогах и узких жокейских брюках, подчеркивающих его сильные бедренные мышцы, в вырезе расстегнутой рубашки проглядывало золотое руно.
Смеясь, Георгина завела за уши выбившиеся пряди и рукавом платья отерла потное лицо.
– Моей страстью это все равно не станет!
Хлопчатобумажная ткань цвета мальвы прилипла к ее коже, хотя воздух был еще приятно легким, а над побережьем дул сильный бриз; ей стоило труда сохранять в седле равновесие, и напряжение в мускулах отпустило не сразу.
– Это и не должно становиться страстью, – спокойно объяснил Пол Бигелоу. – С меня будет довольно и того, чтоб для вас это не было мукой, а когда-нибудь, глядишь, вы начнете получать от этого удовольствие.
Он занялся своим седлом.
– Я уже получаю удовольствие от наших утренних выездов. – Георгина застенчиво отвернулась.
– Может быть, куда-нибудь сходим вместе?
Георгина вскинула голову.
– С разрешения мистера Финдли, конечно, – быстро добавил Пол Бигелоу.
Георгина вспомнила чаепития у тети Стеллы, вечерние посиделки на улице Королевского Полумесяца. Игру на ловкость, правила которой ей объясняли, но играть она так и не научилась. В этой игре она более чем отчетливо поняла, что провела свое детство совсем в другом мире, который всегда запаздывал на один такт или опережал на один вдох. От нее чаще всего ускользал подтекст того, что говорилось вслух, и временами она не могла подобрать верные слова, как будто говорила с собеседниками на разных языках.
Она пожала плечами.
– Только не говорите, что выходы в свет ничего для вас не значат! – воскликнул Пол Бигелоу с наигранной строгостью и засмеялся. – Вы так молоды, вы должны танцевать ночи напролет!
– У меня нет особенного таланта к танцам. – Георгина опустила голову и зарылась цыпочками в песок. За отсутствием сапог для верховой езды она поначалу надевала более-менее удобные для этих выездов башмаки, но после того как Яти то и дело приходилось поворачивать назад и подбирать потерянный башмак, она стала садиться в седло босиком. – Боюсь, у меня вообще ни к чему нет таланта.
По сравнению с Мэйси, которая превосходно играла на фортепьяно, с воодушевлением рисовала и создавала из разноцветной пряжи маленькие произведения искусства, навыки Георгины можно было назвать очень скромными; может быть, оттого, что она приступила к ним не сызмала, а может быть, оттого, что ей недоставало увлечения этим.
– Даже если и так! – решительно воскликнул Пол Бигелоу, и это вызвало у Георгины улыбку. – Полгорода гадает, в чем дело, почему мисс Финдли уже полгода здесь, но ее еще никто ни разу не видел. Уж не страдает ли она какой-нибудь таинственной болезнью, может, она косолапая, может, у нее на лице красное родимое пятно или еще что. А некоторые полагают, что вы вообще привидение, которое блуждает по Л’Эспуару.
Взглянув на него искоса, она поняла, что он шутит, и засмеялась. В конце концов она каждое воскресенье сидит с отцом и Полом Бигелоу на одной скамье в церкви Сент-Андруса и не раз подавала руку джентльменам и тем немногим дамам, с кем после богослужения оба мужчины обменивались несколькими словами. Например, с губернатором Баттеруортом и его статной супругой или доктором Оксли и его женой Люси с их четырьмя детьми, старшая из которых – Изабелла – была всего на три года младше Георгины. Доктор всегда оглядывал ее задумчивым и меланхоличным взглядом, поскольку помнил Георгину новорожденной, а Жозефину Финдли провожал в последний путь. Мистер Гатри из Гатри и Ко или мистер Литл, который возглавлял маленький универмаг Литл, Курзетье и Ко на торговой улице и многие товары закупал у Финдли и Буассело.
– Надеюсь, вам известно, какое горькое разочарование вы готовите множеству холостяков Сингапура. Они извелись в мечтах однажды увидеть красивую юную леди лицом к лицу, а то и поухаживать за ней. При этом я упиваюсь их завистью, что обладаю привилегией жить с вами под одной крышей.
Георгина щурилась на солнце и прилагала усилия к тому, чтобы подавить внезапно вспыхнувшую улыбку. Если ее отец и попросил своего квартиранта подыскать себе другое жилье, до сих пор ничто не указывало на то, что Пол Бигелоу собирается повернуться к Л’Эспуару спиной. Он по-прежнему занимал две комнаты с отдельной ванной и ходил по дому как по своему собственному, озаряя его хорошим настроением и часто смеша Георгину шутками.
– Не подумать ли вам о том, чтобы выйти куда-нибудь хотя бы со мной?
Георгина кивнула:
– Я подумаю.
– Хорошо. Я рад, – сказал он, как будто она уже согласилась.
Его глаза, голубые, как небо над ними, сияли, когда он повернулся к своему мерину, оглаживая его бока.
– Знаете, – сказал он тихо, – я о вас много думаю, мисс Финдли. Не чувствуете ли вы себя здесь одиноко. Я спрашиваю себя, как проходят ваши дни, пока мы с мистером Финдли работаем в конторе. Каково вам дни напролет оставаться дома одной, в окружении одних только слуг. Пусть даже они для вас что-то вроде семьи, но им надо заниматься своими делами, а вы все это время предоставлены сами себе.
– Я люблю быть одна, – строптиво отбивалась она.
Он метнул в ее сторону быстрый взгляд, скривив рот в плутовской улыбке.
– Чтобы иметь возможность тайком ходить плавать?
Георгина замерла, а он пожал плечами.
– Раза два-три я возвращался домой раньше времени и случайно видел, как вы прокрадывались в дом. Мокрая с головы до ног. – В его улыбке появился некий вызов: – Что и навело меня на вопрос, что там такое скрывается в одичалом уголке сада, который оказывает на вас столь притягательное воздействие.
Лицо Георгины посуровело.
– Это касается только меня! Там мое место, – ощетинилась она, голос как острый нож, но он отскочил от него, не поранившись.
– А, женщина с тайнами. – Он прислонился виском к боку лошади и посмотрел на Георгину. – Мне это нравится. – В его голосе послышалась глубокая вибрация, пока он снова не выпрямился: – Разумеется, я не посягну на ваши тайны. И на ваше укрытие.
Георгина повернулась к нему спиной. Вскинув подбородок, она смотрела в морскую даль.
Где-то там, в далекой синеве плыл на своем корабле Рахарио. В лабиринте островов, покрытых джунглями, населенных чужими народами.
Желание забрести в волны и предаться им, ощутить воду всем телом и положиться на нее было почти непреодолимым. Когда она уходила плавать в море, в ней оживали не только воспоминания о днях с Рахарио, проведенных на пляжах Серангуна; любая волна, добегавшая до ее тела, могла быть той, которую перед этим бороздил своим килем корабль Рахарио, а может быть, он и сам плавал в ней.
Ветер с запада остудил ее разгоряченное лицо, и Георгина молча попросила этот ветер скорее развернуться и принести ей назад любимого.
Георгина всегда предпочитала быть одна, даже находясь среди людей.
Она любила молчать. Наблюдать, слушать и рано или поздно дать втянуть себя в этот мир, в котором она могла бы чувствовать на вкус формы и обонять цвета. В котором она понимала бы язык животных, а деревья и реки были бы одушевлены и камни дышали. Мир, который ей открыла мать в сказках и легендах из Прованса, из Мадраса, Махараштры и Бенгалии и который после смерти матери давал ей надежную защиту. Этот мир, о берега которого бились волны океана, был родиной оранг-лаут.
Рахарио изменил ее уединение.
Не только тем, что ей теперь недоставало его близости, его голоса, его поцелуев, тепла его кожи. Он оставил ей жажду большего, все большего, и эта жажда ее перевернула. Мечту о жизни, которую она могла нарисовать себе лишь смутно. Эта мечта пугала ее, потому что была такой размытой, непостижимой, всего лишь чувство в глубине ее утробы; тоска, терзающая ее и не дающая ей покоя. Как будто море, которое снова и снова заманивало к себе Рахарио, теперь звало и ее.
– Осмелишься ли ты любить? – взывало к ней море. – Осмелишься ли жить?
Стеклянный купол неба возносился над садом. Освежающий ветер трепал кроны деревьев, позади которых обозначились серые полосы дождевых туч.
Георгина напряженно покусывала губу, глядя, как Ах Тонг обрывает увядшие звездочки из алых и ярко-розовых гроздьев живой изгороди, так называемого «пламени джунглей».
– Что-то тяжелое у тебя на сердце, Айю… мисс Георгина?
Георгина не могла припомнить, чтобы Ах Тонг когда-нибудь суетился, работая в саду. Спокойно и с торжественной самоотдачей вырывал сорняки, работал граблями, сеял, сажал рассаду, косил и пилил. Словно жрец, который в этом зеленом, роскошно убранном цветами храме осуществлял служение в честь богини красоты и плодородия. Как будто постоянно был в согласии с собой и с миром.
– Ты счастлив, Ах Тонг? – тихо спросила она.
– О да, – ни на миг не задумываясь, не отрывая взгляда от пышных шарообразных соцветий, кивнул он. – Я счастливый человек, мисс Георгина. Боги ко мне благосклонны.
Он выбросил пригоршню отсортированных цветов, выщипнул пожелтевший листок из зелени, и еще один, и приступил к следующему соцветию.
– Я родом из очень бедной местности в провинции Фукиен. Нас, детей, было слишком много для маленького рисового поля моего отца и для огородика моей матери. В неурожайные годы у нас не хватало всего, мы голодали. Двое моих братьев умерли, а трех моих сестер родителям пришлось продать. Когда я достаточно подрос, я отправился к морю, чтобы найти работу. И там был человек, который вербовал людей в Сингапур. Грузчиками, кули. Я был силен, но недостаточно резв, и за это меня часто били. Однажды это увидел туан и спросил у меня, понимаю ли я в растениях.
Ах Тонг разглядывал живую изгородь, обыскивал каждое соцветие, нет ли увядших лепестков, не пропустил ли он что-нибудь, и затем кивал сам себе.
– Так я попал сюда. – Он нагнулся взять грабли, чтобы сгрести отцветшие звездочки в траву. – И посмотри на меня сегодня, Георгина. У меня лучшая работа, о какой я только мог мечтать, и мне за нее хорошо платят. Уютное жилье, которое мне ничего не стоит. Я досыта ем и могу откладывать деньги на старость. И вдобавок ко всему небо послало мне хорошую жену.
Словно по его зову тишину сада прорезал визгливый крик Семпаки, затем послышались оправдания Картики, пусть и такой же громкости, но сравнимые разве что с жужжанием насекомого.
Георгина усмехнулась, и Ах Тонг обнажил кривые зубы в ухмылке.
– Я забыл попросить небеса, чтобы она была доброй и покладистой. – Он забулькал смехом, прежде чем взглянуть на Георгину со всей серьезностью: – Семпака мне и правда хорошая жена. И поверь мне, в ее груди бьется доброе сердце.
Георгине трудно было в это поверить – сегодня так же трудно, как в детстве.
– Посмотри, мисс Георгина… Некоторые растения могут цвести только тогда, когда выпустят шипы. Потому что эти шипы защищают растения от повреждения и гибели. Так и Семпака. Она не любит вспоминать прошлое, но я знаю, что у нее была тяжелая жизнь, полная страданий и бедности, пока она не перебралась сюда. – Тень омрачила лицо Ах Тонга: – Конечно, мое счастье было бы совершенным, если бы у нас были дети. – Но он тут же просиял: – Зато у нас была ты. Хорошая девочка да такая живая, что нам всем здесь в доме что-то от тебя перепадало.
Нахмурив брови, он вытряхнул цветы из зубьев грабель, поставил грабли на землю и оперся на их черенок.
– И нам всем было так тяжело видеть, когда мэм заболела и стала угасать с каждым днем. Как будто злой дух пожирал ее изнутри. Но тяжелее всех было туану.
Взгляд его узких глаз блуждал по саду, а брови было расслабились, но тут же снова сошлись на переносице.
– Иногда я думаю, что он винил себя в ее смерти. Потому что привез ее сюда. Потому что не мог найти ничего для ее спасения. Не помогло ни то, что давал ей доктор, ни те травы и снадобья, которые покупал в городе я.
Вздохнув, он продолжил прочесывать граблями траву.
– Он хороший туан, каким был, таким и остался. Но он похоронил свое сердце вместе с мэм. – Он взглянул на нее мягким взглядом: – Но никого мне не жаль так, как тебя, мисс Георгина.
Георгина думала об отце, таком же непроницаемом, как колючая живая изгородь. И от страха, что море в бурю может встать на дыбы и поглотить Рахарио, пресеклось ее дыхание; случись с ним что-нибудь, она бы тоже превратилась в колючую живую изгородь.
– Да как же после этого можно было жить дальше? – прошептала она.
– Надо быть благодарным за все, чем одаряют тебя боги, – сказал Ах Тонг. – Пока они не отняли у тебя самое дорогое. Надо благодарить и за малое.
Он нагнулся и подобрал цветок кембойи, занесенный в сад ветром; только что сорванный с дерева, он был еще чисто белый, с яркой желтой сердцевиной.
– Этому я учусь здесь каждый день. Быть благодарным за то, что мне досталось. Благодарным за красоту, которая меня окружает. – Он сощурился: – Может, это дар. Может, это просто испытание, и надо его пройти. Наша мэм умела это делать до своего последнего дня на земле. А Семпака не умеет. Так же, как и туан.
Он с улыбкой протянул цветок Георгине:
– И это при том, что мэм все-таки оставила ему дочь, за которую он должен был бы благодарить каждый наступающий день.
Паланкин прогромыхал мимо окруженной колоннами церкви маленькой армянской общины и стал подниматься в горку. Яти едва успел остановить повозку у подножия холма, как Георгина распахнула дверцу, подобрала подол юбки и спрыгнула.
– Я ненадолго, – крикнула она. – Скоро вернусь!
Яти буркнул что-то нечленораздельное, разрываясь на части: не броситься ли ему за мисс Георгиной, сопровождая ее в качестве охранника, или лучше остаться здесь и присматривать за лошадью и повозкой.
Он подозрительно поглядывал в сторону, на огороженную территорию, которая в это время дня была пустынной, но кто ж его знает. Ибо в длинных бараках с четырехскатными крышами размещались индийские арестанты, которых каждое утро на восходе солнца выстраивали колоннами и уводили в город на принудительные работы. И тогда еще издали было слышно их заунывное пение, сопровождающее их работу, когда они спрямляли верхнее русло реки Сингапур или очищали нижнее от нанесенного песка и ила. Когда они под руководством надсмотрщиков возводили новый дом и штукатурили особым замесом «чунам», составленным из яичного белка, кокосовых волокон, грубого сахара и ракушечного известняка; этот чунам придавал сингапурским домам неповторимую белизну и блестящую полированную поверхность.
Не менее озабоченно поглядывал Яти и на небо, которое наваливалось на остров, мрачно погромыхивая и спрессовывая воздух в липкую горячую массу, которую не могли расшевелить даже порывы ветра, с шумом носящиеся по кронам деревьев и по верхушкам трав, словно призрачные существа.
Яти содрогнулся. Нет, не зря малайцы прозвали этот холм, который для британцев был Губернаторским, Букит Ларанган. Запретный холм.
– Не лучший день для посещения мертвых, – проворчал он себе под нос.
С глубоким вздохом предавшись судьбе, он сохранял на лице выражение страдания, не упуская из виду и всю окружающую местность включая стройную фигурку мисс Георгины, которая поднималась по холму вверх.
С корзиной, сплетенной из банановых листьев, Георгина прошла через арку в стене из красного кирпича. Она беспомощно огляделась в саду из гранита и мрамора, затем бесцельно принялась бродить между обелисков, статуй и могильных плит; на ходу прочитывая надписи, часть из которых уже начала растворяться.
Здесь были похоронены моряки, Джордж Коулмен, ирландский архитектор, наложивший на Сингапур свою неповторимую печать, коммерсанты и служащие администрации в Бенгалии. И их жены, многие из которых умерли, будучи ненамного старше Георгины, часто вместе со своими детьми.
Очень много было детских могил.
Маленькая Кэт, всего семи лет. Джон, десять месяцев и девятнадцать дней. Две сестры, Лаура и Лорена, одна четырех лет, другая четырех месяцев, умершие одна за другой в течение нескольких недель. Две маленькие дочки Оксли.
Каменные свидетели того, какой хрупкой была жизнь в Сингапуре. И как повезло Георгине.
Ее взгляд упал на мраморного ангела, который сидел на краешке могильного камня, скорбно глядя на надпись внизу; сердце Георгины забилось, и она ускорила шаг.
Георгина не помнила, то ли она здесь уже была когда-то, то ли знала из рассказов, то ли видела во сне; ее воспоминания о тех временах после смерти матери и о ее погребении были туманными и расплывчатыми, но ей казалось, что этого ангела она узнала. В то время как другие могильные камни покрылись мхом и желтоватым лишайником, эта фигура ангела и каменная плита сияли белизной, как кусок Сингапура. Кто-то прилагал немало времени и усилий к поддержанию могилы, скорее всего Ах Тонг.
Что-то в утонченном мраморном лице напоминало гармоничные, ясные черты ее мамы, но Георгина не была уверена что. Как бы ей хотелось, чтобы уже тогда была изобретена дагерротипия, это темно-коричневое отражение воспоминания, или хотя бы остался портрет мамы маслом или мелом. Однако кроме одной картины в доме дяди Этьена, изображавшей всю семью Буассело на фоне зеленого речного ландшафта с храмом, выполненной в те времена, когда мама и сама была еще ребенком, у Георгины не было ни одного изображения матери. Только оттиск в памяти, слишком быстро стершийся и размытый потоком времени.
Под накатившим громом Георгина упала на колени, отставила корзинку и дрожащими пальцами провела по золоченым буквам.
В блаженную память
Жозефины Аурелии ФИНДЛИ
урожденной Буассело
возлюбленной супруги
Гордона Стюарта Финдли
с болью отнятой матери
Георгины Индии Финдли
умершей 27 октября 1837 года
в возрасте 33 лет и 4 месяцев
Грудь Георгины переполнялась всем тем, что она хотела сказать матери, но она не могла произнести ни слова; она не могла собрать даже мысль для немой беседы наедине. Все в ней болело; лицо ее дрогнуло, и первые слезы покатились по щекам.
Всхлипывая, она взяла несколько цветков из принесенной с собой корзины и положила их на могилу, но ветер тут же унес их. Налетел следующий порыв, и Георгина с полными руками восковых, сладко пахнущих белых и розовых цветов кембойи поднялась. Ветер растрепал ее волосы и разметал подол юбки; молния ослепила ее, от последовавшего затем грома кожа пошла пупырышками, а пальцы разжались. Цветочный вихрь окружил ее, прежде чем разнести кембойи во все стороны, стеснив ей дыхание.
Задыхаясь, она стояла у могилы матери на холме над Сингапуром. Поле, аккуратно уставленное белыми домами под красными и коричневыми кровлями, башни католических и армянских церквей и Сент-Андрус, словно дорожный указатель на тропу сквозь это поле. Налетевшая буря зарылась плугом в густую зелень города, сотрясая огромные деревья, трепала пальмы и довела море до кипения.
Молнии и гром соревновались, кто кого опередит, ливень обрушился потоками. Георгина закрыла глаза, запрокинула голову, и слезы смешались с дождем.
Она чувствовала, какими крепкими и длинными были ее корни и как глубоко она вросла в красную почву острова, размокшую от дождя под ее ногами. В ней поднималась жажда – сильная и неукротимая – схватить свою жизнь обеими руками и заглотить ее, не боясь раскаяния или боли, лишь бы только не упустить ни одной капли счастья.
Она отряхнулась как выдра – из бьющей через край животной радости, подобрала подол и побежала по склону холма, петляя между могил, разбрызгивая грязь, сквозь ливень, с оттягом стегавший остров, и сердце ее радостно колотилось.
Гроза, пронесшаяся над Сингапуром тем октябрьским днем, вытряхнула тревогу из души Георгины. Спокойно и весело проходило время северо-восточных муссонов, которые затапливали улицы города и перед которыми были бессильны стены ограды в сторону Бич-роуд.
Книги из шкафа в гостиной сопровождали ее дни, которые она проводила в ротанговых креслах то здесь, то на веранде, то в павильоне, хотя зачастую надолго замирала над раскрытыми страницами, теряясь в грезах. Наслаждаясь воспоминаниями о каждой минуте с Рахарио, она расписывала себе, как они на борту его корабля поплывут на всех парусах к далеким берегам. Как будет выглядеть однажды его дом на реке Серангун; может быть, то будет просторное бунгало, полное света и воздуха. С верандой, выходящей в дикий, пышно цветущий сад с пением птиц и порханием бабочек, с которой будет открываться вид на реку и можно будет любоваться полетом зимородков.
Из Англии приходили письма – от тети Стеллы и Мэйси, и одно от миссис Хэмблдон из Китая, и несколько раз Яти возил ее с Картикой в город, где она покупала себе новые саронги и кебайи. Спокойное, почти сонливое время, в котором она снова вернулась в ритм и жизнь Л’Эспуара, как в старую, разношенную и после долгого времени вновь извлеченную на свет одежду.
На складах тем временем жизнь била ключом. Ноябрь, на который приходился День святого Андрея, закрывал сезон для малайского народа буги с Сулавеси, с Целебских островов, с Бали и Борнео, которые привозили в Сингапур в своих пузатых судах сокровища Юго-Восточной Азии. Разные сорта водорослей для японской и китайской кухни и плавники акулы. Ласточкины гнезда, которые за большие деньги уходили в Китай в качестве деликатеса и лекарства. Эбеновое дерево и сандал, ротанг и рис и благородные пряности. Гамбир, кустарник с Явы и Суматры, из листьев которого добывали коричневый, почти черный краситель для хлопка и шелка, но особенно ценимый в качестве дубильного вещества для кож. Пока длилась гонка за лучшие товары и лучшие цены и запускалась отгрузка для перепродажи, год успевал подойти почти к концу.
Декабрь и январь означали время передышки в бурной и полной интриг коммерческой жизни города. Сильные ливни и штормовые ветры, названные местными малайцами временем закрытых устьев, препятствовали судоходству. Лишь отдельные бесстрашные купцы с Явы или Сиама еще заходили в порт; да велись дела, которые можно было развернуть без усилий.
Рождество наступило и прошло, и начался новый год, тихо и трезво – по сравнению с китайским новогодним праздником в феврале. Ярко и шумно, под грохот хлопушек китайцы встречали Год Железной Собаки. От этого лоб Ах Тонга озабоченно морщился, потому что в такой год большое счастье держит равновесие с несчастьем, и оспа, распространившаяся по острову, стала зловещим предзнаменованием на весь год.
Гордон Финдли же смотрел в этот год с уверенностью, после того как он в качестве члена торговой палаты получил возможность не только пожать руку лорду Дальхузи, генерал-губернатору Индии, по случаю его трехдневного визита, но и перемолвиться с ним словом – как шотландец с шотландцем, как один ветеран Индии с другим. Дальхузи, как и его супруга, казалось, был в восторге от Сингапура, который как-никак выглядел уже краше рыбацкой деревни и пригляднее колонии арестантов. Визит, который дал повод надеяться, что Дальхузи позаботится о том, чтобы впредь Сингапур получал из Калькутты более солидную, а главное – более быструю поддержку.
За это время Георгина уже дважды выходила в свет с Полом Бигелоу с согласия отца и в его сопровождении. Общество собиралось в скромных рамках, там много ели, еще больше пили, немножко танцевали, а в первую очередь говорили о коммерции. Пол Бигелоу оказался при этом таким же неловким паркетным шаркуном, как и она, но не стеснялся этого и своим веселым настроением заражал Георгину. Тем не менее вечера были как позолота – блестели в свете ламп, но длительной ценности не имели и скоро забывались.
Как только первая джонка, напряженно ожидаемая, была замечена с вершины Губернаторского холма, а поднятый флаг возвестил ее прибытие, весть об этом разнеслась по городу со скоростью лесного пожара. Ибо за первой джонкой следовали многие-многие другие, тяжело груженные сокровищами Поднебесной, для которых был открытый рынок по всему миру. Гранитные плиты и плитки, фаянс, фарфор и бумажные ширмы. Тонкая вермишель и сухофрукты, всяческие целебные травы, корни и порошки. Курительные палочки и «адские деньги»: расписные бумажные купюры, которые сжигались на похоронах, чтобы у усопшего водились деньги и на том свете. Мука и сладкое или соленое печенье, сладости, засахаренные семена лядвенца и имбирь. Желтые, зеленые и синие ткани из Нанкина, цветной атлас и шелк.
И разумеется, чай, изобилие чая всех сортов и всякого качества. Нередко стоимость груза одной-единственной джонки доходила до десятков тысяч испанских долларов, официальной торговой валюты в Сингапуре и за его пределами.
В это время Георгина часто сидела во влажном тепле церкви Сент-Андруса. В этом маленьком кусочке старой родины, насквозь шотландском, который создали на этом конце мира торговцы – такие, как Гордон Финдли. И всякий раз молила святого Андрея, рыбака с Генисаретского озера, покровителя моряков и рыболовов, кости которого после кораблекрушения прибило к берегам Шотландии, краю тогдашнего мира, просила привести к ней Рахарио живым и невредимым.
Дождь отступал, дни просветлялись, и скоро лазурное небо и солнечный свет пришли на смену грозам.
Наконец-то, наконец ветер подул с востока.
6
Размашистым шагом Георгина шла по жесткой траве. Сквозь воздух – горячий, но не душный, а оглушительно душистый, благоухающий жасмином, гелиотропом, кембойей и цветочными гроздьями цвета шампанского с дерева тембусу.
После обильных муссонных дождей прошлых месяцев сад взорвался роскошью красок. Ветви деревьев и кустов свисали, тяжелые от пышной листвы, отовсюду прорывались молодые побеги, так что Ах Тонг едва поспевал обрезать и пропалывать.
Георгина протиснулась сквозь заросли, в которых она проторила тропку, проделала узкий лаз. Каждый день ее сердце выжидательно колотилось, когда она взбегала по ступеням на веранду, и каждый раз она сглатывала разочарование, находя обе комнаты пустыми. Без малейшего следа того, что Рахарио здесь был.
Она плавно двигалась в мерцающих сине-зеленых сумерках павильона сквозь шепот листьев, трущихся о стены, и мягкое пение морских волн.
Внезапно она застыла в дверном проеме.
Под москитной сеткой на кровати прорисовывался силуэт. Сердце замерло, сбившись с такта, и перешло к ликованию, она на цыпочках подкралась ближе.
Раскинувшись, Рахарио крепко спал, его грудная клетка спокойно вздымалась и опускалась.
Он заметно похудел по сравнению с тем, каким его запомнила Георгина, остались лишь мускулы да жилы под грязной рубашкой и изношенными до бахромы штанами. Лицо под растрепанными волосами осунулось. Возможно, так казалось из-за щетины и следов усталости на чертах, во сне расслабленных; как будто он пересек океан вплавь, чтобы добраться до нее, такой у него был вид.
Осторожно, чтобы не разбудить его, она опустилась на край кровати и подобрала под себя ноги. Глубоко вздохнув, он резко поднял голову, свел брови, но не сразу увидел ее.
– Нилам, – выдохнул он голосом, похожим на крепкий черный кофе с сахаром, и выпрямился: – Наконец-то.
Он охватил ее лицо ладонями, приник к ее губам, и она ощутила соленый вкус моря.
Он прижался к ней, как потерпевший кораблекрушение к обломку бревна. Она ничего не имела против того, что его шершавые ладони скользнули под ее кебайю, нетерпеливо стали стягивать рубашку и саронг, так что они трещали по швам, он успевал и сам раздеваться; она достаточно долго ждала этого.
Казалось, нет ничего более естественного, чем лежать обнаженными рядом, чувствовать другого, пробовать на вкус. Гладить шрамы старых ран, к которым она прикасалась еще маленькой девочкой, проводить по ним губами, это было как исполнение давнего желания судьбы.
Георгина дивилась такому знакомому, такому чужому телу Рахарио, которое превращало ее тело в сыпучий песок, омываемый чередой морских волн. Удивлялась звукам, которые исторгались из нее, когда его рука пробралась к темной дельте у нее между ног, эти звуки были хриплыми и призывными, как крики морской птицы.
Она утонула в огне и превратилась в бушующее море, в которое Рахарио ворвался как пловец, осторожно и сильно рассекающий волны, и Рахарио обнаружил, что женщина может быть сразу и землей, и морем, и увидел, как близко могут свести двоих солнце и звезды.
Прижавшись пылающей щекой к груди Рахарио, Георгина моргала в полутьму корабельной койки и прислушивалась к плеску волн, что бились о борт корабля, покачивая его.
Здесь, внизу, было душно и жарко из-за пота, который они пролили, и сладковатый, пряный запах их жарких тел и утоленного вожделения смешивался с запахом океана.
Она подняла взгляд к его лицу. С закрытыми глазами он казался спящим, с этим сонным выражением сытого, исполнившегося счастья, которое было отражением блаженной вялости в ее членах. Лишь его рука, поглаживающая ее бедро, выдавала, что он не спит.
Георгина вытянула ногу, оперлась на локоть и легла на Рахарио сверху – на один долгий поцелуй, который оставил их обоих бездыханными; и она чуть не растаяла от блаженства, когда он смотрел на нее из-под тяжелых век так, будто она означала для него весь мир.
– Ты тоже проголодалась? – прошептал он, играя прядью ее волос.
Георгина задорно подняла бровь и прижалась бедром к его еще утомленному и вялому члену, который снова начал оживать.
Рахарио засмеялся; этот глубокий, тихий смех, который она так любила, был как рокот отдаленного грома.
– Я имел в виду другой голод.
Он нежно потянул ее за прядь волос, потом погладил по щеке, другой ладонью пройдясь по округлости ее ягодицы.
Георгина кивнула. Эти пьянящие часы с Рахарио в павильоне или здесь, на его корабле, всякий раз оставляли ее в полном истощении, как только другое, более настойчивое вожделение было утолено.
– Тогда я пойду поймаю рыбу.
Он мягко снял ее с себя, поставил на плетеные маты, которые покрывали днище, и взялся за брюки.
Полуденное солнце ослепило Георгину, когда она поднялась на палубу, и она зажмурилась. Ветер открытого моря играл ее волосами, ее саронгом и трепал ее кебайю как паруса, которые вынесли их сюда. Вдали проплывали корабли и маленькие пераху, а за ними можно было различить полоску побережья, размытую дымкой в меловую пастельную линию.
Она смотрела, как он погружает в шлюпку разнокалиберные копья с опасно поблескивающими металлическими наконечниками, спускает шлюпку на воду и спускается в нее по веревочной лестнице.
Она подбежала к релингу:
– А можно мне с тобой?
Рахарио засмеялся:
– Знаешь, что у нас, оранг-лаут, означает, когда женщина отправляется с мужчиной на рыбалку? – Он запрокинул голову и сощурился на нее снизу. – Так мы заключаем союз на всю жизнь. А море со всем, что в нем есть, выступает свидетелем.
Он хотел обронить это просто так, мимоходом, даже, может быть, с легкой усмешкой, но вышло всерьез. И сопровождалось невысказанным вопросом.
Он видел по ней, что она верит ему лишь наполовину, и впервые его пронзило что-то вроде сожаления, что она не из народа оранг-лаут. Притом что эта инакость, чужеродность в ней как раз и была тем, что его чаровало. Ее наполовину шотландская кровь, придающая ясность ее чертам. Ее золотистая кожа и ее сапфировые глаза, пленявшие его всякий раз заново.
Задумчиво сдвинув брови, он наматывал шнур для более мелкой рыбы.
Не пойди его жизнь другим курсом, он бы сейчас давно был женат и, пожалуй, был бы отцом нескольких ребят. По обычаю своего племени на тот момент, когда он был ранен и скрылся в саду, он уже был мужчиной, незадолго перед тем в первый раз сойдясь с девушкой. Но он никогда не думал о том, чтобы связать себя; все его существование было устремлено к тому, чтобы сделать деньги из своего знания о богатствах Нусантары. И вот только теперь, с Нилам…
Когда из маленькой девочки, которая его выходила и научила читать, получилась женщина, с которой он хотел связать свою жизнь? Наверняка в тот день, когда он решил купить земельный участок на реке Серангун, чтобы построить там дом. А возможно, и раньше, но этого он не помнил.
Как будто кто-то незаметно подлил ему в питье любовного напитка из слез сирены, как в старых легендах оранг-лаут.
– И все равно, можно мне с тобой?
Он расслышал ее испуг, не совершает ли она ошибку, нарушая табу, и губы его невольно дрогнули в улыбке. Как нарочно, боится – она, которая с такой же лекостью могла бы помыкать им, как он наматывает шнур на ладонь, если бы захотела. Ведь он готов был ради нее плыть до края всех морей, нырять на дно самого глубокого океана.
Рахарио бросил моток шнура в лодку и тут же пожалел об этом, потому что не знал, куда ему теперь девать руки. Потому что страх охватил теперь его: а вдруг он недостаточно хорош для дочери шотландского туана. Грязный оранг-лаут, родившийся и выросший на маленьком суденышке среди океана, который провел свою юность в пиратских набегах и впервые убил человека приблизительно в том же возрасте, в каком Нилам была тогда, когда они встретились. Он никогда не рассказывал ей, как много денег он сделал на перламутровых раковинах, черепашьих панцирях и на жемчуге, который островные мужчины доставали ему со дна моря. И еще больше денег он сделает, возможно, на источниках, которые открыл в свою последнюю поездку, но теперь было поздно рассказывать.
Он сглотнул.
– Ты что, хочешь стать моей женой, Нилам? – Разрываясь между надеждой и трусостью, он взглянул на нее снизу вверх. – Прямо сейчас?
Невероятная улыбка, озарившая ее лицо, непостижимое счастье за слезами на ее глазах едва не свалили его с ног.
– Да! – крикнула она. – Да, Рахарио!
На подгибающихся ногах он ступил к борту лодки и протянул ей руку:
– Тогда идем.
Он принял ее на руки и прижал к себе.
– Но для этого полагается пройти испытание на мужество, – прошептал он между двумя поцелуями.
То, как она посмотрела на него, вопросительно и немного испуганно, но с непобедимым мужеством и с полным доверием, напомнило ему ту маленькую Нилам настолько, что он почти попытался поверить в нечто вроде судьбы.
Где-то за солнечным сплетением у Георгины сладко замирало, сердце готово было выпрыгнуть через горло от счастья и волнения, когда она смотрела, как Рахарио давал лодке остановиться, ослабляя парус.
Она не представляла себе, какое испытание на мужество он имел в виду, и совсем не хотела думать о том, что будет, если она не пройдет испытание.
Рахарио потянул ее за руки, поднимая с сиденья. Оба теперь балансировали в шатко стоящей лодке.
– Ты готова?
Нет. Она кивнула.
Он повернул ее к воде и сомкнул вокруг нее руки.
– Ты просто прыгнешь в воду и проплывешь под лодкой, – сказал он. – Это нетрудно, и здесь хорошее место. Не слишком мелко и не слишком глубоко.
Георгина опасливо глянула в воду. Вода была прозрачно-зеленой с бирюзовым оттенком, но показалась ей бездонно глубокой; она еще никогда не ныряла одна, без Рахарио. И заранее чувствовала, что прыгнет неправильно и перевернет лодку, которая ее беспощадно накроет. А она будет барахтаться в глубине, нахлебается воды и утонет.
– Брак как море, которое кормит нас, оранг-лаут, – бормотал он ей в волосы. – Иногда спокойное и ясное, иногда штормовое, с бездонной глубиной и коварными течениями. Пожизненное плавание по привычным водам – и к новым, незнакомым берегам. Прыжок в воду означает, что ты идешь замуж с полным доверием. Ведь ты же доверяешь мне?
Георгина кивнула.
– Тогда верь мне, если я говорю, что ты это можешь. Если я тебе обещаю, что с тобой ничего не случится.
Он поцеловал ее в висок, отпустил и отступил на шаг.
Пульс Георгины барабанил у нее в ушах, и в тот самый момент, когда ее желудок готов был вывернуться наружу от страха, она закрыла глаза и прыгнула.
Она тяжело плюхнулась в воду, вода охватила ее и повлекла в глубину; она ослепла и чуть не оглохла, только влажное клокотание наполняло ее слух. Она заставила себя открыть глаза, ища в мерцающем зеленоватом свете лодку, кружила в воде, пока не обнаружила ее продолговатый корпус, и поплыла к ней. Рахарио был прав, здесь не так глубоко, и все же песчаное дно удалено достаточно для того, чтобы без труда пронырнуть под днищем.
Сильными гребками Георгина плыла, но едва лодка оказалась над ней, на плечи ее навалилась давящая тяжесть, грудь стиснуло. Она упорно продвигалась вперед, пока вода перед ней не забурлила и не взмутилась.
Из тумана навстречу ей двигалась тень – быстрыми волнообразными движениями. Крупнее выдры, с тонким коричневым туловищем и черными глазами. Тюлень, который ей улыбался – с лицом Рахарио.
Воздух вырвался из ее легких, вода устремилась ей в рот. Она барахталась, ее схватили за талию и повлекли куда-то, и вместе с Рахарио она вынырнула на поверхность.
Кашляя и выплевывая воду, Георгина хрипела и жадно втягивала в себя воздух.
– Храбрая Нилам, – бормотал Рахарио, прижимая ее одной рукой, другой отводя с ее лица мокрые волосы, чтобы поцеловать.
– Знаешь, – пробормотал он, уткнувшись ей в щеку, – если мужчина и женщина разом сходятся под лодкой, это значит, что они созданы друг для друга. И ничто и никогда не сможет их разлучить.
Георгина выжала волосы и скрутила их в жгут, перекинув через плечо. Солнце горело у нее на коже и высекало золотые искры на воде, от которых она щурилась.
– Что мне делать теперь? – спросила она Рахарио, стоя балансирующего в лодке.
Он полуобернулся, приложив палец к губам, и Георгина виновато прикусила язык. Он с улыбкой нагнулся и протянул ей смотанный шнур, на конце которого был закреплен пучок перьев вокруг тонкого крючка.
– Тяни крючок по воде, – шепотом объяснил он. – Если веревка дернется, быстро выбирай ее.
Георгина пустила наживку плясать по воде, но то и дело поглядывала на Рахарио. Казалось, он был единым целым со своей стихией, как будто каждую волну мог чувствовать в своем теле. Понимать шепот рыб. Он стоял неподвижно, как бронзовая статуя, каждый из его напряженных мускулов был словно выгравирован в полированном металле; лишь рука, что держала гарпун, казалась расслабленной, да капли воды падали с его волос и сверкали на коже.
Она опустила глаза к наживке. Тут же лодка накренилась и заходила ходуном, как лягающая лошадь. Георгина, ища опоры, вцепилась в борт и тихо вскрикнула; ее вскрик потонул в победном реве Рахарио и шипении фонтана воды.
– Какой улов! – смеясь, крикнул он, с трудом поднимая вверх над собой могучую рыбу, которая извивалась на его гарпуне и разбрызгивала воду, пока Рахарио не уложил ее на дно. – Держи ее крепко, Нилам!
Георгина быстро выбрала шнур из воды и опустилась на четвереньки – пол лодки ходил под ней ходуном. Она поползла и попыталась было схватить скользкую рыбу, но та вертелась, вздымалась, и было непросто придавить ее ко дну, такая сила сотрясала эту рыбину. Георгина была в изумлении.
Рахарио схватил кинжал и вонзил его острие в мякоть; рыба еще несколько раз ударила хвостом и затихла. В нос Георгине шибанул металлический запах крови, а потом интенсивно свежий запах соленой воды, когда Рахарио снова приставил кинжал к жабрам и ловко высвободил крючья гарпуна из рыбьего тела.
– Это сулит нам счастье, – сказал Рахарио, склоняясь над рыбой. – Богатство, здоровье и много сыновей и дочерей.
– Мы теперь по правде муж и жена?
Какое-то сомнение еще оставалось, не требуется ли еще что-то, кроме этой рыбины под их руками, чтобы обозначить ее переход от молодой девушки к замужней женщине.
Рахарио поднял голову и посмотрел на нее – нежно и с торжественной серьезностью.
– Да, Нилам. Мы муж и жена. Навсегда.
– Навсегда, – эхом повторила она, наполовину изумленно, наполовину с обещанием, идущим из глубины сердца.
Рахарио потянулся к ней и поцеловал ее, его теплая рука на ее щеке была мокрой.
Ей нисколько не мешало, что его ладони были в крови, как и ее собственные, и перепачканы слизью от рыбьей чешуи.
Она чувствовала себя благословленной в архаическом обряде, древнем, как само человечество. Как кровь, которую каждый месяц проливает ее тело, как семя Рахарио есть часть вечного таинства жизни и смерти. Часть этого мира, в котором оба они были у себя дома.
Пусть из разных миров, которые здесь, в этой лодке, окончательно соединились.
Волны с ропотом омывали корпус корабля с той маслянистой тяжестью, какую море приобретает, лишь когда становится такой же чернильной черноты, как ночное небо.
В свете лампы Георгина сидела на плетеных матах, которыми Рахарио выстлал палубу, и на языке у нее таял последний кусочек нежной рыбы.
Ее пальцы повторяли рисунок рельефного волнистого узора на краю глазированной глиняной чаши, и уже в который раз ее взгляд обращался в сторону бледных огней, что тянулись вдоль берега, сгущаясь там, где река Сингапур впадала в море.
Мириады световых пятен танцевали у берега на воде: огни кораблей и лодок, которые на ночь стали здесь на якорь. Ковер плавучих язычков свечного пламени, будто специально для Георгины зажженных под серебряной вышивкой небесного полотна. В воздухе из текучего шелка терялся горизонт, сводя воедино небо и море, и корабль был островком в черно-блестящей, усеянной огнями дали небоморя.
– Как чудесно, – прошептала она, и Рахарио с ней согласился.
– Было вкусно? – спросил он и протянул руку за опустевшей чашей.
– Очень!
Рыба, крабы, лангусты и креветки на вкус напоминали морской бриз и соленую воду, в которой Рахарио их ловил; рис, фрукты и овощи, запас которых он всегда держал на своем корабле, были приправлены не так, как привыкла Георгина по индийской кухне Аниша, но остро, как она любила, и ей нравилось смотреть, как он орудовал железными горшками и серо-коричневыми глиняными чашками у очага на палубе.
Она вытерла руки о саронг.
– Я, пожалуй, самая худшая из всех жен, – виновато пролепетала она, потупив очи на свои пальцы, сцепленные на коленях. – Я даже готовить не умею.
Рахарио отставил глиняные чашки в сторону и засмеялся:
– Я не для этого на тебе женился!
Он придвинулся ближе, обнял ее за плечи и притянул к себе, между колен.
– Тебе никогда не придется готовить для меня, – прошептал он, отводя ее волосы назад и целуя в щеку. – У тебя будет достаточно прислуги, которая по глазам будет угадывать все твои желания. Чего бы ты ни захотела – все получишь.
Георгина с улыбкой ластилась к нему, укрываясь в тепле на его груди, которое проникало сквозь ее кебайю.
– А что говорит твоя семья насчет того, что ты женился?
Рахарио молчал, и она повернулась к нему.
– Они про это еще не знают? – гадала она.
Его взгляд скользнул мимо нее, на огни кораблей, и горло у нее сжалось.
– Это потому, что я… что я не из ваших?
– Нет. – Он прижал ее к себе крепче. – Нет, не поэтому. А потому… – Он глубоко вздохнул. – Я с ними не так близок. Больше не близок. Многое у нас, оранг-лаут, изменилось. Но и многое осталось прежним, как во времена предков. Моей семье не нравится, что я принимаю собственные решения, а не подчиняюсь решениям вождя племени. То, что я иду своим путем, делает меня оранг-лайн. Отщепенцем.
Он задумчиво гладил ее плечо.
– Мне всегда казалось, что мой отец не простил бы мне того, что я не сражался до последнего, чтобы быть убитым, как мой брат. Я и по сей день сам не знаю, то ли я тогда просто упал в воду, то ли прыгнул, чтобы спасти свою шкуру.
Пока он говорил, Георгина нежно гладила кончиками пальцев шрам на его руке.
– Тогда?
Он кивнул.
– Охотники за пиратами. Когда мы напали на богато груженный корабль буги. Против объединившихся буги и оранг-путих мы ничего не могли сделать.
Георгина не знала, что сказать на это, как утешить его, поэтому просто прильнула к нему, прижавшись лицом к тому месту, где шея переходила в плечо.
– Как только я вернусь, – прошептал он, зарываясь пальцами в ее волосы, – я пойду к твоему отцу. И если он будет настаивать, женюсь на тебе еще раз. Все равно по какому ритуалу.
Георгине стало дурно, едва она представила себе, как будет стоять перед отцом рука об руку с Рахарио. Как признается ему, что тайно заключила с оранг-лаут союз на всю жизнь по языческому обряду.
Гордон Финдли, который ценил индийскую кухню, поддерживал хорошие контакты с малайскими и китайскими бизнесменами тауке, а со своими подчиненными обращался как с дальними родственниками, но и после стольких лет здесь считал своей родиной Шотландию. Которую он взял с собой в Индию и в которой продолжал жить и в Сингапуре, гордый тем, что имеет в своей крови такие добродетели, как рассудительность и страх божий, прилежание, искренность и экономность. Она понимала: не получится вечно утаивать это. И все же тянула время, откладывая на потом момент, когда придется выбирать одну из тех двух жизней, между которыми она металась.
Как только Рахарио вернется.
Прижав ладонь к его груди, она отстранилась:
– Ты опять уезжаешь?
– Через несколько дней. Надо дождаться попутного ветра.
Он подставил лицо морскому бризу, и грудь его стала вибрировать, как будто своим частым и мелким дыханием он вслушивался в погоду.
– Я просто должен. С тем, что я привезу из следующего рейса, я смогу начать строительство нашего дома. – Он посмотрел на нее и опять погрузил пальцы в ее волосы. – Я построю для тебя дворец, Нилам.
– Я хочу с тобой! – Ей хотелось быть храброй, но она чувствовала, что вот-вот заплачет.
Он отрицательно качнул головой:
– Нет. Не так. Не тайком. И ты наверняка понимаешь, что я могу предстать перед твоим отцом только тогда, когда смогу что-то ему предъявить.
Да, это она понимала, и все же на душе у нее было тяжело. И только теперь до нее дошло, что на самом деле означает, когда дитя материка делит жизнь с человеком моря.
– Ты опять уедешь надолго?
Рахарио улыбнулся:
– Нет. Еще не успеет ветер подуть с запада, как я вернусь.
Он взял ее лицо в ладони и поцеловал.
– Это я тебе обещаю.
Он нагнулся к лампе и задул ее.
– Моя жена, – шепнул он и стал освобождать ее от одежды. Одевая ее в ветер, в тропическую ночь и блеск звезд и укутывая ее в тепло своей кожи. – Моя жена.
Сад простирался в темноте перед слабо освещенным домом.
Нежный шорох набегал волнами, и нельзя было различить, то ли это ветер блуждал в листьях деревьев и кустов, то ли море шумело по ту сторону Бич-роуд. Цикады тоже стрекотали присмирев, лишь слегка поцвиркивая поверх лягушачьего урчания, и рассекали темноту светлячки, словно упавшие звезды.
Пол Бигелоу стоял на веранде, выдувая в ночь дым сигары.
Брови Гордона Финдли неодобрительно поднялись, когда Пол Бигелоу еще до десерта распрощался с компанией коммерсантов; его предлог, что у него на этот вечер есть еще одна договоренность, был не совсем надуманным. Его притягивала сюда пара фиалковых глаз.
Тоска стояла в этих глазах после того, как мистер Финдли за завтраком поставил в известность боя Два о том, что оба мужчины сегодня ужинают вне дома, и будет, конечно, очень поздно, когда они вернутся домой. Взгляд как приманка, которому Пол Бигелоу просто обязан был подчиниться – в надежде провести с Георгиной Финдли пару часов наедине.
Однако мисс Финдли не было и следа – ни в гостиной, ни на веранде, и Пол Бигелоу смыл пресный вкус разочарования глотком виски.
На фоне звездного неба чернее, чем сад, выделялся одичавший лесок. Как будто необрезанные деревья, неухоженные кусты притягивали к себе темноту, собирали и сгущали ее между ветвей.
Он держал слово и обходил стороной тайное место мисс Финдли, какого бы труда это ему ни стоило. Правда, благодаря Ах Тонгу он знал, что этот уголок сада был одичавшим уже тогда, когда садовник поступил сюда на работу. Сперва по желанию мэм, потом в память о ней; этот непорядок, очевидно, причинял боль его китайской садовнической душе.
Одна из многих тайн, которые, казалось, хранил в себе Л’Эспуар. Как кости, зарытые под фундамент дома, о которых каждый из здешних насельников догадывался, но никогда не говорил вслух. В том числе и Семпака, глаза которой мрачнели, когда он хотел что-нибудь выпытать о семействе Финдли, а она уходила от ответа, предлагая ему сухим голосом что-нибудь выпить или осведомляясь, есть ли у него рубашки в стирку для доби-валлах.
Л’Эспуар. Надежда.
Так когда-то назвал свой дом Гордон Финдли. В надежде, что его все еще слабенькая жена, чуть не умершая в изнурительной жаре Калькутты, снова оживет в климате Сингапура. В надежде, что в этом доме его брак, может быть, еще будет благословлен ребенком.
То восхищение, то почтение, с каким Ах Тонг рассказывал о своей умершей хозяйке, с которой была связана его любовь ко всему, что зеленело и цвело, больше говорило Полу Бигелоу о самом садовнике. Тем более что о бывшей хозяйке дома он имел лишь смутное представление.
И о ее единственном ребенке.
Он ожидал увидеть маленькую девочку, когда Гордон Финдли отправил его на причал встретить дочку, в лучшем случае неуклюжего подростка. Но никак не юную девушку, почти женщину, гибкую, как ива, невероятно привлекательную в своей яркости. С красивыми глазами, сводящими с ума, и бархатным голосом. Она была неуловима, как вода, утекающая сквозь пальцы, и все же из этих глаз порой вырывался огонь, о который можно было обжечься.
Приличия давно требовали, чтобы он собрал пожитки и съехал, это он понимал и без замечания, которое Гордон Финдли обронил уже довольно давно. Без укоризненных взглядов Семпаки, когда они отправлялись на утреннюю выездку верхом.
А он никак не мог.
С сигарой между пальцами он бродил по балюстраде. Л’Эспуар стал для него домом, и хотя сырые здешние стены были напитаны страданием и горем, а призраки прошлого слонялись по комнатам, здесь все еще чувствовалась любовь, с которой он был когда-то построен. Слабый след надежды, которая дала этому дому имя, была и для него неким обещанием.
Шорох внизу, в саду вырвал его из раздумий. Светлое пятно отделилось от темноты и двигалось по шуршащей траве к дому, приобретая очертания стройной женской фигуры с темными волосами, и сердце Пола Бигелоу забилось.
Он непроизвольно отступил в тень между колонн. И только после того как Георгина Финдли легко взбежала по ступеням и исчезла в доме, он понял, почему это сделал.
Лишь на короткий миг полоска света упала на ее лицо – оно лучилось счастьем, в глазах догорал блаженный огонь чувственности.
Этого мига ему хватило, чтобы понять, каким он был дураком.
Острые языки пламени взвились в нем, и он одним глотком осушил стакан.
7
По привычке обхватив руками колени, Георгина сидела на скале. На лошадиные упряжки и воловьи повозки, катившие туда-сюда по Бич-роуд, она не обращала внимания, она смотрела на волны. На паруса кораблей, которые плыли вдоль туманных берегов вслед за птицами, которые кружили в небе и опять улетали. Ей так хотелось быть одной из них.
Просто расправить крылья, подняться в воздух и полететь далеко-далеко, за море.
Ветер бросал ей в лицо пряди волос, они прилипали к ее мокрым щекам, но она и пальцем не пошевелила, чтобы отвести их назад.
Ветер дул с юга, когда они с Рахарио простились, и как долгожданного друга она приветствовала западный ветер. Западный ветер, пахнущий блаженством счастья, имеющий вкус выполненного обещания и потом разоблаченный как обманщик, потому что не принес с собой Рахарио.
– Где же ты? – шептала она северному ветру, который уже нес в себе тяжелую, парную сырость муссонных дождей, и она немо просила море отпустить ее любимого на свободу и вернуть ей.
Пока не стало слишком поздно.
Она придвинула колени теснее, чтобы укротить страх, который сотрясал ее тело и вселял беспокойство в конечности. Но она лишь усиливала этим дурноту, которая то сжимала, то отпускала ее желудок; все в ней вышло из равновесия и расстроилось.
Позади послышался шорох, более сильный, чем от птицы, белки или ящерицы, и она резко обернулась. Плотная листва у павильона покачивалась.
– Рахарио? – ахнула она не громче вдоха, и сердце у нее забилось так, что ее чуть не вырвало.
Зелень расступилась, и оттуда вышел мужчина в светлой рубашке и брюках, глаза на загорелом лице светились голубизной.
– Мисс Финдли! Я так и знал, что найду вас здесь.
– Мистер Бигелоу, – пролепетала Георгина и быстро вытерла щеки.
Он огляделся, подробно рассмотрел павильон и его кровлю из листьев, затем скалу, на которой сидела Георгина.
– Так вот она, ваша тайна. – Глаза его сверкнули, и он поднял ладони, извиняясь: – Я знаю! Я обещал оставить эту тайну вам.
Широкими шагами он подошел к ней, разрывая ногами заросли, будто брел по воде.
– Но я просто не знал, как мне быть… вы и сегодня, едва проглотив кусочек за завтраком, вскочили и убежали. И вот я отложил бумаги, и мистеру Финдли пришлось уехать без меня.
Заложив руки за спину, он оперся о скалу рядом с Георгиной, поглядывая то влево, то вправо, то на море.
– Красиво здесь, – сказал он. – Неудивительно, что вы облюбовали это место, не желая ни с кем делить его.
Георгина тайком вытирала слезы – они никак не хотели останавливаться.
– Вы не хотите мне сказать, что случилось?
Георгина еще крепче обняла колени; ей было неприятно, как он на нее смотрел – настойчиво, почти испытующе.
– То, что вы больше не хотите выезжать со мной верхом, вы спокойно могли бы сказать мне в лицо. – Его шутка ушла в пустоту, и он тихо продолжил: – Но я все же вижу, что вам плохо. Уже несколько недель.
Георгина пыталась унять дрожь, пронизывающую ее, и сглотнула кислый привкус во рту.
– Я как-то говорил вам, что хотел бы быть для вас добрым другом. Помните? Я и сейчас могу это подтвердить. И, с вашего позволения, вы сейчас производите такое впечатление, что как раз остро нуждаетесь в добром друге.
Георгина всегда была одна, она не могла иначе. Но еще никогда она не чувствовала себя такой покинутой. Тетя Стелла и Мэйси были слишком далеко; никакое самое отчаянное письмо не могло бы сократить расстояние до них. Она не отважилась бы еще раз пуститься в такое далекое путешествие, не зная, не захлопнет ли у нее перед носом дверь тетя Стелла, такая же по-шотландски правильная и богобоязненная, как и ее брат. Может быть, она бы и могла рассчитывать на дядю Этьена, но никогда – на тетю Камиллу, которая тогда явно была рада, избавившись от непокорной и гневливой маленькой племянницы.
– Пожалуйста, мисс Финдли.
Георгина уронила плечи вперед и скорчилась над коленями.
– Я… – начала она и запнулась, не сводя глаз с волн, переливающихся то синим, то зеленым цветом. – Тут был…
Человек из моря. Любимый.
Слова душили ее, прежде чем исторгнуться:
– Он обещал, что вернется. Но больше не появился. Он просто не вернулся. А я теперь жду ребенка.
Самая старая история на свете.
Георгина сама услышала, как наивно, как глупо звучат ее слова, и закрыла лицо ладонями.
Пол Бигелоу молчал. Долго.
Тишина была мукой, трепет листьев на ветру, ропот волн действовали на нервы; в конце концов Георгина вытерла лицо ладонями, руки отерла о саронг и вздернула нос.
– Не знаю, что мне теперь делать, – прошептала она с набухшим горлом, низким от слез голосом.
Ах Тонг ни за что не достал бы для нее порошок в китайском квартале, насколько она его знала. Картика не смогла бы ей помочь, Семпака не захотела бы, и все трое сочли бы своим долгом обо всем рассказать туану Финдли.
– И сколько… у вас уже? – спросил Пол Бигелоу, сухо и хрипло, голосом как наждачная бумага.
Его слова дошли до нее глухо и искаженно, как звуки под водой; она с трудом его понимала.
– О чем вы?
– Я хочу знать, как давно вы ждете ребенка.
Резкость его голоса вытолкнула ее назад, на поверхность.
– Я точно не знаю.
С Рахарио она потеряла свое прежнее ощущение времени. Дни, недели и месяцы стали измеряться по движению солнца и звезд, по морским приливам и отливам и по смене ветра.
– Месяца… четыре.
Неподвижный как скала, о которую он опирался, Пол Бигелоу смотрел перед собой в пустоту. Бледный под загаром, почти серый, лицо словно высечено из гранита, глаза из голубого стекла.
Он содрогнулся и оттолкнулся от скалы.
– Не беспокойтесь. Я все устрою.
Не взглянув на нее, он повернулся, и заросли с треском поддавались его твердым, широким шагам.
– Но как? – крикнула ему вслед Георгина.
– Я же сказал, – бросил он через плечо, – не беспокойтесь.
Георгина снова скорчилась и смотрела на воду, течение и шум которой были эхом того, что творилось в ее теле.
Ее спотыкающееся сердце, которое иногда билось у нее в ушах так часто, что кружилась голова. Приливы дурноты и бешеный голод. Поток и кипение крови, бегущей по ее жилам. И глубоко, глубоко в ней крошечное человеческое существо, плавающее и трепыхающееся, как рыбка. Головастик, существо между землей и морем, создание двух стихий.
Ребенок любимого, подраставший в ней.
Она устало тащилась по саду, этому лесу мрачных теней, на которые проливалось вечернее небо, сине-фиолетовое, как растертый гелиотроп. Темные облака зловеще собирались в тучи, озаряясь призрачными вспышками зарниц, сопровождаемые духотой надвигающейся грозы.
Целый день она провела на скале. Только гром пушек на Губернаторском холме, возвещавший пятый час пополудни, вспугнул ее, и прошло еще некоторое время, пока она поднялась на ноги, чтобы вернуться в дом. Чтобы переодеться к ужину, натянуть поверх своего отчаяния оболочку хорошо устроенной повседневности, которой уже давно не было и в помине.
Словно замок с привидениями, перед ней высился фасад Л’Эспуара, огни горели, словно бледные кости в наступающих сумерках. Георгина с трудом переставляла ноги, поднимаясь по лестнице, и остро-сладкий, пряный дух дала и свежеиспеченных чапати, разнообразных карри, витавший в холле, вывернул ее желудок.
Грохот – словно от опрокинутой мебели – заставил ее вздрогнуть, а шипящий рык, словно тигриный, парализовал ее.
– За моей спиной! Под моей крышей!
Голос ее отца, в неукротимой ярости, едва приглушенный дверью его кабинета.
– Нилам! – из уголка холла к ней метнулась Картика. – Ах-ах, Нилам! Должно быть, случилось что-то страшное! Туан Финдли и туан Бигелоу едва вошли в дом, как затворились в кабинете. Сперва все было тихо, но потом туан Финдли начал яриться, как дикий зверь в клетке.
– У вас, у молодежи что, не осталось ни капли понятия о приличиях? – ревел Гордон Финдли. – Никакого представления о чести?
Картика испуганно прислушивалась к тому, что творилось в кабинете.
– Таким я туана еще не видела.
Я тоже. Георгина сглотнула.
Гневным – да, бывало, и разгоряченным, временами громким и шумным, но не в таком состоянии неукротимого пожара. Не такой уничтожающей мощи.
Ее взгляд наткнулся на взгляд Семпаки, которая вышла в холл вслед за Картикой.
– Я это предвидела, – беззвучно прошептала Семпака, почти скорбно и без малейшего следа довольства или злорадства. – Что ты только натворила.
Порыв ветра охватил дом и, казалось, сорвал его в сторону моря, и шум в кронах деревьев звучал так, будто волны лизали его фундамент в жажде присвоить Л’Эспуар и утянуть его на морское дно.
Час за часом Георгина выжидала на темной веранде.
Она сама не знала, чего ждет; может быть, ветер повернет или прилив с отливом поменяются местами. Она не знала, что ей еще делать.
Бессмысленно было и думать, чтобы сбежать; нигде на свете не было ей пристанища. Повсюду ее будет сопровождать позор, что она ждет ребенка от брака, который в глазах европейцев действительным не считается, ибо заключен не в церкви, а в море, с небом и рыбами в качестве единственных свидетелей, и нигде не закреплен письменно. С мужчиной, таким же не принадлежащим одному месту, как стихия воды, составляющая его жизнь.
С темнокожим мужчиной. Преступление, за которое не дождаться ей милости. Нигде.
Вечерний звон колокола Сент-Андруса давно отзвучал. На верхнем этаже у нее над головой тонкий звон серебра и фарфора подсказывал, что бои убирают со стола; ужина сегодня не будет. В остальном было тихо; зловещая, грозная тишина давила на душу. Отдаленный гром ворочался и рокотал робко, будто надвигающаяся гроза тоже боялась природного гнева Гордона Финдли.
– Мисс Нилам? – худенький силуэт боя Один возник неподалеку. – Тебя хочет видеть туан Финдли.
Грязно-желтым был конус света, который лампа отбрасывала на письменный стол, высосав все краски из лица Гордона Финдли и прочертив на нем глубокие борозды; он выглядел постаревшим на годы. В стороне, у окна, опершись на раму, стоял Пол Бигелоу, опустив голову и глядя в точку на полу. Даже в полутьме было видно, как горят его уши – как у школьника, получившего нагоняй.
В кабинете было душно. Тяжелая грозовая ночь усугублялась мужским потом, еще более едким из-за дыма, повисшего в воздухе; окурки сигар наполняли пепельницу. К дыму примешивались и острые алкогольные испарения, стеклянный графин рядом с двумя стаканами был почти пуст.
– Папа, – пискнула Георгина, как маленькая, и непроизвольно сделала книксен.
Как жаль, что она не переоделась, представ здесь в заношенной кебайе и пыльном саронге, да еще с грязными босыми ногами. Стояла как перед судом.
Гордон Финдли молчал; уперев ладони в разложенные по столу бумаги, как будто сдерживаясь, чтобы не вскочить, он смотрел прямо перед собой.
– Папа? – Она боролась со страхом.
Наконец он откашлялся.
– Мистер… Мистер Бигелоу сегодня открыл мне, как он злоупотребил моим доверием и моим гостеприимством.
Георгина вопросительно посмотрела на Пола Бигелоу – тот опустил голову еще ниже.
– Однако его решение объясниться начистоту в принципе делает ему честь. Но не умаляет ни наглости, с какой он провел меня, ни бесчестности его преступления. – Густые прямые брови сомкнулись над переносицей. – Что касается твоей доли в этом, то я далеко не уверен, что за все в ответе один мистер Бигелоу. Или я действительно настолько обманывался в собственной плоти и крови. Я с трудом могу представить себе, чтобы твоя бесценная тетя воспитала тебя в такой… распущенности.
– Нет, папа, – хрипло прошептала Георгина. – Все не так. Я никогда…
Он с размаху стукнул ладонью о стол.
– Не лги мне! Или ты будешь отрицать, что носишь ребенка?
– Нет, – выдохнула она почти беззвучно.
– В моем доме, – прошелестел он, и это прозвучало как рык хищника. – Прямо у меня под носом. Да как вы могли!
– Папа, я…
– Молчать! – Его глаза метали синие молнии, а указательный палец вскинулся в жесте угрозы. – Я не хочу слышать ни слова! Не буду тебе говорить, насколько я разочарован тобой. – Он резко выдохнул носом. – Еще хорошо, что мистер Бигелоу уверил меня в честности своих намерений. Если не считать этого тяжкого греха, он всегда вел себя безупречно. Он способный коммерсант и станет хорошим преемником для фирмы.
Казалось, через весь кабинет были вдоль и поперек растянуты силки и ловушки, которые эти двое мужчин расставили здесь за предыдущие часы. И не успела Георгина найти дырку, чтобы выскользнуть, как Гордон Финдли затянул сеть.
– Пусть люди говорят что угодно. Вы поженитесь как можно скорее.
Дай мне время. Дай мне хоть чуточку времени.
Она сглотнула; нет, она не могла терять более ни секунды.
– Нет! – Отчаянная попытка все-таки разорвать эту сеть. – Нет, папа, прошу тебя!
– Никаких возражений! – То была буря, несущаяся ей навстречу, против которой она не могла устоять на ногах. – Ты еще несовершеннолетняя и сделаешь так, как скажу я!
Ослепнув от слез, Георгина переводила взгляд с отца на Пола Бигелоу, и ни тот ни другой не смотрел ей в глаза.
– Прямо на завтра назначим оглашение.
Западня захлопнулась.
8
Рахарио вытянул лодку на берег, перебежал полосу песка и быстрым шагом пересек улицу Джалан Пантай. Он нетерпеливо напрягал мускулы; слишком давно он не видел Нилам. Больше он не хотел потратить на ожидание ни единого удара сердца.
Встречные ветры, превратившись у острова Флорес в ревущий шторм, задержали его в пути, но все же принесли ему удачу завязать бизнес с рыбаками – чтобы с опозданием на недели, но зато тяжело груженный перламутром, черепаховым панцирем, жемчугом и золотым песком, он привел свой корабль сначала в Малакку, а потом в Сингапур; корабль, который теперь налегке покачивался на волнах у побережья.
Уже завтра он мог начать строить свой дом, а послезавтра – заказать для себя больший корабль. Сегодня же он мог с высоко поднятой головой предстать перед отцом Нилам, ибо вернулся в Сингапур богатым человеком.
Он проскользнул сквозь пролом в стене и крался в ее тени, пока не нырнул в заросли из ветвей, листьев, травы и кустов, а потом в зеленоватый свет комнаты.
– Нилам? – шепотом позвал он, в который раз ощупывая в кармане тяжесть.
Браслет из темного золота, украшенный узором из волнистых линий и рыб. Свадебное кольцо оранг-лаут, которое он получил от своей матери в ответ на обещание в скором времени познакомить семью со своей невестой.
Споткнувшись обо что-то твердое, он взглянул вниз. Обломок лавы в форме китайской джонки. Неподалеку валялся разрисованный веер с треснувшими планками, а в углу перламутровый гребень, разломленный на три части. Браслет был еще цел, а раковины нигде не было видно. Все те вещи, которые он годами приносил сюда, чтобы показать маленькой девочке свою благодарность, были раскиданы по комнате разгневанной рукой.
Сквозь листву до него донеслись со стороны основного дома голоса; они звучали громче и отчужденнее, чем ему было привычно для этого места, а главное – гуще из-за своей многочисленности. Треск в воздухе как перед первым ударом молнии. Предчувствие, сгустившееся в нем как туча на горизонте, и он побежал.
Он лихорадочно прорывался сквозь заросли, задыхаясь, вырвался из них – и отшатнулся.
Многочисленные оранг-путих собрались на веранде и перед ней, в нарядных костюмах, с бокалами в руках; словно цветы орхидеи, между ними светились длинные платья их женщин.
– Да здравствуют новобрачные!
– Молодого вам счастья!
– Здоровья, долгих счастливых лет и чтоб горя не знать!
Как волны от киля корабля все головы были обращены в одну сторону: к паре, которая вышла на веранду и остановилась на лестнице наверху.
Рахарио на мгновение зажмурился, как ослепленный, пытаясь понять, что происходит.
Оранг-путих с волосами как песок, с глазами, отсверкивающими голубым, и с улыбкой от уха до уха, держал его Нилам в объятиях и целовал в щеку.
Нилам, полудикое дитя туана и женщины с острова, была отдана ему в жены на лодке во время рыбалки, как было в обычае оранг-лаут.
Его жена. Навсегда.
Это она? Она превратилась в белую неню – в голубом платье с широкими юбками и пышными рукавами, придающим ее коже оттенок слоновой кости. Белая женщина до мозга костей – это проявлялось в том, как высоко она держала голову, в заносчивой улыбке, а глаза ее были не синими, как дикие орхидеи на реке Серангун, а как ядовитые тарантулы в лесах острова.
Ни капли малайской крови не текло в ее жилах, теперь он это увидел.
Глубины его памяти вытолкнули другое ее имя.
Георгина.
Нилам когда-то обещала ему ждать его до скончания века, а тут Георгина выходит замуж за оранг-путих. За равного себе.
Словно пуля ударила ему в сердце. Словно клинок вошел в глубь его плоти, и его кровь вскипела яростью, затуманив взор красной пеленой.
Он разом постиг амок племени буги: бросаться на человека, выхватив клинок, в слепой ярости разить его, колоть и резать, пока из него не выйдет вся кровь. Пока не воцарится утомленная, смертельная, мирная тишина.
И он понял, как легко можно уничтожить человеческое сердце. Как может за одно мгновение омертветь сердце морского человека, воина морей.
Рахарио повернулся и ушел тем же путем, каким явился сюда, без спешки, но и без остановки. Без следа какого бы то ни было чувства внутри; он и не почувствовал, как наступил на маленький браслет из нанизанных на нитку ракушек, и осколки их вонзились ему в подошву.
Он столкнул лодку в море и запрыгнул в нее, но парус натягивать не стал. Стиснув зубы, он наслаждался, гребя веслами против волн и течений с такой силой, что в мускулах горело, а легкие готовы были лопнуть. Он находил опору в привычных действиях на борту, в знакомом ощущении дерева, канатов и парусины в ладонях.
Решительно хлопали паруса, которые он натягивал один за другим; корпус корабля тревожно дергался на якорной цепи, пока он не поднял якорь – и корабль освобожденно начал перепахивать волны. По ветру, которому Рахарио подставил паруса, правя к единственной цели – к горизонту.
Георгина сидела за туалетным столиком своей матери, который перекочевал в ее комнату, и старалась не смотреть в зеркало. Лицевые мускулы болели после часов, в течение которых ей пришлось изображать улыбку. Волосы ее наконец-то были избавлены от множества шпилек, удерживавших прическу весь долгий день, но и равномерные движения щетки, которой Картика расчесывала ее, так же действовали ей на нервы, как и кваканье лягушек. Рахар-е, кричали они в ночь, Рахар-е, каждый крик был уколом в самое сердце.
Вероятно, они были одной из последних пар, которые венчались в церкви Сент-Андруса. Не так много свадеб праздновалось в Сингапуре, и во время венчания балки, расколотые не так давно молнией, все время скрипели – в унисон с заботливо приделанными подпорками, – и штукатурка то и дело осыпалась с потолка и стен; церковь так и просилась под снос, чтобы не рухнуть в одно прекрасное воскресенье на головы прихожан.
Она разглядывала массивное золотое кольцо, которое Пол Бигелоу надел ей сегодня на палец во время венчания. Снимают ли обручальное кольцо на ночь? Она не знала – и не знала, у кого спросить об этом.
Дверь открылась, и Картика поспешно отложила щетку в сторону.
– Спокойной ночи, Нил… мэм Георгина. Спокойной ночи, туан Бигелоу.
– Спокойной ночи, – прошептала Георгина ей вслед.
Дверь тихо закрылась.
– Ну вот мы и одни, – услышала она голос Пола Бигелоу и его вздох облегчения.
Полное ожидания напряжение.
Опустив голову, она вслушивалась в звуки у себя за спиной – вот он выскользнул из фрака и грузно опустился на кровать; стукнул об пол один башмак, за ним он сбросил другой. Волосы у нее на затылке встали дыбом при мысли, что этой ночью он будет спать в ее комнате. В ее постели.
Короткая вспышка протеста перед тем, как внутри ее вновь расползлась пыльная пустыня, в которой она прожила последние недели: глухо, немо и чуть ли не слепо. В то время как все в ее окружении предавались деятельной лихорадке, готовясь к свадьбе и разрываясь между вынужденной спешкой и благопристойностью.
– Можешь меня поздравить, – сказал Пол Бигелоу, тяжело ворочая языком. – Вот уже полчаса я являюсь официальным совладельцем фирмы. Отныне она называется Финдли, Буассело и Бигелоу. Твой отец сообщил мне об этом за последним бокалом.
– Поздравляю, – пролепетала Георгина.
– Да, мне можно позавидовать. – Он встал и подошел к ней. – Обо всем этом я не мог и мечтать, когда приехал сюда. Соучастие во владении процветающей фирмой, да еще и такая жена.
Она старалась не встречаться с ним глазами в зеркале, когда он гладил ее по волосам, потом по плечам, которые ночная рубашка с широкими бретельками оставляла обнаженными.
– Ты красивая, – хрипло шептал он.
Георгина увернулась от его рук, скользнула по пуфику и вскочила на ноги.
– Тихо, тихо! – смеясь, он взял ее за плечи и развернул к себе. – Ты не находишь, что настало время для настоящего поцелуя?
Обвив ее одной рукой, он прижал ее к себе. Улыбающимся ртом прижался к ее губам, горячим и влажным; его язык скользнул по ее губам и протиснулся между ними. Он был теплый, как земля, напоенная дождями, и на вкус был почти сладким, с примесью алкоголя и сигарного дыма.
Георгина закинула голову, отстраняясь.
– Не надо пугаться! В конце концов, это не первый твой поцелуй. – Забавляясь, он поднял вверх бровь. – А я-то ожидал чуть большей отдачи от моей жены в первую брачную ночь.
– Я не хочу! – Георгина попыталась вырваться.
Он жестко схватил ее за локоть, уставился ей в лицо:
– Я не чудовище, Георгина. Но и не святой. И уж подавно не добродушный болван. Я поставил на карту свою должность в фирме и свое доброе имя, чтобы помочь тебе выбраться из твоего неприятного положения. Твой отец с таким же успехом мог прогнать меня с проклятьями и позором, и после этого я бы уже никогда не занял хорошего положения в коммерции. Ни в Сингапуре, ни где-либо еще. Но я пошел на этот риск, потому что я делал это для тебя. Но за это я вправе и потребовать чего-то. – Его хватка слегка ослабла. – Ты не считаешь, что ты передо мной в долгу?
Загнанная в угол, Георгина повесила голову.
Он нежно провел костяшками пальцев по ее щеке, вниз к линии подбородка.
– Если бы ты только знала, как давно я об этом мечтал. Пожалуй, с того момента, как приехал забирать тебя с причала и ты взглянула на меня своими красивыми синими глазами.
– Ребенок, – прошептала Георгина. – Я не хочу повредить ребенку.
Ложь. Она не хотела иметь ребенка, еще нет. Не в замужестве с человеком, который ей нравился, но которого она не любила и тем более не вожделела.
Он напрягся.
– Разумеется. – Это прозвучало трезво, почти холодно. – Я постараюсь быть осторожным.
Он взял ее за руку и повел к кровати, на ходу расстегивая пуговицы жилета.
Она плавилась от стыда, что он видел ее голой. Она стыдилась этого другого, чужого тела, которое было намного грузнее тела Рахарио. С узловатыми мускулами и кожей, поросшей золотистой шерстью. Стыдилась его восторженного бреда, бормотания ласкательных слов, которые каплями стекали с ее кожи.
Он старался быть осторожным, хотя дрожал от вожделения, и все-таки не мог избежать того, что делал ей больно в своем возбуждении, был груб и неуклюж; каждое прикосновение к ее груди, тугой, как медовые дыни, для которой и тонкая ткань кебайи была слишком жесткой и шершавой, причиняло ей боль. Он следил за тем, чтобы своим сильным телом не слишком нагружать маленькое полушарие между ее острыми тазовыми костями, но оно горело, когда он вторгался в нее, неприятно натиралось, когда он в ней двигался. От аромата жасмина, исходившего от простыней, изминавшихся под ними, от терпкого запаха его кожи, от его учащенного дыхания и от жара, источаемого его телом, ей становилось дурно.
Но хорошо, что это быстро кончилось, он откатился на другую половину матраца и погасил свет. Она забралась под простыню, а его семя липко сочилось у нее между ног.
Пока смерть не разлучит нас.
В темноте она дала волю слезам, и лягушки квакали, потешаясь над ней и высмеивая ее.
– Я знаю, что ты меня не любишь, – услышала она его шепот через какое-то время, голос был утомленный после соития, язык тяжело ворочался после стольких бокалов шампанского и крепких напитков. – Но каждое слово моей брачной клятвы, которую я давал у алтаря, я произносил от всей души. И я знаю, что могу быть тебе хорошим мужем. Если только ты мне позволишь.
9
Пол Бигелоу сидел на веранде и смотрел в дождь. Несравнимо более легкий дождь, чем в минувшие месяцы, когда зимний муссон обрушивался на остров с насильственной мощью, но листья кустов и деревьев все равно часто кивали под ливнем, который низвергался с серого, озаряемого молниями неба.
Новый год для китайцев стоял под знаком железной свиньи. Что настраивало Ах Тонга на довольный лад; год, конечно, чудовищный, припасающий много рисков, но мужественным и исправным людям приносящий богатство, к тому же это год, на который впоследствии оглядываешься с добрым чувством.
Пол Бигелоу меж тем питал сомнения в многообещающих видах Ах Тонга на этот 1851 год, который начался так же бурно, как завершался предыдущий.
Могучие массы воды, сброшенные на землю в январе, вывели из берегов канал Брас Басах и реку Рохор и во время приливов устремлялись в город. Целые участки улиц стояли под водой, всю землю смыло, а обнажившиеся камни делали дороги непроезжими. На Бенкулен-стрит и Миддл-роуд снесло малайские дома, а рис и овощи из огородов находили потом прибитыми на отдаленных улицах. Дерево, кокосовые орехи, дохлых свиней и утонувших собак потом носило по городу, а береговые стены у Эспланады, которые должны были защитить от моря открытые площади, во многих местах обрушились. Понадобится еще немало времени, чтобы последние следы муссона сгладились.
На острове вновь вспыхнула холера, а индийских арестантов отвлекли от стройки, чтобы они охотились на тигров, которые повадились заглядывать на плантации в самом сердце острова и оставляли там кровавый след.
То были плантации, на которых выращивали перец и гамбир, единственные плоды, приносящие доход острову, на котором Конгси, китайские Триады, в феврале бесчинствовали не хуже тигров, и красная земля дочерна окрашивалась китайской кровью. Кровью бывших членов, которые выпутались из мелкоячеистой сети преступного сообщества, обращенные в католическую веру священником Жан-Мари Берелем, и стали хозяйствовать на свой карман, а не в общак банды, и теперь банда давала им почувствовать силу своей мести.
Пять дней длился красный штурм между Кранжи и Букит-Тимах, принесший сотни трупов и погнавший в город толпы беженцев, ночами в небе полыхало зарево от горящих плантаций, и в воздухе пахло дымом. До тех пор пока индийские арестанты и солдаты небольшого городского гарнизона не выдвинулись и при посредничестве могущественного тауке Си Ю Чина, короля гамбира, снова не водворили мир.
Хрупкий мир, ибо правительство во главе с губернатором Баттеруортом все еще медлило урезать власть и влияние Триад. Из страха, как считали некоторые коммерсанты города; из экономического интереса, как полагали другие, которые сами имели выгодные сделки с членами Конгси.
Из Китая тоже недавно пришли известия, внушающие тревогу. Добрых десять лет после окончания Опиумной войны, из которой британцы вышли победителями, империю сотрясали волнения: одно движение, называвшее себя Тайпин, восстало против Маньчжурского владычества и против влияния западных сил.
Гражданская война казалась неизбежной – с, возможно, катастрофическими последствиями для торговли. Ведь Нанкинский договор, который в свое время открыл китайские рынки и разрешил торговлю опиумом, привел в движение высокоприбыльный круговорот. Добываемый в огромных количествах и дешевый в британской колонии Индии опиум потек в Китай, и полученные в обмен за него желанные во всем мире сокровища могли теперь перепродаваться дальше. С гигантской дельтой прибыли – как раз для торговцев в Сингапуре. В том числе и для фирмы Финдли, Буассело и Бигелоу.
Еще и по самым скромным меркам. Немало коммерсантов, с которыми Полу Бигелоу случалось посидеть вместе за рюмкой, советовали ему выжимать из торговли как можно больше, пока еще можно. Ибо хотя торговля в этом порту, где не было таможни и не взимались налоги, была более чем доходной, долго сингапурскому успеху не продержаться. Без самостоятельного управления, в качестве отводка правительства в Калькутте. Без порядочного порта, с рекой в качестве места перегрузки, которая вопреки всем усилиям затягивалась илом и заносилась песком. В конкуренции с недавно открывшимися миру портами Шанхая и Гонконга, в непосредственном соседстве с Малаккой и голландской Батавией.
Пара благоприятных лет, пожалуй, еще светила, а потом Сингапур потеряет свое значение как вольный порт.
Пол Бигелоу тер кулаками глаза, чтобы снять жжение, потом провел по лицу ладонями; сегодня утром он даже не побрился.
Иногда он сомневался в том, хорошо ли было пытать своего счастья здесь, в Сингапуре, и его часто мучила ностальгия. Ему не хватало здесь английского здравомыслия и надежного жизнеустройства, заведенного там. Известной уверенности и обширных просторов, приглушенных красок; даже серости. И еще ему не хватало смены времен года, он бы многое отдал за то, чтобы снова пережить зиму со снегом и звенящим морозом.
Но пока дела шли хорошо, как теперь, было бы глупо сниматься отсюда.
Он закурил сигару и, щурясь, провожал взглядом кольца дыма.
Россыпь дождя, бурление каскадов с крыши и ручьев, которые пробивали себе русла в красной земле сада, почти не приглушали шума на верхнем этаже. Лишь когда раскаты грома обрушивались на дом, наверху на несколько мгновений смолкали женские голоса. А потом опять возобновлялись жалобные звуки, плач и стенанье, проникающие ему до мозга костей.
Его рука дрожала, когда он подливал себе в стакан и подносил его ко рту.
Вероятно, было бы куда умнее с утра уехать с Гордоном Финдли на склады, чтобы там отвлечься работой. В случае необходимости даже переночевать там, пока не придет известие, что все уже позади. Но он решил остаться здесь, чтобы – если что-то пойдет не так – поскакать верхом к доктору Оксли и привезти его сюда.
Он не доверял мак бидан, повитухе, которую Семпака еще пару недель назад привезла из своей деревни и поселила в помещении для посыльных. То, что она каждый день умащала и массировала разбухшее тело и ноги Георгины, заворачивала ее в тесный саронг и перевязывала лентами, как пакет, не настораживало его и даже казалось осмысленным. И напротив, он подозрительно относился к травам, которые она сжигала вблизи Георгины, к песням, которые она при этом пела и которые казались ему вредным колдовством. Он не доверял напиткам, которыми она ее поила, и тому, как строго она контролировала еду Георгины и собственноручно ее приправляла своими пряностями.
При этом Георгина страдала от беременности, этот ребенок, казалось, истощал ее. Она стала бледной, лицо осунулось, щеки впали, волосы стали тусклыми и ломкими. Уродливая фигура, состоящая из огромного живота с тоненькими ручками и ножками. Как будто она носила под сердцем какого-то монстра, который пожирал ее изнутри и до последнего времени так бесновался у нее в утробе, что ее то и дело рвало.
У Гордона Финдли он не встречал понимания со своими подозрениями и своей тревогой; тот полностью передал дочь под опеку Семпаки, которая защищала свое верховенство зубами и когтями. Пол же, напротив, был бессилен, в конце концов, ведь он был всего лишь зятем, лишь вторым господином в доме, тем более что все это было женским делом.
Он поморщился и сделал еще глоток.
В то время как отношение Гордона Финдли к Полу Бигелоу снова стало почти прежним, иногда даже дружелюбнее, чем раньше, свою дочь он все еще не простил. Отец и дочь казались чужими людьми, случайно живущими под одной крышей, оба одинаково погруженные в себя и односложные в разговорах, оба одинаково непримиримые, и Полу тоже не удавалось быть посредником между ними.
Он никогда не спрашивал Георгину, кто был отцом ее ребенка; он и не хотел этого знать. Сингапур – город маленький, и слишком велика была опасность, что рано или поздно он столкнулся бы с мужчиной, который обрюхатил его жену, и потом, возможно, расквасил бы ему физиономию.
Изменить он бы все равно ничего не смог. Он знал, на что идет, когда решился просить Гордона Финдли о разговоре с глазу на глаз, и он получил то, что хотел.
Высокий, тонкий крик донесся до него сверху, и от муки, которая в нем слышалась, мороз пошел у него по коже.
Он нервно загасил сигару и опрокинул остаток виски в стакан; больше он не мог этого слышать.
Георгина тонула в кроваво-красном океане боли. Пылающей, грызущей боли, которая пожирала ее внутренности. Черным и тяжелым было тело младенца, который разрывал надвое ее лоно, грозя разломать ее тазовые кости. Волна за волной накатывали и отступали, раскаленные и насильственные; схватка за схваткой высасывали из ее мускулов силы, не продвигаясь на этом мучительном пути ни на шаг вперед.
Голоса повитухи Бетари, Семпаки и Картики, кудахчущие и воркующие над нею с ранних утренних часов, внезапно слились в возмущенное гоготанье, когда в комнате загремел непрошеный мужской голос.
– Все, хватит! Никаких возражений! Я в доме хозяин, и будет так, как я хочу!
Внезапная тишина наступила вместе с впадиной между волнами и позволила Георгине свободно вздохнуть, шорох дождя за окном дохнул на ее разгоряченное лицо живительной прохладой, от которой на глазах у нее выступили слезы.
– Георгина.
Сильная рука стиснула ее потные пальцы, и она заморгала. Небритое мужское лицо, бледное под загаром, рот напряжен, белки голубых глаз пронизаны красными жилками.
– Пол? – прошептала она протяжно и всхлипнула, содрогнувшись всем телом. – Пол.
– Я здесь, – выдавил он. – Я с тобой. Я не оставлю тебя одну, да?
Георгина хотела отрицательно помотать головой; но вместо этого кивнула и жалобно расплакалась.
– Все хорошо, – сказал он хриплым от бессилия голосом, и сжал ее ладонь.
Она ответила на это пожатие своей слабой рукой.
– Если я этого не переживу…
– Не говори глупостей, – перебил он и встал у изголовья кровати. – Переживешь, еще как переживешь.
Георгина проглатывала каждое второе слово. Прижавшись головой к широкой груди Пола, держась за его руку, она глубоко вздохнула и опрокинулась навзничь в красное море.
Рубашка прилипла к его телу, брюки тоже. Еще никогда Пол Бигелоу не чувствовал себя таким грязным, таким изнуренным, таким издерганным.
Сунув в карманы дрожащие, бессильные руки, усеянные красными полумесяцами и кровавыми царапинами, он стоял перед колыбелью, удивляясь тому, какой ребенок маленький. И какой огромный для такого тела, как у Георгины.
Это был мальчик, несомненно. Крепкий, с длинными конечностями, с оглушительно сильным голосом, которым он с самого начала рассеял все сомнения насчет того, кто в доме хозяин.
Теперь он лежал мирно, голенький, если не считать белой полоски ткани, обернутой вокруг его животика, крохотные пальчики сжаты в кулачки, которыми он боксировал воздух. Красное личико выглядело помятым, участки вокруг зажмуренных глаз припухли. Лицо, которое трогательным образом было еще таким юным и в то же время носило в себе вековечную мудрость.
Голова с густыми черными волосками поворачивалась туда и сюда, полные губки растянулись, и он лягнул ножкой воздух.
Улыбка дрогнула на губах Пола, но тут же погасла. Сдвинув брови, он тронул мальчика за ножку, потом за другую.
Горестное прищелкивание языком и шепот повитухи, взгляд, каким она обменялась с Семпакой, разом открыли ему смысл.
– Бедный малыш, – пробормотал он.
Это было потрясением – чувствовать в своих руках только что рожденного человечка. Его неукротимую жизненную силу и то, какими нежными и мягкими были его морщинистые ступни.
Переживание рождения, свидетелем которого он только что стал, раздавило его; могущество природы, брутальное, сводящее с ума и внушающее благоговение, которое заставило его чуть ли не стыдиться того, что он мужчина. Запах кислого пота и тяжелой, сладковатой крови, еще висевший в воздухе, парализовал его, и он чуть не задохнулся от внезапного страха, что не дорос до того, что перед ним лежало.
Спотыкаясь, он побрел прочь из комнаты, спустился вниз по лестнице и выбежал из дома. В вязкие желейные массы дождевого потока, которые удушающе пахли плесенью и выворачивали ему желудок.
Прямо у ступеней веранды он упал на колени, в жидкую грязь, и его рвало до тех пор, пока он не ощутил вкус желчи. Он кашлял и задыхался, подставляя лицо дождю, который промочил его до нитки.
– Идемте, туан. – Тощий Ах Тонг склонился к нему и стал поднимать его за подмышки. – Идемте в сухое место.
Мягко, но уверенно он повел его на веранду и усадил на верхнюю ступеньку.
– Погодите здесь, туан. Я сейчас вернусь.
Сопя и дрожа всем телом, Пол смотрел в пустоту, тер небритое лицо, вытирал рукавом пересохший рот.
Ах Тонг быстро вернулся, накрыл его плечи полотенцем, сел рядом с ним и протянул ему чашку дымящегося чая.
– Пейте осторожно. Очень горячий.
Чай был травяной и пряный, он смыл изо рта дурной вкус и прояснил голову.
– Спасибо, – сказал Пол между двумя глотками.
Ах Тонг лишь кивнул.
– Женщины в этом доме… – начал он через некоторое время и посмотрел вверх на козырек, с которого капал дождь. – Что-то странное с женщинами в этом доме. Долго веришь, что перед тобой порхающие бабочки. Переливчатые, нежные и хрупкие. А потом, в один прекрасный день, ничего не заподозрив перед этим, ты понимаешь, что на самом деле перед тобой дикие тигрицы. Которые, не дрогнув ни одной ресницей, могут вонзить тебе когти в тело и вырвать твое сердце.
Пол думал о Георгине – иногда она казалась такой тихой, будто была не от мира сего, и вдруг могла опалить его синим огнем своих глаз. С воем и оскаленными зубами она родила сегодня на свет сына и при этом так исцарапала Полу руки и так крепко втискивала голову в его грудь, что на грудине у него, пожалуй, остались синяки. Георгина, которая жила с ним под одной крышей, спала с ним в одной постели и все-таки оставалась для него всегда далекой. Которую он после почти полугода брака едва знал, не говоря уж о том, чтоб понимать.
– Да, – выдавил он.
– На тигра можно охотиться и убить его. Поймать его и запереть в клетку. Но приручить тигра нельзя. Можно лишь очень исподволь с ним подружиться. Предоставив ему свободу и дикость. Тогда тигр, может быть, и придет к тебе сам. Потому что и тигр нуждается время от времени в близости и защите.
– И видимо, можно лишь надеяться, что тигр не передумает и не растерзает тебя?
– Это так.
Ах Тонг улыбнулся, и Пол засмеялся.
– Мальчик, – воскликнул Ах Тонг с широкой ухмылкой и потрепал Пола Бигелоу по плечу. – Здоровый, крепкий мальчик, туан!
– Да, – машинально ответил Пол. Тень легла на его лицо, и он опустил взгляд в почти опустевшую чашку. – Да. Мальчик.
Пронзительный вопль больно ворвался в уши Георгины и гулко отдался в ее голове.
– Бетари! – позвала она. – Бетари! Ребенок!
На мгновение в комнате стало тихо, потом рев возобновился.
– Бетари! Семпака! Картика!
Никто не приходил, чтобы присмотреть за ней или за ребенком.
– Бетари! – Голос Георгины пресекся, и ребенок перешел на более высокий тон.
– Замолчи! Да замолчи же ты! – Она плача зарылась лицом в валик подушки, заткнула его концами уши. Крик ребенка стыл слышен приглушенно, и все же она не находила покоя. Как будто ее тело воспринимало колебания воздуха, низ живота больно сократился, мучительно застучало в ее переполненных грудях.
Она гневно отшвырнула подушку и сползла с кровати. Каждый шаг причинял ей такую боль, будто она шла по осколкам стекла; весь низ живота был сплошной растерзанной раной. Она была благодарна, что Бетари тесно затянула ее от пояса до колен в саронг, который возвращал ее внутренние органы на положенное им место и должен был заново сформировать ее тело и придать ему какую-то опору.
Тяжело дыша, она оперлась о край колыбели.
– Чего тебе надо? – прикрикнула она на ребенка, который был туго запеленут в яркие платки.
На мгновение он замер, личико его непроизвольно кривилось, губки двигались. Он снова расплакался, личико покраснело и сморщилось, как цветок гибискуса, в беззубом ротике дрожал розовый язычок.
– Он хочет есть.
В дверях стояла Семпака со строгой миной, но что-то вроде сострадания проступало в ее глазах.
Георгина выпрямилась и отвела с лица прядь волос.
– Почему вы не раздобыли кормилицу?
Семпака неодобрительно цокнула языком:
– У тебя более чем достаточно молока для него. Нет никаких причин его разбазаривать.
Георгина посмотрела на ребенка, который заставил ее пройти через муки преисподней. Который разрушил ее тело. Она не хотела его кормить. Она не хотела даже притрагиваться к нему.
Она не хотела быть матерью.
Странное тянущее чувство расползалось у нее в области желудка, поднимаясь вверх, в сторону груди. Чувство, среднее между болью и тоской, заставило ее растопиться как воск, капая через край колыбели и затем растекаясь.
– Я… я не знаю как… – Она со страхом смотрела на свою няньку. – Помоги мне, Семпака.
Семпака кивнула в сторону кровати:
– Садись. Я принесу его тебе.
Георгина послушно заковыляла через комнату и со стоном опустилась на матрац. С трудом распрямилась, чувствуя себя старой и хрупкой.
Она с удивлением смотрела, с какой любовью Семпака разворачивала малыша из платков, что-то нежно ему нашептывая. Она не могла припомнить случая, чтобы Семпака была такой мягкой и чтобы ее черты были такими счастливыми.
Ее руки сами сложились в то же положение, в каком Семпака несла перед собой мальчика в пеленках и рубашке и передала его ей, пальцами помогая малышу приложиться к груди.
– Нет, смотри, вот как надо. Да, уже лучше. Так правильно. Да, так.
Георгина тихо вскрикнула, пораженная острой болью, пронзившей ее грудь и добежавшей до кончиков ступней. Горячие волны бились глубоко в ее животе.
– Сейчас пройдет, – пробормотала Семпака и нежно погладила ее по плечу. – Сейчас будет легче. Вот увидишь.
Боль стихала, и Георгина облегченно вздохнула. Она откинула голову и прикрыла глаза, наслаждаясь легким покалыванием, пощипыванием, щекотанием и теплом, которое разливалось по ее телу.
Когда она снова открыла глаза, Семпаки не было.
– Спасибо, – прошептала Георгина в пространство и опустила взгляд вниз, на ребенка у своей груди.
В высочайшей сосредоточенности он сдвинул бровки – темный пушок, нанесенный тонкой кистью. Его узкие глаза были серые, почти серебряные, как море в штормовой день. Георгина робко и осторожно погладила его черные волосики. Его щеку, мягкую, как лепесток кембойи, и звук блаженства сорвался с ее губ.
Она восхищенно ощупывала пальчики маленьких кулачков, совершенные крошечные ноготки из перламутра, с улыбкой гладила складочки на ногах, прошлась в отдельности по каждому пальчику.
Она присмотрелась к нему, пугливо разжала сперва один кулачок, потом другой, пальчик за пальчиком. И снова осмотрела пальцы на ногах, несколько раз пересчитала их, потом потерла их, насколько хватило смелости.
– Нет, – прошептала она. – Нет, не надо.
На обеих ступнях второй и третий пальчики были сросшимися почти до самых кончиков. Между ними была натянута кожица. Плавательная перепонка. Как у выдры или тюленя.
Отец оставил знак на своем сыне.
Протяжный жалобный стон вырвался из ее груди.
Слезы покатились из глаз, капая на ее сына.
Темный послед и серебристую пуповину, душевного близнеца новорожденного, Семпака закопала в саду под молодым мангостаном, специально для этого высаженным Ах Тонгом. Таков был здесь обычай, чтобы душа младенца пустила корни в красную землю Сингапура.
Когда его крестили в Сент-Андрусе гордым именем его шотландских предков, грозовой дождь, протекая сквозь поврежденную крышу церкви, капал на лоб грудничка.
Но все же свое первое крещение Дункан Стюарт Бигелоу, сын малайца, зачатый под южным ветром, рожденный во время восточного ветра, получил со слезами своей матери.
Солеными, как море, из которого вышел его отец.
II
Среди тигров
1854–1861
Двум тиграм не ужиться на одной горе.
Из Кантона
10
Висванатан полагал, что знает о золоте и драгоценных камнях очень много. Такого же высокого мнения он был и о своих коммерческих способностях и о своей памяти, в которой он держал не только длинные колонки цифр, но и каждую самую мелкую и самую второстепенную деталь. И о своем знании людей.
Но он ничего не мог понять в человеке, который сидел напротив него за столом, хотя они совершили вместе уже не одну сделку. И это были хорошие сделки.
В то время как за окнами на землю обрушивался муссонный ливень, Висванатан шумно отхлебывал чай с блюдца; чай они пили по завершении каждой сделки, и Висванатан исподтишка наблюдал за своим визави, который пригубливал из своей чашки.
Нужно было внимательно присмотреться, чтобы разглядеть, что его скромная белая рубашка и светлые брюки были сшиты тщательной рукой из отборной ткани. Искусной гравировки были и рукояти клинка и огнестрельного оружия, висевшие на его ремне. Несмотря на то что его постоянно сопровождали трое-четверо вооруженных мужчин, которые перетаскивали ящики в дом, а потом в тени веранды, потягивая чай и жуя бетель, ждали, когда их хозяин снова тронется с места.
Это были малайцы, как и он сам, судя по всему; но что-то в нем было не таким, как у других малайцев, которых знавал Висванатан, в том числе его особая манера прищелкивать языком.
Он всегда входил в дом с высоко поднятой головой, самоуверенно, почти высокомерно, хотя никогда не показывал себя по отношению к Висванатану снисходительным. Речи его ограничивались только самым необходимым; серьезный, но отнюдь не угрюмый, он никогда не смеялся и лишь изредка выказывал что-то вроде улыбки. И как только он переступал через порог, всегда казалось, что он приносил с собой соленое дуновение моря.
Трудно было оценить его возраст. У него была повадка мужчины, который много повидал и многое пережил и благодаря этому пришел к тому, что имел теперь. Стройный и рослый, он двигался с гибкой силой, свойственной более юному возрасту. Молодым было и его лицо, но со следами разочарования и горечи, которые добавляли ему несколько лишних лет. Это было жесткое лицо, с тяжелой линией подбородка и резкими скулами. Жесткими, чуть ли не каменными, казались и его глаза; они были черными как ночь, как и его коротко остриженные вьющиеся волосы. Мужчина, которого женщины, без сомнения, находили привлекательным. Еще каким привлекательным, и Висванатан подавил вздох.
Многие называли его человеком тени, потому что о нем никто ничего толком не знал, кроме того, что он богат и имеет большой дом. На реке Серангун, далеко за пастбищами для скота и за кирпичным заводом, за полями и крестьянскими дворами, за лесами и болотами. Где-то на реке, спрятанный за поселениями кули с их свиными загонами, за малайскими деревушками и за высокими деревьями. Некоторые рассказывали, что бродячие тигры никогда не осмеливались подойти к этому дому, потому что страшились силы его владельца; Висванатан, однако, считал это суеверием простодушных.
Он был непостижим и недосягаем; временами исчезал бесследно на борту своего проворного корабля, чтобы вернуться с золотом, а иногда с пригоршней бриллиантов с Борнео, которые делали его еще богаче. С жемчугом, перламутром и кораллами из моря. С медовосветящимся янтарем с Калимантана, реже с Суматры: он был золотым, если смотреть сквозь него на солнце, или оливковым, когда на него падал свет, и Висванатану давали за него высокую цену. А два раза он привозил нечто настолько редкое, бесценное, что даже такой торговец, как Висванатан, который полагал, что видел и знает уже все, лишался дара речи: янтарь, голубой, будто расплавленный лазурит. Застывшие капли из глубин океана.
И тогда он виделся Висванатану береговым расхитителем, который бесцельно плавает по морю и по дороге просто собирает то, что находит на песке.
Этого человека Висванатан знал под именем Рахарио. Имя как счастливый знак, возвещавший богатство.
Другие называли его кукловодом, потому что далеко не везде он появлялся сам, а дергал за ниточки, порой весьма длинные – разветвленную сеть посредников, – оставаясь на заднем плане. И когда в очередной раз китайская джонка или европейский торговый корабль попадали в руки пиратов, которые, несмотря на все усилия британцев, продолжали творить бесчинства на море у Сингапура, грабя малайцев, буги, но в основном китайцев, многие были убеждены, что какая-то нить этого события не миновала его пальцев.
Где есть море, там есть пираты, как говорят в Сингапуре.
Бесшумно отодвинулась дверь в противоположном конце комнаты. Его жена просунула голову с налетом досады на лунно-круглом, обычно добродушном лице. Она помахала ему жестом, выражающим нетерпение.
Висванатан снова подавил вздох и водрузил на лицо свою самую выигрышную улыбку.
– Я знаю, вы многозанятый человек… Но может статься, вы все же найдете время задержаться и с нами пообедать? Это была бы большая честь для меня и моей жены – принимать вас в качестве гостя.
Это было не в его обычае – длить такое посещение сверх обязательного удара по рукам в завершение сделки и чашки чая или кофе. Он не считал нужным входить в более близкое знакомство с торговцами, в личные и уж тем более в дружеские отношения. Его товары и цена, какую он за них получал, – вот все, что было для него важно; в том случае если кто-то соглашался брать у него товар только в обмен на ответную любезность, он предпочитал найти покупателя в другом месте.
Тем не менее Рахарио принял приглашение Висванатана. Может быть, он счел уместным хотя бы раз отметить эти более чем взаимовыгодные деловые отношения; но, возможно, также потому, что почуял: торговец при этом имеет в виду нечто большее, чем приобретение жемчуга и кораллов, и это пробудило в нем любопытство.
За это говорили и бесчисленные миски на столе, и то, что жена Висванатана Суджата, которую он видел нечасто, почтительно его приветствовала и перечислила ему все выставленные кушанья.
Рис с шалотом, чесноком, орехами кешью и изюмом, приправленный корицей, кориандром и тмином. Рис с куркумой, рис чистый. Икан пинданг, курица в кокосовом молоке и соке тамаринда, острая благодаря чили и свежая благодаря лимонной зелени. Разнообразная рыба, креветки, омар. Разноцветные чатни, самбалы и карри. Фрукты – манго, папайя, мангостаны, нангка.
Праздничное угощение, как для султана.
– Приступайте, приступайте! – оживленными жестами Висванатан указывал на дымящиеся миски. – Небольшой выбор из нашей кухни, в которой смешаны старая и новая родина.
Помимо арестантов и маленького гарнизона сипаев, в Сингапуре было много индийцев: оранг-клинг, названные так по старому королевству Калинга, которое в прежние времена вело торговлю с Малаккским полуостровом и островами Нусантары.
К тому времени их были уже тысячи, большинство с юго-запада, но также и с Цейлона и из Синда, Гуджарата и Керала; индусы, мусульмане, горстка христиан. Служащие и писари в складских конторах и управлениях, рабочие на кирпичном заводе и на полях, скотоводы и пастухи, крестьяне и ремесленники. И неприкасаемые примешались в качестве кули к китайцам. Многие открывали мелочные лавки или пробовали себя в торговле, а некоторые разбогатели на этом, как Висванатан.
Особенно бросались в глаза четтьяр, каста торговцев из Южной Индии – своими броскими чертами лица и темной кожей, на которой резко выделялись светлый саронг и шарф, часто еще белые полосы, нарисованные на лице, на руках, на груди. Здесь, на Клинг-стрит у них были их узкие коммерческие заведения, в которых они ссужали деньгами мелких коммерсантов, рабочих, торговцев-разносчиков и плантаторов и очень хорошо с этого жили, как и на Маркет-стрит, вблизи рынка Телок Айер, пульсирующего сердца китайского квартала.
– Я приехал сюда, в Сингапур, совсем молодым человеком. Из Куддалора. Через Малакку, где жили мои родственники. А вы родом отсюда? Из этих мест?
Рахарио кивнул.
– А. – Висванатан широко улыбнулся, и его ухоженная борода с проседью, наполовину скрытая под выступающим носом, довольно затряслась. – Моя жена тоже. Из Джохора.
Он взглянул на Суджату, которая забилась в уголок комнаты, покорно опустив лоб с красной точкой замужней женщины, сцепив ладони на подоле пурпурного сари.
– Вы мусульманин? Или христианин?
– Ни то ни другое.
Ответ, который, казалось, удовлетворил Висванатана; по крайней мере дальше он не расспрашивал.
Дверь тихо открылась и снова закрылась, и на Рахарио пахнуло нежным ароматом розы.
– Не хотите ли еще чаю, туан? – Нежный женский голос около него, юный и трепетный.
– Моя дочь Лилавати.
Обычно его не занимало, кто в этом доме наливает ему чай, по большей части это был тощий как жердь парнишка, про которого он даже не знал, один и тот же это человек или разные; лишь замечание Висванатана заставило его поднять голову.
Потупившись так, что был виден пробор, молодая девушка неуверенной рукой подлила ему чаю; золотые браслеты на ее сильных запястьях позвякивали, когда она наполняла чашку колеблющейся струей. Сари цвета спелого абрикоса придавало ее коже, такой же кофейно-смуглой, как у отца, еще более темный оттенок, и хотя вырез ее чоли был сдержанным, узко прилегающий лиф выдавал женственные округлости. Лицом она походила на мать: такое же круглое и плоское, как луна, с преувеличенно полными губами цвета розового дерева. Крылья ее широкого носа дрожали, когда она поклонилась, пролив при этом несколько капель, и встала с чайником в руках подле матери.
– А у вас есть дети?
Рахарио отрицательно покачал головой.
– Тогда боги еще пошлют вам и вашей жене детей.
– Я не женат.
Больше нет.
– А.
Лицо Висванатана просияло, озарив помещение с белеными стенами и тяжелой, темной мебелью. Он кивнул женщинам, и они удалились, бесшумно ступая, под шорох своих сари, и закрыли за собой дверь.
– Если я, старый человек, могу дать вам совет… Не откладывайте надолго с браком. Как это сделал я. Когда я был еще молод, я все свои силы и внимание прилагал к коммерции. Сперва у меня не было времени приискать себе невесту, потом я долго не мог ее найти. Когда я наконец нашел мою Суджату, мы оба были уже не так молоды. Мы долго ждали ребенка, и наконец нам была дарована единственная дочь. Теперь я стар и тревожусь, кому передать мое дело. Оставить его приличному зятю или внуку мне было бы намного приятнее, чем вызывать для этого из Индии племянника или сына кузена.
Рахарио молча слушал его, наперед догадываясь, какой оборот примет речь Висванатана.
– Сейчас Лилавати семнадцать. Она давно в брачном возрасте. О, в претендентах на ее руку недостатка нет! Вы ее видели, она очаровательная девушка! Но я должен поступить обдуманно, когда дело касается моего будущего зятя. Приходится учитывать многое. Не в последнюю очередь потому, что речь идет, разумеется, и о деньгах. – Он понизил голос до многозначительного шепота: – О больших деньгах.
На его взгляд, полный ожидания, Рахарио ответил, с вызовом подняв брови.
– Лилавати хорошо воспитана. Росла под присмотром и в сдержанности, как полагается. – Лицо Висванатана омрачилось: – Я хотел бы говорить с вами совершенно откровенно. Я боюсь, что мы слишком избаловали нашего единственного ребенка. Слишком во многом ей уступали, тогда как она нуждалась в твердой руке.
Он перехватил взгляд Рахарио и замахал руками:
– Только не подумайте плохого! Она целомудренная, благонравная девушка, безупречного поведения и репутации. Только иногда немного… своевольная. – Он почесал за ухом. – Например, она вбила себе в голову выйти замуж за вас.
Рахарио опешил – и не скрывал этого.
– Она видела вас, должно быть, из окон наверху, когда вы приходили или уходили. – Висванатан пристыженно косился на него поверх своего примечательного носа. – С тех пор она прожужжала нам все уши, что не хочет никого другого, кроме вас. – Он вздохнул. – Я знаю о вас не так много, но по отношению ко мне вы всегда вели себя по справедливости. Знаю, что вы хороший коммерсант. С безупречной репутацией. Мог ли я пожелать для своей дочери лучшего мужа? Тем более что она всем сердцем склоняется к этому. Лилавати будет вам ловкой и понятливой домохозяйкой. Подарит вам много сыновей. И принесет в брак щедрое приданое.
С блестящими глазами прожженного торговца, который предполагает особо выгодную сделку, он ретиво добавил:
– Ну, что вы на это скажете?
Рахарио молчал.
Это было для Рахарио не первое предложение такого рода, но с большим отрывом лучшее: Висванатан был не только состоятельным, но еще и уважаемым гражданином города. Укорененным настолько, насколько это было возможно в Сингапуре, с широко разветвленной сетью отношений и связей.
Еще три раза он оставался пообедать на Клинг-стрит, и всякий раз Суджата и Лилавати сидели за столом, хотя и не ели. Молча, потупив взор, но с пылающими щеками – девушка, едва скрывающая счастливую улыбку. Мать, куда более разговорчивая и любопытная, с заметным облегчением восприняла известие, что в доме на Серангун-роуд ее дочь не будет ждать никакая свекровь.
Рахарио теперь нечасто показывался на реке Калланг. С тех пор как его самая младшая сестра вышла замуж и осела где-то на острове, как почти все оранг-лаут его племени, постепенно втянутые в оседлую жизнь малайцев – так всасывает воду необожженный кирпич. С тех пор как его отец умер в прошлом году, мирно, на борту своей лодки, что почти не тронуло Рахарио. Как его не трогало и все остальное.
Ему были неприятны расспросы его матери, его младшего брата и его жены, когда же он наконец привезет свою жену и не ожидает ли она часом ребенка. Он стыдился признаться, как жестоко он был обманут.
Он не хотел рассказывать о Нилам, которая водила его за нос, как рыбу, которую заманили перьями под видом насекомых и тем самым поймали. И не хотел рассказывать о Георгине, красивой белой женщине, которая предала его и хладнокровно вырвала его сердце. Его ранило в самую сердцевину его гордости то, что они не взяли денег, которые он хотел им дать, потому что они по-прежнему жили меновой торговлей, это нарушило бы их честь как оранг-лаут – брать его деньги, за которые они ничего не могли отдать ему взамен. Только теперь, столько лет спустя, ему дали почувствовать, что он лишился своих корней, выбрав другое направление роста, чем его братья и сестры.
Уже пора было завести и собственную семью.
Когда Висванатан под конец застолья добавил еще кое-что к невестиному приданому, Рахарио, пожав плечами, согласился, что Лилавати и впредь будет исповедовать свою религию и что ей можно будет воспитывать будущих детей как индусов, на том и сошлись, и мужчины скрепили обручение, решительно ударив по рукам.
Пригласили астролога, который должен был составить гороскоп пары и определить день, благоприятный для бракосочетания. Что для Рахарио оказалось попросту невозможным, поскольку он не знал в точности даже год своего рождения, не говоря уж про месяц, день и тем более час. Знал только место и только время года: в лодке восточнее побережья Сингапура, во время северного ветра.
Астролог стонал и ругался, оценивал и подсчитывал и в конце концов представил за большие деньги гороскоп, полный супружеской гармонии, счастья и благословения детьми. Для свадьбы он рекомендовал один особенно благоприятный день: в период восточного ветра, в месяц панкуни тамильского календаря, в апреле.
Ночь была тихая.
Слышен был лишь ветер, шепчущий в листве высоких деревьев, которые он поселил здесь еще саженцами в молодом саду. Недавно к ним добавились еще три дерева: фиговое, баньян и маргоза, в честь трех божеств: Шивы, Вишну и Шакти.
Тихо бормотала река по ту сторону сада, более оживленно била о причал из камня и дерева, который он велел построить для своей лодки. В сырых лугах приглушенно квакали лягушки, и где-то над его головой тявкал геккон в балках веранды.
Большой дом он построил себе, почти такой же большой, как Истана, дворец султана Джохора.
Ослепительно белыми были высокие, просторные комнаты на двух этажах, с темным, полированным деревом полов, балок и лестниц, возведенных просто и скромно, почти скупо. Дом, пронизанный светом, был невесом, нежно подсвеченный зеленью деревьев и кустов, весь в солнечных зайчиках от ряби на воде. Дом был воздушный, пропитанный дыханием реки, предвестием близости моря. Взмахами крыльев и пением птиц, шорохом сизых стрекоз.
Он назвал свой дом Кулит Керанг. Как и корабль. Скорлупка раковины.
В эту ночь стояла драгоценная тишина, благотворная после бурных предыдущих четырех дней веселья.
Эта свадьба была опьяняющим праздником в доме невесты, украшенном чем только можно, с навесом, ведущим до Клинг-стрит, с балдахином из шелка и с цветочными гирляндами. Висванатан пригласил половину Сингапура, по меньшей мере индийскую часть и многих китайцев. Гости Рахарио, горстка его лучших мужчин, таких же оранг-лаут, как он, полностью потерялись в этой толпе, шумливой и праздничной.
Четыре дня были заполнены с утра до позднего вечера торжественными ритуалами и жестами, а вечером четвертого дня большая церемония достигла своей кульминации. После ритуальных омовений, жертвоприношений и воззваний к богам невеста и жених обменялись подарками в виде роскошных одежд, и Рахарио забрал свою невесту из рук ее отца. Они украсили друг друга гирляндами из цветов, и семь раз обошли вдвоем вокруг костра, потом проехали по всему городу в открытом, украшенном цветами экипаже от Клинг-стрит через реку Сингапур и сюда, к дому Рахарио.
В голове его все еще стоял шум от монотонного пения и молитв на языке, которого он не понимал, от пронзительной, лязгающей музыки, болезненной для его слуха. От всех голосов, от звонкого смеха и аплодисментов, от шума, который производило множество людей в небольшом пространстве. От блеска и сверкания золота и ограненных драгоценных камней, от светящихся красок – красной, желтой, белой. Роскошные орнаменты и узоры повсюду, от которых у него голова пошла кругом.
От всех этих воскурений и запаха крови ему было дурно, от интенсивных запахов шафрана и куркумы, от испарений множества тел и от панахам, воды с тростниковым сахаром, кардамоном и черным перцем, которую новобрачные пили вместе.
Он тосковал по открытому морю и его покою. По шуму волн и ветра, который был заодно с его сердцебиением, его дыханием. По ясному, свежему воздуху на палубе и по бескрайней, одинокой дали.
О том, чтоб больше не терзали воспоминания о другой свадьбе.
О свадьбе на ветру, в лодке между прохладным морем и вольным небом. О крови и слизи рыбной чешуи под руками и о мягкой, золотистой коже женщины, которая обещала ему себя навсегда.
Лилавати уже ждала его. В комнате на верхнем этаже, в которой они отныне будут лежать рядом как муж и жена.
Она сидела на краю широкой кровати, распустив по плечам свои блестящие волосы. Вздрогнула, когда он вошел. Ее рука, украшенная, как и ступни, филигранным орнаментом из хны, метнулась к вырезу халата из красного шелка и стянула его теснее, и браслеты – красные и серебряные, покрывавшие ее руки чуть не до локтя как часть доспехов – резко зазвенели. При этом она все-таки улыбалась, и ее темные глаза сияли.
– Сегодня счастливейший день в моей жизни, – прошептала она.
В те недели, которые прошли со дня их обручения, они говорили между собой совсем мало. Не больше нескольких фраз.
Как ты смотришь, если я найму для тебя женщину в услужение? Или ты возьмешь кого-то с собой из дома?
О, лучше нанять, большое спасибо!
Ничего, если я поставлю где-нибудь в углу святилище? Оно совсем небольшое, ты его и не заметишь.
Как хочешь.
Ему хотелось бы, чтоб она перестала на него так смотреть. Как будто он принц, сошедший с облака, чтобы спасти девственницу от чудовища. Мечта юной девушки, вошедшая в плоть и кровь. И все же в нем пробудился голод обладания ее девственным телом.
Он повернулся к ней спиной и стянул через голову длинную вышитую рубашку.
– Я… я тоже должна раздеться? – прошептала она у него за спиной. – И лечь?
Он почувствовал, как его прошиб пот. Такая брачная ночь – это было не то что предаваться вожделению на каком-нибудь острове. С девушкой, женщиной, которая была ему чужой и такой же оставалась. Была ему чужой, даже если телесно он и пропадал в ней, на немногие, слишком короткие миги сладострастного опьянения. Забвения, которое смягчало боль, но неспособно было исцелить.
Много у него было таких за последние четыре года.
– Как хочешь.
Глухое биение пульса пробралось ему в затылок, в сторону черепа.
Он услышал шорох и повернулся. Сжимая халат обеими руками, она вытянулась на кровати и улыбалась ему, во взгляде было волнение и страх, но прежде всего желание, полное ожидания.
– Свет погасить? – спросил он, ложась.
– Как тебе лучше.
Он помедлил. Статуя божества на столике у кровати решила за него. Суджата принесла эту статую в дом сегодня вечером перед тем, как со слезами распрощаться с дочерью. Отвратительный кобольд с синим цветом кожи и самодовольным выражением лица.
Свет погас, ночь заполнила комнату.
Он стянул с себя брюки, распахнул ее халат и склонился над ней. Аромат рассыпанных цветов жасмина мешался с запахом розового масла и сандалового дерева, исходившим от ее волос. С тяжелым, пряным запахом ее кожи, как от глубоко вспаханной, сырой земли, и биение пульса в его затылке стало сильнее.
Его губы лишь бегло коснулись ее рта; ему не понравилось, как ее губы разомкнулись ему навстречу. Ее груди под его ладонями были полными и тяжелыми, талия тонкой, а тугой живот и округлые бедра сбегались в мягкое руно, под которым тлел тихий жар.
Она дрожала, тяжело дышала, неумело гладила его плечи и что-то лепетала, и это звучало маняще.
В нем что-то порвалось. Красная молния полоснула глаза. Голод, перекинувшийся в неистовую алчность.
Он грубо схватил ее руки и прижал их к простыне, развел коленями ее ноги и ворвался внутрь. Он наслаждался тем, как разрывалась ее девственная плева, как она судорожно сжалась и вскрикнула, наслаждался трением, шелушением. Пьянел от собственного насилия и вскрикнул, когда это опьянение разрядилось ярким взрывом.
Тяжело дыша, откинулся на другую сторону кровати. Искры пульсировали за сетчаткой глаз, болезненно стучали молотки в черепе, и только черный, свинцовый сон принес ему облегчение.
Лилавати неподвижно смотрела в темноту, между ног у нее все было изрыто и все саднило, было липко от семени и крови. Ее мечты были раздавлены, как цветы, сердце ее было растоптано. Пока она не собралась с силами, чтобы перевернуться и тихо плакать в свою подушку.
11
Паланкин резко затормозил в крытом подъезде.
Пол Бигелоу выпрыгнул и расплатился с саисом, коричневое морщинистое лицо которого было искажено гримасой спешки и залито потом. Широкими шагами торопливо взбежал по лестнице. Лошадь затопала прочь, и наемная повозка укатила в облаке красной пыли.
– Добро пожаловать домой, туан Бигелоу.
Бой Один ничем не выказал удивления ранним и неожиданным возвращением господина; может быть, он уже знал, некоторые новости распространяются быстрее, чем цветочная пыльца по воздуху.
Мина дворецкого тоже не выражала волнения, когда Пол подал ему ружье.
– Отнеси это, пожалуйста, в кабинет и положи на комод за дверью.
– Так точно, туан!
– Пусть Яти запрягает, едет на склады и ждет там туана Финдли, как бы долго это ни продлилось. И скажи ему, пусть будет осторожен, в городе сущий ад.
– Будет сделано, туан.
Пол принудил себя идти медленно и бесшумно, когда пересекал холл; он не хотел лишать себя радости. Даже в такой день, как сегодня.
В дверях на веранду он остановился, оперся о косяк, скрестив руки, и выглянул на улицу. На его лице появилась улыбка.
Это была лучшая минута каждого дня: вернуться домой.
Ему нравилась работа в фирме, возня с товарами, списками и цифрами; он любил щекотание нервов в соревновании за лучшие объекты торговли, лучшие цены. После волнующего напряжения во время переговоров и последующего триумфа, после давления, покупки, продажи и погрузки на корабли как можно быстрее, вплотную один за другим оформить документы. И все это не значило для него ничего по сравнению с чувством абсолютного счастья, которое ожидало его здесь, как только он возвращался домой.
Он гордился тем, что был одним из немногих мужчин, у кого здесь была жена, да еще такая, как Георгина, он упивался завистливыми и любующимися взглядами, когда вел ее под руку, элегантно причесанную, в изысканном платье. На званый ужин, на спектакль в ассамблею у подножия Губернаторского холма или – как недавно в феврале – на губернаторский бал, когда город праздновал тридцатипятилетие своего основания. На скачки на ипподроме по ту сторону Серангун-роуд, в красивой шляпке на ее высоко подколотых волосах, на концерт под открытым небом на Эспланаде и на ежегодную регату в день Нового года. Или просто в воскресенье на церковную службу, которая – после сноса церкви Сент-Андруса из-за опасности обрушения – шла то в старой молельне Миссии на Брас-Базах-роуд, то в столь же старом и нуждающемся в обновлении здании суда между Хай-стрит и берегом реки Сингапур.
Но милее всего она была для него дома: в саронге и кебайе.
Вытянув босые ноги с пыльными подошвами и заплетя волосы в небрежную косу, Георгина в свои двадцать два выглядела все еще как юная девушка. А не как мать двоих сыновей, которые вместе с нею и Семпакой сидели тут же на дощатом полу веранды. Углубившись в одну из игр, которыми Георгина заполняла досуг детей, с историями и выдуманными мирами, которые позволяли Полу догадаться, как Георгина проводила свое детство в Л’Эспуаре.
Темная, почти черная шевелюра Дункана склонилась над домом, который он как раз сооружал, потом он поднял голову и требовательно указал на угол стены строящегося дома. Полусидя на коленях Семпаки и ведомый ее рукой, маленький Дэвид поставил там кубик, который еще перед этим нетерпеливо тряс в руке. Старательно высунув язык, он отделил от кубика пальцы. Когда он понял, что кубик не упал, а остался на месте, он запищал и захлопал в ладоши. Счастливо светясь, он схватил следующий кубик, который ему протянул брат.
Улыбка Пола углубилась, когда он наблюдал за Георгиной: как она говорит с сыновьями и как при этом сияют ее глаза.
Чуть больше года назад, после рождения Дэвида, Георгина стала еще краше, если это вообще было возможно. Еще в беременности, которая протекала намного легче, чем первая, Георгина прямо-таки расцвела, он бы так целые дни и проводил с ней в кровати. Обняв ее растущее тело и чувствуя под ладонями шевеление ребенка. Зарывшись лицом в волосы Георгины, вдыхая аромат ее кожи – этот аромат садовой травы, похожий на воздух перед ночной грозой.
Временами он чувствовал себя виноватым, что предавался своему вожделению, когда ему было угодно, хотя очень хорошо видел, что ей это ничего не давало. Виноватым, хотя знал, что это его супружеское право. Он старался быть с ней неторопливым, медленным, искал, не найдется ли что-то, что ей вдруг понравится в этом.
И успокаивал свою совесть тем, что покупал необычные, дорогие игрушки детям. Какое-нибудь украшение для Георгины, новую шляпку. Подарки, которым она, казалось, искренне радовалась, особенно книгам, которые он заказывал для нее, и липким сладостям, которые он приносил ей из китайского квартала.
Правда, он допустил промах с какаду в клетке, которого в конце концов пришлось повезти в глубь острова и там выпустить на свободу. Блестящие глаза, какими Георгина смотрела вслед улетающему какаду, как она потом бросилась ему на шею, шепнула «спасибо» и поцеловала в щеку – все это стоило каждого пенни, заплаченного за эту птицу.
Георгина была для него в сингапурской жаре как прохладный морской бриз, который давал ему возможность отдышаться. Подле нее он обретал покой.
Улыбка на его лице погасла. Ему не хотелось нарушать идиллию, он длил бы и длил этот момент как можно дольше; пару часов назад ему стало понятно, как Гордон Финдли когда-то вырвал свою маленькую дочь с корнем и смог отправить ее на чужбину.
Глаза Георгины, оглядывающие сад, скользнули затем по веранде и обнаружили его в укромном углу.
От неожиданности щеки ее зарумянились, и она улыбнулась ему:
– Привет.
Обе детские головы вскинулись вверх.
– Папа!
Дэвид взмахнул руками, и кубик улетел в сторону. Семпака помогла ему встать; большие голубые глаза светились от волнения и счастья, он зашлепал к отцу быстрыми, еще нетвердыми шагами, и отец присел на корточки, чтобы принять сына в объятия.
– Привет, малыш, – пробормотал он в шелковые светлые волосы мальчика, еще раз тронутый этим маленьким, неизменно радостным человечком, одаряющим его такой любовью.
С сыном на руках он ступил на веранду и опустился рядом с Георгиной, поцеловав ее в щеку.
– Привет, моя волшебница.
Он посмотрел на Дункана, который, насупив брови, прижался к матери, его кожа была того же золотистого оттенка, что и ее, его четко очерченное лицо было смелой модификацией черт Георгины.
– А мой старший со мной не поздоровается?
Лоб Дункана разгладился, и он пошел к нему с едва заметной улыбкой на полных губах.
Полу приходилось нелегко с этим мальчиком, хотя временами он забывал, что зачал ребенка другой мужчина. Может быть, оттого, что Дункан был таким осторожным, задумчивым, медлительным и неразговорчивым.
Долгое время Пол был убежден, что мальчик отстает в развитии, но это было не так. Наоборот: Дункан то и дело ставил его в тупик тем, что уже все знал и понимал, и умными вопросами, которые возникали у него ни с того ни с сего, а потом снова впадал в долгое молчание. В тот задумчивый, бездонный покой, который в таком маленьком ребенке казался Полу странным, чуть ли не пугающим.
Причина могла заключаться в том, что не по-детски серьезная мина Дункана впускала лишь редкие взгляды в то, что в нем творилось, и еще в его серых, ввергающих в растерянность глазах, иногда они были как ртуть, иногда как гранит. Или в том, что мальчик иногда бывал вспыльчив, впадал в приступы гнева, и Пол лишь бессильно наблюдал, как успокоить его могла лишь Георгина – и лишь тем, что прикасалась к нему, заглядывала в глаза и тихо заговаривала с ним.
Но в редкие моменты, как сейчас, когда Дункан прижимался к нему, зарываясь лицом в сгиб между плечом и шеей, он гладил его по затылку, а мальчик блаженно сопел – тогда Пол чувствовал, сколько доверия и симпатии к нему в этом мальчике; и тогда Дункан бывал его сыном целиком и полностью.
Георгина подползла поближе и погладила Дункана по спине, а потом прислонилась к плечу Пола. Один из тех жестов, что понемногу вошли в их отношения за последнее время. Когда она брала его за руку, приникала к нему, а то и отвечала на его поцелуй, она казалась ему бутоном, который слишком долго выжидал в тени, полузасохнув, но от дождей и солнца постепенно отошел и начал медленно раскрываться. Тем самым он питал надежду, что она его еще, может быть, когда-нибудь полюбит.
Она щурилась на небо, на солнце.
– Ты сегодня рано вернулся.
Георгина с тревогой смотрела, как Семпака по просьбе Пола взяла Дэвида на руки и повела детей в дом. Взгляд, который Дункан бросил на нее, держась за руку няньки, вопросительный, почти испуганный, врезался ей в сердце.
– Что-то случилось? – прошептала она и невольно посмотрела на дом, куда увели детей. – Что-то с отцом?
– Не беспокойся. С отцом все в порядке. Он скоро тоже подъедет. – Пол обнял ее за плечи и притянул к себе. – Сегодня в полдень в городе был инцидент. Двое китайцев поссорились из-за пустяка. Из-за цены на небольшое количество риса или что-то подобное… Это привлекло любопытных и быстро вылилось в массовую драку, которая распространилась на весь квартал. По переулкам летают камни, мужики кидаются друг на друга с ножами и палками. Крушат и грабят киоски и лавки. Военные сейчас пытаются навести порядок.
– И ты оставил отца на складе одного?
Глаза ее метали молнии, и Пол невольно осклабился; она хотела оттолкнуть его, но он крепко удерживал ее в руках.
– Я даже близко не такой подлец, как тебе хочется думать. Твой отец хотел проследить за тем, чтобы все ценное и важное в конторе было под замком и под запором, а склады были заколочены. И чтоб его подчиненные и рабочие были в безопасности. А меня он послал сюда, чтобы я мог защитить мою жену и детей.
Он поцеловал Георгину в пылающую щеку.
– К завтрашнему дню наверняка все успокоится.
Сингапуру была дарована спокойная ночь.
Ночь, во тьме которой китайцы сбивались в группы и вооружались всем, что годилось в качестве оружия, чтобы с началом дня нанести удар.
Китайцы, что происходили из Кантона, против китайцев из Фукиена и Амоя, многие из которых рвались в бой, как разозленные хищники – хотя сами только что сбежали в Сингапур от беспорядков на родине. Синкех, новоприбывшие из Китая, который был истерзан не желающим кончаться Тайпинским восстанием. Ти-шу против хок-кьень: ров между двумя китайскими диалектами, всегда ощутимый, всегда видимый, разрывал остров надвое. Он зиял все шире, потому что работы было мало, риса тоже – к тому же дорогого, – и этот ров наполнялся осколками и обломками, огнем и кровью.
Горстка защитников порядка в городе была бессильна против этого взрыва насилия. Пришлось привлечь армию и экипажи канонерок, стоящих на якоре у побережья. Семьдесят мужчин, большая часть европейского населения, примкнули к добровольной дружине; даже султан Джохора послал две сотни своих воинов, и могущественные тауке – Тан Ким Сен и Си Ю Чин – прилагали усилия в посредничестве.
Однако волны гнева не удавалось сгладить, они бурно вздымались и опускались, катились из города в деревенские районы внутри страны, в Райя Лебар, Бедок и Букит-Тимах и снова назад, ничуть при этом не затухая.
Полные страха, напряженные дни были в этом мае, пока китайцы громили и грабили Сингапур и убивали друг друга. Ах Тонг и три боя прокрадывались тенью по саду и по дому как побитые собаки, стыдясь за своих земляков и боясь, что теперь подумают о них господа.
Георгина вытерла мокрый лоб и смотрела на небо, которое потело молочно-белой моросью. Гнетущая тишина давила на сады. Только море беспокойно плескалось по ту сторону стены; скоро опять разразится гроза.
Она равномерно покачивала гамак, который Ах Тонг подвесил к балкам веранды для новорожденного и поначалу часами орущего Дункана; теперь в этом гамаке раскинувшись и с открытым ртом дремал Дэвид. Этот ребенок, который внешностью и характером так походил на Пола, как будто Георгина была лишь сосудом, чтобы родить его на свет, и ничего больше. Может быть, потому что она мало что чувствовала, когда они зачинали это дитя, так она иногда думала.
Семпаку, которая обычно качала и оберегала его спящего, она отослала и надеялась, что монотонные движения принесут ей успокоение. Однако при каждом треске среди деревьев, при каждом шорохе и скрипе она вздрагивала.
– Не бойся, – подал голос Гордон Финдли. – Здесь мы в безопасности. Мы, европейцы, здесь на Бич-роуд совершенно неинтересны этим бунтовщикам.
Георгина посмотрела на отца, сидящего в костюме и жилетке за столом за чашкой чая, листая «Стрейтс таймс».
– И как ты можешь сохранять спокойствие?
– Это Сингапур. – Он бросил на нее снисходительный взгляд. – Если ты хочешь жить в упорядоченном, надежном мире, тебе следовало остаться в Англии.
Тон его был ровным, ни упрека, ни следа остроты не было в голосе; рождение внуков настроило Гордона Финдли примирительно, почти мягко.
У Георгины кровоточило сердце при мысли, что китайцы не оставят от города камня на камне, воюя друг с другом.
Она думала о переулках и улицах, на которых под изогнутыми крышами теснились мелочные лавки, где можно было купить все что угодно – от перочинного ножа до отвертки и пороха. Разные сорта чая и трав, сладости, фарфор, стекло и плетеные товары. Торговцы-разносчики продавали воду, сахарный тростник, куски ананаса, манго и джекфрута; мобильные кухни продавали супы, раков, рис и блюда из овощей. Писари сочиняли за деньги письма на старую родину или читали вслух полученные письма, а у брадобреев всегда была работа: брить головы китайцев, за исключением вездесущей длинной косицы, брить и укорачивать бороды и чистить уши всевозможными пинцетами, палочками и щеточками.
Она вспомнила По Хенга, своего сапожника, и своего портного Ах Фу Ми, с которым она за чашкой чая изучала журналы мод, которые тетя Стелла посылала в Сингапур, чтобы он наколдовал Георгине новое платье. Свою тонкую почтовую бумагу Георгина тоже покупала в одной из этих китайских лавок, когда выезжала с Картикой.
Иногда она просила Ах Тонга сопровождать ее под тем предлогом, что ей может понадобиться переводчик. На самом же деле потому, что лучистое его лицо делало ее счастливой, когда он оказывался среди своих земляков, то здороваясь с кем-то, то перебрасываясь парой слов, то поджидая ее за чашкой чая или на ходу заглядывая в Тиан Хок Кенг, храм небесного счастья, чтобы помолиться своим богам под фигурными кровлями из красной и зеленой черепицы, увенчанными драконами.
От этих мыслей сердце ее испуганно спотыкалось.
– Как бы с Полом чего не случилось, – шептала она.
Вот уже десять дней в Сингапуре было неспокойно, и девять дней Пол Бигелоу входил в состав добровольной дружины, которая патрулировала город. Он забегал в Л’Эспуар лишь на несколько часов – помыться, перекусить и забыться свинцовым сном – потный, пропыленный и усталый; измождение и жесткость во взгляде выдавали, что приходилось видеть его глазам.
– Не бойся, – отвечал Гордон Финдли. – Он крепкий, да и в остальном в полной боевой готовности. Не так-то легко застигнуть его врасплох. – Он помолчал. – Хорошего мужа ты себе нашла.
Редкая, неожиданная похвала, и у Георгины потеплело на сердце.
– Да, он такой.
Угольно-черные брови отца сошлись на переносице, и он с шумом продолжил листать газету.
– Если не считать фиаско с плантациями. Я ему сразу говорил, что из этого ничего не выйдет. Мы коммерсанты, а не плантаторы. Там и другие потерпели неудачу. Например, Балестье, в свое время американский консул, со своей плантацией сахарного тростника. Тогда, в тридцатые.
Гамбир и перец, две культуры, которые в своем росте и урожае взаимно способствовали одна другой и продавались за хорошие деньги, в последние годы прорвались в джунгли, в сердце острова, и немало китайских плантаторов разбогатели на этом.
Пол долго носился с мыслью тоже войти в этот бизнес. Слишком долго; когда он вскоре после рождения Дункана приобрел плантацию на капитал фирмы, стало выясняться, что плодородный слой острова бедноват для длительного возделывания этих культур. Через десять, максимум пятнадцать лет гамбир и перец истощали почву, но ее, правда, еще можно было использовать для неприхотливого ананаса. Плантации перекочевали на Малаккский полуостров, где почва была богаче при том же климате, да к тому же еще было просторнее, чем на маленьком острове Сингапур, и цена на гамбир сильно опустилась.
– Тогда почему же ты дал ему деньги на это?
Одна бровь отца приподнялась:
– А как иначе он мог научиться оценивать риски? У него светлая голова, и он много знает, набрал большой опыт с тех пор, как он здесь. Но еще недостаточный. Недостаточный для того, чтобы я со спокойной совестью мог в ближайшие годы постепенно передать все дела фирмы в его руки. Кроме того, – он сделал глоток чая, – мы таким образом получили хороший кусок земли. Это неплохо. Это всегда может пригодиться.
Дункан уже довольно давно перестал строить свою башню из кубиков и вместо этого внимательно прислушивался к разговору матери с дедом. Он отложил в сторону кубик, который еще вертел в руке, и потопал босыми ногами к Гордону Финдли.
Георгина еле сдержала смех. В том, как мальчик стоял, прямой, как свечка, прочно упираясь обеими ногами в пол и сцепив руки за спиной, он в точности повторял своего деда.
Гордон Финдли оглядел внука:
– Хочешь почитать со мной газету?
Дункан кивнул.
– Ну, давай. – Гордон Финдли поднял его на колени и начал читать ему вслух, то и дело прерываясь, чтобы объяснить что-нибудь или рассказать. Работа была для него эликсиром жизни, однако его ничуть не беспокоило, что фирма стоит который день закрытой; скорее он наслаждался временем, которое мог провести в Л’Эспуаре со своими внуками.
Дэвид в гамаке что-то пролепетал, скривился, моргая, и тер лицо тыльной стороной ладошки. Георгина погладила его по щеке и снова принялась раскачивать гамак. Малыш улыбнулся, повернул голову и мерно засопел.
Взгляд Георгины остановился на лесочке, который прорисовывался темным силуэтом на фоне бело-серого неба.
Давно она там не была. Последний раз через несколько дней после того, как обручение с Полом Бигелоу было уже решенным делом. В отчаянной надежде, что Рахарио все-таки еще мог вернуться, оставить ей знак, который уберег бы ее от этого замужества. Надежда, которая утекла как вода сквозь пальцы, когда она в гневе расшвыривала все, что напоминало ей о Рахарио.
Иногда время, проведенное с Рахарио, казалось ей сном. Как сказка, которую она прожила всеми своими чувствами. Сказка про мальчика-пирата, пришедшего из моря, и про девочку из красной земли Сингапура. Которая внезапно рассеялась, когда над ней возобладала реальность.
Реальностью были два ее сына, которые хотели есть и срыгивали, приобретали молочные зубы и плакали. Которых надо было пеленать, учить ходить и говорить, приучать к горшку. Которые иногда болели, набивали шишки и разбивали коленки – и хотели, чтобы их утешили. Они жаждали постигнуть мир – шаг за шагом, кусочек за кусочком, они нуждались в ласке и нежности, ждали все новых игр и старых историй.
Иногда ей казалось, что ничего и не было. Только в ее фантазии.
Однако перепонки на ступнях сына постоянно напоминали о том, что когда-то она любила морского человека. Дункан определенным образом кривил рот или двигал бровями, как это делал Рахарио. И устремлял взгляд серых глаз вдаль, словно прислушиваясь к зову моря, как его отец, это насилу можно было вынести.
Это причиняло боль, с которой ни с кем не поделишься.
Лесочек, который Георгина когда-то так любила, в котором раньше она была так счастлива, приобрел что-то угрожающее. Уже не только одичавший кусок сада, а разросшаяся растительная опухоль, она стала символом беды, которую, по убеждению Семпаки, Георгина несла с собой, куда бы ни пришла. Может быть, она принесла беду и Рахарио, и он больше так и не вернулся из того рейда по морю; а возможно, она и сама ввергла себя в беду, поверив мужчине, для которого она была не более чем мимолетным любовным приключением.
Пожалуй, ей никогда не узнать этого.
– Тебе не кажется, что этот лесок надо вырубить? – тихо спросила она, обращаясь больше к себе самой. – А павильон снести. Пока он сам не рухнул. Как бы кто из детей туда не забрел.
Гордон Финдли поднял голову от газеты и посмотрел в сад.
– Пожалуй, что надо, да, – сказал он, помолчав, бережно прижимая к себе мужской ладонью узкую грудку внука. Взгляд его вернулся к Георгине, мутно-голубые глаза встревожены. – Но я обещал твоей матери не делать этого. До тех пор, пока я жив.
Георгина кивнула и снова стала смотреть в сад. Может быть, так будет и лучше, если лесочек сохранится. Лучше, чем открытый вид на море.
Она могла лишь надеяться, что не принесет несчастья и Полу.
Шум дождя и дальние раскаты грома разбудили Георгину из глубокого сна. Щека ее прилипла к сырой и горячей простыне; она моргала в сумеречный свет. Лампа еще горела.
Плечо болело. Она выпрямилась. Должно быть, она задремала, в пугливом беспокойстве ожидая Пола.
Шепот голосов вплетался в песню дождя, смех; затем шаги и шум тихонько открываемой и снова закрываемой двери. Георгина села на кровати.
– Да ты еще не спишь, – тихо сказал Пол и присел с ней рядом на край кровати. – Время уже за полночь.
Зевая, она протерла глаза, слипающиеся от сна, вздрогнула и протянула пальцы к шраму с запекшейся кровью, который тянулся через лоб Пола.
Ухмыляясь, он уклонил голову.
– Всего лишь царапина. Выглядит страшнее, чем есть на самом деле.
Его ладонь легла ей на щеку.
– Все позади, Георгина. Несколько сотен человек арестованы, остальные разбежались кто куда. Снова все спокойно.
Она обвила его руками, каждый ее выдох больше походил на всхлипывание.
– Ничего, ничего! – Пол потирал ее спину и тихо смеялся. – Перестань, а то я могу подумать, что ты за меня беспокоилась.
Георгина промолчала, но еще крепче прижалась к нему, щекой в его щетину, отросшую настолько, что она перестала быть колючей.
Он осторожно отстранил ее, взял за подбородок и заглянул ей в глаза таким взглядом, от которого она попыталась уклониться.
Удивление расползалось по его лицу:
– Да ты и правда за меня боялась.
Она подалась вперед и поцеловала его в губы. Начала их неторопливо обласкивать поцелуем, который становился все настойчивее, требовательнее.
Пол задохнулся, когда она резко отделилась от него, стягивая через голову кебайю и рубашку, которую носила под ней, стянула с бедер саронг.
– Георгина…
Она прижалась к нему, голая, и замкнула ему губы жаркими поцелуями. Ее руки гладили его бедра, увлекли его за собой на простыни, и кожа его пахла дождем, который лил за окном.
Лампа перед тем, как окончательно погаснуть, отбросила несколько мерцающих вспышек на кровать.
Пол разглядывал Георгину, которая спала рядом, прижавшись виском к его руке, согнутой в локте, и подтянув колени. Взгляд его обрисовывал контуры ее лица и густые опахала ее ресниц. Изгиб ее шеи и округлости ее плеч. Ее груди, такие мягкие под его ладонями, ее нежно округленные бедра, ее пополневшие ноги.
Капельки пота на ее коже как роса, она походила на только что распустившийся, невиданный цветок. Сейчас. После этого.
– Да ты и впрямь тигрица, – прошептал он, и горло его сжалось.
Он был пьян – все еще – от той страсти, с какой она захватила его как тропический шторм. Он казался себе потерпевшим кораблекрушение, который однажды отведал соленой морской воды и теперь жаждал ее все больше.
Он хотел бы, чтобы время остановилось, чтобы не знать, какой мучительной станет жажда наутро.
12
Бурными были для Сингапура эти десять лет.
Шестьдесят тысяч человек, как считалось, жили и работали менее чем на трехстах квадратных милях большого острова, а то и больше. Ежедневно прибывали все новые, прежде всего из Китая, где Тайпинскому восстанию не было видно конца, тогда как на горизонте уже брезжила новая война против Великобритании вокруг опиумного вопроса. Неприятные арестанты из Гонконга, которых сплавляли в Сингапур, и такие, которых милосердно забирали из нидерландских колоний в Восточной Индии. Зинке, взятые китайцами под крыло, растворились в преобладающих количествах своих земляков.
И каждый из них мечтал о лучшей жизни на этом острове, где деньги, казалось, валяются под ногами. А то, может, и стать богатым и могущественным тауке, многие из которых были богаче – и, как говорили некоторые, могущественнее, – чем самые состоятельные из европейских коммерсантов.
Также малайцы, индийцы, армяне, евреи, арабы хотели своей доли в богатстве города или хотя бы хорошо жить, воспользовавшись возможностями, которые давал Сингапур. Люди, чей цвет кожи, форма и расцветка глаз выдавали в них евразийцев, намывало отовсюду туда, где европейская и азиатская кровь уже смешались.
Множество людей, которые искали и находили работу, основывали предприятия, открывали лавки или нанимались уличными торговцами, приобретали или арендовали кусочек земли, чтобы разводить овощи и держать скот. Люди, которым требовались одежда, еда и крыша над головой и которые на деньги, оставшиеся после всего этого, позволяли себе то, что город мог им предложить.
Цифры говорили сами за себя. Число кораблей, прибывающих в порт за год, впервые перешагнуло полмиллиона. В апреле 1855 года почта насчитала почти тридцать две тысячи отправлений. К этому времени Сингапур мог похвастаться тройкой респектабельных отелей, двумя французскими разъездными зубными врачами, которые на время своего пребывания в Сингапуре посещали больных на дому, и сразу несколькими частно практикующими врачами для европейского населения. Англоязычная «Сингапур фри пресс» выходила еженедельно, «Стрейтс таймс» – два раза в неделю, потом ежедневно, и вскоре должна была добавиться еще одна ежедневная газета. Новый договор облегчил торговлю между Великобританией и Сиамским королевством и поспособствовал дальнейшему взлету бизнеса. По некоторым оценкам торговля каждый год подрастала на миллион фунтов стерлингов.
Однако, хотя в Калькутте благожелательно смотрели на такое развитие, Сингапур уже больше двадцати лет был столицей Проливных Поселений в Малаккском проливе, деньги на расширение, содержание и управление Сингапура текли уже скупее; предпочитали инвестировать на месте, на индийском субконтиненте. Исходящая то и дело от правительства в Бенгалии негодующая инициатива, чтоб городская касса Сингапура пополнялась повышением налога на торговлю и таможенного сбора, натыкалась на ожесточенное сопротивление. Она противоречила этике преимущественно шотландских торговцев, что каждый – кузнец своего счастья. Жизнь в Сингапуре была свободной, свободной должна оставаться и торговля. Без контроля со стороны правительства, без вмешательства органов. Ибо только свободная торговля была доходной, особенно в этом углу мира, где конкурировали сразу несколько портов.
Налогами облагались лишь вино, алкоголь и опиум, потребителей которого на острове с тяжело работающими кули было много, продажа незастроенной земли и сдача внаем жилья, источниками денег были пошлины, денежные штрафы и почтовый сбор. Полагались на традиционные шотландские добродетели экономности и прилежания, а если что случалось, то, скрипя зубами, платили из своего кармана на то, в чем город срочно нуждался, в надежде, что эта инвестиция скоро окупится в торговле.
Между тем воздвигли маяк – Хорсбург Лайтхаус – на выбеленной птичьим пометом гранитной скале на востоке острова, всего в нескольких милях от побережья Джохора; там, где воды пролива Сингапур сливаются с водами Южно-Китайского моря. А вскоре после этого и второй – на самой южной скале побережья острова, названный в честь основателя города Раффлз Лайтхаус.
Третий мост через реку Сингапур был запланирован на уровне почтамта, чтобы сократить объезд через мост Томсона или лодочную переправу. Деревянный, для пешеходов и с проезжей частью шириной в шестьдесят футов, однако заложенные на строительство десять тысяч долларов показались слишком высокой ценой, и ограничились пешеходным мостом, за пользование которым взималась плата в четверть цента, а через реку Рохор вскоре перекинулся кирпичный мост Виктория. После того как прежняя Ассамблея обветшала, был заложен первый камень нового Таун-Холла, финансируемого коммерсантами города. Из их же кошелька, подкрепленного добавкой из Калькутты, происходили деньги, на которые был восстановлен Сент-Андрус, который стал красивее и больше.
Навигационная компания Peninsular & Oriental Steam, выполнявшая теперь рейсы Австралия – Сингапур не раз, а два раза в месяц, расположилась западнее устья реки Сингапур. На участке побережья, который природа сформировала в виде просторного, защищенного порта с хорошей глубиной – Нью-Харбора, – вскоре появились и другие крупные предприятия.
Когда сэр Стэмфорд Раффлз основывал Сингапур, он держал в уме вторую Батавию. Более восточная королева обещала затмить Королеву Востока, а то и вовсе свергнуть ее с трона.
Теперь, на своем четвертом десятке, Сингапур, казалось, исполнил это свое обещание.
Паланкин громыхал в горку, потом покатил по равнине, то каменистой, то песчаной. На каждом ухабе Георгину швыряло к Полу, который бережно удерживал ее в объятиях. Запах пыли проникал сквозь щели жалюзи, и прорывающийся луч солнца гладил Георгину по щеке.
– Может быть, лучше было бы сегодня остаться дома, – пробормотал Пол ей в губы, и рука его скользнула от ее талии вниз.
Георгина тихо засмеялась:
– Ты же сам хотел, чтобы мы непременно поехали вдвоем.
Она выглянула в щель, пытаясь в пятнах тени и слепящих просветах солнца, в облаке пыли и листвы определить, где они.
– О нет, – с наигранным укором сказал Пол и снова повернул ее лицо к себе: – Ты испортишь себе весь сюрприз.
– Какой еще сюрприз?
Пол многозначительно поднял брови.
– Ну скажи! – Георгина засмеялась и нежно ткнула его в ребра.
– Наберись терпения. А я буду тебя отвлекать.
Он притянул ее к себе и поцеловал, и теплая щекотка наполнила ее внутренности.
Паланкин замедлил ход.
– Здесь, туан Бигелоу? – послышалось с кучерского облучка.
Пол с трудом оторвался от нее и, выглянув в щель жалюзи, взялся за дверцу.
– Да, здесь. Спасибо, Яти!
Широкая, пыльная дорога пропадала вдали.
Края дороги лежали в глубокой тени могучих деревьев, за которыми с одной стороны поднималась вершина Губернаторского холма, с другой – Маунт София. Здесь пахло солнцем и тенью, пылью, листвой и травой. Сладостью, как от спелых фруктов, как от цветов, и немного свежими, еще зелеными пряностями. Птицы чирикали в кронах деревьев, и серебристо лился с ветвей звон цикад.
Георгина еще никогда не была здесь, разве что проезжала когда-то мимо – может быть, когда они выпускали на волю какаду.
– Идем. – Пол взял ее за руку.
Они зашагали по траве сквозь нескончаемые, как казалось, ряды деревьев; Георгина различила миндальные деревья, мангостаны и мускатные деревья и увидела в ветвях желто-зеленые и кисловатые розовые яблоки.
Пол остановился и расставил руки:
– Как ты смотришь на то, чтобы все это завтра принадлежало нам?
Георгина смотрела вокруг большими глазами:
– Фруктовый сад?
Он засмеялся:
– Да, фруктовый сад.
Его голубые глаза сверкали, и излучаемая им радость окружала его золотым ореолом, который неудержимо притягивал Георгину и заставил ее шагнуть к нему.
– Здесь, на Орчерд-роуд еще все сплошь во фруктовых садах. Здесь полно мускатных плантаций и посадок перца. Но цена на мускат все больше падает. И видишь вон то мускатное дерево? Оно больное! Гляди, кора выцвела, почти белая, а ствол обвит каким-то растением-паразитом… Здесь многие деревья больны и отмирают. Первые плантаторы подумывают, чтобы продать свою землю.
Она выжидательно смотрела на него, не понимая, что он хотел ей этим сказать. Он зашел к ней со спины, обнял ее и прижался щекой к ее щеке.
– Разве ты не видишь? – прошептал он. – Наш новый дом? С большим садом для тебя и наших безобразников?
Она покраснела, как будто этими словами он влепил ей пощечину.
– Георгина?
Ее желудок судорожно сжался.
– Почему ты молчишь?
Слезы брызнули из ее глаз, и она, смаргивая их, отвернулась.
– Но у нас… у нас ведь есть дом, – выдавила она глухо.
Он гладил ее плечи, утешая.
– Я знаю, как много значит для тебя Л’Эспуар. Да и для меня тоже. Но ты должна признать, что он уже старый и отжил свое. Близость к морю за эти годы просто взяла свое.
Ей было трудно дышать, не то что говорить.
– Тогда… давай его обновим.
– Если сделать все, что нужно для его обновления, это встанет как два новых дома. – Он вздохнул. – Я очень ценю твоего отца, но мне с ним тесновато жить под одной крышей, если это надолго. Дом и без того маловат. А теперь, когда мальчики подрастают…
Его ладонь просунулась ей под мышку и легла на ее живот, нежно его поглаживая.
– Я хочу, чтобы у нас еще были дети, – шепнул он ей на ухо. – И лучше сегодня, чем завтра.
Георгина кусала губу. От повитухи Бетари она усвоила, что бывают особо плодовитые дни, а бывают бесплодные, на которые она и старалась ориентироваться, дополнительно предохраняясь при помощи трав. Она не хотела больше детей, пока нет. Не сейчас, когда Дэвид хоть и вырос из пеленок, но оба мальчика просто одержимы жаждой познания и начали отважно исследовать мир всеми своими пятью чувствами, подбивая друг друга на все более смелые приключения в саду.
Георгина высвободилась из его объятий и сделала пару шагов – на землю, которая не давала ей опоры, будто уходя у нее из-под ног под воду.
Под воду реки, заколдованной и текущей по ту сторону времени.
Она глубоко вздохнула и вытерла слезы, прежде чем повернуться.
– Почему ты хочешь обосноваться здесь? Ведь ты все время сомневался, есть ли будущее у Сингапура?
Он сунул руки в карманы брюк:
– Я изменил свое мнение. – Глаза его обратились вдаль, поблескивая холодным блеском. – Если де Лессепсу и впрямь удастся прорыть этот канал в Египте… Я знаю, коммерсанты вроде твоего отца говорят, что такой канал подорвет нам всю торговлю в Индии. Но я не могу себе этого представить. Морские пути в Европу и обратно станут благодаря этому короче, да еще к тому же с пароходами, которых становится все больше, а сами они становятся все быстрее. Гораздо больше я верю в то, что торговля от этого только выиграет. И как раз торговля в Индии. И Сингапур… – Довольная улыбка заиграла на его губах: – Сингапур и от природы щедро одарен. С его-то положением на карте мира. С его естественными портами, его защищенными площадями якорной стоянки. Тут с ним не сравнится ни Пенанг, ни Малакка. Если мы с умом воспользуемся этим подарком природы, с оглядкой и дальновидностью, с техническим прогрессом… То Сингапур может стать еще гораздо больше. Гораздо богаче. – Улыбка его стала шире. – За это время я убедился: лучшее у Сингапура еще впереди.
Георгина невольно ответила на его улыбку; ей нравилось, когда он говорил с ней о делах фирмы. О том, что составляло его будни. Что его при этом занимало, о чем он думал.
В его улыбке появилось что-то нетвердое, неуверенное.
– Разве это не то, что тебе больше всего по сердцу? Остаться в Сингапуре? Навсегда?
Георгина кивнула.
Пол поднял плечи – жестом бессилия.
– Тогда почему не здесь? Не на Орчерд-роуд? Ты ведь наверняка заметила, какой короткой была дорога сюда. Ты могла бы в любой момент поехать в Л’Эспуар хоть в экипаже, хоть верхом и быть там сколько угодно. И как угодно часто.
Взгляд Георгины скользил по рядам деревьев, они бесконечно повторялись, как в зеркальном кабинете.
– Здесь… здесь нет воды, – запнувшись, прошептала она.
Пол указал куда-то за ее спину:
– На другой стороне улицы, там, дальше, протекает канал, который круглый год дает достаточное количество свежей воды. Здесь нам не придется бояться, что в засушливое время будет ее нехватка, как это бывает в других городских районах города. Как раз ради детей. По правде говоря, здесь даже слишком много воды. Нам придется думать о дренаже почвы.
Он с усилием надавил ступней на землю.
– Я не об этом. – Под испытующим взглядом Пола ей было трудно подобрать слова. – Здесь… здесь нет моря.
Он посмотрел на нее долгим взглядом:
– Я… тебя… не понимаю. Ты хоть знаешь, какой несчастный у тебя бывает вид, когда ты смотришь на море? Ты кажешься такой грустной, когда волны накатывают особенно сильно и слышны во всем доме? Я думал, для тебя было бы облегчением больше не иметь море у себя под дверью.
Георгина и сама не понимала себя. Она не могла простить морю, что оно отняло у нее Рахарио, и все-таки для нее было непредставимо, что моря больше не будет так близко, как в Л’Эспуаре. Она выросла в пении волн, с момента рождения окутанная им как голосом матери.
Невидимая связь прочно привязывала ее к Л’Эспуару. Причем всегда, еще до того, как она впервые встретила Рахарио.
– Я тебя действительно не понимаю, – продолжал Пол тише, но с неумолимой серьезностью в голосе. – Всякий раз, когда я хочу начать строить нашу общую жизнь, ты уклоняешься. Например, когда я спрашиваю, а где мальчики пойдут в школу. Когда я говорю тебе, что хотел бы еще детей. Когда я пытаюсь свести тебя с людьми, которые для меня важны. Ты улыбаешься и беседуешь с ними. Но меня не оставляет чувство, что ты при этом отсутствуешь. Тебе никогда не приходит в голову мысль ответить им встречным приглашением или по собственной инициативе пойти к кому-то.
Георгина пристыженно опустила голову. Это было ее больное место, с незапамятных времен. Ей никогда не удавалось выстроить длительные отношения или завязать дружбу. Люди всегда оставались ей чужими. Обширная и прочно укорененная в Сингапуре семья покойного португальского консула и торговца Хозе д’Альмеда. Семейства Лиски, Робб, Нэпиер, Пикеринг и Тейлор. Даже Оксли. Хотя она была почти одного возраста с Изабеллой Оксли, их разделяли целые миры. Пропасть, преодолеть которую Георгина не могла никогда.
Как будто после возвращения из Англии она слишком долго жила в мире Рахарио, чтобы после этого снова найти дорогу в собственный мир.
Еще больше осложняло задачу, что европейцы, прибывающие в Сингапур, были почти исключительно мужчины, никогда не оставались надолго и в какой-то момент снова уезжали навсегда. Баттерворты покинули Сингапур в позапрошлом году, Оксли тоже поговаривали, чтобы после тридцати лет, проведенных здесь, снова вернуться в Англию. А те, что приезжали, привозили с собой другой взгляд, другие представления о жизни в тропиках. Здесь хотели жить так же, как дома, если не были заняты лишь тем, что гребли деньги лопатой, а это значило: оставаться среди своих. Персонал был всего лишь обслугой, и даже если из коммерческих интересов общаешься с китайскими тауке, с малайцами и индийцами, то все равно в остальное время предпочитаешь таких же, как ты сам. В недавно учрежденном крокетном клубе, например, а немцы – в своем клубе «Тевтония».
А город непрерывно менялся; правда, отчетливо почувствовать это могли лишь те, кто – как Георгина – родился здесь. Сингапур приобрел на своей поверхности тонкую, гладкую и прочную скорлупу, которая блестела, как фасады из чунама, и была такая же белая.
Будучи рядом с Полом, она научилась играть свою социальную роль, которую, однако, сразу слагала с себя, как только оказывалась дома, снимала вечерний наряд и переодевалась в саронг и кебайю. И снова становилась самой собой, тихая и погруженная в себя, довольствуясь в собственном мирке тем, что читала письма от тети Стеллы и от Мэйси, которая тоже вышла замуж и стала матерью, и писала на них ответы.
– Всякий раз, когда у меня возникает чувство, что я стал ближе к тебе, ты от меня ускользаешь. – Это звучало подавленно, печально и обиженно. – Неужто для тебя так мало значит то, что есть у нас общего?
– Нет, это не так.
– Тогда как же?
Она открыто посмотрела ему в глаза:
– Такая уж я есть.
Пол задумчиво выдержал ее взгляд.
– Не знаю, такая ли ты на самом деле. Или вся причина во мне.
Георгина не знала, как объяснить Полу, что в ней недостает какой-то части ее существа. И так было всегда. Обломок, потерянный давным-давно, Рахарио вернул ей на какое-то время, но потом снова забрал с собой. С тех пор она тщетно разыскивает этот обломок. Может, когда-нибудь и отыщет.
– Ты все еще думаешь о нем, так?
Вопрос, как ножевая рана, в своей холодной остроте не оставляющий сомнения, кто имеется в виду.
Ее молчание было достаточным ответом.
Пол тяжело вздохнул и зарылся руками в карманы брюк.
– Оставим затею с домом. Зря мне взбрело это в голову. Едем домой.
Широкими шагами он двинулся прочь. Шаги казались усталыми, и разочарование, это было видно, давило на его плечи тяжким грузом.
Рахарио был тенью, которая преследовала ее на каждом шагу. Которую она в большинстве случаев и не замечала, потому что она лежала позади нее, но она вдруг падала на них обоих именно в те моменты, когда Георгина уже была уверена, что обрела с Полом что-то вроде счастья.
13
Рахарио оглядел себя в зеркале.
Длинный сюртук со стоячим воротником сидел хорошо, подчеркивая узким кроем контуры его стройного, удлиненного тела. Сюртук, как и брюки, был белый, застегнутый на золотые пуговицы и так искусно вышитый золотыми нитками, что вышивку можно было заметить, лишь когда он двигался в свете лампы и ткань поблескивала. С красной перевязи на поясе свисали керис, священный кинжал его предков, унаследованный им от отца, с изогнутым, как серебряное пламя, лезвием, и пистолет, без которых он никогда не выходил из дому.
Он не носил головных уборов, не терпел ни шляпы, ни тюрбана, ему необходимо было постоянно ощущать в волосах вольный ветер. И начищенные до блеска коричневые туфли по европейской моде стесняли его: с ними он не чувствовал почвы под ногами. Однако выходить без них он не мог.
Он огладил бороду: аккуратная и ухоженная рама вокруг рта и подбородка еще больше оттеняла резкость его черт, делая его старше. Внушая уважение.
На середине этого жеста он вздрогнул: шрам на руке и шрам на ноге сегодня целый день давали о себе знать тянущей болью. Виной было то ли неосторожное движение, когда он вел корабль назад в Сингапур, то ли погода.
– Тебе непременно нужно туда пойти сегодня?
Сдвинув брови, он взял два массивных, роскошно украшенных золотых кольца и надел их на пальцы – с рубином на левую руку, с ониксом на правую. Красный как кровь. Черный как ночь.
– Тебя так долго не было, и всего-то пару дней как вернулся.
– Вампоа, важный для меня человек, – только и сказал он и отвернулся.
Лилавати сидела на плетеном стуле, на лбу ее горела красная точка, знак замужней женщины. Край сари откинут, чоли задрано вверх: у тугой груди она держала младенца.
Харшад. Рахарио было трудно удержать в памяти это имя. Малышу было месяца два, Рахарио не знал точно сколько. Он был в море, когда ребенок родился.
Не то чтобы нагота была ему чуждой, женщины оранг-лаут издревле кормили своих грудничков так же открыто, как это делала Лилавати; однако ее вид был ему неприятен, и он отвернулся.
Должно быть, Лилавати прочитала это по его лицу: звон ее бесчисленных золотых браслетов, шорох шелка подсказали ему, что она быстро укрыла грудь и ребенка краем сари.
Ее темно-карие большие глаза, окаймленные густыми ресницами, временами напоминали ему коровьи, такие же покорные, такие же терпеливые. Еще она походила на мать-землю со своей темной, влажной от пота кожей, со своим телом, которое было одновременно и сильным, и мягким, и пышно округленным. Настолько укорененная в земле, что ничто не могло вывести ее из равновесия.
Довольное бульканье у его ног заставило его взглянуть вниз. Маленькая девочка сидела на полу, ее густые черные волосы блестящим шлемом обрамляли личико, круглое, как у матери, и толстощекое. Она робко улыбалась ему и тянула ручки к его штанине – видимо, чтобы ухватиться за нее и подняться на ноги. Феена. Не прошло и года после свадьбы, как она родилась, когда он был в море, где-то за островом Серам. Зачатая, как и ее брат, из голого инстинкта и чувства долга, с безразличием, а может, даже и с некоторым презрением. Но не из страсти и уж тем более не из любви.
Его мина омрачилась, и он отступил на шаг.
Улыбка на младенческом лице погасла; задрав попку вверх, девочка оттолкнулась от пола, потопала к матери и зарылась лицом в складки ее сари.
Рахарио сунул в карман сигарницу из черепахового панциря, оправленного в золото. Новая привычка вошла у него в обычай. Вчера он тоже отозвался на приглашение, чтобы не оставаться дома.
– Я распорядился, чтобы мне устроили отдельную спальню. Внизу. На следующей неделе придут мастера.
Лилавати промолчала и даже глаз не подняла, сосредоточившись на младенце.
Он не видел, как слеза скатилась по ее щеке, когда его шаги удалялись.
Удушающе жарко было в тот вечер.
Шелк вечернего платья, сиреневого, как цветок гелиотропа, прилипал к спине Георгины, хотя она сидела прямо, на ширину ладони отделившись позвоночником от спинки стула, и длинные ее панталоны и нижние юбки так же влажно приникали к коже бедер. Но хотя бы кринолин из китового уса, новейшая мода из Европы, приносил, несмотря на свою тяжесть, некоторое облегчение, неся на себе груз тяжелой шелковой юбки и отстраняя ее от тела. При ходьбе он покачивался, а когда она садилась, он слегка приподнимался впереди и всякий раз впускал под подол немного воздуха.
Она принялась было обмахиваться веером, но сама себе показалась при этом глупой и сложила вещицу, положив ее на колени. Она сидела, являя собой стереотипную картинку с изображением европейской дамы, которая в тропиках мучается от неизбывной жары и, одинаково утомленная и раздраженная, смертельно скучает. Лучше бы она осталась дома.
Она тоскливо бросила взгляд через плечо, в ночь.
Было еще светло, когда они вошли в эти прославленные сады через китайские ворота. Пальмы и огромные деревья давали тень, а гигантские водяные лилии, подарок сиамского короля, плавали по озеру, их наполненные цветочные горсти белели или розовели в сумерках, а широкие листья давали место множеству водных птиц.
Дом располагался в лабиринте из живой изгороди и среди дорожек, вьющихся сквозь волшебно подрезанную и цветущую зелень. Изящный, как павильон, несмотря на впечатляющие размеры, воздушный благодаря множеству окон и арок, он парил на колоннах, под которыми протекали водяные каналы, цвели лотосы и посверкивали красновато-золотые тела рыбок.
Теперь лампионы и фонари вырезали из тьмы силуэты столь же изящных азиатских павильонов, окруженных тщательно взлелеянными деревьями, живыми изгородями и цветочными клумбами. Крик павлина перекрывал стрекот цикад, нежный плеск и журчание ручьев. Тени кустов, подстриженных на проволочных каркасах в виде драконов и дельфинов, слонов, собак и крокодилов, пробудились к жизни. Сказочная страна между востоком и западом. Царство волшебства, созданного из неисчерпаемого богатства природы безграничной фантазией человеческих рук.
Ах Тонг любил этот сад, открытый для свободного посещения публики в китайский Новый год; Георгина с нетерпением ждала утра, чтобы подробно рассказать ему обо всем.
Неподалеку от нее взорвался хохот мужчин. Пары крепкого спиртного тяжело висели в воздухе, смешиваясь с мужским потом, едким дымом сигар и курительных палочек; наверняка пройдет еще некоторое время, пока будет сервирован ужин. Георгина поймала извиняющийся взгляд Пола, прежде чем мистер Гилмен из Гамильтон, Грей и Ко и еще один коммерсант из Швейцарии снова втянули его в оживленный разговор о клане Конгси, строительстве портового дока и налогах на опиум.
Разговоры, которые Георгина обычно с удовольствием слушала, хотя и знала, что ее мысли по этому поводу не обладали никакой ценностью.
– Сравню ли с летним днем твои черты? – Мужской голос, низкий и мелодичный, с безупречным английским, но с несомненным оттенком китайского происхождения. – Но ты милей, умеренней и краше.
Георгина запрокинула голову и засмеялась.
– Сразу заметно, что мы с вами недавно познакомились, мистер Хоо. «Умеренней летнего дня» меня не назвал бы никто из тех, кто знает меня ближе!
Его борода смоляной черноты, длинная и тонкая – два крысиных хвоста – весело тряслась.
– Ваш весьма ценимый мною мастер Шекспир назвал бы, мадам. Вы позволите?
Георгина кивнула, и он опустился на стул рядом с ней.
Для китайца он был рослым, но не так высок, как Ах Тонг. Хотя он был лет на двадцать старше ее, его удлиненное лицо с высоким лбом было гладким, как бледно-желтый фарфор. Глаза под высокими, тонкими дугами бровей, узкие и словно нарисованные тушью, могли бы показаться грозными, если бы не добродушное лукавство с заметной толикой шарма, вспыхивавшее в них.
– Прошу вас, мадам, называйте меня просто Вампоа, как и все в Сингапуре. Вампоа, по месту моего рождения в Кантоне.
Без лишних церемоний он взял ее руку и поднес к своим губам. Хотя по китайской традиции он сохранял выбритый лоб и длинную заплетенную косицу, однако носил фрак, как и его европейские гости. Лишь горстка китайских тауке, присутствовавших на этом вечере, придерживались своей моды из мягко опадающих брюк и шелковых рубашек с длинными рукавами.
– Причислить к моим гостям сегодня вечером даму такой очаровательной внешности – это самая большая ценность в моем скромном доме.
Писанные маслом английские ландшафты покрывали стены наравне с китайскими рисунками тушью, свитками с иероглифами и обрамленными оттисками портретов семьи Ее Величества королевы Виктории. Итальянские вазы, японская резьба и китайский фарфор стояли на английских и азиатских предметах мебели рядом с резьбой по нефриту и статуями с Дальнего Востока и из Европы. В этом доме, где окна были застеклены немецкими витражами, полы выложены узорными керамическими плитками из Англии, а время отбивали французские часы.
Среди этого изобилия искусства и курьезов Георгина казалась сама себе еще одним декоративным объектом, временным экспонатом для украшения вечера. Она догадалась, что Пол упросил ее пойти с ним именно для этой цели, по тому, как собравшиеся джентльмены оглядывали ее: капитан Маршалл, сингапурский агент навигационной компании Peninsular & Oriental Steam, мистер Данмен, начальник небольшого полицейского подразделения города, мистер Керр из Керр, Уайтхед и Ко, господа Запп и Риттерхаус. Они смотрели на нее без намека – впрочем, один-другой взгляд украдкой относился и к ее декольте – скорее уважительно и с любованием, в первую очередь хозяин дома.
Георгина подняла бровь:
– Если присмотреться, я сегодня единственная дама на этом вечере.
Вампоа звонко рассмеялся и похлопал ее по руке – более отечески, нежели галантно.
– Мудро и истинно сказано, мадам. И к тому же остроумно! Мистеру Бигелоу и впрямь можно только позавидовать.
– Мистер Вампоа! – Мистер Дафф, банкир, жестом подзывал его к группе мужчин: – Идите сюда, нам требуется ваше ценное мнение!
Вампоа глубоко вздохнул:
– Что пользы такому человеку, как я, от поэзии вашего присутствия, если банальная проза коммерции вторгается между нами? Простите меня, мадам.
Еще одним поцелуем руки он простился с ней и влился в толпу гостей.
Пол кивнул ей с довольной улыбкой, как будто хотел сказать: Молодец, справилась с задачей.
Вампоа был значительной персоной в Сингапуре не только как коммерсант, но и как консул Китая, России и Японии. Он был богат чуть ли не безмерно, так говорили; по крайней мере богат настолько, что мог позволить себе послать одного из своих сыновей на учебу в Эдинбург.
Он приехал из Китая молодым парнем, чтобы работать в лавке отца, который у лодочного причала неподалеку от китайских складов продавал мясо, овощи и хлеб. Лавочка в руках Вампоа после смерти его отца разрослась в империю, когда он стал снабжать всем необходимым корабли военно-морских сил Великобритании. Ледник, смело сконструированный с его коваными балюстрадами, входил в состав этой империи так же, как плантации и преуспевающая пекарня на Хавлок-роуд; никому не повредило бы поддерживать с Вампоа добрые отношения.
Георгина ответила на улыбку Пола, но он уже снова углубился в деловой разговор.
Между мужских голов, взаимно кивающих друг другу, поворачивающихся в разные стороны, запрокидывающихся в смехе, вдруг на долю секунды открылся вид на противолежащую дверь.
В дверном проеме стоял мужчина, одетый как малайский князь, белизна его сюртука резко оттеняла его кожу, коричневую, как пальмовый сахар. У него было жесткое, неумолимое лицо, твердым казался и его рот. Глаза же, черные и блестящие, как расплавленный оникс, смотрели растерянно.
Как будто он не был уверен, туда ли попал. Или как будто заблудился и не может найти обратной дороги.
Сердце Георгины замерло.
Головы джентльменов заслонили ей вид всего лишь на один взмах ресниц.
Но в дверном проеме, когда она снова смогла посмотреть туда, было пусто.
Георгина задыхалась, каждый вдох давался ей с невероятным трудом, сердце молотком стучало в груди. На подгибающихся коленях она поднялась со стула.
Никто не обратил на нее внимания; только один из китайских мальчиков, одетых в черные брюки и белые рубашки, которые раскачивали опахала и следили за тем, чтобы у гостей не было недостатка в спиртном, бросил на нее удивленный взгляд, когда она, нетвердо ступая, перешагнула через порог.
Воздух влажным горячим платком лег на ее кожу, на ее легкие. Спотыкаясь в траве, она перешла через дорожку, посыпанную гравием, на котором несколько раз оступилась на высоких каблуках, на газоне остановилась, запыхавшись, чуть не всхлипывая.
Целый день сегодня ей было не по себе. Она таскала какую-то тяжесть в конечностях, а голова казалась пустой и легкой. Это была не ясная легкость, а хмельная, запутанная, как после избытка шампанского. И что бы она ни пила и ни ела, ничто не могло стереть с ее языка привкус соли и водорослей.
Она глубоко втянула ноздрями влажный воздух, пропахший сладким ароматом цветов, травой, листьями и морем, хотя они уехали довольно далеко от него вдоль длинной улицы, обсаженной бамбуком, размашистыми пальмами и дикими миндальными деревьями, стволы которых были увиты вьющимися растениями и орхидеями, и защищенной живыми изгородями из дикого гелиотропа.
Сад пел. Не только птицы, которые чирикали и свистели где-то в листве, а может быть, и в вольерах. Не только цикады, лягушки, павлины. Нежная, мягкая песня исходила от тысяч листьев и звучала, как ропот моря. Как шепот ветра над водой, и душа Георгины подпевала всем этим голосам – чувство, которого она не испытывала очень давно.
Постепенно сердце ее успокоилось, дыхание перестало быть напряженным. И она обернулась еще до того, как учуяла табачный дым.
Осколки белого полотна, выломанные из стеклянного двувластия ночи и света ламп. Наполовину в тени, наполовину на свету – массивный профиль, который был ей когда-то знаком, словно вырезанный из тропической древесины, зачищенной наждаком и отполированной.
Сильный поток объял ноги Георгины, сорвал ее с места, понес к нему.
– Это правда ты, – прошептала она, убежденная, что при следующем ее шаге он снова растворится в воздухе как фата моргана. Скроется, как пугливое морское существо.
Глаза его под тяжелыми дугами бровей были устремлены на тлеющий кончик тонкой сигары. Напряжение, которое заряжало воздух меж ними, выдавало, что он осознает ее присутствие.
Семь лет. Почти семь лет прошло.
Время обострило и ожесточило его черты. Возможно, причина крылась в бороде, которая обрамляла его лицо и придавала ему что-то высокомерное, жестокое.
– Где ты был? – тихо спросила она, а внутри клокотало счастье и волшебство. И она пошатнулась от страстной тоски, поднявшейся в ней бурной волной.
Следующий шаг она сделала в пустоту, когда поняла, что совсем не море отняло его у нее. Она оступилась и нашла опору во внезапно вспыхнувшей в ней ярости.
– Где ты был? Все это время? – прошипела она со злобой, которая отражала огонь, загоревшийся в ее теле. – Где ты был, когда я ждала тебя, надеялась и боялась за тебя?
Он поднял взгляд, но смотрел мимо – куда-то в неопределенную точку за ее спиной.
– Не так уж и долго ты страдала. Ровно столько, чтобы броситься на шею другому.
Его голос тоже стал жестче, с металлическим отзвуком, словно звон клинка. К лицу Георгины прилила кровь.
– У меня не было выбора, – прошептала она.
Сыну нужен был отец. Была нужна фамилия.
Она подыскивала слова, чтобы рассказать ему об этом.
– Конечно, не было. – Его глаза вонзились в нее, черно-блестящие, как небо в безлунную ночь. – Рано или поздно ты должна была пойматься в сети собственной лжи.
Кровь отхлынула от ее лица, ушла в глубину тела и взбурлила там пламенем гнева.
– Я никогда не обманывала тебя. И никого не обманывала.
– Называй это как хочешь. – Он подступил к ней и остановился в позе, которая казалась угрожающей, и голос его был плоским и хриплым. – Пусть я всего лишь грязный оранг-лаут. Но у меня есть своя гордость. Своя честь.
Георгина искала в его лице прежнего Рахарио – и не находила. Кто-то чужой скрывался в шкуре ее морского любимого. Она хотела отшатнуться, но его запах, этот родной, незабываемый запах, по которому она так тосковала – запах моря и водорослей, кож и корицы, обостренный курением, так и повлек ее к нему. Его лицо скользнуло мимо – так близко, что его борода чуть не коснулась ее щеки, и тепло его кожи опалило ее.
– Твой оранг-путих проклянет тот день, когда сделал тебя своей женой, – прошипел он над ее ухом. – Твой отец проклянет тот день, когда зачал тебя. Я заберу у тебя все, что тебе мило и дорого. А когда управлюсь с тобой, ты пожалеешь, что когда-то меня повстречала.
Он резко повернулся, бросил недокуренную сигару в траву и пошел вон ровными, сильными шагами, пока ночной сад не поглотил его.
Пол постарался подавить раздражение, что этот вечер, на который он возлагал такие надежды, закончился для него преждевременно. Еще до ужина и до выступления малайской танцевальной группы, которая была объявлена главным событием вечера.
Но его тревога за Георгину перевесила. Безмолвная и бледная, она сидела рядом с ним в паланкине, глаза ее были большие, неподвижные и такие темные, что казались почти черными. Рука под его ладонью была холодна, а на коже, казалось, потрескивало напряжение, и это ставило его в тупик.
В знаменитых садах Вампоа она будто встретила привидение.
Дух прошлого, на которого он успел бросить лишь беглый взгляд, наискосок от дверного проема, сбоку. Белый костюм как осколок кости с острыми краями. Коричневое лицо, тяжелая линия подбородка, жесткие контуры. Но губы неожиданно мягкие, красиво очерченные, чувственные.
Словно лезвие ножа пронзило его между ребрами.
Он старался, чтобы по нему ничего нельзя было заметить – в этот вечер. И в следующие дни.
Однако с тех пор он смотрел на Дункана другими глазами.
Расстелив на траве покрывало, Георгина сидела на нем; небо над ней было бездушно голубым. Далекие облака казались такими плотными, что невозможно было поверить, что нельзя добежать по ним босиком до самого края света.
Неподалеку от нее Ах Тонг обрезал кусты жасмина под равномерное щелканье садовых ножниц, под шорох падающих веток. Голоса и смех Дункана и Дэвида наполняли сад – оба в коротких штанишках, поглощенные игрой, они скакали вокруг, как жеребята.
– Что-то ты не очень счастливая, мисс Георгина.
Она наблюдала за своими детьми, такими разными внешне и по повадкам, но сердечно близкими, как они с воплями и визгом бежали к дереву; может, обнаружили там дикую обезьяну, они иногда попадали сюда по ошибке.
Четыре года назад огромные силы Османской империи, России, Великобритании и Франции затеяли войну в Крыму, которая вылилась в невиданные доселе потоки крови. Как ни далека была эта война отсюда, а она разом дала Сингапуру понять, насколько незащищенным был этот остров в море. Сингапур, который никогда не был колонией в собственном смысле слова. Не был куском Великобритании, которую пересадили в нецивилизованные джунгли, захватив области и победив местных в битве, окопавшись в крепостях и держа наготове войска.
Сингапур был отводком британского предпринимательского духа и капитала, возникшим из переговоров и договоров, выросшим в мирном соседстве, сотрудничестве разных народов к их взаимной выгоде. Неохраняемая сокровищница, которая представляла собой заманчивую цель для внезапного нападения, теперь это увидели, и будь это всего лишь один русский военный корабль, он без усилий разрушит город со стороны моря и сможет нанести чувствительный удар по Великобритании как торговой империи и как нации.
Большие, смелые планы по укреплению города ковались в Калькутте, отметались, изменялись и составлялись заново. В то время как граждане города лишний раз по собственной инициативе работали, создавая стрелковую часть, вышедшую из дружин времен беспорядков среди китайцев города: добровольцы, которые со своим оружием объединились в полк на случай обороны, среди них был и Пол Бигелоу.
Война в Крыму как раз подошла к концу, когда в Индии сначала сипаи в армии, затем люди в деревнях и городах восстали против британского колониального господства. Кровавый бунт, который затронул за живое не только Индию, но и Сингапур. Глубокие морщины тревоги пролегали по лицу Гордона Финдли, когда он следил за событиями и ждал известий, хотя восстание в основном ограничивалось севером и центром субконтинента и все выглядело так, что оно никогда не доберется до французского анклава Пондишери.
Никто не знал, что означало это восстание для Сингапура, который в том году удвоил торговый объем по сравнению с пятнадцатью предыдущими годами. Никто не знал, как поведут себя сипаи сингапурского гарнизона, три тысячи арестантов, несколько тысяч индийцев города, против которых не насчитывалось и четырех сотен европейцев. В год, который начался забастовками и протестами против вновь сформированного и сугубо европейского муниципального правления, взявшего в свои руки управление городом, принимавшего решения о налогах и пошлинах и проводившего их, о содержании дорог, устранении отходов, строительстве и проектировании домов и с неукоснительной жесткостью вводившего новый полицейский регламент.
Во время, когда богатые становились все богаче, а бедные все беднее. В Сингапуре метались туда и сюда между прежней позицией невмешательства и необходимостью известного порядка и безопасности, между желанием поддержки из Калькутты и независимости от правительства в Бенгалии.
Долгое время Сингапур был хоть и деятельным, но все же сонливым островом на краю мира. Теперь почти внезапно, с вечера на утро, на его берега нахлынули беспокойные волны мирового моря, и вдоль нитей торговой сети, которая надежно хранила Сингапур и позволяла ему бурно развиваться, пошли разрывы. По земле, по которой они все ходили, потянулись тонко разветвленные трещины, как сеточка в глазури китайской фарфоровой чаши.
Закралось доселе неведомое чувство угрозы и у Георгины после ее встречи с Рахарио, который показался ей ночным кошмаром.
Зимородок сегодня утром внезапно оживил тот злой сон, который месяцами вытеснялся прочь. Вспышка оранжевого и кобальтово-синего оперения между деревьев, проблеск надежды и вместе с тем зловещее предзнаменование; она не могла припомнить, чтобы хоть раз видела зимородка здесь, в Л’Эспуаре.
– Нет, – прошептала она в ответ на слова Ах Тонга.
– Я ведь умею слушать, как ты знаешь. И я молчалив.
Георгина повернулась на покрывале, чтобы сидеть лицом к нему, но избегала взглядов, которые Ах Тонг бросал на нее сквозь цветущие ветки.
– Мне кажется, что я давно похоронила свое сердце. В точности как туан тогда.
Ах Тонг продолжал срезать ненужные ветки жасмина.
– Извини, но я возражу, мисс Георгина. Ты не похоронила свое сердце. Достаточно лишь взглянуть на тебя, когда ты с сыновьями. Когда туан Бигелоу приходит домой. Тогда сразу видно, что твое сердце по-прежнему сильно бьется у тебя в груди.
Его кожистое лицо, с каждым годом все более морщинистое, сжималось, когда он с усилием срезал очередную ветку и бросал на землю.
– Но я тебе верю, что по твоему ощущению так оно и есть, будто ты его похоронила. Бывают такие времена. Такое время было однажды и для нашей мэм.
Георгина внимательно на него посмотрела, и на его лице блеснула ухмылка.
– Рассказывал ли я тебе, что сюда в дом меня взяли, чтобы проредить и укротить заросли возле моря? Да, так и было.
Ах Тонг опустил садовые ножницы. Держась за ветку, он оперся о нее лбом. Помедлил, будто взвешивая, продолжать ли рассказ.
– Я тогда не был уверен, ведь прежде мне не приходилось иметь дело с такими господами, как туан и мэм. Но у меня было такое чувство, что между ними не все ладно. Они радовались своей маленькой девочке, но сами не казались счастливыми. Прежде всего мэм. – Его кустистые брови болезненно сползлись. – И была даже очень несчастна. Это она захотела вырубить чащу. Притом что туан оставил ее стоять специально ради нее, когда строил дом. Чтобы у нее было что-то напоминающее ей о родине. С павильоном у моря, где она могла бы наслаждаться морским воздухом. Но в то же утро, как я приставил было пилу, она прибежала. Она передумала. Она пожелала оставить здесь все как есть.
Ах Тонг смеялся, его кадык дергался.
– Я был сокрушен, уверенный, что меня прогонят без оплаты. Назад на причал, таскать ящики, как все кули. Но мне разрешили остаться. – Он поднял голову и покивал своим мыслям. – Я думаю, в каждом браке бывают засухи. Бывают бури. Только не надо терять надежду. Переставать верить. Вскоре после того между туаном и мэм установилась гармония. Они были так счастливы друг с другом, как только могут быть счастливы супруги. До самого конца.
Ах Тонг снова приставил ножницы к ветке.
Георгина теребила нитку саронга, осторожно пробуя языком слова, которые так долго носила в себе.
– Ты… знаешь, отчего… она умерла?
Ах Тонг замер.
– Тебе никто не рассказал? – Он вздохнул и выщипнул несколько желтых листьев из кроны. – Да ты ведь была очень маленькая. А потом, наверное, никто уже не подумал тебе рассказать.
Он ожесточенно дергал ветку, которая еще не высохла, но была уже отмершей, потом прибег к помощи ножниц.
– Она хотела еще ребенка. А врачи говорили, для нее это слишком опасно. Да и повитуха предостерегала ее. Но она так хотела, туан тоже был полон надежды. А она теряла одну беременность за другой. Пока ее тело не лишилось последних сил. – Он печально смотрел перед собой. – Последний выкидыш стоил ей жизни. Это был бы мальчик. Семпака рассказала мне.
Он полуотвернулся и украдкой отер рукавом глаза и щеки, прежде чем решительно приступить к другой ветке.
– Наша мэм была с сердцем тигра, другой такой не было. И ты, мисс Георгина, пошла в нее.
Георгина смотрела перед собой; в детстве она очень тосковала по брату или сестре. Она могла быть благодарна судьбе, что родила на свет двоих здоровых сыновей, одного худого и жилистого, другого крепенького, должна радоваться, что оба мальчика росли не только с отцом и матерью, но и друг с другом. Особенно теперь, после того, как Оксли уехали из Сингапура и Дункану с Дэвидом пришлось прощаться с Томасом, Эдвардом, Гертрудой и Евой, с которыми они играли вместе иногда здесь, в саду, иногда у Оксли на Киллинэе.
Взгляд ее упал на Дэвида. Лицо ее просветлело. Глаза как две синие звезды на загорелом лице, он бежал к ней по траве изо всех сил, и она раскрыла объятия.
Он с разбегу бросился ей в руки. Прижавшись лицом к ее плечу, он вцепился в нее, его маленькое тело тряслось – он задыхался и всхлипывал.
– Что случилось? – бормотала Георгина в его волосы, которые пахли солнечным теплом, свежо и сладко, как растительные соки, и немного солью, и гладила его по спине.
– Дункан дурак? – спросил он, уткнувшись ей в шею.
– Вы поссорились?
Дэвид горячо закивал:
– И он меня толкнул.
Георгина подняла голову и огляделась.
Не имело смысла запрещать им этот лесок, уж слишком он был притягателен для детских чувств, оба мальчика были слишком любопытными и живыми. Однажды Георгина еще раз нырнула в этот зеленоватый свет двух комнат, в тот мир, напоминавший подводный. Прочно держа сердце закрытым, глухим и слепым для воспоминаний, она обращала внимание лишь на то, чтобы обнаружить опасные места в древесине и каменной кладке, о которые дети могли бы пораниться. То, что оставалось здесь от ее времени с Рахарио, она машинально собрала и небрежно сунула в выдвижной ящик умывального столика; только проржавевшую бритву взяла с собой, чтобы выбросить, прежде чем окончательно повернуться к павильону спиной, передав его детям.
Я заберу у тебя все, что тебе мило и дорого.
Огненный шар страха взорвался у нее внутри. Крепче, чем необходимо, она схватила Дэвида, отстранила его от себя и строго посмотрела ему в лицо:
– Где твой брат?
Он пожал плечами, высвободил из ее хватки руку и показал назад, в сторону стены. На море за стеной.
– Он сказал, я еще маленький. – Глаза его наполнились слезами. – Только ему можно. Только одному, он сказал.
– Я сейчас, мисс Георгина. – В два-три широких шага Ах Тонг оказался рядом с ней и взял за руку Дэвида, который уже начал всхлипывать.
Георгина вскочила и побежала, и жесткая трава колола ей ступни.
Она выбежала за ворота, пересекла Бич-роуд в тесном просвете между паланкином и воловьей упряжкой и помчалась к пологому откосу.
Он стоял в воде по самые бедра, покачиваясь в движении волн на мягком, податливом дне.
Он не слышал, как она звала его.
Словно в трансе, он простер руки, предлагая себя морскому богу в качестве жертвы.
Волна за волной накатывали на мальчика, высоко вздымаясь и бушуя, лишь вплотную перед ним растекаясь плоско и мягко. Беглый, текучий хищник, охвативший ее сына и обласкивающий его, приготовившись на следующем вдохе схватить его и поглотить.
В ореоле брызг Георгина вбежала в воду, платье промокло, царапины на ступнях и ссадины горели от соли. Она бросилась к сыну, схватила его и потащила к берегу, он оказался очень тяжелым.
Дункан закричал, как будто она живьем сдирала с него кожу, отбивался от нее, пинал ногами. Пока ее ноги не подломились и она не осела в мокрый песок, исчерканный тонкими, пенистыми языками воды.
Из последних сил она пыталась удержать сопротивляющегося мальчика – он выворачивался из ее рук, упирался в нее, дрался.
Рвался назад в море.
Пока не иссякли и его силы, а крики не перешли в безудержный плач. Он вцепился в мать и выплакивал свое горе на ее груди.
Георгина покачивала сына в объятиях, свое красивое, дикое морское дитя. Она гладила его по мокрым волосам, деля с ним его тоску. Его боль. Его ярость.
На следующий день Георгина начала учить сыновей плавать, сначала Дункана, потом Дэвида.
И попросила Пола об их переезде.
Вон из Л’Эспуара. Подальше от моря.
14
Сингапур рос.
Росло его богатство, росло и население.
Арендная плата за склады, за квартиры над складами, за дома и приватные комнаты резко поднималась. Кто мог себе позволить, подумывал, как бы выбраться из городской тесноты и грязи. Подальше от шума, вони и то и дело затопляемых подъездов к дому в более спокойное место, где было просторнее, где был свежий воздух и по соседству – свои.
Первыми были плантаторы – такие, как консул Балестье или доктор Оксли, – кто купил земельные участки в глубине суши, чтобы заложить на них плантации и построить себе в таком случае и дом, затем появились единичные тауке, некоторые богатые европейцы, желавшие показать свое благосостояние, затем все больше и больше коммерсантов потянулись из города на природу.
Потребность, которая совпала с вырождением плантаций перца и гамбира, с гибелью мускатных деревьев из-за жучка. Участки продавались целиком или по частям, на них строились дома, потом сдававшиеся внаем. Доктор Оксли свое владение Киллинэй с больными мускатными деревьями, ровно в сто восемьдесят моргенов, сбыл перед тем, как уехать с женой и девятью детьми в Англию; почти сорок домов были построены на этом участке в последующие годы. Прежде всего был популярен Танглин, по ту сторону Орчерд-роуд, где дороги были хорошими, вид красивый и откуда удобно было доехать до работы с саисом.
Рука об руку с этим шла перестройка плана города; прежняя планировка происходила еще из эры сэра Стэмфорда Раффлза и его резидента Уильяма Фаркухара. Каналы, которые обеспечивали город водой, получили наконец имена. Коммерческий сквер был переименован в площадь Раффлза, а улицы на северном берегу реки Сингапур, которые прежде считались продолжениями улиц южного берега, теперь получили другие названия. Черч-стрит превратилась в Ватерлоо-стрит, из Рыночной улицы получилась Кроуферд-стрит.
Чувствуешь? Сегодня опять несет чистейшей лавандой! – с улыбкой говорили на улице, которая по ту сторону реки Рохор вела на север, к Серангун-роуд, между плантациями, которые удобрялись нечистотами, и овощными огородиками со свинарниками. И эта улица получила в качестве официального названия шутливое: Лавендер-стрит.
Пол Бигелоу очень вовремя когда-то отхватил себе участок на Орчерд-роуд. Ибо за каких-то три года цена на землю и собственные дома удвоилась, даже утроилась, и спрос давно превысил предложение.
В Сингапуре буйствовала строительная лихорадка.
Лампа на ночном столике отбрасывала на кровать уютный свет. На раскрытую книгу, которую Георгина прислонила к своим коленям, поставив их «домиком». Уже долгое время она не листнула ни одной страницы, вслушиваясь в ночь.
Ветер шептал в листве старых деревьев, срубить которые ей так и не хватило духу, пока они были здоровы, и серебряными капельками стекало пение единичных цикад; ночь была сухая.
Ей не хватало моря, то и дело ей мерещилось, что она слышит шорох и накат волн. Фантомные звуки. Как будто она частично оглохла на одно ухо.
Дункан тоже страдал от этого, она видела по его глазам, по тоске в них. И если Дэвид с ликованием прыгал по комнатам, чтобы исследовать новое жилище, Дункан целыми днями бычился; даже пони, которого Пол купил для мальчиков и поставил в стойло к лошадям, не стал для него утешением.
Дети давно спали, с ними в их комнате и Картика – она была безумно рада, что ее взяли нянькой в новый дом. И слуги переехали в свое жилье в задней части сада. Индийский повар, которого ей рекомендовал Аниш, со своими подсобными. Три китайских боя, две малайские горничные, трое саисов и туканг айер, который носил воду, рубил дрова и выносил ночные горшки. Миновали те времена, когда шотландские коммерсанты – такие как Гордон Финдли, – гордились тем, что могут обходиться минимальным количеством персонала.
С наступлением темноты на службу заступали два малайских ночных сторожа. Георгина иногда могла слышать их лопочущие голоса, их приглушенный смех, когда они совершали обход территории. И бой Один еще должен был бодрствовать в ожидании возвращения туана. Как и Георгина.
Дом у них получился большой и красивый, на кирпичном фундаменте, возвышавшемся над землей на несколько футов, чтобы отталкивать влагу и охлаждать полы.
Они назвали его по-французски Боннэр, в память о матери Георгины и на доброе предзнаменование. Счастье.
У него был запах еще нового дома: пахло свежим чунамом стен, полированным деревом и бамбуком жалюзи. Специально для него изготовленной мебелью из тропической древесины и ротангом, свеженачищенным серебром и медью и увлажненной землей, зелеными листьями и комнатными растениями.
И в воздухе всегда висел сладкий, пряный дух фруктового сада. Сухой аромат травы, меловой запах красной земли и свежесть молодых саженцев бамбука, тембусу и дикого гелиотропа, водяных лилий и разных сортов жасмина.
Ах Тонг выразил готовность помочь Георгине в выборе растений и давал распоряжения двум малайским садовникам, которые приходили сюда из своего кампонга. Ее предложение переехать сюда с Семпакой он отклонил – дружелюбно, но со всей определенностью: его место было в Л’Эспуаре.
Часы внизу начали бить, и Георгина посчитала удары. Полночь.
После обеда Пол направил посыльного передать, что придет поздно, чтобы Георгина не ждала его к ужину. Уже второй раз на этой неделе. В последнее время он часто задерживался подолгу, работал и в выходные дни в своем кабинете на нижнем этаже и когда поднимался наверх, то ограничивался тем, что обнимал ее и целовал в щеку, на следующем вдохе уже засыпая.
В очередной раз ее охватило гнетущее чувство.
Она вслушалась. Топот копыт и шорох колес приблизился к дому и стих, потом возобновился и стал удаляться. Тут же она услышала внизу голоса Пола и боя Один и с облегчением вздохнула.
Но шагов на лестнице не последовало.
Дом лежал в той же сонной тишине, что и прежде.
Плитки входного холла прохладно приникали к ее босым ступням. Здесь было темно, если не считать сумеречного светового клина, падавшего из кабинета.
Пол сидел за письменным столом, перед ним стоял стакан, содержимое его янтарно поблескивало в свете лампы. Опустив голову над бумагами, он тискал лоб; он казался измученным. Отчаявшимся.
– Ты не хочешь пойти спать?
Голова его дернулась, глаза сверкнули.
– Георгина. Я тебя разбудил?
– Нет, я еще не спала.
– Иди же наверх. – Он ей улыбнулся; его улыбка должна была ее успокоить, но была вымученной. – Мне тут надо еще посидеть, а потом я сразу приду.
– Мне надо с тобой поговорить, – прошептала она.
Он насупился:
– Что-нибудь с мальчиками?
Она отрицательно качнула головой.
– Что-то более важное? – Это звучало нетерпеливо, почти раздраженно. – Может быть, это потерпит до завтра? Или до конца недели?
Георгина подошла к столу, повела по его краю указательным пальцем, обходя его, и остановилась возле узкого места, где было ей не пройти. Груз, который она несла с собой, давил на ее сердце, но никак не удавалось облечь его в слова и сформулировать.
– У тебя… есть… другая женщина?
Пол смотрел на нее из-под высоко поднятых бровей, слегка приоткрыв рот.
– Другая женщина? – Светлая искра блеснула в его глазах, и он рассмеялся. – Какая еще другая женщина? Разве что миссис Нейпир? А может, мисс Кук из китайской школы для девочек? – Из его глаз так и прыскало плутовство. – Хотя, если хорошенько подумать… Мне могла бы понравиться Люси Оксли, но ее ведь, к сожалению, здесь больше нет.
Георгина не могла разделить его веселье; она напряженно кусала губу и водила пальцем по рельефу, который окаймлял край столешницы.
– Иди ко мне. – Он протянул к ней руку.
Она не пошевелилась, и он потянулся вперед, поймал ее за запястье и обвел вокруг стола. Сопротивляясь, она села к нему на колени.
– Какой бы я был дурак, – шептал он, – если бы обманывал такую женщину, как ты. Ведь ты – все, чего я хочу. – Он целовал ее голое предплечье, потом потерся о него небритой щекой. – Я обещаю тебе, скоро у меня опять будет время для тебя и для наших мальчиков.
Взгляд Георгины упал на бумаги, лежащие перед ним, с длинными рядами цифр и наспех набросанными пометками, местами подчеркнутые решительным росчерком, отдельные слова обведены кружком.
– Это фирма виновата?
Должно быть, прошло несколько месяцев с того времени, когда Пол в последний раз говорил с ней о делах; их общее внимание было целиком поглощено новым домом, а Георгине к тому же теперь, когда ей было двадцать шесть, приходилось впервые заботиться о домашнем хозяйстве в качестве мэм.
С протяжным выдохом он откинулся на спинку стула.
– Сейчас у меня есть некоторые сложности, да. Как нарочно, именно сейчас, когда мы столько денег вложили в дом и остро нуждаемся в прибыли. – Он скривил гримасу и потер лицо ладонями, потом прочесал пальцами коротко остриженные волосы, будто хотел что-то стряхнуть с себя. – А несколько тауке неожиданно соскочили. И мы не знаем почему. Я каждый день скребусь в двери их складов как нищий проситель, чтобы перенастроить их или хотя бы вызнать причину. А в промежутках оббегал себе все пятки, чтобы завязать новые контакты.
Георгина знала модель, по которой протекала торговля в Сингапуре.
Европейские торговцы предоставляли в распоряжение коммерции основной капитал. В форме таких товаров, импортируемых из Европы и Америки, как скобяные изделия, сталь, оружие и порох. Медный провод и стекло, пиво, вина и спиртное, а также товары, которые поступали из колониальной Индии, – такие как хлопковые ткани, производные кокосового ореха, джут, чай, селитра, пшеница, рис, нут, а прежде всего, разумеется, опиум.
Товары покупались на кредит китайских тауке и точно так же в кредит передавались капитанам джонок и другим торговцам, которые плыли в Сиам и Китай, Кочинчину и Тонкин. Более мелким торговцам и владельцам лавок, агентам, которые перепродавали товары на Суматру, Борнео и на Малаккский полуостров, где дальше их разбирали еще более мелкие торговцы.
Товары из всего южноазиатского пространства проделывали обратный путь – от мелких торговцев через тауке к европейцам, со складов которых они рассылались по всему миру. Пряности, олово, золото, маниока, сахар, рис, гуттаперча, мех и буйволиные рога и все, что из джунглей и моря можно было превратить в деньги. Сюда же вплетались сокровища Китая: корица, камфара, имбирь, анис, шелк, фарфор и чай. Сахар из Сиама, рис с Явы и из Бирмы. Уголь с Борнео. Сандаловое дерево, лошади и корабли из Австралии. Табак, кофе, конопля из Южной Америки.
Плетение, разветвленное тонко и далеко, словно корни и ветви мангрового дерева. С китайскими торговцами в качестве ствола, который связывал воедино корни и крону и взаимно питал их, собирая в пучки входящие и исходящие пути капитала и товаров. Лишиться этих связей было смерти подобно.
– Вдобавок ко всему вчера до нас дошло известие, что мы потеряли дорогостоящий фрахт. На корабль, который его вез, было совершено нападение, фрахт разграблен. – Пол обвил Георгину руками и приник к ее плечу. – Но ты не беспокойся. Мы все наверстаем, твой отец и я.
Сердце у нее билось, подскакивая до самого горла.
Золотом мерцал солнечный свет, падающий сквозь листву разросшихся деревьев, что наколдовывала прохладные тени. Было жарко, но не душно; один из тех жарких дней в Сингапуре, когда контуры словно вырезаны ножом, краски сияют ярко, а песня птиц и стрекот цикад приглушены до вялого бормотания.
В воздухе ощущалась близость воды, промывая его, наполняя его звучанием волн, которое не было слышно, а лишь чувствовалось шепотом на коже.
Из зелени ярко выделялся дом, его гладкий фасад контрастировал с дверями и ставнями окон из темного, полированного дерева и казался еще белее. Как раковина каури. Та, которую Рахарио когда-то оставил для нее в павильоне. Дом, который он хотел когда-то построить для нее.
Кулит Керанг. Саис наемного экипажа с самого начала кивнул: ему было известно, где на Серангун-роуд жил человек по имени Рахарио.
Дом был такой же большой, как и Боннэр, а может, и больше, крыша крыта такой же красной черепицей из Малакки. В это утро он казался покинутым. Неприветливым.
Георгина сглотнула.
– Мэм? – Широкая улыбка саиса становилась тем неуверенней, чем дольше ему приходилось ждать, открыв одной рукой дверцу, а вторую протянув ей навстречу. И оба охранника перед домом растерянно озирали ее, вопросительно переглядываясь между собой; они были вооружены, как и двое мужчин на въезде на участок.
Георгина заставила себя выйти, опершись на руку саиса. Вскинув голову в маленькой, украшенной лентами соломенной шляпке, она шагнула к охранникам.
– Отведите меня к вашему туану. Скажите ему, с ним хочет говорить Нилам.
Он молча оглядывал ее.
Она стояла перед его письменным столом прямо, дурацкая шляпка на высоко подколотых волосах. В одном из этих европейских платьев с узкой талией, широкими, пышными рукавами и юбкой в виде купола. Хорошего качества, но не слишком дорогое платье, подчеркивающее ее сильные природные краски. Красивое, но не особенно броское, сшитое из легкой хлопчатобумажной ткани с двуцветным узором.
Белое и синее, как китайский фарфор. Как море и пена.
Умышленно ли она так оделась?
Он никогда не считал ее расчетливой, но в этом он мог и обманываться. Как и во многом другом. Точно так же он бы никогда не подумал, что у нее хватит нахальства его разыскивать. В первый момент он хотел приказать, чтоб ее вышвырнули, потом приказал, чтоб просто ждала в холле, пока любопытство не взяло верх, не давая ему покоя. Пока не засаднили старые раны.
Глаза ее были ясные и холодные. Как в день ее свадьбы с оранг-путих.
Только пальцы ее, потирающие перчатки, которые она держала в руках, теребящие защелку сумочки, выдавали, что она чувствует себя не так уверенно, как хотела показать. За этой цветущей, взрослой неней все еще виделась маленькая девочка, какой она когда-то была.
Юная женщина, которую он когда-то знал и все же не знал никогда.
– Чего тебе? – резко спросил он.
– Фрахт. Который ты украл у нашей фирмы.
Рот его дернулся.
– При чем здесь я?
– Я знаю, что это был ты.
Его брови сошлись на переносице:
– Кто раз был пиратом, тот пират навсегда, так, что ли? Всегда вор. Это и все, что ты знаешь.
Она пожала плечами.
– Я просто это знаю. И ты позаботился, чтобы основные тауке больше не хотели иметь с нами дела. Хотя я не знаю, как ты это устроил.
Что, у оранг-путих так принято, чтобы мужчины обсуждали свои дела с женами? Один уголок его рта приподнялся, он достал из серебряной коробки тонкую сигару.
– Не надо делать меня виноватым, если ты вышла замуж за мужчину, который ничего не смыслит в торговле.
Он закурил и с наслаждением выпустил дым, радуясь, что щеки ее наливаются румянцем, а глаза рассыпают искры. Его пульс ускорился, заставляя кровь быстрее кружить по жилам. Он откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу, в чреслах уже началась пульсация.
– А если и так? Если я к этому причастен? Ты мне угрожаешь?
Ее брови поднялись и потом скривились в две гневные арабески.
– То, что ты сделал, было несправедливо! И будет достаточно, если ты вернешь то, что принадлежит нам.
– Несправедливо. – Голос звучал столь едко, что ему самому было неприятно слышать его. – Видимо, ты понимаешь под этим что-то другое, чем я.
– Я отдам тебе все мои драгоценности, – прошептала она. – Если надо, и драгоценности моей матери.
– Зачем они мне? – Он рассмеялся сухо и хрипло; во рту у него пересохло.
– Я заплачу тебе, если ты хочешь. Как-нибудь я соберу деньги. Постепенно. – Ее грудь часто поднималась и опускалась. – Я… я прошу тебя, – прошептала она.
Неужто у нее совсем нет гордости? Неужто она любит этого мужчину так, что не стыдится ради него унижаться? Его лицо посуровело.
– Я знаю, что я хочу за это иметь.
Его взгляд остановился на ее груди, подчеркнуто медленно двинулся вниз и снова вернулся назад. Он с удовлетворением отметил, что ее щеки покраснели еще больше, взгляд потупился.
– Я согласна.
Ответ еле слышный, чуть громче выдоха.
Его кровь устремилась в глубину тела, завернулась там в воронку, которая утягивала его вниз.
– Ты действительно стала бы ради мужа шлюхой?
Она вскинула глаза – они резко сверкнули, как отшлифованные сапфиры.
– Нет. Но ради фирмы моего отца. И ради моих детей.
С тлеющей сигарой в руке он медленно встал и пошел к двери, открыл ее.
– Докажи.
Взгляд Георгины скользнул за его спину.
Обстановка в сумеречном свете за закрытыми ставнями казалась безвкусной и скучной, как в холле, где ей пришлось долго ждать, когда он примет ее; как в рабочей комнате, где она стояла. Почему-то она ожидала, что он окружит себя роскошью, расточительно яркими тканями и резной мебелью, серебром и стеклом, фарфором и мрамором; может, потому, что она видела дом Вампоа и всегда связывала малайский образ жизни с яркими красками. Однако этот дом, благородный в своей простоте, в прохладной белизне и темном коричневом цвете подходил к нему как простая белая рубашка, которая была на нем, как коричневые брюки и то, что он разгуливал по дому босиком.
Ее глаза так и присосались к широкой кровати под балдахином, и лицо ее вспыхнуло. Высокомерно вскинув подбородок, но опустив при этом веки, она шагнула мимо него, энергично мотая при этом юбками, будто в едва сдерживаемом негодовании.
Она положила сумочку и перчатки на стул, стоящий за дверью, вынула шпильки, на которых держалась шляпка. Дверь позади нее закрылась, тихо защелкнувшись на замок.
– Чего ты ждешь? Раздевайся.
Георгина подавила улыбку:
– Тебе придется мне помочь. Платье застегивается сзади. И корсет тоже.
Он помедлил, потом подошел к ней и начал орудовать за ее спиной. Сперва неловко и осторожно, потом нарочито грубо; два крючка оторвались, звякнув об пол. Его пальцы, которые при этом гладили ее затылок, вызывали в ее позвоночнике искрение сверху донизу.
Она выскользнула из средней части и отбросила ее от себя, с шорохом спустила на пол верхнюю юбку и кринолин. Он нетерпеливо тянул завязки ее корсета, и его рука, которая легла при этом на ее ребра, прожгла насквозь ее рубашку до самой кожи.
Слой за слоем она сшелушивала с себя одежду, роняя на пол один предмет за другим, краем глаза наблюдая, как он ходил вокруг нее, как гасил сигару в стеклянной пепельнице у кровати, как раздевался. Нагая, она переступила через ворох своей одежды, как Венера, выходящая из пены морской, и пошла к нему, избегая его взгляда, который подстерегал каждое ее движение.
Его тело в жемчужно-серой тени комнаты, испещренной пятнами света, было темным. Впадины и стройные выпуклости мускулов, костей и жил были словно вырезаны из той же полированной древесины, что и пол, и массивная кровать. От него исходил жар, в вихревой туман которого ее затягивало. Который увлажнил ее губы.
Его рука скользнула по ее шее, внезапно захватила ее за затылок и стала пригибать вниз. Он хотел поставить ее на колени, к своему алчущему органу. Она напряглась, изо всех сил уперлась ему в грудь и выпрямила голову; сперва ему пришлось бы сломать ей шею.
– Нет, – прошипела она и сверкнула на него глазами.
Она знала, чего хотела.
Глаза его вспыхнули, и он толкнул ее на кровать, бросился на нее. Его ладони – мягче, чем были раньше, но все равно немного шершавые, обходились с ней жестко, рот двигался по ее коже брутально, каждое прикосновение было почти укусом, и Георгина – поняла.
Он хотел наказать ее тем, что делал ей больно, хотел унизить ее принуждением. Сломать ее.
Как бессмысленно. Как абсурдно.
Она же горела синим пламенем от желания с той минуты, как шагнула к нему. В то время как его руки заставляли ее тело плавиться, его рот оставлял на ней пылающие следы, а его борода гладила ее кожу.
Георгина вдруг повеселела, запрокинула голову и начала смеяться, громко, несдержанно и счастливо. Смех, который сбил его с толку и возбудил еще больше.
Она почувствовала, как он ошеломлен тем, что она не оказала ему сопротивления, когда он скользнул в нее. Тем, как сильно она зазывала его.
Смех ее разливался каплями, стал протяжным, хриплым зовом, тоскующим и токующим. Его ладонь закрыла ей рот, они впились друг в друга взглядами. Она раскрыла губы как для поцелуя, медленно зарылась зубами в мякоть его ладони, пока не прокусила, пока не ощутила вкус его крови, и увидела по нему, что он наслаждается так же, как она.
Их обоих смыло ревущим потоком, гремящими о берег волнами, в темную бездну, навстречу исчезновению их Я.
Георгина следила за струйками дыма, улетающими к балдахину, как они то запутывались в москитной сетке тонкого, как паутина, плетения, то проскальзывали сквозь поры ткани к перекладинам потолка. Жар, который все еще источало тело Рахарио, без труда преодолевал аршин прохладной белой простыни между ними и смешивался с догоранием ее кожи.
Солнечный свет, отфильтрованный листьями с улицы и ставнями окна, плясал по комнате. Теперь Георгина могла слышать шум реки, ее мягкое бормотание и плеск.
Она жмурилась.
Голоса проникли сквозь щели ставен, довольные и звонкие, как у маленьких детей, жемчужные россыпи смеха, и она повернула голову:
– У тебя есть дети?
Его взгляд был неподвижно устремлен вверх, на балдахин.
– Дочь и сын. Моя жена беременна третьим.
Хотя она знала, что не имеет права на такие чувства, это больно задело ее. И еще больше задело то, с каким равнодушием он об этом сказал, почти холодно.
Рахарио повернулся на бок и выпустил дым, поверх нее, и едкое дуновение было как ласка, на которую встали дыбом ее соски. Он вытянул руку и стряхнул пепел в стеклянную пепельницу, прежде чем его рука легла на ее бедра. Подушечки его пальцев прошлись по тонким, едва заметным серебряным полоскам, которые Дункан оставил на ее коже, несмотря на уход повитухи Бетари, и его прикосновения, горячее дыхание тлеющей сигары в опасной близости от ее кожи заставили ее вздрогнуть.
– А у тебя?
– Двое сыновей. – Улыбка заиграла на ее губах, а его взгляд затерялся где-то вдали, и он снова отнял руку, оставив неприятно прохладное место. За дымом сигары его глаза казались блестящими и гладкими. Непроницаемыми, как камень.
Она знала, что следовало бы ему об этом сказать, но она не могла. Не хотела доверить ему что-то большее, чем свое тело. Пока нет.
Она осторожно просунула руку в его ладонь, отделила сигару от его пальцев и поднесла ее к своему рту. Втянула лишь слегка, ровно столько, чтобы ощутить на вкус влажный след, оставленный его губами на шершавом пергаментном окурке и наполнить рот едким дымом, прежде чем вернуть ему сигару. Дым, который она выдула, растворился в струйке, которую выдохнул в этот момент Рахарио.
– Расскажи мне о твоих детях, – прошептала она. – О твоей жене.
Рахарио потянулся через нее, чтобы погасить сигару в пепельнице. Одним коленом между ее ног, локтем упершись рядом с ее головой, он так и лег на нее, их лица застыли на ширине ладони. Он медлил. Потом накрыл ее губы своими. У Георгины вырвался слабый стон, удивленный и почти жалобный. Она закрыла глаза и утонула в их поцелуе. Затем в следующем и еще одном.
Его руки, его губы так осторожно гладили ее кожу, что это причиняло боль. Она раскрылась навстречу его твердости, и это было так, будто она лежала в его объятиях в лодке, которая мягко покачивалась на реке Серангун, его шепот у нее над ухом был как течение воды, которая лепетала ее имя.
Слезы скопились под веками Георгины, горячо потекли по ее вискам и просочились в волосы.
– Мне надо идти.
Георгина высвободилась из его рук и встала. Ее мускулы дрожали, когда она шла по гладкому деревянному полу, поднимая с него один предмет одежды за другим и натягивая на себя. Повсюду на ее теле, в ее конечностях пульсировало – следы, оставленные руками и губами Рахарио; завтра она будет вся в синяках. Губы ее горели и распухли, между ногами было натерто, и пахло от нее потом и половыми выделениями, мускусными и солеными.
Она надеялась вовремя успеть домой, чтобы принять ванну до того, как Пол вернется со складов.
Стыда или вины она не испытывала. Лишь заоблачное чувство, что взяла то, что было у нее отнято годы назад.
Еще она чувствовала что-то вроде счастья. Своего рода могущество. И налет печали.
– Помоги мне, пожалуйста.
Поставив руки на бедра, она ждала, когда Рахарио подойдет к ней сзади и затянет ленты корсета.
– В другой раз надевай что-нибудь другое. Я тебе не камердинер.
Георгина засмеялась и ступила в кринолин.
– Следующий раз? Ты же получил что хотел. Теперь твоя очередь. Отдай мне назад то, что украл.
Рахарио нещадно дергал верхнюю часть ее платья, поправляя ее и застегивая крючочки.
– Ты что, рассчитываешь, что твой бесценный фрахт сегодня же вечером окажется у ворот склада? Или перед твоим домом на Орчерд-роуд?
Она похолодела.
– Ты знаешь, где я живу?
Он сопел, горячо дыша ей в затылок.
– Я знаю многое, что делается в городе.
Она невольно вздохнула, когда он опустил руки и она смогла отойти от него, чтобы сунуть ноги в туфли и наспех подколоть волосы; нескольких шпилек недоставало.
– Мне все равно, каким образом ты все восстановишь. Просто сделай это.
Он схватил ее за локоть и рванул к себе.
– Не диктуй мне, что и как я должен делать, – прохрипел он, приникнув губами к ее шее. Хватка его ослабла, и он поцеловал ее в затылок, еще влажный от пота, в тонкие волоски, что курчавились над шеей. – Я сам определю, когда твоя вина будет избыта.
Он отпустил ее, и она пошла к двери, на ходу забирая свои вещи со стула. Она чувствовала, как глаза Рахарио сверлят ее спину.
– Не вздумай со мной играть, Нилам. У тебя не получится.
Она больше не обернулась.
Рахарио шел к реке по траве, под его ногами трепетали древесные тени. Он чувствовал себя настолько же ясно, насколько спокойно двигался вперед.
Мирно. Миролюбиво. Новое, незнакомое чувство.
Он остановился под деревом.
Неподалеку играли его дети – Феена и Харшад; игра состояла в том, чтобы шлепнуть другого ладошкой и убежать. Харшад безнадежно уступал старшей сестре, но это не уменьшало его радости, которую он выражал визгом и заливистым смехом. Он то и дело поглядывал в сторону матери, ожидая поощрения, а мать сидела на покрывале в позе портного.
Феена, рослая и стройная для своих четырех лет, за последний год заметно вытянувшаяся, заметила его первой.
Она замерла посреди бега; ее поднятая рука упала и схватилась за подол оранжевого платьица. Лучи на ее лице, еще более круглом из-за собранных в косу волос, открывающих золотые сережки в проколотых мочках ушей, погасли. Она испуганно уставилась на отца, который иногда бывал неприветливым и отсутствующим, а потом снова таким добрым, что это сбивало ее с толку. Часто он внезапно исчезал и не бывал дома так долго, что она успевала его почти забыть, потом он снова появлялся, принося с собой запах соли и воды, древесины и ветра.
– Можно, я присяду?
Голова Лилавати вскинулась. Она кивнула, подвинулась, и он опустился на покрывало рядом с ней. Потупившись, она смущенно гладила свой живот, выпиравший под сари.
Теперь его заметил и Харшад, который, возможно, был еще слишком мал, чтобы страдать от переменчивого нрава отца, а может, просто обладал более безмятежным характером, чем его сестра. Он с радостным визгом побежал к отцу, бросился на него и прижался головой к его груди, чуть не захлебываясь от смеха. Рахарио обнял его и жестом подозвал Феену.
Неуверенно подогнув ногу в щиколотке, она вопросительно взглянула на мать. Лишь в ответ на ее разрешительный кивок она двинулась с места, но села на корточки рядом с матерью, привалившись щекой к ее животу и подозрительно оглядывая Рахарио.
– Как твои дела? Как ребенок?
Лилавати уставилась на него, не веря своим ушам, и ей понадобилось какое-то время, чтобы снова собраться; он еще никогда не спрашивал ее, как дела. Щекам ее стало жарко, и она кивнула, гладя волосы Феены.
– Я тут подумал, что надо взять в дом няньку, как только появится ребенок. Может, даже раньше. Что ты скажешь?
Сердце Лилавати заколотилось; возможно, все еще повернется к лучшему.
– Это было бы очень любезно. Большое спасибо.
– А эти двое должны научиться плавать. Как ты думаешь, Феена? – Девочка вздрогнула и смотрела на него большими глазами. – Отправимся завтра плавать? В реке?
– А я! – возмутился Харшад и поднял голову, а его сестра с сомнением смотрела то на мать, то на отца, недоверчиво сдвинув брови.
– Да, ты тоже с нами. – Рахарио засмеялся, раскачивая мальчика из стороны в сторону. – Ну, Феена, что скажешь? Есть у тебя желание?
Наконец-то ее глаза просветлели, на лице появилась робкая улыбка, и она кивнула.
Лилавати искоса взглянула на мужа. Таким расслабленным, в таком хорошем расположении духа она его еще не видела за все пять лет их брака. Таким доступным.
Ты же сама хотела его любой ценой, этого красивого чужака! Теперь сама видишь, чего ты добивалась! – говаривала ее мать, которая часто приходила сюда с Клинг-стрит, чтобы помочь ей с детьми, и всякий раз обрывала ее, когда она начинала жаловаться.
У тебя нет злой свекрови, которая придиралась бы к тебе, и муж тебя не бьет. Он сказал тебе хоть одно худое слово, когда ты родила девочку, а? Вот то-то же, а это надо ценить, дитя мое, очень дорого! У тебя прекрасный дом, в котором ты можешь делать что хочешь, и слуг у тебя сколько угодно. Помимо денег, которые ты можешь тратить, у тебя еще двое здоровых детей. И тебе этого мало? Чего тебе еще надо? А что делать детей – это тебе не сладость из розовых лепестков и меда, тебе следовало бы и самой знать. Откуда у тебя эти капризы? Уж не от меня точно!
Может, и правду говорят, что боги со временем все устроят.
Лилавати всякий раз делала все возможное, чтобы умилостивить их. Жертвоприношениями, воскурениями и молитвами из глубины сердца, у святилища здесь, в доме, и в храме Шри Мариамман в китайском квартале.
Когда ее муж в последний раз поднимался к ней, чтобы возлечь с ней, он обходился с ней не так грубо; ко времени, когда он зачал ребенка, которым она была беременна, она даже стала находить в этом какое-то удовольствие.
Да, может, боги еще все управят – сбудутся ее мечты о любви и счастье.
Рахарио перегнулся, чтобы погладить Феену по щеке – и та с трудом это вытерпела, разрываясь между отторжением и тоской. Это его движение донесло до Лилавати его запах, аромат моря и корицы, который ее всегда обвораживал, несмотря ни на что. Сегодня он пах немного свежее – как трава, в которой они сидели, как воздух перед грозой. И острее, темнее, как пачули и сандаловое дерево. Как после полового акта.
Она подумала про женщину, которая пришла сегодня утром, она видела ее из окна наверху, как раз когда натягивала на Феену платьице. Женщина, о которой прислуга много перешептывалась.
Потому что это была утонченная неня, со светлой кожей и синими глазами, красивая, как сама богиня Шакти.
Ты не можешь иметь все, дитя мое!
Улыбка, которая только что собиралась развернуться на лице Лилавати, съежилась.
15
Прикрыв веки, Георгина вдыхала запах просоленной и прогретой солнцем древесины. Аромат простыни, местами жесткой и прохладной, местами увлажнившейся и прилипающей к ее голой коже, аромат морской воды и ветра. Душный запах собственного тела – и частично оставленный на ней телом другого.
Рука, которая неторопливо поглаживала ее спину – то вверх, то вниз, – повторяя изгибы ее позвоночника и ложась на ее ягодицы, заставляла ее по-кошачьи урчать, подушечки его пальцев и мягкие выпуклости ладоней, а также более жесткие, шершавые мозоли. Та же рука, которая на пару с другой только что стискивала ее так крепко, что койка уходила из-под нее от наслаждения и похоти.
Волны вяло плескались о стенку, погружали кровать в равномерное, мягкое покачивание. С палубы слышались голоса, невнятное бормотание и разговоры, взрывы внезапного смеха.
Дайан – правая рука Рахарио и, должно быть, его ровесник; лицо, задубленное ветром и солнцем, темное, как крепкий чай. Его угольно-черные глаза вспыхивали, когда он шутил с Георгиной или говорил о погоде и показывал ей с палубы дельфинов, которые резвились в волнах на некотором отдалении, а однажды даже величественно скользящего по воде кита.
С Тиртой и Иудой она почти не говорила. Молодые мужчины повязывали свои длинные волосы лентой, чтобы не лезли на их бронзово-коричневые лица, и ограничивались тем, что приветливо ей улыбались, иногда заговорщицки подмигивая.
Ею ненадолго овладевало смущение при мысли, что мужчины наверху, пожалуй, могли что-то слышать, щеки ее от этого начинали гореть, но быстро снова остывали; удивительно, к чему только не привыкаешь со временем. Это почти пугает.
– Что подумают твои люди о том, что ты притащил на борт свою белую возлюбленную? – с улыбкой шептала она.
Хриплое дыхание Рахарио овевало ее затылок.
– Им платят за работу. А не за то, что они думают.
Ее улыбка углубилась:
– Ты больше не отваживаешься остаться со мной на корабле с глазу на глаз?
Его зубы зарылись в место между затылком и плечами, и она содрогнулась. И, словно утешая, по этой линии прошелся его язык.
– А как бы я мог довериться неверной жене? Обманщице?
Георгина закаменела и открыла глаза.
– Я могу тебя успокоить, – пробормотал он, не отрывая губ от ее кожи. – Они не считают тебя белой неней. Для них ты по меньшей мере наполовину малайских кровей. Как для меня тогда.
Он прижался пылающим телом к ее спине, дал ей почувствовать, что хочет ее еще раз.
– И никто из них не относится так уж серьезно к супружеской верности, когда мы долго в море.
Георгина оттолкнула его и повернулась.
– Ты так считал? Раньше? Что я наполовину малайка?
Он оглядел ее, сдвинув брови.
– А как еще я должен был считать?
Он прошелся пальцами по своим волосам – этот жест действовал на нее так же возбуждающе, как и его интонации.
Георгина смотрела в пустоту перед собой, потом снова подняла глаза:
– Это… это изменило бы что-нибудь между нами? Тогда?
Ему не понадобилось отвечать, она видела это по нему, и желудок ее холодно сжался.
– Я не знала, – прошептала она.
– Но сегодня это уже не имеет значения.
В его голосе прозвучало раздражение, он стал искать свою рубашку, свои брюки.
Георгина смотрела на него подавленно.
Так и было теперь между ними. Взаимное подстерегание и кружение, выжидательное и недоверчивое, почти враждебное. Которое внезапно пробивало дорогу к страстной борьбе, в которой они вцепились друг в друга зубами и когтями. Только измотанность после этого допускала что-то вроде близости, вроде нежности. Пока один из них не наносил удар в спину, а другой отвечал тем же, и они снова и снова вредили хрупкому миру между ними, который в любой момент мог обернуться войной. В доме на Серангун-роуд и здесь, на борту этого корабля. В двух этих раковинах, просторных и светлых и все же обладающих ностальгической интимностью.
С тоской по всем украденным у них дням, начиная с той встречи, прерванной на полгода, когда Рахарио ушел в море, а Георгина осталась с замершими чувствами и опустошенная.
Холод в ее животе растаял от внезапно вспыхнувшего жара.
– Ты не сдержал обещание.
Он поднял брови.
– Ты не вернул украденный фрахт и не позаботился, чтобы тауке, с которыми фирма делала свои дела раньше, снова вернулись к ней.
Тот участок земли, на котором Пол пытался выращивать перец и гамбир, он продал. И даже с выгодой, но не за ту цену, которую получил бы, если бы выждал еще год-другой, для этого участок находился далековато за городом. Фирма Финдли, Буассело и Бигелоу держалась храбро, но прихварывала; Пол тяжело переносил этот груз.
Рахарио засмеялся – сухим, противным смехом, лежа натянув брюки и снова сев на край койки.
– Я тебе уже сказал однажды, что это не моя вина, что твой муж ничего не смыслит в делах.
– Ты обещал.
Его глаза впились в нее.
– Так уж оно с этими обещаниями. Некоторые не получается сдержать. – Рот его дрогнул, и он натянул на себя рубашку. – Если хочешь, могу подкинуть тебе пару долларов. За компанию, которую ты мне сегодня составила.
Георгина взвилась, размахнулась для удара, но он оказался быстрее и бросился на нее. Стиснув ее запястья, он прижал ее вниз и лежал на ней так тяжело, что она едва могла дышать.
Сжав зубы, они молча смотрели друг другу в глаза, ожесточенно меряясь силами и волей, в этой борьбе то и дело вздрагивал какой-нибудь мускул, но никто не хотел уступать. Пока Рахарио не ослабил хватку и его лицо не приблизилось к ней как для поцелуя.
Георгина отвернула лицо в сторону.
– Уедем, Нилам, – прошептал он ей на ухо. – Куда-нибудь, где нас никто не знает. Нусантара большая. Если хочешь, выйдем в море еще сегодня и никогда больше не вернемся.
Георгина закрыла глаза. Его слова исполняли ее мечту, которую она носила в себе с тех пор, как была маленькой девочкой. С тех пор, как сидела на скале в саду перед Л’Эспуаром, глядя на море и ожидая его возвращения. Она разминала в себе отзвук его слов, слово ДА уже обустраивалось на ее языке.
– Я не могу, – прошептала она наконец и открыла глаза. – Ведь у меня двое мальчиков.
– Тогда возьми их с собой! Им понравится на корабле.
Болезненная улыбка скользнула по ее лицу.
Твой сын не мог бы и представить себе ничего лучше, это да. Он любит море так же сильно, как и ты. Но не Дэвид. Не сын Пола, который так же прикован к суше, как и его отец. Он предпочитает лазать по деревьям, чем идти плавать, и всем сердцем привязан к своему пони.
– Я не могу, – повторила она, задыхаясь от печали.
Рахарио выдохнул и отпустил ее, медленно встал. Он казался усталым, таким же измотанным, какой чувствовала себя Георгина. Может, они оба уже были не настолько молоды для такого рода страсти, когда сталкиваются моря похоти и ненависти, завихряясь в ревущую, коварную воронку.
Она села и подтянула к груди колени.
– А ты? Разве ты смог бы просто так бросить своих детей? И жену?
Рахарио молчал, полуотвернув лицо.
– Пол не плохой коммерсант, – тихо сказала она. – Он хороший отец обоим моим сыновьям. И хороший муж.
Глаза Рахарио обратились к ней, открытые и блестящие.
– Тогда почему ты здесь? – хрипло прошептал он.
Взгляд Георгины блуждал в пустоте. Да. Тогда почему она здесь? Этого она не знала.
Она помотала головой, соскользнула с простыни, взяла саронг и стала его надевать.
– Отвези меня на берег.
Она чувствовала на себе его взгляд, натягивая рубашку, потом кебайю.
– Я сказал это всерьез, Нилам, – тихо произнес он. – Давай уедем. Куда хочешь. Ты и твои сыновья.
Она раскрыла рот, чтобы ответить, но он перебил:
– Нет. Не сегодня. Через полгода. Когда я вернусь. Только тогда я хочу получить от тебя ответ.
Георгина молчала, поправляя кебайю. Руки ее дрожали.
– Скажи… – с сомнением начал он и потом продолжил решительно – как отрезал: – Скажи мужу, пусть скупает дома на Апер Серкелэ-роуд. Там в скором времени начнется бум.
Она встала, разгладила на себе одежду и ответила:
– Отвези меня на берег.
Гром раскатывался неспешно. То и дело поднимались порывы ветра, с треском разрывая парной воздух, набегая с разных сторон, но все с более дальнего расстояния. Только дождь барабанил с неизменной силой, плескался по крышам и полоскал листву, бурлил и клокотал на красной земле сада на Орчерд-роуд.
– Дурацкий дождь, – проворчал Дэвид, сморщил курносый нос и толкнул ногой сигарную коробку, так что она поехала по полу.
– Эй, – ласково окоротил его Пол и нежно потрепал по затылку. – Я бы сейчас тоже лучше поиграл с тобой в мяч в саду. Но зато я вам что-то принес.
Он сидел с мальчиками на полу, где за минувшие часы возникла постройка из сигарных коробок, жестяных банок и кубиков вдоль трассы, по которой предстояло проложить новую железную дорогу. Красной, зеленой, синей и черной красками поблескивали два локомотива, их тендеры и многочисленные металлические вагоны только и ждали, чтобы проехать через туннели из сдвинутых стульев. Вокзалами служили коробки, в которые были запакованы поезда, а оловянные солдатики были встречающими, уличными торговцами и крестьянами в поле.
Железная дорога была непростительно дорогой, но Полу хотелось отпраздновать сегодня удачное завершение сделки. Он хотел возместить мальчикам то, что так мало видел их в последнее время, и он специально для этого освободил себе вторую половину дня.
– Вот еще есть место, – сказал Дункан и указал на пустующее пространство у воображаемых путей.
Лицо Дэвида просияло:
– Крепость! Нам нужна еще одна крепость! – прошепелявил он через свежую щербину от уже второго выпавшего зуба.
– О да! – с воодушевлением согласился Дункан.
Мальчики, как пружины, подскочили вверх, стали собирать коробки от сигар, кубики, которые они вообще-то уже переросли, и принялись сооружать крепость по своему вкусу. К их голосам, которые с серьезностью специалистов обсуждали, что должно быть в каком месте крепости и как должны выглядеть детали, примешались голоса, доносившиеся снизу.
Пол встал и пошел к двери.
В кебайе, промокшей на плечах, с сырыми, небрежно подобранными волосами по лестнице поднималась Георгина, босая, держа в руках легкие туфли. Она выглядела измученной, лицо затуманилось, как бывает в задумчивости.
– Привет.
Она вздрогнула и выдавила улыбку.
– Пол. – Улыбка плохо держалась и криво сползла. – Ты уже дома?
– Как видишь. – Резкость в его голосе смягчилась до неуверенности, и он упрятал руки в карманы брюк. – Картика мне сказала, ты в городе.
При этом Картика казалась смущенной, избегая смотреть ему в глаза. Как будто боялась, что он потребует ее к ответу за то, что мэм ездит без ее сопровождения и что она не может сказать, когда мэм вернется.
– Да. – Георгина потупилась. – У меня были кое-какие дела.
Он озадаченно поднял брови, рассматривая ее кебайю и саронг:
– Дела – в таком виде?
Она пожала плечами:
– Я спешила и думала, что мигом обернусь.
Пола охватило беспокойство, он переступал с ноги на ногу; наконец протянул к ней руку:
– Иди сюда, – мягко сказал он.
– Жара меня доконала, я вся пропотела. Я освежусь быстренько, хорошо? – Она слабо улыбнулась и побежала в сторону ванной.
Дверь за ней захлопнулась.
– Идем играть, папа! – окликнул его Дэвид.
– Сейчас.
Это была его вина, что Георгина стала ему чужой? Раньше такие ясные, теперь ее глаза часто казались затуманенными, как море облачным утром, мыслями она уносилась куда-то далеко за океан. За завтраком и за ужином она сидела за столом так, будто уже не была членом семьи, ее уносило течением все дальше и дальше, как плавник.
Красивая незнакомка, которая спала в его кровати и обыденно отвечала на его нежности, когда его время от времени все-таки охватывало вожделение. С его стороны это был скорее инстинкт, чем глубоко прочувствованное желание, он сам делал это скорее механически, чем с охотой. Слишком много мыслей кружилось в его голове, отвлекая его, и тело под его ладонями было хотя и дружелюбно, хотя и не отторгало его, но оставалось бездушным, лишенным огня.
Горячая рука легла сзади на его ногу, и он опустил взгляд. Дункан приник к нему, прижался головой к его боку и смотрел на него снизу вверх, словно утешая. Рука Пола, собравшись было лечь на его гладкие волосы, замерла на полпути.
Он разглядывал глаза мальчика, серебряные, как лунный свет, и выразительные дуги бровей над ними. Крепкий нос и полные губы. Линию подбородка, которая после смены молочных зубов, стала резче, очерченнее.
Если бы не этот мальчик, вряд ли он когда-нибудь заполучил бы Георгину. Этого мальчика он сопровождал при его рождении на свет и обещал быть ему отцом, не будучи ему родным по плоти и крови. Он с самого начала знал, что это будет нелегко.
Сын Георгины и другого мужчины.
Темная догадка поднялась внутри Пола, уплотнилась и больно давила на грудину, затруднив на миг его дыхание.
Он опустил ладонь и погладил почти черные волосы мальчика.
Но поздно; Дункан строптиво отвел голову и оторвался от него.
Побежал назад к брату – строить крепость. Сдвинув брови, с не по-детски горько сжатыми губами, с матово-серыми глазами, жесткими, как речная галька, и Полу стало тяжело на сердце.
16
Пол стоял в своем рабочем кабинете и в который раз перепроверял бумаги и письма, которые разложил по всему столу. Плоды его стараний, его изысканий за прошедшие месяцы. Ответы на письма, которые он сам рассылал по доброй половине земного шара. Он все продумал, все учел.
Подробно обсуждал с Гордоном Финдли. В короткие обеденные перерывы, которые из-за этого непомерно затягивались. За стаканчиком после работы. По воскресеньям, когда после церкви они обедали дома в Л’Эспуаре, а Георгина после десерта была с мальчиками в саду или уходила с ними поплавать.
То, что тесть не только соглашался с его мыслями и соображениями, но и одобрял их, укрепляло его в решимости.
Он знал, что все делает правильно, но никакого облегчения так и не наметилось.
По всему дому прогромыхали глухие удары, когда мальчики на полном скаку пронеслись вниз по лестнице. Их оживленные голоса приблизились, потом отдалились, и затем он услышал их с улицы.
Он подошел к окну, и улыбка пробежала по его лицу.
С ликующими криками они носились в пыльном, пастельно-мягком свете сада по траве, среди цветущих кустов. Короткие штанишки, закатанные рукава свободных рубашек открывали их стройные смуглые конечности, которые так и лопались от энергии и жизнелюбия. Явно счастливые тем, что на сегодня они избавлены от сидения за книгами, они гонялись друг за другом, толкались с грубоватой сердечностью, и их смех фонтанировал, доставая до свисающих ветвей старых деревьев.
Два брата как день и ночь, как луна и солнце. Столь же противоположные, сколь и неразделимые.
Пол уже не мог себе представить свою жизнь без них обоих. Без Георгины.
Если получать по одному пенни за каждый раз, когда я спрашиваю себя, что же, боже мой, творится в этих женщинах, – часто говаривал его старший брат Джон с мрачной миной, когда свидание с девушкой ввергало его в глубочайшее замешательство, – то я бы уже был богат, как Крез.
Это он еще не знал такую женщину, как Георгина.
Когда-то давно Пол, думая о том, что когда-нибудь женится, заведет свой дом, родит на свет детей, представлял себе милую, хорошенькую девушку. А получил неукротимую природную стихию, с которой не знал, как справиться.
За почти десять лет брака не было такого периода, когда бы он чувствовал, что укротил, заземлил Георгину. Это был бы ложный вывод. Этот океан, которым была Георгина, мог временами казаться гладким и мягким, но он был непредсказуем, полон коварных мелей, течений и неизмеримых глубин. Пока еще он мог как-то держаться на поверхности, однако силы его иссякали: он боялся в ней утонуть.
– Картика сказала, ты хочешь поговорить со мной?
Пол глубоко вздохнул, прежде чем повернуться.
В саронге и кебайе она стояла в дверном проеме, немного неуверенно, немного нетерпеливо. В ее синих глазах плавал невысказанный вопрос, почему он в это время дня был не на складе.
– Да. – Он вымучил из себя улыбку, колеблясь, то ли остаться здесь, в кабинете, то ли пойти с ней в салон, а может быть, на веранду, но в конце концов опустился за письменный стол.
Ему стоило труда посмотреть ей в глаза.
– Речь пойдет о наших мальчиках. Они должны пойти в школу.
– Но почему? – Она была всерьез удивлена. – Они и без того давно умеют читать, писать и считать. Оба бегло говорят по-английски и по-малайски и в изучении французского делают успехи. Дункан даже может объясниться на южно-китайском хок-кьень. И я с ними учусь каждый день.
– Этого недостаточно. Им необходимо настоящее образование. И подобающее воспитание.
В том, как она втянула воздух, он расслышал, как больно задел ее этим.
– Твоя тетя и ее муж были так любезны, что нашли для них подходящую школу. Через две недели Дункан и Дэвид отправятся в Лондон.
– Нет, ни за что! – В ней внезапно поднялась волна гнева, из глаз посыпались искры. – Если так надо, пусть идут в школу здесь, в Сингапуре!
– С китайскими детьми? С малайскими?
– Да, а почему нет?
Его ладони, беспокойно бегавшие по бумагам на столе, сжались в кулаки.
– Об этом не может быть и речи! Для тебя, возможно, было и достаточным расти здесь, наверное, поэтому ты и смотришь на все другими глазами. Может быть, тебе не хватает необходимого кругозора. Но я думаю о будущем. И если они захотят чего-то добиться в этом мире, им понадобится основательное образование. – С каждым словом он обретал все более твердую почву под ногами и заговорил свободнее: – Я так решил на благо обоих. Они поедут в Англию.
– Мой отец никогда не позволит тебе послать своих внуков на чужбину.
Этот аргумент обладал не столь большим весом – ввиду ее собственной истории, и все же она бросила его на чашу весов.
– Твой отец целиком и полностью на моей стороне. Образование и для него всегда было огромным благом, тебе следовало бы это знать.
Из ее горла поднималось глубокое, мрачное шипение.
– Ты не отнимешь у меня детей!
Костяшки его пальцев побелели, сжатые до боли, когда он нанес ей удар в самое сердце:
– Ты поедешь с ними.
Доски пола обратились в пыль и расступились под ее босыми ногами.
– Только не это, – прошептала она.
Он старался сохранять спокойствие. Оставаться деловым.
– Я пытался уговорить твоего отца, чтобы он отвез их в Англию или сопровождал вас троих. Он давно не был в отпуске, уже не один десяток лет не был на старой родине. Какое-то время я мог бы справиться с делами и один. Но он не хочет, он считает, что здесь без него не обойтись.
– Нет, Пол. – Она медленно покачала головой; ее гнев, казалось, рассеялся – может быть, парализованный ужасом, на мгновение. – Я не вернусь в Англию. Никогда больше. Я не поеду с ними. И ты не можешь принудить меня.
– Неужто ты любишь этот остров больше, чем своих детей? – Его глаза сверкнули от холодной, едва скрываемой ярости. – Какая же ты мать после этого!
В ушах у Георгины шумело, будто волна за волной в ней бушевал гнев.
– Ты бессердечное чудовище!
Она резко развернулась и выбежала вон. Через холл, на гладком полу которого чуть не поскользнулась, прочь из дома, в сторону конюшни и кликнула саисов, чтобы запрягали. Пол выбежал за ней следом, выкрикивая ее имя, но она не остановилась, не оглянулась.
Как молния бьет в землю резко, ослепительно и со всей силой, так она приняла решение. После того как недели напролет терзалась вопросами и сомнениями; через массивную гряду темно-серых туч, набрякшую на небе грозой, но никак не желающую разразиться.
Она не станет ждать, когда Пол зашлет ее и сыновей на корабле в Англию. Она не останется больше в этом доме, который так и не стал ей домом. Не останется с этим мужчиной.
Сумеречный свет конюшни окружил ее, и фырканье лошадей, теплый, уютный дух соломы и тел животных; сладкое предвкушение – взять в свои руки собственную жизнь.
– Куда ты собралась? – Пол схватил ее за локоть и рванул к себе.
– Отпусти! – Она пыталась высвободиться из его хватки, отбивалась от него свободной рукой, пинала его по ногам, теряя равновесие.
Он грубо прижал ее к стене и держал обеими руками, как она ни крутилась, ни дергалась. Краем глаза она увидела лицо саиса с испуганно расширенными глазами, выглянувшее из-за угла и тут же снова исчезнувшее; в такой ссоре между туаном и мэм лучше не попадать между фронтами.
– Ты не можешь меня запереть! – выкрикнула она ему в лицо.
– Я и не собираюсь тебя запирать. Черт возьми, Георгина, неужто ты не можешь меня понять? – Он выглядел яростным и озабоченным, глаза сверкали обидой. – Я же это не для того, чтобы помучить тебя!
Высокие накаты волн ее гнева слились, собрались в поток, который неумолимо поднимался все выше и выше, увлажнил ее глаза, придав им дымчато-голубой оттенок.
– Я не могу вернуться в Англию. Пожалуйста, Пол! Все, только не это.
Он прижался лбом к ее лбу.
– Подумай о наших мальчиках, Георгина. Я знаю, что требую от тебя огромной жертвы. И даже если ты мне, может быть, и не веришь, для меня это тоже жертва. Но я прошу тебя, думай в первую очередь о них двоих. Тут они просто не получат необходимого образования. Чтобы из них со временем что-то вышло. А в тебе они будут нуждаться первое время. На то ты их мать.
Ее мускулы ослабли. Дрожащими ладонями он гладил ее плечи, потом обхватил ее лицо.
– Не думай сейчас о себе. Или обо мне. Только о наших мальчиках. Пожалуйста.
Слезы текли по ее щекам.
– Я не могу, Пол. Я просто не могу.
Георгина начала плакать, громко и безудержно, из глубины души, из горя, корни которого уходили в далекое прошлое. Которое она уже позабыла, которое считала давно зажившим.
Больше не сопротивляясь, она дала Полу прижать ее к груди и сама приникла к нему.
– Я знаю, – бормотал он, не выпуская ее из объятий. – Я знаю.
Как будто и правда знал, отчего она страдала.
Сингапур сиял в слепящем свете солнца, которое рассеивало последнюю дымку раннего утра и до блеска натирало воздух.
Ничего не видя от слез, Георгина смотрела на зеленый холм острова. На ковер из белых крытых черепицей домов, который был намного плотнее и намного протяженнее, чем в тот год, когда она возвращалась сюда больше десяти лет назад. Шум в порту был оглушительный и головокружительный, куда громче, чем в ее воспоминаниях; она боялась, что больше не узнает Сингапура, когда вернется.
Второй раз ей приходилось прощаться с родиной. И хотя это прощание протекало мягче, менее коварно и насильственно, но казалось ей более болезненным. Она шла к нему с открытыми глазами, с каждым днем, наполненным приготовлениями, в полном сознании часа прощания, который был все ближе, и его неотвратимости.
Пароход нетерпеливо вздрагивал под ее ногами. Георгина разделяла это нетерпение; она не хотела затягивать прощание.
Она проморгалась, чтобы лучше рассмотреть флаг на мачте Губернаторского холма и дом губернатора.
До свидания. Не забывайте меня.
Где-то позади него стоял в ряду Орчард-роуд и ее дом Боннэр между своими нарядными соседями, к которому она без сожаления повернулась спиной сегодня утром. Л’Эспуар, где она вчера простилась с отцом, на сей раз без труда бросился ей в глаза; слишком темным, слишком диким прорисовывался лесок за стеной вдоль Бич-роуд.
Светло блестел новый корпус Сент-Андруса на Эспланаде, еще не готовый и окруженный строительными лесами. Церковь будет великолепной, больше двухсот футов в длину, и, может быть, со временем забудется, как долго не могли начать восстановление, как медленно продвигались работы.
Вода на мельницу насмешливых сограждан. Богатая пища для суеверия китайцев, что это место проклято. Злые духи, что гнездились там, были настолько могущественны, что белые покинули свой храм и исполняли свои ритуалы где-то в другом месте. Настолько могущественны, что старый храм пришлось разрушить, и правительство приказало индийским арестантам ночью отправиться на улицу на ловлю человеков и отрубленными головами китайцев ублаготворить духов, чтобы можно было построить новый храм.
Ее тайный знак с детства, ее путеводную звезду снесли и лишь частично восстановили, это было символом разделенного сердца Георгины, которое оставалось в Сингапуре, тогда как одновременно сопровождало сыновей в Англию.
Они на удивление сдержанно отнеслись к предстоящему переезду. Для обоих это, судя по всему, было приключением, которого они только и ждали: они поедут к нему не только на пароходе и железной дорогой, но еще и увидят египетские пирамиды, а когда-то еще и снег и лед, который будет не из ледника. Наверняка в этом было обольщение, чтобы спокойнее перенести прощание с дедом и отцом; самые большие слезы Дэвид проливал по своему пони. Может быть, они еще не понимали весь масштаб разлуки, а может быть, просто храбро положились на неотвратимость.
Оба подбежали с громким топотом и прижались к матери. Лица разгорячились от быстрого бега и от солнца на палубе после того, как они повертелись всюду среди пассажиров и подивились на все, что можно было увидеть на таком корабле и с его борта.
Дэвид обрушил на Георгину речевой поток, в котором фигурировали такие размерности, как вот такооой большой, вот такооой высокий и огромный, тогда как Дункан молча прижался к ней и блестящими глазами рассматривал берег.
– Когда я вырасту, – пробормотал он, осипший от волнения и счастья, – я тоже буду плавать по морю.
– Да, ты будешь, – прошептала она и прошлась пальцами по его волосам со странным тянущим чувством в груди.
Пол не сводил глаз с парохода. Сампан увозил его к берегу, в порт, который в той же мере приближался, в какой отдалялся пароход, становясь все меньше. Ему казалось, что он все еще может различить Георгину, как она стоит у релинга в длинной и пышной бело-голубой юбке и широкополой шляпе.
Он не обращал внимания на взгляды пассажиров, когда на палубе прижимал к себе Георгину и целовал ее в щеку. Она в его объятиях казалась закаменевшей, как кукла – даже и тогда, когда он пообещал приехать навестить их при первой возможности. Он надеялся на ласковое слово, когда ее губы приблизились к его уху, чтобы что-то шепнуть ему.
Этого я тебе никогда не прощу.
Он опустил голову и тер глаза, моргал и хмурил брови, делая вид, что его слепит солнце, которое било с неба и со сверканием разбивалось о волны.
Он сделал все правильно, он знал это, хотя и не чувствовал утешения. Он сделал то, что должен был сделать, чтобы спасти свой брак. Сохранить семью.
Чтобы уберечь Георгину от безумия, которое овладело ею и в которое она неудержимо соскальзывала. В котором он боялся ее потерять.
Недавно его дружески принимал у себя на складе Вампоа. За чашкой чая и сигарой они сидели перед дверью и смотрели, как кули разгружают лодки с товарами для предприятия Вампоа, а мимо проходили уличные торговцы и наперебой предлагали купить у них утку и курицу, устриц, кожаные кошельки и резные трости. Когда они обсуждали возможные деловые отношения между их предприятиями, Пол между делом осведомился о малайце, который в тот вечер, кажется, тоже был приглашен к Вампоа, но покинул общество еще до того, как его заметили. Пол не рассчитывал на то, что Вампоа еще помнил о том спустя три года, но он недооценивал память тауке.
Рахарио. Теневой человек. Кукловод.
Beachcomber, прочесывающий побережья и море на предмет сокровищ. Скорее береговой разбойник, чем настоящий торговец, однако разбогатевший на этом.
Гудок парохода в море грозно дал сигнал к отправлению, и когда сампан свернул в устье реки, пароход скрылся из виду. Грязным, шумным, пряным водопадом на Пола обрушилась деловитость реки Сингапур.
Он потерял доверие Георгины, ее внимание, это он знал. Может быть, она даже его ненавидела.
Да пусть бы она вонзила когти ему в грудь, отныне и на всю жизнь, он бы смог это перенести. Но не смог бы, если бы она вырвала у него сердце из живого тела и растерзала его.
Ибо она вожделела другого тигра, не его. Тигра, который уже однажды вонзил когти в ее сердце и глубоко ее ранил.
Никто не мог бы от него требовать, чтобы он бессильно взирал на то, как это происходит с ней снова.
17
Раскаленный день давил на реку Серангун.
Река вяло текла, безрадостно ловя осколки солнечного света и выпуская их на волю. Лишь изредка колебание воздуха прикасалось к листьям деревьев, из-за жары лишенным блеска, вызывая сухой ропот, который звучал подавленно.
Рахарио неподвижно стоял на веранде и смотрел сквозь сад на реку. Глаза его вспыхивали, когда в поле его зрения проносился зимородок или стрекозы, с шелестом цепляющие друг друга, но взгляд его оставался на месте, не провожая их.
Покой, наполнявший его, не был мирным, он походил скорее на безбрежную пустоту, а может быть, на затишье пред бурей; он сам этого не знал.
В своей последней поездке он не давал себе передышки, подгоняемый тоской скорее вернуться в Сингапур. Голодной надеждой, пьянящей алчностью.
В непривычной лихорадке он разгрузил корабль, доставил сокровища покупателю. Беспокойно ходил по дому в напряженном ожидании дня, часа, который принесет ему ясность. И дождался ее от посыльного, которого выслал в конце концов на Орчард-роуд.
Она уехала. В Англию. Надолго.
Не оставив ни слова. Ни знака.
Ему следовало бы это предвидеть. Тигр не смоет свои полосы, даже если искупается в реке.
А он чуть было не свихнулся. Околдованный ее голосом, ее глазами, сине-сиреневыми, как дикие орхидеи на реке. Ее телом, изменившимся со временем, но все равно неизменным. Дышащее, пульсирующее воплощение души – она была как океан, в который он вновь и вновь погружался с желанием затеряться в нем. Он чуть было не забыл и чуть было не простил, чуть было не пустил по ветру всякую мысль об отмщении.
Поток ненависти, излившийся в него, черный, глубокий и мертвящий, был как облегчение.
Шорох шелка приблизился, дуновение розового масла и сандалового дерева.
– Не хочешь ли ты чего-нибудь поесть? Почти не притронулся ни к чему с тех пор, как вернулся.
Он искоса взглянул на Лилавати. Она была бледна, но причиной могло быть ее кобальтово-синее сари, бирюзовое свечение ее чоли. В больших ее глазах мерцала озабоченность.
– Оставь меня в покое, – сухо ответил он.
Лилавати помедлила, потом подошла на шаг ближе, робко коснулась его локтя.
– Это все из-за той белой нени, да?
Он отпрянул, взвился:
– Поди прочь с глаз моих!
Лилавати отважно выдержала его огнедышащий взгляд, на ее мягком лице обозначился след решимости.
– Она тебя заколдовала.
– Я сказал, поди прочь с глаз моих! – проревел он, готовый к прыжку и оскалив зубы.
В кротких глазах Лилавати тлел огонь, но она покорно опустила голову и удалилась, шорох ее сари, мягкий звук прикосновений ее босых ног к дереву был как волны, которые стекали по песку, и он снова смог дышать.
Лилавати стояла у комода и вытирала мокрые щеки. Дрожащими пальцами она раскрыла шкатулку с драгоценностями, подняла вставку и вынула из-под нее письмо. Твердая белая бумага была помята и захватана потными пальцами – она часто разворачивала и разглядывала листок.
Его принес посыльный, когда ее муж был в море. Письма никогда не приходили в Кулит Керанг, приходили только посыльные с устными сообщениями. Лилавати не умела читать; у нее не было ни времени, ни досуга сидеть на веранде с книгой, как это делал иногда ее муж.
Но она была уверена, что это письмо было от женщины, это она заключила по оживленному, почти чувственному почерку.
Спрятав письмо в складках сари, она заспешила прочь.
Пламя лампады дрожало и коптило, когда Лилавати упала на колени перед святилищем. Она любовно поправила свежие цветочные гирлянды, которые сегодня утром возложила на фигурки Шакти и Кришны, и отогнала мух, которые собрались полакомиться красивой раскладкой из риса, фруктов и разноцветных сладостей. Из металлической чаши в середине святилища она выгребла увядшие цветы и небрежно отбросила их в сторонку. Осторожно зажгла палочку воскурений и воткнула ее в жертвенные дары. Аромат сандалового дерева, лаванды и пачули распространился по комнате и проник ей в самую глубину души.
Лилавати достала письмо и поднесла его к пляшущему язычку лампады. Уголок письма затрещал и окрасился коричневым, потом черным, вспыхнул и взялся пламенем. Огонь алчно расползался по бумаге и начал ее пожирать, и Лилавати бросила горящее письмо в чашу.
Молитвенно сложив ладони, она склонила голову и просила богов, чтобы ее муж ночью снова возлег с ней и подарил ей еще одного ребенка. Возрожденную душу маленькой девочки, которая народилась в позапрошлом году и прожила всего несколько недель. В который уж раз она усердно попросила богов, чтоб размягчили каменное сердце ее мужа, чтобы она могла завоевать его для себя.
И она молила богов наконец-то разрушить чары той белой нени.
Море, в котором Кулит Керанг стоял на якоре, было в эту ночь маслянистым и вязким. На юго-востоке, вдали от портов острова, где швартовались и становились на якорь пароходы и шхуны.
Здесь было тихо и темно, на этом участке побережья, на котором люди давно спали, погасив последний огонек, потушив последний костер; и рыбацкие лодки снова выйдут в море лишь перед самым рассветом.
Закинув руки за голову, Рахарио лежал на койке и разглядывал игру теней, что развертывалась на потолке и на стенах от мерцающей лампы. В мускулах он чувствовал нетерпеливое жжение; он тосковал по открытому морю.
Наверху на палубе он слышал голоса матросов, которые проводили время в ожидании подходящего ветра, уже начинающего давать о себе знать. Еще немного – и они устремятся в море, словно гарпун в руке оранг-лаут, к звездам и дальше.
Внезапно голоса повысились до громких выкриков, до рева; послышался глухой удар, треск, и корабль задрожал.
Рахарио с проклятиями вскочил, схватился за кинжал и пистолет.
Матросы тоже ругались на чем свет стоит и махали кулаками в сторону приземистой тени, которая в серебряном свете звезд отчаливала от корпуса Кулит Керанга. То была китайская джонка, плавающая под темными парусами.
Проворно, как обезьяна, Дайан вскарабкался на палубу с каната, по которому спускался, чтобы осмотреть корпус.
– Ничего страшного, туан. Всего две-три царапины. Днем при свете я присмотрюсь получше. – Он бросил взгляд в сторону другого корабля и презрительно сплюнул за релинг. – У кого-то не хватило ума как следует поставить на якорь эту ореховую скорлупку!
Запыхавшись, на палубу выскочили снизу Тирта и Иуда:
– Внизу тоже никаких повреждений, туан!
– Все в порядке, туан!
Рахарио прочесал пальцами волосы; его корабль был для него святыней. Его невестой, его спутницей. Его кровным близнецом.
Он посмотрел на другой корабль, который тяжело покачивался на волнах. Без фонаря на палубе и, судя по всему, без команды на борту.
– Темные паруса, туан. И в стороне от портов. – Тирта слегка толкнул его локтем: – Как ты думаешь, чем он гружен?
Старая лихорадка охоты жарко пронеслась по жилам Рахарио. Его рот подрагивал. Он оглядел команду, одного за другим: у каждого в глазах тлел тот же огонь.
– Ну что, давайте посмотрим?
Вокруг него засверкали более или менее полные ряды зубов, он снял урожай одобрительных ухмылок.
В воздухе засвистели веревки, железные крюки цеплялись и сокращали промежуток, наматываясь вокруг мачты и рангоутов. Оба корабля мягко скользили друг к другу, сближаясь бортами. Гибко, как кошки, и беззвучно, как тени, мужчины сменили корабль.
В трюме они ощутили едкий, душный и сладковатый запах, который царапал глотку Рахарио. Так же пахло у китайских складов на лодочном причале. И на Пагода-стрит, неподалеку от храма, к которому он иногда сопровождал Лилавати, когда ей нужно было там помолиться или поучаствовать в одном из множества ритуалов ее веры.
Опиум.
Как драгоценная жемчужина, уложенная в мягкую обивку зеленых холмов, садов и джунглей, лежал Сингапур в море, белый и сверкающий. Жемчужина, на которой все же виднелись изъяны, трещинки и коричневые пятна.
Неимущие моряки бродили по причалу в поиске капитана, который захотел бы нанять их на борт. Обносившиеся оболтусы из Австралии, доставившие сюда кораблями лошадей и поглядывающие, где бы еще заработать или хотя бы развлечься. Смутные фигуры, которые подсыпят вам в шнапс снотворное, ограбят, еще и побьют. Вдоль лодочного причала на южном берегу и на задворках китайского квартала росли как грибы из сырой земли притоны. Как плесень все дальше расползались серой пленкой и рассылали свои споры в душно-жаркий воздух бордели и игорные норы. И опиумные курильни.
Огромными партиями британцы импортировали опиум из Индии. Основная часть отсюда переправлялась в Китай, в другие страны Азии, меньшие количества уходили в Европу и Америку. Но много опиума оставалось и здесь, в Сингапуре, и налоги на него, пошлины за лицензии, которые требовались китайцам для его перепродажи, наполняли казну города. Ни для кого не было тайной, что Сингапур был обязан доходами не столько прилежанию своих граждан, сколько порокам опиума, араки и азартных игр. И не менее широко было известно, что опиум делал тауке еще богаче, а клан Конгси еще могущественнее.
Спрос на опиум был огромный. Богатые китайцы наслаждались им в часы досуга; предложить трубку опиума гостям к чашке благородного чая было само собой разумеющимся выражением гостеприимства и хорошего тона. Но были и бедняки, ремесленники и кули, лодочники речных тонг-кангов и сампанов, для которых опиум был эликсиром жизни, важнее ежедневной миски риса.
Получить опиум можно было дешево. Даже плохо оплачиваемый кули мог себе позволить трубочку в одном из многочисленных опиумных притонов города, и эта доза приносила облегчение его ноющим мускулам, усталым костям в конце длинного, тяжелого рабочего дня. Когда сампаны при сильном волнении бились о бортовые стенки больших кораблей, когда рвались канаты подъемных кранов и тяжелые ящики, тюки и мешки обрушивались на рабочих, опиум помогал им от боли и позволял человеку продолжить работу, несмотря на сломанные кости и раздавленные конечности, чтобы не лишиться платы. Опиум снимал жар и избавлял от дизентерии, зубной боли, от кашля и голода, смягчал побочные явления венерических болезней и якобы помогал даже от укуса змей.
Опиум расслаблял, позволял забыть каторгу дня, тоску по родине и все заботы. Он был бальзамом для измученного тела и одинокой души. Прогнать дракона – так описывалось курение опиума – было дорогой к миру и счастью.
По крайней мере на короткое время, но жизнь кули в Сингапуре и без того была коротка.
В каюте воздух был такой спертый, хоть режь ножом, отягощенный опиумным дымом. Держа в руках длинные бамбуковые трубки для курения опиума, в тусклом свете коптящей лампады на них смотрели остекленевшими глазами два китайца. На их лицах не отразилось никакого импульса, они были слишком опьянены, чтобы обеспокоиться присутствием на борту чужих. Еще трое китайцев лежали на полу в глубоком сне – возможно, и без сознания.
– Бедолаги, – проворчал Дайан.
Рахарио кивнул. Что делали его матросы на суше – пили араку или жевали бетель или, возможно, курили опиум, ему было безразлично; на борту же он требовал от них ясной головы.
Ему самому не требовалось ввергать своих демонов в искусственный сон. Он предпочитал с ними плясать, иногда в объятиях женщины, или остудить их беснование на ветру и в воде.
– Как ты думаешь, что… – начал было Дайан, однако Рахарио прижал палец к губам и прислушался.
Он услышал какие-то звуки. Они исходили снизу, из внутренностей джонки, а потом снова смолкли. Через один-два удара сердца они возобновились.
Звуки были тонкие и жалобные – как нытье, как тихий плач.
– Люди, – прошептал он. – Они нагрузились людьми.
Одна из самых выгодных ветвей бизнеса Конгси: вербовать в Китае мужчин и перевозить сюда. Около тридцати пяти долларов требовали от зинке или от его поручителя на родине за услугу перевоза и за посредничество в поиске рабочего места там, где он должен оставаться, пока не отработает этот взнос, как минимум три года. Зачастую такой договор не стоил бумаги, на которой был написан, случались и злоупотребления, и закрепощение, и переход в рабство.
Свинской торговлей называли этот промысел в Сингапуре.
– Туан! – Голос Иуды доносился откуда-то снизу, звучал мрачно, почти гневно, и все-таки в нем чувствовалась дрожь. – Туан!
Рахарио с Дайаном молча стояли в узком трюме джонки.
Корабль скрипел и стонал на волнах.
Нестерпимой была вонь застарелого пота, кровотечений, рвоты, мочи и испражнений. Голого страха.
Привлеченные зовом Иуды, сбежались остальные матросы, теснясь позади него; один испуганно втянул воздух.
Фонарь в руке Иуды отбрасывал мерцающее пламя на ящики и мешки. На девушек, сбившихся в кучку в тесном пространстве за ящиками, вплотную друг к другу, устремив на мужчин испуганные застывшие глаза или в ужасе зажмурившись. Грязные лица были залиты слезами; то и дело слышалось всхлипывание или легкий стон. То были китайские девушки, самое меньшее дюжина, а может быть, больше.
Очень юные девушки, многие еще совсем дети.
Девушки, проданные своими родителями, чтобы их потом перепродали в Сингапуре в няньки или горничные, но в большинстве случаев все-таки в проститутки: ах ку.
Проституция в Сингапуре была официально запрещена, но ее нельзя было не заметить в китайском квартале. Стоило только взглянуть.
Британцы же стыдливо отворачивали взгляды. Конечно, потому что боялись клана Конгси, заработавшего себе на этом промысле золотые носы. Может быть, еще потому, что знали: такой запрет не будет действовать в городе, где тысячи и тысячи китайцев живут вдали от родных деревень, от семей.
Строгие традиции запрещали отсылать на чужбину приличных китайских девушек, чтобы они могли выйти там замуж. И вряд ли кули зарабатывал столько, чтобы поехать на родину и найти там себе невесту. Не говоря о суммах, которые съедала традиционная свадьба.
Китайские женщины и девушки были дефицитом в Сингапуре. Только не в борделях.
Борделей в Сингапуре было много, на любой вкус – предлагались на выбор даже китайские мальчики и мужчины, и как раз входили в моду караюки-сан, японки.
Молчание, окружившее Дайана, Иуду и других мужчин, выдавало, что они в этот момент подумали о собственных дочерях. О племянницах и маленьких дочерях соседей.
– Вот, туан! – Тирта втащил китайца, заломив ему руку за спину. – Забился подальше в угол. Хотел от нас спрятаться!
Китаец, казалось, нащупал для себя выход. Его лицо, искаженное гневом и болью, разгладилось в льстивой любезности:
– Пожалуйста, туан, осмотритесь, – воскликнул он на неразборчивой мешанине китайского и малайского, тоном хитрым и вкрадчивым: – У меня на борту лучший товар! Для вас и вашей команды! Я дам вам хорошую цену. Девушки от двухсот до трехсот долларов, смотря по возрасту и состоянию. Очень хорошая цена! Лучшие из них идут здесь по пятьсот для конечного покупателя.
Искры вспыхивали в глазах Рахарио. Он мотнул головой, показывая Иуде, чтобы убрал с глаз его; ему было все равно, что Иуда с ним сделает.
– Нет, туан! Не делайте мне ничего! Пожалуйста! Я их честно купил. Всех! Каждая стоила мне как минимум тридцать долларов! Возместите мне хотя бы мои затраты. А потом можете делать с ними, что…
Его тирада оборвалась.
Рахарио оглядел девушек. Эти плоские, сердцевидные, часто еще детские лица, глаза, то отупевшие и покорные судьбе, то горячие, прямо-таки лихорадочные. Возвращать их в Китай было бы бессмысленно; при первой возможности они будут снова проданы и куда-нибудь увезены на корабле.
– Дайан. – Тот внимательно посмотрел на него. – Ты сможешь их куда-нибудь пристроить? Всех? В дома, в лавки, где они за небольшую плату могут быть полезны? Где с ними будут обращаться хорошо? Я за это еще приплачу.
Дайан оглядел девушек; было заметно, что в мыслях он перебрал всех своих родственников, друзей и знакомых. Он задумчиво склонил голову.
– Должно получиться, туан. Я знаю нескольких приличных людей, которым может понадобиться девушка, помощница по хозяйству. – Моя жена давно мне все уши прожужжала, что ей нужна помощница для детей. Раз уж мы теперь разбогатели. – Он поднял фонарь повыше. – Если хочешь, я могу их на ночь или две устроить в моем доме или в доме моего брата. Это можно.
Рахарио кивнул сначала ему, потом другим мужчинам.
– Отведите их на корабль.
Он смотрел, как его матросы пошли к девушкам – медленными, осторожными шагами. Тихо и успокаивающе они заговорили с ними на своем языке и на тех обрывках китайского диалекта, которые знали. Они выводили девушек одну за другой; девушки дрожали, хромали, некоторых приходилось поддерживать. Некоторые плакали – может быть, от облегчения, а может быть, оттого, что еще не понимали, то ли они оказались в безопасности, то ли на следующем этапе своего мученического пути. Некоторых мужчинам пришлось нести – настолько они ослабели после долгого плавания.
Рахарио отвернулся, когда Дайан проносил мимо него девочку, она выглядела немногим старше его Феены.
– Все, туан, – сказал Дайан после того, как обошел весь трюм с фонарем в руке, заглянув в каждый уголок.
Рахарио кивнул:
– Идемте.
Какой-то звук заставил его замереть, такой слабый, что был скорее догадкой. Его рука легла на дуло пистолета.
Движением пальца он дал понять Дайану, чтобы посветил на ящик возле двери. Что-то светлое мелькнуло в щели; он не смог определить что. По другому его молчаливому знаку Дайан поставил фонарь на пол, и когда Рахарио ему кивнул, он рывком вытянул ящик.
Свернувшись калачиком и обвив руками подогнутые колени, на полу сидела девочка. Она испуганно смотрела на него снизу вверх, личико осунувшееся и белое как мел.
Рахарио отнял руку от оружия и присел на корточки.
– Не бойся, – заговорил он тихо на хок-кьень, с улыбкой, которой надеялся вызвать доверие девочки. – Тебе никто не сделает ничего плохого.
Девочка не шелохнулась.
– Умно, что ты спряталась за ящиками. Но теперь тебе больше не надо прятаться. Идем. Мы отвезем тебя в безопасное место.
Он протянул ей руку.
Потом вздохнул и придвинулся ближе. Медленно, чтобы не спугнуть ее, и бесконечно осторожно обнял одной рукой, подсунул вторую ей под коленки и поднялся с нею на ноги.
Она была пугающе легкой, ненамного тяжелее Феены, хотя была, пожалуй, постарше. Тянула не больше, чем ее кожа да косточки, лопатки ее ощутимо врезались ему в бицепс сквозь тонкую ткань рубашки; при каждом ее судорожном вдохе он чувствовал веер ее тонких ребрышек. От нее дурно пахло; кисловатая вонь, одновременно глухая и едкая, а моча, которой были пропитаны ее длинные штаны, увлажнила теперь и его рубашку.
– Ты можешь отдать ее мне, туан. – Дайан протянул руки к девочке.
Ее веки закрылись, и голова упала на грудь Рахарио. Дрожь пробежала по ее телу, передалась ему и ввергла его в некоторое потрясение.
– Нет. – Голос его звучал сипло. Он разглядывал девочку, она безвольно обмякла в его руках. – Я возьму ее домой.
Отфыркиваясь, Рахарио вынырнул из реки, отвел с лица мокрые волосы и поплыл сильными, равномерными гребками к дебаркадеру.
Ночь давно наступила, но была все еще полна жизни. Повсюду на берегу звенело, шелестело, потрескивало. Рыбы сопровождали и пересекали его путь под водой. Как будто знали, чего сегодня им нечего бояться, они задевали его руки и ноги, когда он скользил над илистым дном. Слепой в черноте ночи, в чернильно-темной реке. Благотворно глухой, чувствующий и воспринимающий только своей кожей и мускулами. Прозрачная речная вода на языке, когда он выныривал и выполаскивал рот, выплевывая воду высокой дугой, прежде чем снова устремиться в поток.
Он чувствовал себя омытым душой и телом, когда вышел из реки, больше, чем могла бы его очистить обыкновенная ванна в доме. Он отряхнулся и влез в свежие брюки и рубашку, которые вынес с собой из дома.
Лоб его наморщился, когда он шел к дому и в нежно-желтом прямоугольнике слабо освещенного проема двери различил силуэт. То была Кембанг, одна из женщин в доме, которую он вырвал из сна, чтобы она позаботилась о китайской девочке; она явно поджидала его.
– Что случилось?
– Извините, туан. – Она обозначила поклон, беспокойно сцепила пальцы перед подолом саронга и снова расцепила их. – Дело в ребенке, которого вы принесли давеча.
– Что с ним?
Широкими шагами он прошел мимо нее в дом, и она семенила за ним следом.
– Мы ее помыли и одели, как вы сказали. Она не пикнув позволила все это сделать, послушная. Но… вот только есть не хочет.
Рахарио остановился и посмотрел на нее, нахмурив брови.
– Почему ты приходишь с этим ко мне?
– Ну… Мы думали… – Кембанг сглотнула и опять поиграла пальцами, потом собралась и стала энергичными движениями разглаживать саронг. – Мы думали, может, вы пойдете на кухню и уговорите ребенка поесть.
– Я? – Одна бровь Рахарио поднялась. – Я хозяин дома или нянька? – прикрикнул он с мрачной миной.
Кембанг смущенно потупила взгляд.
– Хорошо, – прорычал он наконец. – Так и быть.
На кухне, которая занимала отдельное помещение, соединенное с основным домом через веранду, было жарко. Плита из кирпича посреди кухни еще горела. Остатки разных овощей и кореньев, курицы и трав, просто оставленные в ночной и неожиданной спешке приготовления, лежали в разных местах длинного стола, и их пряный дух насыщал воздух.
Головы повара и Бунги – другой служанки – вскинулись, когда вошел Рахарио. Оба поклонились ему, на лицах тревога и очевидная растерянность, что туан спустя лишь несколько часов после отправления в море снова вернулся, разбудил их среди ночи и сунул им в руки исхудалое, грязное и насмерть перепуганное дитя.
Глаза девочки тоже устремились к нему.
В той же позе, в какой ее нашли на джонке, она сидела на полу в углу кухни, прижавшись спиной к стене и поджав колени, ее длинные черные волосы еще не высохли после ванны. Кебайя, в которую ее одели, была ей велика, она в ней почти утонула, а саронг, пожалуй, сложили по длине вдвое перед тем, как обернуть вокруг нее.
Он присел перед девочкой на колени.
– Ты должна поесть, слышишь? – строго сказал он. – Ты должна снова набраться сил.
Взгляд девочки вспыхнул, и она лишь теснее подтянула к себе ноги.
– И вот так все время, – прошептала Кембанг у него за спиной. – И говорить не хочет. Еще ни звука не издала. Мы даже не знаем, как ее зовут.
В голосе ее звучала беспомощность.
– Дай сюда. – Рахарио подозвал повара, который держал миску в руках и теперь с поспешной готовностью протянул ему.
– Свежеприготовлено, туан. Первая порция уже остыла.
Рахарио опустился на пол и помешал жидкое варево перед тем, как поднести ложку ко рту девочки.
– Давай, открывай рот и ешь. Ты наверняка проголодалась.
Девочка только таращилась на него.
– Ну, давай. Хоть маленький кусочек.
Он мягко провел краем ложки по ее нижней губе. Она медленно и осторожно раскрыла рот. Так же медленно и осторожно начала схлебывать жижу с ложки.
По кухне пронесся вздох облегчения. Повар и обе служанки обменялись удивленными взглядами. Их тронуло, что своенравный туан, которого они все боялись, который так мало пекся о собственных детях, уделил этому бедному, измученному существу столько симпатии.
Ложку за ложкой Рахарио скармливал девочке суп, тихо с ней разговаривая.
И ни на миг девочка не отрывала от него взгляда.
III
Пропали
1865–1871
И свет лучистый, что был так ясен,
пропал навсегда из моих очей.
Ничто не вернет назад тот час
сверкающей травы, великолепия цветов,
не будем печалиться, уж лучше найдем силы
в том, что мы оставили.
В глубоком сочувствии,
что было и есть всегда.
В утешительных мыслях, что возникают
из человеческого горя.
В вере, которая провидит смерть,
в годах, что приносят нам мудрость.
Уильям Вордсворт
18
Ночное индиго выцвело до блеклой голубизны, лишилось силы и в конце концов сменилось нежным золотом, возвестившим восход солнца.
Из дымных сумерек вылущились кроны деревьев, в которых птицы заголосили в знак приветствия утру. Выдра потягивалась на берегу реки, выгоняя сон из конечностей, а потом беззвучно скользнула в воду, чтобы поймать первую рыбу.
Дом Кулит Керанг тихо стоял, еще сонный, в своем гнезде из деревьев и кустарника, окутанный дымкой нового утра. Все еще спали, даже трое детей. Лишь нянька по привычке проснулась рано и заспанно щурилась в бледный свет нового дня и ждала, когда маленькая Шармила приступит к своему утреннему реву, чтобы можно было перепеленать ее и отнести к матери в постель на кормление.
На кухне между тем уже некоторое время все кипело. Когда туан был дома, он завтракал рано. Завтракал не пышно, но выбор разных блюд в небольших количествах означал большую работу в ранние часы.
– Готово, – простонал повар и вытер поперечные борозды на коричневом лбу, что со временем пролегли у него под грузом его обязанностей.
Он удовлетворенно разглядывал горки фруктовых и овощных очисток, рыбных голов и костей; тут же Бунга с тяжело нагруженным подносом вышла, чтобы отнести его на веранду.
Раскаленный воздух кухни был насыщен ароматами. Сочного, сладкого манго и нежных личи; крепкого кофе, свежеподжаренной рыбы и сваренных с чесноком крабов, огненного овощного карри. Тонкого, пахнущего жасмином риса.
– Адух, – растерянно ахнул повар. – Рис забыл. – Он развернулся: – Девочка! Быстро! Догони Бунгу, отнеси ей рис!
Девочка утопила в тазу горшок, который мыла. Тщательно вытерла руки, красные и разбухшие от горячей, выщелоченной воды. От жары покраснели и щеки на ее узком личике, сбегающем к острому подбородку, как лепесток кембойи. Для верности она вытерла руки еще и о саронг, прежде чем взять миску с дымящимся рисом.
– Быстро, быстро! Поторопись! Как бы туану не пришлось ждать! – подгонял ее повар. – Да не урони по дороге!
Быстрыми, но осторожными шагами девочка семенила вдоль веранды, которая вела с кухни к дому.
Краем глаза она заметила силуэт, который поднялся из реки.
Она остановилась, присмотрелась. Ее глаза, блестящие черные миндалины на бледном лице, расширились. Она помедлила лишь чуть-чуть, прежде чем поддаться искушению, скользнула за колонну и стала подсматривать из-за нее.
Она знала, что туан ходит плавать в реке еще затемно, хотя ни разу не видела этого своими глазами. Повар говорил, что туан должен нырять в реку каждый день, иначе погибнет, как рыба, выброшенная на сушу, ведь он как-никак больше морское существо, чем человек. Поэтому и сердце у него такое холодное, как у рыбы, добавлял он. Бунга возражала ему: туан, дескать, тигр, столь же дикий, сколь и раздражительный и агрессивный. Это, дескать, видно уже по тому, как он обходится с госпожой и с собственными детьми. Туан отнюдь не стадное животное; и такому одиночке, как он, было бы лучше вообще никогда не жениться.
Про себя девочка не соглашалась ни с одним из них. Туан был как мангостан: его несъедобная, колючая оболочка оберегала мягкое сердце. Девочка сразу увидела это в его глазах – тогда, когда он ее спас. Сердце, спрятанное у него в глубине, – бесценное сокровище, принадлежащее ему одному.
Темной, как кора корицы, была его кожа, мокрая и блестящая в мягком утреннем свете, когда он выходил из воды; вода капала с него, стекала с его волос, с его бороды. С мечтательным блеском в глазах девочка любовалась его стройным, мощным телом, жилистыми, сильными конечностями. Ее взгляд упал на его член, темный, опасный и обетованный, и пылающие пятна на ее щеках, уже начавшие было остывать, опять разгорелись.
Но отвести взгляд она не могла.
Он отряхнулся, как выдра, рассыпая блестящие капли воды, перед тем как нагнуться к вещам, при этом на спине его играли мускулы, и он повернулся к ней своим совершенным, полукруглым, тугим седалищем. Все ее внутренности затрепетали; теплота разлилась по всему ее телу и просочилась в лоно; во рту пересохло.
Она сглотнула.
Она не чувствовала жар миски, но нервные окончания ее кожи били тревогу. Мускулы рук задрожали, гладкий фарфор выскользнул из пальцев и разбился об пол.
Со слезами она уставилась на кучку дымящегося риса, на путаную мозаику из острых осколков нефритово-зеленого, розового и голубого… Она нагнулась, чтобы собрать осколки.
– Ай-и-и-и! – К ней подбежал повар. – Я же говорил, будь осторожна! – Он влепил ей затрещину по затылку ладонью, и она всхлипнула. – Растяпа!
Набежала струя сквозняка, дуновение речной воды, в нем порхали крошечные капли, и рука повара, занесенная для следующей затрещины, была резко остановлена.
– Не смей! – Мужской голос, низкий, раскатистый и грозный. – В этом доме никого не бьют!
– Но, туан… – Его протест звучал жалобно; сильная кисть стиснула ему руку до самых костей.
– И уж тем более из-за какой-то миски риса! Если я еще раз увижу, как ты бьешь девочку или еще кого-то, тебе придется собирать вещи и уходить!
– Да, туан, – выдавил из себя повар. – Извините, туан. Больше не повторится.
Он вздохнул, когда туан его отпустил, и стал тереть себе руку. Но не утерпел – когда-то это следовало сказать:
– С этой малявкой просто беда, туан, – вырвалось из него. – Она послушная и делает все, что ей скажешь. Не ленится, старается. Но она такая рассеянная, спит на ходу с открытыми глазами. И ужасно неловкая. Не поверите, туан, казалось бы, такое изящное создание! Но я уже со счету сбился, сколько посуды она перебила с тех пор, как появилась у нас. Она не годится для кухни, туан!
Темные глаза Рахарио остановились на девочке, а та стояла, понурив голову; ее длинная, туго заплетенная коса, черная как смола, свисала с плеча поверх кебайи.
– Это правда? Ты много разбиваешь? Невзначай?
Девочка медлила. Она боялась правды и не хотела врать.
Но кивнула.
– Покажи мне руки.
Она опять помедлила, потом разжала пальцы, судорожно стиснутые в кулачки, и протянула туану. Она плавилась от стыда, когда он со всех сторон разглядывал ее покрасневшие и потрескавшиеся ладони, ее ногти – мало того что в трещинах, еще и обкусанные. И таяла от блаженства, ощущая свои ладошки в его больших, теплых руках. Они были мягкие, лишь в некоторых местах покрытые твердыми, шершавыми мозолями.
– Эти руки не для кухонной работы. – Он отпустил ее. – А ты умеешь обращаться с иголкой и ниткой? Шить умеешь?
Она горячо закивала. Да, это она умеет, она научилась этому еще в раннем детстве.
– Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю.
Это прозвучало как приказ, но не зло, и девочка подняла голову. Ее взгляд пугливо блуждал по штанинам туана, мокрым на коленях и бедрах, по тонким линиям темных волос, которые тянулись вверх по его рельефному мускулистому животу. По его гладкой, твердой груди, на которой еще не высохли капли воды, к лицу.
Еще никогда она не видела его так близко; с тех пор как он тогда забрал ее с корабля и накормил супом. Первое время он несколько раз заглядывал в жилище прислуги или на кухню, чтобы удостовериться, что с нею все в порядке, что она не испытывает недостатка ни в чем, но с тех пор она видела его лишь издалека. Когда выплескивала помои и набирала свежей воды или выносила отбросы. Он казался одиноким, когда стоял в саду и смотрел на реку; одиночество, которое она хорошо понимала.
Он был старше, чем запомнился ей с первой встречи. Глубокие складки тянулись от уголков рта вниз, теряясь в бороде; тонкие морщинки веером расходились от глаз, которые испытующе разглядывали ее.
Она покраснела до корней волос.
– Может быть, у меня найдется для тебя другая работа. Идем со мной. – Кивком он приказал ей следовать за собой. – А себе на кухню присмотри в городе какого-нибудь парня, – бросил он через плечо повару. – Возьми хоть двоих!
– С… спасибо, туан, – заикался повар смущенно, но счастливо. – Большое спасибо! Великодушно с вашей стороны!
Широкими шагами туан шагал впереди; девочка едва поспевала за ним, все-таки она была на две головы ниже его.
Бунга, которая стояла на веранде у накрытого стола наготове, чтобы обслуживать туана, бросила в ее сторону разгневанный взгляд, который откровенно говорил:
Ну что ты там опять натворила?
Туан обвел ее вокруг дома, ко входу с торца.
От волнения девочка перестала дышать, входя за ним в дверь; она еще никогда не была в этом доме; тут же у нее открылся от изумления рот, когда она увидела все, что было в этом просторном высоком помещении. Огромная кровать, на которой могли бы уместиться несколько человек. Ослепительно белые простыни, которые с виду были прохладными и гладкими. Полированное дерево чудесной мебели.
Столько света, столько воздуха.
Туан открыл одну из трех дверей и подозвал ее. В маленькую комнату, предназначенную для одежды; никогда бы она не подумала, что у кого-то могло быть столько рубашек и брюк, сюртуков и обуви.
– Вот для этого ты мне и понадобишься. До сих пор это было обязанностью Кембанг, но она будет рада, если ты возьмешь на себя часть работы. Тебе придется поддерживать здесь порядок. Убирать и развешивать вещи, когда их принесет доби-валлах, и отдавать ему в стирку белье. Следить за тем, чтобы не было оторванной пуговицы, и не разошелся ли шов. В случае чего устранять непорядок. Справишься?
Девочка кивнула; голова ее закружилась от непостижимого счастья.
Уголок его рта приподнялся:
– А говорить ты умеешь?
Крохотная улыбка заиграла на ее губах:
– Да, туан.
– Да – ты можешь говорить? Или да – ты справишься с этой работой?
Ее улыбка стала чуть более обозначенной:
– Да, туан. И да, туан.
Его губы тоже дрогнули:
– И имя у тебя тоже есть?
Пока она обрела способность говорить, пока научилась немного понимать по-малайски, никто уже больше не спрашивал, как ее зовут; с тех пор она так и оставалась просто Девочка.
– Мей Ю, – еле слышно ответила она.
Его брови пришли в движение, когда он обдумывал это.
– Драгоценный нефрит? Или красивый нефрит? Ведь именно это означает твое имя?
Она кивнула. Ее светлая кожа, ее тонкие черты стоили много денег тем людям, что купили ее у родителей и увели на корабль.
– Хорошо. – Он кивнул ей, взял наугад какую-то из белых рубашек и надел на себя. – Если будут вопросы, обращайся с ними к Кембанг. Она же выдаст тебе все для шитья.
Она набрала воздуху, чтобы ответить, но тут мужество покинуло ее. Говорить по-малайски ей было трудно: она много слышала на этом языке, но говорить на нем ей почти не приходилось.
– Что?
– Тысяча… тысяча спасибо, туан. Вы не пожалеете… про это.
Его губы снова дрогнули:
– Я надеюсь.
Он просто ушел, оставив ее одну. В своей спальне. Среди своей одежды.
С колотящимся сердцем Мей Ю ждала, что кто-нибудь прибежит и скажет, что ей нечего здесь зевать без дела – и прогонит ее на кухню. Но никто не приходил.
Она осторожно огляделась, стоя в проеме двери. Вокруг не было ни души.
Она медленно обошла полки, запоминая, где что лежит и как сложены предметы одежды. Осторожно провела рукой по стопке рубашек, по искусно вышитому жакету, лишь кончиками пальцев, чтобы не повредить тонкие ткани своими изработанными руками. Ее взгляд упал на большой короб, который стоял в углу на полу и до краев был наполнен скомканными вещами: белье в стирку, для доби-валлаха.
Она тайком огляделась, действительно ли никто не видит.
Мей Ю взяла из короба рубашку, которая лежала сверху, и прижала ее к лицу. Глубоко втянула запах соли и водорослей, промокшей и высохшей на солнце кожи и влажной меди.
Тогда, в том мрачном корабельном трюме, он смотрел на нее сверху вниз словно великан; он казался таким большим, что без усилий мог бы достать с неба солнце, если бы потянулся к нему, мог нагрести в ладони звезд. Его голос звучал приветливо, как крепкий чай, и так успокоительно, хотя она понимала не все, что он говорил.
Он подобрал ее с полу, словно увядший цветок, унес с корабля как героический воин принцессу. Всю дорогу держал ее на руках – и на борту другого корабля, и в повозке, пока не привез сюда.
Когда она прижималась лицом к его груди, ее окутывал этот запах, который разбавил ее страх, смыл ее стыд. Дал ей непостижимое, непомерное чувство, что она спасена.
Что ее больше никто не обидит.
19
Георгина глубоко вздохнула. Этот вязкий, сырой воздух, с которого чуть не капало, едва освеженный сильным бризом, подсаливал сочно-пряный запах листьев, оглушительно сладкий аромат цветов. Она наслаждалась потом, который покрыл ее кожу влажной пленкой, приклеивая ткань по всему ее телу и капельками собираясь на лбу и крыльях носа.
Она блаженно жмурилась, глядя в синее небо – в Англии сила излучения никогда не достигала такой синевы. Ее глаза упивались насыщенной зеленью деревьев, яркими красками соцветий и напитывали ее душу. Даже лесок, превратившийся за это время в джунгли, который она когда-то любила, а позднее избегала его, имел для нее теперь приветный вид; она снова была дома.
– Ты уже устроилась? – осведомился Гордон Финдли.
– Да, спасибо. – Георгина прихлебывала чай.
– Места хватает? И… всего остального?
– Конечно. – Она опустила взгляд.
Георгина не хотела показать, как она рада опять жить в Л’Эспуаре. Ее отец не понял бы этого; даже ему было очевидно, насколько тесен и беден этот дом по сравнению с Боннэром. Раковина, поцарапанная возрастом и штормами, покрытая мхом и заросшая лишайником, которая еле держится на краю скалы, а под нею пенится и завихряется воронкой вода времени.
Поначалу и сама Георгина была сокрушена покоробленным деревом и заплесневелыми стенами и немного стыдилась экономности и простоты мебели, украшений и предметов домашнего обихода, а повсеместный запах тления и брожения казался ей еще мучительнее, еще удушливее, чем царапающая сажа Англии.
В передовом, элегантном Лондоне она и забыла, как просто, прямо-таки примитивно живут в Сингапуре даже состоятельные люди. Роскошь определялась по-разному, в зависимости от географической широты и долготы; но хотя бы газовое освещение на улицах Сингапура уже появилось, торжественно зажженное в честь дня рождения королевы Виктории. При первом ее возвращении она воспринимала этот контраст куда менее драматично; возможно, дело было в возрасте, теперь ей было уже тридцать три.
– Пол очень ценит жертву, которую ты тем самым приносишь, – тихо сказал отец в явном смущении. – И я тоже.
Георгина молчала.
Минувший год был самым черным для торговли из всех, пережитых Сингапуром; по сравнению с ним были мелочью даже годы, когда дело с плантациями перца и гамбира пошло на убыль, а за ним заболели и мускатные деревья.
Система, по которой в Сингапуре торговали, продавая и перепродавая импортированные товары за кредиты, десятилетиями работала бесперебойно, к выгоде всех участников. Звонкая монета находила обратный путь через единственный узловой пункт торговой цепочки. В один прекрасный день эта система рухнула почти внезапно как карточный домик.
Корыстолюбие не знало границ, рентабельность взвинчивалась все выше и выше; выплата предоставленных кредитов затягивалась, а то и вовсе не происходила. Мангровые деревья торговли в Сингапуре хотя и пустили глубокие корни, но вода со временем засолилась, поднялась слишком высоко, и воздушные корни, которые питали деревья, больше не могли дышать.
Может быть, просто торговая сеть росла слишком быстро, стала непомерно большой для этого острова, где по последней переписи населения было свыше восьмидесяти тысяч человек, из них пятьдесят тысяч китайцев. Древесина ствола и ветвей в какой-то момент оказалась слишком тяжелой для песчаного, илистого дна; дерево упало.
Как заразная тропическая лихорадка, крах распространялся среди мелких китайских торговцев, которым пришлось сотнями закрывать свои предприятия. Более крупные тауке несли из-за этого заметные убытки, и в конце концов волна крушений перекинулась и на европейские фирмы. Первые предприятия остановили работу или объявили банкротство, среди них Хосе д’Альмейда и сыновья, одна из самых крупных и уважаемых фирм в Сингапуре.
Немыслимо было, чтобы обанкротилось это старейшее местное предприятие, находящееся во владении одной семьи, предприятие, которое являлось краеугольным камнем города с тех пор, как его основатель, португальский корабельный врач одним из первых европейцев осел в Сингапуре; речь шла об обязательствах в размере головокружительного миллиона долларов. Разразилась паника, что бумажные деньги в скором времени вообще обесценятся; людские массы, желающие поменять бумажные деньги на серебро, толпами обегали четыре городских банка. На долгое время вся торговля замерла. И утром предновогоднего Дня святого Сильвестра загорелись склады Макалистер и Ко. Пожар быстро перекинулся на соседние склады; ущерб измерялся десятками тысяч.
Сингапур был в смятении.
У Финдли, Буассело и Бигелоу и перед этим было не так уж много заказов, а теперь крах торговли и неплатежеспособность партнеров грозили утянуть фирму в пропасть. Кузен Георгины Джордж Буассело в Пондишери, который после смерти дяди Этьена четыре года назад унаследовал его долю, был вне себя от такого катастрофического развития событий и грозил выйти из дела вместе со своим капиталом, что для фирмы означало бы смертельный удар.
Нежный белый хлопок был в это время единственным спасительным якорем. После того как в Гражданскую войну между Севером и Югом хлопок из рабовладельческих южных штатов перестал экспортироваться в Великобританию и Европу, там перешли на хлопок из Египта и прежде всего из Индии. Это не могло полностью возместить потери из-за блокады портов в американских южных штатах во время войны, но фирма Финдли, Буассело и Бигелоу благодаря ему еще как-то держалась.
Гордон Финдли нес эту тяготу с трудом, хотя никто не мог бы обвинить его в недальновидности: невозможно было предугадать такое развитие событий, внутри фирмы не было никаких сбоев. Ему не в чем было упрекнуть и Пола, которому он постепенно передавал все больше ответственности, все больше власти для принятия решений; всю вину он нес на своих плечах один.
Это было по нему заметно. Как будто сейчас, в шестьдесят с небольшим, его кости подвергались куда большей силе тяжести, он ходил, глубже, чем раньше, подавшись вперед, его плечи казались обвисшими. Глубокие борозды протянулись от носа вниз к угловатому подбородку. Его голубые глаза казались более светлыми, будто вылиняли от усталости и покорности судьбе, кожа под глазами была измята. Паутина тонких линий пролегла по всему лицу, ослабила его контуры, а волосы, все еще густые, серебрились сединой. Только мохнатые брови упорствовали в своей угольной черноте и отказывались предъявлять больше двух-трех седых волосков.
Даже его низкий голос, все еще сухо тонированный, стал ломким.
– Жаль, красивый был дом, – тихо сказал он.
Георгина скрепя сердце кивнула.
Боннэр был выставлен на продажу; как только найдется покупатель, вся выручка пойдет в фирму. И хотя дом уйдет ниже своей цены, но, может быть, этого хватит, чтобы залатать самые большие дыры. В другое время это означало бы невосполнимый общественный позор, в котором пришлось бы раскаиваться; но в этом году в Сингапуре Бигелоу были не одиноки в этом.
Пока дом не продастся, Пол будет продолжать в нем жить; компромисс, на который он согласился, к облегчению Георгины. Хотя и неохотно и явно с обидой.
– Это лучше, чем продать долю в Dock Company, – заявила она. – Как только они построятся в Танджонг Пагаре, пойдет кое-какая прибыль.
Гордон Финдли с гордостью улыбнулся:
– Это моя дочь!
Георгина поблагодарила его слабой улыбкой.
Если они когда и спорили с Полом, то лишь из-за фирмы. В ее письмах. Во время ее пребывания в Лондоне. Сразу после ее возвращения. Он не допускал никакого вмешательства с ее стороны, даже реплики, даже удачной мысли. И правильно делал, лишний раз подумала она, и кровь бросилась ей в лицо.
Взгляд Гордона Финдли опустился на маленькую девочку, которую он держал на коленях. С темными блестящими кудрями, она устремила взгляд синих, обрамленных густыми ресницами глаз на карманные часы деда, которые выудила из кармана его жилетки и теперь зачарованно с ними играла.
Маленькая Джо. Жозефина Эмма Бигелоу родилась два с половиной года назад в доме Гиллингемов на улице Королевского Полумесяца.
В результате приезда Пола в Англию через два года после ее отъезда из Сингапура. Эта встреча была для Георгины настоящим ударом.
Навестить ее приехал чужой человек, меньше ростом и сильнее, чем она его помнила, с первой проседью в волосах, с первыми морщинками вокруг глаз. Самоуверенный, почти заносчивый в поведении, которое ее отталкивало и под которым лишь постепенно проявились робость, осторожность в обращении с ней, как будто он хотел после двенадцати лет брака заново к ней посвататься. Но то, как он обращался с мальчиками, полный искренней, радостной любви, и то, как сердечно Гиллингемы приняли его в семейные объятия, позволило сердцу Георгины вопреки разуму повернуться к нему теплой своей стороной. Ей важно было увидеть, в каких скромных условиях он вырос в Манчестере, увидеть его с грубовато-добродушными, неуклюжими братьями, и это показало ей новые грани в том человеке, за которого она вышла – по необходимости и по принуждению обстоятельств.
В конце концов ее тело стало предателем ее воли, ее рассудка. Ее тело, которое изголодалось и тосковало по поцелуям, прикосновениям, по страсти. Однажды ночью оно ослабело и сдалось; слабость, которой ей нечего было противопоставить.
Когда Джо дала о себе знать, эта радость была отравлена некоторой горечью. Если бы не это, Георгина смогла бы вернуться в Сингапур вместе с Полом. Но теперь это возвращение отодвинулось на неопределенное время. Пока Суэцкий канал не был построен, утомительная поездка по суше, сквозь зной пустыни и в тряской повозке, которая громыхала бы по камням и ухабам, была слишком рискованной для будущей матери. Потом для новорожденной. Потом для грудного ребенка в возрасте нескольких месяцев.
Из запланированных двух лет в Англии получилось целых пять.
– Ничего лучшего ты не могла привезти мне из Англии.
Корявая ладонь Гордона Финдли, морщинистая, с синими венами, любовно погладила внучку по голове. Джо потеряла интерес к часам, доверчиво зарылась в рубашку на груди деда и грызла свои пальчики.
– Она похожа на тебя, когда ты была маленькой. – Его глаза светились. – Спасибо, что ты назвала ее Жозефиной.
Георгина была растрогана тем, что видит отца таким нежным с внучкой, и все же это больно укололо ее. Не впервые.
Точно таким же он был с нею – пока не отвернулся от нее, в то самое время, когда она нуждалась в нем острее всего.
– Расскажи мне о маме, – прошептала Георгина. – О прежней жизни.
Брови его сдвинулись; он надолго замолчал, углубленный в разглядывание внучки.
– Можешь забрать ее у меня? – спросил он, и голос его был сухим и царапающим. – Уже наступила пора послеобеденного сна. А мне еще нужно забежать в контору.
В эти дни Георгина часто поднималась на Губернаторский холм, на могилу матери.
Иногда она брала с собой Джо, которая бродила между могил, дивясь на мраморных ангелов, ловя бабочек и срывая цветы, которые в ее потных кулачках быстро увядали; она никогда не хныкала, если над ней кружилась мошкара и жалила ее в открытые места.
Но чаще всего Георгина была там одна.
Подставляя лицо ветру, она наблюдала переменчивое настроение моря и его всегда новую игру красок. Смотрела на облака, которые скучивались в мохнатую толщу, собирались в темные грозные тучи, чтобы снова легко и весело пролететь над ней. На небо, которое было то голубым – таким гладким и блестящим, что чуть ли не звенело, то снова омрачалось, пока не становилось молочно-белым. Иногда оно окрашивалось в жемчужно-серый цвет, темнело до черноты сажи, вплотную придвигаясь к склону, с которого Георгина смотрела на город, так сильно изменившийся за это короткое время.
Чуть больше года продлилась революция в Индии, которая омрачила блеск драгоценностей в британской короне кровью и пороховым дымом. Насильственное землетрясение в сердце империи, толчки которого подняли волны высотой до самой Англии. Ост-Индская компания была свергнута; управление Индией отныне находилось в руках новообразованной Индийской канцелярии.
Сингапур больше не был подчинен правительству в Бенгалии, а имел новые органы правления в Лондоне. Равноправные с Калькуттой, прежним материнским растением, от которого Сингапур поначалу лишь отпочковался.
Новое самосознание Сингапура отразилось и на облике города.
Город растянулся на большом пространстве, насколько хватало глаз отсюда сверху. Белые дома сверкали в солнечном свете, их крыши светились красной черепицей или льстивым серым цветом. Даже когда шел дождь и тучи тяжелым покрывалом висели низко над крышами, белый чунам сохранял веселое спокойствие, незамутненную свежесть. Невесомой элегантностью обладал и новый Таун-Холл с его рифленым фасадом, аркадами и большими окнами, балюстрадами; скоро должен был открыться и новый суд.
Гадкий утенок превращался в красивого, гордого лебедя. В королеву.
Восстание в Индии уже истекло по каплям, Сингапур остался в стороне от него, и капитан Джордж Коллейр из мадрасских инженерных войск с воодушевлением пустился в наконец-то разрешенное укрепление города: он замышлял артиллерийские позиции вдоль берега, протяженные крепостные сооружения вдоль Губернаторского холма с арсеналом, мастерскими, казармами и артиллерийским погребом. К этому еще несколько меньших укреплений на окрестных холмах и охранную зону вокруг здания суда, Таун-Холл и новую церковь Сент-Андруса. Тогдашний губернатор Бланделл осаживал его: Сингапур ни в коем случае не должен стать отталкивающей военной крепостью, он должен оставаться открытым всему миру портовым городом.
Но Коллейру все-таки разрешили построить береговую стену для защиты местности вокруг Телок Айер и подготовить расширение площади, пригодной для строительства, за счет воды. И Форт Кэнинг, укрепленное сооружение, которое при нападении должно было предоставлять убежище европейскому населению. К сожалению, тут не было независимого водоснабжения на случай осады, как выяснилось впоследствии, и пушки отсюда не доставали до вражеских кораблей в случае нападения, а доставали только до китайского квартала и реки Сингапур.
Недальновидность Коллейра. Его глупость.
В сером холоде Англии Георгина поняла, какой дурой она была, мечтая о том, чтобы оставить Пола, а может быть, и его сыновей и сбежать с Рахарио.
Недальновидность Георгины.
Она не находила себе места от стыда, когда думала, как чуть было не передала Полу совет Рахарио вложиться в здания на Апер Серкелэ-роуд. Эти старые, обветшалые дома два года назад пали жертвой пожара. Поговаривали о поджоге; спекуляция участками, говорили, понизив голос и прикрывая рот ладонью.
Правда, улица была застроена заново, побогаче, теперь там можно было сделать деньги на новых домах, но для Пола Бигелоу новое строительство означало бы верный крах. Она правильно сделала, не поверив тогда Рахарио; она сделала его своим врагом. Как глупо было с ее стороны верить, что страсть, связавшая их, могла свести к нулю его угрозы в саду Вампоа.
Время, когда она могла бы жить с Рахарио, безвозвратно миновало, теперь она это знала. Как старый мост Томсона, на котором они тогда увиделись, был заменен новым Элгинским мостом.
От дерева к железу. От чего-то вроде любви – к голой, непримиримой ненависти.
Англия оказалась целительной.
В Англии она поняла, что хотя она и была дитя Сингапура, но не дитя Нусантары.
Корни ее были в тропиках, но ее жизнь зиждилась на фундаменте, который был европейским. Хотела она этого или нет: брак с Полом сформировал ее, ее сыновья учились в Англии, были воспитаны как англичане, и в ее жилах текла наполовину шотландская, наполовину французская кровь.
Да пусть она была хоть сам чертополох, увитый ветками лаванды. Но не кембойя.
Она больше никого не знала в этом новом городе; прежние жители вернулись к себе на родину или умерли, все остальные были новоприбывшими. И Бич-роуд давно не был изысканным адресом, но и Георгина не была изысканной дамой. Сингапур изменился, но, по сути, остался тем же. Мило поглядывающим из-за колониального фасада, но неукротимым.
Английское растение, сформированное тропической жарой, муссонами и морем. Как Георгина.
Самым красивым в новом Сингапуре была новостройка Сент-Андруса, у которого скоро должна была появиться колокольня. Строение сияло белизной и, несмотря на размеры, казалось настолько воздушным и легким за счет стрельчатых арок, фиал и башенок, за счет украшений, похожих на сдержанные кружевные бордюры, что будто бы парил над зеленью Эспланады. Сердце Георгины радовалось всякий раз, когда ее взгляд падал на продолговатый корпус церкви. И когда она сидела на одной из новых церковных скамей, в этой высокой сводчатой колоннаде из белого чунама, под потолком из темных балок, среди стен, выкрашенных в синий цвет неба и моря, и солнце падало сквозь витражи окон, сердце ее становилось большим и просторным.
И тогда она знала, что снова вернулась домой.
В Лондоне Сингапур был дырой в ее сердце; здесь, в Сингапуре, эта дыра, болезненными толчками проливая кровь, носила имена Дункана и Дэвида.
В конечном счете было хорошо, что она оставалась в Англии дольше, чем собиралась. До тех пор пока ее сыновья не обрели твердую опору среди сыновей Стю, Дикки и Мэйси, дочери которых становились уступчивыми жертвами проказ и шалостей братьев. В дружбах, которыми они обзавелись в школе, Дэвид со своим солнечным характером – без всякого труда, Дункан – медленнее и лишь с двумя мальчиками, которые были такими же молчаливыми и замкнутыми. Пока Георгина – пусть и не с легким сердцем, но с чистой совестью – смогла уехать, ибо ее сыновья стали большими и достаточно самостоятельными.
Им было теперь четырнадцать и двенадцать; Дэвид еще ребячливый образец жизнелюбия, усидчивость давалась ему с трудом, Дункан – только руки и ноги, острые углы и торчащие кости, временами своенравный и уже с низким голосом. В следующий раз, когда Георгина увидит их, это будут юные мужчины, а не те мальчики, которых она носила в сердце и чьи коричневатые портреты в серебряных рамках были ее бесценным сокровищем.
Тогда исчезнет и опасность, что Рахарио отнимет у нее Дункана, если когда-нибудь узнает, что это его сын; в Англии он был вне досягаемости.
По Боннэру она не пролила ни слезинки. Она принадлежала Л’Эспуару. Как и ее отец. Как Семпака и Ах Тонг.
Ибо счастье было преходящим. А надежда оставалась.
Надежда найти положительные стороны в жизни, которую она себе не выбирала, но которая была подарена ей судьбой. В браке с Полом, которому она не могла простить, что он ее отослал, как она не прощала себе собственной глупости.
Надежда оставалась. Всегда.
20
Мей Ю счастливо напевала.
Для нее светило солнце в этот мрачный день, когда сильные потоки дождя били по крыше, заливали сад и заставляли реку разбухать до ревущего потока, слышного даже в доме, освещенном лампами.
Туан снова был дома.
Она смолкла и прислушалась к плеску, бульканью воды и отфыркиванию, слышному из-за двери ванной. Тот туан, как он выходил из воды и стоял на берегу, – это воспоминание она хранила и лелеяла в памяти столько месяцев – снова возник перед ее внутренним взором. Она просунула пылающее лицо между гладкими тканями его костюмов, чтобы остудить его, прежде чем продолжить в который раз поправлять и без того безукоризненные стопки рубашек и брюк.
Она копошилась намеренно: она хотела еще раз увидеть туана, когда он выйдет из ванной.
Мей Ю любила свою новую работу, которая к этому времени вошла ей в плоть и кровь. Не только потому, что она могла при этом быть поблизости от туана, но и потому, что ей нравилось заниматься красивой одеждой, действовать иголкой и ниткой и у нее был вкус к порядку. Кроме того, это была легкая работа. Даже слишком легкая. Поскольку, когда туан по нескольку недель был в море, ей, по сути, нечего было делать.
Она как собачка бегала по всему дому за Кембанг, которая раз за разом пыталась ее отогнать, полагая, что Мей Ю хочет перехватить ее должность. Пока Кембанг не поняла, что та действительно хочет всего лишь быть полезной. Поначалу с сомнением и критично, но потом с удовольствием она знакомила Мей Ю с гардеробом госпожи. Мей Ю быстро научилась обращаться с ценными шелковыми тканями и устранять сперва пятна от материнского молока, а потом следы липких детских пальчиков. То и дело отпарывалась вышитая кайма, то и дело требовалось пришить или заменить выпавшую жемчужину, блестящий камешек, зеркальную вставку.
Мей Ю была полна любопытства к жене туана. Она была ошеломлена и сокрушена тем, как прекрасна тай тай, ее госпожа. Кожа как коричневый бархат, с большими глазами и густыми, блестящими волосами, которые были куда более красивого, более теплого цвета, чем жидковатые, иссиня-черные волосы самой Мей Ю. Сталкиваясь с госпожой лицом к лицу, она казалась себе фигуркой, вырезанной из рисовой бумаги, на которой наспех набросали тушью несколько деталей. Богиня плодородия с пышными бедрами и высоким бюстом, вот кем была госпожа, которая так и сочилась любовью к своим милым детям, так и фонтанировала чувственностью.
Мей Ю не могла понять, почему брак тай тай с туаном был несчастливым.
Лишь изредка они делили друг с другом кровать, как по секрету рассказала ей Кембанг, меняя простыни. И всегда только у нее наверху, но никогда у него внизу; госпожа никогда не входит в его покои. Хотя он ее не бил, по крайней мере ни Кембанг, ни кто-либо еще из прислуги не был свидетелем ничего подобного. Но есть такого рода жестокость, которая ничем не лучше побоев, добавила Кембанг, укоризненно качая головой и с сожалением цокая языком.
Мей Ю сгорала от стыда всякий раз, когда видела госпожу – такую добрую к ней – такой печальной, когда она полагала, что никто на нее не смотрит. Потому что рассказы Кембанг питали ее дерзкую, заносчивую надежду, что когда-нибудь господин увидит в ней нечто большее, чем всего лишь девочку, которая заботится о его белье.
Звуки в ванной комнате стихли. Дверь открылась, и Мей Ю замерла, крутанувшись. Она сделала глубокий вдох, снова выдохнула и переступила порог гардеробной.
Она сложила перед подолом ладони, которые давно уже не были красными и потрескавшимися, а были белыми и мягкими, ногти в силу железного самообладания больше не обгрызались, а коротко и аккуратно подстригались. Потупившись, она украдкой поглядывала из-под ресниц.
Одетый лишь в брюки, туан сидел на краю кровати, широко расставив колени, и ошеломленно смотрел на нее.
– Мей Ю. А ты все еще здесь.
– Не угодно ли что-нибудь еще, туан?
Заметил ли он, что на ней был надет тот саронг зеленой и матово-красной расцветки, который он ей привез из последней поездки и который ей обычно жаль было надевать для работы? Вышитые комнатные туфли из предпоследней поездки, которые она никогда не носила, потому что они были ей велики? И что на его простыне лежал цветок кембойи, который она сорвала в саду еще до того, как разразился дождь? Иногда он замечал цветы, которые она подкладывала ему, и говорил ей какую-нибудь любезность или улыбался, что с лихвой возмещало насмешливо поднятые брови Кембанг.
– Нет.
Полотенце, которым он только что вытер голову, он небрежно бросил на пол. Мей Ю сделала шаг, чтобы поднять его, но он ее остановил:
– Пусть лежит. Кембанг завтра будет застилать постель и подберет.
Мей Ю подчинилась, но в ней поднималось отчаяние; ей не хотелось уходить, она так давно его не видела.
– Может… может, принести вам чаю? Кофе? Или что-нибудь поесть?
Иногда он принимал такое предложение, даже с благодарностью; бывали дни, когда он рассказывал ей о своем плавании, и Мей Ю впитывала каждое его слово как губка.
– Нет. – Голос его звучал устало. – Ты можешь идти.
Он разминал затылок, наклоняя голову туда и сюда, пока не протянул руку к рубашке, которую Мей Ю расстелила для него наготове на кровати.
– У вас… болит… это? – Она никак не могла вспомнить малайское слово для обозначения затылка и показала пальцами на свою шею.
Его губы дрогнули в улыбке:
– Ничего страшного. Рейс был тяжелым. А я просто становлюсь старше.
Мей Ю вцепилась в соломинку.
– Я могу вам помочь!
Быстрыми семенящими шажками она подлетела к кровати, сбросила шлепанцы, взобралась на матрац и принялась энергично массировать ему шею. Она видела по нему, что застала его врасплох, чувствовала это по тому, как судорожно напряглись его плечи, когда она вонзила в него свои пальчики и принялась обрабатывать его твердые как дерево мускулы. Но тут же его напряжение спало, и он вздохнул с шумом, который звучал как мурлыканье.
Его гвоздично-коричневая кожа была теплой, пахла после воды терпким мылом. Из волос, которые влажно курчавились на затылке, скатилась капля и заскользила между лопатками вниз по позвоночнику; Мей Ю попыталась поймать ее языком.
– Прекрати!
Он грубо стряхнул ее с себя и развернулся.
Впоследствии Мей Ю признала правоту Бунги: туан был поистине тигром. Своенравным, раздражительным и опасным, при случае даже смертельно опасным. Потому что не выносил тюрьмы, в которую был заперт. Тюрьмы, в которую его поместила жизнь, а может, и он сам.
Мей Ю видела это в его глазах, которые грозили спалить ее огнем, но в которых все-таки вспыхивала неуверенность.
Тоненький голосок разума предостерегал ее, чтобы она не гневила туана; он определенно накажет ее, возможно, в ярости даже поднимет на нее руку. А то и вышвырнет из дома, куда ей тогда деваться. Однако она зашла слишком уж далеко. Отведала слишком много из того, по чему тосковала больше, чем по чему-либо другому на свете.
Перед тем он побрился; растрепанная борода, с которой он явился к обеденному часу, теперь была аккуратно подстрижена. Узкое, столь же элегантное, сколь и дерзкое обрамление его рта, который выглядел таким мягким в изгибе своих очертаний.
Мей Ю бросила свою жизнь в руки Куан Йин, богини милосердия, подавшись вперед и приникнув губами к губам туана.
Будто порыв штормового ветра подхватил его и ушиб головой о мачту.
Он уставился на нее, когда она отделилась от него и пугливо на него посмотрела. Глазами, черными и блестящими, как небо глубокой ночью. Он попытался что-то понять, погладив ее щеку, и вздрогнул, оттого что ее светлая кожа была так нежна, и от его прикосновений по ней пробегали мурашки. Его взгляд остановился на ее губах; лепестки розы, на которых блестели капли дождя.
Он должен был удостовериться.
Стебель цветка была ее шея, когда он взял ее за затылок и притянул к себе, поцеловал ее, упиваясь ее дыханием, сладким и свежим; она ластилась к нему как котенок.
Эта девочка, которая бабочкой порхала по его комнатам, всегда принося своей улыбкой солнечный луч и ясное, прохладное дуновение, в котором он мог черпать дыхание. Которая то и дело пыталась доставить ему радость маленькими жестами, за которые он благодарил ее ответными мелочами.
Девочка, которую он четыре или пять лет назад нашел в трюме корабля, пока работорговцы не закабалили ее в бордель. Она была грязная, оголодавшая и перепуганная насмерть, тело ее было не тяжелее тела его Феены, сама она, возможно, ненамного старше, разве что на пару лет.
Это понимание вогнало ему кулак глубоко в солнечное сплетение.
Он грубо оттолкнул ее от себя, так что она упала на кровать навзничь, ее саронг задрался и обнажил стройную, сливочную ногу. Он отвел взгляд и гневно прошерстил пальцами свои мокрые волосы.
– Пошла прочь, – прикрикнул он с глубоким негодованием в голосе. – Я не извращенец, и я не падок на детей!
Краем глаза он видел, как она поднялась и спрыгнула с кровати. Однако вместо того чтобы убежать, она встала перед ним, сжав ладони в кулаки, со слезами на глазах.
– Но я уже не ребенок, туан!
Рахарио сопел, ярясь, но вместе с тем поневоле забавляясь.
– Я не знаю, сколько тебе лет. Но я в любом случае старше тебя вдвое, если не втрое. В отцы тебе гожусь!
– Я старше, чем вам может показаться!
Она энергично выдернула ленту, на которой держалась ее растрепанная коса, помотала головой; с распущенными волосами, упавшими ей на плечи, она действительно выглядела чуть старше.
И была красива. Оглушительно, сногсшибательно красива.
– Я уже женщина, – настаивала она на своем. Щеки ее вспыхнули. – Почти.
Внезапная ярость поднялась в Рахарио. Он испытывал большое желание оторвать ей башку. И желание поддаться своему возбуждению, которое мучительно пульсировало в нем, едва позволяя дышать.
– Ты понятия не имеешь, как опасна игра, которую ты тут затеяла. Ты понятия не имеешь, кто перед тобой.
– Тогда покажи мне это, туан.
Он как парализованный смотрел, как она стягивает через голову кебайю, отшвыривает ее прочь, стаскивает саронг, отпинывая его в сторону. Он не мог пошевелить пальцем, не мог издать ни звука.
Она стояла перед ним голая. Еще совсем детское, тонкое тело, хрупкое и ранимое. Только что созревший ее лобок был покрыт лишь черным пушком. Гордо вскинув покрасневшую голову, она смотрела тоскливым и молящим взглядом, гневным и нежным.
– Пожалуйста, туан, – прошептала она. – Я с самого начала принадлежала только вам.
В нем вспенился черно-красный поток и погреб его под собой; с проклятием он бросился к ней, схватил ее, швырнул на кровать и навалился сверху.
– Так ты хочешь этого, да? – зашипел он на нее, упершись руками в матрац, коленями между ее ног. Дыхание его участилось, стало отрывистым, как у огнедышащего дракона.
С таинственной улыбкой она кивнула.
Его пронзила мысль, что ее изнасиловали на корабле или по дороге на корабль. Дурнота поднялась из его желудка, но потом рассосалась куда-то, уйдя как в песок. А вместе с ней гнев.
Осталось лишь вожделение, тихое и настойчивое, как манящий зов спокойного моря и все же настолько сильное, что он не мог устоять.
Она действительно была словно вырезана из нефрита. Его ладони нежно прошлись по этой бесценной работе творения, потом его губы, потом язык. Ее кожа, казалось, была сотворена из облака, на вкус была как цветы в солнечном свете, как молоко и мед. Он был готов прекратить в любой момент, если бы она воспротивилась. Если бы не издавала эти едва слышные, блаженные звуки.
Только когда его губы заставили распуститься розовую почку у нее между ног, когда он ощутил вкус ее нектара, он больше не мог владеть собой и стянул брюки. В то крошечное мгновение, когда он понял, что был у нее первым, он осознал, что совершает ошибку. Он сделал ей больно, потому что был слишком большим, слишком мощным для нее. Но поздно; он мог лишь замедлиться, но назад дороги не было.
Она была для него белопенным цветущим садом, по которому дул мягкий ветер, разрастаясь до урагана, ломающего ветки, срывающего цветы. Мириады лепестков завихрялись вокруг него, прохладно касаясь его кожи. Успокоительно ложились на рану в его душе, о которой он даже не ведал, что страдает от нее.
Пока буря не улеглась, с шепотом отдаляясь прочь, и пока последние лепестки не опустились на землю.
Медленно, так медленно.
– Мне очень жаль, – пробормотал он, прижимая ее к себе, беспомощно вытирая большим пальцем слезы с ее щек. – То, что я у тебя сейчас взял, я никогда не смогу тебе вернуть. Никогда не искуплю.
Ему бы и в голову никогда не пришло затаскивать к себе в постель Бунгу, Кембанг или Эмбун, няньку его детей. Не то чтобы это его не возбуждало, да и взгляды, которые женщины в доме бросали на него из-под опущенных век, их пунцовые щеки, некоторая хрипотца в их голосах, когда они заговаривали с ним, были раз за разом столь же соблазнительным, сколь и тактичным приглашением. Но он просто не придавал этому значения, а свою потребность в женщинах предпочитал выносить в дальнюю Нусантару.
– Нет, – прошептала она без выражения.
Жизнь медленно возвращалась в ее оцепеневшие глаза; она заморгала.
– Нет. – Она потерлась лицом о его грудь. – Я так давно мечтала об этом. И никогда бы не подумала, что это будет так. Так…
Она всхлипнула и запечатлела поцелуй на его коже в том месте, под которым билось его сердце.
– Спасибо, туан.
Его грудь как будто раскрылась и стояла нараспашку, и она зарывалась в нее, все глубже и глубже, так ему казалось. Ужасно – быть таким незащищенным. Таким ранимым. Он стиснул зубы.
– Не называй меня туаном, – выдавил он, с явной угрозой в голосе.
Она удивленно взглянула на него.
– А как же мне вас называть?
– По имени. Рахарио.
Она застенчиво хихикнула и опустила глаза.
– Нет, туан. Так не годится.
Его рука стиснула ее челюсть, заставила ее посмотреть ему в глаза.
– Скажи мое имя!
Ее смешок стал громче, сильнее.
– Ну же! Скажи мое имя!
Блеск в ее глазах, улыбка на ее лице заставили его смягчиться.
Он не понимал, почему у нее нет страха перед ним. У этой слишком юной, слишком красивой и нежной девушки, которую он только что лишил девственности. И еще меньше он понимал, почему хватка его руки ослабла и рот его против воли задрожал в улыбке.
– Скажи мое имя, – шептал он, нежно поглаживая линию ее подбородка.
– Ра… хар… йо, – робко попыталась она. – Ра… харье. Рахарио.
Она начала смеяться девическим звонким смехом, который оживил все ее тело и перекинулся на него. Смеясь, он перекатился на спину и увлек ее за собой.
Стиснув коленями его бедра, она приникла к нему и покрыла его лицо поцелуями. Ее кожа, ее волосы, как шелк, касались его, и он дивился этому чуду.
Снова смеяться от всего сердца. Чувствовать себя живым. Быть свободным. Счастливым.
21
Солнце сверкало на листьях кустов и деревьев, ярче высвечивая на фоне насыщенной зелени алую, белую, желтую и оранжевую краски цветов; даже мягкий сиреневый цвет гелиотропа выигрывал в силе. Мир был свежепромыт муссонными дождями последних месяцев.
– Ах Тонг! Привет! – кричала малышка Джо с лестницы на веранде, где она сидела с Картикой, и радостно махала рукой.
Ах Тонг выглянул из-за ветки, отяжелевшей от белых цветов, и, улыбаясь, помахал ей в ответ.
– Привет, Путри!
Джо, которую вся прислуга называла принцессой, радостно рассмеялась. Кричать людям «привет» и махать им рукой было для нее сейчас самым любимым занятием.
– Ах Тонг! Привет!
Если надо, могла повторять это хоть дюжину раз.
Гордон Финдли с шуршанием перелистывал газету «Стрейт таймс». Его ритуал, каким он за семейным чаем возвещал конец недели.
Один из четырех банков первым предприятием в городе ввел правило, по которому суббота была неполным рабочим днем, и выходные начинались уже с середины дня. Это правило быстро вошло в моду в Сингапуре. В конце концов на складах уже было не так много работы, как раньше, в сытные годы торговли; Финдли, Буассело и Бигелоу пришлось даже уволить несколько сотрудников.
– Это ужасно, – пробормотал он. – Я с трудом могу себе представить. Оказаться перед обугленными руинами и практически заново начинать все сначала.
Это была главная тема для разговоров в Сингапуре. Спустя чуть больше года после большого пожара, который превратил в мусор и пепел несколько складов, месяц назад снова разразился пожар на Баттери-роуд; дотла выгорели склады двух фирм.
– Никогда не знаешь, куда огонь перекинется, – поддакнул Пол. – Наш склад совсем рядом и к тому и к другому пожару. – Он отхлебнул глоток чаю. – При этом я нахожу подозрительным, что горело дважды приблизительно на одном и том же месте, с таким коротким промежутком во времени. Каждый раз в воскресенье утром. Если взять еще и пожар на Апер Серкелэ-роуд, то получится трижды в одном и том же квадрате. Попахивает умышленным поджогом! Как будто кто-то хотел нанести как можно больший ущерб. Как акт мести.
Георгина, склонившаяся над книгой, вскинула голову – большие темно-синие глаза так и воззрились на него. Его брови стянулись в тревожную линию:
– Что такое?
Ее щеки покрылись румянцем:
– Ничего. – И взялась за чашку; руки ее дрожали.
– А, ерунда. – Гордон Финдли скривился, отвергая предположение. – Склады снизу доверху забиты ящиками и мешками, такелажем, древесиной и пряностями. Тут достаточно одной искры, небольшого огня или опрокинутой лампы – и все горит как трут. И пока у нас нет приличной пожарной команды, которая в случае чего может быстро выехать… – Он шумно перелистнул страницу. – Поэтому я всегда напоминаю людям, чтоб были осторожны. Лучше лишний раз проявить чрезмерную бдительность, чем один раз недоглядеть.
– Мама! – С подпрыгивающими локонами Джо подбежала к Георгине и стала взбираться ей на колени. Георгина отложила книгу и взяла дочь на руки.
– Идем купаться, мама?
– Сейчас?
Джо горячо закивала, играя рюшами в вырезе материнской кебайи.
– Сейчас не получится. У тебя еще полный живот пирогов. – Георгина потыкала ей пальцем меж ребер, и Джо со смехом стала вертеться и ерзать. – Купаться пойдем попозже.
– Но мне жарко прямо сейчас!
Георгина сдула кудряшки с разгоряченного лобика:
– Так лучше?
Дочка сощурилась и замотала головой: нет! – и с надеждой повернулась к отцу:
– Папа? Пожалуйста!
Этим взглядом большущих глаз, этим сахарно-сладостным тоном она делала из его сердца комок теста, который месила своими ручками как угодно и лепила из него что хотела. Он бы привел ей в сад хоть слона, попроси она его об этом, или подался бы на поиски единорога; так было трудно сохранять вменяемость.
Он с улыбкой ей подмигнул:
– Что касается плавания, тут решения принимает мама.
Голова Джо повернулась в другую сторону, к деду, тот поднял брови и погрозил ей пальцем.
– О нет, маленькая леди. На меня и не надейся.
Джо опять с мольбой посмотрела на мать:
– Мама! Пожалуйста!
– Чуть позже, Жози-Рози. – Георгина поцеловала девочку в щеку. – Но мы пока могли бы погулять по саду. В тени. Прохладимся на ветру и посмотрим, не потребуется ли твоя помощь Ах Тонгу. Как ты на это смотришь?
– Даааа, – блаженно проверещала Джо и сползла с материнских колен.
Пол смотрел им вслед, когда они спускались по лестнице и шли по саду.
Они были из одного материала – мать и дочь, кожа у обеих одинаково золотистая, глаза Джо лишь чуть посветлее, локоны одного и того же оттенка; иногда они походили одна на другую жестами, мимикой, манерой речи.
В то время как Джо вприпрыжку неслась по траве, Георгина шла рядом, делая выпады, чтобы пощекотать ее в бок, на что девочка отзывалась радостным визгом и смехом. При ходьбе саронг Георгины облегал ее формы; после третьего ребенка она стала женственнее, чувственнее.
Среди самоуверенных и болтливых лондонских кузин и кузенов, выбравших себе партнеров того же склада и нарожавших на свет таких же детей, Георгина казалась пугающе тихой и робкой; сдержанная фиалка среди английских роз и элегантного шпорника. Она выделялась неловкостью и на фоне своей тетки, сребровласой Снежной королевы, которая столь же элегантно, сколь и уверенно держалась на паркете в избранном обществе, но сердце при этом имела все ж таки на правильном месте. Да к тому же совсем не столь безупречного мужа с громовым басом, который любил подчеркнуть сказанное им крепким похлопыванием по плечу.
В Лондоне Пол своими глазами увидел и осознал, что он причинил Георгине этой ссылкой. Какое горе, принудив ее выбирать между сыновьями и Сингапуром. Дэвид и Дункан оставили в ней пустоту, заполнить которую целиком одна Джо даже вместе с Сингапуром была не в состоянии. Эта рана и ему врезалась глубоко в плоть и зарастала очень медленно.
Он пытался замолить вину как только мог. Однако Георгина, казалось, после возвращения вела борьбу с самой собой, только с собой; больно было смотреть на это и ничего не предпринимать.
Временами он тоскливо мечтал о какой-нибудь другой женщине – которая была бы проще, с более веселым и легким характером. Которая облегчала бы, а не осложняла ему жизнь. Которая не была бы для него ни загадкой, ни вызовом. Хотя он знал, что Георгина давно вросла ему глубоко под кожу.
– Вот все и уладилось между вами, – сказал Гордон Финдли, словно угадав его мысли.
Пол растерянно посмотрел на тестя, тот не сводил глаз со страницы газеты.
– Было… – Гордон Финдли откашлялся; брови его подрагивали. – Было время, когда мне казалось, что я потерял Жозефину. Что наш брак больше не стоит ни цента и долго ему не протянуть. И поверь мне, по сравнению с моей Жозефиной Георгина – просто кроткий агнец.
Плечи Пола невольно дернулись под рубашкой и сюртуком; он не привык с кем бы то ни было говорить о таких интимных вещах, тем более со своим чопорным шотландским тестем.
– Такие женщины, как Жозефина, как Георгина… – Гордон Финдли неторопливо листал газету, – это женщины как бриллианты. Высококаратные. Они твердые и неподатливые, а грани их так остры, что можно поцарапаться до крови. А то и до кости. Они редки, и они драгоценны. Можно считать себя богатым мужчиной, если имел счастье знать такую женщину. Ради этого стоит потерпеть. Побороться.
Пол молчал, благодарный за эти слова. Но и почувствовал облегчение, когда тесть без перехода взял другой, деловой, трезвый тон.
– Когда я смотрю на такой прогресс телеграфа… Может быть, нам стоило бы переключиться на гуттаперчу? Кажется, потребность в ней дальше будет лишь нарастать.
– Да, – выдавил из себя Пол.
Его облегчение так же быстро рассеялось, как наступило. Он еще не набрался мужества признаться Гордону Финдли в своей большой ошибке.
Хорошее впечатление на него произвел малайский торговец, предложивший ему корабельную партию черепахового панциря. Образцы, которые он показал, были превосходного качества, оправдывающего непривычно высокую цену, поскольку и выгоду обещали принести несравнимо бо́льшую. Его должно было насторожить то, что торговец явился к нему напрямую, а не через тауке. Не смутила его и стыдливо затребованная плата наличными вперед; в Сингапуре повсеместно научились на кризисе, пережитом два года назад. Пол ухватился за эту сделку и за очень большие деньги купил всю партию. Которая при поставке оказалась дешевыми отходами от черепашьих панцирей. Ничего не стоящими.
Грубый промах, пусть и родившийся из нужды, которого не могло бы случиться с ним даже в то время, когда он был начинающим. А тем более в то время, когда фирма и без того боролась за выживание и семья жила только с того, что Гордон Финдли, умея обходиться немногим, скопил за десятилетия и что таяло пугающе быстро.
Вчера Георгина передала ему почти все свои драгоценности – и те, которые покупал ей он, и те, что ей достались от матери.
Не то чтобы это для меня ничего не значило, – тихо сказала она с почти пугающим спокойствием в своих синих глазах. – Но если я этим смогу помочь фирме… Только отцу ничего не говори, – добавила она с легкой улыбкой.
Благородный жест, это Пол осознавал, и жест, глубоко его пристыдивший.
Финдли, Буассело и Бигелоу стояли у пропасти. Дом, который он построил для Георгины, он не мог содержать. Его брак был хрупким и ломким как яичная скорлупа. Все его мечты прийти к чему-то в Сингапуре затянуло песком, как устье реки Сингапур.
Выщелоченным и усталым чувствовал он себя от жизни в тропиках, для которой был создан так же мало, как и для такой женщины, как Георгина.
Ах Тонг, двигаясь между белым великолепием куста жасмина и живой изгородью, просиял всем своим морщинистым кожистым лицом, когда Джо ринулась к нему, со смехом убегая от Георгины.
– Ах, да у меня гости. И еще какие! Я рад.
– Я пришла тебе помочь! – гордо объявила Джо.
Брови Ах Тонга удивленно поползли вверх.
– Вон оно что! Как это мило с твоей стороны, Путри.
Он нагнулся со своей худощавой высоты и погладил ее по голове, прежде чем указать на срезанные ветки и побеги, рассыпанные в траве:
– Можешь собирать совсем мелкие веточки и бросать их в кучу вон там. Хочешь заняться этим?
Джо энергично кивнула и принялась за работу. Не без того, чтобы у каждой поднятой ветки ощупать листья, оторвать цветок и разглядеть его поближе.
– Только в рот совать не надо, Джо, – мягко напомнила ей Георгина, и Джо послушно выплюнула лепесток.
– Это у меня любимое время в году, – сказал Ах Тонг, блаженно оглядывая сад, не забывая при этом и приветливое небо поблагодарить довольным взглядом. – Сразу после зимних муссонов. Когда все в силе и в соку. Когда все краски благоухают. Когда чувствуешь, как неукротимо сильна природа. Ничто, мисс Георгина, ничто на свете не может с этим сравниться.
Георгина с улыбкой смотрела, как он срезает ветки.
Но и не без тревоги; его обветренное лицо под желтым цветом кожи казалось серым, на лбу и на верхней губе собрались крупные капли пота. Георгина не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела Ах Тонга вспотевшим.
– Принести тебе что-нибудь попить?
– Нет, нет, я только что пил. Спасибо, мисс Георгина.
Георгина задумчиво кусала нижнюю губу. Сколько же лет может быть Ах Тонгу? Он был старше Семпаки, это она знала точно. Приблизительно того же возраста, что и ее отец, полагала она; за прошедшее время его длинная косица заметно посеребрилась.
– Не нанять ли нам помощника для тебя?
– Нет, нет. Все в порядке. – Он ожесточенно дергал ветку и охнул, когда она поддалась и упала на землю. Он улыбнулся: – Не такой уже быстрый, как раньше, конечно. Но природа тоже не знает спешки.
– Ты можешь получить свой пай по выслуге лет, если хочешь. Вместе с Семпакой.
– И что я буду делать целые дни напролет, мисс Георгина? – Его улыбка растянулась еще шире; сбоку не хватало одного из его кривых зубов. – И целый божий день терпеть возле себя Семпаку… Нет, мисс Георгина, за что вы мне желаете такое? Разве что я стану старым-престарым, с размягчением мозгов. Или оглохну.
Он подмигнул ей и засмеялся так, что запрыгал кадык, Георгина тоже не смогла сдержать смеха.
Нежные отношения, которые Семпака проявляла к Дункану и Дэвиду, распространились в свое время на Георгину. А вот с Джо она обходилась так же неласково, а то и грубо, как когда-то с Георгиной, к которой теперь опять охладела; может быть, Семпака просто больше любит мальчиков.
Ах Тонг опустил ножницы, в черных его глазах появился задумчивый блеск.
– Помнишь, мисс Георгина? Как ты здесь в саду всегда играла? Вся в своем мире…
Георгина кивнула; ее взгляд невольно скользнул в сторону темных очертаний лесочка.
– Иногда, – прошептала она, – иногда я думаю, что так никогда и не нашла обратной дороги из этого мира.
Ах Тонг пристально вгляделся в нее.
– Знаешь, мисс Георгина… Долгий путь покажет, какова выносливость твоего коня. Долгое время покажет, каково сердце твоих друзей.
Георгина вопросительно на него посмотрела, но и Ах Тонг, казалось, был удивлен, как будто и сам не знал, откуда у него взялись эти слова. Он с улыбкой покачал головой, вытер лицо рукавом и заново приставил ножницы к ветке. Вздрогнул и зажмурился. Снова поднял руку и опять опустил ее, покачнулся. Серость его кожи приобрела известковый оттенок.
Георгина подхватила его под руку, осторожно взяла ножницы из его пальцев и бросила их в траву.
– Присядь и отдохни, хорошо?
– Н… нет… – неуверенно проговорил он.
– Нет да, Ах Тонг. Так надо. – Она осторожно усадила его поближе к живой изгороди, чтобы он мог на нее опереться. – Посиди немного, потом продолжишь.
– Н… немного. Да.
Георгина не стала долго раздумывать. Они были далеко от дома и были скрыты кустами. Скорее всего ее криков никто бы не услышал из-за шума волн, а она не хотела оставлять здесь ни Ах Тонга одного, ни Джо подле него; а в доме были люди, которые присмотрят за ней.
Девочка стояла застыв, с широко раскрытыми глазами, пальцы еще растопырены после того, как ветка от страха выпала у нее из рук.
Георгина говорила с ней неторопливо и ласково, чтобы не напугать еще больше.
– Джо, беги сейчас в дом. Как можно быстрее. И громко позови папу и дедушку. Ах Тонгу нужно помочь. Давай же…
Джо пустилась бежать, Георгина слышала, как ее тоненький голосок на удивление сильно разносился по саду.
– Сейчас прибегут, потерпи, – прошептала она и пожала худую руку Ах Тонга, которая странно безжизненно лежала в ее ладони.
Рукавом кебайи она вытерла пот с лица Ах Тонга и поймала ниточку слюны, стекавшей из его исказившегося рта.
Другая его ладонь легла на ее руку, пугающе слабая и холодная.
– Айю, – прерывисто пролепетал он. Половинка его рта приподнялась в улыбке, и слезы скопились в уголке глаза. – Ах. Айю.
Приближался тяжелый топот. Кто-то бежал к ним. Пол, запыхавшись, выскочил из-за куста жасмина, но не дал себе времени остановиться, а лишь бросил лихорадочный взгляд на Ах Тонга и тут же снова метнулся назад:
– Я за доктором Литлом!
Подобрав подол саронга, бежала Семпака, ее коричневые, жилистые ноги молотили по земле, каждый выдох был всхлипом. Она бросилась к Ах Тонгу и упала рядом с ним на колени.
Взяв его лицо в ладони, она окатила его потоком незнакомых слов, которые в своих коротких взлетающих и ниспадающих звуках казались одновременно и отчаянными, и ласковыми; Георгина и не знала, что между собой они говорили по-китайски. То, как они смотрели друг другу в глаза, удерживая взглядом один другого и одновременно отпуская, заставило Георгину впервые догадаться, какая сильная была между ними любовь. Горло ее сжалось.
Голова Семпаки вскинулась, из-за пелены слез сверкнуло. Гневно. Ненавидяще.
– Что ты сделала? – завизжала она. – Что ты сделала с моим мужем?
Она сильно толкнула Георгину в грудину; та упала навзничь, на копчик, острая боль пронзила ее позвоночник до самого черепа.
– Не прикасайся к нему! Ведьма! Ты ханту! Ханту!
Ее визгливые крики нестерпимо резко вспороли воздух. Голос словно из другого мира пробирал до костей, волосы вставали дыбом.
Просунув руку Ах Тонгу под голову, Семпака раскачивалась всем телом вперед и назад. Слезы текли по ее лицу, изо рта вырвался жалобный вопль, устремленный к небу.
Георгина вытерла свои слезы, которые имели вкус страха, горя и ярости, скорее горькие, чем соленые, и посмотрела вверх.
Запыхавшись, подбежал Гордон Финдли. Пот блестел у него на лбу, щеки покраснели.
– Папа, – жалобно шепнула Георгина, поднимаясь на ноги; она нуждалась в его утешении.
Он не обратил на нее внимания.
Медленно опустившись на колени рядом с Семпакой, он гладил ее по плечам и что-то тихо ей говорил. Семпака схватила руку туана, с воем зарылась лицом в его плечо, а Гордон Финдли положил другую руку на грудь Ах Тонга, опавшую и бездвижную.
Круг замкнулся, и раскрылась история, которая еще никогда не была рассказана.
В которой для Георгины не было места.
22
Ночь затопила сад темнотой.
Тучи неслись по небу, поглощая свет звезд. Нежно плескалась река в своем русле: порыв ветра с шепотом пронесся между деревьями.
В свете Мей Ю не нуждалась. Она знала дорогу от жилья прислуги к строению кухни и через крытый проход в сторону дома. Двое ночных стражников, делающих патрульный обход по траве, не упуская из виду реку, коротко ей кивнули.
Ранняя птица призывала новый день, хрипло и нетерпеливо.
На веранде она взяла шлепанцы в руки и засеменила вокруг дома. Осторожно открыла дверь и скользнула в комнату.
Медленными и осторожными были ее движения, когда она раздевалась, стараясь не производить ни малейшего шума. Она дышала мелко, хотя сердце взволнованно колотилось, а смешок так и щекотал ее грудь изнутри.
Туан крепко спал, но слух его всегда был настороже; для нее было делом ее честолюбия – скользнуть в постель так, чтобы он не проснулся. Скользя на цыпочках, она подошла к кровати и проникла по простыням к манящему жару в середине кровати.
Мей Ю любила являться сюда до первого петушиного крика. В тот час, когда его тело горело во сне, источая неповторимый запах – как ни в какое другое время: тяжелый, темный, солоноватый. Она закутывалась в его жар, его аромат, словно в предмет одежды, ласкающий ее кожу, ее душу, пустив свои губы и руки странствовать по его телу.
Он тихо заурчал, взял ее за бедра и притянул на себя. Словно порыв ветра был долгий выдох из их губ, смешиваясь в один, и Мей Ю запрокинула голову.
Она и впрямь как будто скакала верхом на тигре, так ей казалось. Неукротимый и сильный хищник, впавший в ласковое, игривое настроение. И она управляла им бедрами и могла погонять его сквозь джунгли, темные в столь ранний час и тихие.
Слышно было лишь их дыхание, шорох простыни под их телами и ее сердцебиение, которое учащалось до барабанного боя. Пока она бездыханной не падала на него, припав лицом к шее, а он зарывался пальцами в ее волосы, ртом прижимаясь к ее пульсирующему виску.
Когда Мей Ю открыла глаза, комнату наполнял перламутровый свет нового дня.
Подперев рукой голову, он лежал рядом с ней и спокойно смотрел на нее.
Мей Ю улыбнулась в это немилосердно красивое мужское лицо. Вытянув руку, она провела пальцем по дуге его брови и по острой скуле. Потом от крыла носа вниз к подбородку.
– У меня есть для тебя кое-что.
Он потянулся поверх нее к столику рядом с кроватью; мягким и теплым был бархатный мешочек, который он положил между ее маленькими грудками, и на удивление тяжелым.
Она вопросительно на него посмотрела:
– Что это?
– Можешь взглянуть.
Мей Ю перестала дышать – массивное золото потекло сквозь ее пальцы как мед. Она удивленно разглядывала филигранных бабочек, на крыльях которых посверкивали синие и белые камешки, словно звезды, собранные на небесах.
– Нравится?
Она кивнула.
– Я никогда не видела такой красоты. – Она поморгала, потом спустила цепочку обратно в мешочек и вернула его Рахарио: – Но я не могу это принять.
– Почему? – Его черты ожесточились, выдавая обиду.
– Куда же мне это носить? – ответила она мягко, успокоительно поглаживая его ступней вдоль большой берцовой кости. – На работу? А прятать это под моей постелью в жилье для прислуги было бы слишком жалко.
Он нагнулся к ней и поцеловал в шею.
– Тогда будешь носить это только здесь, – тихо проговорил он, уткнувшись в ее кожу, в ее пульсирующую жилку. – У меня. И чтоб больше на тебе ничего не было.
Мей Ю засмеялась. Его ладонь скользнула по ее ребрышкам, охватила ее тонкую талию.
– И тебе больше не придется работать в доме. И ночевать в доме для прислуги. Ты можешь жить здесь. У меня.
В качестве моей наложницы.
Это слово невысказанным прокралось к ним в постель. Не самое обидное положение для женщины, ее родители были бы счастливы, зная, что их дочь возвышена до такого статуса. Но для Мей Ю все же ужасное, позорное слово для обозначения того, что она делила с Рахарио.
Ни для кого в доме не оставалось тайной, что туан взял в свою постель китайскую девочку. На нее бросали косые взгляды; соответствующие замечания швыряли ей под ноги, колкости летели ей в спину, как отравленные стрелы. Мей Ю это не заботило, и она не страшилась зависти, которая преследовала бы ее по пятам, словно вонючий сток, если бы она открыто жила с туаном.
Просто это было не то, чего она хотела.
Она схватила его ладонь, вложила в нее мешочек и замкнула его пальцы.
– Мне это не надо.
Придвинулась ближе, обняла и с закрытыми глазами прильнула к мужчине, который был для нее раем земным.
– У меня есть все, что мне нужно, – прошептала она. – Я счастлива тем, что есть.
Рахарио растерянно разглядывал мешочек, лежащий у него на ладони.
Ему казалось совершенно естественным дарить ей украшения. И предлагать ей лучшую долю, чем жизнь девушки, присматривающей за бельем. То, что она это отвергла, обидело его настолько же, насколько и пристыдило; как будто он хотел ее этим купить.
Его взгляд опустился к Мей Ю – она лежала, прильнув к нему, ее красивое, нежное лицо светилось счастьем.
Они часто лежали так, в этой сердечной спайке, когда телесная охота была утолена, а они все никак не могли отделиться друг от друга. Завернувшись в кокон из шепотов, медленно открывая друг другу души.
Она рассказывала о своем детстве в Китае, о горах, скрытых в тумане, о могучих реках и рисовых полях. О бедности и бедах, о войне и голоде и о том, как мало стоила там жизнь девочки. Голос ее звучал при этом печально, иногда она сбивалась на плач, но без желчи или же ненависти.
И пусть Мей Ю казалась хрупкой бабочкой, ее крылышки были выкованы из железа. Эта девушка, которую жизнь обкатала, как море деревяшку, выброшенную на берег, и которую он успел выхватить прежде, чем ее унесло потоком в глубину, где бы она погибла на удушливом дне из ила и грязи.
Со своим тонким и звонким голоском она часто казалась еще ребенком, а сам себе он казался грязным и старым дядькой, который вновь и вновь постыдно изнывал по ней; недавно он обнаружил у себя первый седой волос. Потом она опять набрасывалась на него с бесстрашной страстью, куда более зрелой, чем обещало ее девичье тело. Его бросало то в жар, то в холод при одной только мысли, как она иногда прикасается к его органу, который за несколько ударов сердца готов взорваться у нее в руке. Воплощением искусительной вечной женственности она бывала в такие минуты, в равной мере манящей и требовательной и настолько могущественной, что это раз за разом повергало его в смятение.
Он отложил мешочек и прижал ее к себе еще теснее.
– Чего бы ты ни захотела, Мей Ю, – пробормотал он, – ты все от меня получишь.
Он почувствовал, как она слегка напряглась, увидел, как она заморгала и наконец открыла глаза.
– Все? – Вопрос полуневинный, полуплутовской.
– Все.
Ее голова беспокойно задвигалась на его руке, она глубоко вздохнула.
– А если это будет то, что тебе совсем не понравится?
– Говори, – ответил он, властно и в недоверчивом предчувствии. – Что бы это могло быть?
Мей Ю запечатлела на его груди поцелуй, пытаясь снизу поймать его взгляд, чтобы оценить его настроение.
– Госпожа, – осторожно начала она. – Она страдает оттого, что ты так мало даешь ей. Что ты отворачиваешься от нее и…
Он резко сел.
– Это она тебя подослала? Это ее изобретение, чтобы ты меня разжалобила? Это она заставила тебя?
Она растерянно смотрела на него, потом засмеялась:
– Нет. Вовсе нет.
Она тоже села на кровати и обняла свои скрещенные ноги, черные волосы чернильным шатром покрывали ее плечи.
– Она старается быть ко мне доброй, как прежде. Хотя это должно быть для нее ужасно. Иногда она убегает от меня, не может находиться со мной в одной комнате. Она ведь не знает, что я у нее ничего не отниму. Ведь я же не сделаю этого, нет? – Она неуверенно перебирала пальцы на ступнях, искоса поглядывая на него.
Он промолчал, и она быстро пробралась к нему, прижалась к его спине и обняла его сзади.
– Не мог бы ты быть с ней приветливее? Хотя бы иногда говорить ей доброе слово? Улыбнуться ей? И детям уделить немного больше времени?
Он недовольно хотел стряхнуть ее с себя, но она вцепилась в него крепко, как обезьянка. Как будто в ее коже были крючочки, а ее рот прилип к его плечам, как присоски каракатицы.
– Не знаю, что вас отталкивает друг от друга. Что бы это ни было… Дети не виноваты. Они тоскуют по тебе больше всего.
Ее объятия грозили его удушить. Он сгорал от бешенства за ее дерзость. От стыда, что она беспощадно сунула правду ему под нос, будто втирая соль в открытую рану.
– Что ты можешь об этом знать. Отпусти меня.
– Я знаю, – прошептала она ему в затылок, – что у тебя большое сердце. Достаточно большое для меня и для твоих детей. И наверняка достаточно большое, чтобы там нашлось местечко и для госпожи. В это я твердо верю.
Рахарио метался по спальне, как тигр.
С того момента как он вернулся утром из поездки, он еще не видел Мей Ю. Она должна была знать о его прибытии – он заранее отправлял посыльного с известием; в ванной наготове лежали свежие полотенца и одежда, а на белых простынях горел цветок гибискуса.
Но ее самой не было.
В конце концов он отправил Кембанг разыскать ее; его тоска по ней уже вставала на дыбы, а по краям темнела от тревоги.
Дверь в сад открылась, и он резко повернулся.
Солнечный свет, ворвавшийся в комнату из-за ее фигурки, заставил ее светиться, будто она погрузилась в чистое золото, от этого видения он перестал дышать. Но оно тут же развеялось, когда она закрыла за собой дверь. И робко стояла, опустив и сцепив руки, понурившись.
– Ты велел меня позвать…
В два-три широких шага он очутился подле нее, рванул ее к себе и закружил, она только пискнула. Смеясь, она держалась за его плечи; колени на его боках; он подхватил ее под бедра и понес к кровати, осторожно лег с ней, жадно целовал.
Поцелуи, в которых ее рот странным образом не участвовал.
– Я так скучал по тебе, – бормотал он, не отрываясь от ее губ.
Его рука пыталась нашарить край ее кебайи, чтобы скользнуть под него; ее пальцы быстро сомкнулись на его запястье, отвели его.
– Нет, – напряженно прошептала она. – Пожалуйста, не надо.
Он медленно поднял голову.
– Ты что, не рада меня видеть?
– Рада, – робко дрожа, ответила она.
Его взгляд растерянно блуждал по ее лицу. Часто моргая, она устремила взгляд вверх на балдахин, в глазах стояли озерца слез.
– Что-нибудь случилось за время моего отсутствия?
Она кивнула; озерца перелились через край, из уголков глаз потекли ручьи.
– Я не хочу, чтобы ты на меня рассердился, – из ее горла вырвался полувсхлип.
Неожиданный, жестокий удар, где-то в его желудке. Он сел, провел рукой по волосам, в которых за последние недели прибавилось седины. Гнева он не чувствовал, только печаль и что-то вроде пустоты. Он должен был предположить, что в долгой перспективе был староват для такой девушки, как она; они никогда ничего не обещали друг другу.
– Как его зовут?
Он услышал, как судорожно она втянула воздух, а потом рассмеялась.
– Дай мне руку.
С загадочной улыбкой она провела его ладонью по своему животу.
– У него еще нет имени. Или у нее.
Краем глаза он заметил, как испуганно она смотрела на него, закусив нижнюю губу. Его ладонь дрожала от тепла, исходившего от маленькой выпуклости под ее саронгом, это тепло поднималось вверх по его руке и с могучим ударом устремилось в самое его нутро. Как жаркий тропический ветер, что дул ему в лицо на палубе, разметывая волосы и напоминая о вкусе счастья, так это ощущалось и теперь.
– Ты не сердишься на меня?
Он не издал ни звука, только помотал головой.
Ребенок. Дитя Мей Ю. Девочка, которая будет носить ее черты. Мальчик с ее улыбкой.
Он осторожно поднял кебайю, развязал тесемки саронга и прижался губами к ее животу, внутри которого плавало их дитя, еще крошечное и не оформившееся.
Глазные яблоки за его закрытыми веками казались горячими.
Расстелив на траве покрывало, Лилавати сидела в саду. Глаза ее то и дело обращались к дому, который за последние недели вырос на участке.
По сравнению с основным домом он был не больше хижины, в нем намечалось не больше трех или четырех комнат на этаже, но строился он солидно и тщательно, близко к реке и на глухом фундаменте на случай, если река Серангун выйдет из берегов. Возведенный на уважительном расстоянии от основного дома, он тем не менее был заметным, и даже если не бросался в глаза Лилавати, она все равно знала, что он есть.
Новый дом для китайской возлюбленной ее мужа.
Не миниатюрный вариант Кулит Керанга, но с каменными львами, которые охраняли его, и с изогнутой крышей из красной и зеленой черепицы, которая в четырех углах завершалась телами драконов – как привет родине Мей Ю. Храм, чтобы поклоняться этой богомерзкой связи. Продолжающееся унижение Лилавати; с таким же успехом он мог бы воткнуть в ее сердце кинжал.
Она чувствовала, как Эмбун, сидящая рядом, наблюдала за ней – глаза ее были похожи на кофейные зерна, – и она снова перевела взгляд на Шармилу, топавшую тут же на толстых ножках, волоча за собой куклу. Она чувствовала также, какое возмущение поднимается в душе Эмбун, это было слышно по ее сопению. Как будто эта крепкая нянька того и гляди лопнет, если не даст волю своему сердцу.
– Меня это, конечно, не касается, – не выдержала Эмбун. – Но как вы только можете это терпеть! Мало того что он затащил эту китайскую девчонку к себе в постель, на ваших глазах! Так теперь она еще и принесет ребенка и не стыдится этого!
Ливавати молчала.
Она бы и рада была ненавидеть Мей Ю, но для этого она была слишком привязана к ней; и дети ее любили за добрый нрав, из нее получилась бы хорошая няня. Скорее она испытывала к ней сострадание, что это нежное создание попало в руки такого похотливца. Хотя сияние ее глаз, свечение ее кожи говорили совсем о другом. Но может быть, ей нравилось, что ее берут насильно и обращаются с ней грубо; у китайцев ведь никогда не знаешь, что они чувствуют.
С берега реки доносились смех и крики Феены и Харшада, они прыгали с причала в воду. По крайней мере один раз он сдержал слово и научил обоих плавать. Но больше ничего.
В последнее время он стал бывать с ними чаще, но не понимал, что требовалось терпение, пока дети привыкнут к нему и почувствуют доверие после того, как он долгое время совсем не замечал их и окатывал переменным душем своего настроения. Им было безразлично, что отец теперь уходил в море не так часто и не так надолго; в их маленьком мире, не смыкающимся с миром отца, это не имело значения.
Он и с Лилавати теперь старался быть приветливым, спрашивал, как у нее дела, иногда дарил улыбкой. Но никогда это не исходило от всего сердца.
Это было не то, о чем она просила богов. Она чувствовала себя обманутой, довольствующейся жалкими крохами, тогда как китайская девушка была осыпана всем тем, о чем Лилавати не только давно тосковала, но что ей полагалось.
Подлую игру затеяли с ней боги, хотя Лилавати делала все, чтобы склонить их на свою сторону.
С тех пор как ее родители умерли, у нее больше не было никого, кроме детей и Эмбун да горстки других женщин в храме Шри Мариамман, но им хватало и собственных забот.
У кого больной ребенок. У кого заячья губа. У кого нужда в деньгах. У кого злая свекровь.
Но не одиночество.
Лилавати растопырила пальцы на подоле своего дорогого изумрудно-зеленого сари и поразглядывала драгоценные кольца, поправила тяжелые браслеты, усыпанные самоцветами.
– Ты права, Эмбун, – ответила она с принудительным холодком. – Это тебя не касается.
Во все грядущие годы Рахарио будет вспоминать это время с Мей Ю как самое лучшее в своей жизни. Как самое счастливое.
Бурное время его юности, его молодые мужские годы отбушевали; кочевое существование подошло к концу в надежной тихой гавани. Лишь изредка он заглядывал в дом на Клинг-стрит посмотреть за порядком. Торговля золотом и драгоценными камнями, которую он взял на себя после смерти Висванатана, и без него шла привычным путем.
Он бросил якорь в обустроенном по-китайски домике, который построил на берегу реки.
Как пришвартованная лодка, он покачивался на реке своих дней, глядя с веранды домика на зимородков и стрекоз, когда Мей Ю дремала на его согнутом локте, а дитя под его рукой пиналось, будто пытаясь схватить его сквозь покров живота. Когда Мей Ю шила распашонки и башмачки, вышивая их драконами, лотосами и хризантемами, фениксами и головами тигра, он читал по-английски книгу. Иногда он откладывал ее и пересказывал Мей Ю истории по-малайски, массируя ее опухшие ступни; теперь ей были впору те шлепанцы, что он ей привез когда-то. Иногда она, кряхтя, присаживалась на берегу, когда он плавал в реке, и студила в воде ноги с разбухшими венами. Хихикала, когда он брызгался, выходя из воды и помогая ей подняться с ее тяжелым животом.
И когда им хотелось, будь то днем или ночью, они уединялись под шелковым балдахином новой кровати, рядом с которой стояла уже колыбелька, и любили друг друга, осторожно и нежно, укрытые бормотанием реки и шепотом сада.
Он и не знал, что жизнь может быть такой спокойной и мирной. Что счастье не обязательно должно быть опьянением, а иногда спокойно текущим потоком, который переполняет душу.
И он не испытывал нехватки моря; его мир состоял только из все выше вздымающегося небесного купола живота Мей Ю. Из медленно прибывающего океана под ним, пульсирующего в такт двух сердец, в котором росло и развивалось дитя, поторапливая день своего рождения.
Пустым взглядом Рахарио смотрел с веранды на реку. Глаза его горели; он не мог вспомнить, когда последний раз спал.
Сверток шевельнулся у него на руках; казалось, тельце, завернутое в платок, не весит и пары фунтов – возможно, потому, что сам он превратился в свинец. В камень.
Взгляд его опустился.
Шао дэ, – шепнула Мей Ю, увидев дитя. – Такая крошечка.
Она выглядела как морское существо, которое вынесло в этот мир волной. Преждевременно и все равно лишь после борьбы, которая длилась почти двое суток. Переливаясь из синеватого в пурпурный и бледно-розовый цвет, скользкая от крови и слизи. Сморщенная, как будто слишком долго проплавала в воде. Рот на раздавленном личике раскрыт в беззвучном плаче, который после шлепка повитухи перешел в тоненький, высокий звук.
Теперь, по прошествии нескольких часов, кожа ее приобрела цвет жидкого чая с толикой сливок. Глазки были зажмурены, но можно было предположить, что со временем они примут миндалевидную форму, наверняка такие же черные, как шелковистый пушок, покрывающий головку.
Его дочка.
Тихие шаги приблизились под шорох шелка и звон драгоценностей, и он поднял голову. Лилавати остановилась на изрядном расстоянии от него.
Они молча смотрели друг на друга.
Ее тело было намного сильнее, мощнее, чем тело Мей Ю, которое измучили и растерзали долгие родовые муки. Пока повитуха смазав руки маслом, не приложила дополнительные усилия, чтобы ребенок вышел.
Страдала ли так Лилавати когда-нибудь? Выдерживала ли она час за часом, плача и стеная, кричала ли до тех пор, пока не стало сил даже на крик, только на жалобный писк?
Этого он не знал, он никогда не присутствовал при этом и никогда об этом не спрашивал.
– Мне… очень жаль, – тихо сказала Лилавати. В голосе было искреннее сожаление.
Рахарио слабо кивнул. Разумеется, она знала. Кто-то из прислуги ей, должно быть, сказал.
– Скоро должна прийти кормилица. Я надеюсь, она здорова и окажется подходящей женщиной, молочной. Непросто было кого-то найти так внезапно. – Она тяжело вздохнула. – И я послала за священником в храм Тиан Хок Кенг. Я… я подумала, погребение должно быть исполнено по ритуалу ее родины. Разумеется, если ты не будешь против!
– Да, – хрипло выдавил он, язык будто из мертвого дерева. – Спасибо.
Они замолчали.
Щечки ребенка зарумянились; головка повернулась туда и сюда, налилась кровью. Открылась розовая почка ротика, издавая квакающие, отрывистые крики, которые рвали нити его сердца, которое, как ему казалось только что, было мертвым. Он неловко принялся качать дитя, похлопывая его снизу по спинке, как он это видел однажды у Лилавати.
Лилавати подошла ближе и протянула руки:
– Дай сюда.
Он невольно отпрянул, и ее глаза потемнели, обиженно и гневно.
– Я ничего ей не сделаю! Но ты же можешь ее уронить, ты ведь не знаешь, как обращаться с маленькими! – Испугавшись резкости в собственном голосе, она на мгновение замерла и добавила примирительно: – И вид у тебя такой, что ты еле держишься на ногах.
Он неохотно передал ей плачущее дитя и с удивлением смотрел, как она укачивает его на руках, нежно воркует и сует ему кончик мизинца, который оно тотчас же принялось жадно сосать.
– Как зовут-то тебя?
Смотри, Рахарио! Она красивая как роза!
– Ли Мей, – с трудом выговорил он.
Позаботься… позаботься о Ли Мей, хорошо?
– Ли Мей, – повторила Лилавати и тут же вплела это имя в свой ласковый шепот, купая в нем новорожденное дитя.
– Почему… почему ты все это делаешь?
Лилавати искоса взглянула на него:
– Ну уж не ради тебя! – Она перевела взгляд с ребенка на ее руках вдаль, на реку. – Мне знакома эта долина огня, крови и боли. Эта узкая тропинка между жизнью и смертью. Четыре раза я проходила по ней. Четверых детей я родила и одного похоронила.
Она опустила взгляд на Ли Мей. Лицо ее помягчело:
– Ни одно дитя не виновато в том, как его зачали и как родили. Каждое дитя заслуживает того, чтобы к нему были добры.
Удар хлыста, который он более чем заслужил; и когда умерла маленькая Кальпана, и когда ее похоронили, он был в море.
– Я унесу ее с собой, – прошептала она. – Я велела все приготовить: и колыбель, и распашонки, и пеленки. Попробуй уснуть.
Больше не удостоив его ни взглядом, она пошла, унося на руках ребенка.
Рахарио еще некоторое время стоял на веранде.
Мягко шевелились листья деревьев в дымчатой голубизне раннего вечера, спокойно и ровно текла мимо река Серангун. В саду царили тишина и покой. Как будто ничего не случилось. Как будто в этот страшный день не разрушился мир.
Он сомневался, что сможет еще когда-нибудь уснуть. Медленно повернулся и пошел в спальню.
Только сладковатый, медный запах крови напоминал о поле битвы этого дня.
Много сражений провел он, когда был молодым, убил нескольких человек, несколько раз уносил на себе тяжелые раны – от пули и от кинжала. Но удара такого жестокого, как от рождения Ли Мей, не было.
Кровь. Так много крови.
Алой, как анемоны на морском дне. Карминной, как сырое мясо. Темно-пурпурной, почти черной. Слишком много крови для такого небольшого, нежного тела, как было у Мей Ю.
Только когда он понял, что все кончено, он дал себя вытолкать вон из комнаты, с новорожденной девочкой на руках; может быть, он сам взял ее из колыбели, этого он не помнил.
За это время они все успели убрать, заново застелить постель, покойную обмыли и обрядили в халат из голубого шелка, который он подарил ей когда-то.
Казалось, в комнате все еще слышался отзвук ее голоса, истерзанного родовыми муками, обскобленного изнеможением жизненных сил. Она выглядела удивленной, несмотря на сомкнутые веки, как будто и сама не верила, что мертва. Белым как чунам было ее девичье лицо, ее еще совсем детские руки и ноги. Ее живот под шелком халата синим куполом возвышался, как небо над пустым, мертвым миром.
Дрожа, он опустился на кровать, вытянулся рядом с ней и обнял, омыл на прощание соленым морем слез.
За стенами дома шумели плотные потоки дождя, громко барабаня по крыше. Рахарио спустился по лестнице.
Все напоминало ему о Мей Ю, каждый шаг, каждый жест, каждый удар сердца. Дни напролет он тщетно прислушивался, не раздастся ли ее тонкий голосок, а ночами искал ее теплое тело. С каждым вздохом он чувствовал пустоту, оставшуюся после нее. Эта бабочка с железными крыльями – она оказалась слишком нежной, чтобы пережить рождение новой жизни.
Слишком кратким было его время с ней; чуть больше года провели они вместе, любовниками, от южного ветра одного года до западного ветра следующего.
Лилавати только что забрала Ли Мей у кормилицы и тут увидела его, стоящего в проеме двери, и помахала ему. Крупная крестьянка смущенно упрятывала в кебайю свою могучую грудь, из которой еще капало молоко. У своего толстенького сынка, который голышом ползал по полу, она отняла погремушку, которую тот радостно сотрясал, подняла его к себе на бедро и поспешно удалилась из комнаты, на ходу пробормотав приветствие.
– Она очень старается, – сообщила ему Лилавати, положив Ли Мей себе на плечо и похлопывая ее по спинке. Дитя причмокнуло и с бульканьем отрыгнуло захваченный при сосании воздух.
– Скоро ты будешь кругленькая, как колобок, да ведь, Ли Мей? И такая же прелестная. Разве нет, Рахарио? Взгляни-ка!
Лилавати повернулась вполоборота, чтобы Рахарио мог взглянуть на дитя, которое как раз присосалось к плечевому шву на ее чоли. Детское личико налилось, и теперь были видны темные миндалевидные глаза, сонно моргающие.
– Ты хочешь ее опять заб… что это? – Лилавати удивленно смотрела на бархатный мешочек, который Рахарио протягивал ей.
– Хочу поблагодарить тебя. За… все это. – Он сделал рукой неопределенный жест и снова протянул Лилавати мешочек, уже настойчивее. – Ты не хочешь взглянуть?
Ее глаза сузились.
– И я… я хотел просить у тебя прощения. – Его чуть не задушили собственные слова.
– Украшениями?
В том, как она подложила ладонь под головку ребенка, как опустила его на колени, чтобы баюкать, сказывались нежность и настоящая материнская любовь. Однако на ее лице отражались гнев и презрение.
– Я сказала тебе однажды, что я делаю это для Ли Мей. Не для тебя. – Ее взгляд скользнул мимо Рахарио. – Я очень давно поняла, что ты никогда не полюбишь меня. Давно с этим примирилась. Как и с тем, что у тебя есть другие женщины. Несмотря на это, я всегда пыталась быть хорошей женой. Я никогда не жаловалась тебе, никогда не вызывала на ссору. Ты отвечал мне на это лишь жестокостью или равнодушием. Как будто…
Что-то вроде всхлипа вырвалось у нее, и она пару раз сглотнула, прежде чем снова овладеть собой.
– Для тебя было как будто сущим наказанием быть женатым на мне. – Она вскинула подбородок и пристально на него посмотрела. – Есть вещи, которые нельзя простить. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь. Но если ты хочешь мне что-то возместить, лучше сделай это с детьми. Они тоскуют по отцу, который был бы для них чем-то бо́льшим, чем просто мужчина, зачавший их в грубом, бесчувственном соитии.
Лилавати повернулась к нему спиной и поцеловала Ли Мей в головку.
– Если ты и правда хотел бы этого… Дети тут рядом.
Как только он вошел в комнату, голоса детей оборвались.
Они замерли посреди движения, кубик для строительства еще зажат в поднятой руке, ложка, которой кормили куклу, застыла на полпути ко рту. Округлив глаза, они молча таращились на него. Почти испуганно.
Когда они успели вырасти? Феена с косой толщиной в руку и с тонкими изящными конечностями, умопомрачительно красивая: большие карие глаза и мягкие черты; должно быть, она уже почти в том возрасте, в каком Мей Ю тогда сняли с корабля. Из Харшада получился жилистый подросток, с открытыми, живыми чертами. Маленький оранг-лаут, весь насквозь, для которого наверняка главной радостью было бы выходить в море на парусной лодке и рыбачить.
Рахарио ни разу не подумал, чтобы взять его с собой. И чтобы послать детей в школу, научить их хотя бы читать и считать, а обо всем остальном заботилась Лилавати. Об этих детях, которые в такой же степени были его плоть и кровь, как и Ли Мей, но Ли Мей он брал из колыбели, когда она плакала, баюкал ее на руках и тихо говорил с ней, пока она не успокаивалась. Случалось, он ночь напролет носил ее по дому, пока она не накричится до изнеможения.
Стыд высосал все силы из его костей, вина и раскаяние повергли его ниц, и он зарылся головой в ладони. В ушах шумело и пульсировало, шепот детей он слышал будто издалека.
– Тебе грустно?
Он поднял голову. Черные неукротимые кудри, перед ним стояла маленькая Шармила, вопросительно устремив на него взгляд. В том, как прочерчивалась вертикальная складочка над переносицей и как был прорисован рот, как она вздергивала остренький подбородок, она была точной копией его младшей сестры.
– Да. – Голос его был тяжелым и вязким. – Очень грустно.
Девочка выпятила животик, задумчиво покусывая жемчужными зубами нижнюю губу. Она совершила над собой какое-то преодоление и протянула ему свою донельзя заласканную куклу. Губы его дрогнули – наполовину в улыбке, наполовину в усиленной попытке не сломаться перед детьми.
– Спасибо. Ты меня очень порадовала.
Он учащенно моргал, вертя в руках куклу, а когда Шармила неловко положила маленькую ладошку ему на голову, слеза скатилась из уголка его глаза.
Он робко улыбнулся дочке и осторожно взял ее за локоть. Шармила медлила, оглядывая его так основательно, как будто он был неведомым зверем, про которого не знаешь, можно ли его погладить или он укусит. И все же она сделала полшага к нему, потом еще шаг – и обняла за шею.
Рахарио задрожал, прижимая ее к себе, вдыхая ее аромат, который странным образом был ему незнаком, но и чужим тоже не был. Утешение, исходившее от этого маленького существа, одолело его, и он дал волю слезам.
Привлеченная смехом и радостными голосами детей, которые старались перекричать друг друга, тогда как в их хор вплетался бас Рахарио, Лилавати подкралась ближе и остановилась в тени дверного проема.
Прижав к себе куклу, Шармила сидела на корточках между коленей отца, а тот внимательно слушал, как Харшад объяснял ему, что они с Фееной тут строят. Глаза Феены недоверчиво вспыхивали; как старшая из них, она лучше была знакома с отцовским переменчивым настроением. Она знала, как опасно бывает поддаться радости, когда он с ними играл. Поскольку неизбежно последует горькое разочарование: видеть его несдержанным или гневным, а то и вообще подолгу не видеть. И тоска, которую Лилавати все же прочитывала в ее глазах, причиняла ее сердцу боль.
Боль, которая тут же смягчилась, когда Харшад, запрокинув голову, громко смеялся тому, что сказал Рахарио, а отец ерошил ему волосы. И уголки губ Феены тоже расползлись в улыбке, и она смущенно потупилась над кубиками, но то и дело с блаженством и жаждой поглядывала на отца.
Больше всего Лилавати радовалась удивлению в глазах Рахарио. Его вниманию, которое он уделил детям, и его улыбке. Потому что она исходила от сердца.
Тигр был укрощен; своего укротителя он нашел в лице неумолимой жестокости смерти.
Теперь ты видишь, каково это, когда тебе вырывают сердце. Когда жестоко перемалывают все твои мечты и надежды.
И она немного устыдилась своих злорадных мыслей.
Лилавати тоже на свой лад горевала по Мей Ю. По этому нежному, мягкому созданию, которому была дарована такая короткая жизнь; она с тех пор каждый день молилась о душе Мей Ю, чтобы ей было обеспечено счастливое возрождение.
Лилавати нежно терлась щекой о головку Ли Мей, поглаживала ее по спинке, которая вздымалась в дыхании тяжелого сна.
Позднее она принесет богам щедрую жертву и зажжет целый пучок ароматных палочек за Мей Ю. Не только потому, что она на прощание с этим миром оставила им в подарок это красивое дитя.
Но и потому, что Мей Ю удалось то, в чем перед тем потерпели поражение боги.
Сердце Лилавати было легким и полнилось надеждой, когда она поглаживала крохотные ступни Ли Мей.
Эти ступни, у которых между вторым и третьим пальчиками были натянуты плавательные перепонки, как у утки или выдры.
23
В 1867 году для Сингапура началось новое летоисчисление.
Наконец-то в Лондоне не только вняли жалобам и требованиям коммерсантов, но и провели одно решение. С 1 апреля Сингапур становился колонией короны, теперь не только равноправной с Калькуттой, но и равноценной и прежде всего независимой. Управляемой губернатором, который впредь назначался не Бенгалией, а Вестминстером, при поддержке собственного кабинета как для законодательства, так и для исполнения законов.
Отводок пустил в морское дно собственные корни, обрубив некогда питающие, а затем все более удушающие воздушные корни материнского растения. Новый драгоценный камень засверкал в золоте британской короны. Хотя и маленький, конечно, и не такой чистой воды, как весомый бриллиант огромной Индии, но не менее гордый; сапфир, который победно направлял свое синее, как небо и море, сияние навстречу своему будущему.
Поразительно быстро торговля оправилась после кризиса. Вольный порт Сингапур был слишком важным, имел слишком удачное расположение, чтобы без него могли обойтись в Юго-Восточной Азии, а окончание Гражданской войны в США и конец Тайпинской революции в Китае поспособствовали тому. В Нью-Харборе только что возник второй сухой док, который должен был облегчить, а главное, ускорить разгрузку и погрузку товаров на большие новые пароходы, тогда как на реке Сингапур, безнадежно забитой сампанами и тонг-кангами, все это требовало больше времени.
Открытия Суэцкого канала ожидали с нетерпением. Еще не знали, чем он обернется для Сингапура – благословением или проклятием. Уверенность была только в одном: этот канал, соединяющий Средиземное море с Красным, изменит мир.
После десятилетий, когда над островом отшумели, словно тайфуны, тревожные времена, Сингапур поглядывал на спокойное, мягко волнующееся море, над которым с голубого неба улыбалось солнце.
Новая эра наступила и в Л’Эспуаре: ежедневную работу теперь исполнял почти полностью сменившийся штат прислуги.
Яти хотя и с тяжелым сердцем, но прислушиваясь к нужде своих усталых костей, удалился на покой, и его сменили двое молодых мужчин. Пожилой бой Один вернулся на родину в Китай, бой Два заступил на его должность, а свою передал бою Три, при котором проходил обучение новичок бой Четыре.
После смерти Ах Тонга Семпака недолго оставалась в Л’Эспуаре. Через несколько дней после похорон она собрала свои вещи и накопления, получила от туана Финдли изначально обговоренное выходное пособие и после трех десятилетий услужения семейству Финдли вернулась в родную деревню. На место Семпаки заступила Картика, сохранив, однако, за собой обязанности няньки своей ненаглядной Джо. В помощь ей поступила юная Марни, стройная и хорошенькая, как лилия долин, и столь же радостная и расположенная к болтовне, сколь и работящая.
Не беспокойся, мэм Георгина! – твердым голосом заверила ее Картика относительно перемен в доме. – Я-то никуда не денусь, останусь при тебе, при обоих туанах и при Путри! Что мне делать-то на материке. Привязать себе к ногам гири замужества, чтобы муж помыкал мной и просаживал наши деньги ни петушиных боях? Нет, мэм Георгина, это не то, чего бы я хотела от жизни. Здесь у вас другое дело, мне тут хорошо.
Это действовало благотворно – встречать в доме ее знакомое лицо и лица двух старых боев, постепенно привыкая к новым.
– Колония короны. – Гордон Финдли помотал головой и тщательно сложил газету «Стрейтс таймс». – Сингапур – колония короны.
Нельзя было не услышать в этих словах гордости, нельзя было не увидеть ее в его довольной ухмылке; в конечном счете именно такие коммерсанты, как Гордон Финдли, и сделали Сингапур тем, чем он был сегодня.
Он отложил газету на чайный столик и откинулся на стуле. Положив руки на подлокотники, смотрел в сад, где новые садовники Джебат и Джохан копошились хотя и усердно, но все еще бестолково; в отличие от Ах Тонга они предпочитали жить в своем кампонге, не переселяясь в жилище для прислуги этого дома.
– Мы об этом и мечтать не могли, – тихо сказал он. – Когда приехали сюда.
Мы. Он имел в виду торговцев первого и второго «призыва», давних спутников и конкурентов, из которых не осталось почти никого. Большинство передали свои предприятия в руки молодым и вернулись на старую родину, многие за это время умерли – кто здесь, кто в Великобритании. Так много было в последнее время объявлений о смерти и некрологов в английских и шотландских ежедневных газетах, которые Гордон Финдли регулярно выписывал. Так много было похорон, на которых присутствовал он на новом кладбище на Букит Тима-роуд.
Смерть Ах Тонга глубоко его тронула, Георгина это знала, а также смерть Аниша, которого он знал еще дольше. Уже больной и слабый, Аниш хорошо обучил преемника, но Гордон Финдли все равно жаловался, что у Селасы еда, хоть и приготовленная по рецептам Аниша, получается слишком малайской, а не индийской, и слишком мало сахара было в сладостях.
Печаль по понесенным потерям была его способом отметить перемены времени. Смену его поколения на поколение более молодых.
Георгина с улыбкой поднимала глаза от книги и разглядывала отца – не без тревожного тянущего чувства в груди.
Жизненные бури и годы, которые в последнее время наваливались тяжелее, чем прежде, еще больше согнули эту высокую, но уже обветшавшую березу; дело шло к семидесяти. Кора окаменела, разъеденная солью морского воздуха, ствол потрескался от времени и стихий. То и дело его мучила зубная боль, и три коренных зуба, которые доктор Пуарон вырвал у него в свое время, теперь обеспечили ему впалые щеки, из-за чего крепкий нос стал еще сильнее выдаваться вперед; подбородок тоже стал занимать больше места на этом лице, которое превращалось в морщинистый пергамент.
С преувеличенно длинными руками и ногами, он немного походил на усталого кузнечика, который, едва шевелясь, отдыхал на листе, а его запах приобрел некую пыльную ноту. Гордон Финдли постарел.
– Когда я приехал сюда, у меня был с собой чемоданчик с рубашками и немного денег, – сказал он после некоторой паузы. – Я приехал только для того, чтобы присмотреться к товарам для фирмы, которую я основал с твоим дядей. Мне было двадцать семь. Сингапур тогда еще не был настоящим городом. Всего лишь порт со складскими помещениями, китайским рынком и малайскими кампонгами. Но я увидел, что здесь было все для того, чтобы переправлять товары дальше…
В его глазах, казалось, отразились все сокровища Азии, разложенные на причале реки Сингапур как на базаре. После стольких лет все еще удивленный, он помотал головой:
– И я написал Этьену, что мы должны перенести фирму сюда. На эту золотую жилу. И мы арендовали склад. Не тот, который у нас сейчас. То было другое помещение, дальше по течению. Его давно нет.
Несмотря на фиаско с поставкой бракованных черепашьих панцирей, он передал Полу фирму в единоличное управление. Лишь раз или два в неделю он ездил на площадь Раффлза – и только на пару часов. Не столько для того, чтобы присмотреть за порядком, как иногда казалось Георгине, сколько из привычки, а может быть, и из-за сентиментальной ностальгии.
Как если бы на жизненном пути он достиг развилки и в нерешительности замер, не зная, куда свернуть, и повернулся назад, оглядываясь в прошлое. Его рот, от которого осталась скорее тонкая линия разреза, растянулся в небольшую улыбку.
– Твоей матери это совсем не понравилось. Мы поженились молодыми, только что обустроились в нашем домике в Калькутте, и ей часто бывало плохо.
Тень легла на его лицо, он помедлил и торопливо продолжил:
– Климат в Бенгалии, знаешь? Сингапур сразу показался мне более приемлемым для нее. С морем у самого порога, с ветром. Я хотя и решил забрать ее сюда, но хотел немного выждать, посмотреть, действительно ли я здесь останусь. А сперва подыскать подходящее жилье. И тогда ведь совсем не было принято, чтобы сюда привозили жен. Все здесь было слишком ненадежно и небезопасно. О том, чтобы на это время она снова перебралась к своей семье в Пондишери, она и слышать не хотела. – Он засмеялся. – И она просто собрала вещи и приехала сюда. Одна. Только Аниша с собой прихватила. Потому что я написал ей, что мне тут не хватает индийской кухни. Бог знает, где она взяла для этого столько сил! Мы поселились в двух комнатах над складом, Аниш спал в кухне. При том что твоя мать привыкла к совсем другим условиям. Буассело ведь очень благородные, богатые люди. Но это ей ничуть не помешало.
Он задумчиво кивал своим воспоминаниям.
– Вот такая она была. Моя Жозефина.
На последних словах он сглотнул и лишь что-то шептал. Глаза его влажно мерцали. Георгина перегнулась к нему и положила ладонь на его руку.
В лице Гордона Финдли что-то дрогнуло; обеими руками, сухими и узловатыми, как древесные сучья, он обхватил пальцы дочери и поглаживал их, неумело, но нежно и немного смущенно.
Медленно, легкими толчками ног, Рахарио плыл в прозрачной нефритово-зеленоватой воде. Даже не вздымая песок со дна, которое тянулось почти под самым его животом. Стайки рыбок просверкивали мимо него, водоросли мягко его овевали, гладили по ногам.
Его рот, усыпанный жемчужинами воздушных пузырьков, растянулся в улыбку. Он схватил раковину, наполовину зарытую в песок, сильно оттолкнулся от дна и вынырнул на поверхность.
В видавших виды штанах, мокрый, он направил лодку по ветру, наслаждаясь сильным бризом в лицо и горячим солнцем на коже.
По меркам своего племени он был уже почти старый человек, где-то в начале своего пятого десятка, с седыми прядями в волосах и в бороде, с глубокими веерными морщинами возле глаз. Достаточно старый, чтобы быть дедом и главой клана, но он не ощущал себя старым.
Он лишь немного сдал в силе, выносливости и быстроте, успешно возмещая это за счет опыта, у него еще были целы все зубы, хоть и не такие белые, как раньше.
Насколько позволяли занятия в школе, он выезжал вместе с детьми. Учил их ходить под парусом, плавать и нырять в открытом море, ловить и потрошить рыбу и готовить ее на лодке. Харшада он научил обращаться с гарпуном, который для Феены был слишком жестоким, слишком кровавым орудием, а Шармила была еще мала. Он передавал им знание о море, ветре и звездном небе и рассказывал старые легенды оранг-лаут, объяснял их гордые традиции. Харшад был захвачен больше всего тем, что его отец был когда-то пиратом, и просил его снова и снова рассказывать о битвах и приключениях.
Однажды он побывал со всеми четырьмя детьми на реке Калланг, незадолго перед смертью своей матери. Никто ему ни слова не сказал на сей счет, но он видел по своей матери, по своим братьям и невесткам, по своим сестрам и их мужьям, как их огорчало то, что трое его детей носили индийские имена и выглядели как индийцы, а у четвертой в жилах явно текла китайская кровь. И наоборот, Феена, Харшад и Шармила смотрели на своих предков во все глаза и впитывали все, что касалось их незнакомой родни; но этот чужой мир сбивал их с толку; они даже говорили на разных малайских наречиях.
Как я рад, что мы живем дома, а не там, – стыдливо подвел итог Харшад, и Рахарио понимал его. Он и сам чувствовал себя там чужим, хотя в его жилах текла та же кровь.
Его часто тянуло на воду просто так, только ради того, чтобы пройти под парусами. Понырять за раковинами, иногда за старинными монетами или другими затонувшими предметами. Так, как он делал это раньше, до того, как решил разбогатеть на сокровищах моря.
Чтобы не забывать, откуда он родом. Кто он такой.
Взгляд его блуждал по берегу и остановился на темной тени, грозно разросшейся над стеной ограды. Пальмовые опахала, ветки с листвой и разросшиеся кусты, которые стояли так тесно, что казались переплетенными.
Одному лишь ветру он предоставил свое судно, и именно сюда оно его принесло.
Давно уже он не тратил ни одной мысли на воспоминания о Нилам. Как будто ее и не было никогда.
Лишь в последнее время ее вынесло наверх со дна его памяти, как обрывки водорослей. Когда Харшад удивлялся его ранам, он вспомнил, как пальцы маленькой девочки латали его на этом месте. Когда Феена проливала слезы стыда из-за того, что она была самой старшей в школе среди тех, кто бился над азами букв и цифр, и он хотел утешить ее тем, что сам он был еще старше, когда научился читать.
Он решительно ослабил парус и погреб на веслах к берегу, где вытянул лодку на песок.
Он прошел несколько шагов по Джалан Пантай, взглянул через проезжающий мимо экипаж и через воловью повозку на дом. Дом покосился. Крыша поросла лишайником, чунам стен посерел, а в щелях образовалась прослойка мха. Вся улица выглядела запущенной и пришедшей в упадок; возможно, так ему только казалось, ведь сам он теперь был богатый человек, живущий в большом и красивом доме.
Вернулась ли она из Англии? Живет ли здесь снова после того, как они потеряли дом на Орчерд-роуд?
Довольная улыбка тронула его губы.
Какое наслаждение ему доставляло тогда тянуть одну за другой нити, обрушавшие почву под торговлей шотландца. Он знал, что Бигелоу наводил о нем справки у Вампоа и у других тауке. Но он знал также, что сети, раскинутые белым туаном, доставали недостаточно далеко, а ячейки в них были слишком крупными, чтобы выловить что-нибудь из торговли малайцев и индийцев.
В его улыбке появился налет презрения. Этот Бигелоу был не только плохим коммерсантом, он был и плохим знатоком людей. Позволил случайному торговцу вытянуть из своего кармана деньги за целый корабельный груз, не осмотрев его своими глазами.
Она предпочла ему дурака из оранг-путих. Слепого дурня, который не почуял неладное, даже когда жена изменяла ему.
Последнее, что он слышал о них, было то, что торговля стояла на той точке, где он давно наметил ей оказаться: на грани полного краха.
А потом его поцеловала Мей Ю.
Мей Ю была для него как опиум. Она уменьшила боль старых ран, смягчила гнев и ненависть, увлекла его в блаженное забвение. В мягкое, мирное счастье, которое не оставило места ни для чего другого. Жить без нее было теперь болью его души и тела.
Он оглянулся, сделал пару шагов по песку, сел и смотрел на море, на дорожку из зыбкого шелка, поблескивающую бирюзой и синевой. Корабли курсировали с надутыми парусами у берегов Батама, мимо сновали рыбацкие лодки, и шум от набегающих волн был как его собственное сердцебиение.
Вблизи моря, на реке Мей Ю была ему ближе, словно добродушный дух воды. Эхо ее голоса шептало в волнах, ее улыбка показывалась из солнца и облаков, ветер струился по его коже как ее шелковые волосы. И по прошествии почти двух лет он все еще чувствовал разрыв в сердце, который оставила ее смерть.
Утешением ему были дети. Особенно Ли Мей. Она порхала по дому вовсе не кругленьким колобком, а нежной бабочкой, похожая в этом на мать. Всегда с улыбкой на личике, очень похожем на лицо Мей Ю, хотя он узнавал в ней и свои черты: в изгибе губ, напоминающем лук Амура. В линии крупноватого носа и верхнего века. В форме ушных раковин. И в плавательных перепонках между ее пальцами на ногах, таких же, как у одного из его братьев, у сестры и у двоих его дядьев.
Это сулило счастье и было знаком того, что Ли Мей принадлежит древнему племени оранг-лаут.
Он был в большом долгу перед Лилавати. Не только потому, что она заботилась о Ли Мей как о своем кровном ребенке. За все те годы, что он карал ее за причиненное ему другой женщиной. Огромная несправедливость, непростительная и глубоко постыдная.
Ему потребовалось время, чтобы устранить обломки, оставленные бешеной пляской его демонов, и только благодаря большому, сильному сердцу Лилавати. Он никогда не будет любить ее так, как ей того хотелось бы, как она того заслуживала, но он научился считаться с ней. Чтить ее тело, это богатое, темное поле, в котором его семя взошло четырежды. Это тело на его глазах созрело от сочной юности до женственной пышности, размягчилось и обрело новые формы от приливов и отливов беременностей и родов, кормления детей. Тело, которое она снова доверила ему далеко не сразу. Которое он встретил с желанием, выросшим из благодарности. Из самоотверженной нежности, которой его научила Мей Ю.
Через несколько недель он снова станет отцом; на сей раз он останется с Лилавати, возьмет свое дитя на руки с его первым вздохом, с первым криком.
Он почувствовал на себе чей-то взгляд и повернул голову. Его глаза встретились с парой сияющих синих глаз.
Нилам.
Не может быть. Нилам давно не девочка. Собственно, и тогда она не была такой маленькой девочкой.
И все-таки в ней все напомнило ему Нилам.
То, как эта девочка в саронге и кебайе быстро отвернулась. То, как она наклонила голову, присев, чтобы рыться в сыром песке, и при этом снова и снова косилась в его сторону. И ее волнистые волосы, заплетенные в косу, походили на волосы Нилам, хотя и не были такими темными; цвета пальмового дерева, долго пролежавшего на солнце.
Она изнывала от любопытства, то и дело бросала на него взгляды, прикрываясь при этом безразличием, которое его забавляло. Она то и дело заходила на несколько шагов в воду, потом подчеркнуто самозабвенно бродила по песку; иногда наклонялась что-нибудь поднять, снова отбрасывала и махала рыбакам в море с сияющей улыбкой.
До тех пор, пока не приблизилась к нему.
Остановившись, она сверлила песок носочками и разглядывала его.
– Что ты тут делаешь? – Малайский звучал в ее устах совершенно естественно.
– Я тут сижу и смотрю на море.
То, как она свела брови в две изящные арабески, полоснуло по его раненому сердцу, настолько она походила при этом на Нилам.
– Просто так?
– Просто так.
Она задумчиво закусила губу и сделала нерешительный шаг к нему, который он расценил как приглашение продолжить разговор.
– А что делаешь ты?
– Я раковины ищу. – Она надула губки: – Но так и не нашла пока ни одной красивой.
Должно быть, она была дочерью Нилам, это было то же узкое лицо. Глаза были того же разреза, с теми же густыми ресницами. Однако радужка сияла более ясной, натуральной голубизной, без того своеобразного сиреневого оттенка, как у диких орхидей на речных берегах. Нос был маленький, хорошенький, такой же рот, а подбородок казался мягче, не такой энергичный; не была она и такой худенькой, как Нилам тогда.
Его жарко пронзила мысль о Нилам. Георгина. Нагая в его руках, как она дрожала и изгибалась под ним, жарко дыша ему в ухо, на его кожу.
Должно быть, он слишком долго вглядывался в девочку; с подозрительной миной она отступила на шаг назад.
Сердце его заколотилось.
– Сколько тебе лет?
– Пять. – Она подняла правую ладошку с растопыренной пятерней, маленькую морскую звезду, которую гордо предъявляла как знак отличия. – Но скоро шесть. – К пятерне прибавился большой палец левой руки. – На будущий год, говорит мама.
Нет, то было уже очень давно; это ребенок Бигелоу, и его самого удивило, что разочарование пронзило его тоненькой острой иглой.
– Ты здесь живешь?
– Да. Здесь. – Она решительно показала на стену по другую сторону Джалан Пантай. На кусочек джунглей за стеной.
– Вместе с мамой?
Она кивнула:
– И с папой. И с дедушкой. И с Картикой. Это моя няня. – Ее носочки прочерчивали царапины на песке. – А еще у меня двое братьев. Но они в Англии. Где я родилась. Но этого я больше не помню.
– Нет, конечно же, не помнишь. – Он улыбнулся. – А тебе разве можно одной тут разгуливать?
Она залилась краской.
– Я умею хорошо плавать! – горячо возразила она в свою защиту. – Меня мама научила!
Разрыв, который оставила смерть Мей Ю, зиял все шире; а возможно, открылась куда более старая рана. Он резко поднялся на ноги.
– Беги-ка домой, – хрипло сказал он. – Твоя мама уже потеряла тебя и беспокоится. Мне тоже пора идти.
– Это твоя лодка? – спросила она вдогонку.
Он обернулся. Неприкрытая тоска стояла в ее глазах, и в этот момент она была так похожа на Нилам, что он жадно и судорожно втянул в себя воздух.
Я отниму у тебя все, что тебе мило и дорого, – эхом отдались в нем его собственные слова.
Ему хотелось схватить эту девочку, утащить в свою лодку и уплыть с ней отсюда на всех парусах. Нанести Георгине последний, уничтожающий удар. Завладеть частью ее и больше никогда не отдавать.
– А ну бегом! – прикрикнул он на нее. – Марш домой!
Девочка испуганно взметнулась и бросилась бежать, и сразу же он пожалел об этом.
Взгляд его упал в лодку.
– Постой!
Она развернулась на бегу. Ее поза, ее взгляд и то, как она теребила уголок саронга, и смесь страха, любопытства и такой невинной доверчивости, что его грудь больно сжалась.
Он подбежал к ней, присел перед ней на колени и протянул ей белую, величиной с кулак, раковину, которую перед этим достал со дна.
– Это тебе.
– Спаси-и-ибо! – Ее сияющий взгляд ранил его где-то в сердцевине тела.
Она была более открыта, более радостна, чем Нилам, и более простодушна. Ее не окружала мрачная тень, в ней не было преждевременной, недетской серьезности; он надеялся, это означало, что она росла в любви и заботе и никогда не была так одинока, как ее мать когда-то.
– А это отдай своей маме.
Раковина каури, пятнистая, как леопард.
– Такая есть и у меня! – восторженно воскликнула она. – Я нашла ее в павильоне! Под кроватью, в самом углу. А в выдвижном ящике нашла и другие вещи. Черный камень, похожий на корабль. И веер, но он сломан. И…
– Отдашь это маме, хорошо? – выдавил он из пересохшего горла. Он подавил в себе желание погладить девочку по голове или взять ее на руки. – А теперь быстро беги домой!
Прижав к себе ценные раковины, Джо легкими ногами бежала по саду. Мужчина был странный, немного страшный, но все-таки милый. Только выглядел ужасно печальным, когда она ему еще раз помахала от прохода в стене.
С клокочущим счастьем внутри она пробежала вдоль стены и продралась сквозь заросли. На деревянной веранде следовало соблюдать осторожность, некоторые доски там проломились. Через высокую траву легко упасть, а ступени были частично гнилые.
Джо внимательно перепрыгивала на те места, которые знала как надежные, и побежала в комнату с покосившейся кроватью.
Здесь было как под водой, сумеречно, почти темно. Мир в себе, погруженный в пугающе красивое зеленое мерцание. Воздух, который она вдыхала, был влажным и пах морем, водорослями и солью. Весело, что от того дяденьки пахло тем же самым, когда он опустился перед ней на колени.
Одной рукой она дергала покоробленный выдвижной ящик, пока он не выдвинулся на достаточное расстояние. В большом доме у нее была целая комната, полная игрушек, но ни одна из них не была так хороша, как ее тайные сокровища в этом ящике. Как весь этот домик.
Ее сказочный замок. Ее султанский дворец. Ее пиратский корабль.
Она нежно погладила неровный камень, который был заколдованным кораблем. И сломанный веер, в остатках облетевшей краски которого она открывала все новые магические картинки. Рядом лежали обломки гребня, который, несомненно, принадлежал когда-то заколдованной принцессе, и браслет из мелких ракушек, многие из которых раскрошились, но, несмотря на это, она иногда надевала его на запястье и любовалась им.
Белую раковину она положила среди мелких завитых раковин, найденных на пляже, когда она ходила с мамой плавать или гулять, среди одиночных створок в форме сердца и тех, что походили на витой рог сказочного существа. Она поднесла пятнистую коричневую раковину к такой же своей и сравнила их. Да, она была в точности такая же, только без скользкого мха.
Улыбка на ее губах погасла. Такие раковины просто так на песке не валяются, Джо это знала, да и мама ей говорила. Они встречаются только на глубине моря. Если она отдаст раковину маме, придется ей сознаться, что она была на пляже одна, хотя это ей и запрещалось; она еще не так хорошо умела плавать для такого огромного, дикого моря, была еще мала и слаба. А ведь она еще и разговаривала с незнакомцем и приняла от него подарок…
Лицо ее испуганно скривилось.
– Джо-хо! – Она вздрогнула, заслышав голос матери от дома, призывный и ласковый. – Где ты, Джо? Иди ужинать!
В панике она кусала губу. Она не хотела врать, но правда не сулила ей ничего хорошего.
– Джо-хо! Жози-Рози! Куда ты подевалась?
Завтра. К завтрашнему дню она что-нибудь придумает. Завтра она отдаст раковину маме.
От этого мудрого решения ей стало легче, она с трудом задвинула ящик и бросилась бежать.
24
Георгина не могла отвести взгляд от рослого, приятного на вид молодого человека, который мягкой поступью шагал рядом с ней по песку, с прямой спиной, руки небрежно засунув в карманы. Когда ветер, треплющий его кофейно-темные волосы, дул ему в грудь, его свободная рубашка навыпуск облегала его стройное тело, его широкие плечи.
Она не могла наглядеться на его выразительный профиль, на резкие контуры скул; на волевом подбородке он при бритье просмотрел пару щетинок.
Иногда их взгляды встречались – его серые как дождевые тучи глаза под тяжелыми дугами бровей с ее любующимися глазами. Тогда они улыбались друг другу, почти робко, но все же с глубоким доверием, которое обходилось немногими словами.
Мой сын. Георгина дивилась этому красивому незнакомцу, в котором все еще можно было разглядеть ребенка, которого она родила, но сопровождала на очень коротком отрезке жизни.
– Расскажи мне про Дэвида, – тихо сказала она в шуме волн. – Как у него дела? Ваши письма приходили так редко и всегда были такими короткими.
Дункан поднял уголки губ в улыбке, которая осветлила его лицо, загоревшее до бронзовой темноты на палубе во время долгой поездки из Саутгэмптона в Сингапур.
– Мы нормальные парни, мама! Не поэты, чтоб долго писать. – Голос у него был низкий, еще царапающий на полпути к мужскому, но обещал стать полным и мягким. – У него все хорошо. Работа в фирме нравится ему куда больше, чем учеба. Дядя Сайлас и дядя Стю говорят, что он далеко пойдет.
Георгина кивнула. В его голосе звучало что-то невысказанное, и это заставило ее прислушаться, но она так ничего и не уловила; сам скажет, когда придет время.
– У дедушки не очень хорошо дела, да? – спросил Дункан после некоторой паузы.
На глазах Георгины выступили слезы, она их быстро вытерла:
– Да.
– Так плохо?
Она остановилась, зарылась носками в песок, но знала, что это не придаст ей устойчивости: она давно не чувствовала под ногами твердой почвы.
Нахмурив брови, она смотрела в морскую даль, покрытую легкой рябью, в это лазурное поле, над которым кружили птицы.
– У него… опухоль. Доктор Литл говорит, что ничего не может для него сделать, кроме обезболивания. На то время… что еще ему осталось.
– Мама. – Всего одно слово, произнесенное шепотом и осторожно, но как много в нем было всего.
Ужас. Тревога. Забота. Сокрушенность. Попытка утешить.
Георгина улыбнулась ему, чтобы поблагодарить, и старалась сохранять мужество, но это у нее плохо получалось. Она потерла его ладонь, которую он положил ей на плечо, и хотела идти дальше, но Дункан застыл на месте.
– Это, наверное, бессердечно с моей стороны. – Он поднял плечи, потянув за ними и брюки, в карманы которых были зарыты его руки, так что больше походил на мальчика, чем на взрослого мужчину восемнадцати лет. – Но я надеялся, что дед смог бы мне помочь. Или ты, может быть.
Георгина вопросительно посмотрела на него.
Дункан надул щеки и шумно выдохнул, глядя через плечо на воду.
– То, что я должен пойти в обучение к дяде Стю… Это с его стороны было благое намерение. И со стороны папы и деда тоже. Но я не гожусь для торговли. Во всяком случае, для конторы. В отличие от Дэвида. – Глаза его, темные как олово, устремились на нее. – Я хочу плавать по морю, мама. Как и всегда хотел этого.
Он опустил голову и разглаживал ступней песок под ногами.
– Для Королевских военно-морских сил уже поздно, туда мне следовало бы поступить лет в тринадцать-четырнадцать. Но с меня довольно было бы и торгового флота. Пока у меня не будет своего корабля. У дяди Стю есть знакомства, и он мог бы устроить меня в курсанты, но он не может и не хочет это делать без папиного на то разрешения. А папа слышать об этом не желает, для него это вообще не профессия.
Он поник головой.
Годы, в течение которых Пол и Дункан не виделись, внесли между ними отчуждение, и они оба старались его преодолеть – смущенно и беспомощно. Георгина догадывалась, что Пол в своей решимости обращаться с Дунканом как с родным сыном, несколько перестарался в этом и сделал его несчастным.
– Дело даже не в коммерции, – прошептал он. – Голова у меня в порядке, и с цифрами я разбираюсь. Но вот отношения с поставщиками и покупателями… Этого я не умею. Я достаточно часто пытался прислушиваться к советам дяди Стю и дяди Сайласа. Но я просто не могу.
Он полуотвернулся и провожал глазами корабли с дикой тоской во взгляде, которая рвала ей сердце.
– Я хочу только туда. Несколько раз я был близок к тому, чтобы просто сбежать и наняться на первый попавшийся катер. – Он посмотрел на нее искоса пристыженным взглядом. – В Англии я научился ходить под парусом. Тайком. Дядя Стю и тетя Стелла про это не знают. Только Дэвид. Дядя Сайлас мне это оплатил. – Его лицо просветлело. – И мне не раз говорили, что у меня это просто в крови.
Разумеется, в крови. С тяжелым чувством она разглядывала сына.
Дитя малайца. Своей темной, терпкой красотой, за которую над ним иногда подшучивали, он не был обязан предкам из Прованса. И предкам из Шотландии, где испанские и португальские моряки когда-то заронили свое семя, завещая семейству Финдли черные волосы, выразительные черты, порой оливкового цвета кожу и глаза – темные, как кровяная колбаса.
Как старый Дуглас Финдли, помните его?
Он был наполовину оранг-лаут, потомок древнего, гордого, мореходного народа, морских воинов, у которого в крови были океан и ветер, тоска по воле и простору.
Она не могла ему об этом сказать – мир был устроен так, что он как евразиец стоил бы гораздо меньше, нежели дитя отца-англичанина, чью фамилию он носил.
– Спокойно иди с этим к деду, – сказала она вместо этого. – Он наверняка будет рад, если ты проведешь с ним какое-то время. Если ты ему расскажешь, что тебя занимает, и попросишь у него совета. А я попытаюсь перенастроить твоего отца.
Дункан глубоко вздохнул, как будто все это время сдерживал дыхание.
– Спасибо, мама.
Глаза, мерцающие как лунный свет, он устремил на море.
– Поплаваем? Как раньше?
Дыхание смерти пронизывало Л’Эспуар.
Глухой запах неизлечимой болезни исходил от спальни Гордона Финдли и распространялся по всему дому, оседал на лестнице и стенах, присоединяясь по углам к запаху плесени и прели. Удушающим был этот запах в душном воздухе, он был упорнее свежевыстиранного белья и острого мыла. Запах тела, которое распадалось все больше, но было еще слишком крепким, слишком цепким, чтобы сдаться, как-никак оно полвека выдержало в тропиках.
Смерть не проявляла спешки, а быть может, у нее завязли зубы в твердой шотландской дубовой древесине, из которой был вырезан Гордон Финдли.
Он иссох, походил скорее на скелет под серой кожей с обвисшими складками. Его живот, и в возрасте остававшийся плоским, теперь гротескно выдавался вперед, лицо осунулось, глаза выцвели до водянистой голубизны и провалились глубоко в череп. Безропотно и с благодарностью он сносил унижение, когда Картика и Георгина мыли его и кормили с ложечки как ребенка; он знал, что этот путь, который медленно, так мучительно медленно вел под гору, когда-то придет к концу.
Однажды для него не наступит завтра. Сегодня, это расползшееся в жидкую кашу сегодня тоже ничего ему уже не приносило. Как будто желая удостовериться, что действительно был на этом свете, он обращался к прошлому. И тогда его дух, ослабленный болезнью, затуманенный лауданом, снова прояснялся, он извлекал воспоминания, как драгоценные камни, с удивлением разглядывал их и взвешивал в руке. Как будто должен был решить, какой из них взять с собой в последний путь.
Эта жердь из города Данди, которая никогда не знала, куда девать руки и ноги. Ему на высокий лоб всегда падала прядь, черная как вороново крыло, с каким бы количеством бриолина он ни зачесывал ее назад. Который хотел быть чем-то большим, чем писарь на службе Ост-Индской компании, и мечтал о своей доле от богатств Индии.
У Этьена был капитал, у меня идеи. Отношения и знания. У Этьена был шарм, чтобы привлекать клиентов и добиться их благосклонности, а я потом обтяпывал сделки. Так мы начинали. Тогда. Как Финдли и Буассело.
– Я горжусь своими внуками. – Голос его дребезжал. – Великолепные парни что один, что другой. Это ты хорошо сделала, Георги.
Георгина улыбнулась.
– Даже если старший сейчас где-то в океане драит палубу?
Гордон Финдли смеялся беззвучным смехом с широко раскрытым ртом, отчего тряслись глубокие складки вдоль его шеи, явно довольный, что смог внести компромисс в спор между отцом и сыном: если Дункан за пять лет не дослужится хотя бы до мичмана, он без промедления приступит к работе у Финдли, Буассело и Бигелоу.
– Пусть. Пусть. Тяжелая работа еще никому не повредила. Влиться в фирму он всегда успеет. Она от него никуда не убежит. – Его глаза, испещренные сеточкой красных прожилок, обратились к ней: – Пол справился с этим хорошо. С кризисом шестьдесят четвертого. Он снова вывел фирму на высокий уровень. Тут я могу не беспокоиться…
Мысли его вытекли по каплям, и взгляд бесцельно блуждал по комнате.
– Дэвид… – прошептал он через некоторое время. – Он еще здесь?
Дэвиду выпала честь первым из братьев проехать по Суэцкому каналу, открытому в прошлом году и сократившему путешествие из Европы в Сингапур с трех месяцев до одного. Он появился в доме как молодой бог солнца, который так и вибрировал от своей живости, своих оживленных рассказов и своего смеха в те короткие перерывы, когда не был занят набиванием своего семнадцатилетнего сильного тела кухней Селасы так активно, будто с завтрашнего дня во всем Сингапуре больше не сыскать никакой еды.
Отныне так и будет теперь с Дунканом и Дэвидом, думала она иногда с печалью; двое молодых мужчин, которые приедут на несколько недель в гости и потом снова отправятся в мир, чтобы вести свою жизнь.
– Они с Полом отправились на верховую прогулку. Он потом к тебе непременно заглянет.
Гордон Финдли кивнул и закрыл веки своих черепашьих глаз, но тут же снова открыл их – с выражением испуга.
– А Джо?
– Я здесь, дедушка!
Джо вскочила с полу, вскарабкалась на кровать и чмокнула деда в щеку.
Георгина хотела держать дочь подальше от постели больного, но Джо из собственной потребности оказывалась в комнате деда. Она могла часами сидеть здесь на полу с книгой, иногда читала ему вслух или слушала, если он рассказывал о прежних временах, пока сама по себе не убегала или Георгина не отсылала ее, потому что пора было его мыть.
Лицо Гордона Финдли размягчилось при взгляде на внучку, он гладил ее по голове, а она ластилась к нему с пленительной, немного беззубой улыбкой – на смену выпавшим недавно молочным резцам постоянные зубы еще не отросли.
– Совсем как ты когда-то, – лепетал он с отяжелевшими веками, под которыми скапливалась влага. – В точности как ты. И как твоя мать.
Она была так красива, Георги.
Эссенция его бытия. Воспоминания о Жозефине, которые он снова и снова извлекал из прошлого. Казалось, больше всего он боится, что не сможет унести с собой ничего из того, что помнил, и тем крепче цеплялся за воспоминания.
Как она стояла там наверху, на лестнице… На ней было надето что-то нежно-зеленое, от этого глаза ее светились. И только когда она спустилась, я увидел, какая она маленькая.
Его расщепленный сухой голос вызывал к жизни Индию, которую Георгина знала из рассказов матери. Красочная, расшитая шелковая ткань, благоухающая пряностями, цветами и благовониями. Коровами и пыльной жарой, муссонными ливнями и погребальными кострами. Индия, в которой семьи старожилов – таких, как Буассело – жили в просторных, уставленных колоннами домах, где в садах разгуливали павлины между гигантскими баньянами и манговыми деревьями. Индия с приглашениями во дворец раджи, пышными ночными балами, катанием на слонах и охотой на тигров.
Не знаю, что она нашла во мне, Георги. Во мне, неказистом недотепе. Ведь она же могла получить любого. Я не мог произнести ни слова и опрокинул бокал вина за ужином. А она… она глазом не моргнула, даже не улыбнулась. Только потом я узнал, что она стеснялась, потому что у нее были не совсем ровные зубы. В моих глазах она от этого делалась еще красивее.
То, что рассказывал Гордон Финдли, звучало как сказка про Жозефину, свет очей ее отца, ревниво охраняемую двумя старшими братьями.
Гаспара ты не знала, он умер, когда ты была еще совсем маленькая.
Запретная любовь. Письма контрабандой. Тайные встречи.
Только когда старый Жорж Буассело был уже в земле, я мог просить ее руки.
Пальцы Гордона Финдли беспокойно ощупывали Библию на груди. Они казались костлявыми и скрюченными в мерцающем свете лампы, как сухие ветки голого дерева, дрожащие на ветру.
Георгина часто читала ему из Библии вслух; теперь, кажется, ему давала утешение лишь предметная основа Священного Писания. Быть может, еще знание лозунга, девиза всех Финдли, который он когда-то давно записал в самом начале этой книги черными, теперь выцветшими до коричневого цвета чернилами.
Помоги себе сам – и Бог тебе поможет.
– Как ты думаешь, моя вина… простится мне?
Глаза его дрожали в глубоких впадинах.
– Нет никакой твоей вины, папа. – Она склонилась над ним и взяла его руку.
Горло ее сжалось, и она часто заморгала. Она не хотела плакать. Пока нет.
– Есть, Георги. И много… так много вины я на себя нагрузил. – Его взгляд устремился на нее, мутный, как илистая вода.
– Знаешь ли ты, что у тебя есть брат? Был. Нет. Ты не знаешь. Мы никогда тебе этого не говорили. Джордж Гордон Финдли. – Вокруг его впалого рта дрожала болезненная улыбка. – Он был еще такой маленький. И трех месяцев не было. Столько детей она потеряла. До времени.
Взгляд его переместился на потолок, глаза заблестели.
– Поэтому… Поэтому она хотела уехать из Калькутты. Все… оставить позади. Начать заново. И я… так позорно воздал ей за это.
Слеза стекала по борозде на его лице.
– Нет, папа. – Она гладила его беспокойную руку. – Не мучай себя так. Все это было давно.
Он кивнул.
– Да, так давно. – Веки его сомкнулись, голос затихал. – Так… давно.
Какое-то время было слышно лишь его дыхание, мелкое и затрудненное, как морские волны в безветренный, жаркий день.
– Всегда, – снова начал он шептать, – всегда, когда я тебя видел, я вспоминал об этом. Не с самого начала. Только когда… когда Жозефина умерла. – Его лицо сморщилось, как от великой муки. – Потому что ты становилась все больше похожа на нее. Твой смех. Твой голос. Когда ты сердилась.
– Я знаю, папа. – Георгина больше не могла сдерживать слез, и ее пальцы сплелись с отцовскими пальцами. – Я знаю, что очень похожа на маму.
Его веки раскрылись, и он посмотрел на нее неожиданно ясным взглядом, нахмурив брови, словно бы удивляясь, что она не понимает его.
– Не на Жозефину. На женщину, которая тебя родила. Тиях.
Георгина бежала сквозь темноту.
Трава колола и резала ей подошвы. Голоса сначала окликали ее по имени, потом выкрикивали его. Она упала, ушибла колени, защемила запястье, но собралась и побежала дальше.
В верхушках деревьев над ней бушевал ветер, лицо ее горело. Звон цикад колол слух, больно отдавался в голове.
Задыхаясь, она хватала ртом воздух, сердце колотилось у самого горла, грозя задушить ее.
Прочь, барабанило в такт ее дыханию. Прочь. Прочь.
Она перелетела через Бич-роуд, лежащий во тьме; вдали плясали фонари паланкина, словно блуждающие огни. Песок летел у нее из-под ног, стегал по ее голым икрам. Вода обрызгала ее, приглушив ее бег, окатила прохладой, поднимаясь все выше и выше, закачала ее, пока она наконец не остановилась.
Георгина сжала кулаки и кричала, кричала в шум накатывающих волн, из глубины тела, напрягая голосовые связки до разрыва, к темным облакам, к бледным звездам на небе.
Ее отец умер.
Его поддержкой в последние часы были имена.
Жозефина.
Его молитва.
Георги.
В какой-то момент лишь выдох, едва уловимый толчок воздуха из потрескавшегося рта:
Тиях.
Снова и снова Тиях.
– Георгина! – Пол схватил ее, стал трясти. – Боже правый! Да ты не в себе! Очнись же, проклятье!
Беспомощные, нечленораздельные звуки срывались с ее губ, когда она пыталась высвободиться из его рук.
Не трогай меня. Ты ведь даже не знаешь, кто я. Я и сама этого больше не знаю.
Осталась лишь хриплая, бессловесная жалоба, которая вырывалась из нее, когда она пыталась оттолкнуться от Пола.
Догадка о правде, по ту сторону всех слов.
Ее мир, и всегда-то шаткий, всегда-то хрупкий, рассыпался.
Разлетелся на тысячу обломков, и эти обломки уносило море.
25
Раскинув вокруг себя юбки старого, выцветшего до лавандовой серости летнего платья, Георгина сидела в траве; здесь, в Сингапуре, она не чувствовала необходимости придерживаться правил траура, внушенных некогда ей тетей Стеллой.
Этот траур содержал в себе терпкую толику, которая происходила не только от горечи смерти.
Она сидела недвижно, не отмахиваясь от москитов, которые звенели над ней, кусая то в шею, то в кисти рук, оставляя зудящие, красные припухлости. Глаза ее были прикованы к одному месту на горизонте, где-то там, где спаривались небо и море, зачиная облака.
В последнее время она часто поднималась сюда и смотрела поверх города в море. Здесь, на склоне холма с названием Губернаторский, сколько она себя помнила, а теперь, после идеалистического, но неудачного строительства крепости Коллейром он носил имя Форт Кэнинг.
Ничто не остается таким, каким было.
Гордо и стройно высилась новая колокольня Сент-Андруса, маяк в море городских зданий. Теперь не церковь, а с прошлого года кафедральный собор англиканского епископата Лабуан и Саравак, ее могучее тело, в часы богослужений затопленное полнозвучием органной музыки, казалось построенным на века. Как будто Сент-Андрус давал ей понять: Даже если твой мир лежит в руинах, я пребуду неизменным и вечным. Меня ты никогда не потеряешь из виду.
Она глубоко вздохнула и стала разглядывать надгробную плиту. Должно быть, раньше могилу поддерживал в порядке Ах Тонг. За последнее время она покрылась мхом и обросла желтым чешуйчатым лишайником; если бы можно было его спросить, как это все устранять.
Вот уже несколько месяцев она откладывала решение, не перехоронить ли маму к Гордону Финдли на новое кладбище на Букит Тима-роуд. Он никогда об этом не заговаривал, а она и не думала спрашивать его об этом; раньше она бы, пожалуй, не сомневалась в том, что оба должны лежать рядом.
Не думай обо мне плохо, Георги. Я действительно любил обеих.
Брови ее дрогнули, когда она провела ладонью по надписи: Любимая супруга Гордона Стюарта Финдли. Рука ее опустилась ниже и уперлась в буквы: С болью отнятая мать Георгины Индии Финдли.
Это вырезано в камне. Как же это могло быть неправдой?
Больше полугода прошло, как они похоронили ее отца. С тех пор она пустой оболочкой дрейфовала во времени, слепая, глухая и немая. Пытаясь извлечь смысл из обрывков его рассказов в сумеречном состоянии последних своих земных дней.
Она рылась в памяти, выискивая воспоминания о маме, о тех вещах, которые она могла услышать, увидеть или почувствовать в детстве – до тех пор, пока голова не заполнилась ватной пустотой и не разболелась.
Были времена, когда она избегала своего отражения в зеркале, боясь встречного взгляда. И были другие времена, когда она подолгу рассматривала свое лицо во всех ракурсах, во всех мельчайших подробностях. Свою кожу, которая даже в Англии никогда не становилась светлее, всегда сохраняя золотистый оттенок, но и под тропическим солнцем никогда не темнела до коричневого оттенка. Это лицо, которое теперь, в ее тридцать девять лет, было полнее, все больше теряя прочность, а под глазами, этими своеобразными фиалковыми глазами, появились первые линии. Она хотела сравнить его с лицом матери, которое тем сильнее бледнело в ее памяти, чем отчаяннее она пыталась вызвать его перед своим внутренним взором.
Ты дитя тропиков, моя шу-шу. Как и я.
Воспоминания были как вода, утекающая сквозь пальцы. Сухой песок, который осыпается, лишь немногими песчинками прилипая к коже.
Был еще один человек, который знал Георгину сызмала, почти с рождения. Который, может быть, знал правду или хотя бы имел к ней ключик.
В нее снова закрался страх, преследовавший ее все детство. Скрестив руки, она уронила их на колени, припав к ним лицом.
– Дальше я вас, к сожалению, не смогу отвезти, мэм.
Еще по-юношески мягкое лицо Андики, покрытое на подбородке пушком, выражало сожаление, когда он помогал ей выбраться из паланкина.
– Там впереди дорожка слишком узкая и вся в лужах. Придется мне остаться здесь.
– Ничего. Я и пешком пройду.
Он беспокойно почесал грудь под рубашкой и наморщил лоб:
– Не пойти ли мне с вами, мэм?
– Нет, не надо.
Стайка детей, собравшихся на тропе и, перешептываясь, разглядывающих паланкин, рассыпалась в разные стороны, когда Георгина сделала шаг в их сторону.
В воздухе висела голубоватая дымка, приправляя его своим едким ароматом. Здесь пахло сырой красной землей, жареной рыбой и мясом, сочной зеленью, как пахнут свеженарезанные овощи или мокрые растения, и сладостью спелых плодов.
Шаги Георгины были тяжелы. Она шла мимо огороженных садиков и домов. Она знала эту деревню только со стороны реки, с лодки; больше двадцати лет минуло с тех пор.
Целая вечность.
Во время поездки в паланкине она, опустив голову, смотрела на свои пальцы, сцепленные на коленях как для умоляющей, отчаянной молитвы. И все же ее сердце забилось сильнее, когда ее чувство подсказало ей, что они проезжают по Серангун-роуд как раз мимо Кулит Керанга.
Георгина подошла к ограде одного садика; женщина в красном саронге и голубой кебайе, низко согнувшись, обрабатывала мотыгой кусок голой земли.
– Добрый день. Извините, пожалуйста.
Женщина бросила на нее взгляд через плечо и разогнулась, уставившись на нее с нескрываемой растерянностью.
– Извините. – Георгина заставила себя улыбнуться. – Я ищу Семпаку. Раньше она работала в городе. В Л’Эспуаре, у туанов Финдли и Бигелоу.
Женщина быстро опомнилась от неожиданности, что белая неня в простом муслиновом платье, без шляпы и зонтика, по-малайски спрашивает ее о ком-то из деревенских.
– Идите прямо, мэм, – мотыгой указала она направление. – До развилки. Там свернете налево. До дома с большим манговым деревом.
– Спасибо.
Георгина чувствовала на своей спине взгляд женщины, ее соседок и слышала перешептывание детей, которые следовали за ней на некотором расстоянии; это перешептывание то и дело переходило в тихое хихиканье.
Семпака сидела перед хижиной, качала на коленях малыша, который сосал свои пальцы, и смотрела на горстку детей, играющих в догонялки вокруг дерева манго. Рядом с домом мужчина колол дрова; еще молодая женщина пропалывала овощные грядки.
Георгина подошла к ограде, и Семпака ее увидела. Так, как будто знала о ее прибытии и только и ждала ее.
– Селамат сеяхтера, Семпака.
Лицо Семпаки было в движении как облака, проплывающие по небу; Георгина не знала, как истолковать ее волнение.
– Стой там! – воскликнула она. – Я иду к тебе.
Она поставила ребенка на землю, нежно погладила его по голове и встала.
Они молча оглядывали друг друга через ограду.
Семпака постарела за те пять лет, что прошли после смерти Ах Тонга. Глубокие борозды прочертили ее коричневое лицо, контуры которого расплылись, седые волосы стянуты на затылке в узел, виски совсем белые. Глаза ее враждебно сверкнули, но в них стояло еще что-то другое, что было для Георгины загадкой.
– Чего тебе надо? – спросила Семпака, приняв отчужденную позу: скрестив на груди руки; одного из передних зубов не хватало.
– Мой отец умер в прошлом году.
Подбородок Семпаки приподнялся чуть выше.
– Кто такая Тиях?
Глаза Семпаки сузились:
– Значит, все-таки он тебе сказал. – Ее взгляд скользнул мимо. Георгина глубоко вздохнула. – Идем со мной.
Они шли по тропинке между садами, которая в какой-то момент затерялась в полях и лугах, над которыми простирали тень ветви деревьев; серебряный звон кузнечиков и цикад наполнял сладкий, напоенный травяным настоем воздух.
– Как у тебя дела? – тихо спросила Георгина, больше не в силах выдерживать молчание, но Семпака не ответила ей.
Под развесистым фиговым деревом Семпака с кряхтением села на траву; рот ее скривился в насмешливую гримасу, когда Георгина последовала за ней.
– Что ты хочешь знать?
– По возможности все.
Семпака не торопилась, смотрела на мошкару и мух и следила за порхающей бабочкой, пока та не скрылась в траве.
– Тиях была из нашей деревни, – наконец начала она вполголоса. – К тому времени многие молодые мужчины ушли из деревни, чтобы зарабатывать в городе вместо того, чтобы работать на поле или ловить рыбу. А женщины почти все остались. Однажды приехал в гости один из тех парней, что устроились работать саисами, и стал спрашивать насчет девушки, которая уехала бы с ним в город. Дескать, туан одного саиса, его знакомого, ищет горничную для своей мэм.
– Яти? – попыталась отгадать Георгина.
Семпака отрицательно покачала головой:
– Нет, не Яти. Тогда был другой. Многим девушкам хотелось получить это место, но их не отпускали. Их семьи были против. Хотя такая работа и приносила деньги, но потом ни один мужчина не брал в жены девушку, которая долго пробыла в городе. А Тиях отпустили, и он увез ее.
На ее лице появилась улыбка, и она на мгновение помолодела.
– Мы все завидовали. Тиях и без того была самой красивой девушкой в деревне, а тут ей еще и денежная работа в городе привалила. И когда раз в месяц она приезжала в гости и привозила своей семье деньги, столько было рассказов. О большом новом доме и хорошенькой комнате в жилище для прислуги, которую она занимала одна. Она там хорошо питалась, и ей даже дарили новые саронги и кебайи, которые ей и стирать-то самой не приходилось. Она с восторгом говорила о своей мэм, которая была красивой и сердечной женщиной. Но такой несчастной оттого, что хотела ребенка, а его все не было. Не выживали. И ей уже больше нельзя было рисковать в ближайшее время, было слишком опасно для нее.
Мина Семпаки ожесточилась и после этого не сразу расслабилась.
– И Тиях много говорила о туане. Такой мужчина, высокий и красивый, и щедрый ко всему. Да. Мы все завидовали.
Она наклонилась вперед, сцепила пальцы на коленях и оперлась головой о ствол дерева.
– Потом Тиях долго не появлялась в деревне, и мы за нее уже беспокоились. Однажды она появилась. С заплаканными глазами. Про город и ее хорошую должность она больше не хотела говорить и слышать об этом тоже не хотела. Позднее стало заметно, что она носит ребенка.
Ребенок туана. Горло Георгины так сжалось, что она стала давиться от судорожных приступов.
– Один мужчина из деревни все равно женился бы на ней, такая уж она была красавица. Но Тиях не захотела.
Семпака расцепила пальцы на коленях и обхватила себя руками; она моргала, стараясь подавить слезы.
– И она, пожалуй, знала почему. Потому что она носила в себе не человеческое дитя, а ханту, ведьму. Матианака, вампира, который и растерзал ее тело. Дух. С длинными, худыми, как сухие веточки, ручками-ножками, с бледной кожей и холодными, голубыми глазами. Тихая и бездыханная. И когда повитуха уже хотела ее убрать, она высосала из тела Тиях ее последний выдох и наполнила им свои легкие. Все, кто был в хижине, почувствовали порыв ветра, который пронесся от Тиях в матианака. Никто из тех, кто там был или слышал об этом, никогда не переживал ничего подобного. Даже повитуха.
Георгина смотрела перед собой, вонзив ногти в ладони, костяшки побелели от напряжения. Позднее, потом она еще обдумает это, позднее что-то почувствует.
– У Тиях… осталась в деревне семья?
Глаза Семпаки сумрачно остановились на ней, темные и бездонные. Затягивающие.
– Тиях была моя сестра.
Усталыми шагами Георгина тащилась по холлу; ее посещения Семпаки вытягивали у нее из костей последние силы, с каждым разом все больше.
У двери в кабинет она остановилась.
Пол, который еще до кончины Гордона Финдли занял эту комнату, сделав ее более жилой за счет шезлонга и двух кресел, стоял у стола и сортировал бумаги. Он лишь мельком взглянул на нее, и взгляд его относился скорее к ее юбке, перепачканной красной засохшей грязью, потом перешел к пятнам пота на верхней части платья, но выше уже не дошел.
– Хорошо, что ты снова вернулась домой.
– Я знаю, я в последнее время много в разъездах.
– Ах. Тебе это тоже бросилось в глаза? – Стопка бумаг, которые он просматривал, зашелестела в его руках нарочито громко.
– Эти поездки были важны для меня, Пол.
– Явно важнее, чем наша дочь.
Он шлепнул по столу бумагами, которые держал в руках, и поднял голову.
– Боже мой, Георгина! Я действительно проявлял много понимания в том, что после смерти отца тебе требуется время и покой. Но когда-то ты должна выбраться из своей раковины и предстать перед действительностью! Я разрываюсь в фирме каждый день, чтобы извлечь из благоприятной ситуации как можно больше и чтобы никогда никакой кризис не смог поставить нас на колени. А вдобавок ко всему на меня наседает еще твой кузен из-за своей доли. Я не могу взять на себя заботы еще и о доме и о Джо. Неужто и впрямь было бы слишком большим требованием, чтобы ты хоть раз отодвинула собственные удовольствия на второй план?
Георгина стряхнула с себя его слова и его обозленный тон, как зимородок стряхивает воду с перьев, и прикрыла дверь.
– Мне надо с тобой поговорить.
В комнате повисло молчание. Только дождь с улицы что-то нашептывал тысячью своих языков.
Лампы, которые Пол зажигал в последние несколько часов, давали лишь слабый свет, предоставляя тени большую часть комнаты.
– Боже правый, – пробормотал в какой-то момент Пол, сидя в шезлонге расставив ноги.
Он тер себе лицо, из которого ушли последние краски, прежде чем его взгляд снова погрузился в янтарную глубину его стакана; стакан был уже не первый за этот вечер. Окурки сигар лежали в пепельнице как дохлые жуки; он выкуривал их одну за другой.
– И нет никаких сомнений?
– Когда это знаешь, то уже видно. – Улыбка Георгины казалась раненой. – Мой нос. Разрез глаз. У меня такие же глаза, как у Семпаки. Только у меня синие.
Подобрав под себя ноги в кресле, она чуть отпила из стакана и поставила его себе на ладонь, запрокинула голову.
– Теперь многое обретает смысл, – медленно проговорила она. – Почему Семпака всегда питала ко мне такое отвращение. Почему отец после смерти моей… ма… мамы… так изменился и в какой-то момент вообще отослал меня. Должно быть, я каждый день, каждый час напоминала ему о его неверности. О его вине перед умершей женой.
Некоторое время был слышен лишь стук и плеск дождя. Раскаты далекого грома. Потрескивание фитиля лампы.
– Не следует никому говорить об этом, – хрипло прошептал Пол. – Прежде всего ради детей.
Давно миновали те времена, когда Уильям Реншоу Джордж, годами работавший бухгалтером на несколько торговых предприятий до того, как уйти в газету, мог ни от кого не прятать свою незаконнорожденную малайскую дочь.
Пол протянул к ней руку, но на полдороге опустил ее и потер себе колено. Георгина сглотнула и на мгновение прикрыла веки.
– Я не обижусь, если при таких обстоятельствах ты пожелаешь развода, – ответила она. – Насчет фирмы мы наверняка как-нибудь договоримся.
Он уставился на нее.
– Ты всерьез полагаешь, что я могу так сделать? Что я тебя брошу, потому что теперь случайно выяснилось, что ты наполовину малайка?
Его глаза в свете лампы казались жесткими, блестящими и прозрачными, как голубое стекло, которое могло в любой момент треснуть.
– Что я позарился только на фирму? На деньги и на хорошенькое личико? И заодно еще и смог разыграть из себя милосердного спасителя падшей девушки?
Закусив губу, Георгина онемела. Пол стукнул стаканом по столу так, что виски выплеснулся, и вскочил. Она испуганно смотрела, как он ходит по комнате взад и вперед, то и дело прочесывая пальцами волосы.
– Попытайся же понять меня, – прошептала она.
– Я пытаюсь, Георгина! – воскликнул он. – Я уже двадцать лет только это и делаю! – Он воздел руки и резко их опустил в жесте бессилия. – Но ты хоть когда-нибудь пыталась понять меня? Ты хоть раз попыталась понять, каково это для меня – быть женатым на тебе?
В нем ярким пламенем вспыхнул гнев.
– Я не просила тебя жениться на мне!
– Нет, ты не просила, и ты все время снова и снова давала мне это почувствовать! Ты вышла за меня замуж, потому что у тебя не было другого выхода. Потому что я обманул твоего отца, что ребенок у тебя в утробе – мой. Да, фирма была аргументом. Да, мне было жаль тебя. И да, мысль о твоей постели заставила меня закрыть глаза на то, что ты любишь другого. Но за эти двадцать лет ты хотя бы раз подумала, что у меня была и другая причина жениться на тебе? – Жесткость в его голосе начала таять. – Неужто ты не видишь, что все, что я делал все эти двадцать лет, я делал всегда только для тебя?
Она недоверчиво смотрела на него во все глаза.
Его взгляд мерцал.
– Ты и впрямь этого не видишь.
Он принялся рыться в бумагах, собирая отдельные листы в стопочки. Слишком лихорадочно, чтобы эти действия были осмысленными.
– Пожалуй, будет лучше, если мы какое-то время не будем видеться. Я и без того давно собирался в Пондишери к твоему кузену. Я выеду как можно скорее. – Он похлопал стопкой бумаг по столу, выравнивая края. – И я думаю также, что будет лучше, если я возьму Джо с собой.
– Нет! – Крик, сухой и резкий, как щелчок клешни рака. – Джо останется со мной!
Пол поднял голову, неподвижно замерев в полусогнутой позе.
– Надеюсь, ты не думаешь… – Его глаза были темными, почти черными в свете лампы, и Георгина поняла, как сильно она его обидела. – Ведь ты не думаешь, что я… отниму у тебя ребенка?
Он бросил бумаги на стол, а сам упал в кресло. Усталый, измученный.
– Пол… – Больше она ничего не могла произнести.
Он сокрушенно покачал головой:
– Ты меня действительно не знаешь, Георгина. Ты ни разу даже не попыталась узнать меня хоть сколько-нибудь.
Пол избегал ее взгляда и все разглаживал свои волосы, и Георгина впервые заметила, что он начал лысеть со лба.
Он глубоко вздохнул и опустил руку.
– Сегодня я буду спасть здесь, внизу.
На палубе Пол подставлял лицо сильному ветру; впервые после стольких лет он мог снова вздохнуть свободно.
Ему нужна была эта дистанция. Ему нужно было время, чтобы побыть вдали от нее.
Он знал, что должен чувствовать себя виноватым, оставляя Георгину одну в такое для нее время. Но так же хорошо он знал, что она не нуждается в нем. Она никогда в нем не нуждалась, если не считать необходимости, чтобы он дал ее сыну имя. То, в чем Георгина нуждалась, он дать ей не мог; для этого он был не тот человек.
Его лицевые мускулы напряглись, он ощутил на языке горький привкус.
Взгляд его упал на Джо. Ленты ее соломенной шляпы трепало на ветру; от порыва ветра взметнулся подол ее синего пальто. Упершись подбородком в руку, лежащую на поручне релинга, она смотрела в морскую даль. На берег Сингапура, размытую акварель в насыщенных зеленых тонах, однако взгляд ее казался обращенным внутрь себя. Указательный палец другой руки сгибался и распрямлялся в подражание гусенице, которая ползет по поручню релинга, насколько хватало руки Джо, и потом она вновь начинала с исходного пункта.
– Ты не радуешься Индии?
– Радуюсь, – бросила она быстро и не задумываясь, потому что знала: этот ответ он и хотел услышать. Гусеница занимала все ее внимание; казалось, она о чем-то размышляла.
– А почему мама не едет с нами?
Пол присел перед ней на корточки и обнял ее за плечи:
– Маме сейчас требуется время, чтобы побыть одной, Жози.
– Из-за дедушки?
– Да, мое сердце. Из-за дедушки.
Она повернулась к нему, и ее детское личико с нахмуренными бровями, с влажно поблескивающими голубыми глазами было так похоже на лицо Георгины, что у него сжалось сердце.
– А вдруг завтра она заметит, что мы ей нужны – а нас и нет?
– На этот случай она знает, где нас найти. Не так уж далеко мы уплываем. И через месяц вообще вернемся домой.
Джо кивнула, но он ее не убедил. Один месяц в ее возрасте был целой вечностью.
– Ты сможешь там покататься верхом на слоне, – попытался он заинтересовать ее. Отвлечь.
Лучик вспыхнул на личике Джо, но тут же погас.
– Мама бы тоже с удовольствием покаталась.
– Но ты ей об этом обязательно расскажешь, когда мы вернемся, хорошо?
Джо горячо закивала.
Если мы застанем ее на месте, когда вернемся.
Пол прижал дочку к себе, в равной мере плавясь от любви к своей маленькой девочке и лопаясь от мрачной решимости сделать все, чтобы защитить ее.
26
Тихо стало в Л’Эспуаре с тех пор, как Джо – эта маленькая Путри – уехала, прихватив с собой радостный голос и счастливый смех. Без туана Бигелоу распался привычный распорядок дня, и на цыпочках прислуга ходила теперь вокруг мэм Георгины, которая остановилась в безвременье, как вода в губке.
Дом – будто снова обретя голос в пустоте и молчании своих жителей – начал скрипеть и постанывать, нашептывать и бормотать. Рассказывать истории, которые пережил и о которых слишком долго помалкивал.
Георгина вслушивалась в эти звуки, которые часто говорили голосом Семпаки. Иногда голосом Гордона Финдли. И Жозефины.
Высокий звон цикад – как звук рассыпанного серебра, на фоне которого пение птиц казалось бледным и глухим, – наполнял веранду. Лишь временами, когда волны накатывали сильнее, было слышно море.
Георгина пыталась представить себе, как молодая Семпака, которой не было еще и двадцати, пустилась в путь из деревни в город с плетеной корзинкой на локте и спрашивала дорогу в Л’Эспуар. В корзинке вопило новорожденное дитя женского пола, голодное и даже еще не обтертое от крови и слизи матери.
Ребенок-дух. Ханту, которого решено было отдать туда, откуда он явился.
Матианак.
Одного этого слова было достаточно, чтобы малайская прислуга разбежалась кто куда, а трое китайских боев были ввергнуты в растерянность. Туана не было дома, его они не могли спросить, что делать, дома была только мэм.
Как быстро, должно быть, удивление перешло в мучительную боль, в неистовый гнев, когда она, хватая ртом воздух, заглянула в голубые глаза младенца. Когда она поняла причину исчезновения своей горничной Тиях. Осознала собственную слепоту. Во все те месяцы, когда она удалялась от мира в свою скорлупу, спорила с судьбой, гневила бога и вынуждена была держать мужа на отдалении, чтобы ее не похоронили вместе со следующим невыношенным ребенком.
Георгина могла лишь догадываться, была ли между Жозефиной и Семпакой жаркая перебранка над корзиной или они мерялись силой в ожесточенном молчании. Произошло ли все быстро или длилось часами. Пока победу не одержал ребенок, завоевав измученное, израненное и кровоточащее материнское сердце Жозефины.
Она была как богиня, когда держала тебя на руках. Бесстрашная, сияющая богиня. Настолько могущественная в своей любви и доброте, что даже я перестала тебя бояться и в полном смирении и почтении склонилась перед ней.
Когда вечером вернулся домой Гордон Финдли, на руках его жены лежало новорожденное дитя, вымытое и одетое; оно жадно сосало ее грудь, из которой молоко поначалу сочилось по каплям, а потом потекло ручьем.
Гордон, ты только взгляни. Господь бог услышал мои молитвы и совершил чудо. Послал мне сегодня дитя.
Когда доктор Оксли обследовал ребенка, он не скрывал недовольства, что Жозефина Финдли после стольких опасных выкидышей не призвала на роды его, а была столь легкомысленна, неосторожна, что доверилась грязным рукам примитивной малайской повитухи. Поистине граничило с чудом то, что в таких условиях ребенок родился таким здоровым и сильным.
Этот ребенок, которого крестили в часовне миссии.
Георгина Индия Финдли.
Триптих имени, одна створка которого была неправдой.
Она была Финдли, но не внучкой Жоржа Буассело. Не молодым побегом древа этой семьи ткачей и торговцев шелком из провинциального Оранжа, которая в прошлом веке эмигрировала в Индию. Средняя часть триптиха была затронута иронией: она не была причастна к Индии через Жозефину, а была ребенком Ост-Индии. Дочерью малайской девушки по имени Тиях.
Неверно был указан и день ее рождения, на самом деле она родилась на день или два раньше.
Окруженная звоном цикад, Георгина прижала ладони к лицу.
Вот уже несколько дней Георгина бродила вокруг лесочка. Этот кусок неприрученной дикости, одновременно заколдованный и проклятый, который был для нее то раем, то адом, пока она не передала его своим детям.
Она никогда не спрашивала, где похоронены ее преждевременно вымытые из материнской утробы братья и сестры.
Полубратья и полусестры.
Она сделала над собой усилие и стала пробиваться сквозь заросли. Капли, оставшиеся от вчерашнего дождя, осыпались на нее, и легкие наполнялись душным воздухом, запахом листвы, сырой земли и диких орхидей.
Перед старым фиговым деревом, которое раньше обнимало павильон, а теперь грозило задушить его в объятиях, она встала на колени. Сердце колотилось у нее в груди, когда она начала рыться дрожащими руками между его могучих корней, выкидывая влажную землю в стороны. Острая боль пронзила ее, и она вскрикнула. Кровь текла из пореза на пальце, смешиваясь с красной землей Сингапура.
Крышка небольшого глиняного горшка лопнула за прошедшие четыре десятилетия.
Она быстро зарыла ямку землей, плотно утрамбовала ее, нажав на ладони всем своим весом. Как будто ее долгом было воспрепятствовать выходу на поверхность того, что было там зарыто.
Близнец ее души. Послед и пуповина, которые Семпака зарыла там, чтобы матианак остался там, откуда взялся.
Нерушимая связь Георгины с Л’Эспуаром. С Сингапуром.
Пошатываясь, она поднялась на ноги и неверной походкой пошла вокруг павильона, который словно плот покачивался на своем озере из подлеска. Она и не знала его другим, только покрытым ящеричной шкуркой лишайника и мехом из мха. Покосившимся от влаги, моря и ветра, заросшим деревьями и кустарниками и затененным высокими пальмами. Теперь он согнулся от старости и ослабел, покорная жертва могучей тропической зелени, которая рано или поздно проглотит его без остатка.
Она попыталась увидеть павильон таким, каким он когда-то был.
Воздушный и светлый, обдуваемый морским бризом и ароматом цветов, укрытым и вместе с тем свободным в гнезде из заботливо лелеемых деревьев и кустов, убаюканным рокотом прибоя и ропотом листвы. Оазис, который Гордон Финдли создавал для Жозефины, чтобы она находила покой и отдых в жаркие тропические дни, в ту или иную душную ночь. Чтобы ее тело снова набралось сил, а душа окрепла. Место, которое было для нее целительным, может быть, место, в котором они однажды ночью, усеянной звездами, или жарким, тихим, мечтательным вечером зачинали дитя, которое могло бы жить.
Жозефина поначалу любила павильон, потом избегала его, потому что он был воплощением несбывшихся надежд. Потом возненавидела его.
Георгине почудилось, что со стороны дома доносятся громкие голоса. Жозефины, которая с плачем исторгает заклинания и упреки, Гордона Финдли, который оправдывается и просит прощения; возможно, он и сам в немом стыде, в униженном раскаянии накликал на себя обвинения – в надежде, что Жозефина простит его.
Жозефина, которая с такой любовью приняла Божий дар – этого ребенка. Которая остаток своей короткой жизни была привязана к своему мужу в счастливом браке. Потому что нашла путь, чтобы простить, но все-таки не забыть. Павильону и лесочку, уже приговоренным было к сносу, к вырубанию, суждено было уцелеть. Как вечному, очевидному напоминанию о неверности Гордона Финдли.
Как это страшно – получать прощение таким образом.
Георгина осторожно поднялась по истлевшим ступенькам, проросшая сквозь них трава щекотала ей ноги. Нырнула в сумрачно-зеленый свет, во влажный воздух. В этот запах моря, прелости и соли.
Она бродила среди стен, пропитанных тенями прошлого. В помещении, полном воспоминаний, которые не были ее собственными, но со временем переплелись с ними. Наполненном мечтами и некогда безымянной тоской, которую теперь она знала, как назвать. Размытые, еще неоформленные начала истории, которая терпеливо выжидала, когда придет время быть рассказанной. История, которая начиналась здесь.
История еще молодого Гордона Финдли; Георгина не знала его таким молодым. Лет тридцати, волосы как вороново крыло. Рослый и широкоплечий, тонкий, стройный и крепкий, как железное дерево. И Тиях, намного миниатюрнее, намного моложе его, со сверкающими глазами и волосами цвета темнейшей пальмовой древесины. Которая так охотно смеялась и никогда не могла удержать руки в покое, когда говорила и была так хороша, что все парни в деревне сходили по ней с ума.
Пара голубых и пара черных глаз встретились совершенно обычным, повседневным образом. Начали задерживаться друг на друге, надолго и все дольше; дольше, чем позволительно. Улыбка, на которую ответили. Шутка, которой вместе рассмеялись. Сердцебиение. Беглое, случайное соприкосновение. Руки, которые нашли друг друга, первый поцелуй украдкой и в какой-то момент желание большего. Намного большего.
Георгина смотрела на кровать.
В которой Рахарио сделал ее женщиной. В которой, возможно, она восприняла своего старшего сына. Та же кровать, в которой была зачата она сама. Ее отцом и юной малайзийкой.
Ее желудок сдавило судорогой. Помещение закружилось вокруг нее, и она зашаталась, наткнулась на твердый край и ухватилась руками за умывальный столик.
Пальцы ее сомкнулись на ручке выдвижного ящика. Ее ящика Пандоры. Ящик заклинило, и он открылся лишь постепенно. Слезы наполнили глаза, когда она увидела черный камень лавы. Браслет из раскрошенных ракушек. Сломанный веер.
Горстка створок и винтовых раковин, из которых был выложен красивый узор, вызвала у нее улыбку. Разумеется, Джо любила раковины, всегда их высматривала, когда они ходили плавать или просто гуляли по пляжу.
Георгина часто-часто заморгала, проведя пальцами сперва по большой, чисто белой раковине, а потом по блестящей и гладкой, леопардово-пятнистой раковине каури, которая лежала рядом со своим старым, обомшелым близнецом.
27
Закинув руки за голову, подогнув колени, Георгина лежала на кровати в павильоне. Ее взгляд блуждал сквозь дымку дырявой москитной сетки по хрупким балкам потолка, неостановимо и растерянно, как запертый тигр.
Она все еще пыталась понять.
Кажется, она нашла ту часть своего существа, которой ей недоставало. Тот обломок, потерянный давным-давно, который, может быть, являлся причиной того, что в присутствии других она всегда чувствовала себя чужой, а в Англии никогда не была у себя дома.
Однако эти две половинки не подходили друг другу, одна была слишком старой, другая – слишком молодой, обе встретились слишком поздно, чтобы безупречно подойти друг другу; она чувствовала себя разбитой.
Тень, которая шевельнулась на краю поля зрения, заставила ее вздрогнуть. Она быстро села.
Десять лет прошло с тех пор, как они виделись в последний раз.
Время обошлось с ним щадяще. Седина в черных волосах и в бороде была ему к лицу, облагораживала его, как и морщинки под глазами и глубокие борозды по обе стороны от уголков рта. Печаль, которая угадывалась за настороженностью в его темных как ночь глазах, была как мрачная бездна, придавая его взгляду глубину, которой раньше не было. Он казался выше ростом и стройнее, чем в ее воспоминаниях, в своей простой белой рубашке и коричневых штанах; может быть, оттого, что она не ожидала, что он будет держаться по-прежнему прямо. Годы на море смыли всю юношескую мягкость и оставили только мускулы и жилы под кожей.
Он выглядел как мужчина, призванный в вожди племени за свою храбрость, мудрость и опыт.
– Ты и впрямь явился, – тихо сказала она.
Его взгляд скользнул по комнате и, казалось, потерялся где-то вдали.
– Где твой муж?
– Его здесь нет. – В ее ушах это прозвучало как признание, что ее брак потерпел крушение.
Брови Рахарио сошлись на переносице.
– Я пришел, потому что не был уверен, не нуждаешься ли ты в помощи и не задумала ли что недоброе.
Небрежным движением он что-то бросил ей. Она поймала раковину, с которой посылала Андику в Кулит Керанг, не написав ни слова, не передав на словах никакого известия. В леопардовых пятнах, гладкая как фарфор, она была еще теплая от его руки.
– Избавь меня от своих игр.
Он повернулся, чтобы уйти.
– Подожди!
Тревожная настойчивость в ее голосе заставила его остановиться, а может быть, он почувствовал спиной ее умоляющий взгляд и полуобернулся.
– Ты был прав, – прошептала она. – Я наполовину малайка. Но все эти годы я об этом не знала.
Подозрительность уходила с его лица, чем дольше он на нее смотрел; в конце концов он опустился на край кровати.
– Рассказывай, Нилам.
Георгина была благодарна облакам, которые поглотили солнце и приглушили свет в павильоне до пепельной серости, окутавшей их лица. Она была благодарна потоку дождя и раскатам грома, которые смягчили подавляющую тишину после того, как отзвучали ее последние слова.
– Ты не ханту, – сказал Рахарио через некоторое время голосом как горький кофе с толикой молока. Его ладонь легла ей на плечо и пожала его – так же крепко, как и осторожно. – Ты человек из плоти и крови.
– Я знаю, – ответила она прерывисто. – Но Семпака считает меня ханту. Мама была для нее богиней, которая победила чары ханту. Поэтому она осталась у нас, когда мама об этом ее попросила. Но когда мама умерла… – Она сглотнула, но в горле так и осталась шершавость. – Я приношу только несчастья, так Семпака всегда говорила.
– Почему же она просто не взяла и не ушла?
– Не знаю, – прошептала Георгина. – На это я не нахожу ответа. Может быть, чтобы присматривать за отцом по воле мамы. Или за ее мужем Ах Тонгом. Он был нашим садовником. – Скорбная улыбка вспыхнула на ее губах и тут же погасла. – Она… она не любила, когда я вертелась возле него.
Георгина уставилась в полутьму и вздрогнула от вспышки молнии.
– Когда… когда я ждала моего первого сына, она привела в дом повитуху, которая должна была следить, чтобы… как бы… – Она засмеялась горьким, почти язвительным смехом. – Как бы я при рождении не убила ребенка, чтобы напитаться его душой. А чтобы злое из меня не выскользнуло и не блуждало вокруг необузданным, я сама должна была при этом умереть.
Рахарио обнял ее за плечи, и она непроизвольно приникла к нему, тогда как ее поджатые колени обозначали дистанцию между ними.
– Эти роды все изменили. Вроде бы она образумилась. Так мне потом казалось. Вроде бы она поняла, что я не более чем человек. Дункан… Дункан напомнил ей Тиях, с первого же мгновения, это она мне сказала. И хотя она знала, что я не родное дитя своей матери, я тогда напомнила ей маму. – Она глубоко вздохнула. – После этого все было по-другому. Все было… хорошо. Между нею и мной. С детьми. Пока я не вернулась из Англии с дочкой. Может быть, потому, что Джо на меня очень похожа. А когда Ах Тонг у меня на глазах рухнул и умер, тут…
Она закрыла глаза и замолчала.
– Твоей вины в этом нет.
– Я знаю, – ответила она дрожащим голосом. – Я знаю, что я из плоти и крови. Половина шотландской крови, половина малайской. Но как я могу примириться с моей малайской половиной, если по мне ее не видно? Если я среди малайцев всегда буду белой неней с голубыми глазами? Как я могу подтвердить эту мою половину, если там, где находится часть моих корней, я приговорена? За то, что я случайно родилась на свет с голубыми глазами, а Тиях умерла родами?
Наконец прорвались первые слезы, теперь, когда было произнесено то, что таким грузом лежало у нее на душе. Чем она не могла поделиться с Полом. Который хотя и мог принять то, что в ее жилах течет малайская кровь, но был слишком рационален и трезв, чтобы еще и выслушивать, что тем самым открылась дверь в чужой мир, куда ему дорога заказана.
– И я думаю снова и снова… а вдруг на мне все же лежит проклятие?
Она тревожно взглянула в его смутное в сумерках лицо, лишь на долю мгновения озаряющееся вспышкой молнии и тут же снова уходящее в тень.
Рахарио без слов привлек ее к себе, гладил по голове, а она плакала у него на плече. Он прочесывал ее волосы пальцами, будто желая избавить ее от чего-то. Гладил по спине, будто хотел с нее что-то стряхнуть.
В какой-то момент он начал ловить губами ее слезы, которые собирались у нее в морщинках под глазами и стекали по щекам, вовлек ее в поцелуй, нежный и осторожный.
Они не спешили раздевать друг друга.
В их распоряжении было все время мира. В этом павильоне, где прошлое и настоящее встретились и поглотили друг друга, тогда как вокруг бушевала гроза.
Бесконечно много времени, в которое тело Рахарио, более жесткое и крепкое, чем она его помнила, так осторожно, так утешительно обходилось с ее телом, которое стало мягче и послушнее.
Так много времени, чтобы потеряться друг в друге. Заново обрести себя в другом.
– Видишь, – бормотал потом Рахарио под насыщенные раскаты грома. – Ты не можешь быть ханту. Ты не матианак. Я же еще жив.
Георгина улыбалась, прижавшись губами к его груди, а пальцами водя по шраму на его бедре.
– Ты оранг-лаут. Морское существо. Может, одно другое отменяет.
Его грудь вибрировала, когда он тихо смеялся.
Георгина запрокинула голову, нашла его взгляд в медленно светлеющем, нежно-сером свете.
– Я не хотела выходить за Пола. Он и мой отец…
Ладонь Рахарио прикрыла ей рот, и он покачал головой – и предостерегающе, и мягко:
– Нет, Нилам, – хрипло прошептал он. – Этого не повернуть вспять.
Больше они ни слова не проронили о прошлом.
Ни в этот день, ни во все последующие.
В павильоне сада, когда шел дождь. В лодке Рахарио, на которой они выходили в море, когда светило солнце. В деревне Тиах и у ее могилы.
Их воспоминания о том, что у них когда-то было, не нуждалось в словах. Печаль о том, что они потеряли. Что им не было даровано.
Прошлое они носили в себе. Маленькая девочка с фиалковыми глазами и мальчик-пират. Муж и жена, какими они были. Какими они никогда не стали. Все те мгновения, которые они разделили друг с другом. И те, которые не случились.
Они брали себе то, что давали им эти дни, один за другим дни этого бесконечного, вечного Сегодня.
На Завтра они не тратили ни одной беглой мысли.
Хотя знали, что Сегодня неудержимо утекает у них сквозь пальцы, как вода на реке Серангун.
Рахарио смотрел вверх, на балдахин своей кровати и наблюдал за танцующими тенями, которые пускал по комнате свет лампы. За струйками голубого дыма, который поднимался от его сигары.
Он знал, что обижает Лилавати тем, что снова ночует здесь, внизу. Но еще более оскорбительным для нее было бы, если бы он в конце дня, проведенного с Нилам, заползал бы в постель к жене, лежал рядом с ней без сна и думал бы о Нилам. Он еще носил на себе ее запах, этот неповторимый аромат океана и красной сингапурской земли, который был темнее, чем раньше, с дополнительной терпкой нотой травы, выцветшей от лучей солнца.
Во все эти дни между ними была невысказанная договоренность, что они ничего не обещают друг другу. И все-таки он не мог иначе: обдумывал и взвешивал, принуждая себя к решению. Пока еще оставалось время; через несколько дней Бигелоу должен был вернуться из Индии.
Он сел и потушил в пепельнице окурок сигары. Быстрые шаги по саду заставили его прислушаться. С первым возгласом одного из ночных сторожей он вскочил, и еще до того, как раздались крики, схватился за кинжал и пистолет.
Была темная ночь, безлунная, звезды лишь слабо пробивались сквозь облака. Шумы, вибрации на его коже подсказывали ему, что двое его охранников повалили третьего на землю. Пока он добежал до них, глаза привыкли к темноте.
Тяжело дыша, Малим прижал коленом к земле человека, а Ахад возился с каким-то ящиком.
– Что происходит?
– Пусть он лучше сам вам расскажет, туан, – пропыхтел Малим, схватил лежащего за волосы и задрал ему голову вверх. То был еще молодой парень, малаец, он ловил ртом воздух; звуки, которые он издавал при этом, звучали испуганно. Темный след тянулся от его носа вниз через рот. Кулак Малима не знал промаха даже ночью.
– Вот это он хотел спрятать здесь? – Ахад ткнул босой ступней по открытому ящику.
Рахарио сделал шаг к нему, и сладковатый запах, который не спутаешь ни с чем другим, шибанул ему в нос. Лоб его наморщился, но тут же снова разгладился.
Опиум. Без лицензии. Противозаконно и каралось большими тюремными сроками.
– Кто тебе заплатил за это?
Парень сжал губы и попытался в железной хватке Малима изобразить головой жест отрицания.
– Малим.
Сверкнуло лезвие и прижалось к шее парня, который захныкал.
– Кто тебе заплатил за это? – повторил Рахарио.
– Ты плохо слышишь? – дожимал его Малим. – Отвечай туану!
Парень полузадушенно вскрикнул. Под лезвием клинка появилась темная линия, с которой потекли крупные капли.
– Би… Бигелоу, – поспешно выдавил тот.
– Туан Бигелоу дал тебе это задание?
– Д-да, туан.
– А кто должен был подать сигнал служителям закона? Тоже ты?
– Да, туан.
Волна гнева накрыла Рахарио с головой. Гнев на эту крысу Бигелоу и гнев на себя самого, что он до такой степени недооценил его.
Свет, который зажегся в окне на верхнем этаже, округлый силуэт, который показался в окне, отдаленный, тихий плач маленького ребенка были как холодная струя, которая мигом остудила и прояснила ему голову.
– Дай ему встать.
Малим слез со спины парня и рванул его за волосы, ставя на ноги.
– Ты ведь получишь от туана Бигелоу еще одну порцию денег, как только выполнишь задание, верно?
– Да, туан.
Рахарио подступил вплотную к нему и, сдвинув брови, смотрел в глаза.
– У тебя есть две возможности. Либо я дам тебе сейчас убежать, чтоб ты мне больше никогда не попадался на глаза, тогда ты обойдешься разбитым носом и одной царапиной. Или один из моих людей будет следовать за тобой тенью, пока ты не заберешь у Бигелоу вознаграждение. Он же позаботится, чтобы ты передал Бигелоу на словах: если он еще раз поставит мне подножку или захочет угрожать мне, я приду забрать его хорошенькую дочурку с красивыми голубыми глазами. И после этого кто-нибудь позаботится, чтобы ты на следующий день плыл по реке со вспоротым животом. Выбирай.
– Дай мне убежать, туан, – взмолился парень. – Пожалуйста!
– Есть у кого-то из вас при себе деньги? Я завтра верну.
Деньги оказались у Ахада, и он по кивку Рахарио с видимым омерзением сунул несколько долларов за ремень парню.
– Это чтобы ты не забывал, как я был к тебе великодушен.
– Спасибо, туан. – Он готов был расплакаться. – Большое спасибо!
– Отпустите его.
– Точно, туан? – В голосе Малима звучало разочарование, но он отпустил парня и добавил ему пинка, прежде чем тот заковылял по саду в ночь.
– Возьми лодку и утопи ящик в море, – повернулся Рахарио к Ахаду.
Он протянул стражникам по очереди руку для крепкого удара по ладони.
– Вы сделали мне доброе дело. За это получите награду.
Рахарио закрыл за собой дверь, вернул оружие на место и упал на кровать.
Он искал решение, и решение он получил; Бигелоу сделал это за него, еще из далекой Индии. К его отвращению примешалось что-то вроде уважения к этому оранг-путих, который оказался не настолько глуп, как он всегда думал.
И жалость к Нилам. К Георгине.
Которая в конечном счете была дитя Нусантары, приговоренная к тому, чтобы жить во лжи. Однако теперь он уже ничего не мог для нее сделать, у него была жена и пятеро детей, которые нуждались в нем куда больше. Которые остались бы одни, беззащитные, если бы он надолго сел в тюрьму, и потеряли бы из-за этого еще и все нажитое и дом в том числе.
Он узнал предупреждение, уже имея его перед глазами.
Глубоко вздохнув, он обеими руками потер лицо и прошелся по волосам; его испугала дрожь в пальцах. Он почувствовал себя усталым и старым; слишком старым, чтобы замышлять месть.
Когда-то с этим надо кончать.
В дверь его кабинета мягко постучали.
– Извини, пожалуйста, – прошептала Лилавати, ее голос был тоненьким и высоким от страха. – Я только хотела взглянуть на тебя и спросить, все ли в порядке.
– Это был вор. Малим и Ахад обо всем позаботились. – Он повернулся к ней: – Как там дети?
– Испугались, конечно. Особенно Кишор. – Она улыбнулась: – Эмбун пытается его успокоить.
Рахарио оглядел ее; она стояла в дверях, одной рукой придерживая розовый халат на пышной груди, толстая коса перекинута через плечо вперед. Кажется, ни годы, ни многодетность не смогли ничего с нею сделать, она все еще была хороша, его добросердечная, терпеливая, сильная жена.
Он протянул к ней руку:
– Иди ко мне.
Удивление скользнуло по ее лицу, когда она шла к нему гибкой походкой с покачиванием бедер на бесшумных, осторожно ступающих ногах. Он усадил ее рядом с собой на край кровати, обнял, вдохнул ее знакомый аромат розового масла и сандалового дерева – как тяжелая, пропитанная дождем земля.
– Вы всегда будете здесь в безопасности, ты и дети, – прошептал он. – Я не допущу, чтобы с вами что-то случилось.
Закрыв глаза, Лилавати прильнула к мужу.
Сердце у нее колотилось – от пережитого страха и ужаса, который только что обрушился на ее такой защищенный, тихий дом. Но и от счастья тоже.
От него пахло другой женщиной. По всей вероятности, он никогда не будет ей верен. И все же у нее было твердое чувство, что он наконец-то целиком и полностью принадлежит ей.
На смятых, заплесневелых простынях выделялся одинокий цветок орхидеи.
Он был сине-фиолетовый, цвета свежего кровоподтека. И точно так же больно было на него смотреть. Рана, глубоко в ее душе.
С щемящей, печальной улыбкой Георгина взяла цветок и вышла на трухлявую веранду.
Ее задевали ветки с красными цветами, когда она взбиралась на скалу перед стеной, чтобы ветер освежил ей лицо.
Долго сидела там, предаваясь печали.
Печали по отцу, этому гордому, богобоязненному и работящему шотландцу, который так дорого ценил приличия и искренность. И который все же обладал страстным сердцем. Оно билось не только для Жозефины, темпераментной французской львицы. Но и тайно для малайской девушки. До смертного часа его терзала вина, что обеих женщин он погубил своей похотью.
Вина, о которой Георгина постоянно напоминала ему и за которую он ее наказал, когда она ждала ребенка тайной любви.
Она понимала, почему он так поступил. Почему полуправду, да что там, ложь он открыл ей лишь на смертном одре; ведь она делала то же самое со своими детьми. Чтобы их защитить. Чтобы держать для них открытыми все пути в мир, который белый цвет ставил выше всех других цветов.
И все-таки она предпочла бы не узнать об этом. Не так поздно. Слишком поздно.
Ибо скорбь о жизни, которую у нее отняла эта ложь, была нестерпима. О жизни, которая могла бы быть, но ей не позволили.
Как полумалайке ей не пришлось бы стыдиться того, что она носит в себе ребенка оранг-лаут. Она могла бы ждать своего любимого, пока море не вернуло бы ей его.
Она догадывалась, что эта скорбь будет преследовать ее до конца жизни.
Георгина раскрыла ладони, в которых держала цветок орхидеи, сине-фиолетовый, как ее глаза. Эти глаза, цвет которых стал ее судьбой.
Она терпеливо ждала, пока ветер ощупает цветок любопытными пальцами, наиграется с ним и потом сорвет его и унесет.
Сине-фиолетовую каплю, которую он унес прочь, в открытое море.
Сонная голова Джо тяжело лежала на плече Пола. Ткань его сюртука увлажнилась от дочкиного дыхания и набежавшей тоненькой ниткой слюны.
Он занес ее вверх по лестнице, осторожно уложил на кровать в ее комнате.
– Дома? – пролепетала она, щурясь из-под ресниц, едва ее голова коснулась подушки.
– Да, мы дома. – Он нежно отвел прядку волос у нее с лица. – Картика сейчас наденет на тебя ночную рубашку.
– А мама?
– Мама сейчас придет к тебе. Я только пойду поищу ее, хорошо?
Улыбка путалась в уголках губ Джо, и, не успев кивнуть, она снова уснула.
Он знал, где следует искать ее маму.
Если она еще здесь.
Был тот час, когда остров Сингапур погружается в пастельную, дымчатую синеву. Когда любые контуры начинают размываться, а четкость дня приглушается до мечтательной нежности.
Не веря своим глазам, он рассматривал срубленную пальму, лежащую поперек сада. Спиленные ветки, кучи листвы срезанных кустов.
Мрачно грозящая стена лесочка была разорвана и стала проницаемой; между прореженных деревьев и кустов проглядывала затянутая лишайником крыша павильона. Работа была еще далеко не закончена, но все равно сад как будто задышал.
В синеве этого часа она походила на девочку, сидящую на скале, подтянув к себе колени и глядя на море. Она не повернулась, хотя должна была слышать треск веток у него под ногами. Лишь слегка приподнятые плечи дали ему понять, что она знает о его приближении.
– Ты все-таки решила его вырубить? – спросил он вместо приветствия.
Она слегка помотала головой в знак отрицания, коса едва шевельнулась на ее спине от этого знака.
– Нет, только проредить и подрезать.
Она смотрела на него через плечо глазами, будто сделанными из этого синего часа.
– Пришла пора. Пора света. Воздуха.
В ее голосе слышались боль и печаль; теперь ему пришлось поднимать плечи, он засовывал руки в карманы и уклонялся от ее взгляда.
– Как все прошло в Пондишери?
– Хорошо. Мы с твоим кузеном пришли к соглашению. Отныне фирма называется только Финдли и Бигелоу.
Он вздрогнул при воспоминании об Агнес. Об этих ослепительных зеленых глазах, которые беззастенчиво флиртовали с ним на одной вечеринке у Буассело. Еще никогда ни одна чужая женщина не давала ему столь неприкрыто понять, что она его хочет. Да к тому же такая красивая. С кожей цвета слоновой кости, с лицом тонкой резьбы, одновременно нежным и гордым, как распустившаяся роза, вложенная в чашу из золотых волос. Пышно округлая и соблазнительная, как спелый персик. Не женщина, а шампанское.
Опьяняющее интермеццо в несколько ночей было между ним и этой офицерской вдовой. Необузданное. Алчное.
Не пустячное, отнюдь. Но и не значительное.
Его место было здесь. При Георгине.
Как в хорошие, так и в плохие дни.
– Джо по тебе очень скучала.
Она лишь кивнула.
Она казалась потерянной, когда снова повернулась к морю, и он знал, о ком она думает. Так же, как он знал перед своим отъездом, к кому она обратится в своей нужде.
Это причиняло ему боль, все еще, однако он ей сочувствовал. Что-то окончательное было в ее позе, что задевало его за живое, несмотря ни на что.
То, что она была еще здесь, говорило о том, что его хитрость удалась, однако он не воспринимал это как триумф. То, что он одержал, было пирровой победой. И он заранее брал ее в расчет ради того, чтобы Георгина оставалась с ним. Пусть и той ценой, что ее сердце никогда не будет принадлежать ему целиком. Она бы, возможно, решила и по-другому.
Если бы он предоставил выбор ей.
Он все ей возместит, сегодня и во все дни их брака.
Пол подошел ближе и протянул ей руку.
– Идем домой, Георгина.
IV
Блуждающие огни
1881–1883
28
Под равномерные удары весел лодка скользила по реке.
То была маленькая местная лодка, которую Дункан пару лет назад купил у одного рыбака и убирал под крышу конюшни, когда снова уходил в море.
В узкий пролив между островом Сингапур и горсткой мелких островов они вошли под парусами; а добравшись до устья реки, Дункан ослабил паруса и взялся за весла.
Глаза Дэвида, лучась голубизной, как небо, с которого пекло солнце, блуждали по огороженным садикам, в которых женщины в ярких саронгах и кебайях пропалывали грядки или снимали урожай, болтая и пересмеиваясь. В тени перед хижинами сидели старушки, присматривая за детьми, которые с визгом и криками носились вокруг. Пели петухи, кудахтали куры, где-то хрипло взбрехивал пес, а воздух на вкус был пряный, как поджаренные до хруста овощи.
– Зачем мы сюда плывем?
– Я здесь еще не был.
Дэвид наморщил лоб: в его понимании это не годилось в качестве объяснения.
Берег окаймляли деревья, некоторые из них такие старые и корявые, будто коренились здесь не один век. Позади них виднелись цветущие садики и каменные дома; видимо, здесь жили состоятельные малайцы.
– Я подумал, – сказал после нескольких гребков Дункан, – осмотрим тот Сингапур, который мы еще не знаем.
Это вполне в духе Дункана: его привлекало все новое и неизвестное, он постоянно пускался к чужим берегам. К приключениям.
Дэвид откинулся назад, опираясь на локоть, и вытянул ноги.
– Как туристы?
Улыбка блеснула на лице Дункана, еще сильнее потемневшем от солнца во время его последнего плавания.
– Туристы сюда не забредают. Они ротозействуют в порту. Осматривают колониальную архитектуру и толкотню в Чайна-тауне. Ну разве что еще в индийском квартале.
Его голова повернулась туда, где остров пересекала Серангун-роуд.
Так же, как из двух мальчиков Бигелоу, которые когда-то бегали по саду Л’Эспуара и учились плавать по другую сторону Бич-роуд, получились мужчины, повзрослел и город их детства.
Южный берег реки Сингапур был полностью в китайских руках, с маленьким индийским анклавом и европейской сердцевиной города, со складами на улочках вокруг площади Раффлза, неутомимо гребущими деньги лопатой.
Чайна-таун был городом в себе с его шумными переулками, лавчонками и будками, уличными торговцами, паутинообразными надписями и фонариками на фасадах. Кусочек Китая, который разрастался в сторону моря; как только земля, которую человеческие руки по ту сторону Телок Айер вырвали у океана, была застроена, храм Тиан Хок Кенг, посвященный богине моря и морякам, уже не находился вплотную у воды.
На северном берегу реки Сингапур был утонченный город. Сияющий белизной, уставленный колоннами, элегантный, пронизанный насыщенными зелеными скверами и затененный тщательно обрезанными деревьями. С широкими торговыми улицами, по которым бегали китайские рикши; с каждым днем их становилось все больше.
Позади теснились пестрые дома и храмы индийцев и тамильцев, а ближе к побережью город становился похож на яркий лоскутный ковер из малайских, арабских и явайских районов, где жили и работали люди с Цейлона и Бали, а муэдзины мечетей заунывным пением призывали к молитве.
Вчера Дункан таскал Дэвида туда, водил между стендами с пряностями, мимо китайских каменотесов, мимо корзинщиков и столяров и мимо лавок, где продавались ткани всех цветов радуги. Они ели там сатэй, мясо на шампуре, и среди сплошь темнокожих мужчин пили в кофейне кофе, который заставлял их сердце работать, как паровая машина.
Сингапур вырос в большой, оживленный, пульсирующий город, куда Дункана и Дэвида постоянно тянуло, как перелетных птиц, которые всегда возвращаются на то место, где они вылупились из яиц.
После нескольких лет, когда они курсировали между Лондоном и Сингапуром, Дэвид в восемнадцать все-таки вернулся в лоно семьи и свил себе гнездо в доме Боннэр, пару лет назад выкупленном Полом Бигелоу и отремонтированном.
Подарок родителей Дэвиду к свадьбе.
– Я все еще не могу поверить, – сказал Дункан с широкой улыбкой, – что мой младший брат женатый мужчина и скоро станет отцом!
Дэвид искоса взглянул на него:
– Ты что-то имеешь против Лизы?
Дункан сделал презрительное лицо и пожал плечами:
– Что мне сказать? Я ее мало знаю. Она хорошенькая и, кажется, очень милая. – Он ухмыльнулся: – И она связалась с тобой и последовала за тобой сюда. Поэтому она, наверное, отважная. Это говорит в ее пользу.
Дэвид шутя лягнул его босой ногой в колено:
– А как обстоит у тебя с этим, капитан Бигелоу?
– Все по-старому, – ответил Дункан с непроницаемой миной.
– То есть в каждом порту по невесте… Или по две?
Дункан лишь пожал плечами, однако губы его дрогнули в улыбке, и Дэвид тоже ухмыльнулся.
Так же было и в Англии. Дэвид со своими русыми волосами и глазами, сверкающими, как море, атлетического сложения – благодаря регби, верховой езде и крикету – в сочетании с легким характером легко нравился девушкам. Но Дункану они просто падали под ноги. Его четко вырезанные черты, его темные, сильные краски и замкнутость действовали на женщин подобно магниту. Как будто они чуяли в нем мрачную тайну, которая только того и ждет, чтобы они ее разгадали.
Привлекательность, которой Дэвид ни в коем случае не завидовал. Ибо Дункан оказался разборчивым, и отвергнутые им дамы бывали благодарны, находя утешение у его более доступного и столь же приглядного брата.
Он оглядел Дункана, который без видимых усилий греб жилистыми руками, продвигая лодку вверх по течению, в свободной, как и он, рубашке, поношенных штанах и босиком. По нему было видно, как ему привольно на воде; его лицо с угловатой линией челюсти и выраженными скулами, с полными, изогнутыми губами казалось расслабленным.
Дэвид невольно погладил свою бороду, которую отпустил на время обручения с Лизой и которая делала его облик более зрелым. Хотя солнце на палубе выжгло первые линии в коже под глазами Дункана, он казался моложе своих тридцати – может быть, потому, что, несмотря на ответственность, которую нес как капитан, он вел такую вольную, независимую жизнь.
Иногда Дэвид представлял себе, каково было бы ему, живи он как Дункан. Большее время года проводить в море. Объездить всю Азию, Австралию и Новую Зеландию, Север и Юг Америки; даже в Африке Дункан побывал не раз. Не владея никаким имуществом, кроме того, что помещалось в сундуке и вещмешке моряка.
Но для такой жизни Дэвид не был создан. Его тянуло к порядку, постоянству, надежности; к умению оценивать риски и все взвешивать. В этом он походил на отца, тогда как Дункан больше пошел в мать, которая никогда не была такой, как другие матери.
Она редко задумывалась о своем внешнем облике и не заботилась о том, что скажут люди о ней или ее детях. Красавица-фея — так называл ее иногда отец; еще мальчиком Дэвид понимал почему. Она была полна фантазии, иногда бывала мечтательной, и в тридцать, и даже после сорока все еще сохраняла в себе что-то девическое. Нежная, но не удушающая детей своей любовью. Сдержанная, почти осторожная в общении с другими людьми, она давала им обоим много свободы, не боясь, что они, лазая на деревья, сломают себе шею или в драке убьют друг друга. Он надеялся, что Лиза обеспечит их потомству такое же счастливое детство.
Элизабет Стентон, дочь лондонского судовладельца, была веселой и приветливой, а не просто хорошенькой милашкой. От природы смышленая и к тому же еще образованная и много поездившая, она заставляла сильнее биться не только его мужское сердце. Она без трения вошла в семью так, как будто всегда была ее частью, и с ее разумным, умелым обхождением была для него подходящей женщиной для того, чтобы повести фирму Финдли и Бигелоу в следующий век.
– Отец все еще мечтает о том, чтобы ты тоже подключился к фирме.
Дункан бросил на него быстрый взгляд ураганных глаз:
– Я знаю.
Они молча покачивались на речных волнах, наблюдая за искристыми стрекозами, которые с шорохом пролетали мимо.
– Смотри, – голос Дункана, низкий и слегка шероховатый, был чуть громче выдоха. – Там.
Взгляд Дэвида проследил за указательным пальцем брата. Он невольно задержал дыхание, когда зимородок с кобальтово-синим и оранжевым оперением молнией метнулся в реку и тут же снова воспрянул из воды, скрывшись в зарослях.
Братья с улыбкой переглянулись. Дэвид сел:
– Дай мне погрести.
– Тебе, сухопутной крысе? – Глаза Дункана посветлели, переливаясь перламутром. – Ты даже не знаешь, как управляться с уключинами.
– Только не задавайся, что ты родился на свет с перепонками водоплавающего.
Дункан, запрокинув голову, рассмеялся.
Если Дункана и обижало, что в Англии он становился предметом насмешек из-за своих сросшихся пальцев, виду он не показывал. Задрав повыше подбородок, с безучастным лицом он настаивал на том, что благословлен морскими богами и потому может плавать быстрее всех. А если слов было недостаточно, он действовал кулаками, нередко с поддержкой Дэвида, что не раз навлекало на них обвинения.
Дэвид подался вперед, схватил Дункана за руку и лягнул его в ногу:
– Освободи место, слышь!
– Даже не думай!
Смеясь и поддразнивая друг друга, они затеяли возню, борясь за место на веслах. Лодка закачалась, потом накренилась, но они и не потрудились ее выровнять. С довольными воплями упали за борт и продолжали потасовку в прохладной воде.
– Вот тебе, крыса ты сухопутная!
Дункан с натугой вдавил брата под воду, а тот обвил его руками и увлек за собой.
Отфыркиваясь и смеясь, они вынырнули и приходили в себя на плаву. Дункан убрал со лба мокрые волосы и прислушался.
– Ты слышал?
– Что? – Дэвид вытряхивал воду из уха.
– Как будто птица, – пробормотал Дункан и огляделся.
Черные миндальные глаза. Улыбаясь и улюлюкая, высоко на дереве у самого берега. Листья ходили ходуном вокруг девичьего личика цвета светлого чая. Лицо как орхидея.
– Эй, ты там! – со смехом крикнул Дункан.
Тонкие пальчики прижались к розовым губам. Девчушка прыснула, и смех ее был тонкий и звонкий, как пение птицы.
– Эй, я тебе говорю! Ты там, наверху!
Личико исчезло. Ветки дерева задрожали и закачались; отмершие листья посыпались вниз и парили над водой, пока девчушка проворно и ловко, как обезьянка, перебиралась с ветки на ветку, потом немного сползла по стволу и с большой высоты спрыгнула вниз, на землю. Тут же сорвалась с места и босиком побежала от них по саду, на ней трепетали просторные голубые штаны и свободная блуза с вышивкой в цветочек, длинная коса рассекала воздух, как бич.
– Ну, погоди! – Дункан вразмашку поплыл к берегу.
– Что ты делаешь? – Дэвид поймал его и потянул назад. – Куда ты ломишься на чужой участок!
Дункан молча таращился вслед девчушке, и задорный взгляд, какой она метнула в него на бегу через плечо, ее смех попали ему в самое яблочко.
– Давай поплыли назад. – Дэвид примирительно похлопал его по спине. – А то я проголодался.
Дункан то и дело оборачивался, а Дэвид греб вниз по течению.
Там был просторный сад, со старыми деревьями и пышно цветущими кустами; две маленькие скорлупки лодок были пришвартованы к причалу из дерева и камня. С берега на речку выглядывал домик китайского обличия, изогнутая крыша из яркой черепицы с драконами на углах; каменные львы с оскаленными зубами несли вахту перед домиком. В глубине участка на некотором расстоянии он смог различить между деревьев больший дом, чисто-белый как из чунама, с красной черепичной крышей. С изрядного расстояния ему почудился многоголосый смех и крики какаду, но девушку он больше так и не увидел.
– А ну-ка быстро выбрось это из головы.
Дункан уклонился от строгого взгляда брата.
– Она же еще школьница! Да еще и китаянка. Не очень хорошая идея в Сингапуре. Не для чего-то прочного.
Однако эти черные миндальные глаза так и впечатались в память Дункана. Этот озорной взгляд, энергия жизнелюбия девочки и ее очаровательный смех он унес с собой в море.
Воспоминание, которое через несколько месяцев поблекло, но не погасло.
29
Мир изменился.
Он стал меньше, вертелся вокруг своей оси быстрее, с деловитым, неостановимым сердцебиением, продвинувшись далеко вперед от стремительного прогресса этих лет.
Суэцкий канал и новые высокоскоростные пароходы за более короткое время доставляли товары и людей из одного места мира в другое.
И многие пути вели при этом через Сингапур.
Сингапур называли Ливерпулем Востока из-за огромного оборота грузов в постоянно растущих портах, в первую очередь угля для прожорливых топок пароходов. За немногие годы стремительно выросли товарообороты. Давно лопнули рамки того, на что уповали когда-то торговцы из числа первых – такие, как Гордон Финдли и, пожалуй, мечтал сэр Стэмфорд Раффлз в час рождения города.
Такие происшествия, как большой пожар на угольном складе Танжонг Пагар Док Компани или один-другой экономический провал, были не более чем шишка, которую набиваешь от столкновения, шрам, который получаешь от царапины; пустяковые раны, которые могут сегодня быть, а завтра забыться.
Поездки по всему миру стали не только более короткими, но и комфортабельными и прямо-таки общедоступными. И для тех, кто ехал из Европы в Азию, Австралию или Новую Зеландию и обратно, на пути лежал Сингапур. Восемь респектабельных отелей, из которых не один заслуживал обозначения первого класса, давали возможность несколько дней передохнуть от долгого путешествия. Осмотреться в этом большом, красивом, богатом городе, предлагавшем экзотику во всех видах и вместе с тем изысканный колониальный образ жизни.
Сингапур стал Чаринг Кроссом Востока, Клапам Джанкшн Азии, как оба английских пересадочных узла, удобным, обкатанным и удивительным.
И Малаккский полуостров придвинулся ближе к Сингапуру. Дикая, заросшая джунглями земля, богатая оловом, покрытая необозримым и поразительным для европейского глаза переплетением племен и султанатов. В переговорах с отдельными из этих султанатов британцы перебрасывали через пролив Джохор крепкие швартовые канаты и надежно закрепляли их договорами.
Сингапур был уже не одиноким островом на краю света, а трудолюбивой шестеренкой в большом механизме всемирной торговли, на которой процветали и Финдли и Бигелоу. Фирма переживала второй расцвет и обеспечила семье беззаботные годы.
Упругим, свежевымытым куполом простиралось над островом небо; лишь вдали виднелись несколько белых облаков, пышных как взбитые сливки.
Весело пенилось и бурлило море по другую сторону Бич-роуд, переплетаясь с веселыми голосами и смехом.
Стояла пора дождливых муссонных ветров с северо-востока. Любимое время Ах Тонга. Казалось, это в его память сад, к которому многие годы было обращено его неповторимое лицо, так верно ухоженный руками Джебата и Джохана, будто они знавали Ах Тонга лично, просто лопался от сочно-зеленой листвы. Деревья и кусты были украшены пышными гроздьями цветов, их формы, их краски – от ярко-алого, солнечно-желтого и фламинго-розового до чистейшего белого, их сладкий, тяжелый, оглушительный аромат были просто праздником для чувств Георгины.
На расстеленное покрывало присела на колени Лиза, ее каштановые волосы были подобраны с искусной простотой и поблескивали на солнце медью. Малыш в одном подгузнике да в свободной рубашке крепко вцепился в ее руки. Покачиваясь, он старался не только устоять на толстых складчатых ножках, но и сделать первые неуверенные шаги. К своей тете Джо, которая с другого края покрывала манила его протянутыми руками, и под тихие подбадривающие восклицания отца, который сидел в траве, подобрав под себя ноги.
– Мы уже дед и бабка, – сказал на веранде Пол и наклонился вперед, чтобы погасить в пепельнице окурок сигары. – Можно ли в это поверить?
Он откинулся на спинку стула и обнял Георгину за плечи.
Она кивнула:
– Мы уже старые.
– Я да. – Он поцеловал Георгину в висок. – А ты нет. Всего-то пятьдесят.
Бой Три еще не убрал посуду; на просторном столе стояли чайные приборы и лежали остатки индийских сладостей, которые Георгина заказала Селасе вместо именинного пирога.
Дочь Тиях родилась на свет одним или двумя днями раньше. Но Георгина Индия Финдли появилась в мире именно в этот день пятьдесят лет назад, так решила она для себя.
Она не хотела устраивать в этот день большой праздник, только щедрое чаепитие с семьей, а вечером богатый ужин. Отсутствовал только Дункан, в последний раз он был здесь на крестинах своего племянника в Сент-Андрусе.
Глаза маленького Гордона сияли, когда он с помощью матери косолапо делал один за другим первые шаги к своей тете. Эти глаза были по-бигеловски голубыми, в то время как его шелковистая шевелюра цвета темной карамели пока не позволяла угадать, будет ли она песочно-русой, как у отца, рыжевато-каштановой, как у матери, или перейдет в финдлевский тон между черным и темно-коричневым.
После той бури, что обрушилась на Георгину со смертью Гордона Финдли десять лет назад, не оставив камня на камне, она хотела еще одного ребенка. Дважды у нее была надежда, но оба раза ее смывало месячными кровотечениями; потом она поняла, что эта пора ее жизни миновала невозвратно.
Возможно, то было благословение; она уже и так достаточно напрягла судьбу тремя здоровыми детьми, по которым никак не была видна их малайская кровь. О которой они не догадывались и о которой она никогда им не рассказывала. Еще не наступили времена, когда стала простительна смешанная кровь.
В Сингапур приезжали не только многочисленные туристы. Но и деловые люди и все больше колониальных чиновников для управления постоянно растущим городом и Проливными Поселениями.
Это был новый сорт людей, поселившихся в Сингапуре. Прошло время сорвиголов, вояк и авантюристов, которые пускались в добровольную ссылку, чтобы на краю света, на неприрученном островке с большими рисками строить свое счастье.
Эти новые граждане Сингапура носили белые костюмы, тропические пробковые шлемы и щегольские тросточки и посматривали в лучшем случае свысока, а в худшем – презрительно на пеструю смесь здешних народов. И в отличие от прежних времен они привозили с собой своих мэм, которые и не думали приспосабливать домашнее хозяйство к климату или местным обычаям, а с энтузиазмом пустились насаждать в тропиках свой цивилизованный британский стандарт жизни. Только с бо́льшим количеством прислуги.
Прогресс этого времени шел им навстречу и сделал из Сингапура этакое дальнее тропическое предместье Лондона, удаленное от метрополии всего на две недели. Газеты и журналы держали людей в курсе всего, что происходило дома и что было в моде, а постоянный поток почты между Великобританией и Сингапуром обеспечивал местных мэм занятостью.
Телеграфом Сингапур был связан с Мадрасом, Явой и другими городами Проливных Поселений, а с переходом первой частной телефонной службы в руки Oriental Telephone and Electric Company телефонная сеть города быстро перекинулась и на Джохор. И новый пароприводной трамвай составил конкуренцию бесчисленным рикшам; заключались пари, какое же из этих двух средств передвижения одержит верх.
Театр, многочисленные клубы и балы, бега и регаты, публичная библиотека и музей, ботанические сады и «курящие» концерты для джентльменов обеспечивали приятное времяпрепровождение, при котором всегда остаешься среди своих.
События, на которые являлись и Георгина с Полом Бигелоу – ради бизнеса и детей. Георгина так и не избавилась от робости окончательно, но справлялась с ней. Знание о своем происхождении давало ей опору, в которую временами примешивалось – как местный шнапс в шампанское – дьявольское удовольствие: будучи наполовину малайкой, вращаться в кругу этих леди и джентльменов, гордых своим статусом. Но иногда этот напиток все-таки горчил у нее на языке.
В новом Сингапуре со временем и по мере нарастающего благосостояния размывались разделительные линии между разными народами. Китайцы, тамильцы, индийцы и арабы, которые стали оседлыми, женились на малайских женщинах, рожали детей, которые, в свою очередь, тоже рожали детей: перанакан. Потомков.
Связи, породившие собственную кухню, собственные обычаи, собственный образ жизни, в которых соединились отечество и материнский мир. Баба-неня. Читти. Джави перанакан.
Для дочери шотландского торговца и малайской горничной не было благозвучного названия.
В новом, благоустроенном, чистом, колониальном Сингапуре больше не было места для людей моря. Для мальчиков-пиратов. Для ханту. Для матианак. Для таких историй, какая была у Георгины.
– Георгина!
Она вздрогнула и повернула голову. Пол улыбнулся и нежно взял ее за подбородок.
– Мечтательница ты моя. О чем ты сейчас думала?
Она выдохнула так, будто простонала, прижалась к нему и приклонила голову ему на плечо.
– О жизни.
Под ликование матери, отца и тети маленький Гордон упал в руки Джо, которая прижала его и тискала, а Дэвид, смеясь, погладил сына по голове. Лиза посмотрела издали в сторону веранды и помахала рукой, рукав ее летнего платья водопадом скользнул с локтя. Джо тоже с улыбкой подняла ручку маленького Гордона и помахала ею.
– Лучший подарок мне ко дню рождения, – шепнула Георгина.
В шестнадцать лет Джо решила поехать в Англию вместе с братом и там поступить в женский колледж, чтобы изучать языки, литературу и искусство. Всего две недели как она вернулась, стройная, вытянувшаяся девятнадцатилетняя девушка с озорными голубыми глазами. Ее сопровождали Мэйси и ее муж Генри, которые теперь, после смерти Стеллы и Сайласа Гиллингемов и после того, как их последний ребенок стал самостоятельным, захотели взглянуть на Сингапур их кузины; после чая они ушли прогуляться по пляжу.
– Она напоминает мне тебя, – пробормотал Пол. – Тогда. В наше первое время.
– Нет. – Георгина с улыбкой покачала головой. – Джо намного красивее, чем была я. Она уверенная в себе и целеустремленная. И такая умница.
Иногда она спрашивала себя, как бы протекала ее жизнь, если бы наследственность Тиях превозмогла упрямую шотландскую наследственность Финдли. Если бы она родилась на свет с темными глазами и коричневой кожей.
Ей некого было об этом спросить. Семпака в какой-то момент стала возражать против ее посещений. Она была сестрой Тиях и нянькой Георгины, но не хотела быть ее теткой. Однажды Георгина все-таки съездила туда, два года назад. То было ее последнее посещение деревни. На могилу Семпаки.
– Умница в мать, – тихо сказал Пол. – Без тебя бы фирма сейчас не была в таком хорошем положении.
Георгина подняла голову и удивленно на него посмотрела.
– А тебе никогда не приходило в голову, что я хотя и не был в восторге от того, что ты давала мне советы, но все-таки задумывался над ними? И что мне всегда шло на пользу, когда я говорил с тобой о делах? Не будь твоих возражений, я бы тогда точно продал долю в компании и сегодня бы в этом жестоко раскаивался.
Танжонг Пагар Док Компани, не только самая крупная компания, которая содержала сухие доки в Нью-Харборе, но и самая агрессивная, уже облизывающая пальцы, проглотив более слабых конкурентов, приносила в последние годы хорошие дивиденды, умножавшие состояние Бигелоу.
– И я уверен, что нашими удачными сделками с Вампоа мы тоже обязаны тому впечатлению, которое ты тогда произвела на него. Он всякий раз справлялся о тебе, когда я у него бывал.
И Вампоа, удостоенный чести быть награжденным рыцарским орденом Святого Михаила и Святого Георгия от губернатора за заслуги перед британской колонией Сингапур, тоже не числился больше среди живых.
– Я этого не знала, – прошептала Георгина.
Пол улыбнулся:
– Иногда я думаю, что этот фиолетовый оттенок в твоих глазах открывает тебе взгляд в иные миры. Но он мешает тебе видеть близкое, доступное. Зачастую он делает тебя слепой к реальности.
Щеки Георгины покраснели, и она посмотрела в сторону павильона.
Новая черепичная крыша просвечивала своим красно-коричневым цветом сквозь прореженные верхушки деревьев и подрезанные кусты. В ходе ремонта Л’Эспуара мастера взялись и за павильон, очистив его от зарослей, мха и плесени. Он снова стал светлым, но тенистым местечком, постоянно продуваемый морскими бризами и обставленный новой мебелью из ротанга и тропической древесины. Только кровать Георгина сохранила, заказав столярам лишь ее починку.
Это был ее способ примириться с прошлым и прийти с ним в согласие.
Она посмотрела на Пола. Мужчина, за которого она вышла замуж не по своей воле и с которым делила кров, стол и постель вот уже много лет.
Ему было уже близко к шестидесяти, но он оставался в хорошей форме, лишь слегка пополнев в поясе. И лицо казалось полнее – может быть, из-за залысин и поседевших волос.
Как и волосы Георгины тоже посеребрились первыми седыми прядями, а бедра стали бугристыми. После того как она выкормила троих детей, груди ее давно уже не были круглыми и полными, а на животе и на боках твердо залегла жировая прослойка, но верховая езда и плавание оказывали этому упорное сопротивление.
Она и понятия не имела, насколько хорошо он знал ее после стольких-то лет. Тогда как сама она еще не могла решить толком, как воспринимать его.
– Боюсь, ты прав, – сказала она и поцеловала его в щеку.
Пол шепнул ей на ухо:
– Идем наверх? В спальню?
Брови Георгины поползли вверх:
– Сейчас? Среди бела дня?
Улыбка, которой одарил ее Пол, была все такой же плутовской и мальчишеской, как раньше.
– Это твой день рождения. Ты можешь делать что хочешь. – Он завел ей за ухо заблудившуюся прядку. – А про дедушку и бабушку никому и в голову не придет подумать что-нибудь неприличное.
Легкими стопами, рука об руку они скользнули с веранды, быстро поднялись наверх и, задыхаясь, заперли за собой дверь. Чтобы провести предвечернее время не как супружеская пара после тридцатой годовщины свадьбы, а как тайные любовники, нарушающие все правила.
30
Закатав широкие штанины, Ли Мей сидела на берегу и болтала босыми ногами в воде. Безрадостно листая книгу, лежащую у нее на коленях. Вообще-то она читала и училась с желанием, она была одной из лучших учениц в китайской школе для девочек, но сегодня просто было слишком жарко, даже здесь, у воды, в тени деревьев.
В такой день охладиться можно было, только ныряя в воду, плескаясь там и дерясь с лучшим из всех братьев.
Но Кишор с некоторого времени уже работал в фирме их деда, которую отец передал Харшаду, и приходил домой только вечером. Оторвать отца от его счетоводческих книг и ведомостей, чтобы он вышел с ней в море или просто рассказал про прежнюю жизнь, про ее родную мать, она тоже не могла, потому что он опять был в море. А чтобы играть с племянниками – детьми Феены и Харшада, – которые шумно баловались на тенистой веранде, она чувствовала себя слишком взрослой в свои семнадцать лет; с ними даже ее младшей сестре Индире было скучно играть, а той было всего десять.
От основного дома доносилась болтовня женщин, и Ли Мей размышляла, не пойти ли ей туда; виды на чай и сладости были манящими. Но у нее не было охоты сидеть с матерью и Фееной, с женой Харшада Дарой, которые были заняты образцами тканей для приданого Шармилы, их цветом, качеством и вышивкой. И уж тем более не было охоты выслушивать добрые советы, а порой и грубые шутки насчет любви, брака и деторождения, которые обрушивались на Шармилу от более опытных женщин. Еще хуже было, когда все вдруг смолкали, как только к ним приближалась Ли Мей, и многозначительно переглядывались, посмеиваясь при этом.
Она невесело разбрызгивала ногой фонтаны воды.
Как будто она никогда ничего не слышала об этих вещах. Как будто она была маленькой девочкой.
Она давно уже чувствовала себя женщиной, ей знакома была тоска по сердцебиению и дрожи в коленках, по поцелуям, эта тоска иногда горела в ее жилах и причиняла боль. Однако она не знала, хотелось ли ей, чтобы отец подыскал ей мужа, как недавно сделал это для Шармилы.
Гарун, сын состоятельного ювелира в индийском квартале города, был приличным, вежливым молодым человеком и со своими нежными чертами, мягкими карими глазами отнюдь не безобразным, но на вкус Ли Мей ужасно пресным. Как рисовая каша без пряностей. Она не могла понять, что в нем нашла Шармила. Для Ли Мей должен отыскаться более лихой парень – как перец и крупнозернистая морская соль. Но может, она и вовсе не хотела пока замуж, а хотела лучше стать учительницей или…
Нить ее мысли из-за жары растворилась в дремотной благодати.
Она подавила зевок и наматывала свою длинную косу на палец. Сонными глазами она смотрела на лодку, которая приближалась по реке. Мимо часто проплывали лодки, груженные курами в бамбуковых клетках или огромными корзинами, полными ананасов, бананов и рамбутанов; однажды даже с привязанной козой, которая жалобно блеяла.
Она сощурилась, когда темноволосый мужчина в лодке взглянул через плечо, потом замер, посмотрел в ее сторону долгим взглядом и налег на весла.
Ли Мей не была уверена, ведь она лишь недолго видела его лицо, да еще со стороны, да еще и давным-давно. Однако сердце ее запнулось; она быстро вытянула ноги из воды и поджала под себя. Судорожно устремила взгляд в книгу, выглядывая сквозь опущенные ресницы.
– Селамат петанг. – Вежливое приветствие исходило из лодки, которая направлялась к берегу.
Низкий, полнозвучный мужской голос, от которого у нее по спине пробежали мурашки.
– Прошу прощения, юная дама. Но ты все еще лазишь по деревьям и смеешься над мужчинами, которые купаются в реке?
Сердце подпрыгнуло у нее до горла. Это и впрямь был он, один из тех двоих мужчин, которые тогда выпрыгнули из лодки в воду и принялись там беситься как дети Кулит Керанга. И он запомнил ее, как и она потом долго видела его в дневных снах с открытыми глазами.
– Иногда, – ответила она подчеркнуто равнодушно, не поднимая глаз, но косу на пальце завертела быстрее.
– Ты чего-то стыдишься или есть какая-то другая причина, почему ты не смотришь мне в лицо?
Ли Мей попыталась подавить улыбку, но вряд ли у нее это хорошо получилось.
Она медленно подняла голову и сглотнула.
Он был гораздо старше, чем она ожидала; тогда он показался ей молодым парнем, таким озорным, судя по тому, как он вел себя в воде. Этот же был взрослый мужчина, наверняка вдвое старше ее. Для которого она не могла быть не чем иным, кроме как маленькой девочкой, с которой он шутил и поддразнивал ее, ни о чем серьезном при этом не думая.
Он был красивый мужчина с золотой кожей, с дублеными чертами. С подбородком как невысказанный вызов, и ртом, который выглядел до смятения мягким.
И с этими глазами, серыми, как туча, серебряными, как лунный свет.
Он сидел в своей лодке совершенно естественно. Как будто она была его вторая кожа, а он – человек, привыкший быть на воде. Для которого море было родиной. Как ее отец.
Лодка была местная, но в нем самом не было ничего малайского, если не считать языка.
Она тайком взглянула через плечо, чтобы удостовериться, что в эту минуту не вышла из дома ее мать или кто-то из сестер. И что детям не прискучила их игра или они не перессорились и не отправились из-за этого искать ее. Не проходят ли мимо охранники, делая привычный обход; с чужими на своем участке ее отец был суров.
Ей стало жарко до корней волос.
– Что ты читаешь?
– Тебя это не касается! – Со смешком в горле Ли Мей захлопнула книгу и тут же отругала себя за то, что ведет себя как школьница.
– Покажи. – Он с улыбкой протянул жилистую руку; у него была красивая кисть: крупная, ладная, сильная.
Она хихикнула, спрятала книгу за спину и замерла.
Ее взгляд упал на его босые ступни да так и присосался к ним.
Щеки его покраснели, отчего он сразу показался намного более юным. Как робкий, беспомощный парень.
– Это не заразно, – жестко сказал он.
– Я знаю, – беззвучно шепнула Ли Мей и посмотрела на него во все глаза.
– Тебе не надо меня бояться.
Это прозвучало робко, почти умоляюще.
Я знаю. Улыбка затрепетала на лице Ли Мей, когда она отложила книгу и вытянула вперед свои ступни, растопырив перед ним пальцы.
Удивление отразилось на его лице. Пальцы его потянулись к ее ступне, как будто он хотел потрогать ее плавательные перепонки; она уже чувствовала тепло его руки на своем подъеме. Но потом он все-таки быстро убрал руку, небрежно положил ее на свое колено и разглядывал собственные пальцы на ногах.
– Моя мать всегда говорила, что, когда я рождался, морской бог простирал надо мной ладонь.
Ли Мей улыбнулась:
– А у меня это знак того, что я происхожу от морских людей.
Улыбка заиграла и на его губах:
– Значит, ты морская нимфа?
Ли Мей скромно пожала плечами и заболтала ногами.
– Значит, знак, – задумчиво повторил он и пристально посмотрел на нее взглядом, от которого у нее закружилась голова.
– И это приносит счастье! – горячо добавила она с пламенным румянцем на лице.
– Хотелось бы верить.
Хотя он улыбался и казался дружелюбным, его глаза походили на штормовое море, которое все глубже и глубже затягивало Ли Мей в его взгляд.
Море, в которое ей хотелось упасть, чтобы в нем затонуть.
Сощурив глаза, Дункан смотрел на воду, стараясь сосредоточиться на рыбацких лодках, которые неторопливо покачивались на воде.
Но выдержал недолго и снова поднял глаза на Ли Мей.
Она сидела рядом с ним на песке на расстоянии трех ладоней от него, подтянув к себе колени, как и он. Самозабвенно чертила пальцем на песке завитки и петли. Вертикальная морщинка образовалась над ее переносицей, и пряди, которые ветер выдернул из косы цвета эбенового дерева, трепетали, как струйки табачного дыма.
Ее способность молчать была тем, что пленяло его в ней больше всего.
Дункан еще никогда не встречал девушку, женщину, которая подолгу не испытывала потребности что-нибудь сказать, о чем-то спросить; это постоянное жужжание быстро ему досаждало. Исключением была лишь его мать; Ли Мей умела молчать, как Георгина Бигелоу.
Это было не обиженное молчание. Не вызывающее, не разгневанное. Не скучающее, не отсутствующее. Это было уютное молчание, легкое и все же исполненное мысли, в котором объясняешься взглядами, понимающими и настроенными одинаково с тобой.
Как будто разговаривали между собой только их души.
И тем не менее они много говорили во все эти дни, особенно в первые. Поначалу между лодкой и берегом, потом выезжая вместе; для этих поездок Ли Мей прокрадывалась из дома тайком; сегодня она прогуляла школу, чтобы походить с ним под парусом в этой бухте на западе острова.
То, что Ли Мей рассказывала о своей семье, звучало как сказка. Из тех, которые мать читала вслух или рассказывала ему и Дэвиду.
История собственной семьи казалась ему на этом фоне бесцветной, но Ли Мей слушала как зачарованная, когда он рассказывал о своей жизни на разных кораблях, о странах и континентах, на которых он побывал.
О своем отце, оранг-лаут, Ли Мей рассказывала с горящими глазами. Некогда пират, воин моря. Затем бичкамбер, пляжный бродяга, разбогатевший на сокровищах моря, на ценностях островов Нусантары. О своей приемной матери, которая была дочерью индийца, торгующего золотом и драгоценными камнями, и малайки. И о своей родной матери, которая умерла родами. Китаянке, в детстве проданной в Сингапур и спасенной отцом Ли Мей от борделя.
История, которая могла случиться лишь в Сингапуре.
За годы, прошедшие с тех пор, гнилое болото греха Чайна-тауна отнюдь не было осушено; его пытались огородить запрудами и направить в управляемое русло.
Китайский протекторат Сингапура вырос из беспорядков, которые сотрясали город пять лет назад. Словно лесной пожар, распространялись слухи, что запланированная почтовая служба города станет не одной из многих, а единственной возможностью связи с Китаем и будет облагаться высокими пошлинами. Слухи, умышленно распространяемые тауке, которые со своими кораблями и агентами до сих пор держали монополию на почтовую связь с Китаем, приводили в негодование китайские души. Хотя существующая рассылка почты не была надежной, особенно когда на старую родину посылались деньги.
Власть тауке, Конгси не поддавалась полному искоренению, но ее можно было укоротить тем, что прибывающих в Сингапур зинке, нелегальных иммигрантов, встречали говорящие по-китайски чиновники новых органов и оказывали им помощь. Протекторат предлагал кули переводчика и юридическую защиту при злоупотреблениях или недобросовестных договорах, устраивал обыски в легализованных к этому времени борделях и прилагал усилия к вызволению девушек моложе шестнадцати лет и тех, что находились там по принуждению.
Однако ростки ночного теневого порока, тут и там подрезаемые и при желании легко поддающиеся прополке, продолжали цвести пышным цветом, далеко за пределы переулков Чайна-тауна испуская свой соблазнительный, чувственный запах женщин, опиума и азартных игр.
Она была бабочкой с крыльями из железа, – с просветленным взглядом шептала Ли Мей.
Сама Ли Мей бабочкой никак не была, несмотря на свою миниатюрность и изящество. Гибкая и сильная, как молодой бамбук. Иногда она напоминала ему молодую газель – такая же элегантная в движениях, такая же сильная.
Она любила море так же, как и Дункан, и временами он думал, что она и впрямь морская нимфа, русалка.
Он не мог налюбоваться, как она без усилий балансировала в лодке на своих миниатюрных ступнях, как блузка и брюки на ветру облепляли ее мальчишеское тело и как ловко она управлялась с линями паруса. Она со смехом объясняла, что ее научил этому отец; она умела ориентироваться и направлять паруса по звездам, умела бросить якорь и даже охотиться с гарпуном. В этих занятиях она казалась чуть ли не парнем, несмотря на девические черты и на длинную косу. Как амазонка. От нее исходило кошачье, чувственное очарование, которое наполняло его удивлением и благоговением.
Как в тот раз, когда в одной из своих прогулок по острову он встретил тигра, на Букит Тима-роуд, неподалеку от моста через реку Рохор. Дело было в вечерних сумерках, путь его на некотором отдалении пересекла тень и остановилась. Один из последних тигров Сингапура – в поиске добычи или нового ареала после того, как плантации и поселения с каждым годом все более алчно пожирали джунгли в сердце острова.
Тигр выглядел массивнее, чем он представлял себе этих хищников на воле; с такой величественной, эластичной силой, что у Дункана перехватило дыхание и парализовало все мускулы. Море пламени в дымчато-голубом свете, на груди и на брюхе – заснеженное поле; тигр оглядел Дункана горящими глазами почти как равного себе. Они долго смотрели друг на друга, пока тигр не оскалил зубы в беззвучном рыке – как приветствие, – и гордо удалился в заросли.
С Ли Мей он чувствовал то же самое. Знание, что нашел нечто редкое, бесценное; встречу, какая выпадает человеку, может быть, только раз в жизни. Догадку об опасности, которой он тем не менее не страшился.
Прежде чем ему удалось оторвать от нее взгляд, она поймала его и прочно удерживала, улыбаясь:
– Что такое?
Ничего. Все.
– Ты очень красивая.
Щеки ее зарумянились:
– Ты тоже.
Дункан рассмеялся и прошелся пятерней по волосам.
– Прежде всего я слишком стар для тебя.
Ли Мей подсунула руки себе под колени, задумчиво покачивала ступнями и смотрела на воду.
Временами он казался себе сентиментальным дураком, тщеславным петухом, который верил, что еще достаточно юн для Ли Мей. Или злодеем, преследующим маленькую девочку.
При этом ему не в чем было себя упрекнуть: он не делал ничего предосудительного, всего лишь галантно подавал руку, помогая ей подняться в лодку или выйти из нее. Он даже не плавал с ней, чтобы не видеть, как ее брюки и свободная блуза облепляют ее тело, становясь прозрачными от воды, или как она, может быть, снимает с себя что-нибудь из одежды. А то, как она смотрела на него, как ее взгляд задерживался на его руках, странствовал по его телу, было для него и соблазном, и вместе с тем пыткой; он не знал, как долго он еще сможет владеть собой.
Внезапно она затихла и подтянула к себе колени.
– Я ведь тебе немного нравлюсь? – прошептала она на ветру.
Он хотел быть благоразумным. Честным. Сказать нет. Встать и уйти и никогда больше не видеть ее.
– И даже очень, Ли Мей.
Ее орхидейное лицо просияло, она придвинулась ближе, положила голову ему на плечо и смотрела на него снизу вверх. Вопросительно. Просительно.
Однозначно и непреодолимо.
Он нежно прикоснулся губами к ее рту со вкусом зеленого чая и муссонного ветра. Кончик его языка разомкнул ее губы, и она отпрянула, испуганно воззрилась на него, как будто обожглась.
В горле у него уже теснились слова извинения, сожаления, однако рот Ли Мей, внезапно решительный, еще с невинной неумелостью, но нарастающей алчностью задушил их на корню.
У Дункана было много женщин, перецеловал он их бессчетно. Но даже не подозревал, что человеческое сердце может вспыхивать огнем и гореть ярким пламенем так, что становилось больно.
Вода омыла прохладой ее лодыжки, вымочила ей штанины, когда она помогала Дункану вытащить лодку на берег.
Рука об руку с ним она бежала по песку, который светло мерцал в темноте, в свете звезд. Он перевел ее через дорогу, через лаз в стене, и навстречу ей ударило влагой ночное дыхание листвы.
Звон цикад сливался с биением ее сердца, высоким, тонким и частым, и смех щекотал ее изнутри.
Как волнующе было сбежать из дома под покровом темноты. Проскользнуть мимо ночных охранников и потом бесшумно плыть на лодке по ночной реке, по берегам которой шуршало, потрескивало и квакали лягушки.
Лишь освещенные окна в конце чужого сада вызвали у нее испуг, и звон цикад сразу принял угрожающий оборот.
Она пробиралась за Дунканом между деревьями, поднялась за ним по ступеням в домик.
– Погоди, – прошептал он. – Я сейчас зажгу свет.
Ли Мей слышала, как он что-то ищет. Загорелся слабый огонек, оттеснил темноту в углы комнаты и наколдовал силуэты стола и кровати.
– Что это здесь?
– Это садовый павильон. Я здесь играл с раннего детства. Но тогда он был полуразрушенный. Моя сестра иногда удалялась сюда читать.
Ли Мей пугливо огляделась.
– А если кто придет?
Улыбка светло блеснула на его лице:
– В это время уже никто.
Он упал на кровать и протянул к ней руки. Ли Мей непроизвольно обхватила себя руками.
– Ты передумала?
Она малодушно помотала головой: нет.
Это было ее желание – найти место, где бы они могли быть одни. Где ей не нужно было опасаться, что их увидят рыбаки и, смеясь, будут кричать что-нибудь непристойное. В китайском домике в Кулит Керанге, который принадлежал ей, было нельзя. В течение дня всегда кто-нибудь мог войти, а ночью слишком велика была опасность, что Дункан попадется в руки охране. Попадись им она одна, у нее быстро нашлась бы отговорка, но чужой мужчина на участке…
Это место, которое по рассказам Дункана было таким уютным, показалось ей наоборот жутковатым. Древесина и камень пахли новым, но под ними скрывался вечный запах моря. Как будто павильон однажды, много-много лет назад погрузился на дно и лишь с трудом был заново отвоеван у океана.
Что-то подстерегало в его тени. Не то чтобы злое. Скорее печальное чувствовалось здесь. И запретное.
Ей нельзя было здесь находиться.
– Только поцелуи, Ли Мей. Обещаю.
Она сделала над собой усилие и легла к нему на кровать. В объятиях Дункана она чувствовала себя защищенной. Его сердцебиение, его запах мокрой от дождя травы и нагретого солнцем камня успокаивали ее.
С Дунканом было все равно что на море. Тихо, но не всегда молчаливо; его голос, слова, которые он говорил, заставляли в ней что-то вибрировать, то тихо и мягко, то сильнее, иногда высоко и захватывающе. С Дунканом она чувствовала себя дома, он был большой серебряной звездой на небосводе, по которой она направляла свой парус. Которая неизменно сопровождала ее путь.
Его поцелуи прогнали ее страх.
– Нет. – Дункан не дыша отстранил ее от себя, вытянул ее руку у себя из-под рубашки.
– Я не хочу останавливаться, – пролепетала она.
Его взгляд испытующе скользил по ее лицу.
– Ты уверена? Я могу подождать, понимаешь?
– Я не хочу больше ждать, – настаивала она и спросила себя, откуда у нее берется мужество.
Дункан медленно стянул рубашку через голову, расстегнул свои брюки. Ли Мей беспокойно разделась и тут же пожалела об этом, как только взгляд Дункана прошелся по ее телу.
– Я знаю, у меня мало чего есть, – пожимая плечами, она пыталась стряхнуть с себя стыд, что в ней даже не намечалось таких округлостей, какие были у Феены и Шармилы.
– Более чем достаточно, Ли Мей, – хрипло произнес Дункан. – Более чем достаточно.
Она хватала ртом воздух, когда руки и губы Дункана странствовали по ее телу. Заново его формируя. Слишком маленькие холмики ее грудей разрастались до мягких подушек, между которых он зарывался лицом; ее жесткий живот, ее заостренные тазовые кости стали текучими, как вода. Его губы коснулись сокровенного углубления, и жар его тела заставил ее кожу звенеть, как цикады.
Твердая плоть прорвалась к ней между ног и принялась пробивать себе путь внутрь ее. Это было омерзительно и в корне неверно.
Она искала слово, одно-единственное слово, что-то вроде «нет»… Которое внезапно обернулось непонимающим и непостижимым «да». Тепло волна за волной сотрясало ее, наполняя ее незнакомым, новым, странным чувством счастья.
Так вон оно как.
Дрожащими пальцами Дункан гладил ее лицо, прорисовывая контуры ее гордого носа, почти великоватого для ее девичьего лица. Закрытые веки, мерцающие, как перламутр, и рот, похожий на розовый зев орхидеи. Он казался себе беспомощным и был рад, что Ли Мей прижималась к нему, давая ему опору.
Так вон оно как бывает, когда женщина вожделеет не только телом, но каждым волокном своего бытия.
Он хотел что-то сказать – что-нибудь утешительное, может быть, или что-то значительное, но голова была пуста, язык был полон вкусом Ли Мей – вкусом терпкого меда, соленого молока и шафрана.
Она открыла глаза, пристально посмотрела на него из своих узко сбегающих глаз, темных и бездонных, как глубокий колодец.
Она говорила так тихо, что ему приходилось читать по ее губам.
Я ждала тебя всю мою жизнь.
31
Потаенные дни и краденые часы ночами были в этом жарком августе, к началу знойного сентября. Огонь солнца, пылающая темнота и вожделение обдавали их потом, и каждый день походил на игру в прятки на тлеющих углях. Каждый день был еще одной каплей, которая испарялась из исчезающей лужицы того времени, что им оставалось. Скоро Дункану придется после отпуска вернуться на борт. И скоро должен вернуться из поездки отец Ли Мей.
– Он очень строг к тебе? – прошептал Дункан в шуме прибоя, наполняющем павильон.
Он гладил ее по щеке, потом ниже по шее и по плечу; его пальцы не могли различить, где кончается кожа Ли Мей и начинается шелк ее блузы.
– Только иногда. – Улыбка осветила ее лицо в маслянистом свете лампы цвета благородной чайной розы. – Но то, что я встречаюсь с тобой тайно, то, что я тут делаю с тобой, ему уж точно никак не понравится. Моей матери тоже.
Они нашли сообщницу в лице Шармилы, которая сама была по уши влюблена в своего Гаруна и пребывала в нетерпеливом ожидании свадьбы. И в лице Джо, которая после тщетных попыток утолить свое любопытство в конце концов приняла тот факт, что ее брат по вечерам встречается с кем-то в павильоне, но не хочет сказать с кем.
Улыбка на лице Ли Мей вспыхнула и погасла; ее глаза наполнились слезами:
– Я так боюсь за него.
На прошлой неделе в море случилось что-то зловещее. Вначале сильный грохот, похожий на взрыв, нарушил торжественное пение псалмов в Сент-Андрусе. Многие сочли это грубым нарушением воскресного покоя взрывами в ходе расширения и освоения прибрежной полосы у Телок Айер. Но это продолжилось поздним вечером и ночью и вызвало еще большее неудовольствие. Другие приняли это за сигнальные выстрелы с Форта Кэнинг или за морское сражение – может быть, с китайскими пиратами, которые назойливо как саранча время от времени совались в местные воды. Но утром понедельника тишину разорвал могучий удар, громовой и резкий, будто сам бог-громовержец развернулся во всю свою уничтожительную мощь.
То был час, когда в пятистах милях к югу от Сингапура, в Зондском проливе между Явой и Суматрой под небом, черным от дыма и сажи, извергся вулкан островка Кракатау, исторгая в воздух огонь, пепел и камни, а море вздыбилось в смертоносном потоке.
После разрушения телеграфной связи с Явой новости в Сингапур просачивались лишь по каплям, и город лежал как остров блаженных вдали от событий и мог лишь догадываться, какой ад творился на Яве и Суматре и на всех других островах вблизи и вдали; речь шла о смытых с лица земли деревнях и тысячах погибших.
– Наверняка с ним ничего не случилось. – Дункан притянул Ли Мей к своей груди. – При морском землетрясении нигде нет более безопасного места, чем посреди океана.
– А вдруг он в это время как раз причалил к одному из этих берегов… И именно там вышел на берег… – Ее пальцы вцепились в его спину, ища опоры. – И я все время думаю: что, если боги накажут меня, отняв у меня отца? За то, что я нашла в тебе?
– Нет, Ли Мей, – шептал он ей в волосы. – Не думай так. Не ты ли мне рассказывала, что твой отец знает море, как никто? Что море то же самое, что кровь в его жилах? Его сердцебиение?
Образ отца, нарисованный ему Ли Мей, вызывал у него уважение. Гордый. Непокорный. Временами вспыльчивый. Человек, которому лучше не становиться поперек дороги, особенно когда дело касалось его дочери, которая, судя по всему, была его зеницей ока. И все же он был полон любопытства к этому человеку. Человеку моря, такому же, как и он сам. Почти родственная душа; он с удовольствием когда-нибудь познакомился бы с ним.
– Да, – прошелестела она. – Да, это верно.
Сердце Дункана сжалось, а потом расширилось в диком, неровном ударе, когда он ощутил у себя на языке слова, которые уже несколько дней носил в себе.
– Как ты думаешь… он скажет «да», если я попрошу у него твоей руки?
Ли Мей подняла голову, на ее щеках блестели дорожки от слез, а глаза сияли от непостижимого счастья. Улыбка – печальная, почти болезненная – показалась на ее лице, и она положила ладонь на его щеку.
– Ты не можешь на мне жениться, Дункан. Ты белый. Оранг-путих. А я наполовину китаянка, наполовину оранг-лаут. Вместе нам не бывать. Здесь – никогда.
Внезапно разница в возрасте между ними повернулась в обратную сторону. Он, романтичный и наивный юноша, а она – опытная, рассудительная женщина, которая знала порядок вещей в жизни.
– Если не здесь, то где-то в другом месте, Ли Мей, – прошептал он и прижался лбом к ее лбу. – Если понадобится, то хоть на краю света.
– Где Ли Мей?
Облегчение, радость последнего часа, что супруг, отец благополучно и до срока вернулся в Кулит Керанг, наполняли дом серебряным звоном, словно стрекот цикад, но теперь он содрогнулся и замер от его голоса; в нем чудилось что-то угрожающее.
– Я не знаю, – растерянно ответила Лилавати.
Она сидела с Индирой на полу веранды, освещенной лампой, и закрепляла в косе девочки последний из новых перламутровых гребней, а Индира – изящная, с глазами, как у косули – разглядывала привезенные отцом игрушечные фигурки, вырезанные из дерева и кости.
– Может, она в китайском домике?
Рахарио, со свежеподстриженной бородой, с еще мокрыми после ванны волосами, отрицательно покачал головой:
– Нет, там ее нет. Никто из персонала и из охранников тоже не видел ее с полудня. Кишор?
Вытянув длинные ноги, со стопкой новых книг рядом с ротанговым креслом, углубившись в чтение, молодой человек с угловатыми, замкнутыми чертами лица пожал плечами:
– Понятия не имею.
– Шармила?
С пунцовыми щеками Шармила склонилась над вышиванием и отрицательно потрясла головой. Врать матери для нее не составляло труда: ведь Лилавати была вся поглощена заботами о подготовке свадьбы; но отца обвести вокруг пальца было не так легко.
Она чувствовала, как глаза отца сверлят пробор ее волос, и глаза матери тоже испуганно вскинулись на нее.
– Шармила. – Голос отца стал опасно тихим.
– Откуда мне знать, куда подевалась Ли Мей, – пролепетала она полудерзко, полувиновато.
– Ты лжешь.
Плоское лицо Шармилы пылало, и она сжала полные губы в тонкую линию.
Под шорох шелка и звон украшений Лилавати тяжело поднялась и опустилась рядом с Шармилой на колени, осторожно взяла ее за запястье.
– Если ты что-то знаешь, ты должна нам сказать, Шармила. В такое время быть где-то вне дома опасно для такой молодой девушки, как твоя сестра.
Шармила опустила голову еще ниже.
– Так ты знаешь, где она может быть?
Шармила молчала.
– Разве ты не понимаешь, что мы в тревоге? Что бы ты ни обещала сестре, ты должна нам сейчас сказать, где она.
– Шармила. – От отцовского голоса, холодного и резкого, как разбитое стекло, у нее кожа пошла пупырышками. – Ты сейчас же скажешь мне, где твоя сестра. Если ты рассчитываешь стать женой Гаруна.
Шармила вскинула голову; ее узкие глаза расширились от ужаса.
– Нет, папа. Пожалуйста. Это несправедливо!
– Ты можешь выбирать. Ли Мей или Гарун.
Взгляд его был каменным.
Ее глаза влажно заблестели, и в поисках помощи она посмотрела на мать.
– Пожалуйста, Шармила. Скажи нам, где Ли Мей.
Острый подбородок Шармилы дрожал.
– Она… она с одним мужчиной.
В глазах отца вспыхнуло пламя.
Лилавати резко втянула воздух, и пальцы ее крепче сомкнулись на запястье дочери.
– Где, Шармила?
– Этого я не знаю.
– Мужчины, которые уговаривают девушек на секретность, не замышляют с ними ничего хорошего. Никогда. – Голос Лилавати был мягким, но настойчивым. – И ради твоей сестры скажи нам все, что тебе известно. Может быть, ты знаешь его имя?
Слезы капали из глаз Шармилы.
– Дункан. Дункан Бигелоу.
Сердце Лилавати холодно сжалось, когда она взглянула на мужа.
С его лица схлынули все краски; оно стало серым, седым, как пряди в его волосах и в его бороде. В глазах горела голая ненависть.
– Ты это серьезно? – прошептала Ли Мей между двумя поцелуями.
Дункан повернулся к ней, гладил по лицу, по волосам, которые черной рекой растеклись по подушке.
– Еще никогда ничто не было для меня настолько серьезно, Ли Мей. Мы созданы друг для друга.
Он провел ступней по ее стопе. Различнее некуда: большая, костистая мужская стопа – и женская, изящная, с высоким подъемом; общим у них была только плавательная перепонка между вторым и третьим пальцем. Как у тюленя или выдры.
Знак судьбы.
Задорная искра вспыхнула в темных глазах Ли Мей, и ее руки уже нащупывали верхнюю пуговицу его рубашки.
– Докажи мне это.
От губ Дункана на ее шее у нее пробежали мурашки по коже, и под тяжестью его тела она, казалось, невесомо парила.
– Ты для меня все, – пробормотал он.
Ли Мей улыбнулась и вздрогнула. Быстро прижала палец к его губам, отодвинула его от себя и прислушалась к звукам в саду, широко раскрыв глаза.
– Там кто-то есть. Кто-то ходит вокруг павильона.
Дункан отвел ее руку и, смеясь, покрутил головой:
– Никого там нет. Только море и ветер. Разве что какой-нибудь зверек в кустах.
Ли Мей вскрикнула, когда в комнату ворвалась тень и метнулась к ним; Рахарио схватил Дункана за волосы и поволок по комнате, ударил его о стену с такой силой, что хряснули позвонки.
– Руки прочь от моей дочери!
Жилистая, жесткая рука сомкнулась на горле Дункана, и что-то холодное приникло к его шее со смертельной остротой, поцарапав кожу.
Он взглянул в харю демона, такую близкую, что он чувствовал толчки его жаркого дыхания. Наполовину спрятанный в глубокой тени, он видел лишь светлое сверкание зубов перекошенного рта и огонь в глазах. Исполненных ненависти. Кровожадных.
Мужское тело, такого же роста, как он, пригвоздило его к стене с силой всех его мускулов; не было никакого шанса высвободить руку или ногу, чтобы принять позу обороны. Он ловил ртом воздух, и его сердце в смертном страхе грозило разметать ребра.
– Папа! – Ли Мей спрыгнула с кровати, подскочила к отцу со спины, впилась ему в плечи, тянула и рвала его. – Ты сделаешь ему больно! Отпусти его! Папа, прошу тебя! Отпусти его!
Что-то жесткое, острое вонзилось в нее с быстротой гарпуна, может быть, локоть, и она ударилась спиной об пол. Раскрыв рот в немом крике, она схватилась за ушибленные ребра, за судорожно сжавшийся желудок. Воздух она не могла вдохнуть.
От боли. От страха за Дункана.
От потрясения, что ее любимый отец в своем гневе не пощадил и ее.
Георгина подняла голову от книги и сощурилась, глядя с веранды в ночной сад.
– Что это было? – испуганно прошептала она.
Джо тоже опустила свою книгу с расширенными в страхе глазами, поглядывая то на отца, то на мать.
– Оставайтесь здесь. – Пол отшвырнул газету и быстро встал, побежал в дом.
Джо бросила книгу на стол так, что зазвенели стаканы. Георгина удержала ее:
– Ты что, не слышала? Нам велено оставаться здесь.
Джо пыталась вывернуться из ее хватки, которая оказалась на удивление крепкой; наконец она топнула ногой.
– Я не могу здесь оставаться, мама! Там Дункан! В павильоне! Со своей зазнобой!
– Папа! Прошу тебя.
Из тоненьких обрывков воздуха, которые Ли Мей удалось заполучить себе в легкие, она лепила слова мольбы.
Рука Рахарио все сильнее смыкалась на горле Дункана, крепче прижимала клинок к его шее.
Дункан стиснул зубы, с гневным негодованием во взгляде. Почти презрительным.
– Ты, поганый оранг-путих, больше никогда не дотронешься до моей дочери. Ты никогда больше ее не увидишь. Ты меня понял?
Нилам. Вспыхнули картины и воспоминания, окружили его. Георгина.
Перед глазами Рахарио заплясали красные искры, в ушах у него зашумело; может быть, то был шелест, шорох воздуха, который пробивался к нему.
– Я клянусь всем, что мне свято, иначе я убью тебя.
– Не делай этого, Рахарио. Прошу тебя. Ведь это мой сын.
Он повернул голову. Даже в слабом свете маленькой лампы ее глаза светились синим сапфирным цветом. Она казалась испуганной, но подбородок был храбро вздернут; она пополнела, темные волосы были с проседью. И, похожая на ту Нилам, которую он когда-то знал, за ее спиной маячила ее дочь. Маленькая девочка, которой годы назад он подарил на пляже раковины.
Из-за их спин протискивалась вперед еще одна тень. Очерчиваясь в мужчину его возраста, скорее меньшего роста, но сильного, ружье наизготовку, нацеленное на него.
Расставив ноги, он напрягся, неподвижно прицелившись в лоб Рахарио, и глаза его поблескивали жестко и холодно, как голубое стекло.
– Хоть один волос упадет с головы моего сына – и ты мертв.
Уголок рта Рахарио приподнялся в презрительной усмешке.
– Это и есть твоя жалкая месть, Бигелоу? Твоя плоть и кровь соблазнила и обесчестила мою дочь. Месть за то, что я имел твою любимую женщину? За то, что я был у нее первым? За то, что тебе всегда приходилось бояться, что ты у нее лишь временная затычка?
Пол не шелохнулся, и глазом не моргнул.
– Он не моя плоть и кровь. А твоя.
Тишина наполнила комнату, даже море, казалось, задержало дыхание, когда все глаза устремились на Георгину.
Она на мгновение смежила веки; она казалась себе голой, разоблаченной до дна души. Потом открыла глаза, пристально посмотрела на Рахарио.
– Ты его отец, – прошептала она. Голос был прерывистый и бессильный. – Ты его зачал. Тогда. Под южным ветром.
Они впервые посмотрели друг другу в глаза, отец и сын. Мерцающим взглядом они рассматривали тяжелые дуги бровей другого. Крепкие носы. Размашистую линию рта и жесткую линию подбородка. Видели сходство. Чувствовали тонкое эхо их общей крови.
Взгляд Дункана скользнул мимо Рахарио, к Ли Мей, которая сидела на полу, глаза – как глубокие озера страдания.
К ее ступням, на которых перепонка соединяла два пальца.
Наследие ее отца. Его отца.
Рахарио отшатнулся, уронил руки; лезвие клинка дрожало, отбрасывая блики света. Казалось, он съежился и поблек.
Как будто ему вырвали сердце и оставили его исходить кровью, и Георгина кровоточила вместе с ним.
– Мне очень жаль, – еле слышно сказала она.
Он покачал головой, медленно повернулся и усталыми шагами вышел вон.
Пол павильона был усеян острыми осколками надежд и мечтаний, желаний и чувств. Обломками не одной жизни. И из-под них вяло сочился ручеек стыда и вины, гнилой, липкий и вызывающий дурноту. Затхлые остатки старой лжи были разбросаны там и сям, и жалкие следы правды, от которой никому не было пользы. Она только ранила, задевая за живое.
Ли Мей молча закрыла лицо ладонями. Джо держалась за косяк двери, прижимаясь к нему лбом и зажмурив глаза. Ни на кого не глядя, Дункан сполз по стене на корточки и зарылся головой в скрещенные руки.
Георгина дернулась.
– Георгина!
Пол опустил ружье и бросился к ней, чтобы удержать.
Он опоздал на одно мгновение, поймал лишь дуновение воздуха между пальцами, аромат шершавой травы и воздуха после грозы.
– Георгина!
Его рев был как у раненого тигра, почва ушла у него из-под ног.
Белизна кебайи Георгины погасла в ночи.
Дункан неподвижно сидел в шезлонге в слабо освещенном кабинете.
Упершись локтями в колени, он держал в руке стакан и смотрел перед собой в пустоту. Только когда он моргал, можно было заметить, что он не из камня.
Они сидели здесь уже давно. Какое-то время назад Джо осторожно постучалась, просунула голову в дверь и кивком дала Полу понять, что она отвезла Ли Мей на паланкине домой. Прежде чем снова закрыть дверь, она озабоченно взглянула на брата. Полу она еле заметно улыбнулась, ободряюще, но все равно жалко; выглядела она заплаканной.
– Почему вы не сказали мне об этом? – тихо спросил Дункан раненым голосом после долгого молчания.
– Мы считали, что так будет лучше. Мы ведь не могли даже предположить…
Пол глубоко вздохнул и сделал большой глоток.
Бесконечно медленно рука Дункана сжалась в кулак.
– У меня всегда было чувство, что ты относишься ко мне иначе, чем к Дэвиду. Поэтому, да?
Было заметно, что он старался сохранять благоразумие, под которым трепетал детский страх. Мольба, чтоб все было не так. Дункан заслуживал честного ответа, поэтому Пол долго подыскивал слова.
– Я часто спрашивал себя об этом, – тихо сказал он. – Иногда мне было тяжело смотреть на тебя и знать, что ты сын другого мужчины. Мужчины, которого твоя мать предпочла мне. Знать, что она вышла за меня замуж, потому что была уже беременна тобой. В какой-то момент я забыл про это, но иногда получал напоминания. Мне приходилось к тебе приноравливаться, потому что ты был совсем иной, чем я. Не внешне. Характером. Ты был для меня чужим. Таким же чужим, как твоя мать. Потому что ты всякий раз напоминал мне ее. Женщину, которую я и до сих пор не могу понять до конца. – Он тяжело вздохнул. – Но я не хочу отрицать, что были и времена, когда я давал тебе понять, что ты мне не родной сын. Несмотря на все благие намерения и, возможно, даже незаметно.
Дункан чуть кивнул.
– Это очень горько, – прошептал он после паузы. – Все это время я думал, что не могу на ней жениться, потому что я белый, а она полукитаянка, полумалайка. Теперь оказывается, что у меня в жилах в избытке малайской крови, но все равно я не могу на ней жениться.
Он давил себе на глазные впадины большим и указательным пальцем.
– Ли Мей. – Он произнес ее имя мягко, но тем не менее голос его звучал истерзанно. – Моя… Она… Мы с ней… Я с собственной сестрой…
Судорожные вздохи один за другим сотрясали его тело, как будто его вот-вот вырвет.
Пол тихо отставил стакан, забрал стакан у Дункана, поставил его рядом со своим и осторожно положил ладонь ему на затылок.
Дункан ткнулся в него опущенной головой, зарылся пальцами в его спину и завыл, как волк; почти бесслезным, гневным, проклинающим бога и человека плачем. Пол прижимал его голову к себе, сурово, почти грубо, зарывшись пальцами в его волосы. Наконец крепко похлопал его по спине, когда этот судорожный приступ тошноты закончился, и Дункан отделился от него.
– О боже. – Обеими руками Дункан растер себе лицо, засопел: – Что же мне теперь делать?
Пол взял свой стакан и сделал несколько глотков, растворяя их на языке, основательно испытуя свою душу, свою совесть.
– Ты знаешь, – начал он осторожно, – что в письменном столе есть хорошо заполненный отсек для денег? Ключ от него лежит в верхнем ящике с правой стороны. И если я говорю «хорошо заполненный», я имею в виду «хорошо заполненный». С этим можно уйти далеко. В том числе… в том числе и вдвоем. Если хочешь.
Дункан наморщил лоб, который постепенно стал разглаживаться, когда он начал понимать, но все-таки не вполне понимал.
– Почему ты это делаешь?
Пол думал о том, сколько всего он сделал для Георгины. Как хорошего, так и плохого.
– Потому что иногда приходится делать и что-то неправильное. Если вот здесь, – он постучал кончиками пальцев по груди, – чувствуешь, что это правильно. Потому что иначе не можешь.
Они долго молчали.
– Спасибо, – сказал Дункан и поднялся на нетвердые ноги. – Мне надо сейчас побыть одному.
От двери он еще раз обернулся.
– Ты был мне лучшим отцом, какого я только мог себе представить. Особенно… – Дыхание его пресеклось. – Особенно сегодня. У меня только один отец, и это ты.
Пол смотрел в свой стакан, в глазах его было жжение.
– Еще раз поговори с матерью.
Дункан отрицательно качнул головой:
– Сейчас я пока не хочу ее видеть. Завтра, может быть. И когда-нибудь я ее, конечно, прощу. Но сейчас… сейчас пока нет. Скажешь ей это, если я ее больше не увижу? Когда-нибудь? Когда сочтешь своевременным.
Пол кивнул, сведя брови.
Если она снова сюда когда-нибудь вернется.
– Бриллиант, – пробормотал он.
Дункан вопросительно взглянул на него.
– Твой дед так сказал однажды про твою мать. Что она как бриллиант. Высококаратный. Твердый и острогранный, можно об него порезаться. До кости. Редкий и бесценный. И что он стоит того, чтобы набраться терпения и бороться.
Несколько мгновений он обдумывал сказанное.
– В тот день, когда она тебя рожала, Ах Тонг сравнил ее с тигрицей. Которая может вонзить когти в тело и растерзать сердце. И что такой тигрице следует предоставить свободу и дикость. Тогда она, может быть, сама к тебе придет.
Дункан молчал.
– Даже если она не может тебе это показать… Я уверен, мать любит тебя. Очень любит.
– Хотел бы я, чтоб было так, – прошептал Пол под звук закрывшейся двери.
Они молча сидели рядом.
Два темных силуэта на серебристо поблескивающем песке. Они смотрели на море, бескрайнюю, колеблющуюся черноту, которая дышала и шептала, набегала пенистыми волнами и тихо отползала назад. Под бескрайним, сверкающим куполом ночного неба. В свете звезд.
– Ты должна была мне это сказать.
Голос его был хриплым и ломким, как высушенный на солнце, потрескавшийся кусок плавникового дерева.
– Я знаю. – Она говорила тихо и мягко, словно языком моря. – И я часто собиралась это сделать. Но разве бы ты мне его оставил в своем гневе?
Она посмотрела на него со стороны. В его лице что-то дрогнуло; он опустил голову и зарывался пятками в прохладу песка.
– Скорее всего нет.
Море вмешивалось в их разговор, ластилось и подлизывалось. Просило о понимании, предлагало утешение и втягивало во все это шепчущий ветер.
– Это и было причиной выйти за Бигелоу?
– Да. Пол, как узнал, не посвящая меня в детали, немедленно пошел к моему отцу и сказал ему, что ребенок – его. И мы поженились. – Ее пальцы ворошили песок, еще теплый на поверхности от дневного зноя, а снизу прохладный, сырой. – А я не знала, что мне делать. Ты просто не вернулся. – Она немного помолчала. – Больше всего на свете я жалею о том, что не знала тогда о моей малайской крови. И что не могла тебя подождать. С нашим сыном.
Его рука нащупала ее ладонь, и пальцы их сплелись в песке.
– Расскажи мне о нем.
– Он очень похож на тебя, – прошептала она, глядя на воду. – Повернут в себя, прямо-таки замкнут и иногда вспыльчив. Он стал моряком, к тому же хорошим. Он любит море так же сильно, как ты, это у него в крови. Он ведь тоже родился с перепонками на ступнях.
– Как и Ли Мей, – тихо сказал он, сильнее сжимая ее пальцы. – Мы больше не можем так жить, Нилам. Это должно когда-то иметь конец.
– Я не знаю как, – беззвучно выдохнула она. Беспомощно.
С тяжелым вздохом он притянул ее к себе и зарылся пальцами в ее волосы.
– Знаешь, Нилам, – пробормотал он вплотную к губам. – Ты знаешь ответ. Уже давно.
Пол бессильно упал на стул и смотрел перед собой в пустоту.
Еще немного – и первые утренние сумерки прокрадутся в сад и вползут в дом.
Одной ночи было достаточно, чтобы из слов и дел прошлого выломилась беда. Ночь, которая разрушила жизнь.
Его взгляд скользнул по бумагам на столе.
Он спросил себя, что ему делать теперь с тем, что осталось от его жизни.
Со своими долями в предприятиях – независимо от того, оставит он их за собой или попросит их выплатить – он может быть спокоен за свою старость. За фирму, которую ему передал в надежные руки Гордон Финдли, он мог не бояться. Были хорошие времена в Сингапуре, в Азии и во всем мире, и Дэвид проявил себя способным коммерсантом, вдвое более способным, чем был бы один Финдли или один Бигелоу.
Когда-то он хотел остаться в Сингапуре лишь на пару лет, чтобы поймать здесь удачу. Эта пара лет вылилась почти в четыре десятилетия, в которые он смирился с тем, что остаток жизни проведет здесь, самое большее раз или два съездит в Англию повидать братьев и невесток, их детей и внуков. И все места детства и юности, еще памятные, но уже чужие при последнем его посещении.
В тропиках он остался только ради Георгины. Он уперся локтями в стол и зарылся лицом в ладони.
Он сделал все, что было в его власти, в его силах, и все-таки в итоге потерял ее. Эту морскую девушку с искристыми глазами, корни которой залегали глубоко в красной земле Сингапура. Живущую свободно и гордо, как ее шотландские предки. Иногда темпераментную, как вырастившая ее француженка, рожденная в Индии, и с темным огнем малайской крови своих здешних предков.
Все его счастье. Проклятие, так долго преследовавшее его.
Звук открывшейся двери, шаги босых ног заставили его поднять голову.
Она выглядела, будто ее потрепало тропической бурей. Будто пережила кораблекрушение.
Саронг и кебайя были измяты и перепачканы, волосы растрепаны. Темные круги залегли под глазами, почти того же цвета, что и приводящая в смятение, оглушительная фиолетовая синева ее радужных оболочек. В этой женщине зрелых лет все еще просматривалась девочка, какой она была когда-то.
Он медленно откинулся на спинку стула, положил руки на подлокотники. Он устал от битв, которые выдержал за нее; он хотел наконец покоя.
– Что, он тебя не захотел? – Это прозвучало язвительно, и мина его не выражала никакого волнения.
Она отрицательно повела головой.
– Ты что-то забыла? Тебе нужны деньги?
Как сомнамбула, она подошла к нему, с большими глазами, почти удивленными и немигающими, и казалось, что ни одним своим шагом она не коснулась пола.
– Тебе совсем не обязательно прощаться со мной. Просто иди и все. Ну же, иди!
Он замер и вжался поглубже в стул, когда она села к нему на колени и прильнула к нему, а потом и ноги поджала под себя, как маленькая девочка.
Ей не надо было ничего произносить, он понимал ее без слов.
Как ее пальцы охватили его загривок и водили там по линии волос, а лицом она уткнулась в сгиб его шеи. Как ее дыхание овевало ему кожу, теплое и спокойное, лишь изредка перебиваемое сухим всхлипом.
Он прижал ее к себе, и горячие слезы потекли по его лицу.
Георгина Индия Финдли наконец обрела свой дом.
Тень пропорхнула через ночной сад Кулит Керанга. Сквозь серебряные капли стрекота цикад и влажные басы лягушачьего кваканья.
В длинных брюках, свободной хлопчатобумажной блузе темного цвета эта тень почти полностью растворялась в темноте; только узел, который тень прижимала к себе, был светлым.
То был ночной мотылек, летящий над травой в сторону реки. Свежевылупившийся, готовый оставить позади свою спокойную жизнь в коконе и начать новую.
Окрыленный письмом. Принятым решением, окончательным и бесповоротным.
Этот мотылек летел навстречу запретной жизни. Тайной жизни, на чужих морях, на дальних берегах.
Однако он при этом будет не один.
Вторая тень поджидала в лодке, замаскированной между кустов у берега реки, и помогла первой, гораздо меньшей, тоненькой, подняться в лодку.
Мягко, почти бесшумно весла погрузились в воду, и лодка заскользила по реке Серангун в сторону его устья.
Корабль, стоящий на якоре у побережья в чернильной черноте ночных вод, залитый серебряным светом звезд, был куплен с рук, но не хуже нового.
Это был не очень большой корабль, но достаточный, чтобы бороздить на нем глубокие, суровые океаны и противостоять штормам.
Достаточно большой для двоих человек, которые не испытывали робости друг перед другом. Пользовались взаимным слепым доверием и хотели провести свою жизнь вместе, каждый день, каждый час.
Потому что они знали, что созданы друг для друга, из материи моря и ветра. Вырезаны из древесины мореходов.
Уверенной поступью они поднялись на борт, подняли лодку и распустили лини парусов, опытными, слаженными приемами и без слов, как будто уже сотни раз выходили в море вместе.
– Ты твердо решила? – спросил низкий, хриплый голос у ветра.
Ли Мей удивленно вскинулась на Дункана.
– Разумеется, твердо.
– Передумать еще не поздно.
– Для меня возврата больше нет. – Ли Мей помедлила. – А для тебя?
– Нет, Ли Мей. Уже давно нет.
Они улыбнулись друг другу.
Ветер нетерпеливо бросился в натянутые паруса и надул их. Освобожденный от якорной привязи, корабль мягко заскользил из пролива Джохор, взяв курс в открытое море.
В дали Нусантары.
К звездам и к тому, что лежало за ними.
1889
По ту сторону от пшеницы
и урожая плодов древесных
я узнаю старую осень,
гарцующую на плуге.
Зенит года уже перейден,
и все должно клониться к концу.
Земля получила свою долю от лета,
как и я получил свою.
J.H.B.
Глаза Георгины блуждали по высокому, просторному нефу Сент-Андруса.
Перебегая с темных, почти черных балок потолка через лучистую белизну колонн и стрельчатые окна до ниш. Белыми, как облака, и синими, как небо и море, были стены придела за алтарем из тропической древесины. Солнечные лучи падали сквозь стройные витражи и наколдовывали в кафедральном соборе радужный свет.
Она сидела на одной из деревянных скамей, поставив ноги на подставку, обивка которой была украшена христианскими символами, вышитыми прилежными руками женщин местного прихода; на ее подставке был вышит доверчивый ягненок на кобальтово-синем поле.
Здесь было прохладнее, чем за этими стенами, но ненамного; шляпка на ее высоко подколотых седых волосах все еще была слишком разогрета, хотя вуаль из черного тюля она уже подняла. Сквозь щели оконных ставен, закрывающих нижние половины витражных окон, свежий воздух почти не проникал.
В храме было тихо, Георгина была единственной посетительницей в этот послеполуденный час.
Отзвук органной музыки, псалмов и молитв, казалось, еще витал в воздухе после утра, когда они здесь прощались.
Так много людей пришло, чтобы проводить Пола Бигелоу в последний путь. Казалось, весь Сингапур теснился в кафедральном соборе, чтобы сказать ему последнее прости, прежде чем его унесут на кладбище Букит Тима, в могилу рядом с Гордоном и Жозефиной Финдли.
Сингапур, крупнейший порт Азии. Один из самых больших в мире.
Город, равный которому поискать, охраняемый военными кораблями и гарнизоном, укрощенный и оберегаемый полицейским подразделением при поддержке бородатых сикхов в тюрбанах.
Все еще зеленым тропическим островом в аквамариновом море был Сингапур. Нежно-зеленым, как юный побег. Насыщенно и бархатно-зеленым, как вечное лето. Зелень мангровых деревьев, пальм и банановых кустов, манговых деревьев и древесных папоротников, перемежаемая белыми и цветными камеями орхидей. Богатство зелени, золота и румян тропических фруктов, богатство сокровищ моря, ценностей Азии. Ворота мира как на Запад, так и на Восток.
У Пола никогда не было здесь корней, но Сингапур стал ему домом. Через Георгину.
Ему было шестьдесят четыре. Это было сердце, его большое, сильное, храброе и верное сердце. В какой-то момент оно исчерпалось. А его тело было неудержимо вздымающимся океаном, в котором он утонул.
Георгина опустила взгляд на свои кисти, сложенные на подоле черного платья. Они выглядели увядшими, пронизанными голубыми жилками, но обручальное кольцо все еще было ей впору. Пятьдесят семь лет. Вдова.
Пока смерть не разлучит нас.
Слезы капали на жесткий черный креп траурного платья.
У них было несколько хороших лет, может быть, лучших за время их супружества.
В Л’Эспуаре, с детьми, с внуками. Вдвоем. Один раз они еще съездили в Англию – после того как Пол оставил дела фирмы; один раз – в Новую Зеландию, чтобы устроить там отпуск, один раз в Гонконг.
Это были счастливые годы, но их было слишком мало, слишком быстро они прошли. Она сожалела, что слишком поздно поняла: из этого брака, которого она никогда не хотела, в котором часто была несчастлива, выросла любовь – в какой-то момент между свадебной ночью и той ночью, в которую она потеряла своего сына.
Хотя она знала, что это тщетно, ведь на глаза то и дело набегали новые слезы, она торопливо вытерла мокрые щеки, заслышав приближающиеся шаги по нефу церкви. Шаги, с равномерным интервалом сопровождаемые стуком трости, остановились у ее скамьи, и до нее донеслось соленое дуновение, будто от дыхания моря.
Георгина подняла голову.
Волосы и борода уже не столько черные, сколько седые, но держался он по-прежнему прямо, был все еще строен, хотя сильно похудел за последнее время. Возможно, так казалось из-за европейского кроя его светлого костюма с длинным прилегающим сюртуком и узкими брюками, тогда как пастельный «огуречный» рисунок его галстука и жилетки были скорее азиатскими.
Морщины веером расходились от глаз, блестящих, как капли черного океана. Борозды тянулись от уголков губ, однако четкость его черт так и осталась нерушимой; ему было уже хорошо за шестьдесят.
– Я хотел нанести тебе визит у тебя дома. Но там мне сказали, что ты здесь.
Жестом, в котором сверкнул массивный гравированный перстень с черным камнем, он указал на скамью:
– Можно к тебе? – Голос стал более сиплым.
Георгина кивнула. По тому, с какой осторожностью он усаживался рядом с ней, она поняла, что тросточка служила ему отнюдь не для украшения.
Они молча сидели рядом, Рахарио внимательно озирал обстановку собора, а Георгина крутила на пальце свое обручальное кольцо. Наконец он обстоятельным движением достал из внутреннего кармана сюртука сложенный лист и протянул ей.
– Что это?
– Прочитай.
У Георгины остановилось дыхание, – она узнала почерк Пола, уже расшатанный болезнью.
Милостивый государь,
пока я был еще молод, я был уверен, что в конце моей жизни не окажусь в числе тех, кому приходится на смертном одре выяснять отношения. Однако ж вот, поскольку мое время безвозвратно истекает, я все-таки чувствую такую потребность.
Мы встречались лишь один раз, причем при самых неблагоприятных обстоятельствах. Тем не менее я всегда знал, что Вы есть и какую роль Вы играете в жизни моей жены. Я бы солгал, если бы утверждал, что это не причиняло мне боли. Даже перед лицом смерти я не в состоянии быть настолько великодушным. Времена, когда я знал, что она у Вас, чтобы вернуть себе то, чего я лишил ее нашей женитьбой, были для меня почти непереносимы. Я смог их вынести лишь потому, что питал надежду, что после этого она снова вернется ко мне, и так раз за разом.
Я знаю, Вам бы удалось отнять ее у меня, если бы Вы постарались. То, что Вы никогда не пытались сделать это всерьез, оставляет меня благодарным. Ибо Георгине я обязан таким счастьем, каким только может одарить мужчину женщина, и лучшим временем моей жизни. И за сына, которого Вы оставили мне, сами того не ведая, я тоже должен Вас благодарить.
Я хотел бы вверить Вам Георгину на время после моей смерти, она будет нуждаться в ком-то рядом с собой. И в случае, если вы оба оживите старую связь, которая когда-то была между вами до того, как судьба разлучила вас, до того, как я встал между вами, то я благословляю вас на это.
Я полагаю, с Вами моя жена будет в надежных руках. Для меня это самое важное.
С глубоким уважением
Пол Бигелоу.
– Он все знал, – прошептала Георгина, и слезы полились у нее ручьем. – Он все это время все знал.
Руки ее дрожали; Рахарио взял ее ладонь сухими узловатыми пальцами и крепко сжал. Давая ей опору, пока она снова не обрела дыхание.
– Спасибо, что ты принес мне это письмо.
Он откашлялся и снова положил свою руку поверх другой на рукоять трости.
– Как дела у твоих детей? – тихо спросил он после паузы.
Она достала платок из-за манжеты рукава.
– Джо еще живет у меня. У нее хотя и много поклонников, но того, кто ей нужен, среди них, видимо, пока нет. Она учительница и очень счастлива этим. Дэвид возглавляет фирму. Дела идут хорошо, и он подумывает открыть филиал в Гонконге.
Она взглянула на Рахарио с легкой улыбкой, вытирая при этом нос:
– Я уже дважды бабушка. У меня внук и внучка. Гордон и Мабель. А у тебя?
На его лице сверкнула улыбка:
– Мой младший сын Кишор недавно стал отцом своего первенца. У меня тринадцать внуков и внучек. Дома остается только моя младшая дочь Индира. Ей шестнадцать, и она еще очень привязана к дому. Особенно после того, как… – Тень омрачила его лицо: – Моя жена умерла три года назад.
– Мне очень жаль, – сочувственно произнесла Георгина и погладила его локоть.
Он кивнул и крепче стиснул трость.
– Я очень сожалею, что никогда не мог любить ее так, как ей хотелось того. Как она того заслуживала прежде всего. Она была мне хорошей женой и еще лучшей матерью детям. Я могу лишь надеяться, что у нее все равно была хорошая жизнь, несмотря ни на что.
Несколько сердцебиений Георгина боролась с собой.
– Есть ли у тебя… какие-то известия от Ли Мей? Или, может быть, от Дункана?
Он отрицательно покачал головой:
– А у тебя?
– Нет, – еле слышно сказала она. – Я надеюсь, когда-нибудь он простит меня.
– Конечно, простит. Ведь ты его мать.
Печальная улыбка пробежала по ее лицу.
– Каким-то образом я всегда знала, что однажды потеряю его в море. Как и тебя. Потому что он дитя моря. Как и ты. Который сбросил свою тюленью шкуру, чтобы некоторое время побыть ее сыном, а потом снова натянул ее на себя, чтобы уплыть в океан.
Рахарио кивнул.
– Я берег Ли Мей больше, чем других моих детей, потому что со дня ее рождения жил в страхе, что рано ее потеряю. Как потерял ее мать.
– Мне очень жаль, что ты так и не смог познакомиться с Дунканом, – прошептала она.
Рот его болезненно скривился.
– Мне тоже. Тем более что это была моя вина.
Он подался вперед и положил подбородок на свои руки поверх набалдашника трости.
– В ту ночь ты приняла верное решение. Бигелоу заслуживал тебя больше, чем я. Гораздо больше. Всеми средствами он боролся за то, чтобы завоевать тебя. Чтобы удержать. Тогда как я…
Его глаза, устремленные на синеву придела, сузились.
– Вернусь к тому дню, когда ты вышла замуж за Бигелоу. Вы как раз праздновали свадьбу в саду. А я… Я не был в достаточной степени мужчиной, чтобы пойти к вам и сказать, что это моя жена. Данная мне в море по старинному обычаю оранг-лаут. Я должен был бы взять тебя за руку и увести. Должен был уплыть с тобой на моем корабле. Но я был слишком горд. Я просто сбежал. Предпочел зализывать раны и лелеять ненависть. Это самый большой укор, который я могу предъявить себе, когда оглядываюсь на свою жизнь.
В глазах у него заблестело.
– Я должен был бы чувствовать себя виноватым, что не воспрепятствовал побегу Ли Мей. Хотя я догадывался, что она замышляет. Может быть, на этот раз я был слишком мягким, слишком покорным. Я просто хотел, чтобы она была счастлива. Как бы ни было это предосудительно в глазах людей. Меня печалило, что я не смог с ней проститься. Но я знал, что тогда бы она не набралась мужества. Единственное, что я мог для нее сделать, – это не класть камни на ее пути. И поэтому я сам вскоре после того ушел в море. В надежде, что в мое отсутствие она сделает то, что сочтет для себя правильным.
Георгина молча обдумывала его слова.
– Иногда… – тихо начала она и сглотнула. – Иногда я думаю, что Семпака все же была права. Что я приношу несчастья себе и другим.
– Нет, я так не думаю. – Рахарио выпрямился. – Но я все-таки выучился верить в судьбу.
– Да? – Она посмотрела на него с улыбкой.
Его пальцы поглаживали набалдашник.
– Когда я сравниваю твою и мою жизнь… Да, тогда я верю в судьбу. Когда я думаю о Ли Мей и Дункане. Они оба как Сингапур. Оранг-путих. Оранг-лаут. Малаец. Китаянка. Ли Мей к тому же росла в доме, который был преимущественно индийским. Они связаны теснее, чем следовало бы. Чем позволительно. И все же они не могли иначе, из глубины сердца и со всей их страстью. Как будто в них исполнилась не только твоя и моя судьба, но и судьба острова.
– Только бы у них все было хорошо, – в поисках помощи Георгина устремила взгляд к алтарю. – Только бы они там, вдали, справились.
– Конечно же, справятся. – Тон его был удивленным и в той же степени возмущенным. – Они как-никак наполовину оранг-лаут!
Он откинулся назад и что-то выудил из кармана сюртука.
Георгина увидела браслет из темного золота, который он протянул ей, и посмотрела на него вопросительно.
– Этот браслет был при мне, когда я вернулся. В день твоей свадьбы. Это свадебный браслет оранг-лаут.
Она отодвинулась от него.
– Нет, я еще не могу…
– Я не это имел в виду! – нетерпеливо перебил он, гневно сверкнув глазами. – Я принес его потому, что он всегда был только твоим. Я никогда не отдавал его ни моей жене, ни матери Ли Мей. Он всегда предназначался лишь для тебя.
Горло Георгины сжалось, когда она взяла в руки тяжелый браслет, повернула его в пальцах и любовно погладила волнистые линии и очертания рыб.
И посмотрела на Рахарио.
Пиратский мальчик, которого она обнаружила в павильоне раненым и выходила его, когда ей было десять лет. Ее возлюбленный, с которым она потеряла свое детское сердце и который еще не раз сокрушал ее сердце в течение жизни. Юный человек моря, который был ее первой любовью и с которым она сочеталась браком на море. Брак, который был скоротечным, как вода в пригоршне, и все-таки вечным, как океан.
Какое-то время самое большое ее счастье. В другое время – самый страшный ее кошмар.
Который сидел теперь перед ней, как седовласый Нептун. В глазах которого она могла прочитать, что он все еще видит в ней маленькую девочку. Юную женщину, которой она была.
Его глаза рассказывали о любви и вожделении, о боли и ненависти, о счастье и печали, о вине и раскаянии.
Об очень долгой, сполна испробованной жизни и о той жизни, которой не должно было быть.
Она могла лишь догадываться, что ее глаза рассказывали о том же самом.
Жизнь между морем и сушей, между небом и ветром.
Танах аир. Земля и вода. Родина.
Ее пальцы сплелись с его пальцами, и руки их соединились. Как будто они обновили тот договор, что был заключен тогда, почти полвека назад, в павильоне Л’Эспуара.
Пиратский мальчик с большими мечтами. И маленькая девочка с фиолетово-синими, как дикие орхидеи на реке, глазами.
Он пожал ее пальцы и собрался встать.
– Я отвезу тебя домой, Нилам.
Опираясь на его руку, Георгина шла по кафедральному собору Сент-Андруса, их шаги сопровождало постукивание его трости.
Вместе они переступили через порог и вышли на улицу, в сияющий свет солнца над Сингапуром.
Послесловие
Мои книги возникают из историй любви.
Из любви к месту действия, к культурному пространству. К историческому событию. К исторической личности и персонажу романа, к определенной теме или всего лишь идее. Иногда такая любовь застигает меня врасплох, как молния. Иногда она вырастает в течение долгого времени, а может быть, коренится во мне уже долгое время. Такая любовь может быть нежной или ураганной, согревающей сердце или пожирающей его; временами она вырождается в форму одержимости, в Amour fou.
С этой книгой все было иначе.
Я хорошо помню мой первый вечер в Сингапуре, в конце ноября 2011 года. Мы запланировали промежуточную остановку на каких-нибудь два с половиной дня на обратном пути с Бали, перед долгим перелетом в Германию, просто чтобы осмотреть город.
И этот город мне совсем не понравился. Все, что я видела, было несоразмерно большим, слишком техничным, слишком стильным, слишком искусственным; Сингапур запугал меня. На Орчерд-роуд, оживленной торговой миле, я на короткое время забыла свою антипатию, потому что не могла надивиться на изобилие рождественской иллюминации, которой был украшен Сингапур. Но вскоре меня раздавили все эти огни, шум, люди, впечатления, и хотя я уже четыре недели провела в тропиках, я чуть не погибла от тропической жары.
Вечер кончился тем, что я в слезах сидела на кровати в отеле, хотела только домой и проклинала все оттого, что застряла здесь еще на два дня.
На следующее утро мне принесла утешение река Сингапур. На ее берегу, с видом на пестрые склады и небоскребы на другой стороне, было спокойно, почти созерцательно, и мне понравилась поездка на лодке по этой реке. Один из типичных для Сингапура ливней заставил нас искать укрытия в музее Азиатской цивилизации, который я так и так намеревалась посетить, чтобы увидеть несколько экспонатов для романа «Сердце огненного острова». И там я столкнулась со старым, историческим Сингапуром.
В тот день он повстречался мне еще несколько раз, и на следующий, и на наших путях по городу я открывала уголки, в которые тотчас влюблялась. Музей Перанакан. Маленькая Индия. Чайна-таун. Сент-Андрус. Но мне по-прежнему было в этом городе слишком громко, слишком огромно, слишком модерново, просто слишком избыточно, все раздражало, и я чувствовала себя изможденной.
С двойственными чувствами я поднималась в самолет в Германию, радуясь главным образом тому, что оставляю этот город позади. Но я так и не смогла выкинуть Сингапур из головы.
Пока я писала «Пылающее сердце Эдема», меня подгоняло любопытство узнать о Сингапуре побольше, в первую очередь об истории города. Все еще с двойственным чувством, но с нарастающей очарованностью я вчитывалась в книги и статьи, и очень постепенно, очень медленно во мне зарождалось желание писать о Сингапуре.
Через разыскания, через первую работу над романом я немного примирилась с Сингапуром. И когда в прошлом году вернулась туда, чтобы на месте провести разыскания для этой книги, мы с Сингапуром начали друг за другом ухаживать. Каждый день, что я проводила там, идя по следам Георгины и Рахарио, встав утром и глядя из окна отеля на Форт Кэнинг, я все больше влюблялась в этот город. Не только в его старое, историческое лицо, но и в новое, современное.
На сей раз я сожалела о прощании с этим городом, который в первую встречу сказался на мне так тяжело и который потом – под громы и молнии ливней – все-таки завоевал мое сердце.
Я увезла оттуда домой одно чувство. Мои ощущения от города, мое восприятие. Определенную атмосферу. Представление о старом Сингапуре и о романе, который я хотела писать.
Из этого чувства и возникло «Время дикой орхидеи».
Моя книга о море.
Самое позднее в тот момент, когда я во время первых разысканий начала читать об оранг-лаут, Сингапур захватил меня как материал для романа. Я увлеклась этим народом, который понимал себя как изначальное население малайского мира и не представлял собой гомогенную группу, а состоял из множества подгрупп, не все из которых были родственны между собой.
Мы знаем немного об оранг-лаут старого Сингапура, едва ли что-то о их роли в части господства султана и теменгонга и в пиратстве. Когда этим народом начали интересоваться первые европейцы – с середины XIX века, – он как раз начал отказываться от традиционного образа жизни, становясь оседлым и входя в малайское население.
Но они существуют и поныне, оранг-лаут, на просторах Нусантары. Антропологические работы Синтии Чаус Indonesian Sea Nomads: Money, Magic, and Fear of the Orang Suku Laut (2003) и Theorang Suku Laut of Riau, Indonesia: The Inalienable Gift of Territory (2010) были моими важнейшими источниками, чтобы напитать меня моим персонажем, Рахарио, и его народом. Большим подспорьем для меня был при этом Malay Heritage Centre в Сингапуре, который не только расширил мои представления о мире оранг-лаут, но и открыл двери в старый Сингапур по ту сторону Чайна-тауна, складов и британских колониальных строений.
Цитаты и стихотворения в начале романа и перед отдельными частями даются в моем переводе на немецкий. Особая история со стихотворением автора «J.H.B.», которое предваряет эпилог.
Я нашла его в The Sun in the Morning (1992), первом томе автобиографии Share of Summer М.М. Кей. Сама она, по ее словам, нашла это стихотворение очень давно в ежемесячном журнале, который давно не существует, тогда же переписала его и с тех пор хранила в издании Киплинга Kim – на тот случай, если она, дожив до старости, однажды действительно возьмется написать историю своей жизни. Когда же дело действительно дошло до этого, она уже не смогла разыскать автора; казалось, никто не знал, кто такой был «J.H.B.». Мои поиски тоже не увенчались успехом, но и я, как и М.М. Кей, благодарна «J.H.B.» за эти строки.
Моя благодарность обращена также в первую очередь к Йоргу, моему спутнику, которому тогда пришла в голову идея задержаться в Сингапуре. Он потом облетал со мной полмира не только ради нас двоих, но и ради книги, и исходил со мной все дороги в Сингапуре, и позаботился о том, чтобы Форт Кэнинг был у меня перед окном, а Сент-Андрус перед дверью. Карина и Анке, прошедшие со мной весь путь этого романа и придававшие мне мужества, спасибо вам. АК и Занне – вы знаете, за что! Е.Л., которая подтолкнула меня покинуть исхоженную тропу, пуститься в неизведанное и новое. Мариам и Томасу М. Монтассер спасибо за великолепную работу и поддержку, книга за книгой, а также в промежутках. Моим читателям, снова и снова. Моей чудесной редакторше Леоноре, которая может не только читать мысли и исполнять тайные желания, но и колдовать – особенно над рукописью. И команде издательства «Голдман», которая сделала из всего этого книгу.
Терима казих баниак-баниак.
Николь С. ФосселерКонстанц, май 2014
Словарь
Мал. – малайский язык,
ОЛ – язык оранг-лаут,
БИ – британско-индийский,
фр. – французский,
кит. – китайский.
анг мо чар бор – (кит.) буквально: «рыжеволосая»; презрительное обозначение для белой женщины
арака — в Юго-Восточной Азии распространенный алкогольный напиток из сока пальмового сахара и сброженного рисового затора
гуттаперча – высушенное молочко гуттаперчевого дерева; предшественник пластмассы
дал – индийское блюдо из стручковых
дал тадка — специфический вариант дала из различных стручковых и пряностей
Джалан Пантай — (мал.) Бич-роуд, от джалан – улица, пантай – пляж
доби-валлах – (БИ) стиральщик
Кантон – старинное название китайской провинции Гуандонг
кебайя – тонкая блуза свободного покроя
кембойя – (мал.) плюмерия
Конгси – (кит.) деловое партнерство; организация китайцев, которая оказывала помощь и поддержку новоприбывшим и зачастую преследовала благодетельные цели, правда, с незаметным перетеканием в тайные общества – такие как Триады
Кочинчина – обозначение XIX века для области вокруг Сайгона в южной оконечности Вьетнама
кули – китайский грузчик, носильщик или поденщик
мэм – (БИ) краткая форма от memsahib: уважительное обращение к европейской женщине
минта мааф – (мал.) прошу прощения
нангка – (мал.) джекфрут
неня – (мал.) уважительное обозначение и обращение для белой женщины (как правило, замужней)
оранг-лаут – (мал.) буквально «люди моря», морские кочевники в Юго-Восточной Азии
оранг-путих – (мал.) люди с белой кожей, особенно из Великобритании
паланкин – типичная для Сингапура закрытая лошадная повозка
пераху – (мал.) родовое понятие для лодок разного типа
перау – (ОЛ) лодка
пондок – (ОЛ) временная и наспех сделанная хижина на воде
пти анж – (фр.) ангелочек
пулау – (мал.) остров
пунка-валлах – (БИ) наемный работник дома, который приводит в действие потолочное опахало punkah при помощи веревки
сампан – (кит.) плоский челн, используемый как правило, для транспортных перевозок
саронг – обвязная юбка из полосы ткани
селамат датанг – (мал.) добро пожаловать
селамат петанг – (мал.) добрый день
селамат сеяхтера — (мал.) здравствуйте
сик – (мал.) мисс, фрейлейн
сипай – индийский солдат в Ост-Индской компании
саис – (БИ) конюх, кучер
тауке — (мал.) китайский торговец, финансист, шеф
теменгонг – старинный малайский аристократический титул (обязанностью теменгонга была безопасность султана, мир в государстве и командование армией)
терима казих (баниак-баниак) – (мал.) большое спасибо
тиффин – (БИ) обед, также перекус
Тонкин — обозначение XIX века для северной части нынешнего Вьетнама
туан – (мал.) господин
чапати – североиндийская лепешка из ячменя, пшена и пшеницы
чап ченг киа – (кит.) бастард
чоли – (БИ) короткая до талии облегающая верхняя часть, которую надевают под сари
шу-шу — (фр.) любимчик